Ранним утром 12 октября 1882 года с поезда, прибывшего из Смоленска на Варшавский вокзал в Москве, сошел молодой человек лет тридцати. Широкий разворот его плеч и выправка выдавали военного, хотя мужчина был в штатском пальто и фуражке, какие носили деревенские помещики. С загорелого лица смотрели спокойные серые глаза. Молодой человек пересек еще темную привокзальную площадь, подошел к стоящим возле тротуара извозчичьим пролеткам, сел в одну из них и негромко приказал извозчику:
— На Хитров.
— Ку… куда, барин?! — Извозчик круто повернулся и изумленно уставился на седока.
— На Хитров рынок. Угол Солянки и…
— Да уж знаем мы, где Хитров-то, не первый год по Москве ездим! — обиделся извозчик. — А пошто вам туда-то? Ведь самое гиблое место воровское. Туда и днем-то нос казать приличному человеку незачем! Разденут-разуют и в чем мать родила по улице пустют! И это ишшо повезет ежели, а не то…
— Спасибо, что предупредил. А теперь, будь любезен, трогай, я тороплюсь.
Извозчик пожал плечами, снова покосился на странного седока и хлестнул лошаденку вожжами.
Доехали быстро: темные улицы утреннего города были еще пусты. В этом году рано настали осенние холода, снег пока не выпал, но земля уже промерзла. По тротуарам сухо шуршали последние облетевшие с деревьев листья, низкое сумеречное небо, казалось, лежало прямо на крышах домов. На углу Спасоглинищевского переулка извозчик остановил свою лошадку.
— Дальше, хоть режьте, не поеду!
— И не надо, — спокойно ответил молодой человек, ловко выпрыгивая из пролетки и протягивая извозчику двугривенный. — Если не в тягость, подожди меня тут, через час я вернусь, и поедем дальше.
— Ой ли, вернетесь? — хмыкнул извозчик.
Молодой человек усмехнулся:
— Бог не выдаст, свинья не съест. Подожди, мне не хочется после тратить время и искать другой экипаж.
Извозчик, подумав, кивнул и еще долго провожал глазами высокую широкоплечую фигуру, исчезающую в густом тумане Хитровки.
Это было действительно самое опасное место Москвы. На Хитровом рынке находились воровские притоны, нищенские ночлежки, публичные дома низкого пошиба, по узким, заваленным грязью и нечистотам улицам болтались нищие, проститутки и грязные, оборванные дети. В подвалах продавали самодельную водку, скупали краденое, тут же перешивали ворованные вещи, чтобы выгодно сбыть их с рук, в кабаках «Пересыльный» и «Сибирь» прятались беглые каторжники. Простые горожане, естественно, старались обходить это страшное место за несколько кварталов.
Извозчик честно подождал час, опасливо поглядывая по сторонам и переругиваясь со шмыгающими поблизости нищими. Когда закончили бить часы с недалекой Сухаревой башни, вздохнул, перекрестился, пробормотал: «Ну, как есть зарезали дурака…» и уже взялся за вожжи, собираясь разворачивать лошадь, как услышал знакомый голос:
— Вот молодец, дождался! Я немного задержался, так что спасибо!
— Ба-а-арин… — растерянно протянул извозчик, увидев приближающегося к нему недавнего пассажира. — Охти мне, живой…
— Как видишь, — подтвердил тот, запрыгивая в пролетку. К этому времени уже совсем рассвело, и извозчик заметил, что рукав пальто странного господина основательно измазан в грязи.
— Пальтишко запачкать изволили, — сказал он.
— Пустяки, а вот что с этим делать? — Молодой человек поднял руку, и извозчик увидел, что серая ткань пальто и борт сюртука под ним чисто и ровно разрезаны, будто хирургическим скальпелем.
— Это что за жиган постарался?..
— Степка Жареный не узнал меня с перепоя. Хорошо еще, что прошло скользом, — усмехнулся седок. — Подлец, мне ведь еще целый день ездить в таком виде по Москве… Ладно, здесь ничего… Поехали на Грачевку.
Некоторое время извозчик молча нахлестывал лошадь. Затем, не выдержав, спросил:
— А вы кто ж такой будете, ваша милость? Не из фартовых ли сами-то?
— Нет, — спокойно ответил седок. — Я из Смоленска, тамошний помещик.
— А звать вас как?
— Владимиром Дмитричем. А тебя?
— Меня Мишкой можете звать. В Грачевке вам кого надобно?
— Для начала мадам Голосовкер. Кстати, Михайло, можно ли тебя ангажировать на весь день? Мне еще много куда надо заехать…
— С превеликим нашим удовольствием, Владимир Дмитрич! — радостно отозвался извозчик. — С ветерком покатаю! Вся моя время ваша!
На Грачевке Владимир пропадал дольше. Мишка ждал его на Трубной площади целых два часа, от скуки перекидываясь шутками с сонными жрицами любви, возвращающимися после ночных трудов в свои комнатенки. Здесь было главное средоточие московских домов свиданий, улицы и переулки кишели столичными «мессалинами», их «котами» и «мадамами».
Наконец Владимир появился в сопровождении целого букета разновозрастных проституток, которые что-то наперебой втолковывали ему, а он внимательно слушал и, как показалось извозчику, хмурился. Наконец девицы отстали, и молодой человек снова вскочил в пролетку.
— На Сухаревку!
Вокруг Сухаревой башни раскинулся бойкий толкучий рынок. Тут продавали всевозможное барахло, начиная от перелицованных штанов и заканчивая антикварными вазами и рукописными книгами пятнадцатого века. Было уже довольно людно, между рядами кучками бродил народ, раздвигали толпу торговки сбитнем и пирогами, сновали мальчишки, вертелись карманники, и Мишка на всякий случай предупредил:
— Вы осторожней бы, Владим Дмитрич, тута народ бедовый, на ходу подметки режут… Оставили бы мне портмонет, а то не дай бог…
— Не беспокойся! — Владимир соскочил с пролетки, ввинтился в пеструю гомонящую толпу и исчез. Вернулся через полтора часа, помрачневший.
— Едем к Бубнову.
— Да вы б сказали, кого ищете, ваша милость, а? Может, я и знаю…
— Навряд ли, брат. Трогай.
Они побывали в бубновской «дыре» в Ветошном переулке, где в подвальном помещении днем и ночью шла крупная игра, заехали на Таганку, в лавки торговцев краденым, добрались до Грузин, где на цыганской улочке Живодерке Владимир долго расспрашивал барышников — к восхищению Мишки, на их языке, — потом зачем-то отправились на Конный рынок… И отовсюду странный господин возвращался целым и невредимым, но извозчик видел, что настроение его портится больше и больше. Уже поздним вечером, в полной темноте, Владимир вышел из самого лучшего московского дома свиданий на Сретенке и отрывисто, устало бросил:
— К дому графини Грешневой, в Столешников.
«Ого!» — мысленно перекрестился Мишка, но говорить ничего не стал. На Сретенке, ожидая седока, он успел напоить сивку из «басейни», и немного отдохнувшая лошадка бежала споро и охотно.
Дом графини Грешневой в Столешниковом переулке сиял всеми окнами: у хозяйки был вечер. Спрыгнув на землю у ворот, Владимир взглянул на извозчика:
— Что ж, Михайло, прощай на этом. Вот тебе рубль… и еще один… В расчете?
— Дозвольте еще обождать?
— Нет, брат, на этом все. Спасибо тебе.
— Зря проездили, ваша милость? — пряча за пазуху деньги, спросил извозчик. — Не нашли кого хотели?
— Нет, — помолчав, ответил Владимир. — Что ж… будем надеяться, еще повезет.
— Ежели занадоблюсь — так у вокзала завсегда меня сыщете! Оченно приятно с вами дело иметь было!
— И мне с тобой так же. Будь здоров. — Владимир подошел к запертой калитке, стукнул в нее, сказал несколько негромких слов отворившему дворнику и, махнув на прощание рукой извозчику, исчез в темном дворе. Мишка вздохнул и хлестнул сивку.
Войдя во двор, Владимир не пошел к освещенному голубыми фонарями парадному, а свернул на узкую, едва заметную, засыпанную палым листом дорожку, ведущую к черному ходу. Толкнув низкую дверь, молодой человек пересек темные сени и очутился на кухне графини Грешневой, где плавали облака пара, пахло пирогами и гремели котелки.
— Здравствуй, Фекла! Бог в помощь! — поздоровался пришедший.
Кухарка — еще молодая баба с плотно сбитой фигурой в заляпанной суконной юбке и распахнутой на груди нанковой рубахе — тяжело бухнула на стол исходящую паром кастрюлю и, вытирая запястьем пот с лица, сощурившись, глянула на гостя. И тут же ее красное, лоснящееся, щекастое лицо расплылось в улыбке:
— Ой! Никак господин Черменский? Владимир Дмитрич пожаловали?! Ой, и сколько ж вас не было-то?! С весны, поди, не показывались? И не совестно так долго не захаживать?
— Дела, Фекла… Я ненадолго. Вижу, вижу, что тебе не до меня. Мне только надобно спросить…
Но Фекла снова перебила его:
— А Северьян Дмитрич где ж? Или вы его на улице оставили?
По лицу Владимира пробежала тень. Кухарка заметила это и растерянно всплеснула руками:
— Неужто вы без него нонеча? Вот первый раз такое вижу!
— Да, Фекла… — вздохнул Владимир. — Я, собственно, потому и пришел, думал — может, он у тебя.
— Ка-а-ак же… — расстроенно протянула кухарка. — Уж давным-давно своим вниманьем не радовали… Как и вас, с весны не видела. Так что же, ушёдши они от вас? Вот уж ни в жисть бы не подумала…
— И я тоже, — невесело усмехнулся Владимир. Фекла покачала головой и собралась было еще что-то сказать, но в это время, скрипнув, открылась дверь.
— Фекла, ну сколько же можно, почему не подают… — мягкий и спокойный голос вдруг оборвался на полуслове. На пороге кухни стояла графиня Анна Грешнева, молодая женщина двадцати шести лет.
Владимир невольно шагнул к дверям, в тень, но хозяйка, заметив это движение, повернулась… и всплеснула руками:
— Господин Черменский? Володя? Владимир Дмитрич?! Боже правый, какими судьбами?! Сколько лет, сколько зим?!
— Всего лишь полгода, Анна Николаевна, — сдержанно ответствовал Черменский, выходя из темноты и целуя протянутую руку хозяйки дома. — Право, у меня в мыслях не было вас беспокоить, но…
— Да как же вам не совестно, Владимир Дмитрич?! — возмутилась графиня. — Моя кухарка, оказывается, имеет больше прав на ваше внимание, чем я… Вы в Москве! И не зашли! Да это же с вашей стороны просто… Я слов не нахожу для оценки такого поведения!
— Анна Николаевна, слово чести, я не рассчитывал… — Черменский был непритворно смущен. — У вас ведь гости, а к Фекле я по делу…
— Ну и что?! Вы, мой старый знакомый, мой друг, мой… Тем более что уже почти никого и не осталось, все разъехались! Владимир, клянусь, если вы сейчас уйдете, я прерву наше знакомство и откажу вам от дома! Раз и навсегда!
— Помилосердствуйте… Я иду. Фекла, сделай милость, сунь куда-нибудь… — Черменский протянул кухарке пальто. Фекла машинально приняла его, вздохнула, всхлипнула, вытерла нос разрезанным ррукавом и деловито вытащила из воротника своей рубашки вколотую в него иголку с ниткой.
В этот вечер графиня Грешнева, «московская Нинон де Ланкло», как всегда, устраивала приемный вторник, и большая гостиная с диванами и креслами из зеленого бархата была полна мужчин из самых известных семей Москвы и Петербурга. Дамы из тех же семей здесь не появлялись никогда. Графиня Анна Грешнева, несмотря на свой действительный титул и фамилию, записанную в Дворянской книге, не была принята в свете. Очень темной оказалась история ее семьи, очень загадочной — смерть родителей, блестящего генерала Грешнева и пленной черкешенки, с которой генерал не был обвенчан, хотя они прожили вместе двенадцать лет. Впрочем, рожденных черкешенкой детей — сына и трех дочерей — генерал признал законными, дал им свое имя и титул, успел определить старшую дочь Анну в Смольный институт, а сына — в Пажеский корпус в Петербурге. Но несколько лет спустя генерала нашли зарезанным в собственной спальне, а еще через два дня из реки выловили тело его невенчаной жены. Все сошлись на том, что черкешенка, за двенадцать лет жизни с Грешневым так и не смирившаяся со своей долей, зарезала мужа и утопилась сама.
Огромным имением, состоянием и осиротевшими детьми занялся опекун, дальний родственник семьи. В Москве поговаривали, что именно он и обесчестил старшую девицу Грешневу, едва та покинула стены Смольного. После смерти старика опекуна Анна стала официальной содержанкой его сына. Вместе с Петром Ахичевским она показывалась в театре, кафешантанах, ресторанах, эту блестящую и красивую пару знала вся Москва, мужчины откровенно завидовали, женщины втихомолку негодовали. На деньги любовника Анна кое-как содержала приходящее в упадок имение и сестер, тогда еще совсем девочек. Брат Сергей, отставной армейский капитан, напропалую играл, пил с мужиками в кабаке водку и ни о чем не хотел думать. За несколько лет приданое младших сестер было пущено по ветру, имение разорилось, девочки Грешневы бегали в рваных платьях, сами шили белье на продажу, копались в огороде, бродили по окрестным лесам в поисках грибов и ягод и готовились идти в монастырь: без денег, без приданого, с сестрицей-куртизанкой о приличной партии не стоило и мечтать.
Четыре года назад грянула беда: родовой дом Грешневых под Юхновом сгорел. В пожаре погиб Сергей. Сразу стало известно, что это младшая из сестер, Катерина, заперла пьяного брата в доме и сама подожгла имение. В тот же день средняя сестра, Софья, исчезла из Грешневки. Ходили слухи, что накануне своей гибели Сергей продал родную сестру проезжему купцу за несколько тысяч в уплату карточного долга, и та, помешавшись от отчаяния, утопилась в Угре. Катерина отомстила за Софью, заживо спалив пьяного брата. По Москве ходили домыслы и россказни один другого страшнее. Они возобновились с новой силой несколько месяцев спустя, когда пятнадцатилетняя Катерина Грешнева сбежала из приюта, куда ее из уважения к покойному отцу-генералу поместили вместо тюрьмы, со значительной суммой казенных денег. Больше о девушке никто ничего не слышал.
Той же весной Анна рассталась со своим любовником: того ждала выгодная женитьба. А через несколько месяцев в Москве вошли в моду вторники графини Грешневой, на которые приглашались одни мужчины. На этих вечерах присутствовали «кузины» хозяйки: юные хорошенькие девушки, способные поддержать светскую беседу, понимающие по-французски, умевшие сыграть на рояле или гитаре, спеть и украсить таким образом мужское общество. Девушек оказывалось неизменно шесть, но состав очаровательной группки постоянно менялся: спрос на «кузин» графини Грешневой в столице был колоссальным, девицы уходили из дома Анны в содержанки, в камелии, а двоим даже удалось сделать блестящие партии, выйдя замуж за границу. Для того чтобы забрать «кузину» из дома Грешневой, требовалось согласие самой барышни, разрешение хозяйки и значительная сумма денег, раздобыть которую мог далеко не каждый. Откуда брались столь очаровательные девушки у графини, никто не знал: доверенного лица Анна Грешнева не имела. Также не было у нее и официального любовника, хотя добивались этой чести многие: графине исполнилось всего двадцать шесть, она была красива, умна и свободна.
Когда хозяйка и Черменский вошли в гостиную, часы показывали уже заполночь. Шум поутих, почти все гости распрощались и уехали, девушки тоже исчезли, в зеленой гостиной остались лишь двое мужчин, которые, устроившись в диванном уголке с бокалами вина, вели негромкий разговор.
— Вот, господа, позвольте вам представить моего доброго знакомого… — начала Анна.
Один из мужчин, брюнет кавказского типа, довольно некрасивый, но с отличным сложением, которое подчеркивалось формой гвардейского полковника, вскочил с кресла так стремительно, что чуть было не опрокинул его. Сидящий напротив немолодой грузный человек в мундире тайного советника посмотрел на кавказца с удивлением, но промолчал.
— Вах! Черменский, это ты? Это… вы?!
— Сандро?.. — недоуменно переспросил Владимир. — Газданов?.. Ба-а-а… Но какого же черта… Простите, графиня…
— Вах, сколько лет, сколько зим!!! — Газданов коршуном налетел на Черменского, и тому оставалось лишь ответить на эти страстные объятия. Впрочем, оба моментально пришли в себя, повернулись к смеющейся графине, в унисон щелкнули каблуками и хором заявили:
— Пардон, ваше сиятельство!
— Я вам не сиятельство, господа, а Анна Николаевна, сколько раз повторять! — шутливо заметила она. — Но как это неожиданно… Стало быть, вы знакомы?
— Одного года выпуска в Александровском военном! После окончания потеряли друг друга из виду, но…
— И я также знаком с господином Черменским, — вдруг густым басом вступил в разговор тайный советник, и все невольно повернулись к нему. — Встречались в этой гостиной несколько лет назад и имели интересные беседы.
— Да, я помню, ваше превосходительство. — Черменский довольно сдержанно поклонился тайному советнику. — В самом деле было увлекательно обсуждать с вами последнюю военную кампанию. Так, значит…
— Господа, я вас оставлю ненадолго, — вдруг сказала Анна. — Сейчас прикажу подать шампанского, и вы выпьете за нежданную встречу! Максим Модестович, вам, вероятно, коньяк?
— С вашего позволения, бордо. Надобно помнить о своих годах.
С улыбкой кивнув, Анна вышла. В коридоре, подозвав горничную, она тихо, торопливо произнесла:
— Даша, немедленно одевайся и беги в театр.
— К Софье Николаевне изволите посылать?
— Именно. И как можно скорей.
* * *
В Большом Императорском театре в этот вечер давали «Рогнеду». Уже подходило к концу пятое действие, за сценой отчетливо слышался гул колокола, сзывающего киевское вече, баритон Заремина, исполняющего партию Князя, и неподражаемое меццо-сопрано Нежиной, поющей Рогнеду. В кулисах толпились хористы и «вторые роли», от запахов пота, пудры и пыли было трудно дышать, и Софья Грешнева, исполнившая в спектакле крошечную партию Мальфриды, незаметно прошла в свою уборную.
Грешнева делила ее с двумя другими солистками, однако сейчас там оказалось пусто: девушки убежали слушать Нежину. Та действительно была великолепна в партии Рогнеды и именно поэтому выбрала ее для своего бенефиса, но у Софьи отчаянно болела голова, к тому же молодую женщину не покидала мысль, что она плохо пела сегодня. В общем, слушать Рогнеду не хотелось.
Войдя в уборную, Софья сразу села на стул у круглого, грязного от следов грима зеркала. Вспомнив о том, что ей больше не нужно выходить сегодня на сцену, она стянула с головы белокурый парик и с наслаждением встряхнула обеими руками волосы. Спутанные темно-каштановые кудри ринулись вниз по плечам и спине, упав почти до пола. Софья небрежно заплела косу, отбросила ее назад, приблизила к зеркалу лицо, покрытое толстым слоем грима, взяла комок корпии и решительно начала стирать пудру. Затем отошла к рукомойнику сполоснуть лицо, которое без пудры оказалось смуглым, как у южанки, и зеленые, словно болотная осока, глаза еще ярче заблестели на нем. Софья слабо улыбнулась, подумав о том, что бесконечная, в пяти действиях, «Рогнеда» заканчивается, можно уже ехать домой. Завтра у нее нет ни репетиций, ни спектакля, и дома она свалится в постель и будет спать, спать, спать…
Скрипнула дверь уборной. Софья обернулась — и, помолчав, со вздохом пригласила:
— Входи-входи, я уже отпелась… Почему ты здесь?
— Говорил же, что зайду, быть может. Отъезжать мне ночью-то. Забыла? — послышался низкий, хрипловатый, слегка обиженный голос.
В узкую дверь, зацепившись плечом за косяк и едва не стукнувшись головой о притолоку, вошел костромской купец первой гильдии Федор Мартемьянов.
Мартемьянову исполнилось тридцать шесть лет. Он был некрасив, лицо его, темное, грубое, казалось наспех вырубленным из соснового полена, из-под мохнатых бровей прямо и упорно смотрели черные, без блеска, очень неглупые глаза, в огромной кряжистой фигуре чудилось что-то медвежье. По Костроме до сих пор ходили слухи о лихой, разбойничьей молодости Федора, и он их не пресекал, поскольку не видел смысла спорить с истиной.
— Садись, — вздохнув, предложила Софья.
Мартемьянов с сомнением посмотрел на хлипкий стул на рахитичных ножках возле трюмо и мотнул головой.
— Нет, Соня, я ненадолго. Хотел забрать тебя, извозчик у подъезда.
Дверь скрипнула снова, и в уборную, внеся с собой запах пота и духов «Пармская фиалка», вбежала сопрано на вторых ролях Ниночка Дальская — худенькая блондинка, певшая сегодня Мамушку.
— Сонечка, сейчас последний акт кончается, ты разве не пойдешь послушать… Ах, прости, ты не одна! Извини, мне через минуту на сцену, нужно привести себя в порядок, вообрази, что я статуя, извините, Федор Пантелеевич! — выпалив это все на одном дыхании, Ниночка плюхнулась на стул перед своим зеркалом и ожесточенно начала размазывать по лицу белила. Мартемьянов заинтересованно наблюдал за ее действиями до тех пор, пока Софья не дернула его за рукав.
— Федор!
— Ну да, — спохватился он, поспешно отворачиваясь. — Соня, так едем, что ли? У меня всего два часа осталось, ночью уж в поезде сидеть должон буду, дела…
— Федор, но куда же я поеду?! — с чуть заметной досадой ответила Софья. — Ты ведь видишь, опера еще не закончена, последний акт только начался, я не могу бросить все и укатить, я тут на жалованье!
— Сама ж говорила, что отпелась на сегодня, — нахмурился Мартемьянов.
На мгновение Софья пришла в замешательство, но тут же нашлась:
— Но я ведь должна дослушать все до конца! Пойми, Федор Пантелеевич, мне как певице это важно, мне, возможно, петь Рогнеду в нынешнем сезоне, а сегодня на сцене сама Нежина, когда у меня еще будет такой случай?..
В зеркале напротив она увидела смеющееся лицо Ниночки и слегка сдвинула брови. Та молча кивнула и зажала рот ладонью, но плечи ее тряслись.
— Остаешься, то есть? — Мартемьянов тоже покосился на Ниночку, на минуту задумался, но затем все же шагнул к Софье. Она сидела неподвижно, не оборачиваясь к нему. Мартемьянов взял в руки полураспущенную каштановую косу, прикоснулся пальцем к длинной смуглой шее с мягкой впадинкой у ключицы.
— Федор, Христа ради, мы не одни… — с уже неприкрытой досадой сказала Софья.
— Соня, я ведь нескоро ворочусь-то. К Николе зимнему, и то как бог расположит…
— Я знаю.
— Что ж, и не простимся?
— Отчего же? Ведь ты здесь. Простимся сейчас, и поезжай с богом. Я уверена, что дома Марфа тебе все соберет и уложит как надо.
— Да уж уложено с утра.
— Так в чем же дело? Прощай. — Софья встала, повернулась к нему. Мартемьянов молча, упорно смотрел в ее глаза.
— Что ж, добро, — наконец спокойно произнес он и, не оборачиваясь, вышел из уборной. Закрылась дверь, тяжелые шаги стихли. Софья, вздохнув, обессиленно опустилась на стул, провела ладонью по лицу — и вздрогнула от неожиданности, услышав мелкий, заливистый смех Ниночки.
— Сонечка… уй… прости, ради бога, ха-ха-ха… Но с какой же стати ты собралась в этом сезоне петь Рогнеду?! Во-первых, с Нежиной будет удар… Во-вторых, у тебя же лирическое сопрано, а не меццо… Ты ведь не собираешься сажать голос на нижние регистры, с твоим-то неземным бельканто! И ради чего?!
— Нина, бог с тобой, какая Рогнеда! — сердито отозвалась Софья. — Уж кто-кто, а ты должна была понять…
— О, прости, я все поняла! Ты просто хотела избавиться… — Ниночка перестала смеяться и внимательно, с нескрываемым удивлением посмотрела на Софью. Та не замечала этого взгляда, сердито расчесывая растрепанную Мартемьяновым косу. Ниночка вздохнула, переставила на столике баночки с белилами, зачем-то взбила пушистые кудряшки надо лбом, показала себе в зеркале язык… и не выдержала:
— Соня, ты меня прости, пожалуйста, я знаю, что меня это ни в какой мере не касается, но… Ты просто очень глупо себя ведешь! Извини, что я так прямо говорю, но…
Софья устало взглянула на нее через плечо:
— Глупо?..
— Да, и весьма! Ты же актриса! Ты знаешь о нашем несносном, ужасном положении! Сегодня ты прима или, по крайней мере, на вторых ролях, имеешь жалованье, на которое, между прочим, уважающей себя женщине и трех дней не прожить… а завтра ты, тьфу-тьфу-тьфу, теряешь голос: конец ангажементу, конец пению — и что?!
— Все под богом ходим, — пожала Софья плечами. — Мало ли таких случаев…
— К сожалению, много, очень много! И уж если господь тебе послал такого человека — стоит ли с подобным небрежением… Ведь я, прости, видела, как он на тебя смотрел! Ходят сплетни, что Мартемьянов готов на тебе жениться! А ты не дала даже поцеловать себя!
— Вернется из своей Костромы — нацелуется вдосталь.
— Соня, это опрометчиво, поверь мне, — со вздохом сказала Ниночка. — Солидные и нежадные люди на дорогах не валяются. Уж я-то знаю, что говорю, у меня свой скупердяй имеется, метрдотель из гостиницы «Империал». Не то что денег — пирожных к празднику не допросишься, а уж твой купец на тебя не жалеет, и ты могла бы…
К великому облегчению Софьи, снова послышался стук в дверь.
— Мадмазель Грешнева! Софья Николавна!
— Федотыч? — поспешно поднялась она. — Что случилось?
— Так что записка до вашей милости, — сообщил из-за двери бас служителя. — Вы уж примите, ежели в глиже, а коли нет, так я под дверкой оставлю.
— Я одета, давай сюда. — Софья быстро подошла к двери. — От кого, не знаешь?
— Передано, что от сестрицы вашей.
Записка была короткой: Анна срочно просила приехать. Недоумевая, Софья оделась, привела в порядок волосы, попрощалась с Дальской и вышла из уборной. Извозчика брать она не стала, пересекла пустую Триумфальную площадь, спустилась вниз по Тверской, свернула в Столешников переулок и через несколько минут уже была возле дома сестры.
* * *
— Как хотите, господа, а я уезжаю, — говорил тем временем князь Газданов. — И не удерживайте, Максим Модестович, надо же и совесть иметь! Вы с Черменским здесь — свои люди, старые друзья хозяйки, а я? Только сегодня был представлен — и уже нахально, как кузен из провинции, сижу до глубокой ночи! Все воспитанные люди давно откланялись…
— Поедемте вместе, Газданов, — предложил Черменский. — Сейчас выпьем бордо — и простимся. Мне тоже пора честь знать…
— А вас графиня просила задержаться, — невозмутимо напомнил ему тайный советник. — Вы так небрежны к ее просьбам?
Черменский взглянул на него.
— Откуда вам это может быть известно, ваше превосходительство?
— О, пардон, я не предполагал, что сие секрет, — пожал плечами тот.
Черменский отвернулся. Максим Модестович наблюдал за ним с самым серьезным видом, но в его темных узких глазах прыгали насмешливые искры. Действительному тайному советнику генералу Анциферову было далеко за пятьдесят, черты жесткого лица уже слегка расплылись, еще более старил его неровный шрам над левой бровью. Взгляд черных, блестящих глаз из-под тяжелых век был пристальным и неприятным. Газданов удивленно посмотрел в холодное лицо Черменского, в насмешливые глаза Анциферова, собрался о чем-то спросить, но, подумав, все же промолчал.
Хлопнула дверь, вбежала горничная.
— Барыня, Софья Николаевна приехали… — начала было она и тут же осеклась, увидев, что хозяйки нет в гостиной. Сразу же вслед за ней в комнату быстрыми шагами вошла средняя сестра Грешнева.
— Добрый вечер, господа, — с легкой заминкой сказала Софья. Было очевидно: она не знала о том, что у сестры гости. — Максим Модестович, здравствуйте… Владимир Дмитрич?.. Вы снова в Москве?
Черменский, поднялся, поклонился в ответ. То же самое, не покидая кресла, сделал генерал. Газданов молча переводил взгляд с одного на другого, ожидая, что его представят. В гостиной повисла неловкая тишина.
Первым спохватился генерал Анциферов:
— Добрый вечер, Софья Николаевна… Если уж быть совсем точным, то доброй ночи. Как видите, мы беспардоннейше засиделись у вашей сестры. Вы со спектакля?
— Да. Давали «Рогнеду».
— Когда же вы наконец позволите приехать и получить удовольствие, слушая вас?
— Максим Модестович, я не дирекция театра, а всего лишь сопрано на вторых ролях, — вежливо, но холодно ответила Софья. — Не в моей власти позволять или не позволять, билеты продаются в кассах… Аня, здравствуй, боже мой, я так устала, почему?..
Фразы Софья не закончила: появившаяся из соседней комнаты сестра быстро и ловко закрыла ей рот ладонью.
— Потому, что ты, душа моя, не появляешься третью неделю, а я скучаю, — с шутливой строгостью сказала она. — Я все понимаю — у тебя репетиции, спектакли, бенефисы… Но нельзя же и сестру забывать!
Софья посмотрела в лицо Анны. Чуть заметно, укоряюще покачала головой. Анна сделала вид, что не заметила этого, и подвела сестру к Газданову.
— Познакомься, Соня. Полковник Газданов Александр Ильич, служит в департаменте иностранных дел, дипломат, помощник министра. Александр Ильич — это моя сестра Софья Николаевна Грешнева, актриса, певица Императорского Большого театра.
— Весьма рад знакомству, — поклонился Газданов, но его черные глаза, вежливо задержавшись несколько мгновений на Софье, снова вернулись к хозяйке дома. Анциферов, заметив это, чуть заметно улыбнулся и прикрыл веки. Черменский смотрел в темное окно.
— Соня, ты споешь нам? — спросила Анна и, не дожидаясь согласия, подняла крышку фортепиано. — Ту прелестную вещь, которую ты учила месяц назад. Как же это… «День ли царит…»
Софья посмотрела на сестру изумленно и сердито. Ее смуглое лицо потемнело еще больше, губы плотно сжались. Казалось, она готова повернуться и выйти из комнаты. Мужчины переглянулись.
— Попросим же и мы, господа, — предложил Анциферов. — Видит бог, при нынешнем положении дел в департаменте в театр я выберусь нескоро… если вовсе выберусь. Да и вы, Александр Ильич, весьма заняты. Просим, Софья Николаевна! Да что же вы молчите, молодые люди?..
— Окажите милость, Софья Николаевна! — живо присоединился к Анциферову и Газданов, с недоумением глядя на Черменского. Тот продолжал смотреть в окно со странным, застывшим выражением на лице.
— Аня, как тебе не стыдно… — вполголоса произнесла Софья. Но сестра, опять будто не услышав, села за рояль и стала перебирать ноты.
— «День ли царит» у меня, к сожалению, куда-то запропал. Есть дуэт Ольги и Татьяны… Аида… Купава… Нет, не будем мучить мужчин оперой! Один романс — и все. На твой выбор.
— Изволь, — сухо проговорила Софья, подходя к инструменту. — В таком случае, «Элегия» Яковлева. И более ничего. Господа, прошу меня извинить, голос устал, я пела сегодня большой спектакль…
Анна тронула клавиши. Мягкая, грустная мелодия поплыла по комнате. Одновременно со вступлением в глубине дома чуть слышно забили часы. Стоящая в дверях горничная украдкой зевала, мелко крестя рот. Возле печи бесшумно умывался лапкой кот. Одна из свечей, вставленных в канделябр, плакала прозрачным воском, и ее неровный свет дрожал и метался на лице Софьи.
Когда, душа, стремилась ты погибнуть иль любить, Когда желанья и мечты в тебе теснились быть, Когда еще я не пил слез из чаши бытия, — Зачем тогда, в венке из роз, к теням не отбыл я…В гостиной наступила тишина. Анциферов, казалось, слушал со всем вниманием, чуть подавшись вперед и не сводя с певицы пристальных темных глаз. Газданов искренне наслаждался исполнением романса, на его некрасивом лице блуждала мечтательная улыбка. Взгляд Черменского по-прежнему был устремлен за окно. Анна из-за рояля несколько раз обеспокоенно посматривала на него, но Владимир не замечал этого.
— Господа, идет снег, — негромко сказал он, когда затихли последние ноты романса. Это было настолько невпопад, что Газданов чуть слышно выругался, а Анциферов усмехнулся, но тем не менее все находящиеся в комнате, включая певицу и аккомпаниаторшу, повернулись к окну.
Там действительно падал снег — первый в нынешнем году. Мягкие хлопья кружились в голубом клине света из окна, ложились на землю, пестрили темное небо. Все это происходило в полной тишине, и ночной пустой переулок казался полупризрачным, сказочным местом.
— Как красиво… — прошептала Софья, подойдя к окну. Почти сразу же поднялся и Черменский. Быстрыми шагами он перешел комнату и остановился за спиной Софьи. Та коротко взглянула на него через плечо. И сразу же отвернулась.
— Софья Николаевна… — помедлив, начал Черменский. И умолк, не закончив. Софья, казалось, не удивилась этому, не обернулась. Некоторое время они вместе наблюдали за первым снегопадом, словно ничего, кроме медленного кружения хлопьев в темном квадрате окна, не было на свете. А затем Софья, слабо улыбнувшись, повернулась к гостям и объявила:
— Прошу простить меня, господа, но я в самом деле очень устала и покину вас. Максим Модестович… Александр Ильич… Владимир Дмитрич… Покойной ночи, господа.
Мужчины поочередно приложились к ее руке, и Софья вышла из комнаты.
Сразу же откланялись и гости. Проводив их, Анна вернулась в опустевшую гостиную и некоторое время стояла у окна, прислонившись лбом к ледяному стеклу, за которым мягко и безразлично падал снег. За ее спиной слышались усталые шаги и шуршание: горничная убирала комнату.
— Даша, не надо, оставь все как есть. Приберешь завтра, ступай спать. Я погашу свечи.
— Благодарствую, барыня… — горничная ушла.
Когда за ней закрылась дверь, графиня Грешнева дунула на язычки огня, и свечи, затрепетав, погасли. Осталась одна, и, взяв ее, Анна покинула гостиную.
Софья сидела в спальне, забравшись с ногами на большую кровать и обхватив руками подушку. Света не было, и Анна, войдя со свечой, сразу же заметила, что по лицу сестры ползут слезы.
— Соня…
— Аня, клянусь, это было в последний раз! — не дослушав, хрипло перебила Софья. — В последний раз я была у тебя, в последний раз остаюсь ночевать, и то, видит бог, лишь потому, что у меня просто сил нет бежать домой! Как тебе не стыдно издеваться надо мной?! Как ты можешь заниматься этим… сводничеством?!
— Не я над тобой, а ты над ним и над собой издеваешься! — вспылила и старшая сестра, с размаху ставя подсвечник на стол. Свеча накренилась, несколько капель воска упали на полированную поверхность столешницы, но ни Софья, ни Анна не заметили этого.
— Соня, ты не девочка! Ты взрослая женщина, уже многое успевшая повидать в жизни! Я тоже не слепа! Ты можешь говорить все, что угодно, но я прекрасно вижу — ты по-прежнему влюблена в Черменского! И он все еще любит тебя! Это становится видно сразу же, как только вы оказываетесь вдвоем!
— «По-прежнему»… «Все еще»… — с горечью перебила сестру Софья. — Аня, Аня, опомнись, это было и прошло!
— Ничего не было, дурочка! Ничего у вас не было! А значит, и проходить нечему!
— Ну вот, так еще лучше: ничего не было! — рассмеялась Софья сквозь слезы. — Тогда о чем же вести разговор?
— Соня, ты глупа! — с сердцем произнесла Анна, отворачиваясь.
— А ты… ты… ты просто злая! Зачем тебе нужно мучить меня, не понимаю!
— Затем, что я всегда хотела лишь твоего счастья! И мне тяжело смотреть, как ты тратишь свою жизнь, свои молодые годы, свою красоту на этого… этого…
— Выблядка ватажного атамана, — подсказала Софья.
— Совершенно верно!!! — Анна вдруг умолкла. Озадаченно посмотрела на сестру.
— Это наша Марфа его так зовет?
— Нет. Он сам.
— Сам о себе? Твой Мартемьянов? — удивилась Анна. И замолчала надолго, глядя на то, как капает прозрачным воском на стол накренившаяся свеча. Ничего не говорила и Софья, украдкой вытирая бегущие по лицу слезы. За окном по-прежнему, мелькая в свете фонаря, падал снег.
— Господь с тобой, Соня… Прости меня. Видит бог, более я этого не сделаю. Клянусь, Черменский сегодня оказался здесь совершенно случайно! И я, конечно, сразу же послала за тобой…
— И напрасно!
— Вижу. — Анна тяжело вздохнула. — Что ж, будь по-твоему. Если ты не желаешь видеться с ним — это твое право.
— Благодарю, — глухо, с упреком сказала Софья. — Тебе понадобилось три года, чтобы это понять.
— Я и до сих пор не понимаю! — словно не заметив тона сестры, в сердцах продолжала Анна. — Не понимаю, что держит тебя возле Мартемьянова. Деньги? Только они, Соня? Поверь, я… я уважаю такую причину. — Анна горько усмехнулась. — Мы слишком долго были нищими, чтобы пренебрегать… Помнишь, как вы с Катей бегали босыми по Грешневке? Как перешивали мои платья? Как откладывали каждую копейку, чтобы выплатить по закладным и купить дрова на зиму? Все крестьяне бывшие папенькины над нами смеялись…
— До сих пор порой вижу в сне, — перекрестившись, призналась Софья.
— Стало быть…
— Нет. То есть не только.
— Но ты же не влюблена в него! И не была никогда! Я даже вообразить себе не могу, чтобы ты… Да ты же боялась его смертельно, Соня! Ты ведь в реку кинулась, когда братец покойный тебя в карты проиграл! Ему, Мартемьянову, проиграл! Тебя!
Софья, вздрогнув, закрыла глаза. Права Аня: столько лет прошло, а все словно вчера было… Как она тогда решилась, как набралась духу?.. Слишком была молода, сейчас бы уже, верно, не сумела… Перед глазами беспощадно встал тот темный, осенний, дождливый вечер, когда она, семнадцатилетняя, ворвалась в деревенский кабак, чтобы увести оттуда пьяного брата. И навстречу ей поднялся из-за стола Федор Мартемьянов, проезжий купец, черный, взъерошенный, некрасивый, с шальными от выпитого глазами. Что он тогда говорил ей?.. Что Софья отвечала?.. Не вспомнить хоть убей, слишком страшно и омерзительно было тогда. А наутро брат позвал ее и объявил, что она продана за пятнадцать тысяч в уплату карточного долга этому волжскому миллионщику. Она — дворянка, дочь генерала Грешнева, невинная девица. Было от чего кинуться в реку. И — она кинулась.
— Соня, что тогда с тобой было? — словно угадав мысли сестры, тихо спросила Анна. — Помрачение? Или в совершенном ясном здравии?..
— Наверное, помрачение, — медленно ответила Софья. — Видимо, это наша фамильная черта.
— От мамы?
— Да… Она же убила отца. Двенадцать лет с ним прожила — и зарезала без капли жалости. И после сама утопилась. Что это, как не помрачение? А Сергей? Ирать в баккара на родную сестру — тоже, скажешь, с ясного ума? А Катя, наша Катя?!
— Ох, не напоминай… — Анна вздрогнула, перекрестилась.
— Запереть Сергея в доме и устроить пожар! Пусть даже в отместку за меня, она ведь еще не знала тогда, что меня спасли… И все же — брата, кровного брата сжечь заживо! После — обокрасть приют, сбежать! В Одессе связаться с бандитом, кражи, убийства, тюрьма! А где Катя сейчас?! — Софья вдруг осеклась. Тихо спросила: — Аня, где она сейчас?
— Не знаю. — Анна провела ладонью по лицу, вздохнула. — Право, Соня, не знаю. Она ушла тогда, в Одессе, прямо из кабинета следователя, ушла на улицу, и я… я не могла идти за ней. Соня, если бы ты видела ее тогда, нашу Катю! Как она изменилась, какой стала взрослой и… совсем чужой. Я, мы, наша жизнь уже не интересовали ее нисколько. Она даже не простилась со мной уходя… хотя я сделала все, что могла, чтобы избавить ее от тюрьмы. Максим Модестович употребил свое влияние… Впрочем, я тебе уж сотню раз рассказывала об этом. И за три года — ни письма, ни весточки. Мы ей больше не нужны, Соня.
— Как страшно… — прошептала Софья, обхватывая плечи руками.
Анна опустилась рядом с ней, обняла. Сестры долго сидели молча, прижавшись друг к дружке, перед ними на столе плакала догорающая свеча, а за окном все гуще и гуще, уже сплошной пеленой, летел снег.
— Аня, поклянись мне… Пообещай, что более не будешь устраивать мне свиданий с Черменским. Это слишком больно, слишком мучительно… Помнишь, как говорила Татьяна? «А счастье было так возможно, так близко…»
— Бедная моя, бедная… Ты так его любила…
— Оставь, Аня. Это судьба. Вернее — не судьба. Так уж вышло. Может, это вовсе была и не любовь.
— Но, Соня…
— Не будем больше об этом.
— Что ж… Тебе, верно, лучше знать. Правда, уже поздно. Покойной ночи. Я скоро вернусь, совсем забыла об одной мелочи… Спи, господь с тобой.
Перекрестив сестру, Анна вышла из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. Софья легла, но, провертевшись полчаса под одеялом, поняла, что сон ушел, и даже усталости, обычной после спектакля, уже не чувствовалось. Не хотелось даже плакать, пропало душившее ее час назад отчаяние, и Софья, вновь садясь на постели и глядя на падающий за окном снег, подумала: может, так и проходит любовь? Может быть, скоро в самом деле — всё?..
Владимир Черменский… Это он спас ее, когда она, потеряв рассудок от страха и отчаяния, кинулась с обрыва в черную, стылую воду Угры. Почему Владимир, потомственный дворянин и армейский капитан, вел бродяжнический образ жизни и как очутился среди приказчиков купца Мартемьянова, Софья тогда не знала. Черменский объяснил это семейными обстоятельствами и каким-то данным словом и в подробности вдаваться не стал.
Всю ночь Владимир и Софья проговорили, сидя у пылающего костра на берегу Угры. А наутро Софья ушла прочь, оставив на берегу реки свое платье: так посоветовал ей Черменский, чтобы обмануть Мартемьянова.
«Софья Николаевна, пусть он лучше думает, что вы утопились. Иначе он не отступится, я хорошо его знаю, поверьте».
Позже Софья поняла, что Владимир был прав в каждом слове. А тогда просто сделала так, как он посоветовал, и ушла из родного имения вместе с Марфой — верной девкой семьи Грешневых. В кармане лежало рекомендательное письмо Черменского к его другу — антрепренеру провинциальной театральной труппы.
— Владимир Дмитрич, но как же я сумею… — ужасалась Софья. — Я вовсе не чувствую в себе способностей к драме… Я ведь даже в театре не была ни разу в жизни! Вы полагаете, сделаться актрисой так просто?!
— Проще, чем вы думаете, Софья Николаевна, — заверил тогда Черменский. — Вам — в особенности. У вас прекрасный голос, и вы очень красивы. Поверьте, этого достаточно. Сцена ждет вас.
Это был единственный комплимент, сказанный ей Владимиром. Комплимент, который можно было объяснить и простой вежливостью, и желанием подбодрить… но много-много дней спустя, уже играя в ярославской труппе, Софья все повторяла и повторяла его слова. Вспоминала загорелое лицо молодого человека, серые глаза, спокойный, уверенный голос, твердую, сильную руку, протянутую ей на прощание.
В то утро не было дано ни одного обещания. Не было сказано ни слова о любви. Расставаясь на пустой, затянутой туманом дороге, они даже не обернулись вслед друг другу. Но за всю осень и всю зиму не проходило дня, чтобы Софья не подумала о Черменском. Мысли эти, спокойные и ясные, доставляли радость, хотя Софья и была уверена, что больше они с Владимиром никогда не встретятся. Да, он сказал ей на прощанье, что найдет ее, но со слов сестры Софья знала, что всерьез относиться к мужским обещаниям не следует никогда.
Она поступила в театр, где играла с успехом, которому удивлялась сама. Они с Марфой радовались тому, что наконец-то завелись хоть какие-то деньги, что не нужно бояться завтрашнего дня… А в конце зимы неожиданно пришло письмо от Черменского, и Софья не спала всю ночь — самую счастливую ночь в ее жизни, — читая и перечитывая эти строки. Владимир сообщал, что, едва освободившись от службы у Мартемьянова, он кинулся искать ее, что найти так и не смог, поскольку театральная труппа переезжала из города в город, что, набравшись наглости, осмелился явиться в Москву к ее старшей сестре, и Анна Николаевна любезно согласилась дать адрес… Каждая строка письма была полна любви, и это почувствовала даже совсем не искушенная в сердечных делах Софья.
Когда в Ярославль приехала погостить старшая сестра, Софья накинулась на нее с расспросами. Анна, смеясь, рассказала, что Владимир Черменский пришел в ее дом в Столешниковом и прямо с порога, едва представившись, попросил Софьиной руки. Было очевидно, что Анне понравился Владимир — настолько, что она дала ему адрес сестры и обещала всяческую поддержку со своей стороны. «Может, господь хоть тебя помилует… — грустно улыбаясь, сказала Анна. — Владимир скоро будет здесь, в Ярославле, он намерен делать тебе предложение».
Но Черменский не приехал. Зима прошла, растаял снег, Волга очистилась ото льда, а его все не было. Не приходило больше и писем. Сначала Софья мучилась, плакала, недоумевала, вновь и вновь перечитывала то единственное его послание, пытаясь понять, что же произошло… Потом отчаяние сменилось тяжелым безразличием и презрением: испугался… не захотел жениться на бесприданнице… на актрисе, старшая сестра которой — содержанка, а младшая — уголовная преступница… Черменский — дворянин, из хорошей семьи, зачем ему этот мезальянс? Он опомнился, остыл и… и более ей, Софье Грешневой, нечего ждать.
Масла в огонь подливала и ведущая актриса труппы Марья Мерцалова, которая снимала комнату в том же доме, что и Софья. Маша, в свои двадцать семь лет уже много чего повидавшая, не уставала повторять неопытной соседке, что глупо ждать от мужчин искренней любви, что актрисам рассчитывать на блестящую партию не следует, что надеяться в жизни можно лишь на саму себя и что Софье лучше думать не о романтических чувствах, а о том, как приобрести сильного и богатого покровителя. За этим, впрочем, далеко ходить было не нужно: как раз в то время Софья дебютировала в роли Офелии и имела бешеный успех, дня не проходило, чтобы к ее дому не подкатывала коляска с очередным поклонником. Предложения делались разные, от пятисот рублей ежемесячно на булавки до обещаний купить дом со всею обстановкой и дать полное содержание. Софья всем отказывала наотрез.
В один из ясных апрельских дней Маша Мерцалова, сияя, сказала Софье, что некий человек ждет ее в гостинице «Эдельвейс». Девушка не сомневалась, что это Владимир. На Софью нахлынула такая волна жара и счастья, что она даже не задумалась — а зачем, собственно, было Черменскому вызывать даму в сомнительную гостиницу, если он мог нанести визит лично?
Сразу же после спектакля девушка очертя голову бросилась в «Эдельвейс». И там, в полутемном гостиничном номере, встретилась с… Федором Мартемьяновым, который первым делом запер на ключ дверь и встал у окна, чтобы Софье не вздумалось в него выпрыгнуть.
Вспомнив тот вечер, молодая женщина невольно усмехнулась. Как же она тогда боялась Федора!.. Как дрожала, словно зайчик под кустом, пока Мартемьянов говорил ей, спокойно и неторопливо, словно не замечая ее смятения, что ни на минуту не поверил словам Черменского о том, что Софья утопилась. Он искал ее все эти месяцы, используя свои возможности очень богатого человека, и наконец нашел.
— Что же вам теперь угодно от меня, сударь? — едва смогла спросить Софья.
— Со мной поедешь, матушка?
Пока Софья задыхалась от возмущения, не в силах вымолвить ни слова, Мартемьянов деловито объяснил ей, что Черменского она ждет напрасно.
— У Владимира Дмитрича, вишь ли, батюшка помер, имение огромное без пригляду осталось, не до тебя ему нынче. Да и невесту он теперь может подоходнее взять, за тобой-то приданого — вошь на аркане да дыра в кармане… Так поедешь со мной, Софья Николавна?
Разумеется, Софья отказалась, молясь лишь об одном — чтобы Мартемьянов выпустил ее из гостиницы живой и невредимой. К удивлению девушки, так и случилось: Федор пальцем к ней не прикоснулся и, прощаясь, сказал, что еще несколько дней будет ждать ее решения. Ничего на это не ответив, Софья со всех ног помчалась домой, чтобы потребовать объяснений от предавшей ее Мерцаловой.
Маша, увидев заплаканную, перепуганную насмерть подругу, даже глазом не моргнула. Спокойно, не смущаясь, Мерцалова поведала Софье о том, что хорошо знакома с Черменским, так как весь прошлый сезон была его любовницей, что оба играли в костромском театре, что Владимир бросил ее, внезапно исчезнув из Костромы, а несколько месяцев назад они случайно встретились в калужской гостинице и провели вместе ночь. Наутро Черменский исчез не простившись, а Мерцалова через некоторое время обнаружила себя беременной.
— Кстати, тебе на днях письмо пришло от него. Не хотела тебе показывать, чтоб не расстраивать, но уж теперь-то что… на, читай. — Маша протянула ей смятый листок. Софья взяла его дрожащими пальцами и не сразу смогла прочесть: строки, написанные знакомым милым почерком, прыгали и расплывались перед глазами.
«Прости меня. В случившемся виноват лишь я один. Не буду писать об обстоятельствах, вынуждающих меня не видеться с тобой, но поверь, они имеются. Лучше нам не встречаться более, наши отношения не могут иметь никакой будущности. Ты прекрасная женщина и актриса, я уверен, ты будешь счастлива с более достойным человеком. Прости. Прощай. Владимир Черменский».
Дочитав письмо, Софья еще смогла спросить у Марьи:
— Зачем же ты меня к Мартемьянову отправила? Я ничего плохого тебе не сделала, Маша, за что?!
— А за деньги, милая, за деньги, — спокойно и жестко ответила Мерцалова. — Он мне за это тысячный билет дал. Я ведь без ангажемента, без копейки и с брюхом, а у меня еще сын есть, на воспитании. Жить-то надо?
— Бог тебе судья, — сказала Софья, уже выходя. И через час отправила записку Мартемьянову, соглашаясь на его предложение. Все равно прыгнуть в реку во второй раз она уже не смогла бы.
Права Анна… в крови у них, Грешневых, эти помрачения рассудка. Что с ней было тогда, как не помрачение? Позже Софья спрашивала у верной девки:
— Марфа, что ж ты не отговорила, не удержала меня? Взяла бы повисла на шее: не пущу и все!
— Свое разумение имеем, — слышалась в ответ мрачная отповедь. — Понимаем небось когда на господах висеть можно, когда нет. Попробуй я тогда только рот открыть, вы бы меня ни на миг не послушали и одна бы уехали, а куда ж я вас одну пущу?
Итак, доблестная Марфа, собрав пожитки, отправилась вместе со своей барышней.
Мартемьянов увез Софью за границу, и целых полгода она жила попеременно в Австрии, Франции и Италии. Постепенно молодая женщина привыкла к своему покровителю, панический страх ушел, она поняла, что Федор на самом деле влюблен и, похоже, впервые, что он пытается доставить ей удовольствие, выполняя любые ее желания. К искреннему огорчению Мартемьянова, желаний у Софьи было мало. С детства привыкнув к тому, что у них с младшей сестрой одно приличное платье и пара ботинок на двоих, она не интересовалась дорогой одеждой, не видела смысла в приобретении драгоценностей. Единственное, что доставляло ей радость — занятия пением. Все три сестры Грешневы были музыкальны, обладали хорошими голосами. Софья, научившись играть на фортепьяно, пела вслед за Анной оперные арии: старшая сестра не пропускала в московских театрах ни одной премьеры.
В Неаполе Софья попала в вокальную школу госпожи Росси, бывшей к тому же хозяйкой частного оперного театра, брала уроки бельканто, пела на сцене и несколько раз ловила себя на мысли о том, что вполне довольна жизнью. Воспоминания о Черменском по-прежнему доставляли острую боль, но она убеждала себя, что рано или поздно это пройдет: не век же мучиться мыслями об обманувшем ее мужчине…
Снег за окном повалил стеной. Глядя в эту серую непроглядную пелену, Софья вспомнила тот резкий, почти болезненный всплеск счастья, когда Мартемьянов объявил, что выкупил для любовницы Грешневку. Грешневку — милое родное имение, которое ушло по закладным за долги. Казалось, Грешневка была потеряна навсегда, Софья старалась поменьше вспоминать об утраченном родовом гнезде, понимая, что вернуть его нельзя… Кто бы мог подумать, что Федору придет в голову сделать ей такой подарок?.. Софья вытерла внезапно набежавшие слезы. С горечью подумала: как, однако, шутит судьба… Вечером того же дня, счастливая, полная самых радужных планов, желая еще раз убедиться в том, что она, Софья, теперь вновь полноправная хозяйка своего имения, она полезла в бумаги Федора за купчей на Грешневку… и нашла там письма Черменского. Шесть писем, которых Софья в глаза не видела, которых так отчаянно ждала минувшей весной, которые все до единого оказались перехвачены Мерцаловой и проданы ею же Мартемьянову. Послания эти, как то, самое первое, были переполнены любовью, и лишь в последнем Владимир, не понимая, почему Софья не отвечает ему, извинялся за собственное нахальство и обещал более не писать до тех пор, пока не получит хоть какого-нибудь ответа.
Она до сих пор не понимала, почему не умерла тогда, сидя на полу неаполитанской гостиницы и читая нежные, так поздно дошедшие до нее письма: казалось, что сердце разорвано пополам. Может, и умерла бы… если б в этот вечер не должна была состояться премьера «Травиаты» в оперном театре, где Софью неожиданно попросили заменить актрису, исполнявшую партию Виолетты Валери.
Она спела Виолетту, вызвав бешеную овацию неаполитанцев; спела, находясь в странном полуобморочном состоянии, почти не видя ни сцены, ни партнеров, не слыша собственного голоса, не понимая, отчего так неистовствует, аплодируя, зал. Ее вызывали без конца, но Софья, едва переодевшись, сбежала из театра через окно своей уборной и на следующий же день в сопровождении Мартемьянова покинула Италию.
Федор ни от чего не отпирался. Впрочем, и не каялся, жалея лишь об одном: что не сжег письма Черменского сразу по приобретении. Софья, которая была не в силах ни плакать, ни упрекать, ни проклинать, все же смогла показать Федору последнее послание, записку Владимира, врученное ей в Ярославле Мерцаловой. Пробежав его глазами, Мартемьянов искренне удивился и заявил, что он этой записки в глаза никогда не видал.
— Глянь, он же и по имени тебя тут не зовет, Соня! И «ты», а не «вы»… А конверт где? Имя там твое прописано? Вовсе не было конверта? Ну-у, Соня… Мало ли кому наш брат такие-то писульки сочиняет… Обманула тебя змеюка Марья. Не к тебе он это писал.
И Софья поняла, что Мартемьянов прав.
— Уйдешь теперь, Соня?
— Нет. Некуда уходить.
— Простишь, что ль, меня? — удивился он.
— Не смогу, — честно ответила Софья. — Давай без этого поживем, если сумеем.
Больше Федор ни о чем ее не спрашивал.
Софья не соврала Мартемьянову ни единым словом. Идти ей в самом деле было некуда. О том, чтобы встретиться с Черменским после того, как она полгода прожила в содержанках у Мартемьянова, Софья даже думать не могла без содрогания. Да, ее обманули, да, были перехвачены письма, да, так сложились обстоятельства… Но в том «помрачении», когда она по своей доброй воле отдала себя в руки Матемьянова, не был виноват никто. Никто, кроме ее самой, Софьи Грешневой. У нее был выбор, и она сделала его. А значит, незачем оглядываться назад.
Она не ушла от Федора — потому, что, несмотря на вскрывшийся обман, на сделанную им подлость, на то, что по его вине жизнь Софьи оказалась сломана, он почему-то не стал отвратителен ей. Купец-пароходник тридцати трех лет, в молодости прошедший огонь и воду, почти неграмотный, очень сильный, очень вспыльчивый, с репутацией разбойника с большой дороги, Мартемьянов ни разу за полгода не обидел ее. Он держал Софью в камелиях, но лишь потому, что она сама, несмотря на стенания Марфы о том, что любовь любовью, а жить надо по-людски, наотрез отказывалась обвенчаться с ним. И Софья не боялась его нисколько, хоть и знала к тому времени, что Федору Мартемьянову доводилось убивать людей. Он сам однажды поведал ей об этом и, судя по всему, не солгал. Софья давно уже не пугалась, когда по ночам Федор метался на постели, рыча и ругаясь сквозь стиснутые зубы, то убегая от кого-то во сне, то, напротив, догоняя… Будить его при этом было совершенно бесполезно, и всякий раз Софья, преодолевая усталость, усаживалась рядом, брала себе на колени горячую, тяжелую, встрепанную голову любовника и сидела так, борясь с зевотой, до тех пор, пока он не успокаивался и не затихал. Наутро Мартемьянов уверял, что ничего не помнит, и Софья считала, что так оно и было на самом деле.
Когда уже в Москве она, несмотря на сопротивление любовника (он опасался Софьиной знатной родни), познакомила его с сестрой, Анна пришла в ужас, и только воспитание, полученное в стенах Смольного института, помогло ей скрыть панику. Федор при этом представлении тоже чувствовал себя неуютно, почти не открывал рта, явно боясь ляпнуть что-то не бонтонное, и при первой же возможности исчез.
Едва оставшись наедине с сестрой, Анна потребовала объяснений.
— Соня, почему?! Ведь это же… это же… Боже, Соня, я все понимаю, я сама не святая, так уж, видно, суждено нам, Грешневым, но… но… Это ведь дикарь! Разбойник с большой дороги! Стенька Разин, Пугачев, Кудеяр! Почему именно он?! Ты хороша собой, молода, ты в сотню раз лучше меня, ты могла бы…
— Аня, так уж вышло, — как можно тверже оборвала ее Софья, радуясь про себя тому, что благоразумно не рассказала сестре о письмах Черменского, перехваченных Федором, и о его обмане. Впрочем, о Владимире Анна через мгновение вспомнила сама:
— Соня, но как же Черменский?! О, ты ведь ничего не знаешь, я даже не могла писать к тебе, ты жила то в Вене, то в Париже, а он… Соня, Владимир часто бывал у меня тут, спрашивал, нет ли вестей от тебя, он ничего не может понять, ты даже не ответила на его письма…
— Какие письма, Аня? — спросила Софья, чувствуя себя препротивно и всей душой надеясь на свой актерский талант: впервые в жизни она пыталась обмануть сестру. Но, видимо, ярославские газетные рецензенты не врали, называя мадемуазель Грешневу «весьма талантливой актрисой с большим потенциалом»: Анна поверила и страшно удивилась:
— Ты не получала его писем?!
— Лишь одно — то, которое я тебе показывала. И еще записку, в которой он просил не искать с ним встреч.
— Соня, этого просто не могло быть! Боже, неужели я до сих пор ничего не понимаю в мужчинах?! У тебя сохранилась эта записка?
— Нет, я ее порвала.
— Напрасно…
— Ничуть. Не собираешься же ты допрашивать господина Черменского о его намерениях с этой бумажкой в руках?
— Ma chierie, он порядочный человек…
— Ma chierie, это уже не имеет никакого значения.
Спорить Анна не стала и лишь растерянно спросила:
— Так ты намерена продолжать жить с этим… твоим купцом?
— По крайней мере, он любит меня, — отрезала Софья, на что сестра уже ничего не могла ответить.
Жизнь пошла своим чередом. В Грешневку, которая теперь снова принадлежала ей, Софья так и не поехала. Федор не спрашивал ее почему: видимо, понимал сам. Он купил небольшой дом в тихом Богословском переулке, недалеко от Столешникова, где жила Анна, и сестры теперь могли часто видеться. Марфа поселилась вместе с Софьей и каждый день радостно носилась из Богословского в Столешников.
— Вот и слава господу, вот и хорошо! Хоть как, а вместе, и при деньгах каких-никаких, и… Вот еще бы Катерину Николавну сыскать, так я бы все церкви в Москве на коленях обползала!
Но, видимо, Марфино ползанье богу было ни к чему, потому что о младшей Грешневой по-прежнему не появлялось никаких вестей.
Свои первые осень и зиму в Москве Софья прожила в каком-то странном оцепенении. Год спустя она даже не могла вспомнить, что делала, о чем думала, чем занимала себя в эти месяцы. Утром вставала, как правило, поздно, пила поданный Марфой чай, после, если была хорошая погода, шла гулять, возвращалась… На вопросы служанки о том, хорошо ли барышня прошлась и что видела, только пожимала плечами: в памяти не оставалось ничего.
Иногда Софья садилась за фортепиано, что-то играла, что-то пела — механически, как заводная кукла, без капли удовольствия. Делала она это лишь потому, что в Неаполе синьора Росси постоянно твердила ей: голос — инструмент, требующий постоянного использования, иначе он может испортиться навсегда. Софья, понимая, что игра на сцене — единственное, чем она сумеет в случае чего заработать себе на жизнь, боялась остаться без этой возможности и регулярно тренировала голос. А дождавшись Великого поста, традиционного времени прослушивания в Императорских театрах, пошла на прослушивание в Большой.
Ее взяли в театр так легко, что Софья даже приняла происходящее за розыгрыш. Спросили, кто она, где училась пению, в каких спектаклях играла, имеются ли рекомендательные письма. Последних у Софьи не было, но когда она сказала, что училась в Неаполе у Паолы Росси и дебютировала в «Театре Семи цветов», а после этого еще спела арию Виолетты, — первую, сложнейшую, написанную для хрустального колоратурного сопрано, — ее сразу же взяли во второй состав и назначили жалованье.
Дни шли за днями — одинаковые, ровные, уже бесслезные, но и безрадостные. Софья ходила на репетиции, принимала участие в спектаклях, пела вторые роли, ничуть не грустила из-за того, что больших партий ей не дают, бывала в театрах и в гостях. Если Мартемьянов оказывался в Москве, выезжала с ним в рестораны или кафешантаны. Так прошло три года.
Иногда Софья виделась с Черменским на вечерах у сестры. Они встречались как чужие, едва знакомые люди, да, в сущности, так оно и было. Анна не теряла надежды на то, что сестра и Владимир сумеют все же объясниться, но ни Софья, ни Черменский, казалось, не стремились к этому. Часто Софья видела его в театре во время спектаклей, но он ни разу не пришел к ней за кулисы, ни разу не прислал цветов. Все, казалось, минуло, как случайный весенний сон, как несбыточная фантазия, и Софья не понимала, почему она до сих пор плачет каждый раз после этих редких встреч. Она не кривила душой, говоря Анне о том, что лучше бы ей никогда больше не видеть Владимира Черменского. Не его вина в том, что так сложилась жизнь. Только она, Софья Грешнева, виновата в собственной глупости. Она сама — и, наверное, матушкина бешеная черкесская кровь. И поделать тут уже ничего нельзя. Остается только забыть.
Софья легла в постель, натянула на плечи одеяло. Еще раз взглянула уже слипающимися глазами на снег, по-прежнему валившийся как пух из распоротой перины, вспомнила, что Анна так и не вернулась, — и провалилась в сон.
* * *
Анна Грешнева, покинув сестру, отправилась в свою пустую гостиную. Впрочем, когда хозяйка дома вошла туда, комната пустой уже не была. За круглым полированным столом расположился тайный советник Анциферов. Напротив, на краешке кресла, неестественно прямо, со сложенными на коленях руками сидела Манон — одна из «кузин графини Грешневой», худенькая большеротая девушка лет двадцати. По ее несколько растрепанному виду, красным пятнам, горящим на щеках, и выбившимся из прически светлым пушистым прядям волос было видно, что она совсем недавно прибежала откуда-то сломя голову.
— Просто шармант, Аннет, — с улыбкой повернулся к вошедшей Анне Максим Модестович, но глаза его под полуприкрытыми тяжелыми веками не смеялись. — Верите ли, эта прелестная особа примчалась пять минут назад — и ровно столько же я пытаюсь добиться от нее, в чем, собственно, дело. Она геройски отвечает, что у нее, вообразите, инструкция!.. — и что все вопросы может задавать только мадам!
— И она совершенно права, — спокойно подтвердила Анна. — Благодарю вас, Манон, вы все сделали верно. Итак?.. Можете говорить свободно при этом господине.
Блондинка Манон все же недоверчиво посмотрела на Анциферова, затем победоносно улыбнулась Анне и извлекла из-за корсажа измятую связку бумаг.
— Неразумно, дитя мое, — строго заметила ей графиня. — Теперь будет сложно придать им первоначальный вид. Могут возникнуть ненужные вопросы…
— Я знаю, мадам. Но другой возможности, право, не было. Мне пришлось спешить, — торопливо, проглатывая слова, произнесла Манон, и, несмотря на правильную светскую речь, в ее голосе начало проскальзывать явное волжское оканье. — Вы говорили, что бумаги нужны непременно на этой неделе, а завтра… то есть сегодня, уже воскресенье.
— Вы уверены, что взяли именно то, что я просила?
— Да. Письма к австрийскому консулу, к германскому послу, к испанскому… и вот это, вероятно, недавние ответы на них.
— Сколько имеется времени?
— Очень мало. Граф Будницкий должен проснуться, если я правильно рассчитала, к пяти утра. Мне нужно успеть вернуть бумаги на место.
— Вас видел кто-нибудь, когда вы покидали графа?
— Никто. Прислуга была отпущена, супруга графа в Ницце. У меня есть ключ.
— Браво, девочка моя, — вполголоса сказал Максим Модестович.
Анна и Манон одновременно взглянули на него, но тайный советник не стал пояснять, к которой из них относится комплимент. Он придвинул к себе стопку бумаг и не спеша начал их просматривать.
— У вас менее часа, Максим Модестович, — напомнила Анна. — Скоро утро, а вы слышали, что сказала Манон. Не стоит подводить мою лучшую девушку.
Манон залилась краской от этой похвалы и с таким обожанием посмотрела на Анну, что Анциферов уважительно приподнял брови.
— Не беспокойтесь, дамы. Я справлюсь за полчаса.
Он углубился в чтение бумаг, а Анна и Манон тем временем вполголоса разговаривали в уголке дивана. Вернее, говорила Манон, а графиня слушала, изредка кивала или задавала тихие вопросы, на которые следовали совсем уж едва слышные ответы.
— Благодарю вас, это все, — наконец сказал тайный советник, отодвигая от себя бумаги.
Анна и Манон дружно встали с дивана.
— Моя девушка не зря трудилась, господин Анциферов? — спросила графиня.
— О, что вы, напротив… Сии сведения весьма ценны. Спасибо, дитя мое, извольте принять за прекрасно выполненную работу. — Максим Модестович снял с пальца массивный золотой перстень и протянул его Манон. Та не тронулась с места. Не поднимая глаз, ровным голосом произнесла:
— Благодарю вас, ваше превосходительство, но за выполненную работу может платить только мадам.
— Спасибо, Манон. — Анна прикоснулась к ее руке. — Вы можете идти. Торопитесь, у вас остался час.
— Брависсимо! — с нескрываемым восхищением воскликнул Анциферов, когда Манон тщательно собрала в пачку все бумаги и скрылась за дверью. — Аннет, как вам удается добиваться подобных результатов? Они, как дрессированные собаки, берут корм только из ваших рук и доверяют только вам!
— Не понимаю вас, Максим Модестович. — Анна пожала плечами. — Вы сами предоставляли мне девушек, все до одной выбраны лично вами, и…
— Но воспитанием их я не занимался! Сие исключительно ваш труд — и труд, как я вижу, немалый! Эту Матрену… м-м… Манон вы натаскивали три года, и результат выше всяких похвал!
— Стало быть, вы не ошиблись в моих скромных способностях.
— Но как вы это делаете?! Поделитесь секретом, и тайна во мне умрет!
— Нет никакого секрета. — Анна устало присела на подлокотник кресла. — Помните, весной я просила вас помочь одному молодому человеку, попавшему в тюрьму за крапленые карты и поножовщину? Ему грозила каторга, и вы любезно согласились облегчить его участь.
— Как же, припоминаю. Некто Иван Крашенинников…
— Верно, память у вас отменная. Это родной брат моей Манон, брат младший и очень любимый. Вы спасли юношу от Сибири, и его сестра теперь ваша до гробовой доски.
— Вернее, ваша, — уточнил Анциферов.
— Вы сами всегда настаивали на том, чтобы ваше имя было скрыто.
— Разумеется. — Максим Модестович взял руку Анны, поцеловал. — А я, признаться, тогда никак не мог взять в толк — что вам за дело до этого испорченного мальчишки с его семью тузами в колоде? Я даже полагал…
— Что он мой любовник, — со вздохом продолжила Анна. — Боже, Максим Модестович… Ведь мы с вами столько лет знакомы. Вы уже могли бы знать…
— Я все знаю, Аннет. Простите старого осла. Но мои глупости должны быть для вас извинительны. Вы ведь помните…
— Нет, ваше превосходительство. Не помню ничего.
Анциферов взглянул на Анну в упор, но она, не оборачиваясь, смотрела в окно, наблюдая за падающим снегом.
— Жаль, — без всякого выражения произнес Максим Модестович. — Ну, что ж, тогда перейдем к последнему моему делу к вам.
— Что-то еще? — не смогла скрыть удивления Анна. — Я полагала, что Манон со всем справилась великолепно. С послом Вимгельштейном уже работает Одиль, но вы не упоминали, что там нужна срочность, и посему…
— Простите, девочка моя, это не касается… м-м… Одиль. Пусть она поступает, как сочтет лучшим: с Вимгельштейном в самом деле спешка не требуется, он господин весьма основательный. Я хотел просить вас о другом.
— О чем же?
Анциферов медлил. В его темных, неподвижных глазах бился огонек свечи. Глядя на собеседника, Анна вдруг почувствовала беспричинный страх.
— Что вы скажете о Газданове? — вдруг спросил Максим Модестович.
— О Газданове?.. — с невольным облегчением переспросила Анна. — Но… право, что же я могу о нем сказать, если мы только сегодня познакомились? Ведь вы, верно, знаете все сами, это же вы привели его ко мне!
— О да. И в моих интересах, Аннет, чтобы он как можно чаще появлялся в вашем доме.
— Понимаю, — медленно кивнула Анна. — Я должна предложить ему свою «кузину»? Какую же, на ваш взгляд? Манон тут не подойдет, у нее вид парижской гризетки, а вульгарность по нраву не всякому. Господин Газданов создает впечатление человека с хорошим вкусом. Впрочем, мне трудно судить, сегодняшний вечер дал мало поводов для размышлений. Может быть, вы расскажете мне?..
— Извольте. Александр Газданов — личность незаурядная. Выходец из древней, но крайне бедной осетинской семьи. Образование получил в России, блестяще закончил военное училище, затем — Академию Генерального штаба, воевал в последнюю кампанию — причем находился не в штабе, а в действующей армии, при генерале Скобелеве, участвовал в сражениях на Шипке и под Плевной, все повышения в званиях получил за боевые заслуги. Войну окончил в звании ротмистра. Потом начал службу по дипломатической линии, при военной разведке, входил в состав русского посольства в Париже, прекрасно говорит на четырех языках, вхож в лучшие дома Европы, имеет обширные знакомства за границей… некоторые из которых вызывают беспокойство моего ведомства.
— Шпионаж? — задумчиво спросила Анна.
— Возможно. Не забивайте себе голову этими подробностями, Аннет. В свое время я дам вам нужные объяснения. А сейчас просто постарайтесь сделать так, чтобы полковник Газданов чаще появлялся у вас. Более того, девочка моя… — Анциферов помолчал, словно собираясь с мыслями. Во взгляде Анны появилась тревога, но Максим Модестович не замечал этого. — Было бы великолепно, если б он увлекся именно вами. Несмотря на молодость, полковник Газданов весьма и весьма умен. Более того, он имеет успех у женщин, это вам не Вимгельштейн с его катаром и одышкой и не дурак Будницкий. Ваши «кузины» очень старательны, но все же малоопытны, а риск слишком велик.
Анна не изменилась в лице. Даже взгляд ее, следящий за кружением снега в полосе света за окном, оставался по-прежнему спокойным. И голос ее был таким же негромким и ровным.
— Другими словами, Газдановым должна заняться я лично?
— Вы ничего мне не должны, Аннет.
— Максим Модестович, к чему эти реверансы?.. — пожала Анна плечами. — Вы можете просто приказать мне.
— Анна Николаевна…
— Оставьте. Вы просите заняться Газдановым — я займусь им. Но, предупреждаю, быстрых результатов предоставить не смогу. Умный мужчина требует умного обращения. И, к сожалению, здесь не может быть никаких гарантий.
— В нашем с вами деле ни о каких гарантиях вовсе не идет речи. Благодарю вас, Аннет, за вашу очаровательную любезность. — Анциферов поднялся. Встала и Анна. Привычно протянула руку для поцелуя, Максим Модестович так же привычно коснулся губами ее кисти. Снова пристально посмотрел на стоящую перед ним молодую женщину. Анна ответила удивленным взглядом:
— Что-нибудь еще, Максим Модестович?
— Как же вы все-таки великолепны, Аннет, — со вздохом сказал Анциферов. — Поверьте, я никогда в жизни не встречал женщину, способную так держать себя в руках.
— Вы не первый год проверяете мою выдержку, — слабо улыбнулась Анна.
— Вынужден, вынужден по долгу службы… И такая же великолепная у вас память. Поэтому я не могу поверить, что вы забыли тот вечер в Одессе, в гостинице. После того, как…
— После того, как вы спасли Катю от каторги и я поклялась, что до конца дней своих останусь в вашем распоряжении.
— Я вовсе не это хотел вам напомнить. — Анциферов, казалось, смутился. Анна, напротив, была очень спокойна, лишь глаза ее, зеленые, как у всех Грешневых, заблестели, как подтаивающий весенний лед.
— Я сказал вам тогда, что люблю вас. Вы не могли это забыть.
— Конечно. Я ответила вам, что я…
— …урод, лишенный всяких женских чувств, и не способны ответить мне тем же, — процитировал Анциферов, и Анна негромко рассмеялась:
— Вот видите, и вас память не подводит. Но к чему же сейчас эти воспоминания?
Максим Модестович молчал, глядя через плечо Анны в темное окно. Не отводя глаз от падающего снега, с улыбкой спросил:
— Вы ведь так и не поверили мне, Аннет? Не правда ли?
Анна тоже ответила не сразу. Обошла стол, сняла нагар с одной из свеч, сразу же загоревшейся ярко и ровно. Глядя на огонь, вполголоса, медленно произнесла:
— Вы только что, Максим Модестович, хвалили мой ум… Боюсь, что вы заблуждаетесь на этот счет. Право, если б я была по-настоящему умна, то не находилась бы в том положении, в каком нахожусь всю свою жизнь. Но о том, что не следует придавать большого значения мужским словам о любви, знает каждая женщина — если, разумеется, ей больше чем тринадцать лет и она не круглая дура.
— Вы такого ужасного мнения о мужчинах, девочка моя? — усмехнулся Анциферов.
— Полагаете, у меня нет для этого оснований?.. Впрочем, дело в другом. — Анна с улыбкой прошлась по комнате. Анциферов, по-прежнему стоя у стола, наблюдал за ней.
— Мой опыт, Максим Модестович, позволяет мне утверждать, что мужчины, признаваясь в любви, часто сами верят тому, что говорят. И тем опаснее доверять сказанному.
— Не понимаю.
— Право?.. — Анна улыбнулась еще шире. — Что ж, поясню. Дело вовсе не в том, что мужчины — скоты и обманщики, а женщины — святы и наивны. Просто мужские понятия о любви весьма далеки от наших, дамских, представлений. Что подумает женщина о мужчине, который искренне объяснялся ей в любви, а три года спустя непринужденно предлагает ей связь с первым встречным? Что он сутенер, а она дура, не более того. А для мужчины такой поворот событий, вероятно, естествен и ни в коем случае не отменяет его высоких чувств. Я доступно объяснила свои суждения?
— Весьма, — сухо сказал Максим Модестович, на этот раз посмотрев прямо в лицо Анне. Та ответила открытым, спокойным взглядом.
— Что ж… Час поздний, а вы устали, Анна Николаевна. Надеюсь, мы обо всем договорились. Честь имею.
— До встречи, друг мой, — произнесла Анна в спину уходящему Анциферову.
Когда за ним закрылась дверь, она молча, тяжело, словно разом лишившись сил, опустилась в глубокое кресло и шумно вздохнула. Некоторое время Анна сидела неподвижно. Затем вдруг усмехнулась — жестко и зло. Вытерла глаза, встала и отправилась спать.
* * *
Когда Газданов и Черменский вышли из дома графини Грешневой, Столешников переулок был совершенно пуст. Снег валил тяжелыми хлопьями, и, казалось, две шевелящиеся стены отделяют переулок от Тверской и от Петровки.
— Как, однако, шутит судьба, Черменский, не правда ли? — усмехнулся Газданов, на его ястребином лице ярко блеснули красивые, ровные зубы. — Кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь, в Москве, и через десять лет? Не хотите ли отметить встречу? Я в гостях и не пил ничего: боялся испортить мнение графини о себе…
Черменский улыбнулся, подумал и кивнул.
— Едем к Ренье?
— Лучше к Осетрову, в Грузины, ближе.
— Идет. Извозчи-и-ик!
Через минуту извозчичьи сани уносили двух встретившихся сегодня товарищей сквозь снежную завесу к ресторану Осетрова.
Они познакомились двенадцать лет назад, когда оба, восемнадцатилетние, пришли из разных кадетских корпусов в Александровское военное училище на Знаменке, и быстро стали дружны. Этому не помешало то, что отцом Владимира являлся знаменитый боевой генерал, герой Первой Турецкой кампании Дмитрий Черменский, известный всей России, а Газданов был отпрыском обнищавшего осетинского князя, богатство которого составляли лишь старинная турецкая сабля и несколько рысаков в разваливающейся конюшне. Сандро страстно любил лошадей, обожал джигитовку, в манеже доводил товарищей до восторженного воя, выделывая на «мастодонтах» невероятные трюки, множество раз бывал наказан за эти вольности, но даже ротные офицеры восхищались мастерством молодого человека.
— Газданов, почему вы не пошли в кавалерийское?! Или в цирк, по крайней мере? — спрашивал начальник роты капитан Дятлов, с ужасом наблюдая какую-нибудь «чертову мельницу» на спине флегматичного ротного сивки. — Там вам самое место, а меня от ваших м-м… эквилибров скоро родимчик хватит! Слезайте с сивого, вам говорят, он уже икает с перепугу! Марш под арест до вечера, и чтоб я более не видел на занятиях в манеже ничего подобного! Который раз вам сказано!
— Слушаюсь, господин капитан! — лихо отвечал Газданов — и под громовое «ура» всей роты спрыгивал с ошалевшего сивого путем заднего сальто-мортале. — Черменский, дайте что-нибудь почитать, не то помру в карцере с тоски!
— Возьмите у меня в спальне «Севастопольские рассказы»! Право, не заметите, как время пройдет!
Обоих юношей объединяла страстная любовь к чтению. Но если Черменский пробовал писать и сам, и его уморительные пасквили на преподавателей и товарищей ходили по рукам всего училища, прибавляя своему автору дисциплинарных взысканий, то Газданов, искренне завидуя этому дару, не мог выжать из себя ни строчки и оставался лишь первым и самым благодарным читателем друга. Зато молодому осетину прекрасно давались переводы с немецкого и французского: языки Газданов знал превосходно, учил их быстро, с легкостью читал европейскую классику в подлинниках и даже осмеливался переводить Шекспира и Гейне. Переводы выходили тяжеловесными — бог решительно отказал Сандро в литературном таланте, — но очень точными, и немец Шниттенберг, преподаватель словесности, уверенно пророчил Газданову поприще дипломата. Но Сандро лишь отмахивался, бредя, как и все училище, военной карьерой.
После выпуска друзья расстались: получивший высшие баллы по всем предметам Газданов имел свободный выбор вакансии и распределился в Тифлисский полк, где уже служил его старший брат, а Черменский, два года мучившийся с точными науками и так и не одолевший их, отправился под Никополь, в захолустное местечко. За месяцы, проведенные в полку, военная служба осточертела ему до тошноты, и Владимир с радостью ушел бы в отставку, если б не слово, взятое с него отцом. Помня о своем обещании, молодой человек сдал экзамены в Академию при Генеральном штабе и был готов продолжить карьеру военного, но в тот год генерал Черменский, больше двадцати лет проживший вдовцом после смерти матери Владимира, неожиданно женился вторично.
Мачеха, хорошенькая полька из Гродно, была лишь на три года старше пасынка, и произошло неизбежное: Владимир смертельно влюбился. Янина, казалось, тоже потеряла голову от молодого человека, целое лето они встречались тайком, Владимира страшно мучила вина перед отцом и одновременно — ужас от мысли, что эта одуряющая страсть вдруг прервется… А потом выяснилось: страстная полячка держала в своих любовниках, помимо пасынка, еще и его ровесника и друга, Северьяна. Когда правда всплыла, Владимир ночью покинул имение отца. Вместе с молодым барином ушел и Северьян, рассудивший, что не след им ссориться из-за всякой шалавы.
Вспоминая впоследствии ту осень, когда они с Северьяном, без документов, без денег, как бродяги, уехали зимовать в Крым, Черменский думал, что это было счастливейшее время. Ему тогда исполнилось всего двадцать два года, от молодой дури и уверенности в собственных силах кружилась голова, опостылевшая военная служба осталась позади, впереди ждала полная опасностей и приключений вольная жизнь, рядом всегда был Северьян, — вор, сорвиголова и мастер «шанхайского мордобоя», которому он весьма успешно обучил и Владимира. Вокруг расстилалось осеннее, теплое, пахнущее фруктами, морем и полынью Крымское побережье, и не хотелось ничего бояться и ни о чем думать. За три года они с Северьяном объездили всю Россию, успели поучаствовать в грянувшей на Кавказе войне, работали вышибалами в публичном доме, грузчиками в порту, матросами на волжских пароходах и подмастерьями на кирпичном заводе. В Костроме Владимир случайно познакомился с провинциальными актерами; шутки ради, поддавшись уговорам новых друзей, попробовал играть — и остался в театре на весь сезон. А с ним и Северьян, решивший, что зимовать при театре спокойнее.
Здесь Черменский встретился с Марьей Мерцаловой — актрисой великолепной цыганской прелести, очень талантливой, блистающей в амплуа трагедийных героинь. Отдавая должное красоте молодой женщины, Владимир тем не менее не был влюблен и очень удивился, когда Северьян обратил его внимание на то, что Мерцалова сама не на шутку увлечена Черменским. Они стали любовниками, вместе играли в спектаклях, чем закончится эта связь, Владимир не задумывался, тем более что Марья и не требовала от него никаких решительных действий. Их роман прервался неожиданно и не по вине Черменского. Все началось с того, что в самом конце сезона Северьян залез в конюшню первого купца в городе Мартемьянова и — попался.
Рассказывая позже о том, как все произошло, друг утверждал, что «не погорел бы нипочем», не будь приказчиков Мартемьянова десяток и не ударь один из них Северьяна по голове оглоблей. Конокрада скрутили, сильно избили и готовились уже бросить с мешком на голове в Волгу, не примчись на выручку Владимир. К счастью, Мартемьянова заинтриговал странный бродяга с офицерской выправкой и речью светского человека. Купец начал расспрашивать Владимира, между делом поинтересовался, откуда его приятель «насобачился» так драться. Черменский рассказал о китайской борьбе. Вскоре мужчины договорились: Мартемьянов оставляет конокраду жизнь и свободу, а взамен Владимир поступает к купцу в услужение, чтобы учить его «молодцов» драться «по-шанхайски». Через две недели они с Северьяном, на котором все зажило как на собаке, вместе с обозом Мартемьянова уехали на Макарьевскую ярмарку. А еще через месяц в захолустной деревне Грешневке, через которую возвращались домой, Владимир увидел Софью. Но тогда же увидел ее и Мартемьянов. И оба пропали мгновенно, взглянув в зеленые погибельные глаза оборванной барышни.
Вспомнив о Софье, Владимир закрыл глаза и в который раз подумал: как бы все могло быть просто, легко и ясно. Если бы он не оказался тогда связан словом, данным Мартемьянову… Если бы сам Мартемьянов не потерял голову от Софьи, если бы не пришлось имитировать самоубийство девушки и отправлять ее тайком невесть куда, почти без денег… Все это было решено наспех, за одну ночь и, по оценке Северьяна, «куда как худо сляпано»: в то, что Софья утопилась, Мартемьянов не поверил ни на грош. Уходя от него осенью, Владимир понял: купец намерен найти сбежавшую девчонку во что бы то ни стало. Узнав за эти месяцы характер своего недолгого хозяина, Черменский не сомневался: найдет. Дело оставалось за тем, чтобы обнаружить Софью первым.
У Черменского была фора: он знал, куда отправилась девушка, поскольку сам дал ей адрес театра в Калуге и письмо к своему знакомому антрепренеру. Но, приехав в Калугу ледяным ноябрьским вечером, Владимир не обнаружил там ни Софьи, ни театра. Зато в привокзальной гостинице неожиданно встретил актрису Мерцалову, бывшую любовницу, про которую он за все это время, кажется, и не вспомнил ни разу.
Маша ни в чем его не упрекала и даже толком не расспросила. Не смущаясь, рассказала о том, что жила с местным предводителем дворянства, что ушла от него без гроша в кармане и сейчас едет в Ярославль к тамошнему антрепренеру. Она выглядела подавленной, уставшей, у нее, как всегда, не имелось денег, надежда на ангажемент тоже была очень зыбкой. В упор смотря на Владимира черными цыганскими глазами, Мерцалова попросила не оставлять ее в эту ночь. Черменский не отказал бывшей любовнице. И наутро уехал, оставив короткую, ничего не значащую записку. Мог ли он тогда знать, мог ли даже предположить, чем все это закончится?..
… — Черменский, может быть, поедемте спать? — нерешительно предложил Газданов, когда извозчик остановился у освещенного подъезда ресторана, откуда доносилось цыганское пение. — Вы, мне кажется, устали и не расположены…
— Что?.. А, вздор. — Владимир мотнул головой, отгоняя тяжелые воспоминания. — Идемте. Да, кстати… Помнится, в училище мы были на «ты». Но если…
— Чепуха! — Сандро широко улыбнулся. — Я и сам все собирался об этом напомнить, но боялся выглядеть Ноздревым. Стало быть, как прежде? Ура?!
— Ура, — согласился Владимир, невольно улыбаясь в ответ.
Расплатившись с извозчиком, они вошли в ресторан.
У Осетрова было тепло, чисто и сегодня, к удивлению Черменского, довольно спокойно, хотя это место славилось шумными купеческими загулами. Войдя, Владимир приметил лишь одну большую компанию у дальней стены. Цыганский хор тянул что-то душещипательное, бесшумно носились половые, сам хозяин, заложив большие пальцы за проймы жилета, наблюдал за залом из-за буфетной стойки. Увидев входящих, он покинул свое место и степенно подошел.
— Доброй ночи, Владимир Дмитриевич. Кабинетик изволите?
— Газданов, пойдем в кабинет?
— Слушай, останемся лучше здесь. — Сандро улыбался, глядя на цыганский хор. — Люблю их, чертей, не поверишь как!
— Шумно может статься в скором времени, — честно предупредил Осетров, чуть заметно кивая в сторону компании у стены. — Господа купцы с вечера воспринимают, уж почти и готовые.
— Ничего. Мы пока посидим здесь. Станет громко — уйдем.
— Что заказывать изволите? Чудную ушицу из стерлядки имеем, поросеночком могу угостить молочным с кашкой, карасей в сметане хрустящих можно изобразить…
— Фрол Васильич, ты пришли нам Демьяна, да скажи ему — как обычно.
— Слушаю-с…
— Тебя тут все знают! — удивился Сандро, усевшись и наблюдая за тем, как лысый, длинный, исполненный достоинства Демьян с белой салфеткой скользит вокруг стола. — Чем ты сейчас занят, служишь где-то?
Черменский усмехнулся, покачал головой. Вместо него с улыбкой ответил Демьян:
— Пишут оне-с. Для газет. Вся Москва запоем читает. Весьма даже увлекательно выходит, особливо последнее, про Хитров да «Пересыльный»…
— Демьян, как тебе не стыдно… — отмахнулся Владимир, но Газданов удивленно вскинул брови:
— Позволь… Ну как же, я читал! В «Московском листке»! «Рыцари тумана», кажется, так? Псевдоним автора… Не помню, что-то очень простое…
— Дмитриев, — усмехнулся Черменский. — Редактор, правда, пытался навязать мне «Аполлонского» или «графа Кастальдини», рассчитывая, что и барышни тоже будут читать… но тут уж я встал насмерть.
— Так Дмитриев из «Московского листка» — это ты?! Боже мой, Черменский! — поразился Газданов. — Что ж… еще в училище было понятно, что этим и кончится. Помнишь эпиграмму на майора Ртицкого?
— А как же… Пять дней ареста.
— И давно ты эдак… борзописуешь?
— Года три. С тех пор как живу в столице. Никакой другой службы я не знаю, сидеть круглый год в имении скучно, я там бываю лишь с весны до осени, пока идут работы… — Черменский говорил медленно, с неохотой, но Газданов этого не замечал. Казалось, он думает о другом.
— Какая чудная женщина, Черменский, верно?.. — произнес он, когда Демьян наконец закончил колдовать над столом и ускользнул. — Я таких глаз никогда в жизни не видел. Зеленые, как море… Ты на Каспии бывал?.. Хороша безумно! Расскажи мне о ней!
— Изволь, но что же? — пожал плечами Черменский.
— Да все, что знаешь! Ведь ты вхож в дом, разговаривал с ней запросто…
— Газданов, ты с ума сошел? Мы двух слов друг другу не сказали! Она всего несколько минут пробыла в гостиной! И те пела!
С минуту они недоуменно смотрели друг на друга. Затем дружно рассмеялись.
— Черменский, ты о какой из них говоришь?!
— О Софье Грешневой, разумеется! А ты?
— Об Анне! Черт возьми… — Газданов снова негромко рассмеялся. — «Неужто ты влюблен в меньшую? — А что? — Я выбрал бы другую, когда бы был, как ты, поэт…»
Черменский тоже усмехнулся, пригубил вино. Вполголоса спросил:
— Как ты у нее оказался? Графиня Грешнева весьма осторожна в выборе гостей.
— Притащил Анциферов. Он-то, похоже, ее старинный друг и даже… — Газданов запнулся, посмотрел на Черменского. Тот, невозмутимо разглядывая на свет вино в бокале, поинтересовался:
— Так ты дружен с Анциферовым?
— С какой стати? — пожал Газданов широкими плечами. — Просто знакомы по долгу службы, хотя наши ведомства и разны. Сегодня случайно разговорились после совещания у государя. Генерал Анциферов, как выяснилось, прежде общался с отцом, у нас есть общие знакомые… Он оказался весьма интересным собеседником. Мы вместе посидели у Клоссе, потом генерал сообщил, что приглашен на вечер в самый интересный дом в Москве, и позвал с собой. Он назвал имя хозяйки, я был, конечно, заинтригован, и… Как давно ты знаком с графиней?
— Четыре года, — медленно ответил Черменский.
Газданов вопрошающе смотрел на него, ожидая продолжения, но Владимир молчал.
— Послушай, — наконец обиженно начал Сандро. — Не хочешь говорить — ради бога, не надо, но я не понимаю, зачем столько таинственности? Если бы ты сам был заинтересован в этой даме — тогда все понятно, но ты же вроде увлечен ее сестрой?
— Поверь, я не увлечен ни той ни другой, — без улыбки произнес Владимир. — Видит бог, еще утром я подумать не мог, что снова окажусь в этой гостиной. Последний раз я был у графини прошлой весной.
— Вот как? — Газданов смотрел недоверчиво. — Отчего же сегодня?..
— Искал Северьяна. Ты ведь его должен помнить, моего бандита.
— Твой конокрад?! — несказанно удивился Газданов. — Он все еще при тебе?
— И я при нем, — подтвердил Черменский. — Мы не расстаемся уже, наверное, больше десяти лет. И вот вдруг — пропал. Просто ушел из имения ночью, никому ничего не сказав!
— Ну-у, этого можно было ожидать…
— Нельзя никак! — резко отозвался Владимир. — Я должен был знать! Не понимаю, что за стих на него нашел! Никогда прежде он так не вел себя! Месяц я еще ждал, думал — мало ли что ему в башку могло ударить, загулял, запил где-нибудь, с ним случается… Но он, паршивец, второй месяц не появляется, и вот — пришлось ехать на поиски. С утра я побегал по Москве, у нас с ним тут имеются… м-м… общие знакомые, а ближе к ночи заглянул к Фекле. Это кухарка Грешневой, у них с Северьяном когда-то был роман, и я подумал, может, Фекла что-то знает. Но он у нее не показывался. Я уже готов был откланяться, когда вдруг вошла графиня… — Меня сразу захватили в плен и переправили в гостиную.
Черменский умолк. Невесело усмехнулся, глядя в сторону. Что толку врать самому себе — он хотел увидеть Софью. И был страшно разочарован, войдя в гостиную и не обнаружив там ее. Но Анна, перехватив его взгляд, чуть заметно улыбнулась, попросила немного подождать, и Владимир отчетливо понял, что стоит это сделать.
И дождался, черт возьми… При воспоминании о том, что произошло два часа назад, настроение Черменского, и без того плохое, испортилось окончательно. Как безобразно он повел себя… Чуть было не сделал вид, что они незнакомы, молчал, как болван, когда остальные просили ее спеть… Софья пела, а он, глядя в окно на падающий снег, вспоминал о том, как впервые услышал ее голос — четыре года назад, в захолустной деревне, в забитом пьяными мужиками кабаке. Она пела тогда под гитару «Что ты жадно глядишь на дорогу» — семнадцатилетняя босоногая девочка со слезами в зеленых, как у лесной русалки, глазах, и у него мурашки бежали по спине от этого голоса, глаз… До сих пор все живо в памяти, до сих пор не отболело… А ведь времени прошло немало. Можно было за столько лет понять, что ничего уже не изменится, не вернется обратно та ночь на обрывистом берегу Угры, когда он и Софья сидели, разделенные лишь умирающими углями костра, и Владимир успокаивал ее, говоря, что нельзя сводить счеты с жизнью, что бы ни случилось, а девушка молча, глядя в огонь, слушала его, и желтый огонек бился в неподвижных глазах… Кончено. Незачем и вспоминать. Но он все еще не мог справиться с собой, — виновато в этом было последнее письмо Маши. Марьи Мерцаловой, актрисы, его недолгой любовницы, покончившей с собой во второсортном борделе на Грачевке несколько лет назад. Накануне ее самоубийства они встретились случайно в полупустом под утро зале борделя. Маша была уже очень слаба, кашляла кровью. Не глядя на Владимира, рассказала о том, что из-за болезни осталась без работы, без ангажемента, из последних сил подрабатывала в публичном доме, играя для гостей на пианино, и добавила, что через неделю-другую она, вероятно, умрет. Отчетливо видя, что это правда, Владимир предложил ей:
— Поедем в Крым, там воздух, море… Ты вылечишься!
— Что ты, Володя… — отмахнулась она, глядя на него лихорадочно блестящими, черными глазами. — Это уже не вылечить. Да и ни к чему. Рада я, что встретилась с тобой напоследок… Уходи, ради Христа.
До сих пор он проклинал тебя за то, что послушался. Хотя и понимал в глубине души, что это ничего бы не исправило. По глазам Маши было уже понятно: она разочлась с жизнью. На другой день зареванные проститутки, придя к Черменскому в гостиницу, передали ему последнее письмо Мерцаловой, которое Владимир перечитывал столько раз, что уже знал наизусть.
«Володя, ты только не грусти. Право, для меня это лучше и уж в любом случае быстрее. Так нелепо сложилась жизнь, что в самом бездарном водевиле не увидишь. Если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой, но, бог свидетель, лишь потому, что любила тебя страшно… хоть это нисколько и не оправдание. Не могу написать подробнее. Пусть уж этот грех на душе останется. Одно лишь скажу: о Соне Грешневой не думай плохо, она с этим толстосумом только из-за нашего бабьего горя поехала… и постарайся с ней встретиться. Она все расскажет. Наверное, Соня тебя любит, хотя я, прости, не верю: молода девочка слишком. Видит бог, по-другому я никак не могла поступить… Прошу тебя лишь об одном: не оставь моего сына. Прощай. Остаюсь твоя Марья Мерцалова. Теперь уж, кажется, навсегда».
* * *
— Черменски-и-и-ий!
Женский голос позвал его на весь зал так звонко и неожиданно, что Владимир вздрогнул, обернулся и увидел, что от дверей к нему опрометью мчится кудрявая большеротая брюнетка в сбившейся набок шляпке и мужском макинтоше.
— Ба-а-а, Черменский! Сколько же не виделись?!
— Всего лишь три месяца, Ирэн, зачем ты так кричишь? Ты в Москве? Тебя опять уволили из «Сплетен»? — Владимир едва успел подняться и подхватить кинувшуюся ему на шею стриженую брюнетку. Этот пируэт был проделан девицей весьма непринужденно — впрочем, как и все, что делала Ирэн Кречетовская, петербургская журналистка, печатавшаяся под псевдонимом «поручик Герман».
— Уволил, мер-рзавец! В шестой раз! Да и бог с ним, через два месяца, как всегда, возьмет назад, не Аленский же ему будет писать про «деловых»… Черменский, а что ты здесь делаешь? Ты приезжал в редакцию? К Петухову? Что-то новое, да? Или уж окончательно, зимовать? И даже не написал мне, пф, бессовестный! Как там твои яровые да озимые, заколосились? А я, вообрази, встретила тут у вас, на Сухаревке, старого знакомого, и он мне поведал, что у Осетрова сегодня будет пьяная драка с дебошем… Я — немедля на извозчика, лечу… а тут еще, оказывается, и не начиналось! — Ирэн с возмущением покосилась через плечо на компанию пьяных купцов, вразброд, но довольно благодушно исполняющих вместе с цыганским хором «То не ветер ветку клонит». — Ну и ладно, значит, из всех московских борзописцев буду первой! Кто это с тобой?
— Ирэн, Ирэн, успокойся… Газданов, перестань скалить зубы, это не то, что ты думаешь… Ирэн, позвольте вам… тебе… представить полковника Александра Газданова, моего давнего приятеля. Сандро, это мадемуазель Кречетовская, сотрудник «Петербургских сплетен», знаменитый «поручик Герман».
— Как же, слышал, читал… — немного удивленно отозвался Газданов, вставая и целуя руку смеющейся Ирэн. — Так это вы — та бесстрашная барышня, которая писала о шайке громил Степки Колуна?
— Да, я! — сощуренные глаза Ирэн смеялись. — И, по чести говоря, не такие уж они были кровожадные разбойники, как уверяла полиция. А вы — по военной части? По дипломатической?! Восхитительно!!! Может, расскажете мне о каких-нибудь шпионских тайнах? О нет, не бойтесь, не для печати, просто интересно!
Черменский только вздохнул. Они с Ирэн познакомились три года назад в Петербурге, куда Владимир приехал вместе с Северьяном, чтобы исполнить последнюю просьбу Маши Мерцаловой и решить судьбу ее сына. Выяснилось, что мать актрисы давно умерла, мальчишку взял в учение сосед, хозяин портняжной мастерской, устроивший малолетнему ученику такую жизнь, что тот вскоре сбежал на улицу. Помочь отыскать его вызвалась прислуга из дома портного, рыжая Наташка с пятимесячным животом («Хозяин на первый Спас осчастливили…»), которая, кажется, одна относилась к пареньку по-человечески. После долгих поисков Владимир и Северьян обнаружили Ваньку в трущобах возле Сенной, откуда мальчишка наотрез отказался уходить. Спас положение Северьян, который недолго думая объявил парню, что является его отцом и посему забирает его отсюда по законному праву. Ванька, ни о каком папаше слыхом не слыхивавший за все свои девять лет, не нашелся что возразить, но выдвинул условие: без беременной Натальи он шагу из Питера не сделает. Та немедленно начала рыдать, Северьян — уговаривать, Владимир — прикидывать, что ему теперь делать с двумя сиротами, свалившимися как снег на голову… и в это время в ночлежку ворвалась Ирэн, которую Черменский сначала принял за проститутку или воровку с Сенной. Да и кто бы еще мог завопить на все заведение: «Шухер, урки, легаши!!! Облава!»
Вместе с Ирэн они тогда сбежали через обнаружившийся за буфетной стойкой подземный ход. Так и познакомились. На другой день Кречетовская уехала вместе с ними в Москву, уверив, что там у нее неотложное дело.
Глядя на Ирэн, Владимир не мог не признавать, что таких женщин на его пути еще не встречалось. У мадемуазель Кречетовской, казалось, напрочь отсутствовало чувство страха и самосохранения. В своем мужском макинтоше, кокетливой шляпке на остриженных, вьющихся волосах, с крепкой папиросой «Север» в зубах и с бельгийским «франкоттом», из которого она мастерски стреляла, в кармане Ирэн бесстрашно разгуливала по трущобам и переулкам возле Сенной площади, делая свои знаменитые репортажи о жизни питерского дна. Она лично была знакома с цветом воровского общества в Петербурге, запросто заходила в самые вонючие нищенские ночлежки, знала по именам всех проституток с Лиговки и беспризорников с Сенной. Более того, в этом обществе Ирэн имела репутацию «верной дамочки», которая никогда не сдаст «фартового человека» легавым и в своих статьях не упомянет ничего ненужного. В этой традиции молодая журналистка твердо следовала за своим отцом — знаменитым на весь Питер репортером уголовной хроники Станиславом Кречетовским. Писала она под мужским псевдонимом «поручик Герман».
Северьян уверял, что «барышня» влюбилась в Черменского сразу и наповал. Владимир в это ничуть не поверил, да ему в то время было и не до амуров: прошло всего несколько дней со смерти Маши, Софья, уехавшая с Мартемьяновым за границу, была потеряна для него навсегда, жизнь казалась конченой, и Владимир искренне жалел, что не может плюнуть на все и вместе с верным Северьяном махнуть на зиму в Крым. Теперь, повесив себе на шею Ваньку, а вместе с ним и пузатую Наталью, об этом следовало забыть надолго.
В Москве они с Ирэн расстались: журналистка отправилась прямиком на Хитров рынок отыскивать своих знакомых громил, Владимир, обремененный семейством, уехал в имение. Северьян, видя его растерянность, утешал:
— Да брось журиться, Владимир Дмитрич, разгребемся как-нибудь… Впервой, что ли? Не грудные, чать, младенцы, устроются… Много ли им надо-то? Кусок в зубы, да на конюшню хомуты чистить…
— Не выдумывай, Ваньке учиться надо.
— Еще чего! Я его все равно в Москву не отпущу, что ему книжки-то читать, много вот тебе-то с них радости? А Натахе вовсе рожать скоро…
В конце концов, именно так вышло. Ваньку определили в церковно-приходскую школу, которую он сразу же возненавидел всей душой, Наталья начала крутиться по хозяйству с редкой сноровкой, которой не мешал даже растущий живот, а к зиме в Раздольное неожиданно нагрянула Ирэн.
Когда она на крестьянской телеге подкатила к воротам, Владимир и Северьян с увлечением предавались джиу-джитсу, скача по двору без рубах, в одних штанах и босиком. Десять лет назад с этой борьбы началась их дружба. Владимир до сих пор был уверен, что до Северьяна ему далеко; тот же, в свою очередь, уверял, что по части «шанхайского мордобоя» Черменский давно его превзошел. Дворовые уже привыкли к «художествам» барина и не обращали на происходящее никакого внимания. Северьян первым увидел Ирэн, пропустил удар пяткой в грудь от Владимира, грохнулся на подмерзшую землю, вскочил — и снова свалился, на этот раз в приступе хохота: «Говорил я тебе, Владимир Дмитрич, что она сама прибежит?! Вот и года не прошло, получай!»
Владимир, недоумевая, обернулся — и увидел стремительно входящую на двор Ирэн с папиросой в зубах, в неизменном макинтоше, раздувавшемся, как крылья. Увидев стоящих посреди двора полуголых Владимира и Северьяна, она даже бровью не повела.
— Вот вы, Владимир Дмитрич, совесть потеряли и носа в Москву не кажете, — решительно, не поздоровавшись, заговорила она. — А меня, между прочим, совсем съели из-за вас в издательстве! Ваши очерки вышли еще в октябре, редактор рвет меня на части каждый раз, когда я появляюсь в Москве, требует личного знакомства с вами, ему нужно еще что-нибудь подобное, у вас гонорар лежит в кассе неполученный, и… Вы намерены сами заниматься своими делами, или я должна хлопотать еще и об этом?! Здравствуй, Северьян, тебе не холодно?
— Шутите, Ирина Станиславна! — захохотал Северьян, передергивая могучими плечами и ничуть не смущаясь наготы своего торса. — «Франкотт» ваш при вас ноне?
— Оставила в гостинице…
— Тогда дозвольте ручку поцеловать, а то покуда Владимир Дмитрич отмерзнет…
Ирэн тоже залилась хохотом и протянула Северьяну руку. Когда же тот с невиннейшим видом обнял мадемуазель Кречетовскую за талию, она отвесила ему подзатыльник — впрочем, довольно ласковый, — отстранилась и обернулась к Черменскому:
— Владимир Дмитрич, право, ваш слуга ведет себя галантнее! Неужели я настолько некстати прибыла?!
— Боже мой, Ирэн, простите… — опомнился Владимир. — Северьян, что ты регочешь, подай рубаху… И сам оденься, кобель! Прошу в дом, Ирэн, я очень рад…
В доме им сразу поговорить не дали: примчалась с кухни вымазанная мукой и сметаной Наташка, они с Ирэн тут же начали обниматься, целоваться и, не стесняясь мужчин, обсуждать трудности Наташкиного положения (девчонка уже была на восьмом месяце). Потом с конюшни прилетел пропахший конским потом и колесной мазью Ванька, на которого Северьян и Черменский воззрились с огромным удивлением: предполагалось, что мальчишка с утра преет в школе. Он, старательно избегая этих взглядов, основательно уселся на табуретку и принялся расспрашивать Ирэн о своих питерских знакомых среди бродяг и воров.
— Поверьте, Владимир Дмитрич, я бы вас не обеспокоила своим визитом, если б не Петухов! — говорила Ирэн, прихлебывая из чашки обжигающий чай. — Это редактор «Московского листка», он пришел в восторг от ваших очерков о волжских матросах, помните, вы же сами мне давали свои путевые заметки осенью, когда мы прощались… Ну так вот, они напечатаны, я привезла вам экземпляры, и Петухов просто стонет-умоляет, чтобы ему написали еще! Вы не поверите, какой в столице поднялся резонанс после выхода ваших опусов!
Владимир не знал, верить или нет. Да, у него была привычка вести своего рода путевой дневник в старой, потрепанной записной книжке, сопровождающей его во всех путешествиях. Да, Черменскому приходилось печатать некоторые «очерки» в провинциальных городах и даже получать за это, к своему удивлению, деньги, но что его записи будут иметь успех в Москве, в столице… Да Владимиру бы и в голову не пришло бегать со своими писульками по московским редакциям, но этим, как оказалось, весьма решительно занялась Ирэн. Его записную книжку она прочла от корки до корки во время их совместного путешествия из Петербурга в Москву. Прочла, разумеется, тайком, но сердиться на нее Владимир не смог: Ирэн горячо извинялась, клялась, что в жизни не читала ничего более увлекательного, и умоляла дать ей эти записи для представления в редакцию. Черменский отдал Кречетовской всю записную книжку целиком: и потому, что не любил спорить с женщинами, и потому, что для него собственные путевые заметки никакой ценности не имели. На другой же день, уехав в Раздольное, он напрочь забыл об этом. И вот…
— Так мы едем в Москву? — настаивала Ирэн. — Вы избавите меня наконец, от наседаний Петухова и договоритесь с ним сами! Только запрашивайте с него побольше! Я его, бандита, знаю, как облупленного, всегда на грош пятаков ждет, просите в три раза больше, чем хочется, — и как раз получите вашу цену! У вас, конечно, есть что-то новое?..
— Ирэн, я… У нас тут, видите ли, шла вспашка под озимые, и…
— Понятно, ничего не написали, — наморщила нос Ирэн. — Фу, как не стыдно так лениться, Черменский, вы просто зарываете в землю свой талант… Что ж, у вас целая ночь впереди, пишите! Завтра уезжаем!
Владимир, совершенно сбитый с толку этим яростным напором, осторожно посмотрел через плечо Ирэн на Северьяна. Но тот сидел на пороге, уронив голову на колени и беззвучно смеясь, и Черменский понял, что ни помощи, ни поддержки от паршивца ему не дождаться.
— Ну, и каких-таких рывирансов тебе еще надобно, Владимир Дмитрич? — спросил его Северьян часом позже, когда уже стемнело и Ирэн в сопровождении весело стрекочущей Натальи отбыла в отведенную ей комнату. — Вот право слово, просто по-свинячьи себя с бабой ведешь! Ей осталось разве что прямо в постелю к тебе рыбкой кинуться. И то, поди, еще кочевряжиться будешь!
— Слушай, я сейчас тебе в морду дам! — вскипел Владимир. — Ты разве не видишь, сукин сын, что она по делу приехала? И не гогочи на весь дом!
— Да что же еще делать прикажешь?! — откровенно забавлялся Северьян. — По делу, видали вы… По делу грамотные люди письма пишут да телеграммы шлют, а не едут за тыщу верст черт-те куда из столиц по грязи! Послушай, ну, коли сам не хочешь, так хоть меня пусти, грех ведь этакому товару пропадать…
— Не боишься? — поддел его Владимир. — Ведь она тебя тогда на Сенной чуть не застрелила, так сейчас — самое время!
— Береженого бог бережет. Ну, так я попробую, Владимир Дмитрич?
— Не смей, — коротко сказал Владимир. Голоса он не повысил, но Северьян сразу перестал скалиться. Пожал плечами, потянулся, засвистел сквозь зубы, скрывая смущение. Чуть погодя усмехнулся:
— Ну… так ты бы написал ей, чего она просит. С паршивой овцы хоть шерсти клок, надо ж барышне хоть что-то с тебя поиметь…
— Это не так просто, как тебе кажется.
— Да-а?! — искренне удивился Северьян. — А чего ж тут мудреного-то, коли грамотный? Бумага, кажись, есть, а нет, так я у Фролыча возьму. Пиши, ночь длинная.
— О чем?..
— Да мало ль мы с тобой видали-то? Про Ганьку из Тамани пропиши… Про Фроську одесскую, вот жаркая баба была, до сих пор во снах гляжу… Про Любку кронштадскую, кою ты у матросов отбил… Про Степаниду… Про солдатку ту с Вешенской…
— У тебя одно только на уме, — отмахнулся Владимир. — Отвяжись, не то, ей-богу, про тебя напишу. И печатать отдам, узнаешь тогда!
— Ха! Стращали ежа-то голым задом! — уже уходя, бросил Северьян. И, прежде чем Черменский успел достойно ответить, хлопнул дверью в сенях.
Ругались они с Северьяном часто, но на сей раз Владимир разозлился всерьез и, засев в своей комнате, за какие-то полтора часа написал на плохой бумаге еще более плохим пером очерк под названием «Шанхайский Ринальдини», в котором рассказывалось о жизни и похождениях этого парня — выходца из Шанхая, сына русской проститутки и китайского кирпичного мастера, в десять лет сбежавшего из приюта на улицу и отправившегося бродяжить. Северьян мотался по России вдоль и поперек, всюду воровал, сидел понемногу почти во всех губернских тюрьмах, пользовался благосклонностью проституток, купчих и аристократок, воровал в тяжелые минуты и у них, неоднократно, несмотря на владение приемами «шанхайского мордобоя», бывал бит, но что-то изменить в своей жизни ему и в голову не приходило. С Владимиром они встретились душной июльской ночью, в Раздольном, когда обоим сравнялось по двадцать лет. Северьян попытался угнать лошадей, поймавшие его мужики уже всерьез вознамерились «порешить» конокрада, которого спас вовремя вмешавшийся Владимир. И с того дня они были неразлучны. Вместе служили в Никопольском пехотном полку, Владимир — ротным капитаном, Северьян — его денщиком, вместе вышли в отставку, вместе делили постель с мачехой Владимира, страстной полькой Яниной, вместе сбежали из имения, когда это обнаружилось, вместе несколько лет бродили по России, играли в театре, служили матросами, грузили арбузы на пристанях, работали вышибалами в публичных домах, нанимались на заводы и воевали в последнюю турецкую кампанию. И даже женщины им всегда нравились одни и те же. Хотя о том, что Северьян был всерьез влюблен в актрису Марью Мерцалову, Владимир узнал лишь за день до ее смерти. Он догадывался, что именно чувства к Маше побудили Северьяна выдать себя за Ванькиного папашу, но с другом об этом никогда не говорил.
«Ну, погоди, сукин сын, получишь ты у меня…» — мстительно пообещал вслух Владимир, ставя жирную точку и бросая перо на скатерть. Словно в ответ на это в дверь осторожно поскреблись. В первое мгновение Владимир подумал: Северьян, легок на помине. Потом сообразил, что тот никогда в жизни не постучался бы, входя к нему, а значит… Значит, как всегда, прав этот кобель и паршивец. Черменский вздохнул и пригласил:
— Входите, Ирэн. Отчего вы не спите?
— Не поверите, сама не знаю почему, — шепотом пожаловалась она, входя и закрывая за собой дверь. — Была уверена, что засну как суслик, просто глаза закрывались, и вот… С досады накатала статью об одном питерском приюте, который регулярно поставлял девиц в веселые дома… Завтра повезу в «Петербургские сплетни». Вышла в сени, смотрю — у вас горит свет…
— Кто вас воспитывал, Ирэн? — усмехнулся Владимир, вставая из-за стола. — Мы с вами едва знакомы…
— Что ж с того? — поинтересовалась она, приближаясь и прямо глядя ему в лицо черными блестящими глазами. — Мы с вами взрослые люди. Я не меланхоличная девица из Смольного, не психопатка из народоволок, не экзальтированная особа в поисках друга жизни… У меня весьма и весьма здоровые нервы, сударь. Я не собираюсь вешаться вам на шею в качестве супруги… или еще кого-нибудь. Ручаюсь, что вы никогда в жизни не увидите моей истерики. И меня самой… больше чем на два-три дня. Я не намерена бросать ради вас свой Петербург, у него слишком много достоинств. Влюбляться в вас очертя голову я также не собираюсь, это было бы для меня слишком обременительно. Да и для вас, думаю, тоже. Устроят ли вас подобные условия?
— Для чего это вам, Ирэн? — помолчав, спросил Владимир. — Вы — красивая, эффектная женщина, вы пользуетесь огромным успехом у нашего свинского пола. Я ничем не могу быть вам интересен…
— Фу, Черменский, вы кокетничаете? — сморщила она короткий нос. — Право, не ожидала…
От такого нахальства у Владимира перехватило дыхание. Разом забыв, что он не в борделе и перед ним не проститутка, Черменский взял Ирэн за плечи и резко потянул на себя. Она подалась с коротким странным смешком, запрокинула голову, отбросив назад копну коротких, мелкокурчавых волос, перед глазами Владимира влажно блеснули приоткрывшиеся в улыбке зубы… Без всякой нежности он вздернул Ирэн на плечо, донес до кровати, сбросил на одеяло и уже торопливо раздевался под ее смех, когда из-за двери тихо, но очень отчетливо донесся голос Северьяна:
— Вот и слава господу, разговелись…
Владимир успел только кинуть в дверь сапогом — и голые руки Ирэн захлестнулись на его шее.
— Так ты все же написал что-то? — сонно спросила Ирэн спустя полчаса, когда ее растрепанная голова лежала на плече Владимира, а в окно серебристым клином вползал лунный луч.
— Да… Посмотришь завтра. — Владимиру хотелось спать.
— «Завтра» уже наступило! — Ирэн выскочила из постели, стукнув босыми пятками по полу, зажгла свечу, притянула к себе брошенные на столе листки бумаги и начала читать. Владимир, борясь с дремотой, смотрел на нее из-под слипающихся век и старался не заснуть, что было бы уж совсем невоспитанно. Ирэн казалась полностью захваченной текстом и выглядела так, словно находилась средь бела дня в стенах родной редакции, а не поздней ночью в постели едва знакомого мужчины. Губы ее чуть заметно шевелились, она досадливо отбрасывала падающую на лицо вьющуюся прядь волос, иногда улыбалась, иногда хмурилась.
— Это все — правда? — наконец спросила Ирэн, отодвигая последний лист. — Это — про вас с Северьяном?
— Да… — немного удивился Владимир, который благоразумно не обозначил подлинные имена героев своего очерка. — Я, правда, не успел закончить… И не все написал…
— Заканчивай и дописывай немедля, — распорядилась Ирэн. — Обещаю, что завтра же это пойдет в набор.
— Не могу, — отрезал Владимир, закрывая глаза. — Во-первых, извини, страшно хочу спать. Во-вторых, отдать печатать всю правду я просто не имею права, есть вещи, которые…
— Да, верно. Это само собой, — тихо сказала Ирэн, снова влезая к нему под одеяло. — Хорошо. Давай спать.
Владимир, изумленный стремительной переменой ее настроения, не успел и слова молвить — а Ирэн уже сладко сопела, прижавшись к его плечу. Через мгновение уснул и Черменский.
Наутро они вместе уехали в Москву — пристраивать шедевр, как выразилась Ирэн. Владимир в успех сего предприятия не верил ни минуты, но сопротивляться напору «поручика Германа» было занятием бессмысленным и опасным. Ирэн познакомила Черменского с редактором «Листка», толстеньким, лысым, восторженным господином в потертом почти до неприличия сюртуке, — и исчезла по-английски, не простившись.
Северьян был даже разочарован:
— И чего это она смылась так, словно сперла что? Дмитрич! Ты ее не обижал? Ночью-то, спаси бог, не опозорился? А то б свистнул меня на помочь…
— Пошел к черту, дурак, — огрызнулся Владимир, плохо скрывая облегчение: про себя он был страшно рад тому, что Ирэн оказалась верна своим обещаниям. Ни к серьезным отношениям, ни к даже короткому роману Черменский не чувствовал себя готовым и полностью обходился общением с Анисьей — молодой бабой-солдаткой редкой красоты и такой же глупости, исполнявшей в имении должность ключницы.
Успех «Шанхайского Ринальдини» оказался оглушительным. Владимир с Северьяном, впрочем, об этом не успели узнать, поскольку уехали в имение, не дожидаясь общественного резонанса. Обоих гораздо больше беспокоили Наташкины жалобы на колотье в спине, хромота племенного чалого и Ванькино ученье в приходской школе через пень-колоду. Все это никак нельзя было бросать на самотек, старик Фролыч уже не справлялся с хозяйством, и позволить себе роскошь круглый год проживать в столице Владимир не мог.
Дни в Раздольном пошли своим чередом. Давно закончились осенние работы, на деревне начали играться свадьбы, можно было отдохнуть от каторжной летней страды. Владимир занимался лошадьми, много читал, ездил изредка к соседям, настрочил от скуки еще несколько очерков — о крымских босяках и иркутских сплавщиках леса — и уже подумывал о том, чтобы отправить их в Москву, когда пришла взбудораженная телеграмма из сорока двух слов от Петухова. Редактор «Московского листка» описывал небывалый успех напечатанного «Ринальдини» и настойчиво звал в столицу. Владимир понял, что отвертеться от литературной работы ему теперь вряд ли удастся. Но его решение перебраться на зиму в столицу стало окончательным, когда он узнал о том, что из-за границы вернулась и поступила в Большой театр Софья Грешнева.
Первый раз Черменский встретился с нею перед самым Рождеством, на вечере у графини Анны в Столешниковом. Гостиная была полна гостями и «кузинами», слышался смех, звон бокалов, девичья болтовня, кто-то играл на рояле, кто-то напевал французские куплеты… а Владимир стоял столбом, как мальчишка пятнадцати лет, и в упор, напрочь забыв о приличиях, смотрел на Софью. Они не виделись всего год, но Черменский не сразу узнал ту испуганную, заплаканную, мокрую зеленоглазую девочку, вытащенную им из реки, в стройной барышне, непринужденно вошедшей в комнату. На Софье было простое, но довольно дорогое муаровое черное платье со строгим воротом, волосы уложены в высокую прическу, из которой словно случайно выбивалось несколько кудрявых прядей на шее и висках, зеленые глаза смотрели безмятежно, спокойно. К ее руке тут же выстроились в очередь мужчины. На Черменского Софья взглянула мельком, поздоровалась, сказала несколько ничего не значащих слов… и, вежливо улыбнувшись, отошла к сестре. И до самого конца вечера больше не повернулась к нему.
Ни тогда, ни позже Владимир так и не смог ничего понять. Графиня Анна, встречаясь с ним, только пожимала плечами. «Володя, видит бог, я сама теряюсь в догадках. Соня стала такой скрытной, такой вспыльчивой, никогда ни о чем не рассказывает… Уверяет, представьте, что ни одного письма вашего не получила! И этот ужасный человек по-прежнему рядом с ней… Я до сих пор не пойму, чем он ее взял! Соня не влюблена в него ни капли, клянусь вам! Я же все-таки женщина и чувствую такие вещи! Но она выходит из себя всякий раз, когда я пытаюсь повлиять на нее… отговорить… Ведь Соня не может, в самом деле, его любить, это просто нонсенс, бессмыслица!»
В последнем Владимир с каждым днем сомневался все больше и больше. Он уже выяснил, что Софья живет в Богословском переулке, в доме, который купил ей Мартемьянов, и однажды даже нахально, на свой страх и риск, зашел туда, зная, что Федора нет в Москве. Но выглянувшая на стук Марфа сделала вид, что не узнала Черменского, и сердито объявила, что барышни нет и не будет.
Ждать ему, казалось, было больше нечего — и тем не менее Владимир остался в Москве. Они с Северьяном сняли маленькую квартиру на Остоженке. В «Московском листке» всегда находилась работа, а вечерами можно было ходить в Большой и слушать Софью, но партий ей пока предлагали мало, и заглянуть в эти зеленые глаза, которые перерезали его жизнь год назад, Черменскому удавалось лишь два-три раза в месяц. Случалось, он встречал Софью в Столешниковом, у сестры, но она, так же, как и в первый раз, вежливо здоровалась с Владимиром, улыбалась — и более не замечала его.
Иногда в квартире на Остоженке появлялась Ирэн, регулярно наезжавшая из северной столицы в Москву. Видясь с Черменским, она всякий раз искренне радовалась, задавала тысячу вопросов о Раздольном, о Северьяне, о Наташке с Ванькой, проглатывала все, написанное Владимиром за время ее отсутствия, хвалила, ругала, возмущалась тем, что он ленится, а ведь мог бы, мог бы даже недурные романы сочинять!.. Сначала Владимир терпеливо объяснял, что карьера беллетриста его не привлекает и что он занимается этим исключительно забавы ради, да и лишние деньги никому еще не мешали. Но для Ирэн, положившей жизнь на алтарь журналистики, готовой ради сокрушительной новости бегать по трущобам, воровским «малинам» и публичным домам самого низкого пошиба, сие казалось непостижимым, и вскоре Черменский устал с ней спорить. Обычно они шли в театр или французскую оперетту, затем — в ресторан, потом возвращались на Остоженку, где Кречетовская с упоением целовала его, увлекая в постель, и — на другой день спокойно, без капли грусти уезжала в свой Петербург. В конце концов Владимир понял, что ему повезло, как везет лишь одному мужчине на тысячу: он имеет превосходную любовницу безо всяких взаимных обязательств.
И вот сейчас Ирэн с хохотом висит у него на шее, болтая ногами и ничуть не смущаясь от того, что на них смотрит весь ресторан. Народу, впрочем, было уже немного: близилось утро.
— Черменский, а почему Северьян сегодня не с тобой? Ты его отослал, или он сам ушел? Давно вы болтаетесь по Москве порознь? Ты — здесь, он — на другом конце города, на разумные вопросы отвечать не желает, притворяется пьяным… Что вообще у вас происходит?! Эти номера Ковыркиной, как я знаю, довольно опасны, там крутится куча шантрапы с Хитрова, а…
— Ирэн, Ирэн, черт возьми, Ирэн, помолчи!!! — рявкнул Черменский, вызвав этим удивленный взгляд Газданова. — Ты видела Северьяна?!
— Да, а что в этом удивительного? — слегка обиженно спросила Ирэн. — Неужели ты не знаешь, где он?
— Так где этот черт гуляет, ты говоришь? — не отвечая ей, быстро переспросил Черменский.
— В номерах Ковыркиной в «Болванах», — пожала плечами Ирэн. — Там, где девочки. Представляешь, не узнал меня, паршивец!
— Неужели настолько пьян?! — поразился Владимир.
— В том-то и дело, что не настолько! И добиться от него я так ничего и не смогла!
— Я еду немедленно, — поднимаясь, решительно сказал Черменский. — Иначе он, собачий сын, смоется опять, и ищи ветра в поле.
— Черменский, а ты уверен, что стоит его держать? — медленно спросила Ирэн, опуская ладонь на рукав Владимира. — Твой Северьян — человек вольный, если он захотел уйти — какое ты имеешь право его преследовать? Ведь не встреть я его случайно, ты бы так и не узнал, где он, верно? Возможно, Северьян совсем в этом не заинтересован.
— Не знаю… Ей-богу, не знаю, — помолчав, сквозь зубы сказал Владимир. — Просто я полагаю, что десять лет дружбы все же дают мне какие-то права… Хотя бы на то, чтобы узнать, что произошло.
— Пф! Я бы на твоем месте…
— Ты не на моем месте, Ирэн, — резко оборвал он ее и обернулся к Газданову. — Сандро, прости, я вынужден идти.
— Я провожу тебя, — поспешно сказал Газданов, поднимаясь. Они поочередно приложились к руке холодно молчащей Ирэн, Черменский расплатился по счету, и друзья вышли из ресторана под черное осеннее московское небо.
— Хочешь, я поеду с тобой? — нерешительно предложил Газданов, глядя на неровно освещенное фонарем мрачное лицо Владимира. — Я могу помочь?
— Нет, брат, тут ты мне не поможешь… — медленно, явно думая о другом, ответил Черменский. — Спасибо, но езжай-ка ты лучше спать, скоро утро. Где ты теперь живешь?
— На Дмитровке, в доме Шишкина.
— Даю слово, что мы еще встретимся. — Черменский оглянулся в поисках извозчика, и тут же от тротуара напротив отделилась пролетка. Ожидая, пока она подкатит ближе, Владимир, не поднимая глаз на друга, произнес:
— Если ты намерен предпринять какие-то шаги в отношении графини Грешневой… Впрочем, разберешься сам.
— Нет, Черменский, продолжай! — почти взмолился Газданов. — Я весь вечер хотел тебя просить о совете, но… твоя знакомая…
— Да уж… Ирэн — это всегда ураган… То есть ты все-таки собираешься ухаживать? Тогда, если тебе нужен мой совет, прежде всего забудь все, что о графине говорят в Москве.
— Ты хочешь сказать… — растерянно начал Газданов.
— Я хочу сказать, что Анна Грешнева во сто крат лучше своей репутации. И если тебе нужна просто блестящая любовница, которой лестно похвастаться перед приятелями… я бы тебе рекомендовал искать ее в другом месте. Эта женщина достойна лучшего. Для того чтобы стать ее официальным покровителем, у тебя, я думаю, не хватит средств, ты еще все-таки не министр. Жениться ты вряд ли рискнешь, а…
— Знаешь что, Черменский, оставь этот тон! — вдруг взвился Газданов. В его речи послышался явный акцент, что говорило о сильном волнении, и Владимир удивленно посмотрел на него. Затем улыбнулся и протянул руку:
— Ну, не горячись, витязь Тариэль… прости. Ей-богу, я не хотел тебя обидеть. Говорю это всё лишь потому, что отношусь к графине Грешневой с глубочайшим уважением… и поверь мне, она его заслуживает. Если вы с ней станете друзьями, ты поймешь, что я имею в виду. А сейчас, извини — мне в самом деле пора. До встречи.
Еще сердитый Газданов тем не менее пожал протянутую руку, буркнул: «Оревуар…», но Черменский примиряюще ткнул его кулаком в плечо, и полковник против воли улыбнулся. Подъехал извозчик, Владимир ловко вскочил в пролетку, и та покатила по пустой темной улице.
На Таганке фонарей не горело совсем. Эта дальняя окраина Москвы считалась местом нехорошим, по ночам здесь пустели улицы, крепко запирались ворота и калитки, захлопывались пудовые ставни и спускались с цепи злющие кобели: купечество оборонялось от ворья. На грязных, узких улочках, ведущих к заставе, всю ночь были открыты кабаки и притоны, слышалось пьяное пение, хохот девок, звон бьющихся бутылок и площадная брань. Как раз в это место и направлялся Черменский. С Гончарной улицы он шел пешком: извозчик, благообразный сухой старичок, напрочь отказался ехать в «Болваны» и отговаривал от столь опасного путешествия и седока, но Владимир, не слушая, расплатился и быстро зашагал вниз по темной, без единого огня улице.
Номера Ковыркиной в Болванах он знал еще со времен своих странствий по России: под видом сдачи комнат с мебелью здесь существовал банальнейший притон с веселыми девицами, скупкой краденого и продажей самопальной водки. Еще несколько лет назад Владимиру и Северьяну доводилось проводить тут вечера, и сейчас, идя по Верхней Болвановке, Черменский недоумевал, как же он сам не сообразил заглянуть сюда в поисках друга. Номера уже светились перед ним тусклым желтым светом крохотных окон; шум и гам, сопровождавшиеся яростной руганью, рычанием и женским визгом, судя по всему, доносились как раз оттуда. Когда оконное стекло со звоном брызнуло осколками и на улицу вылетела пустая бутылка, Владимир прибавил шагу. До разбитых, едва видных в темноте, залитых помоями и нечистотами ступенек оставалось совсем немного, когда разбухшая от сырости дверь распахнулась и прямо на Черменского с воем вылетела встрепанная девица, зажимающая ладонями лицо.
— Ай, спасите-е-е, поможи-и-ите за ради бога, что за… — Проститутка ударилась в грудь Черменского, он машинально сжал жесткие, костлявые плечи девицы и поставил ее на ноги. Та подняла разбитое лицо, деловито мазнула по нему кулаком, стирая кровь, сощурилась и без всякого удивления спросила:
— Ой, никак Владимир Дмитрич? А что ж так поздно-то?
— Голда? — узнал и он. — А ты почему здесь? Ты же, кажется, на Грачевке прежде обреталась?
— Годы уж не те для Грачевки-то… — фыркнула Голда.
Свет из окна упал на ее худое, изможденное лицо с монументальным носом и большими, блестящими, неожиданно красивыми глазами. Спутанные волосы еврейки курчавым нимбом стояли вокруг головы, проститутка кокетливо пригладила их ладонями и оглушительно высморкалась в пальцы.
— А что ж вы стоите? — аккуратно вытирая пальцы о подол, поинтересовалась она. — Я и то подивилась, отчего вас до сих пор нету, допреж вы с Северьяном вроде порознь не шманались.
— Это он там так… гуляет? — кивнул Черменский на дверь, из-за которой доносились явственные звуки большой драки.
— Да уж какой день, — пожала плечами Голда. — Тока чичас он не гуляет, а фартовых раскидывает, с коими Таньку Капусту не поделил. И все бы ничего, тока их-то восемь, да еще и подмога с верхнего этажу скатилась, вот и слава богу, что вы вовремя…
Дальше Черменский слушать не стал и, отстранив Голду, дернул на себя тяжелую дверь.
В большой грязной комнате было сумрачно, кое-как горела лишь керосинка под потолком, но даже в ее тусклом свете Владимир сразу увидел Северьяна. Тот стоял посреди комнаты в боевой стойке, угрожающе наклонившись вперед, в разодранной, залитой кровью рубахе, рыча сквозь оскаленные зубы, как бешеный кобель, сжимая в одной руке нож, а в другой — горлышко разбитой бутылки. Его раскосые глаза светились волчьим зеленым огнем. Вокруг в таких же позах стояли, извергая головокружительную ругань, шесть или семь оборванцев. То и дело кто-то из них предпринимал решительный наскок, но нож или бутылочное горлышко с коротким свистом рассекали воздух, и «фартовый», матерясь еще виртуознее, отпрыгивал в прежнюю позицию. Несколько человек уже неподвижно лежали в разных углах помещения. Владимир ничуть этому не удивился: драка с пятеркой противников была для Северьяна только «разогревом». У стены, за перевернутым столом, стояла на коленях и визжала как поросенок растрепанная девица в порванном от лифа до колен платье, с которой, вероятно, все и началось.
— Северьян! — крикнул Черменский с лестницы.
Дравшиеся обернулись. Северьян тут же воспользовался этим — и трое фартовых грохнулись как подкошенные на заплеванный скользкий пол. Владимир бросил в сторону девицы свое пальто, и так изрядно пострадавшее сегодня, и кинулся на выручку другу. Через мгновение они с Северьяном уже стояли спина к спине, и комната потонула в грохоте и воплях.
Все закончилось быстро: вдвоем им ничего не стоило разметать целый взвод противников. Владимир отделался ссадиной на скуле и располосованной ножом — к счастью, поверхностно — левой рукой. У Северьяна все лицо было залито кровью из раны надо лбом, но в объяснение сего факта тут же последовала сентенция:
— Из башки оно завсегда сильней льется, ничего страшного, ерунда… Тикаем, Дмитрич, тут еще наверху дрыхнут, вдруг проснутся?
Они вылетели в открытую дверь. По дороге Северьян успел схватить за руку растрепанную девицу, и та засеменила следом.
— Пальтишко примите, господин, — пропищала она, оказавшись на улице. — Вот, не замызгалося!
— Надевай, — велел Владимир, глядя на Северьяна, рубаха которого превратилась в грязные изодранные ленты, клочьями свисающие с плеч.
Тот молча натянул пальто, посмотрел на рукав.
— Где тебя носило, Дмитрич?
— Совести хватает спрашивать?! — вспылил Черменский. — Это тебя где носило, сукин сын?!
Северьян не ответил, наклонившись и с огромным старанием начав отчищать левый сапог от грязи рукавом пальто. Поняв, что добиваться от друга объяснений сейчас бесполезно, Владимир повернулся к проститутке, которая, матерясь плачущим голосом, пыталась приладить на место полуоторванный кусок лифа.
— От ведь ироды, собачьи дети, христопродавцы, чтоб им на кусту свои… оставить на веки вечные, да куда ж я теперича в таком виде? Рази порядочная девушка так-то по улице гуляет?
— Далеко живешь? — спросил ее Владимир.
— Недалече, здесь, в Размотне.
— Пошли к тебе, нам тоже в таком виде по Москве ходить нельзя. — Порывшись в кармане, Черменский протянул девице рубль, и та округлила глаза:
— Пошто такими деньжищами бросаетесь-то, красавчик? Мы здеся девушки не гордые, двоегривенный — красная цена… А что платье порвали, так то не Северьян, а Ванька Пряник, уж такая, прости господи, паскуда… Уж и дал бы в глаз, коли ему чем не угодили, а пошто же одежу дорогую портить-то?.. За платье пять рублей плочено, а теперя хоть на ветошь его порви…
— Завернись, лахудра, куплю я тебе платье, — хрипло проговорил Северьян, оставив наконец в покое сапог и выпрямившись. — Идем.
«Размотней» именовались переулки за Таганкой, возле староверческого кладбища, традиционно заселенные проститутками и их «котами». Танька провела своих кавалеров через узкие грязные задворки, юркнула между сараями, миновала скособоченную поленницу, открыла калитку, вошла в низкую дверь и объявила:
— Проходьте по одному, узко. Я счас лампу запалю, керосин есть.
Вскоре оранжевый свет керосинки запрыгал по бревенчатым стенам, кое-где обклеенным желтыми грязными обоями, журнальными картинками и лубочными портретами царей и офицеров. У Таньки оказалось довольно чисто, пол был выскоблен и аккуратно застелен деревенским половиком, на подоконнике топорщилась обсыпанная малиновыми цветами герань, стол покрывала скатерть, сделанная из отслужившей свое шали. На деревянной кровати лежало одеяло, сплетенное из любовно подобранных красных и синих лоскутков, а под иконой Богородицы мигала зеленая лампадка. Владимир, войдя, даже усмехнулся:
— Просто «Астория»…
— Не дражнитесь, — полусердито отозвалась Танька, грохоча дровами возле печурки. — Счас затопим, погреемся, я сегодня гулять уж не пойду: видно, день такой, беспочинный… Вы садитесь на кроватку или стулик берите, я только за водой отлучусь. Северьян, затопил бы пока, непутёвый, а?
— Сделаю, — отозвался тот, присаживаясь возле печи и ловко запихивая в открытую дверцу березовые чурки. Растопка, как и все, за что брался Северьян, была произведена быстро и умело: вскоре дрова в печи уже пылали, по маленькой комнатенке пошло приятное тепло. Северьян открыл вьюшку, подвигал в печи кочергой и, закрыв глаза, сел на пол. Кровь из раны у него уже унялась, на лбу осталось несколько подсохших коричневых дорожек, и Владимир бросил другу мокрую тряпку:
— Утрись.
Северьян послушался молча, не открывая глаз.
— Мы поедем домой? — подождав с минуту, спросил Владимир. Северьян молчал.
— Ты мне ничего не скажешь?
Снова молчание. Черменский ждал, но скуластое лицо Северьяна с закрытыми глазами было неподвижно.
— Ну и черт тогда с тобой, — отрывисто бросил Владимир, поднимаясь. Только сейчас он почувствовал страшную усталость после целого дня, проведенного на ногах, и бессонной, не давшей отдыха ночи. Уже не хотелось ни ругаться с Северьяном, ни расспрашивать его, ни уговаривать. Оставалось только одно желание: как можно быстрее оказаться в своей квартире, свалиться на кровать и заснуть.
— Черт с тобой. Не за хвост же мне тебя держать. Решил уходить — скатертью дорога. Только мог бы про Ваньку подумать. У него второй месяц глаза на мокром месте, меня замучил: куда родитель делся да вернется ли, да почему ушел. Ты хоть скажи, что я ему теперь врать про тебя должен.
Северьян опустил голову, но по-прежнему не произнес ни слова. Черменский, не глядя на него, пошел к двери — и остановился на пороге, услышав тихий, хриплый голос:
— Да пожди ты, Дмитрич…
Владимир сразу же вернулся. Сел на пол возле печи, достал папиросы, одну взял себе, другую протянул Северьяну. Через минуту оба молча, сосредоточенно дымили. Из сеней заглянула Танька, внимательно посмотрела на мужчин, отступила назад и бесшумно прикрыла за собой дверь.
— Ты как меня нашел-то?
— Сам не знаю. Просто повезло, — честно ответил Владимир. — Я сначала в Смоленске искал, думал — ты там опять загулял. Нет, говорят, нету. Уж наудачу поехал в Москву, сегодня целый день проходил по всем твоим местам — мне хором рапортуют, что даже и не появлялся. И вот уже ночью встречаю у Осетрова Ирэн…
— Так и знал, что выложит, чертова кукла… — проворчал Северьян. — Уж занималась бы жульем своим питерским — так нет, и в Москве кажной бочке затычка…
— Ты вроде бы не брал с нее слова молчать.
— Толку-то — с бабы слово брать…
— Что тебе за шлея под хвост попала, объяснишь ты мне или нет?! — взорвался Черменский. — Коли что не так — мог бы и сказать! Не чужие ведь!
Северьян лишь усмехнулся — невесело, глядя в пол.
— Натворил, что ли, чего?
Ответа снова не последовало, и Владимир с досадой сплюнул:
— Тьфу… Ну что ж я тебя, как бабу, уговариваю?! Сукин ты сын! Ведь я, право, за два месяца голову сломал, гадая, что с тобой стряслось! Северьян, черт возьми! Я ведь тебе помочь мог бы, если что, первый раз нам с тобой разве?..
— Не поможешь, Владимир Дмитрич, — спокойно возразил Северьян, все так же глядя в сторону. Помолчав, неожиданно спросил:
— Что там Наташка-то? Здорова? У Махи золотуха прошла?
— Слава богу, — машинально ответил Владимир. — Золотуху бабка Устинья вывела еще в октябре, божится, что навсегда. Только Наталья плачет все это время и не говорит отчего… — Черменский вдруг умолк, резко повернувшись и в упор уставившись на Северьяна. Тот, казалось, обратился в неподвижную раскосую статую восточного идола.
— Слушай, ты что, рехнулся? — наконец вполголоса спросил Черменский. — Тебе баб в Раздольном недостает?! И так ведь ни одной не пропустил! На что тебе эта девчонка понадобилась, она же еще дитя! Мало ей без тебя несчастья было?!
— Дитя… — не поднимая глаз, процедил сквозь зубы Северьян. — Семнадцать годов девке, а ты все «дитя»… Дочери у ней уж третий год — «дитя»! Ты глаза бы разул, Дмитрич, и поглядел, во что наша с тобой пигалица рыжая обернулась!
— Да, смотрю, у тебя-то уж они разулись! — съязвил Черменский, лихорадочно соображая: как он мог все это время ничего не замечать. Действительно, Наташка, которую он три года назад взял в дом «в довесок» к сыну Маши Мерцаловой, по-прежнему оставалась в его глазах той четырнадцатилетней грязной, растрепанной, замученной непосильным трудом девчушкой, какой он ее когда-то увидел в доме питерского портного. Очутившись в Раздольном, где никто не навесил на нее, беременную, тяжелой работы, где была хорошая еда и сколько угодно спокойного сна, Наташка сначала не верила своему счастью и то кидалась целовать руки Владимиру или Северьяну — к страшному смущению обоих, — то взахлеб рыдала, то истово молилась перед иконами, то суматошно хваталась за все дела подряд, боясь, что, если она будет сидеть сложа руки, новые господа выгонят ее прочь, то вдруг напрочь переставала есть, уверенная, что если она примется «все заглатывать, как щука», то опять же окажется на улице. Даже многое на свете перевидавший Северьян долго не мог, не перекрестившись, вспоминать тот день, когда девчонка провыла дурниной три часа кряду, нечаянно разбив на кухне чашку. Наташка умолкла лишь тогда, когда Северьян, не зная как привести ее в чувство, грохнул об пол половину китайского сервиза из приданого матери Владимира. Только десятилетний Ванька как-то умел уговаривать подружку, и в дальнейшем, если ее слезы принимали истерический характер, Владимир сразу посылал за мальчишкой на конюшню.
Постепенно, впрочем, все наладилось. Наташка окончательно уверилась в том, что из Раздольного ее не прогонят, перестала прятаться по углам, боясь невовремя попасться на глаза «господам», к коим причисляла и Северьяна, и старого управляющего Фролыча, вертелась на кухне, помогая кухарке, босиком, не обращая внимания на растущий живот, носилась по двору то с дровами, то с ведрами воды, то с лоханями стираного белья. Она пыталась даже прислуживать за столом, но Владимир, давно привыкший обходиться без этого, быстро отучил ее. Весной родилась Машка, Маха — рыжая голосистая девчонка, здоровая и сильная, с неожиданно черными глазами. Наташка, сама голубоглазая, клялась, что у Махиного папаши «отродясь на личности этаких угольев не наблюдалось», и уверяла всех, что глаза эти появились на веснушчатой рожице малышки лишь оттого, что Маху принимала случайно забредшая на двор цыганка.
После родов Наташка заметно остепенилась, долгое время проводила с дочерью, то кормя ее, то купая, то расшивая цветными нитками малюсенькие рубашечки, то просто целуя малышкины розовые пятки и крохотные ладошки. При этом она успевала и крутиться по хозяйству, сноровисто пряла козью шерсть и вязала из нее чулки для всей дворни, ткала половики, шила, и весьма неплохо, на продажу («Даром, что ль, у портного в услужении столько лет мучилась?»), скоблила полы, вытирала пыль в кабинете Владимира, пела звонким голосом каторжанские песни на все имение и каждое утро с хворостиной в руках отгоняла Ваньку, как теленка, в школу.
Время шло, Маха росла. Наташка, кажется, тоже росла вместе с дочерью, вытягиваясь вверх и округляясь в плечах, груди и талии. Рыжие непокорные вихры улеглись в тугую косу, которую Наташка по-взрослому укладывала вокруг головы, пряча под косынку, бесформенные деревенские юбки и поневы сменились сшитыми на по городскому фасону платьями со стоячими воротничками. Старая кухарка к тому времени умерла, и Наташка царствовала на кухне самодержавно, в доме ее усилиями всегда был порядок, чистота и покой. Владимир назначил ей жалованье, которое Наташка, после двухнедельных отказов, слез и гневных воплей о том, что она ни гроша, ни единой копеечки не возьмет от своего «благодетеля несказанного» во веки веков, все-таки приняла. Ухажеров она не имела, хотя поглядывали на рыжую красавицу из барского дома многие. Владимир объяснял это тем, что Наташка достаточно натерпелась от мужеского пола в отрочестве, и надеялся выдать ее замуж года через три-четыре. И кто бы мог подумать, что Северьян…
— И давно у тебя с ней?
Северьян добросовестно посчитал на пальцах.
— С Купальских.
— Она сама так решила? — все еще не верил Владимир.
— Сроду я баб силом не брал! — обиделся Северьян.
— А я и не говорю, что силой! Не знаешь будто, сволочь, какая она у нас! Из одного спасиба, дуреха, могла тебе…
— Не было такого! — отрезал Северьян.
— Кто-нибудь еще знает?
— Нет.
Наступило молчание, прерываемое только чуть слышным треском дров в Танькиной печурке. Северьян не шевелился, упорно смотрел в темное окно, где билось отражение огонька лампы, и в его узких неподвижных глазах плясали такие же рыжие блики. Черменский усиленно вспоминал дни минувшего лета, когда в Раздольном, оказывается, зародилась роковая любовь, а он даже и не замечал ничего. Но где там было заметить Северьянову страсть во время бесконечных покосов, пожинок, скирдования, уборки то овса, то пшеницы, то ячменя, то льна… Да и сам Северьян, помогая Владимиру и заменяя совсем сдавшего за последние годы Фролыча, без устали носился верхом по работам, косил с мужиками, сидел на жатке, управляя лошадьми, орал возле мельницы на баб, таскал пудовые мешки на току, почти не спал, осунулся, почернел как головешка, и говорил лишь о хлебах и погоде. Впрочем, Владимир все лето и сам был такой же: в голове, кроме мыслей о том, успеют или не успеют все убрать в сроки, не держалось ничего, и даже на Анисью не хватало времени. Да та и не обижалась, понимая, что после страды она наверстает свое с лихвой. Стало быть, не только об этом думал он в те дни…
— А с чего ты загулял в сентябре? — вдруг вспомнил Черменский. — Ну, помнишь, сразу после заморозков? Смылся, ничего не сказав, в Смоленск, неделю пил там без просыху… Я тебя и пьяным таким никогда не видел!
— Ну и чего, в своем праве был небось! За все лето первый раз и разговелся! — огрызнулся Северьян. — Промежду прочим, на своих ногах в Раздольное вернулся!
— Не на своих, а на лошадиных! Буланый привез! Слава богу, знал, как до дома дойти!
— Так я ж не свалился по дороге!
— Свалишься ты, как же… — Владимир невольно усмехнулся, вспоминая то потрясающее явление мертвецки пьяного Северьяна верхом на смирном буланом коньке, торжественно входящем в открытые ворота имения. Кажется, тогда именно Наташка, чуть слышно причитая, подхватила выпавшего из седла Северьяна и очень быстро увлекла его в дом, проворчав что-то нелестное в адрес наблюдающих за событием дворовых. Случай этот запомнился Владимиру, во-первых, потому, что друг крайне редко напивался до подобного состояния, предпочитая даже в часы самой ураганной гульбы сохранять ясную голову, а во-вторых, потому, что вечером следующего дня Северьян и ушел из имения.
— Мы с ней накануне сцепились… С Наташкой-то…
Владимир даже представить себе эту картину не мог.
— Уже и ругаетесь по-семейному?!
— Да не так чтобы прямо вот… Она меня в овине с Фроськой-кузнечихой застукала.
— Тьфу ты, черт…
— Ну и что?! — взвился Северьян, словно его застали с Фроськой не два месяца, а две минуты назад. — Я — человек холостой?! Хомута на шее у меня не наблюдается?! У Фроськи муж в отхожих промыслах цельное лето, должна, что ль, баба мучиться? А я на эти мученья глядеть?! Имею право ей здоровье поправить или нет?!
— Имеешь, имеешь, — успокоил Черменский. — Наташка, что ли, приревновала тебя, кобеля?
— Какое… — уныло отмахнулся Северьян. — Еще и лицо сделала такое, будто в упор Фроськиных титек голых не видит. Взяла ведро с мякиной да и пошла себе… У, зараза!
— И вот из-за этого ты в Смоленск гулять подался?
Северьян молча пожал плечами.
— Ну, хорошо, а почему ты из Раздольного ушел? — Черменский все еще ничего не понимал. — Недогулял, что ли? И Наталье, стало быть, не обмолвился, раз она провыла все это время как по мертвому… Положим, мне ничего не сказал, но девчонку-то зачем мучиться заставил? Или она от тебя чего-то требовала?
— Наташка-то? — усмехнулся Северьян. Он выглядел спокойным, но Черменский заметил, как дергаются на его скулах жесткие комки, а кулаки на коленях стиснуты до белизны в суставах.
— Да разве она чего стребовать могёт… Наташка моя, она ж… — Северьян мотнул головой. Снова криво улыбнулся, с силой провел ладонью по лицу, поморщился, словно от боли. Черменский наблюдал за ним с растущим беспокойством, не решаясь больше расспрашивать. Таким он не видел своего бесшабашного друга еще никогда.
— Ладно, Владимир Дмитрич, будь по-твоему, я тебе скажу… — наконец глухо, не отрывая глаз от своих сапог, произнес Северьян. — Но вот ежели заржёшь — горло зубами перерву! Ни на что не погляжу!
— Да уж вижу, — без улыбки ответил Черменский. — Говори.
— Я, понимаешь, Дмитрич… утром-то другого дня после пьянки этой просыпаюсь… Башка трещит, прямо впополам раскалывается, спасу нет никакого, во рту будто тараканы загнездились, пакостно… Смотрю — Наташка моя рядом лежит, меня разглядывает, спокойная, улыбается… Как увидала, что я очуялся, разом встала, за рассолом сбегала, потом — за ведром, потому что занадобилось… «Похмелиться изволите, Северьян Дмитрич?» Нет, говорю, уйди, дура, спать хочу… Сна-то, понятное дело, ни в одном глазу, но совестно ведь… Повернулся я к стене, сплю навроде. Наташка, слышу, Маху одела, покормила, во двор ее выпустила, по хозяйству начала шуршать. Долго так-то возилась, я даже всамделе задремывать начал… Потом слышу — Наташка ко мне на кровать садится. Я подобрался, сплю со всех сил, сам думаю: чего это она вздумала?.. А Наташка… Она, понимаешь… Она меня — по голове, ладонью-то… Вот прямо рядом сидит — и гладит, как несмышленыша. Меня!!! Чуешь?!!
Владимир молчал, понемногу начиная понимать.
— Долго сидела так-то… Я дышать забыл… — Северьян закрыл глаза, судорожно сглотнул. — Дмитрич, со мной же отродясь так никто… Ни одна баба, хоть их у меня тыща, верно, была… А тут — девчонка-козявка, пигалица… И что делать не знаю, и вздохнуть не могу, и грудь жгет, просто помираю, и башка с похмелья, и… Ну, и ушел я вечером к чертовой матери!!!
— Да чего ты дрожишь-то, дурак? — негромко спросил Владимир.
Северьян отвернулся, несколько раз шумно вздохнул.
— Испугался я, Дмитрич… Не случалось со мной такого сроду. И девки такой не было. И… не возился так со мной никто. Ты ж знаешь, я приютский, да и оттуда убёг, как только бегать выучился. Не умею я так, не знаю, как нужно…
— Мне сказать не мог?
— Что сказать-то?.. Что босявки сопливой испугался?
Черменский не нашелся что ответить. Молчал и Северьян. За окном уже чуть заметно серело исчерченное голыми ветвями деревьев небо: наступило утро. В комнате стало совсем тепло, угли в печурке прогорели, и Северьян, привстав, задвинул вьюшку.
— Давай спать, — потянувшись, предложил Владимир. — А завтра — домой. Мне уже, честное слово, надоело слушать Натальины завывания с утра до ночи.
— Уж прямо с утра до ночи? — попытался усмехнуться Северьян.
— И ночью тоже, — холодно добавил Владимир. — По утрам ставит самовар, а глаза красные… Мы уж не знали, что и думать, Анисья клялась, что это порча, даже за какими-то углями заговоренными бегала… Я тебе советовать не стану, дело твое, но гляди — такое не каждый день в руки падает.
— Я жениться не буду! — быстро проговорил Северьян.
— Да кто тебя женит, болван? Живи, как умеешь, только чтоб Наташка не ревела белугой! И чтоб не смел мне больше из Раздольного отлучаться не сказавшись! Совсем от рук отбился на спокойном житье…
— Старый я для нее, как думаешь? — не слыша последних слов Черменского, задумчиво произнес Северьян. — Ей ведь семнадцать всего…
— А тебе?
— Откуда я знаю? Но уж не меньше твоего, верно?
— Да. — Владимир всегда был уверен, что они с Северьяном ровесники. — Но в папаши ты ей все равно не годишься, не надейся. Никуда, брат, не денешься, женишься.
— А вот черта лысого!.. — рассвирепел Северьян, но, увидев широкую улыбку Владимира, невольно ухмыльнулся тоже, махнул рукой — и неожиданно зевнул во весь рот. — Правда, спать охота… Ладно, Дмитрич, утро вечера мудренее. Ложись. Да подушку там дай с кровати…
Они заснули на полу, на расстеленной рогоже, стянув с аккуратной Танькиной кровати две подушки и не озаботившись одеялами. Когда Танька, основательно замерзнув на лестнице, осторожно заглянула в комнату, то лишь всплеснула руками:
— Ну что за кавалеры пошли, прости господи! На полу, как жиганы пьяные, дрыхнут! И за что я с них рупь взяла?..
— За постой, дура, — неожиданно ответил, не открывая глаз, Северьян.
Танька тихо захихикала, влезла на кровать, разделась и дунула на керосиновую лампу. Скоро в крошечной комнате спали все, а за окном занимался тусклый осенний рассвет.
* * *
Спустя несколько часов, поздним утром, в большой ювелирный магазин на Кузнецком мосту вошла юная брюнетка в роскошном муаровом платье и щегольской собольей накидке поверх него. Блестящие черные, с синим цыганским отливом волосы молодой дамы были уложены по последней моде, кокетливая шляпка наводила на мысли о набережных Сены, изумрудные серьги огранки кабошон подчеркивали яркую болотную зелень длинно разрезанных глаз. Девушку сопровождал грузный немолодой мужчина с добродушным одутловатым лицом, отдетый в дорогое пальто с широким куньим воротником. Служащие магазина немедленно повысовывались из-за прилавков, чтобы получше разглядеть зеленоглазую красавицу. Из боковой комнатки появился сам хозяин.
— Любезнейший, покажите, пожалуйста, вашу последнюю коллекцию, у моей дочери именины! — пророкотал на весь магазин старик. — Катенька, выбирай, девочка моя. Это ведь твой день ангела…
Девушка благодарно кивнула и подошла к прилавку, где продавец, ослепительно улыбаясь, уже раскрывал футляры с драгоценностями. На черном бархате загадочно мерцали похожие на льдинки бриллианты, посверкивал шестилучевой звездой огромный сапфир, вделанный в брошь «Антарктида», светился изнутри розовый жемчуг с Антильских островов, искрились сиреневыми змейками браслеты из александритов, надменно блестел в перстне «Хозяйка Медной горы» темный уральский изумруд… Молодая брюнетка брала драгоценности в руки, осматривала, восхищалась, прикладывала то к шее, то к лицу, то к пальцам. Старик снисходительно улыбался, кивал, служащие угодливо кланялись, подносили зеркала и старательно обращали внимание посетителей на то, как играют камни при различном освещении, для чего были раздернуты тяжелые гардины на окнах, принесена большая лампа и канделябр со свечами.
Осмотр драгоценностей длился уже более часа, юная особа явно знала в этом толк, и первым устал ее отец.
— Катенька, право, ты увлеклась… Неужели не можешь выбрать? Хорошо, тогда я беру это все! Слышишь — все!
— Но, папа, это же огромные деньги… — мило захлопала ресницами девушка.
Служащие заулыбались еще лучезарнее.
— Это вовсе не деньги! — провозгласил папаша. — По крайней мере, для твоего отца! Любезный, будьте добры отложить это… и это… и это… и вон те камешки… И прислать в гостиницу «Элизиум» в апартаменты генерала Морозова.
— Разумеется… Разумеется… Изволите чеком расплатиться или наличными, ваше превосходительство?
— Папа чеков не признает, — со смехом ответила вместо отца девушка. — Пришлите, пожалуйста, все в гостиницу, если можно, сегодня же.
— Конечно, мадемуазель Морозова… Для нас счастье иметь таких покупателей, примите поздравления с днем ангела, нынче же вечером папин подарок будет украшать вас…
— …на балу у князя Долгорукова, — ворчливо закончил генерал. — Ну же, Катенька, идем, нас еще ждут у графини Бельской. Мы и так задержались, а все твоя вечная неспособность сделать правильный выбор! Будь ты военным человеком…
Серебристый смех девушки, развеселившейся от подобной перспективы, раздался уже от стеклянных дверей. Провожать генерала с дочерью до кареты отправился сам хозяин; служащие тем временем с осторожностью укладывали небрежно разбросанные по прилавку украшения обратно в футляры и многозначительно переглядывались: такой красоты и щедрости стены магазина не видели давным-давно.
Вечером того же дня в огромный мраморный холл гостиницы «Элизиум» в Китай-городе вошли двое служащих ювелирного магазина.
— К генералу Морозову из магазина Штакенберга, — важно объявил один из них.
Портье повернулся к горничной, разбирающей у стойки ключи, и та поспешно подошла.
— Извольте, господа, я провожу.
На третьем этаже, у высоченных, украшенных густой позолотой дверей апартаментов горничная осторожно постучала:
— Ваше превосходительство! К вам с покупками из ювелирного магазина!
— Просите, пожалуйста! — раздался звонкий девичий голос.
Горничная открыла дверь, и служащие магазина робко вошли внутрь.
В огромной гостиной с резной ореховой мебелью и тяжелыми портьерами зеленого бархата горели свечи. На одном из диванов пенилось бело-розовыми воланами кружев разложенное бальное платье, пахло духами и помадой для волос.
— Прошу, господа, садитесь, сейчас подадут кофе, — снова послышался молодой голос, и мадемуазель Морозова вышла из соседней комнаты в платье еще более великолепном, чем то, что лежало на диване. Зеленый гладкий шелк обтягивал ослепительной красоты смуглые плечи брюнетки, падал ниже талии переливающимися складками, собирался в бутоны на турнюрах. У приказчиков одновременно вырвался восхищенный возглас.
— Мадемуазель Морозова, вы… вы очаровательны, — наконец хрипло произнес старший.
Тот, что был моложе, юноша лет восемнадцати, и вовсе не мог выговорить ни слова, не сводя с генеральской дочери потрясенного взгляда.
— Благодарю, вы очень любезны, — весело ответила она. — А вот и кофе! Угощайтесь, господа, берите пирожные, эти птифуры только что прислали от Елисеева, просто шармант! Папа! Папа! Принесли мои подарки! Па-апа же!
Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Красавица направилась туда — и вернулась с раздутым кожаным портфелем в руках, едва сдерживая смех:
— Вообразите, господа, папа заснул! Вот всегда с ним так! Соберется в гости, выпьет кофе… и тут же заснет в креслах! Я потом целый час не могу добудиться!
— Вот ей-богу, ваше превосходительство, моя мамаша точно так же после анисовой… — попытался поддержать светскую беседу молодой приказчик, но его старший товарищ незаметно наступил ему на ногу под столом, и юноша сконфуженно умолк.
— Не переживайте, пейте кофе, а я расплачусь с вами сама! — улыбнулась, блеснув зубами, дочь генерала. — Сколько мы с папой должны за это великолепие?
— Шестьдесят две тысячи, мадемуазель. Уральские изумруды, изволите ли видеть…
— О, это пустяки. Можно сейчас посмотреть? Вы в самом деле привезли то, что я выбрала? — Глаза девушки светились совершенно детским любопытством.
Снисходительно улыбнувшись, старший приказчик достал из саквояжа шесть футляров. Мадемуазель Морозова с увлечением открывала их один за другим, любовалась драгоценностями и снова осторожно смыкала бархатные створки.
— О да, это именно то, что я хотела. Сейчас разочтемся, господа, я и так задержала вас. — Девушка открыла портфель. — Так, это папины скучные бумаги… Это какие-то акции, ничего в них не понимаю… Да, вот деньги. — Она вытащила внушительную пачку ассигнаций и, по-детски шевеля губами, принялась пересчитывать их.
— Одна тысяча, две, три, четыре… Что такое, стучат?
Недоуменно пожав плечами, мадемуазель Морозова отложила портфель и подошла к двери. Показалась горничная.
— Мадемуазель, вас просят спуститься вниз.
— Ничего не понимаю… Кто просит?
— Не могу знать-с.
— Но с какой же стати… Папа, папа! Ах, он заснул… Надо же, как не вовремя! — Девушка с досадой прикусила губу и стала еще более хорошенькой. Некоторое время она, казалось, колебалась, но потом все же повернулась с извиняющейся улыбкой к служащим: — Ради бога, простите меня, господа, я, право, ничего не понимаю… Верно, очередные цветы к именинам или чьи-то поздравления. Я оставлю вас на несколько минут, угощайтесь, не скучайте. Сию секунду, господа! — И она, набросив шаль на обнаженные плечи, выскользнула вслед за горничной.
— Вот, Сёма, обрати внимание, — назидательным шепотом произнес старший приказчик, когда за мадемуазель Морозовой закрылась дверь. — Настоящее богатство всегда просто. Заметил, как она себя ведет? Сразу видно аристократку, это тебе не купеческие Липочки с Ордынки! Ни кривляний, ни жеманства, носа не дерет, с тобой, шлемазлом, как с равным, говорит, а ты ей еще про мамашу вкручиваешь…
— Так я же ж, Соломон Моисеевич…
— Прихлопнись, недоразумение… И хватит жрать пирожные, взял одно — и жуй сколько можешь, оно большое… Генерала не разбуди! И отсядь от платья, босяк, еще измажешь!
Через час кофе был выпит, одна из свеч догорела и погасла, а приказчики из ювелирного магазина по-прежнему сидели за столом и с растущим недоумением смотрели на дверь. Мадемуазель Морозова не возвращалась.
— Уже пора бы ей быть здесь… — осторожно проговорил младший.
Старший, нахмурившись, подошел к двери, открыл ее, осмотрел коридор. В конце его горничная, вооружившись метелкой из перьев, смахивала пыль с лепных украшений.
— Эй, милая, подойди сюда! Ты с час тому вызывала мадемуазель Морозову из апартаментов?
— Я. — Горничная подошла. — А вы почему спрашиваете?
— Она еще не вернулась.
— А с чего же ей возвращаться? — пожала плечами горничная. — Папаша их внизу ждали, и с накидкой, барышня одевшись и с папенькой вышедши, а там извозчик…
Не дослушав, приказчик кинулся обратно в номер:
— Сёма! Где генерал?!
— Разбудите, Соломон Моисеевич!!! — паническим шепотом возопил юноша, но старший служащий, не слушая, распахнул дверь в спальню. Минуту спустя упавшим голосом произнес:
— Сёма, тут никого нет.
Несколько мгновений служащие ошалело смотрели друг на друга. Затем старший очертя голову кинулся к футлярам с драгоценностями, по-прежему лежащим на столе, а младший — к портфелю с деньгами, стоящему там же. Футляры были пусты. В портфеле лежали старые газеты. Деньги и украшения пропали.
Молодой приказчик пришел в себя первым и вихрем вылетел в коридор:
— Эй, кто-нибудь! Горничная! Портье! Сюда! Полицию немедля! Кража, разбой! Ой, Соломон Моисеевич, дядя Шлёма, что с вами?..
Старый служащий, не ответив и судорожно схватившись за сердце, медленно опустился на пол.
В то же самое время на Николаевском вокзале в поезд, идущий в Одессу, в вагон первого класса садилась ничем не примечательная пара: весьма упитанный немолодой купчина с сивой бородой веником, в старозаветной поддевке и сапогах «бутылками» и его толстая, замотанная в ковровую шаль жена с опухшим лицом и сонными глазами. Оказавшись в купе, торговец усадил свою монументальную супругу на диванчик и зычно крикнул проводнику:
— Чаю принеси и до завтра не беспокоить: почивать будем!
Через несколько минут принесли чай, проводник ушел, купец запер за ним дверь на защелку, и одновременно с этим, мягко качнувшись, тронулся вагон. За окном поплыл темный перрон, деревья, белая холодная осенняя луна, продирающаяся сквозь сплетение голых ветвей…
— Оторвались, Грек? — спокойно спросила купчиха.
— Кажется, да, — так же спокойно ответил купец.
Проверив на всякий случай крепость замка на двери, он первым делом оторвал седую бороду, аккуратно положил ее рядом с собой и лишь тогда скинул поддевку, к которой изнутри были подшиты войлочные валики для «толщины», и сапоги. Теперь на диване сидел немолодой, но ни капли не отяжелевший брюнет с острыми темно-карими глазами и мохнатыми, очень густыми, сросшимися бровями на темном нерусском лице. Брови были его собственные, и известнейший одесский вор Илларион Грек часто с досадой говорил о том, что когда-нибудь сбреет к чертовой матери эту особую примету, весьма мешавшую ему в его «деловых» предприятиях. Пока же Грек ограничивался тем, что перед очередным «делом» неудобные брови стриг и красил в подходящий для образа цвет. Сейчас он отряхнул с «особой приметы» густой слой пудры, и брови оказались дегтярно-черными. В Одессе поговаривали, что Грек, несмотря на кличку, полукровка-турок. Сам он эту тему никогда ни с кем не обсуждал.
С «супругой» тоже произошел ряд изменений. Она сбросила ковровую шаль, сняла салоп, на изнанке которого обнаружились такие же толстые валики, как и у Грека, размотала платок, высвободив роскошную, слегка растрепанную иссиня-черную косу, и с отвращением выплюнула прямо на стол ватные шарики, до сих пор лежавшие у нее за щеками и неузнаваемо изменявшие лицо — смуглое худое лицо младшей графини Грешневой, Катерины.
— Браво, девочка, браво, — мягко произнес Грек. — Ты, как всегда, была великолепна. Я понадеялся на твой талант — и мы с тобой в доле с богом! Ну — показывай слам!
Катерина, надменно улыбаясь, расстегнула широкий рукав-»фонарик». Изнутри в нем оказался пришитым карман-колбаска, из которого один за другим появились и легли на стол брошь «Антарктида», колье из александритов, кольцо с изумрудом-уральцем, огромные рубиновые серьги, два бриллиантовых браслета и длинное ожерелье из антильского розового жемчуга.
— Когда?.. — коротко спросил Грек, смеясь темными глазами.
— Когда проверяла товар в «Элизиуме», — пожала плечами Катерина.
— Неужели ничего не заметили?
— Им не до того было. Мальчишка таращился на мои плечи, а старик слишком боялся тебя разбудить. Футляры я сразу же закрывала, эти дураки в них и не заглядывали. Мы могли бы даже, я думаю, не устраивать маскарад с купеческой четой… Ненавижу эту вату во рту!
— Ничего, береженого бог бережет, — пусть ищут генерала с дочерью… И я ведь первый в Одессе сказал, что этим ручкам цены нет! — Грек с довольным видом взял тонкую руку спутницы и поцеловал длинные красивые пальцы. — Но каков был риск, девочка! Что, если бы им пришло в голову проверить за тобой?
— Все под богом ходим, — дернула плечом Катерина. — Такое уж наше с тобой ремесло. Скажешь, нет?
— Зачем ты пошла в эту жизнь, Катя? — уже серьезно, не улыбаясь, спросил Грек. — Ты благородная барышня, хорошей семьи. Могла бы совсем по-другому судьбу наладить. Неужели из-за Сережки? Да что в нем было, кроме форса? Шкет сопливый!
— Я начала, когда еще и знакома с ним не была, — с едва заметным раздражением возразила Катерина. — Я свой счет в пятнадцать лет открыла, и тебе это известно. Хватит, Грек. Прости, я устала сегодня слишком.
— Это ты прости, — несколько смущенно улыбнулся вор. — Отдыхай, малышка. Ты так отыграла бенефис, что теперь отдохнуть — дело святое. Спи, ночь долгая.
Он растянулся на диванчике не раздеваясь, подсунув под голову свой саквояж и свернутую поддевку. Катерина пристроила себе в головах узел и, тоже как была, в купеческом грогроновом сером платье, легла напротив, уверенная, что заснет немедля. Однако сон не шел. Не шел, несмотря на страшную чугунную усталость, на тяжесть в веках и напрочь, казалось, опустевшую голову. Луна все плыла и плыла за окном вагона, ее голубоватый свет лежал наискосок на платье Катерины, и та машинально гладила его рукой, не сводя взгляда с белого диска в черном осеннем небе. В голове медленно текли воспоминания.
Три года назад Катерина Грешнева ограбила московский приют, в который ее поместили после поджога родового имения и убийства брата, и бежала в Крым, а оттуда — в Одессу. Стояла весна, по всему городу цвели акации и каштаны, разливая по переулкам Молдаванки и Ближних Мельниц опьяняющий аромат, солнце пятнами скакало по булыжным мостовым и молодой зелени, море уже было теплым. Вспоминая о нем, Катерина тут же вспомнила и Валета: в ее мыслях он и море стали неразделимы. Ей тогда сравнялось шестнадцать лет, Валету — двадцать пять. Что еще нужно было для любви?..
Она хорошо помнила лицо Валета, знаменитого одесского налетчика, — смуглое, жесткое, со странно смотрящимися на нем светлыми серыми глазами. Белые зубы так ярко вспыхивали на этом темном лице, когда он глядел на нее, Катерину, и улыбался. Валет часто улыбался… он любил на нее смотреть. Три года прошло, а всё не забывается. Почему?.. Ведь все говорят, что он не вернется…
Непрошедшая острая боль вдруг стиснула сердце, и Катерина чуть слышно застонала сквозь зубы. Даже сейчас, три года спустя, невыносима была мысль о том, что она не увидит больше Валета. И ведь все из-за нее самой, боже, все из-за нее… Это она, Катерина, встретила тогда в Одессе графа Петра Ахичевского, любовника своей старшей сестры, который бросил Аню ради выгодной женитьбы. Девушке сразу же пришла в голову идея отомстить за сестру. Катерина попросила о помощи Валета, и тот согласился не раздумывая. Вдвоем они «взяли» богатую дачу Ахичевских на Фонтане, помимо денег и фамильных бриллиантов Катерина прихватила какие-то деловые бумаги. Зачем, зачем?! Девушка и сама не знала, что побудило ее сунуть в узел связку документов, но как раз из-за них подельники и «погорели». Это оказались очень важные бумаги государственного значения, из-за которых поднялся шум на всю Одессу, их с Валетом искала вся полиция города, нашла наконец… Катерина, отчаянно сопротивляясь при задержании, застрелила наповал жандарма. Валет понимал, что ее ждет многолетняя каторга, и поэтому на допросе решительно взял все на себя. Катерина так же решительно отстаивала свои показания, повторяя опешившему следователю: одна брала дачу, одна украла документы, сама застрелила казенного человека, отпустите Сережу, он только помогал… Валет твердил то же самое с точностью до наоборот. Очная ставка превратилась, по словам следователя, «в сущую семейную сцену»: подельники благим матом орали друг на друга, путая показания и усиливая следовательскую головную боль. Ни один не собирался отступать. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если б из Москвы не примчалась Анна Грешнева со своим нынешним покровителем: действительным тайным советником Максимом Модестовичем Анциферовым.
Анциферов был человеком опытным. Пока Анна лила слезы перед крайне раздосадованной Катериной в кабинете следователя, в соседней комнате шел разговор с Валетом. Тот, сразу же почуяв в собеседнике делового человека, моментально рассказал правду и, в свою очередь, выслушал предложение советника. Еще через полчаса Катерине и Валету дали свидание и оставили их наедине.
Дав девушке несколько минут порыдать у него на груди, вор уговорил ее «заткнуться на дознанке» и позволить ему взять все на себя.
— Катя, я-то еще с этапа сбегу, не впервой, мне этот туз помочь обещал.
— Анциферов?! Он врет, Сережа, он все врет! Зачем ему это нужно?
— Такие не врут, я наверное знаю. Он при больших делах в столице, слышал я за него. Коли обещал, так сделает. Уж к зиме вернусь до тебя, ты жди… А ежели ТЫ сядешь, то так двадцать пять и отмотаешь, старухой выйдешь… коли вовсе выйдешь. Ну зачем нам это, Катя? Отпусти меня. Вернусь к тебе, вот чтоб мне до смертного часа воли не дождаться!
По сей день Катерина не могла успокоиться, проклиная себя за то, что согласилась на это. Она была слишком неопытна, слишком молода… Да и Валет умел уговаривать. Она подписала все, что от нее потребовалось, и вышла на свободу. Валета девушка больше не видела.
Выйдя из тюрьмы, Катерина пешком через весь город пошла в Слободку, к матери подельника. Хеся Пароход, прозванная так за величественную походку и безразмерные габариты, известная на всю Одессу «малинщица», еще хранящая следы былой красоты, жила в крошечном беленом сплошь оплетенном виноградом домике, окна которого выходили прямо на море и вечно пустую песчаную косу. Здесь, в мощенном битым кирпичом дворике с абрикосами и черешней, мать Валета варила свою «малинку», за которой приходили воры со всего города, принимала на сохранение контрабанду и краденые вещи, иногда прятала беглых каторжников или скрывающихся от полиции налетчиков. С подругой сына она была знакома. Катерина собиралась спокойно и без лишних эмоций рассказать старой бандерше о том, что произошло, но, войдя в маленький дворик и увидев Хесю, неожиданно для себя самой осела на землю, схватилась за голову и взвыла в голос, по-деревенски: «У-ы-ы-ы-у-у-у-ы…»
Хеся, в свою очередь, издала звук, заглушивший гудок «Святой Нины», проходящей мимо в Новороссийск. Обе женщины, молодая и старая, обнялись и заголосили.
— Как же ты выскочила, шалава? — между двумя оглушительными фиоритурами спросила Хеся.
— Он на себя взял все… Ы-ы-ы-ы…
— Вейзмир, дурака родила, дураком и сдохнет… Ой, ве-е-е-ей… С чего жить теперь будешь?
— Не знаю… Вовсе не буду-у… В море утоплю-ю-юсь…
— Я ж и кажу, что дура… — Хеся вдруг перестала завывать и, схватив Катерину за руку, сильным рывком заставила ее подняться. — Пошли, Гитька, до хаты. Голодная? Покормлю. И спать ляжешь, а завтра поглядим. Иди-иди, свекровь слушаться надо.
Катерина усмехнулась сквозь слезы, но все же пошла за матерью Валета по дорожке к дому. Там она уплела за один присест сковороду жареных бычков с хлебом и помидорами, выпила полкрынки молока, от водки отказалась, упала на покрытую половиком оттоманку у стены и мгновенно заснула.
«Свекровь» не предлагала Катерине оставаться жить у нее: это было само собой разумеющимся. Куда бы еще она могла пойти, Катерина не представляла; мысль вернуться в Москву к старшей сестре ей даже в голову не приходила, о средней, Софье, девушка и вовсе ничего не знала.
Первое время ей было совсем плохо. Днем Катерина часами лежала в хате на оттоманке, глядя в потолок и бездумно вслушиваясь в гудки пароходов, идущих морем, в крики чаек, в фальшивое пение Хеси во дворе, в тихий плеск волн. Ночью рыдала взахлеб, просыпаясь вновь и вновь от измучившего ее сна: они с Валетом обнимались как сумасшедшие в кабинете следователя. Проснувшись, Катерина явственно ощущала, что у нее болят плечи от этих объятий. Однажды, после очередных ночных судорог Катерины, когда девушка, шатаясь, выбралась из хаты на темный двор, чтобы попить воды из ведра, Хеся вышла за ней и задумчиво сказала:
— Не убивалась бы ты так, Гитька… Што делать, жисть ваша лихая такая. Не ждала б ты, не воротится.
— Он обещал мне…
— Ну! Все они обещают. А с двадцати годов каторжных кто ж вернется? Я тебе дело говорю, ты молодая совсем. Красотуха вон какая. Ходи гуляй! А про Сережку забудь. Не повидаетесь боле.
Катерина, ни слова не ответив, прошла мимо нее в хату и легла на оттоманку вниз лицом. Хеся еще немного постояла на крыльце, глядя на низкие звезды, усыпавшие осеннее небо, затем шумно вздохнула и, тяжело ступая, вернулась в дом.
В глубине души Катерина понимала, что «свекровь» права. Глупо было надеяться, что кто-то поможет Валету вырваться с каторги. Скорее всего, никто ему этого и не обещал, вор просто обманул подружку, зная, что так легче заставить ее подписать протокол. От последней мысли у Катерины темнело в глазах, она сжимала до боли кулаки, шепча: «Сволочь… Какая же ты, Сережка, сволочь, сукин сын…» и одновременно понимала, что сама поступила бы точно так же, если б смогла додуматься. Но Валет был старше, опытнее, он мгновенно все сообразил, этот туз из Москвы, Анин любовник, подыграл ему… и теперь ей не увидеть Сергея никогда.
Когда теплая южная осень сменилась ветреной, неожиданно холодной зимой, Катерина почувствовала, что ее черное отчаяние понемногу отступает. Сходив однажды в город, она принесла с собой рулон тонкого полотна, нитки и иголки, разложила все это на столе и достала ножницы. Хеся, двигающая поварешкой в кастрюле с борщом, подозрительно посмотрела на нее.
— Што это за цацки?
— Не могу же я у тебя и дальше на шее сидеть, — глухо проговорила Катерина, разравнивая руками полотно. — Сейчас раскрою, вышью, рубашек хороших наделаю, в магазин сдам.
— Или умеешь? — заинтересованно спросила Хеся, бросив поварешку и недоверчиво глядя на тонкую ткань, беспомощно распадающуюся под лезвиями ножниц.
— Умею. Мы с сестрами на продажу шили. И в приюте много чему научилась.
— Так, может, тебе швейную машинку достать?
— Дорогая вещь… — отмахнулась Катерина. — И не умею я на ней.
— Научишься. Вечером прибудет.
И через несколько часов действительно машинка прибыла. Вместе с ней прибыл немного испуганный еврейский мальчишка лет семнадцати, отрекомендовавшийся: «Исаак Рабиц, фирма «Рабиц, Рабиц и Шмуллер», шьем брюк, пиджаков и чего надо починяем!» Он в мгновение ока обучил девушку обращаться с агрегатом, заправлять нитку, правильно подкладывать под лапку ткань и вертеть колесо, затем чмокнул ручку смеющейся Хесе и умчался. Катерина тоже хмуро улыбнулась, пожала плечами и начала неловко вставлять выкройки под иглу.
Зима тянулась бесконечно. С моря дули ветры, снег запорошил прибрежный песок, свинцовое небо сыпало колючей ледяной крошкой, дни были короткими и сумрачными.
— Гитя, глаза сломишь, хватит! — уже после обеда начинала бурчать Хеся. — Вон, вже темнеет, не лето небось! Хватит, дура, тебе говорят, уж на полк солдат нашила, ослепнешь! Карасин все равно жечь не дам! Пошла бы лучше до города, погуляла, в ресторане села…
— Очень надо…
— Гитька! Дура проклятая! — Хеся с грохотом швыряла в угол половник. — Тебе сколько лет?! Тебе семнадцать, шалава! Тебе мужика надо! Гулять надо, вино пить, всякое удовольствие иметь! Подойди, лярва, к зеркале, погляди на свою морду! Это же не морда, а счастье! Иди сними фраера, побудь с ним вечерочек, ты с него больше поимеешь, чем со всех этих рубашек!!!
— Не могу, стошнит, — коротко отвечала Катерина, и «свекровь» умолкала, чувствуя, что «невестка» говорит правду.
Но Хеся Пароход недаром слыла в Одессе женщиной целеустремленной. Через несколько дней в доме появился Левка Кот. Это был известный всему городу налетчик с довольно красивой нагловатой физиономией, которую немного портил шрам над левой бровью — результат давней драки в пивной. Женщин Кот любил, обращался с ними с уверенностью профессионала, но, по мнению Хеси, ему слегка не хватало ума, и посему она заранее предупредила:
— Не попри на девку, как на кассу, халамидник, осторожность имей, больше барыша получишь.
Левка здравому совету не внял. Явившись в дом Хеси под обычным предлогом покупки «малинки», он увидел склонившуюся над шитьем Катерину, ее сумрачное, смуглое лицо с худыми скулами, зеленые глаза, равнодушно блеснувшие из-под длинных бровей, черную косу, небрежным узлом сколотую на затылке, — и пошел напролом:
— Мадмуазель, вам тут не скучно?
— Мадам, — холодно поправила Катерина, откусывая нитку и беря в руки ножницы. — Закройся, мамино несчастье, бейцы отстригу.
Если Кот и растерялся, то ненадолго. Решив, что девчонка просто ломается, он деловито обошел стол, остановился за спиной Катерины и запустил обе руки в вырез ее кофты.
Хеся в это время разметала во дворике снег. От раздавшегося в доме дикого мужского рева она уронила веник, охнула и тяжело побежала к крыльцу. Прямо на нее с крыльца скатился, зажимая правый глаз окровавленной ладонью, воющий, как портовый гудок, Левка Кот. За ним выскочила белая от ярости Катерина с ножницами в кулаке.
— Глаз у хлопца на месте? — быстро спросила Хеся.
Катерина с явным сожалением кивнула:
— Промахнулась слегка…
— Нельзя так, Гитька… — озадаченно сказала старая малинщица, наблюдая за тем, как Кот, взахлеб матерясь, окунает голову в ведро с ледяной водой и та мгновенно окрашивается в розовый. — Человек все ж-ки.
— Я его дважды предупредила! — процедила Катерина, швыряя ножницы на крыльцо. — Если тут всякая гнида будет меня хватать за грудь, что я потом Сереже скажу?
— Когда скажешь, дура?! — взвыла Хеся, перекрыв истошную ругань Кота. — Через двадцать лет?!
— Хоть через сто!!! — Дверь бешено хлопнула.
Хеся вздохнула. Кряхтя, подняла ножницы, сунула их в карман фартука и повернулась к Коту:
— Упреждала ведь, шаромыжник? Куда она тебя саданула? Дай взгляну… У-у-у, знатно… Да ничего, живой, и глаз смотрит! Метка, конечно, останется, что ж делать… Ну, будешь у нас с двух профилей одинаковый красавец!
Больше Хеся не пыталась подсовывать «невестке» ухажеров. Да никто бы и не согласился на эту роль, поскольку после неудачного кавалерствования Кота слухи о «марухе» Валета поползли самые отчаянные. Воры являлись посмотреть на нее, как на музейный экспонат; входя к Хеське, в упор, без стеснения таращились на черномазую девчонку, сидящую за швейной машинкой, ждали, пока она поднимет голову, улыбались — и тут же каменели, встретившись с ледяным взглядом зеленых глаз. Было очевидно — в любовнике Катерина не нуждается.
— Оставь девочку в покое, дура, — посоветовал Хесе старый друг ее молодости Илларион Грек, заглянув однажды на огонек. — У ней свой интерес, не все же бляди вроде тебя и одним передом думают.
— Какой ей интерес, какой, вейзмир, ей может быть интерес в этой нашей вшивой жизни… — безнадежно запричитала Хеся. — А насчет моего переда молчал бы, сам с него свой цимес имел…
— Ну! Вспомнила бабка, как бог землю делал… — Вор поднялся, обогнул стол, подошел к Катерине, ожесточенно крутящей колесо швейной машинки, и уставился на ее руку. Девушка, казалось, не заметила этого, продолжая следить взглядом за уползающей из-под иглы лентой материи, но Хеся обеспокоенно предупредила:
— Грек, она ножницами мечет, как макрель икрой.
— Знаю, Кот на всю Одессу расстраивался… — Грек продолжал смотреть на руку Катерины. Стрекот швейной машинки смолк, девушка подняла глаза и в упор взглянула на вора ничего не выражающими глазами. Грек спокойно выдержал этот взгляд, улыбнулся и взял Катерину за руку.
— Ша… — прошептала Хеся, закрывая глаза.
Однако было тихо. Помедлив, Хеся осторожно открыла один глаз и, к своему неописуемому изумлению, увидела, что Катерина улыбается — правда хмуровато и недоверчиво — и руки не отнимает. А Грек, не отрываясь, смотрит на ее пальцы — длинные, худые, с обломанными грязными ногтями.
— Хеська, ты идиоткой родилась и идиоткой сдохнешь, — наконец задумчиво проговорил он. — Ты кидала глаза на ее руки? Смотрела вот эти золотые пальчики? Я таких двадцать пять лет не видел! Что ты ей их портишь этой швейной дурой?!
— Я порчу? Я?! — возмутилась Хеся, но Грек ее не слушал. Темно-карие, блестящие, чуть сощуренные глаза вора пристально смотрели на Катерину. Та, слегка удивленная, не отводила взгляда.
— Деточка, чем вы занимались с Валетом? — мягко спросил Грек, отпустив наконец руку Катерины.
— Налётами, — пожала плечами она. — А до того имела «медведя» в Москве.
— «Медведя» вы работали собственноручно?
— Почти, но он был старый, и это оказалось очень легко.
— Опасное занятие для красивой женщины.
— Ничего другого я не умею.
— Ничему другому, деточка, вы и не учились, — сочувственно сказал Грек. — Но это поправимо. Скажите, верно ли брешут по Одессе, что вы из порядочной семьи?
— Более чем, — улыбнулась против воли Катерина. — Я графиня Грешнева. Кровная.
— Это заметно, — светски улыбнулся Грек. — Не спрошу, как вы дошли до жизни такой — у нас всех свой мыш за подкладкой… Но на кой черт вам сдался этот босяк Валет? Он только испортил вашу карьеру… Ходили слухи, правда, что он отмазал вас от каторги, это правда?
Хеся за столом зажмурилась, уверенная, что теперь-то Греку точно не миновать ножниц, но — ничего не последовало. Катерина просто молча улыбалась, глядя в лицо собеседника зелеными опасными глазами. Через несколько минут Грек понял, что ответа не дождется, и пожал плечами.
— Что ж… пардон, это ваша частная жизнь. Но у вас, девочка, приличная биография, чудная мордочка и филигранные пальчики. За ваш характер промолчу, вы — женщина и можете себе позволить, лишь бы это не мешало делу… Вы даже не представляете, какие перспективы перед вами открываются. Поспрашивайте за меня в Одессе, и вам скажут, что Грек просто так слов не мечет. Я хотел бы взять вас в долю.
— Спасибо, — вежливо улыбнулась Катерина. — Но я не могу подписаться на темный гоп. Я вас не знаю, и ваша работа мне неизвестна.
— А я и не говорю — сейчас. Спросите в Одессе, спросите у мадам Пароход. — Грек вдруг широко улыбнулся, блеснув белыми зубами. — Я не тороплю вас, деточка. Подумайте. Я готов вас ждать хоть до Страшного суда. У меня понимающий глаз. Такие ручки, как у вас, мадемуазель Грешнева, родятся раз в сто лет. Если я дам им пропасть, бог потом скажет, что я неудачно прожил жизнь, и мне будет нечего ему ответить.
— Что он есть, Хеся? — задумчиво спросила Катерина, когда Грек ушел.
Стояла уже глубокая ночь, в окно заглядывала белая зимняя луна.
— Сукин сын, — вздохнула Хеся. — Кобель. Паскудник. Проклятье моей молодости.
— Я за масть…
— А-а… — Хеся убрала с лица скорбное выражение, усмехнулась и повернулась к чайнику на плите. — Шчас мы с тобой водички скипятим, и я все расскажу. Грек хоть и сволочь, а правильно говорит: тебе к настоящему делу пристраиваться надо.
Время шло, жестяной чайник то вскипал, то остывал, то пустел, то вновь наполнялся водой, луна перемещалась из окна в окно, Хеся говорила, Катерина молча слушала.
Два месяца спустя после этого ночного разговора к воротам особняка богатого греческого коммерсанта Теотопулиса на Арнаутской подкатила лаковая пролетка. Из-за ажурной решетки слышалась музыка, взрывы смеха, веселые голоса: праздновалась свадьба старшей дочери хозяина, и дом был полон гостей.
Грек вышел из экипажа первым; подав руку, галантно помог спуститься Катерине. В черной фрачной паре, с цилиндром на отлете, с бриллиантовой булавкой, блестевшей в галстуке, он выглядел безукоризненным светским фатом. Катерина, очень хорошенькая в бальном платье фисташкового цвета, кутала плечи в соболью накидку и сумрачно посматривала по сторонам.
— Деточка, улыбайся, — негромко сказал ей Грек. — Улыбайся, сейчас нет ничего главнее! Когда такая красавица в таком платье и при таком кавалере имеет такое лицо — это нонсенс, который всем заметен. Фраера могут забеспокоиться, а у нас другие задачи. И помни, тебе нечего бояться, сегодня работаю я, а ты только смотришь.
— Что, и даже не попробую?..
— Не рекомендую. Ты совсем неопытна, рискуешь погореть, так ничему толком и не выучившись. Лучше просто смотри и делай выводы. Ты сегодня прикрываешь меня, это ничуть не легче, а у меня… — Грек вдруг улыбнулся, блеснув зубами, и подал Катерине руку. — У меня, малышка, двадцать пять лет не было такой «прикрышки». Это не счастье?..
— Старый дурак, — почти нежно произнесла Катерина, просовывая руку в лайковой перчатке под его локоть. — Идем, я еще хочу танцевать.
Вечер был в самом разгаре. Огромная бальная зала особняка оказалась заполнена народом так, что, чудилось, яблоку негде упасть, и Грек чуть заметно, с одобрением кивнул.
— Свадьбы, Катька, это просто золотое дно. В доме народу, как селедок в бочке, никто друг друга толком не знает, можешь играть кузину невесты или тетю жениха — никому не будет дела. Ты хорошо танцуешь?
Катерина, танцевавшая последний раз еще в Грешневке, пожала плечами.
— Плевать, здесь никто толком не умеет. Это ведь не прием у Великого князя, а просто купеческая свадьба, не трясись. Получай удовольствие, девочка, но на всякий случай поглядывай на меня.
— Я с тебя глаз не спущу.
— Тоже ни к чему. Тебе должно быть весело и беззаботно, ты приехала танцевать и флиртовать, вот и займись этим. Вон на тебя уже смотрят те молодые болваны, давай помаши им ресничками — и помни все-таки, что мы на работе.
Вскоре заиграли вальс, к Катерине подошел молодой человек в военной форме, девушка кивнула с улыбкой, принимая приглашение, и вскоре уже кружилась, поворачивая голову то вправо, то влево, как учила когда-то Анна.
— Вы замечательно танцуете, — весело заметил ее кавалер. — Вы, должно быть, родственница невесты? Я — двоюродный брат жениха.
— Кузина с Винницы, — ответила Катерина, едва сдерживая смех.
То ли от тура вальса, то ли от восхищенного взгляда молодого человека, то ли оттого, что все действительно получалось очень легко, ее напряжение вдруг пропало, и улыбку уже не требовалось насильно удерживать на лице. Катерина с удивлением заметила, что, перешагнув порог этой блестящей бальной залы, она будто в самом деле стала красивой и легкомысленной кузиной невесты. Словно не было в ее жизни голодного и оборванного детства, не было убийства брата и поджога родного дома, не было приюта, краж, тюрьмы, нескольких месяцев черной, смертной тоски — все вдруг исчезло куда-то, как летучие пузырьки шампанского, которым угощал ее кавалер. Катерина выпила вроде бы совсем немного, но голова тут же начала кружиться, и девушка почувствовала первый признак опьянения: захотелось безудержно смеяться. «Ша, Катька, хватит», — сказала она себе так, как когда-то ей говорил Валет. — Ты на деле, а не на малине».
Усевшись на бархатный пуфик, Катерина поискала глазами Грека, но найти его не успела: ее тут же пригласили на падеспань. Кавалером был широкоплечий темноволосый мужчина лет тридцати, с острым взглядом черных глаз, в прекрасно сидящем фраке, смотрящий на свою визави с явным вожделением. В его галстуке блестел невероятных размеров бриллиант, от которого Катерина едва смогла отвести взгляд. Чтобы скрыть свой интерес к галстучной булавке кавалера, Катерина принялась отчаянно кокетничать, на всякий случай не выходя из роли винницкой кузины:
— Ах, как вы чудно танцуете… Вы, верно, из военных? Только они так прелестно падеспанят… Почему вы улыбаетесь, я сказала чего-нибудь смешного?..
— О, что вы… Просто мне приятно ваше общество, — лучезарно улыбнулся брюнет. — Не очень хорошо получается, мадемуазель, мы танцуем уже целую минуту, а до сих пор не знакомы. Вы — родственница жениха?
— О нет, кузина невесты. Ах, что это?! — Проносящаяся мимо пара слегка задела ее, но Катерина покачнулась, словно невольно ухватившись за своего партнера, — и тут же почувствовала, как тяжелит ладонь холодный ограненный камень. Под ее пальцами, которые она тренировала без устали больше месяца, вынимая, по совету Грека, различные предметы из карманов висящих на плечиках пальто и брюк, булавка вышла из галстука легко и незаметно.
— Ой, как же неловко случилось, просю извинить… — пролепетала она, растерянно моргая и внутренне давясь от смеха. — Я больше не хочу танцевать, отведите меня к буфету, мне в себя прийтить надо… Ой, за ради бога, принесите мороженого, так жарко, так жарко…
Пока галантный кавалер выполнял просьбу дамы, Катерина спрятала галстучную булавку в сумочку. Настроение ее, и без того отличное, стало еще лучше: она не могла поверить, что ее первая «пальчиковая работа» прошла так великолепно. Катерина поела мороженого, станцевала контрданс и мазурку, выпила еще полбокала шампанского, завела отчаянный флирт со старым одышливым господином, называвшим ее «непревзойденная мадмазэль», и, не отходя от него, совершила еще одну операцию. Упускать случай было грешно: внушительного вида матрону в бархатном туалете нечаянно облили вином. Почтенная особа, сокрушаясь о безнадежно испорченном платье, раскудахталась на весь зал так, что не заметила, как юная девица, вежливо помогающая ей промокнуть салфеткой пятно и прикрыть его бархатными складками, расстегнула на ее запястье золотой браслет. Тот блестящей змейкой утек в перчатку Катерины. Вряд ли вещица была дорогая, но юная воровка стянула ее, во-первых, для практики, во-вторых, не желая упускать удачного момента, в-третьих, просто из озорства.
Грек не появлялся. В начале вечера Катерина еще могла увидеть его черную набрильянтиненную голову в том углу, где мужчины вели неспешный разговор о торговых делах, ценах на овес и акцизных сборах на таможне, потом вор с кем-то танцевал, пил вино у буфета, не замечая взгляда Катерины, и вдруг — исчез. Сначала Катерина не беспокоилась о нем, флиртуя напропалую с собравшимися возле нее молодыми людьми, затем понемногу стала волноваться. Было уже довольно поздно, за окнами стемнело, воздух в зале загустел, запах потом, вином и разнообразными дамскими духами, смешавшимися в крепкий, удушливый аромат. Мужские голоса зазвучали громче, увереннее: сказывалось выпитое. Катерина, с трудом вырвавшись из кольца кавалеров, не спеша, с улыбкой начала прохаживаться по зале, украдкой поглядывая по сторонам. Может быть, Грек бросил ее тут одну? Но зачем?.. Она уже была всерьез готова уйти с вечера, но в это время из соседней комнаты, где за зелеными столами шла игра в вист и клубились синие пласты сигарного дыма, раздался громкий и удивленный возглас:
— Позвольте, что вы делаете, сударь?!
Еще ничего не поняв, но сразу почуяв неладное, Катерина подошла к полуоткрытой двери. И тут же увидела Грека.
Он стоял не двигаясь, небрежно сцепив руки за спиной, надменно приподняв подбородок, и с невероятным презрением смотрел на маленького толстячка в шевиотовой паре, которому, чтобы заглянуть в лицо вора, приходилось вытягиваться и вставать на цыпочки. Вокруг столпились повскакивавшие из-за столов игроки, все смотрели почему-то вниз, под ноги Грека, и Катерина должна была подойти почти вплотную к нему, чтобы увидеть лежащий на паркете золотой портсигар с выложенным бриллиантами вензелем.
Вор по-прежнему молчал, словно обратившись в статую, судя по позе, коронованной особы. А толстячок кипятился так, что его высокий звонкий фальцет срывался на визг:
— Господа, господа, мне ничуть не почудилось! И я не пьян! Разве можно быть пьяным от двух бокалов хересу?! Я очень отчетливо чувствовал, как мне лезут в карман! Во внутренний, в сюртуке! Я всегда очень слежу за этим карманом, поскольку там — главная ценность нашего семейства: портсигар покойного папеньки…
— Вы с ума сош-ли, лю-без-ный, — отчеканил Грек таким ледяным голосом, что у Катерины мороз прошел по спине. Стушевался даже пострадавший толстяк, умолкнув на полуслове и растерянно захлопав короткими ресницами. Стоящие вокруг озадаченно посматривали друг на друга, явно не зная, чему тут следует верить, и не решаясь начать скандал.
Катерина поняла, что терять время нельзя. Она выдернула свечу из канделябра, отступила назад, незаметно прошла за спинами игроков в дальнюю пустую комнату, быстро огляделась и, увидев на круглом столике рядом с окном букет бумажных цветов, поднесла к ним огонь. Бумажные фиалки в соломенной вазочке вспыхнули мгновенно, и Катерина завизжала так пронзительно, что у нее самой заложило уши:
— Пожа-а-а-а-а-ар!!!
Тишина — и взрыв испуганных голосов, топот ног, дамские крики, суета… В поднявшемся гвалте и толчее Катерина пробилась к дверям, с силой отпихнула кого-то, выскочила в прихожую, затем — на двор. И ничуть не удивилась, почувствовав на запястье сильную горячую руку и услышав спокойный, деловитый, ничуть не испуганный голос:
— Тикаем, малышка, коняшник у забора.
Не спеша, с достоинством они спустились с крыльца, прошествовали мимо лакея, пересекли дорожку, вышли на улицу, Грек помог Катерине подняться в пролетку, сел сам, и извозчик ударил по лошадям.
— Оторвались!.. — восторженно вырвалось у девушки, когда экипаж покинул «чистую» часть города и загремел колесами по темным улицам «нижней» Одессы, спускающимся к морю. Грек молча достал папиросу, закурил, и, увидев в короткой вспышке спички его лицо, Катерина с удивлением поняла, что вор ничуть не взволнован.
— Остановь, Яшка, — приказал он извозчику, и тот послушно сдержал лошадь у едва заметной в темноте вывески старого ресторана «Суламита». Грек спустился, подал руку Катерине. Они вошли в ресторан. Почтительно поклонившийся Греку швейцар принял у них пальто и проводил до дверей зала.
— Шмуля, как обычно, и сгинь, — отрывисто распорядился вор, и мальчишку-официанта как ветром сдуло.
Катерина, помолчав, озадаченно спросила:
— Я что-то неправильно сделала, Грек?
— Деточка, неправильно было ВСЁ, — помолчав, задумчиво ответил Грек. — Все, начиная с галстука этого штымпа. Зачем ты его сработала?
— Но… Ты же сам сказал — мы на работе…
— Это я на работе. — Темные блестящие глаза Грека были непроницаемы, и Катерина, как ни вглядывалась в них, не могла определить, сердится ли вор, смеется или издевается над ней.
— Работал я, — медленно, раздельно повторил Грек. — А ты должна была только смотреть.
— Но я подумала… Я хотела попробовать…
— А я разве говорил, что можно? Деточка, это был такой риск, что я от страха за тебя совсем утратил соображение! И хряк с портсигаром тому доказательство! Да бог ты мой, у меня лет десять такого позора не было!
— Но… Я же смогла… — Катерина невольно прыснула, впомнив, с какими безумными лицами все носились по дому после ее вопля. — Разве я не сделала все как надо?
— Деточка, тебе надо было уходить, — вздохнув, произнес Грек.
— И бросить тебя?! — не поверила она.
— Разумеется, моя милая. Как ты думаешь, у меня это первый такой случай?
— Сам же сказал — десять лет… — фыркнула Катерина.
— Ну-у, может, не десять, а шесть… Или три, — Грек не выдержал, усмехнулся, блеснув зубами. — Катька, вот клянусь своей оставшейся свободой, этот боров через минуту бы понял, что сам всё уронил, и начал бы извиняться. Здесь главное — просто держать лицо до последнего. Коли не можешь — займись в жизни другим делом. И, кстати, если бы ты погорела на этой дурацкой булавке — я смылся бы в ту же минуту. Да-да, девочка, и не делай мне больших глазок. Такое наше ремесло. Валет в свое время тебя из рук выпустить не сумел — и где он сейчас?..
— Сережу не трогай! — тут же ощетинилась Катерина.
Грек посмотрел на нее, медленно кивнул — и неожиданно широко улыбнулся.
— Покажи слам, раз уж все равно прилипло.
Катерина, криво усмехнувшись, достала сумочку.
— И вот тоже глупость сделала! — не вытерпел Грек. — Надо было сбросить прямо в доме, мало ли что, вдруг повязали бы в воротах… Ох, молодая ты еще, Катька, ох, молодая, дура… Но молодец все-таки, лихо с этим пожаром обернулась! Я и сам с перепугу чуть в окно не выскочил!
— Не ври, старый бандит… — проворчала Катерина, чувствуя, что Грек пытается поднять ей испорченное настроение.
Не глядя на него, она бросила на стол сумочку, Грек деловито перевернул ее, взял галстучную булавку, бегло осмотрел, усмехнулся краем губ — и, прежде чем изумленная Катерина поняла, что он собирается делать, бросил бриллиант на пол и со всей силы наступил на него ботинком.
— Ай, сволочь!.. — придушенно вырвалось у девушки, она вскочила было из-за стола, но вор рассмеялся, жестом приказал ей сесть, театрально поднял ногу, — и совсем сбитая с толку Катерина увидела на дощатом полу россыпь стеклянной крошки.
— Фуфло, — объявил Грек. — Прими мои соболезнования. Я и сам сначала бросил глаз на эту штучку, но потом сообразил, что хорошие вещи таких размеров не бывают. По крайней мере, на таких свадьбах.
Раздосадованная донельзя Катерина молчала. А Грек тем временем взял в руки золотой браслет, который она «увела» для забавы у облитой вином почтенной дамы, и с заметным удовлетворением осмотрел его.
— А вот это — виртуозная вещь. В самом деле ценно, поздравляю, все-таки удачный почин.
— Не заправляй арапа… — уныло сказала Катерина. — Чего в ней ценного?..
— Время, — пояснил Грек. — Видимо, фамильный браслет, ему лет двести, видишь, как сделано? Жаль мадам, долго будет рыдать… Ну, что ж, это жизнь.
— Может, я оставлю его себе?
— И думать забудь! Сгореть из-за цацки?! Продашь, купишь себе три таких! — распорядился Грек. И, в упор посмотрев в растерянное лицо подельницы карими, блестящими глазами, тихо рассмеялся.
— Слушай, я ничего не понимаю, — угрюмо, глядя в стол, произнесла Катерина. — Все было хорошо или плохо? Ты со мной работаешь или нет?
— Девочка, для первого раза все было чудно. Ты артистка, и с тобой можно крутить большие дела. Но никогда больше не смей меня спасать. В таких разах обычно горят оба, и то, что сегодня мы снялись, это чистый случай. Бог тебя вытащил для начала, но второй раз связываться не станет. И на меня тоже никогда не рассчитывай. Работаем вместе — горим врозь. Тебе это годится?
— Да, — коротко ответила Катерина. — Слушай, я хочу есть.
Грек кивнул, коротким движением смахнул в карман золотой браслет семнадцатого века и повернулся, ища глазами официанта. А на другой день, не дав Катерине даже предупредить Хесю, вор увез подельницу в Киев «на шикарную гастроль».
Дальше были Харьков, Кишинев, Ялта, Алупка, Вильно, Варшава… Грек утверждал, что «дела» лучше всего «вести в разъездах», чтобы не примелькаться, и оказался прав: красота Катерины, с каждым годом более яркая, с одной стороны очень облегчала им задачи, с другой — стала бьющей в глаза особой приметой. Когда полтора года спустя словесный портрет подруги Грека, зеленоглазой брюнетки графини Катерины Николаевны Грешневой, уже лежал в папках уголовных сысков всех больших городов империи, вор решил, что пора дать русской полиции, пошли ей бог здоровья, вздохнуть спокойно, заставил подельницу вспомнить иностранные языки и увез ее за границу.
Париж, Лондон, Рим, Венеция, Берлин… Грек всюду чувствовал себя как дома, свободно говорил на основных европейских языках, был, к удивлению Катерины, вхож в самые блистательные гостиные, имел за границей массу знакомств и легко заводил новые связи, приучая к тому же и подельницу: «Девочка, я не вечный, когда станешь работать одна, пригодится». К загранице Катерина осталась равнодушна, любовников не заводила, и страстные мужские ухаживания во всех странах Европы ее не трогали.
— Ты странная девочка, — говорил иногда Грек со смесью одобрения и сожаления. — Ты молодая, тебе нужен мужчина, чего ты ждешь? Кого я должен тебе привести, чтоб ты повелась? Тебе бы не воровайкой, а монашкой быть…
— Зачем тебе нужно, чтоб я повелась? — смеясь, спрашивала его Катерина. — Брошу тогда дело, и все. Не пожалеешь?
— Пожалею, не знаешь как, — серьезно и, кажется, искренне отвечал Грек. — Стоило с тобой, босявкой, возиться столько времени… Но это ж будет жизнь, и ничего не поделаешь. Обидно, когда такой цимес сохнет даром…
Катерина молчала. Грек не настаивал.
Любовниками они так и не стали — несмотря на то, что очень часто во время своих операций изображали мужа и жену и ради достоверности снимали общие номера в гостиницах. Первое время Катерина напряженно ждала, когда же Грек начнет неизбежную, как она была уверена, мужскую атаку на ее прелести, и сама не знала, как ей в таком случае себя вести. Но время шло и шло, а подельник держался с ней по-прежнему — спокойно, иронично, чуть отстраненно, ни на шаг не переходя границ. Катерина уже начала было с облегчением думать, что она, вероятно, не в его вкусе, — и для нее оказалось колоссальной неожиданностью, когда, спустя уже два года после их знакомства, Грек все же рискнул.
Это случилось в Италии, в Венеции, в дни знаменитого карнавала, когда, как уверял Грек, «только ленивый не ворует». Провернув многодневную головокружительную комбинацию по избавлению сейфа князей Виллареджинанца от фамильных драгоценностей, подельники вернулись на ночь в гостиницу на Канале-Гранде. Опасности не грозило ни малейшей, князь Паоло Виллареджинанца, мастерски опоенный «малинкой», должен был, по прикидке Катерины, спать до полудня следующих суток, и поэтому они с Греком решили не пороть горячку и, как порядочные, переночевать в гостинице, а уж наутро перебираться на материк и уносить ноги во Францию. Вор осмотрел добычу, присвистнул, попросился по достижении преклонного возраста в Катеринины приживальщики, получил согласие и куда-то исчез. Девушка, усталая, счастливая и слегка пьяная (пришлось пить вино вместе с князем), кое-как разделась, вытащила из волос шпильки и упала в высоко взбитую постель.
Она проснулась среди ночи от четкого ощущения того, что кто-то на нее смотрит, и немедленно замерла, как зверь в норе, готовая одновременно и к бегству, и к нападению. В стрельчатое старинное окно комнаты заглядывала огромная луна; в ее неживом голубоватом свете глаза различали все, как днем. Катерина, уже стиснувшая было под одеялом маленький дамский револьвер, про который Грек неуважительно говорил: «Звону больше, чем проку», с облегчением разжала ладонь, увидев сидящего на постели подельника. Вор молча, в упор смотрел на нее. Лунный свет пропадал в его глазах, делая их похожими на пугающие темные трещины.
— Что случилось, Грек? — удивленно спросила Катерина, приподнимаясь на локте. — Шухер, надо тикать?
— Все тихо, — хрипло сказал он, и Катерина поразилась тому, каким незнакомым, странным был его голос. — Детка, ничего, ежели посижу?
Изумленная до последней степени Катерина села, не заметив, что кружевная ночная рубашка упала с одного ее плеча, обнажив руку до локтя и грудь. Помолчав минуту, растерянно спросила:
— Грек, а почему… Ой, что ты делаешь?!.
Объяснять Грек ничего не стал, да через мгновение уже отпала и необходимость в этом. Обнаружив вдруг себя в его страшно сильных, горячих, жестких руках, Катерина тут же поняла, что тратить время на вопросы нет смысла. Собрав все силы, она извернулась, высвободила одну руку, схватила со стола оплетенную соломой бутылку кьянти и от души стукнула ею подельника по голове.
… — Деточка, я понимаю слова, — мрачно сказал Грек на следующее утро, сидя в роскошном кресле времен Людовика XV и прижимая к огромной багрово-лиловой шишке рукоятку Катерининого револьвера. — Зачем были нужны такие крайности?
— Я тоже понимаю слова! — отозвалась Катерина, которая стояла спиной к Греку у развороченной постели и яростно бросала вещи в чемодан. — И пошел ты к чертям собачьим, я уезжаю!
— Кого ты ждешь, дура?! — заорал вдруг Грек так, что Катерина, никогда не слыхавшая от подельника даже простого повышения тона, подскочила на месте и уронила на пол серебряный несессер. По полу разлетелись булавки, нитки с иголками и украшения. — Я к тебе под ружьем больше не прикоснусь! Пошла ты к чертям! Но объясни, чего ты дожидаешься?! Каких радостей господних?!
— Валета!!! — завопила и Катерина, сама не ожидавшая, что из глаз тут же брызнут слезы. — Сережу!!! И всегда дожидаться буду, ясно тебе, рукопомойник?!
— Идиотка!
— Сукин сын! — выпалила она, в слезах кидаясь к дверям, вся кипя от бешенства и стыда за то, что так глупо, ни с того ни с сего, разревелась.
Грек поймал подельницу за плечи уже на пороге. Насильно, не обращая внимания на бешеные отбрыкивания, втащил ее обратно в комнату, бросил, как куклу, поперек кровати, сел рядом — и вдруг рассмеялся.
— Бог ты мой, в мои-то годы, кто бы мог подумать… Детка, я прошу прощения.
Катерина, еще не остывшая, недоверчиво уставилась на него мокрыми зелеными глазами. Грек не отводил взгляда, смотрел внимательно, чуть насмешливо, слегка виновато.
— Шутишь? — на всякий случай спросила она.
Он покачал головой, протянул ей руку.
— Не шучу. Нам с тобой еще работать, девочка, а терять твои золотые пальчики из-за его бздыка… — Грек непринужденно указал на свою мотню. — Я еще не выжил из ума. Ну, малышка?.. Повинную голову меч не сечет? Можешь еще раз по башке мне вломить — и пойдем до пристани, время гонит…
— Не могу, жалко, — против воли улыбнулась Катерина, покосившись на вулканическую Грекову шишку. Тот усмехнулся, взял девушку за руку, поцеловал запястье и не спеша вышел из комнаты. Через четверть часа подельники покинули гостиницу, а к полудню были уже на пути в Париж.
За эти годы Катерина почти не вспоминала о сестрах — словно, перейдя невидимую черту, когда она заживо сожгла в запертом доме брата, сразу стала чужой им. Лишь иногда, в каком-нибудь предрассветном сне, девушке виделись родные лица, виделась Грешневка, всегда — летняя, с утопающим в зелени садом, распахнутыми окнами галереи, в которую с тихим щебетом влетали и уносились обратно в небесную голубизну ласточки. Проснувшись, Катерина счастливо улыбалась и в полудреме думала: «Надо бы написать… Хоть Ане в Москву, верно, беспокоится…» Но, поднявшись с постели, она напрочь забывала о своих намерениях — до следующего сна.
* * *
…В Одессу «генерал Морозов с дочерью» приехали в конце октября, в тихий солнечный день. Прижавшись лицом к пыльному вагонному стеклу, Катерина наблюдала за тем, как ползет мимо блеклая, выжженная летним зноем, крытая белесым осенним небом степь, как начинают мелькать каштановые деревья, кусты акации, как серой лентой течет мимо поезда перрон… В Крыму осень была не такой, как московская, здесь еще стояла теплая погода. На перроне повязанные белыми платками торговки с хуторов торговали жареными каштанами и семечками, пронзительные крики «Семачка-а! Каштанчи-ик!» звенели в прогретом последним солнцем воздухе, и Катерина улыбнулась, подумав о том, что сегодня вечером она, может, еще успеет напоследок бултыхнуться в уже совсем ледяное море — под горестные причитания Хеси Пароход: «Ой, вейзмир, ой, с ума мене сведет эта хайломызка, ой, что ты делаешь, вылазь с моря, бандитка, это тебе не май месяц!..» Возвращаясь в Одессу, единственный город, ставший ей родным, Катерина неизменно шла к «свекрови» и жила у нее все время до очередной «гастроли». Грек ворчал, но спорить не пытался.
Когда Катерина вошла в открытую настежь калитку Хесиного домика у моря, хозяйка варила во дворе варенье из последних слив. Девушка отвела упавшую с крыши ей на плечо узловатую, высохшую плеть винограда, остановилась и сказала:
— Хеся, я прехала.
В тот же миг ураганное «Гитенька моя, лахудра!!!» покрыло морской берег, и «свекровь» хлопнулась Катерине на грудь всеми своими восемью пудами, заставив «невестку» прислониться к хлипкому плетню.
— Хеся! Хеся, ты меня раздавишь! Ну, что же ты ревешь?!
— Ой-й, девочка моя приехала! Слава богу, что тебя еще не взяли! — самозабвенно рыдала Хеся, обнимая «невестку» мощными руками и не давая ей пошевельнуться. — Ой, как же я за тобой заскучилась, моя Гитенька…
— Сама ты Гитенька… Дай вздохнуть! Море еще теплое?
— Какое теплое, где оно теплое?! Оно уже как ноги у покойника, Гитька, слышишь?! Ты словишь чахотку, карьера твоя накроется медным тазом, а Грек меня задушит!!! Ты с ним еще не спишь?
Вопрос был привычным, задавался на протяжении трех лет регулярно, и Катерина уже устала злиться, а лишь так же привычно ответила:
— Не дождетесь.
— Ну и дура, — традиционно завершила Хеся — и с воплем кинулась к убегающему через края таза варенью.
Катерина облегченно вздохнула, поставила у крыльца саквояж из дорогой английской кожи и атласный зонтик, купленный в Париже, на минуту скрылась в доме и появилась уже в одной рубашке, на ходу закручивая в узел распустившуюся косу. И помчалась к вечерней воде, увязая в прохладном песке.
— Гитька, холера, убью! — рявкнула вслед Хеся, но было поздно: Катерина уже выгребала навстречу садящемуся в осеннее море солнцу по играющей на коротких волнах золотой дорожке.
Море в самом деле оказалось совсем холодным, и Катерина не стала уплывать далеко, хорошо помня, как несколько лет назад у нее в полуверсте от берега свело судорогой ноги. Ее вытащил тогда, сам чудом не утонув, Валет, и он же взял с нее слово «не урезать за вон те камни без никого». Катерина, державшая это слово до сих пор, с сожалением поглядывая на исчезающий в воде край солнца, повернула к берегу.
Когда она, мокрая, дрожащая от холода, отжимая на ходу волосы, вошла в дом, там уже горела лампа, было пусто и тихо. Подумав, что Хеся, верно, копошится на кухне с ужином, Катерина отправилась в дальнюю комнатку, где «свекровь» стелила ей постель, взяла с кровати расшитое полотенце, вытерла волосы и растерлась сама. Озноб тут же пропал, как его и не было; исчезла и усталость после долгой дороги, тело загорелось и посвежело, и страшно захотелось есть. Катерина потянула носом, с удовольствием отметила, что из кухни пахнет жареной рыбой, надела сухую рубашку, накинула поверх нее шаль и вышла из комнаты.
Она не дошла нескольких шагов до кухни, когда вдруг поняла, что Хеся там не одна: из-за тонкой стенки отчетливо доносился мужской голос. «Грек явился», — с досадой подумала Катерина, собираясь уже вернуться в комнату, чтобы одеться. И тут же поняла, что голос принадлежит не Греку. По спине пробежал холодок опасности. На цыпочках Катерина шагнула к двери на улицу и на всякий случай приоткрыла ее. Затем прокралась обратно, прижалась к стене у тряпочной драной занавески, заменяющей дверь, и прислушалась. Мужчина больше ничего не говорил, но ухо Катерины неожиданно уловило мокрые трубные звуки Хесиного сморкания. Кажется, происходило небывалое: «свекровь» плакала. Более не прячась, Катерина схватила заткнутый за притолоку огромный нож, которым Хеся подрезала виноградные плети во дворе, отбросила за спину волосы и решительно шагнула в кухню.
Первое, что она увидела, — зареванную «свекровь», стоящую у окна и оглушительно сморкающуюся в занавеску. Незнакомый гость сидел за столом ближе к Катерине, но спиной к ней. На звук он быстро повернулся. Свет лампы скользнул по его сожженному загаром лицу, пропал в светлых серых глазах. И Катерина, выронив нож, прислонилась спиной к стене. Низким, чужим голосом проговорила:
— Се-ре-жа-а…
— Катька?.. — хрипло спросил Валет, поднимаясь из-за стола ей навстречу. И больше ничего сказать не успел, потому что Катерина съехала по стене на пол, закинула голову и, задохнувшись, зашлась хриплым горловым воем:
— Сереженька-а-а-а…
Валет, опрокинув табуретку, бросился к ней, неловко схватил в охапку и, зажмурившись, словно от сильной боли, прижал Катерину к себе.
* * *
— … и она тебя ждала, босяк, все три года, как шамашедчая! — сквозь всхлипы и сморкания завершила Хеся рассказ о Катеринином житье-бытье.
Наступила уже глубокая ночь, в окне виднелась луна, продирающаяся сквозь тучи, остро пахло солью и поздним виноградом. На столе, нетронутая, стояла тарелка с остывшим борщом и лежали сморщенные жареные бычки.
Сама Катерина говорить, как ни старалась, не могла: она сидела на коленях Валета, обхватив его, словно обезьянка, руками и ногами, прижавшись намертво, уткнувшись мокрым лицом в его плечо, и даже не плакала — лишь часто-часто вздрагивала всем телом. Она сидела так второй час и отказывалась не только слезть с любовника, но даже поднять голову. Валет, впрочем, не возражал; одной рукой он обнимал плечи Катерины, другой беспрерывно гладил ее растрепавшиеся, еще влажные после купания волосы, уже спутав их в паклю, и на вопросы матери отвечал не сразу и невпопад.
— С полгода как подорвал. До того случая не было. Блатной подрыв получился, с пятью урканами в связке уходили, да какая-то сука сдала, тех фартовых всех уложили, а я… уцелел. Сам не пойму как, от ей-богу, андел божий на крыльях вынес!
— Гитька отмолила, — убежденно произнесла Хеся, кивая на «невестку».
Катерина, никогда в жизни не молившаяся никакому богу, только всхлипнула в насквозь мокрую от ее слез рубаху Валета.
— Ну, и где тебя носило-то полгода эти? — грозно спросила Хеся. — До родной матери не мог сразу же явиться, шлемазл?!
— Сразу же?.. — усмехнулся Валет. — Чтоб прямо у тебя в огороде и повязали? По разным местам вертелся. В Ярославле был, в Казани, в Киеве, в Харькове. В большом городе каторге беглой хоть сховаться есть где. — Валет прижался щекой к волосам Катерины и закрыл глаза. — А чего, я ж спокойный был… Мне шепнули еще в Тобольске, на пересыльном, что Катька моя здесь, с тобой проживает, никуда с Одессы не слиняла. И как она себя блюдет, много раз сказывали.
Катерина вздрогнула: в голосе Валета ей почудилось что-то натянутое, ненастоящее. Но Хеся ничего не заметила.
— И це истинная правда!.. — провозгласила она, словно в Катеринином трехлетнем целомудрии была ее заслуга. — Отчего знать о себе не давал? Девочка, бедная, убивалась, а этот…
Валет хмуро усмехнулся.
— Ну… Ждал, пока шерсть на голове отрастет — это раз. Куда ж я до своей Катьки приду, как та коленка, лысый, она ж с меня слякается…
Катерина подняла голову, посмотрела на Валета красными заплаканными глазами, но ничего не сказала. Валет, намеренно или нечаянно не замечая ее взгляда, продолжал:
— И за Грека мне воры шепнули, — это два. Что Катька с ним в доле работает и в большом уважении теперь.
— И что ж с того? — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, пророкотала Хеся.
Катерина, еще больше отстранившись, пристально, тревожно смотрела в лицо Валета, но тот снова, казалось, ничего не заметил и, в упор глядя на мать, хрипло произнес:
— То, что я не вчера родился. И Катькина красота мне кажную ночь в Сибири снилась. И что ж я, не пойму, что такая баба себя долго не удержит? Что ж я, не помню, сколько ей годов? И, думаешь, Грека не знаю? А уж коли они дела мастрячить вместе взялись, так тут кому угодно ясно станет, что…
Договорить Валет не смог, потому что крепкий, маленький кулак Катерины беззвучно впечатался в его нос. Но она не учла, что бить человека, сидя у него на коленях, окажется весьма неудобно, и поэтому на пол с колченогой табуретки они свалились оба. Катерина очутилась сверху и, надсадно взвыв, отвесила любовнику еще одну затрещину:
— Получай, паскуда!!! Все рыло разобью!!!
— Катька, рехнулась?! — Валет оттолкнул подругу, вскочил, вытер рукавом кровь. — Ты чего, белены объелась?!
— И мало тебе еще, поганцу! — удовлетворенно заметила Хеся, железной хваткой беря Катерину за плечи. — Шчас я ремня принесу да добавлю… Гитенька, девочка моя, успокойся, не заходись, не стоит этот халамидник твоих слезок…
— Значит, я — с Греком?! Я себя не удержу?! — орала не своим голосом Катерина, бешено выдираясь из рук «свекрови» и по-собачьи скаля зубы. — Ах ты, сволочь! Сукин сын, гнида, выродок проклятый, шейгиц, шлемазл, мишигер, аз-ох-ун-вей!!!
— Вейзмир, какая совсем стала еврейская девочка… — пробормотала Хеся, с трудом удерживая бившуюся у нее в руках Катерину и неприязненно глядя в растерянное лицо сына. — Что ты стоишь, несчастье моей жизни? Тикай в окно, бежи в катакомбы, я ее долго не сдержу, годы уже не те… Гитенька! Гитя, подожди, не рвись, пожалей маму!!!
Но тут уж Валет окончательно пришел в себя и пулей вылетел в открытое окно. В тот же миг вырвавшаяся из объятий «свекрови» Катерина с коротким нутряным рычанием последовала за ним. Раздался шелест сухих стеблей подсолнухов, звук порванной материи, треск выдираемой из плетня палки, два ругательства, удаляющийся топот — и тишина.
Хеся тяжело плюхнулась на пол, вызвав сотрясение и звон на посудных полках, вздохнула, пробормотала: «Не дети, а золото…» и тихо рассмеялась.
— Слушай, а что тут у вас делается? — вдруг поинтересовался от двери спокойный, слегка удивленный голос.
Хеся, подпрыгнув от неожиданности, повернулась и увидела стоящего на пороге Грека. Тот непринужденно вошел, сел за стол, отогнал от лампы светляка и уставился на хозяйку.
— Ты чего на полу сидишь — поднять некому? Куда это Валет вдоль берега несется? А Катька за ним с каким-то дрыном? И оба — молча!
— Золото, а не дети, потому и молча… — Хеся оттолкнула протянутую руку Грека и, держась за край стола, с кряхтением начала подниматься сама. — Им не надо, чтобы легаши со всей Одессы сюда сбежались… А ты чего вперся в хату на ночь глядя, бандит?
Грек не отвечал. Свет лампы бился в его карих неподвижных глазах. Хеся пристально посмотрела на вора. Вполголоса спросила:
— Ты-то знал, что Сережа в Одессе?
— Еще утром на вокзале шепнули.
— Так зачем явился?
Грек снова промолчал. Хеся долго разглядывала его, но вор смотрел, не отрывая глаз, на огонек под пыльным треснувшим колпаком лампы.
— Вечерять будешь, коль уж уселся? — поняв наконец, что ответа не услышит, спросила Хеся. — Я борща сварила, а Гитя так и не поела…
Грек кивнул. И, глядя на то, как Хеся снимает полотенце с огромной кастрюли и двигает в ней половником, хрипло произнес:
— И вот скажи мне, какого черта твой выблядок вернулся?
— А ты надеялся, что навечно сгинет? — почти сочувственно проговорила Хеся.
— Было такое, — не таясь, согласился Грек. — Хеська, ведь не стоит он ее…
— Ну, уж это не твое собачье дело! — отрезала та, со стуком ставя перед Греком миску борща и кладя хлеба. — Ты вспомни, сколько девочке лет, старый поц? И сколько тебе?!
— Седина бобра не портит…
— И где там у тебя седина? — с интересом спросила Хеська, становясь рядом и поглядывая на смоляно-черную голову Грека. — Слушай, кобелина, я понимаю, что мои цыцки висючие тебя навряд ли утешат… но разрешаю помацать по старой памяти, ежели поможет. Покуда дети не вернулись.
Грек усмехнулся. Отодвинувшись от стола, последовал было совету, но через минуту, смущенно мотнув головой, снова взялся за ложку.
— Прости, мать, другим разом. Лучше уж жрать буду. Настроение не то.
Хеся понимающе вздохнула, стоя за спиной у Грека и поглаживая его по плечу. Некоторое время спустя, глядя в темное окно, задумчиво произнесла:
— Грек, я тебе вот что скажу. Я шчас сидела, смотрела на них обоих, на Сережу с Гитькой… Вот хоть забожусь тебе, никогда за всю жисть проклятую такого не видала! От них, когда они друг на друга глядят, искра летит! Как от паровоза! Так что ты уж промеж них не встромляйся, — размажет…
Грек, не отвечая, доел борщ. Молча поцеловал Хесину руку, встал, вышел за дверь и бесшумно, как кот, исчез в густой осенней темноте.
Луна, весь вечер прятавшаяся за наползшими со стороны Новороссийска рваными клочьями туч, неожиданно прорезалась между ними длинным палевым лучом, выхватив из темноты полосу выглаженной прибоем гальки, несколько перевернутых рыбачьих шаланд и оседлавшую одну из лодок Катерину. Рядом на песке сидел Валет и, недовольно ворча, прижимал к разбитому носу горсть мокрых камешков.
— Черт… Не унимается…
— Поди в море, умойся, — мрачно отозвалась Катерина. И снова взорвалась яростным шепотом, взмахнув руками и чудом не свалившись с покатого бока шаланды:
— Нет, но какого же черта! Какого черта!!! Как же у тебя совести хватило — такое… такое! Про меня!.. Я три года, как в монастыре, жила! И еще столько же, и трижды столько пробыла бы, ничего без тебя не хотела, никого не видела, а ты!.. О-о-о, проклятый, вот этого я тебе до самой смерти не…
— Катька, ну хва-атит уже… — Валет незаметно отодвинул в сторону лежащий на песке Катеринин «дрын», в запале выдернутый ею из плетня. — Ну, ты же у меня маруха с головой, хоть и молодая, ты хотела, чтоб я думал?! С твоей-то мордой чтобы баба себя сохраняла? Да еще с Греком на прицепе?! От спроси кого угодно из воров, все до единого то же самое бы в голову взяли…
— Вот все вы и есть сволочи! Распоследние! Все до единого! — бушевала Катерина. — И пожалуйста! И не надо! И очень-то нужно, и ты мне ни к чему, вали назад на свою каторгу, сдохни там — не заплачу! Небось еще хотел и бубну мне выбить первым делом, как вернешься!
— Вот уж чего в мыслях не держал! — с искренней обидой огрызнулся Валет. — Катька, у меня же там дня не было, чтоб я про тебя не вспомнил! Часу не проходило, чтоб не подумал! Все три года! За кажным деревом тебя видел! Уж глаза закрываю — и все равно вижу, как ты стоишь, глазюками своими зелеными стрижешь… А как мне год назад воры с пересыльного рассказали, что ты к Греку пристроилась… Я сперва чуть с тоски не подох, в глазах темно было, уж совсем вешаться собрался. А потом репу почесал, подумал: может, оно и слава богу?.. Мне ведь назад ходу не будет, а что же Катьке моей на корню сохнуть? В восемнадцать-то годов? С ее-то глазами гибельными? Нехай хоть с Греком… Все ж-таки не гопник с Молдаванки, а серьезный вор… Одну ее не оставит, поможет, делу правильному научит… Я ж ушел — ни гроша тебе не сбросил, как бы ты жила?.. Подолом по Французскому мести бы ведь не стала, не таковская…
— Дурак, боже мой, что за дурак… — шептала Катерина, закрывая лицо руками и чувствуя, как сквозь пальцы, обжигая их, бегут слезы.
— Катька, не плачь! — взмолился Валет. — Ну, дурак, сволочь, назови, как нравится, — не плачь! Не рви душу-то! Ну, прости, прости меня, грешен, прости… Видишь, — на коленях стою? Морду ты мне уж разбила, не скоро заживет, так чего тебе еще надо?..
Катерина протяжно всхлипнула, опустила руки. Валет действительно стоял на коленях прямо на мокром песке, но всю покаянность этой позы сводила на нет его широкая улыбка: белые зубы ярко блестели в лунном свете.
— Тьфу, босяк… — невольно улыбнувшись, буркнула Катерина. И съехала с бока шаланды прямо в протянутые руки Валета. Луна, словно дождавшись этого, снова окунулась в тучи, и море погасло, тихо шепча из темноты набегавшими на берег невидимыми волнами.
— Катька, Катька, Катька-а-а… Помирать стану — не забуду… Помру — не забуду… Ни у кого такой марухи нет… Бог — он в бабах понимает, потому мне и помог… Как бы я там двадцать лет без тебя протянул?..
— Сережа, Сереженька… А я знала… Понимаешь — знала… Чувствовала, что увидимся… Каждый день ждала, никому не верила, не слушала никого… У меня же только ты, ты один, никого больше не нужно, никого на свете лучше нет… Я за тобой и на каторгу, и на дело любое, и на тот свет… Сережка, сукин сын, ну как же, как же ты меня так бросил?!
— Да где бросил, когда вот он я… С каторги сорвался за ради тебя, какого ж еще тебе хрена?! Катька-а… Тьфу, да убери ты свои пуговицы, навертела сверху донизу!.. До сисек не дорвешься! У-у-у, Катька, какая ж ты, Катька моя…
— Сережа… Господи… Счастье мое… Сереженька, не рви… Я сейчас, я сама… Ой, мамочка, господи, а-а-ах!..
Вокруг стояла тишина. Берег был пуст, чуть слышно шептались волны, далеко-далеко, на рейде, светились огоньки парохода. По полосе гальки вдоль берега медленно брела Хеся со свернутым половиком под мышкой. Остановившись в двух шагах от сына с «невесткой», она грозно объявила:
— Возьмите трапочку, байструки, на дворе не май месяц! Ты, босяк, как пожелаешь, а Гитька еще, может, рожать надумает! Подстели под нее и делай дальше что хочешь! А я спать иду! Гитька, как мозги в голову вернутся, — приходите до дома, там на столе борщ стынет…
В доносящихся из темноты звуках Хеся не услышала ничего вразумительного, аккуратно положила свернутый половик рядом с шаландой, вздохнула и, тяжело ступая, побрела по гальке домой.
* * *
В середине декабря Москву накрыло небывалым снегопадом. Снег шел, не останавливаясь, целую неделю, равнял бугры мостовой, заборы и палисадники, нежным пухом укутывал липы и клены на бульварах, мягкими комьями оседал на окнах, заваливал крыши низеньких домиков Замоскворечья и карнизы дворцов Тверской и Пречистенки. Дворники не успевали очищать тротуары, на улицах образовались привычные москвичам ухабы, по которым, как по волнам, вверх и вниз летали извозчичьи сани, а снег все шел и шел — то сплошной метелью, то мелкой крупой, то мягкими пушистыми хлопьями. Близились Святки.
— В такие дни надо репетировать «Снегурочку», а не «Онегина», правда же, дамы? — весело сказала Нина Дальская, прижимая вздернутый носик к пыльному стеклу репетиционного класса, за которым зависла сплошная снежная пелена. — Где же наш Афанасий Хрисанфыч? Не иначе, в метели заблудился! Сейчас нам отменят репетицию, и мы всем составом отправимся искать в сугробах замерзающего Хрисанфыча, а потом — в кондитерскую есть пирожные! Вот бы было весело!
Софья невесело улыбнулась, отошла от окна и села за раскрытый рояль. Но не успела она взять нескольких аккордов каватины из «Снегурочки», как от стены послышалось недовольное:
— Оставьте, ради бога, инструмент, мадемуазель Грешнева! Вы мне мешаете настраиваться!!!
— Извините, — виновато проговорила Софья, снимая руки с клавиш.
Первое сопрано Большого Императорского театра Аграфена Нравина пронзила ее ледяным взглядом, встала и демонстративно направилась к выходу из репетиционного класса. Уже на пороге она громко произнесла:
— Откуда только Альтани набирает в театр этих… провинциальных куплетисток?!
Софья вздохнула. Как только за Нравиной закрылась дверь, Нина Дальская подбежала к ней и сочувственно сказала:
— Не огорчайтесь, Сонечка, Нравина просто очень переживает… Татьяну всегда пела только она, и…
— Я понимаю, — искренне ответила Софья. — Как же это нелепо вышло, боже мой… И ведь я ходила к Альтани, объясняла, просила… Бес-по-лез-но!
— О, да, да, мы все это знаем! — закатила глаза Нина. — С ним так тяжело… «Не спорьте, мадемуазель, а выполняйте указания дирекции! Вы в Большом императорском театре, а не в балаганной оперетке в Виннице!»
Стоящие вокруг хористки прыснули, а Софья, грустно улыбнувшись, подумала, что как раз винницкая оперетка устроила бы ее, наверное, гораздо больше. Но не говорить же такое здесь, в этом храме искусства, черт бы его побрал…
Про себя она уже сотню раз прокляла тот день, когда отправилась на прослушивание в Большой театр. Отправилась без всякой надежды, почти уверенная, что ее не примут, и вот… Она уже должна петь Татьяну, свою первую большую партию после Виолетты в Неаполе, и кто бы мог догадаться, в каком Софья находится отчаянии! А ведь она уже совсем было собиралась уходить из Большого…
Софья сама не понимала, что с ней. Четыре года назад она прекрасно себя чувствовала в крохотной провинциальной труппе ярославского театра, играя шекспировских героинь для неграмотных купцов. Софья была бесконечно счастлива те недолгие летние месяцы в театре «Семь цветов Неаполя», где ей неожиданно пришлось спеть «Травиату» и иметь такой оглушительный успех, какого, по признаниям всей труппы, театр еще не видел. Но здесь, в прославленном театре России, о котором безнадежно грезили провинциальные примадонны и восторженные дебютантки, в театре, поступление в который не составило для нее никакого труда, Софье оказалось невыносимо тяжело. В первые месяцы это еще можно было отнести на счет неуверенности в себе, но сейчас, столько времени спустя… Почему ей здесь так плохо? Софья этого не знала, не могла понять, как ни старалась, а посоветоваться было не с кем.
Несмотря на то, что ее прослушивание три года назад прошло на «ура» и молодую актрису сразу же приняли в сольный состав, больших партий Софье не давали. Ей и в голову не приходило сожалеть об этом, поскольку она искренне считала, что до первых голосов театра ей далеко. Софья по-настоящему восхищалась великолепным, прозрачным сопрано Нравиной, потрясающим богатством оттенков меццо-сопрано Нежиной, совершеннейшим итальянским бельканто Самойловой и на всех репетициях признанных прим сидела в уголке огромного, пустого зрительного зала, получая удовольствие от каждой взятой ноты. Сама она пела Мальфриду в «Рогнеде», Ольгу в «Русалке», Гориславу в «Руслане и Людмиле» — это все были небольшие партии для колоратурного сопрано, которые не могли вызвать ничьей зависти. Временами Софья без капли сожаления думала о том, что, наверное, настоящей певицы и актрисы из нее не получится никогда. За годы, проведенные на подмостках, она уже успела понять, как тяжел и неблагодарен путь талантливых женщин, сколько им приходится терпеть, скольким жертвовать, в каких интригах участвовать, на какие унижения идти… и ради чего?! Ради цветов, оваций, бенефисов? Ради бесконечных вызовов, восторженного рева публики, толп поклонников? Но, боже всемилостивый, что же во всем этом привлекательного?! Софья не понимала. Разумеется, и восторги, и аплодисменты были приятны; конечно, цветы в уборной поднимали настроение, но… Софья точно знала про себя: ради обожания публики она никогда в жизни не стала бы участвовать в хитро сплетенной закулисной интриге и говорить за глаза гадости о сопернице. Ей было отвратительно это до дрожи.
До сих пор Софья не могла без острой боли вспоминать Машу Мерцалову из ярославского театра, которую так долго считала подругой и которая предала ее не задумываясь из-за тысячи рублей и мужчины, никогда не любившего ее. И Софья тихо радовалась тому, что ей позволено петь маленькие партии, получать огромное удовольствие от репетиций, приходить каждый вечер на спектакль, даже если она не была в нем занята, и знать, что в крайнем случае она сумеет прокормить себя сама.
Но идиллия оказалась недолгой: в скором времени Софья, ничуть того не желая, испортила себе отношения со всем сольным составом. Это случилось, когда от имени артистов театра было составлено прошение на высочайшее имя с просьбой о повышении жалованья. Несмотря на помпезность Императорского театра, актеры и в нем зарабатывали крошечные деньги. Более-менее приличное существование могли вести лишь главные солисты и те из певиц, у которых были состоятельные покровители, а не привычные всем нищие любовники из теноров. Софья прекрасно это понимала и как никто другой чувствовала значение презренного металла в человеческой жизни. Всю свою молодость, до встречи с Мартемьяновым, она, как ей казалось, только и делала что думала о том, где достать денег. И поэтому, когда к ней в уборную влетела стайка хористок во главе с Ниной Дальской, которая держала в вытянутых руках петицию, Софья тут же согласилась:
— Конечно, подпишу, дайте сюда!
Впоследствии, описывая сестре произошедшую сцену, она сокрушалась: «Господи, зачем я только начала читать эту бумагу! Будто бы больше делать нечего… Сидела б да гримировалась одной рукой, а другой бы подписывала, так нет! Захотелось прочесть! И ведь все, все подписи уже там стояли: и Самойловой, и Нежиной, и Заремина… И даже Нравиной, у которой сам великий князь, по слухам… Впрочем, неважно. А я опять, как дура… Но, Аня, слово чести, подписывать это было просто невозможно!»
По сей день Софья не могла забыть того чувства бесконечной брезгливости и недоумения, которое испытала, читая аккуратнейшим образом выведенные на веленевой бумаге строки. «Мы, покорнейшие рабы и слуги престола российского, припадаем к ногам отца нашего… нижайше просим… падаем ниц и умоляем…» Софья, чувствуя, как у нее темнеет в глазах, отдала Нине бумагу и твердым голосом сказала, что подписывать ЭТОГО не будет.
Нина лишилась дара речи. Некоторое время она стояла молча, открывая и закрывая рот, как вытащенная из воды рыбка, и во все глаза уставившись на побледневшую Софью. Затем, переглянувшись с такими же ошарашенными подругами, пискнула:
— Но… почему?! Ведь это же для всех нас… Не только для хористок… Сонечка, это ведь просто прошение, вы, возможно не поняли, вы новый человек…
— Я все отлично поняла, — отчеканила Софья железным тоном, который появлялся у нее крайне редко и которым, как она сама подозревала, сестры Грешневы были обязаны отцу — боевому генералу. — Я не стану участвовать в подобном фарсе. Я не могу в подобных выражениях выпрашивать денег, это унизительно.
Нина вытаращила от ужаса глаза и, так и не найдя подходящих слов, молча выскочила из уборной. Вслед за ней роем бабочек вылетели и хористки, Софья осталась одна. Через мгновение она поняла, какую страшную, непоправимую ошибку совершила только что.
«Дура… Господи, несчастная дура, что ты о себе возомнила? Кто ты такая? Содержанка, камелия, публичная девка, четвертый год живешь с купцом, и все об этом знают! Жить с мужчиной за деньги не совестно, а подписать дурацкую бумажку, от которой стольким людям может быть польза, — противно! Что теперь о тебе заговорят, что подумают! Боже, четыре года проиграть на подмостках и так ничему и не научиться…»
Опасения Софьи получили подтверждение в тот же вечер. Большой императорский театр гудел, как растревоженный улей, имя несносной гордячки-новенькой склоняли на все лады. Прямо в присутствии Софьи, не стесняясь, говорили о том, что некоторым, разумеется, незачем думать о деньгах, имея щедрого покровителя… а вот подлинным служителям искусства, увы, приходится беспокоиться… но разве эти куртизанки в состоянии понять… Мужчины поглядывали на молодую актрису кто с интересом, кто с неприязнью: все они тоже подписали злополучное прошение. Нравина и Самойлова демонстративно не ответили на Софьин поклон, а Нежина даже покинула репетиционный класс, когда Грешнева в нем появилась. Софье пришлось собрать в кулак всю волю, напомнить себе, что, как бы то ни было, а она графиня и это обязывает, остаться на вечерний спектакль и спеть Ольгу в «Русалке» так, что ее даже дважды вызывали. А после представления к усталой и расстроенной Софье, переодевающейся в своей уборной, вдруг прибежала Нина Дальская и шепотом произнесла:
— Сонечка, не расстраивайтесь, вы просто умница! Честно говоря, мы тоже были возмущены… но раз подписали Заремин и Нравина, как же мы могли… Мы испугались, а вы — нет! Вы и есть настоящая артистка, я так и сказала сегодня в кулисе Аничкиной, а Аничкина ответила, что все это, конечно же, так, но вот только Нравина…
— Нина, милая, я виновата, — огорченно перебила ее Софья. — Я не должна была, люди правы, это важно для труппы, не у всех есть… — она запнулась, но Нина поняла и прыснула:
— Не у всех есть, но все желают приобресть!
Софья невольно усмехнулась, и подруга тут же просияла:
— Ну вот и слава богу! Не огорчайтесь, поболтают, пошумят и забудут! А бас Горелов, между прочим, сегодня на весь класс сказал, что вы правы и что он сию низкопоклонническую бумажонку тоже подписывать не намерен! Но Горелов же — это Горелов, его в «Ла Скала» выписали на будущий сезон, так зачем ему жалованье, он…
— Нина, ради бога!.. — взмолилась Софья, у которой уже трещала голова от усталости и переживаний.
Дальская, кажется, поняла это и юркнула за дверь, напоследок сообщив заговорщическим шепотом:
— А насчет Нравиной вы вовсе не волнуйтесь, она так злобствует лишь потому, что боится, будто вы возьмете ее партии, а она…
— Я — партии Нравиной?! — теперь Софья рассердилась по-настоящему. — Нина, вы с ума сошли! Что за бред!!! Не смейте это никому повторять, иначе я…
Но Дальская уже исчезла за дверью, и только из коридора до раздосадованной Софьи донесся ее звонкий смех.
Прошло несколько недель, злополучная история с петицией понемногу начала забываться и даже прибавила Грешневой уважения среди молодой части труппы. Примы снова начали раскланиваться с ней, хотя и крайне надменно, но Софью это не оскорбляло: она хорошо знала театральную субординацию. В начале зимы Нина Дальская принесла на хвосте умопомрачительную новость, которую она, по ее словам, подслушала у дверей кабинета дирекции и которую поведала под страшным секретом только Софье. Новость действительно оказалась замечательной: дирижер Альтани говорил балетмейстеру, что партию Купавы в новой опере «Снегурочка» намерен «попробовать» с Грешневой.
— Нина, этого не может быть, — решительно произнесла Софья, выслушав пищащую от восторга подругу. — У Купавы большая партия, а я в театре всего третий год, мне не дадут.
— Сонечка, передаю как слышала! И больше — никому, чтоб не сглазить! Ой, дай боже, чтоб вам повезло, у вас ведь такой голос, такой голос!!! Вот споете Купаву, выйдете в ведущий состав, и эта Нравина наконец захлопнет свою хавирку!
— Нина!!! — ахнула шокированная Софья.
Дальская тихо рассмеялась и, нагнувшись, шепнула на ухо подруге:
— Папенька, знаете ли, держал скупку подержанных вещей в Свиньином переулке, прямо возле Хитровки, так чего только я в отрочестве не наслушалась… Удачи вам, Сонечка, я буду держать за вас кулаки!
Нина умчалась, Софья посмеялась немного и тут же забыла о сказанном. Но несколько дней спустя, находясь одна в пустом репетиционном классе (аккомпаниатор где-то задерживался), она забавы ради села за рояль и начала напевать арию Купавы из первого действия.
Ария была красивой и, как и исполненная ею когда-то партия Виолетты, писалась для колоратурного сопрано, но Софья не сомневалась, что споет ее без труда. Преподавательница Софьи из Неаполя, госпожа Росси, в свое время уверяла свою воспитанницу, что, научившись петь бельканто, любую русскую оперу «с ее кошмарными, тяжелыми средними регистрами, cara mia!» она исполнит с легкостью. И Софья чувствовала, что это в самом деле так. Во всяком случае, напевая сейчас арию Купавы, она не испытывала ни малейших затруднений на верхних нотах и, обрадовавшись, запела в полный голос, все громче и громче, увлекаясь звонкой, светлой, беззаботной мелодией: Купава, утешая безнадежно влюбленную Снегурочку, не может скрыть своего счастья — она ждет жениха, Мизгиря. Беспечно нащупывая голосом высокие ноты, Софья от души взяла головокружительное «ля» верхнего регистра, держала его до последнего… и опомнилась, лишь услышав мягкие аплодисменты от дверей. По спине пробежали мурашки; она испуганно сняла руки с клавиш рояля и обернулась. На пороге стоял Альтани, а из-за его спины выглядывали изумленные лица артистов.
— М-м, недурно, мадемуазель Грешнева, весьма недурно, недурно, недурно… — задумчиво пробасил Альтани, резким жестом оборвав Софьины неловкие извинения. — Я уж вижу, что вы сами себе аккомпаниатор. А ну-ка, освободите инструмент…
Смущенная донельзя Софья встала из-за рояля. Альтани по-хозяйски уселся за него, взял несколько аккордов и невозмутимо попросил:
— Ну, коль уж вы сами так замечательно распелись, то давайте-ка мне сейчас арию Татьяны. Вот эту, из первого действия, «Пускай погибну я…»
Софья машинально, не задумываясь, взяла дыхание. И тут же вспомнила, как лет пять назад, когда еще все они были вместе, Анна примчалась в Грешневку после первой постановки «Евгения Онегина» в стенах Московской консерватории. «Соня, Чайковский написал оперу по «Евгению Онегину». Я была на премьере, это такое чудо, послушай…»
Арию Татьяны Софья выучила с напева сестры и именно ее исполнила в ярославском театре, добиваясь приема в актерский состав. Позже, уже в Париже, она пела ее в гостинице, собрав под окнами целую толпу зрителей. И даже синьора Росси, профессор бельканто, весьма пренебрежительно относящаяся к русской опере, прослушав в Софьином исполнении арию Татьяны, вынуждена была признать, что «этот ваш Чайкоффски небезнадежен, veramente!»
Софья пела привычно, не затрудняясь ни на минуту на любимых высоких нотах, но к середине уже начала чувствовать, что происходит что-то не то. К концу арии она убедилась в этом окончательно. А когда прозвучали последние ноты, Софья мельком взглянула на двери, увидела белое, как стена, застывшее лицо Нравиной, широкую улыбку Ниночки Дальской и поняла: только что сделана одна из самых больших ошибок в ее жизни.
— Та-а-ак… — протянул Альтани, поворачиваясь к Софье и внимательно, словно впервые увидев, вглядываясь в ее взволнованное лицо. — Та-а-ак… Сколько вам лет, мадемуазель Грешнева?
— Двадцать два.
— Недурно, недурно. Что ж, в кои-то веки Татьяна в Большом театре будет несколько… м-м… соответствовать своим годам.
— Иполлит Джакомович!!! — ужаснулась Софья, увидев перекошенное лицо Нравиной. — Вы же не хотите сказать, что…
— Я ничего не собираюсь говорить, — брюзгливо отозвался Альтани. — Я жду вас в классе завтра в эти же часы, попробуем посмотреть всю партию. И если посмеете опоздать, отправлю в хор! Уж эти мне утренние репетиции, никогда не дождешься вовремя певицы! «Ах, я устала, я проспала, я пела спектакль…» Ничего не знаю, чтобы в десять как штык!!! — И он быстрым, слегка подпрыгивающим шагом покинул класс.
Как только за дирижером закрылась дверь, к Софье кинулись молодые актрисы, и от урагана восторженных воплей, поздравлений, советов и смеха у нее чуть не отказали ноги. Падая в кресло у стены, она еще успела заметить, как Нравина в окружении своих подруг покидает комнату, и тут же вскочила снова.
— Соня, куда вы?! — схватила ее за руку Ниночка Дальская.
— Как куда?! Господи, зачем же… Я должна бежать, сказать, что не хотела этого… Я ведь не хотела, Нина, честное слово! Что теперь подумает Аграфена Ильинична, да я же… Я никогда не собиралась петь Татьяну, у меня в мыслях не было…
— Соня, это глупо! — решительно заявила Нина, силой удерживая рвущуюся к дверям Софью, в то время как остальные актрисы с изумлением наблюдали за происходящей борьбой. — Такой случай бывает раз в жизни, грешно им пренебрегать, к тому же… здесь все свои, и я скажу… Ведь Нравиной уже за сорок, и очень сильно за сорок. Слов нет, ее сопрано просто бесподобно, но, знаете ли… когда она в сцене с няней так решительно усаживается в кровать всеми шестью пудами и развешивает на две стороны свои коровьи…
— Нина!!! — в ужасе завопила Софья, но ее крик утонул в дружном хохоте десятка девушек. К тому же хорошее воображение Софьи сразу нарисовало предложенную подругой картину, и она невольно улыбнулась.
— Все в свое время, милая, нужно уметь достойно приходить и… достойно удаляться, — важно заявила Нина, когда все отсмеялись. — К тому же вы состоите на жалованье, и приказ дирижера театра для актрисы закон! Так что придется завтра быть в классе в назначенное время, и помоги вам господь!
Примерно то же самое сказала Анна, когда Софья, кое-как одетая, бледная, со слезами на глазах ворвалась к сестре и с порога поведала о своем очередном несчастье.
— Соня, Соня, как тебе не стыдно гневить бога! Когда ты сюда вбежала в салопе наизнанку и без платка, я подумала, что тебя твой ватажный атаман выгнал из дома! А тут… Надо же радоваться, дорогая, ведь такое случается раз в сто лет! Ты будешь петь Татьяну, боже, я просто не могу поверить!
— И я! И я не могу поверить! — Софья, сбросив прямо на пол действительно вывернутый наизнанку салоп, бурно рыдала на диване. — Боже мой, ну почему со мной всегда случается то, чего я вовсе не желаю! Чего я всеми силами стараюсь избежать! Аня, но хоть ты пойми, что я не готова, не готова петь Татьяну! Ведь это вершина оперной музыки, певицы всеми силами добиваются этой партии, работают, совершенствуют голос, технику, диафрагму… В двадцать два года просто нельзя петь Татьяну, я…
— Ты в девятнадцать лет прекрасно спела Виолетту! В Неаполе!
— О-о-о, дался вам всем этот Неаполь, будь он проклят… Зачем, зачем я тебя послушала и пошла в Императорский театр! Лучше бы играла в провинции какую-нибудь «Гонимую добродетель»… Теперь по прихоти Альтани в театре начнется раскол, все примутся шипеть по углам, Нравина меня в конце концов отравит и будет права, поскольку…
— Соня, рано или поздно через это проходит любая женщина, — грустно произнесла Анна, садясь рядом с сестрой. — Мы, к сожалению, не можем блистать вечно. Любая красавица неизбежно превращается в собственную сушеную или расплывшуюся карикатуру… Самая гениальная актриса или певица с годами потеряет голос, красоту, возможность играть в полную силу… Что ж, такова наша жизнь. Этого нельзя избежать, как нельзя избежать смерти, и, если Аграфена Нравина не совсем глупа, она должна все понять правильно.
— Аня! Нравина — любимица Москвы, в сорок лет рано думать о конце карьеры, многие певицы только в этом возрасте и получают главные партии…
— Вот видишь, видишь, как тебе повезло! И перестань, ради бога, думать, что это незаслуженно! Я знаю твое сопрано, оно великолепно! Это признали Париж, Неаполь, и теперь признает Москва!.. — Анна вдруг, к страшному испугу Софьи, расплакалась.
— Аня, Анечка, милая, родная, что ты, что с тобой?.. Я тебя так расстроила?..
— Нет, Соня… я не об этом. Я просто подумала, что, может быть, бог вспомнил о нас, Грешневых… В конце концов, мы не виноваты, что так сложилась жизнь, что все мы оказались прокляты. Сергея давно нет, я — продажная женщина, Катя — мошенница и воровка, ты — на содержании у подлеца, из-за которого не можешь жить с любимым человеком… Я подумала — вдруг это подарок судьбы для тебя? Возможность вырваться из проклятого круга? Хотя бы ты, ты одна… Представь, ты станешь знаменитой, будешь петь в России, получать ангажементы из-за границы, специально для тебя станут писать оперы лучшие композиторы…
— А-а-аня… Я и не думала, что у тебя такая фантазия… — сквозь слезы улыбнулась Софья. — Уж кто-то, а мы с тобой знаем, что чудес не бывает. В одном ты права: нужно успокоиться. Когда я завтра приду к Альтани и объявлю, что отказываюсь от партии, у меня должна быть ясная голова.
Анна в упор посмотрела на сестру, встала во весь рост и отчеканила:
— Соня, не смей этого делать! Я твоя старшая сестра, ты должна меня слушаться! Есть вещи, которые я понимаю лучше тебя!
— Моя оперная карьера, например?! — попыталась взбунтоваться Софья, но бунт был подавлен на корню.
— В первую очередь!!! Ты еще молода, ты не знаешь людей, не понимаешь собственного таланта, и я не прощу себе, если ты загонишь его в землю! И если ты меня не послушаешься, мы поссоримся раз и навсегда!
Софья вздохнула. Тоже встала, подошла к сестре и обняла ее за плечи.
— Аня, всё, что угодно, только не ссора с тобой. Но ты еще убедишься: мы совершаем большую ошибку.
— Это ты убедишься, что нет, дурочка. Идем пить чай и поговорим заодно о Чайковском. Знаешь, я ведь была ему представлена на первом исполнении «Онегина» в консерватории. Правда, не уверена, что он меня помнит, но… Это был такой волнительный момент! Я, как гимназистка, от восторга не могла и двух слов сказать. А Петр Ильич был очень любезен! Наверное, он решил, что графиня Грешнева мало того что имеет подмоченную репутацию, так еще и круглая дура… Как это жаль!
На другой день Софья в назначенное время стояла возле рояля, за которым сидел Альтани. За десять уроков с концертмейстером она выучила всю партию, еще две недели ушли на спевки с исполнителями других партий, и начались репетиции с оркестром и подготовка к спектаклю.
Софья как в воду глядела, когда убеждала сестру, что в театре произойдет раскол. Труппа распалась на два лагеря: в первом, довольно обширном, находились друзья и поклонники Нравиной, этой действительно великолепной актрисы, двадцать лет сводящей с ума Москву и Петербург, пропевшей несколько сезонов в Ла Скала и Гранд-опера, имеющей за плечами «Русалку», «Аскольдову могилу», недавнюю премьеру «Мазепы» и, разумеется, «Евгения Онегина», который два года назад впервые исполнялся в Большом, и за дирижерским пультом был сам Чайковский. Кроме того, Онегина пел Осип Заремин, муж Нравиной, с которым она не расставалась уже много лет. Злые языки утверждали, что их союз неразрывен лишь потому, что Осип Михайлович весьма снисходителен к романам блистательной супруги и в упор не желает замечать ее связи с одним из великих князей, о коем по всей Москве ходили эпиграммы.
— Боже мой, Нина, что же это такое?! — паниковала Софья, оставаясь наедине с подругой. — Я должна буду петь с Зареминым? С мужем Нравиной?! Ведь это же просто провокация! Я знаю, что Осип Михайлович ходил просить Альтани о том, чтобы Онегина дали кому-нибудь другому, и он прав, он благородный человек!
— О-о, нет, Соня, это не благородство, а закон самосохранения! — давясь смехом, возражала Нина. — С тобой Заремину петь лишь три часа, а с Нравиной мучиться всю оставшуюся жизнь… если ему здоровье позволит. Представляешь, какое существование Аграфена Ильинична ему сейчас устраивает, а ведь Заремин, бедный, не отвечает за решения дирекции! Видишь, он даже готов был отказаться от Онегина, а это его звездная партия, Заремина в день премьеры выносили из театра на руках, двадцать два вызова, чуть потолок не рухнул от овации! Манечка Федорина из хора живет с ними у одной хозяйки, так, не поверишь, она уверяет, что дом трясется от нравинской истерики каждый вечер! А кому это все приходится выслушивать? Заремину!
— Боже мой… — содрогалась Софья. Она уже не раз пыталась осторожно убедить Альтани, что вовсе не желает… не чувствует себя готовой… боится сорвать голос в сложной партии… Но старик дирижер был неумолим:
— О степени готовности вашего голоса, мадемуазель, позвольте судить мне! А если вы не желаете исполнять решения дирекции, то получите в кассе расчет и идите в оперетту к Лентовскому, он, кажется, как раз ищет певицу для «Прекрасной Елены».
— И пойду!!! — взвилась она, хватая с рояля клавир «Онегина» и устремляясь к двери.
— Постойте, мадемуазель!!! — загремел Альтани, и испуганная Софья, выронив ноты, замерла на полушаге.
— Извольте прекратить истерику! И продолжим заниматься! Девочка, поймите же, что вы настоящая Татьяна! Я тридцать лет дирижер этого театра и худо-бедно разбираюсь и в голосах, и в исполнительницах! Я тоже вижу, что сейчас творится в труппе, но поверьте, театр без интриг — не театр! Если вы хотите быть певицей, извольте привыкать и к зависти, и к интригам, и к сплетням! Не можете — ступайте в монастырь петь там «Богородицу»! Вы ни в чем не виноваты, и не сметь указывать дирижеру, занимайтесь своими обязанностями, оссupati dei cazzi tuoi, porca Madonna!
— Misura le parole!!! Che troiata! Diabolo! — заорала и Софья, еще не растерявшая свой запас неапольских ругательств.
От неожиданности Альтани умолк, растерянно поскреб седую шевелюру и вдруг, показав ряд великолепных, белых зубов, рассмеялся. Софья тоже нервно хихикнула, каждый миг готовая обратиться в бегство.
— Вот теперь, деточка, я верю, что вы пели в Неаполе! — отсмеявшись, заявил Альтани. — Ну, бросьте свою ипохондрию — и к роялю, завтра у вас спевка с Ольгой и репетиция с оркестром. Поверьте старому итальянскому горлодеру, это будет ваш звездный час! Умейте думать о себе! Всегда найдется тот, кому будет ножом по сердцу ваш успех, но стоит ли из-за этого переживать? К роялю, девочка! Вы еще увидите Москву у ваших ног!
И Софья с тяжелым вздохом послушалась.
Труднее всего ей давались репетиции мизансцен. В частном неапольском театре, где Софья начинала как оперная певица, синьора Росси уделяла большое внимание желаниям артистов и драматической игре на сцене. Спектакли выходили живыми и увлекательными, певицы получали для премьеры такие костюмы, какие им хотелось, а не те, которые предписывала традиция. Софья до сих пор не могла забыть тонкую, точеную как статуэтка Джемму Скорпиацца в облаке распущенных волос поверх простого, прямого черного хитона в партии Аиды — пленной эфиопской царевны. Помнила она и игру Джеммы, прекрасно сочетающей драматические приемы с пением и создающей тем самым неповторимые образы. Софья, начинавшая в провинциальной труппе, чувствовала себя в драме как рыба в воде, именно это позволило ей три года назад без единой сценической репетиции, почти не помня мизансцен, сыграть Виолетту так, что купол неапольского театра чуть не рухнул от аплодисментов. Ей и в голову не приходило беспокоиться о драматическом рисунке роли, поскольку уж здесь она была полностью уверена в себе. Но первая же репетиция Татьяны разрушила эту иллюзию.
— Софья Николаевна, что вы скачете в постели? Зачем эти телодвижения, для чего надо махать руками?
— Но… Я же вовсе не машу… — растерялась Софья. — Ведь Татьяна… Она же пишет любовное письмо, она волнуется! Надобно сидеть как столб?
— Сидите как положено! Ваше дело петь, а не прыгать по кровати, вы собьете дыхание, да и зрителю будет смешно…
Ничего не понимающая Софья решила на всякий случай не спорить с дирижером, чинно выпрямилась в постели и пропела волнующую, полную надежды и отчаяния арию Татьяны не двигаясь, словно кол проглотила.
— Вот и чудно! — удовлетворенно произнес Альтани. — Видите, как все замечательно получается, когда вы сосредотачиваетесь только на пении? К чему, деточка, — привносить балаганные замашки в чистое искусство? Ваше сопрано такого восхитительного тембра, что вы не нуждаетесь в этих размахиваниях руками, передавайте все голосом, голосом!
— Тогда зачем в опере нужны декорации, костюмы, мизансцены?! — взорвалась, не стерпев, Софья. — Я могу выйти на пустую сцену в своем платье-грогрон и, стоя возле рояля, исполнить арию! Только голос — и более ничего, если вам угодно! Драматическая игра нисколько не мешает пению, напротив!..
— Извольте выполнять указания дирижера, госпожа Грешнева! — голос Альтани мгновенно стал ледяным. — Множество певиц пели до вас в опере, и, смею напомнить, неплохо! И обходились без дешевых кривляний и ужимок! Драма — это драма, опера — это опера, смешивать их вульгарно, и кончим на том, basta!
Кое-как Софья допела до конца, но настроение у нее пропало. Проведя дома бессонную ночь, она решила более не спорить с опытным дирижером и на последующих репетициях самоотверженно старалась не допустить «вульгарных кривляний», уделяя внимание лишь красоте и силе звука. Альтани был в восторге, сама Софья — в ужасе, и, прибегая после к сестре в Столешников, она отводила душу.
— Аня, это просто кошмар, ужас какой-то! Я не понимаю, не понимаю, почему Татьяна должна стоять возле Онегина как статуя, с неподвижными руками и лицом?! Почему она должна писать любовное письмо, словно прошение в казенную палату?! Чем может помешать драматическое решение роли?! Я знаю, что так было бы лучше. Синьора Росси всегда поощряла драматическую игру, которую зал принимал с восторгом, да оно и понятно, ведь это же театр, спектакль, а не концерт в консерватории, в театре должны ИГРАТЬ!
— Соня, в каждом театре свои законы и традиции… — осторожно говорила Анна, вглядываясь в бледное, осунувшееся за последние дни, несчастное лицо сестры. — Альтани великий дирижер, он, я полагаю, знает что делает, если он считает…
— Да, да, да! Он считает, но я-то не могу! Если бы я начинала в опере! Но я играла в драматическом театре, я не понимаю, как можно неподвижно стоять на сцене, я теперь только и занимаюсь тем что слежу за каждым своим движением, чтобы, не дай бог, не сделать лишнего! Я не могу увлечься, не могу отстраниться, и это лишь мешает мне петь! Боже мой, я сорву премьеру, и Альтани успокоится наконец! И Нравина тоже! И ты!
Ко всему прочему, за неделю до премьеры, в разгар Софьиных терзаний, приехал из Костромы Мартемьянов.
Софья вернулась домой после «Русалки», поздно ночью, усталая и злая: пока она пела свою партию на сцене, кто-то из прихвостней Нравиной щедро измазал гримом ее черное платье, и, несмотря на все усилия костюмерши, Ниночки Дальской и самой Софьи, удалить отвратительные белесые разводы с ткани не удалось. Платье погибло безвозвратно. В другое время это не слишком бы расстроило Софью, но бессмысленная гадость, сделанная соперницей, оказалась последней каплей в чаше сомнений, отчаяния и нервотрепки, и всю дорогу домой молодая женщина, несмотря на мороз, плакала навзрыд. Если б не собственные слезы, она, разумеется, заметила бы огромные, облепленные снегом сапоги Мартемьянова, которые были брошены на пол и занимали, чудилось, половину передней. Но Софья, не обратив на них внимания, машинально перешагнула лужу из растаявшего снега, прошла в гостиную, недоуменно позвала: «Марфа!»… и застыла, услышав из кухни тихие голоса. С минуту она прислушивалась. Затем как можно тише скинула ботинки и, осторожно ступая по скрипучим половицам, прокралась по коридору к кухне.
Из-за полуоткрытой двери выбивался желтый свет лампы, пахло пирогами с картошкой, крепким табаком, звучали негромкие голоса.
— … и непонятно даже, зачем вовсе на эту Татьяну соглашаться было! — ворчливо жаловалась Марфа. — Никакой радости, кроме гадости! Кажин день лавровишневые капли глотает, плачет и жалуется, что это не ейное призванье! А рыдать в нашем с Софьей Николавной положенье очень даже вредно, голос сядет, а то и вовсе пропадет, а энта ведьма Нравина только рада будет! Примадонна липовая, поперек себя ширше, зад за три дня верхом не обскачешь! Уж о душе пора подумать в ее годы-то, а все Татьяну распевать рвется! Тьфу, срамота!
— Может, поприжать ее, эту примадонну-то? — донесся до Софьи задумчивый бас Мартемьянова. — Оно у меня не задержится… Ночи сейчас темные, по морозу и до околоточного не докричишься, а мои ребята и не такое срабатывали…
— Побойтесь бога, Федор Пантелеевич, не грешите… — помолчав, с явным сожалением отозвалась Марфа. — Кабы этак просто все было, я б и сама Нравиной личность кулаком-то разворотила. Мне это сильного поту не выбьет, но ведь что люди-то скажут? Они скажут, что Софья Николавна этаким неправедным путем в примы рвется, кромешников нанимает, а к чему же нам лишняя напраслина? Анна Николавна вот считает…
Но тут уже Софья очнулась от столбняка и закричала, врываясь в кухню:
— Марфа, Федор, вы с ума сошли! Что это за разбойничьи прожекты?! Мало мне того, что…
Договорить Софья не смогла, потому что Мартемьянов тут же встал, и не успела она оглянуться, как уже оказалась намертво притиснутой к его широкой, твердой, будто железной груди, а в нос ударил знакомый запах лошадиного пота, табака и дегтя. По опыту зная, что пытаться освободиться от этих объятий совершенно бессмысленно, — по крайней мере, в первые мгновения, — Софья вздохнула и покорилась неизбежному. Через минуту она жалобно попросила:
— Федор, отпусти, ради Христа, ты мне сломаешь ребра…
Мартемьянов слегка ослабил хватку, но Софью из рук не выпустил.
— Соскучился я, Соня, ты бы ведала как… И дел толком не закончил, бросил на половине, полетел сюда… И гляди ты, вовремя! Марфа тут жалуется, что тебя в твоем тиятре замордовали совсем…
— Марфа, как не стыдно… Федор Пантелеевич, ты ее не слушай, — через силу улыбнулась Софья. — Обычные театральные интриги, без которых ни одна премьера не обходится. Такая уж наша комедиантская судьба.
— А коль обычное дело, так что ж ты зареванная пришла? — спокойно спросил Мартемьянов, но Софья сразу увидела в его черных глазах знакомый недобрый блеск. Вздрогнув, она поспешно сказала:
— Ах, это… Вообрази, полкоробки пудры высыпала прямо себе на платье! Взгляни, на что оно теперь похоже, только выбросить!
— Ну и выброси да три новых купи. — Мартемьянов даже взгляда не перевел на испорченное платье, продолжая смотреть в глаза Софьи. — Что-то я не припомню, чтоб ты из-за шмотьев когда ревела, Соня.
— Что ж, люди меняются… я испортилась, видимо, от жизни с тобой, — попыталась отшутиться она, явственно чувствуя, что попытка эта не удается: обмануть Мартемьянова всегда было очень трудно.
— Марфа, что же ужинать?.. — торопливо произнесла Софья. — Я голодная, как волк зимой!
— Извольте ручки обмыть да садиться, — проворчала Марфа, на протяжении всего разговора стоявшая у печи со скрещенными на груди руками в самой угрожающей позе.
Эта рыжая, рябая, крепко сбитая, по-мужски сильная девка была ровесницей Софьи и ее верной спутницей на протяжении всей жизни. Еще в нищем папенькином имении, когда сестрам Грешневым приходилось с утра до ночи бороться за более или менее сносное существование, Марфа не покладая рук копалась в обширном огороде, кроила и шила на продажу, попутно обучив тому и своих барышень, ходила охотиться на окрестные болота, вскинув на плечо тяжелое ружье, бреднем ловила рыбу в Угре, приволакивала из леса тяжеленные корзины с грибами и жизнерадостно обещала: «Ничего, барышни, я вас не оставлю, проживем как ни есть!»
К изумлению Софьи, у некрасивой, рябой Марфы регулярно заводились очень недурные поклонники, которых, впрочем, та рано или поздно отваживала: «Замуж все едино не пойду, так нечего и человеку голову морочить». Когда четыре года назад Софья бежала из Грешневки, спасаясь от Мартемьянова, Марфа ушла с ней. Вместе они мотались по провинциальным городам, жили в Ярославле, когда Софья играла в театре, вместе и уехали в конце концов с Мартемьяновым за границу.
В отличие от своей барышни, Марфа не опасалась Федора ни на грош (возможно, потому, что почти не уступала ему в силе) и спокойно заявляла, что, если «разбойник черномазый» хоть чем-то обидит Софью Николаевну, она его с божьей помощью отправит на тот свет. Мартемьянов Марфы, разумеется, не боялся, как не боялся, кажется, вообще ничего на свете, но относился к ней с неподдельным уважением. Не раз, возвращаясь домой с поздних спектаклей, Софья заставала Федора и Марфу на кухне, распивающих чай из самовара и о чем-то вполголоса разговаривающих.
— О чем тебе с ним говорить, Марфа? — иногда недоумевала она.
— Да мало ли, Софья Николавна… — следовал туманный ответ. — Мы ж с ним, почитай, одного поля ягода. У него в папашах разбойник был, да и меня мать бегом под забором родила. Только и разницы, что Федор Пантелеич миллионов налепить сумел, а я, дура, кроме рябин на морде, ничего не нажила. Так миллионы-то — сегодня есть, а завтра нет, сущность ихняя таковая улетучая… Вы это принимайте во вниманье на всякий случай, уж сколько раз я вам говорила, что откладывать надо!
Ужин Софья проглотила за минуту и тут же почувствовала, что глаза неумолимо слипаются.
— Федор, Марфа, я иду спа-а-ать…
— Вестимо, давно пора, — отозвалась Марфа, собирая со стола посуду. — Я вам уж разобрала, идите почивайте с богом. На липитицию-то завтра будить?
— Разумеется… — Софья вышла из кухни.
Мартемьянов поднялся было следом, но Марфа уже в спину ему пробурчала:
— Федор Пантелеевич, а вот вы бы Софью Николавну своим вниманьем сегодня не беспокоили. Она и без вас насилу на ногах держится. Явился не запылился, сокол ясный, когда барышне и так расстройства да ипохондрии довольно…
— Ну тебя вот только спросить позабыл! — недовольно буркнул Мартемьянов, уже стоящий в дверях. — Марфа, когда ты нос не в свои дела совать перестанешь?
— А вот не дождетеся, — как ни в чем не бывало отозвалась Марфа, поднимая с пола ведро с водой и опрокидывая его в рукомойник. — Что барышни дела, что — мои, все рядышком лежит.
— Может, и приехал зазря? — помолчав, спросил Мартемьянов.
— Может, и зазря! — отрезала Марфа. — Мы, знамо дело, понимаем, что вы этому дому хозяин и все тут, что ни есть, — ваше. Но только вам уж привыкнуть пора, что, когда у барышни примьера на носу, ей хоть весь свет вверх тормашками перевернись, — не заметит. А уж вашего-то в дому наличия и подавно. Обождали б недельку, а потом — хоть в Парижи ее везите!
— Ну, тады я у тебя сегодня останусь! — объявил Мартемьянов и, подойдя к Марфе, непринужденно прихватил обеими руками ее монументальную грудь под полотняной кофтой.
Рябое Марфино лицо не выразило ничего. Она спокойно опустила на пол ведро, вздохнула. Подумав о чем-то, деловито поинтересовалась:
— У вас завтра-то, Федор Пантелеич, никаких обедов-ужинов с нужными людьми не намечается? В обчество выходить не думаете?
— Да навроде нет. — Федор решительно потянул Марфу к себе.
— Оно наверное знаете?
— Да наверное… А тебе пошто надо?..
— Ну, тогда извиняйте. — И Марфин плотный веснушчатый кулак стремительно врезался в переносицу купца первой гильдии.
Мартемьянов отшатнулся, хрипло чертыхнулся сквозь зубы и немедленно ударил тоже, но Марфа была к этому готова и ловко увернулась, сшибив локтем две чашки со стола.
— Да чтоб вам света не дождаться!!! Посуду дорогую через вас колотить! — выругалась она и, не глядя на Федора, размашисто зашагала в сени за веником.
* * *
— Чертова холера, убью я тебя когда-нибудь… Ну, смотри, юшки-то!.. — смущенно ворчал спустя несколько минут Мартемьянов, сидя за столом и разглядывая пятна крови, пестрящие пол и столешницу. — И бьет-то, ровно мужик, аж искра из глаз пошла… За что взъярилась-то, дура?
— А за баловство, Федор Пантелеевич, — невозмутимо отозвалась Марфа, сметая в угол осколки. — И ведь мужик-то неглупый, а не разумеет, чего можно, а чего нет.
— Уж и титьки твои потрогать нельзя?.. Королевишна, глядите… Мало ль их народу-то трогало?
— Кому другому, а не вам! Смотрите, другим разом не пожалею, всерьез угощу! — Марфа вдруг выпрямилась, отбросив веник, и в упор, зло уставилась на Федора. — Сами прекрасно понимаете, что Софья Николавна мне все равно что кровная сестра, и я ей такую расподлянку, чтоб с ее предметом улечься, нипочем не устрою!
— Да нужон я ей будто, Марфа… — негромко сказал Мартемьянов, глядя в черное окно, за которым едва видимыми хлопьями падал снег.
Марфа внимательно посмотрела на него, но он, случайно или намеренно, не заметив этого, не повернулся.
— Нужон аль нет — дело ваше, — наконец произнесла она. — Что сами хотели, то и поимели, вот и разгребайте теперича как знаете. А мне промеж господ встревать нужды нет, я себе и в другом месте чего надо сыщу. Ступайте спать, ваше степенство, ночь-полночь, мне еще картофь назавтра скоблить.
— Угу… Нос-то разнесет за ночь, к утру вот этакая слива будет… — проворчал Мартемьянов, вставая и двигаясь к двери. — Что я Софье скажу?
— Скажете, что впотьмах в сенях на метлу наступили. Да выйдите сейчас во двор, сосульку от стрехи отдерите и подержите малость возле носа. Учить мне вас?.. Али сбегать за сосулькой-то?
— Ладно, сиди, я сам. Покойной ночи, злыдня…
— И вам не вертеться.
Дверь за Мартемьяновым закрылась. Марфа тяжело села за стол, задумалась, сдвинув брови. Неожиданно засмеялась, вздохнула и, все еще улыбаясь, придвинула к себе нож и огромную миску с картошкой. Снег за окном повалил гуще, фонарь погас, и голубой клин света на снегу растаял.
Среди ночи Софья снова очнулась от страшного сна. Прежде ее никогда не мучили кошмары, но с тех пор, как два месяца назад в гостиной сестры она неожиданно столкнулась с Черменским, ее стал преследовать один и тот же сон. Софье виделось то давнее, холодное, ветреное утро, когда она вышла из ворот родного дома с единственным желанием — кинуться в реку. Она отчетливо видела, как идет через скошенный луг, через мокрый, облетевший березняк, через сумрачный, затянутый седым туманом ельник, поднимается на обрывистый берег Угры… и там, спиной к ней, глядя в свинцовое октябрьское небо, в котором носятся чайки, стоит Владимир.
«Владимир! Владимир Дмитрич!» — кричит во весь голос Софья, но Черменский не оборачивается. Она пускается к нему, мокрая трава путает ноги, Софья спотыкается, падает, снова вскакивает и бежит, бежит…
«Владимир Дмитрич!!!»
Он оглядывается наконец. Софья бросается к нему, протянув руки, но Владимир улыбается и отходит в сторону. Она видит прямо под собой черную, стылую, покрытую рябью воду реки, отшатывается, но поздно. Земля уходит из-под ног, и Софья, крича, летит в этот мрак и холод, за которым — ничего, пустота и тьма.
— Соня! Христа ради! Проснись, не кричи так! Марфу кликнуть?!
Софья торчком села на кровати, открыла глаза. Вокруг — темнота. Ни обрывистого берега, ни черной воды, ни Черменского… Судорожная дрожь сотрясала все тело, по спине, по вискам бежал холодный пот, от рыданий перехватило горло.
Рядом — торопливое копошение, чирк спички, бьющееся пламя свечи. Вскоре оранжевый огонек успокоился, загорелся прямо и ровно, на стол и постель лег круг света, и Софья, немного пришедшая в себя, увидела встревоженную физиономию Федора.
— Соня, да что ты? Привиделось чего? Воды принесть?
— Не… не надо… — едва смогла прошептать она, падая на подушку. — Ляг со мной, пожалуйста, мне страшно.
Мартемьянов тут же растянулся рядом, и, лихорадочно забившись ему под мышку, Софья с головой укрылась одеялом. Говорить она не могла, Федор тоже молчал, поглаживал, едва касаясь, ее спутавшиеся волосы. От любовника по-прежнему пахло дегтем, табаком и лошадиным потом, плечо его было жестким и горячим, как натопленная печь. Все это было знакомо, привычно, и понемногу Софья перестала дрожать.
— Прости… Напугала тебя?
— Давно такое с тобой, Соня? — не ответив, спросил Федор. — Раньше-то, кажись, не было.
— Может, и было, я не помню. Все нервы… Будь она проклята, эта премьера, я уже еле на ногах держусь, впору в самом деле отказаться.
— Так откажись, Соня, — помолчав, посоветовал он. — Я в твои дела, знамо дело, не полезу да и в опёрах этих не много понимаю… только стоят ли они того, чтоб так-то мучиться? Марфа вон жалуется, что ты по восемь раз на дню реветь принимаешься, да и я вижу, что ты совсем с лица спала. Уж и по ночам кричишь, как кликуша, дело это разве?.. Откажись, пущай другие поют… А мы с тобой, коль пожелаешь, за границу поедем. Хочешь, и в твой Неаполь вернемся, уж там тебе вроде все хорошо было.
Софья невольно содрогнулась, вспомнив, как ей пришлось петь в неапольском театре «Травиату». Как раз в тот вечер она нашла в бумагах Федора адресованные ей письма Черменского. До сих пор, три года спустя, Софья не могла спокойно вспоминать об этом. Как она тогда пела спектакль, как держала голос, как умудрилась ни разу не сорваться, не подвести партнеров, ни с одним из которых и не репетировала толком, — одному богу известно. И на другой же день, бросив все, никого не предупредив, она уехала с Федором в Россию. Может, зря, в который раз подумала Софья. Наверное, следовало остаться, петь у сеньоры Росси, та обещала выгоднейший контракт и после блистательной премьеры «Травиаты», конечно, сдержала бы слово. Она, Софья, была бы сейчас независимой, свободной, пела б в прекрасном театре, где никто не заставлял бы ее в партии Татьяны стоять неподвижно, как придорожная верста, со сложенными руками, и держать до посинения верхние ноты там, где нужна драматическая игра. Почему она очертя голову кинулась в Россию? Все просто. Потому что там был Владимир. Владимир, который когда-то признавался ей в любви на клочках бумаги и просил ее руки. Что толку обманывать саму себя, выдумывая несуществующие причины… Пусть все кануло в прошлое без возврата, пусть ничего и не было, кроме нескольких опоздавших писем, пусть теперь он считает, что графиня Софья Грешнева так же продажна, как проститутки с Хитрова рынка, что она позарилась на мартемьяновские миллионы… Пусть так, но из бестолкового сердца не ушло ничего, и стоило встретиться с Владимиром случайно в гостиной Ани, чтобы ясно и четко осознать это.
— «А счастье было так возможно, так близко…» — вспомнила Софья строки из последней арии Татьяны. Забывшись, она прошептала их довольно громко и очень удивилась, когда плечо Федора напряглось под ее рукой.
— Соня?..
— Да? — опомнилась она. — Прости, я… Это моя заключительная ария, где Татьяна прощается с Онегиным навек. До сих пор не понимаю, как ее правильно спеть… Прости, но сейчас я никуда не поеду с тобой. Я не могу подвести Альтани, партнеров по сцене, да и Москва ждет премьеры. Поезжай пока один.
— Плохо тебе со мной, Соня? — вдруг спросил он. — Совсем худо?
Софья горько улыбнулась, в который раз убедившись, что обмануть Мартемьянова нельзя. И сказала правду.
— Не плохо. Но и не хорошо тоже. Ты не обижайся, мне ни с кем хорошо быть не может, так уж, наверное, суждено нам, Грешневым…
— Соня, ведь столько лет прошло, — помолчав, медленно произнес Федор. — Три? Аль четыре?
Софья не ответила, борясь со сдавившим горло рыданием, и Мартемьянов вспомнил сам.
— Четыре без малого. Четыре года ты с Черменским врозь. А до того одну ночь с ним на берегу реки высидела — и всё. И всё, Соня! Ни женой ты ему не была, ни невестой, ни зазнобой. Нешто не прошло до сей поры?
— Выходит, так, — сглотнув наконец стоящий в горле горький комок, подтвердила Софья. — Мне тебе лгать никакого резона нет. Я и сама рада бы избавиться, но…
Продолжать она не стала, и в комнате надолго повисла тишина. Свеча, замигав, заплакала прозрачными каплями воска, накренилась и погасла, комната погрузилась в темноту. Софья уже подумала было, что Федор заснул, когда рядом снова послышался его хриплый голос:
— Соня, ты же помнишь, что я тебя на волю пущал. Помнишь ведь? Сразу опосля того, как ты эти письма анафемские у меня нашла. Я ведь тебя силом-то держать не стал бы после такого. Только ты ж не ушла, отчего?
— Сама не знаю, — честно ответила она. — Марфа уверяла, что ты застрелишься…
— Хм… Марфа?.. — озадаченно проворчал Федор. — Вот, значит, кто мне заступником-то тогда был…
— А ты не знал? — без удивления спросила Софья. — Я чуть с перепугу сама не умерла, когда она повалилась мне в ноги и начала рыдать. Никогда в жизни от нее ничего подобного не видела! Она клялась, что ты смертный грех над собой совершишь, и…
— И что с того? — Мартемьянов приподнялся на локте. Софья увидела смутно блеснувшие из потемок белки его глаз. — Тебе-то что с того было, Соня? Я перед тобой кругом грешен… Обманом из Ярославля увез, письма эти до тебя не допустил. Вот ведь черт попутал сохранить их, следовало спалить сразу, и все бы шито-крыто было по сей день!.. Сама же ты тогда плакала, что я жизнь твою перерезал, так что тебе до меня? Застрелюсь, удавлюсь — какая разница? Пожалела, что ль? За что?!
— Не пожалела, Федор, — со вздохом отозвалась Софья. — Просто такая тогда навалилась тоска, что все пусто стало, все без разницы… Вернуть уж ничего нельзя было. И виновата в этом я сама не меньше твоего — ведь уехала я с тобой из Ярославля по доброй воле?
— Так я ж тебе набрехал, что Черменский про тебя и думать забыл, — угрюмо напомнил Федор. — И все доказательства тому представил… А Машка твоя Мерцалова мне со всей радостью подыграла, у ней ведь свой интерес был.
— Ну и что?! С какой стати мне было с тобой за границу катить? Могла б и в Ярославле остаться, дальше играть в театре, мне как раз дали Дездемону… Уехала ведь? Уехала! Стало быть, и в ответе сама за все! — с ожесточением произнесла Софья, не замечая бегущих по лицу слез. — И ты прав, через столько лет уж можно бы успокоиться. У всех людей, верно, есть своя звезда в небе, но глупо надеяться, что она когда-нибудь упадет тебе в руки… Я только не понимаю, отчего это не проходит?! Почему бог меня не избавит от страданий, неужто я так грешна перед ним? Отчего все так же, как четыре года назад? Почему я смотрю на него, и у меня кружится голова, ведь я уже не та глупенькая девочка, я много чего увидела, узнала, я… Боже мой!.. — Страшное отчаяние вдруг с новой силой сдавило грудь, и Софья, навзничь повалившись на горячую, смятую подушку, беззвучно зарыдала.
Мартемьянов не пытался ее утешать, и может быть, поэтому молодая женщина быстро пришла в себя. Встав с постели, она шагнула к столу, нащупала кружку с водой, попила, плеснула себе в лицо и, чувствуя, как холодные капли бегут по шее, скатываясь под рубашку, окончательно успокоилась. Стоя у замерзшего окна и глядя на голубеющие в лунном свете морозные узоры, Софья спиной чувствовала пристальный взгляд Федора.
— Ничего. Видишь, я больше не плачу, — вполголоса, не оборачиваясь проговорила она. — Поверь, виноваты нервы, волнение перед премьерой, все актрисы таковы. Не думай больше об этом. Все идет как шло, все так и останется.
Мартемьянов молчал. Спустя минуту Софья вернулась в постель, легла и с головой накрылась одеялом.
Наутро она проснулась поздно, с больной головой и в ужасном расположении духа. Федора рядом уже не было. Поднявшись с постели и замотавшись в шаль, Софья через всю квартиру прошествовала на кухню и отыскала там злющую Марфу, с остервенением гоняющую тряпкой по столу рыжего таракана.
— Марфа, Федор Пантелеевич ушел?
— Еще до свету. Сказали — дела у них в торговых рядах.
— В каком он был настроении?
— В собачьем, — коротко ответила Марфа, смахивая загнанного в угол таракана на пол и выпрямляясь. — А вы-то чего зареванные, барышня? Ругались, что ль, ночью? Навроде тихо было, я слушала…
— Слушала… — невольно улыбнулась Софья. — Да над тобой, когда ты спишь, хоть из пушки пали — не повернешься. Дай, пожалуйста, чаю — и я побегу в театр.
— Не обижал он вас, аспид? — грозно спросила Марфа, бухая на стол исходящий паром самовар.
— Что ты… — Софья отвернулась к замерзшему окну. — Скорее, это я его… Господи, отчего жизнь так по-глупому складывается?.. Нет, не хмурься, Марфа, все хорошо.
— Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего… Охти, барышня, сидели б мы с вами лучше в Ярославле…
В который раз Софья подумала, что Марфа совершенно права. После ночного разговора с Федором на душе остался отвратительный осадок, и, хотя Софья и понимала, что не приснись ей кошмар, никакого разговора не случилось бы вовсе, ей было тяжело.
Что ж, пусть страшный сон, пусть истерика, пусть слезы… Жаль, конечно, что Федор видел все это, ни к чему было… Но зачем вспоминать о Черменском, рыдать с новыми силами, упрекать себя в том, что прошло давным-давно?.. Как расшатались нервы, чтоб ей провалиться, этой Татьяне. Как она, Софья, могла мечтать когда-то о том, что будет ее петь?! Софья схватилась обеими руками за голову и в полном отчаянии подумала, что не хочет, не хочет, не хочет идти в театр!.. Не хочет подниматься на сцену, распеваться, вновь и вновь репетировать арии, дуэты, мизансцены… Сказаться больной, остаться дома? Но в театре уже ждут дирижер и оркестр, ждет Заремин, ждут хористы, до премьеры — неделя… Нужно идти, нужно работать. Софья одним духом втянула в себя оставшийся чай, наспех ополоснула лицо под рукомойником и отправилась одеваться.
В театр она вошла вовремя, ожидающий ее Заремин распевался у рояля, в зале было полным-полно хористов и солистов второго плана. Альтани еще не появлялся, а в первом ряду, к полному унынию Софьи, расположилась Нравина в окружении своей свиты. Грешнева заметила ее еще из дверей и постаралась пройти мимо с самым независимым видом. Она уже поднималась по боковым ступенькам на сцену, когда услышала пущенный в спину ядовитый, намеренно громкий шепот:
— Вы только посмотрите, в каком состоянии наша богиня является в храм искусства! Непричесана, заревана, платье все в разводах… восхитительно! Я слышала, что вернулся из своей Тьмутаракани ее торгаш — ну и разумеется, нынче ночью мамзель Грешневой некогда было подумать ни о репетиции, ни о внешнем виде! Господи, как только эти стены терпят…
Конец фразы Нравиной потонул в тихом хихиканье свиты, и Софья так и не услышала, что вынуждены терпеть стены Большого театра.
Прическа Софьи была в полном порядке, платье — новым, и, окажись она в сносном настроении, то постаралась бы не обратить внимания на выходку Нравиной — как делала это до сих пор. Но не сегодня. Чувствуя, как поднимается, растет внутри горячая, душная волна гнева, которую бесполезно было останавливать, Софья развернулась и быстро спустилась со сцены обратно в зал. Мельком она подумала, что, вероятно, сильно изменилась в лице, потому что окружавшие Нравину актрисы кинулись врассыпную. Сама примадонна осталась сидеть, но сильно побледнела. Когда же Софья подошла и быстрым уверенным движением, словно проделывала это всю жизнь, схватила соперницу за уложенный на затылке шиньон, Нравина взвыла, как вырвавшийся из тоннеля паровоз.
— Молчите, — тихо сказала Софья, приблизив к лицу примадонны свои зеленые бешеные глаза. — Молчите, или я перерву вам горло зубами! Вы исчерпали мое терпение, госпожа Нравина! Вам известно, что я никогда не пыталась выжить вас со сцены. Вам известно, что я не бегала к дирекции просить для себя ролей. Вам известно, что я не намерена была петь Татьяну, что я трижды или четырежды умоляла Альтани забрать у меня эту партию. Только под угрозой увольнения я согласилась петь. Поверьте, мне не доставляет это ни капли удовольствия! И клянусь спасением собственной души, если я еще хоть раз увижу свое платье испорченным, или будут спрятаны или залиты чернилами ноты, или разбита форточка в уборной, или произойдет что-либо еще в том же роде… я прилюдно разрежу ваше платье ножом прямо на вас! И даже ваши почтенные года, — Софья произнесла последние слова медленно, громко и с удовольствием, внутренне восторгаясь: наконец-то она стала восхитительной дрянью… — И даже ваши почтенные года, сударыня, меня не остановят. Вам понятно? Вам… тебе все понятно, вша портяночная?! — закончила она кстати вспомнившимся ругательством Федора и выпустила наконец нравинский шиньон.
В зале воцарилась мертвая тишина. «Ревизор», последний акт, немая сцена», — машинально подумала Софья, краем глаза видя застывших в ужасе актрис и обернувшегося соляным столпом Заремина на авансцене. Распластавшаяся в кресле, белая как простыня Нравина только открывала и закрывала рот, глядя вытаращенными глазами на темное от гнева лицо соперницы. Затем в этих глазах промелькнула какая-то мысль, Нравина икнула, вскинула ко лбу руку — и виртуозно лишилась чувств. Тут все закричали, запищали и забегали, со сцены к бездыханной супруге кинулся Заремин, кто-то помчался за водой, кто-то — в уборную за солями, кто-то громко звал дирижера… Софья, словно в полусне, вытерла о юбку руки, ушла в боковой проход, добралась до своей уборной, закрыла изнутри на щеколду дверь, села за стол, уронила голову на щербатую столешницу и заплакала.
* * *
В замерзшем окне висела круглая белая зимняя луна. Серебристый свет рассыпался на искры, запутавшись в ледяных узорах, и это было так красиво, что Анна Грешнева долго стояла у окна, рассматривая причудливые сияющие листья и ветви, нарисованные морозом. Стояла уже глубокая ночь, в пустом Столешниковом не было ни души, лишь откуда-то с бульваров доносился неторопливый звонкий стук копыт извозчичьей лошадки по промерзшей мостовой. Но вскоре смолк и он. Где-то бухнули ворота, коротко промяукала возвращавшаяся по крыше домой кошка — и снова наступила тишина.
— Аня… — негромко окликнули из постели. — Пожалуйста, иди ко мне.
— Да. — Анна с некоторым сожалением оторвалась от синего искрящегося окна, в котором завис белый диск, и вернулась в постель, перерезанную пополам голубым лунным лучом. Мужская рука протянулась ей навстречу, Газданов сильно и ласково привлек ахнувшую от неожиданности женщину к себе и обнял.
— Ты можешь это снять? — попросил он, касаясь кисейной ночной рубашки Анны.
Та помотрела на него с изумлением, но, помедлив, рубашку сняла и нагая растянулась на постели. Газданов, приподнявшись на локте, молча, не шевелясь, глядел на нее. Черные глаза Сандро в полумгле казались огромными, рассмотреть выражение его лица Анна не могла. Ситуация представлялась ей смешной, она была уверена, что выглядит весьма глупо, и то, что Газданов молчит, настораживало еще сильнее.
— Могу ли я теперь одеться, господин полковник? — наконец поинтересовалась она. — Все же холодно долго находиться так…
— Аня… — Даже в темноте было заметно, как смутился Газданов, и Анна тут же пожалела о своем сухом тоне. — Прости… я вовсе не хотел тебя обижать… Прости, но… ты необыкновенно красива! Я никогда не видел таких женщин! Я… Я вообще никогда не видел женщин… вот так.
В его речи от волнения появился чуть заметный акцент, и Анна едва удержалась, чтобы не рассмеяться.
— Только не говорите мне, что никогда не бывали в борделях!
— Бывал, разумеется… Такова мужская скотская жизнь… — смутился еще больше Газданов. — Но я имел в виду женщин… настоящих женщин, не продажных.
— Господин полковник, я тоже продажная женщина, — напомнила Анна, с облегчением ныряя обратно в рубашку. — Это знает вся Москва. Свою супругу, когда она у вас появится, вы никогда не сможете принудить к… такому полному разоблачению, не правда ли?
— Почему ты говоришь мне «вы»? Я подумал, что теперь мы могли бы… — Газданов бережно привлек ее к себе, поцеловал круглое плечо под прозрачной тканью. Анна вздрогнула: он кольнул ее жесткой щетиной. И тут же подумала с удивлением, что это вовсе не противно ей. Ощущение было настолько новым, что она, задумавшись, забыла ответить на вопрос Газданова, и тот повторил его.
— Мы слишком мало с вами знакомы, чтобы обращаться друг к другу на «ты», — сама не понимая, куда и зачем ее несет, заметила Анна.
Газданов, не сводя с нее глаз, нахмурил черные широкие брови.
— Но я полагал… Что же, в таком случае, и я должен говорить тебе «вы»?
— К сожалению, об этом уже поздно заботиться, — пожала Анна плечами, с нарастающим ужасом чувствуя, что происходит что-то невообразимое, что она ведет себя как законченная дура, что любая из ее девушек справилась бы с ситуацией лучше, что Анциферов будет крайне недоволен и что, в конце концов… Ее панические размышления прервал Газданов, резко поднявшийся с постели во весь рост. Лунный свет облил его с правого бока, и Анна невольно залюбовалась сильной худой фигурой с широким разворотом плеч. Из-за этого она плохо слышала, что он говорит, и спохватилась только, когда гортанный голос с отчаянным акцентом заявил, что, вероятно, произошло страшное недоразумение, он повел себя совершенно по-свински, умоляет его простить и немедленно оставляет дом графини.
— Сандро!!! — перепугавшись и вскочив с постели, вскричала Анна. — Господь с вами… с тобой! Немедленно ложитесь, я запрещаю вам… тебе… Это невежливо, в конце концов, покидать даму таким образом! Где вас воспитывали, господин полковник?!
Газданов молча сел на постель. Анна придвинулась и, слегка взъерошив ладонью его жесткие курчавые волосы, изумленно взглянула в лицо.
— Сколько тебе лет, Сандро?
— Тридцать.
— Немного… — Анна усиленно соображала, как увести разговор в сторону. — И уже такая карьера? Помощник министра, миссия в Берлине, звание полковника?.. Как тебе это удалось?
— Из-за войны, — пожал Газданов мощными плечами. Акцент его совершенно пропал, и Анна с облегчением поняла, что Сандро успокоился. — На войне гораздо проще сделать карьеру, все вокруг слишком стремительно происходит… Порой от тебя зависит так много и решение нужно принимать так быстро, как никогда не бывает при мирной жизни. То есть по большей части это вовсе не моя заслуга.
— Стало быть, ты быстро принимал верные решения? — задумчиво сказала Анна.
— Наверное, так. — Сандро пристально вглядывался в ее лицо. — Отчего ты спрашиваешь? Разве женщинам интересны такие вещи?
— Ты прав… Ничего интересного. — Анна, зевнув, откинулась на подушку, забросила руки за голову. Газданов растянулся рядом, осторожно провел рукой по ее распустившимся волосам.
— Знаешь… я никогда в жизни не видел такой красоты.
Анна грустно улыбнулась. Чуть погодя спросила:
— Может, будем спать? Смотри, уже луна садится, совсем поздно…
— Я говорю неприятные вещи?
— Нет, отчего же…
— Ты, наверное, в тысячный раз слышишь это.
— Ты преувеличиваешь. — Анна закрыла глаза, чувствуя, как жесткая и горячая мужская рука продолжает путешествие по ее телу. От объятий Газданова было тепло, Анна в самом деле начала понемногу дремать и следующий вопрос Газданова прослушала.
— М-м… прости… Что ты сказал?
— Ты уже спишь?.. Я просто спросил… Может быть, ты захочешь выйти за меня замуж?
Тишина. Не открывая глаз, молодая женщина лихорадочно вспоминала, что они с Сандро пили сегодня. Но на столе в гостиной стояла невиннейшая бутылка клико, от которого даже у Анны не закружилась голова и которую они так и не допили.
— Аня?.. — наконец осторожно произнес Газданов. — Я что-то не так сказал?
— Ты не так пошутил. Давай спать.
— Я ничуть не шутил! Ты хочешь выйти за меня замуж?
— Князь Газданов, вы пьяны.
— От чего, от этого твоего шампанского?!. — оскорбился он. — Я в здравом уме и твердой памяти!
— Простите, но я этого не вижу, — холодно возразила Анна, садясь на постели. — Александр Ильич, мне не пятнадцать лет, и я не юная прислуга из деревни, которую вы пытаетесь соблазнить. Я не нуждаюсь в подобных предложениях. И хочу напомнить, что мужчины в вашем возрасте и в положении такими вещами уже не забавляются.
Газданов вдруг взял ее за плечи, разворачивая к себе, и Анна умолкла прямо посреди своей грозной отповеди, встретившись взглядом с черными глазами сидящего перед ней мужчины.
— Сандро, — как можно спокойнее сказала она. — Ты должен понимать, что на проститутках нельзя жениться.
— Не смей говорить так, — так же спокойно, негромко отозвался он. — Я делаю предложение графине Грешневой…
— … с которой тебя не примут ни в одной светской гостиной, — с досадой закончила Анна. — Ты очень глупо себя ведешь. Надеюсь, это все-таки шампанское. Давай спать, мой друг, я очень устала.
— Я люблю тебя.
Тишина. Короткий вздох.
— И давно ли с тобой это несчастье?..
— Полгода, — не задумываясь, ответил он. — Я увидел тебя первый раз в театре, в ложе, на закрытии сезона. Я всего три дня как был в Москве, никого здесь не знал…
— И кто я, надо полагать, не знал тоже?
— Нет, но сразу же постарался выяснить, — не принял Газданов ее тона. — Мне рассказали, что… что это знаменитая графиня Грешнева…
— Да, и чем я знаменита, поведали, безусловно, тоже! И ты немедленно решил жениться! Сандро, ради бога, давай спать, ты пьян.
— Я никогда не бываю пьян! В роду князей Газдановых это не принято! — взорвался он, и Анна невольно отпрянула на другой край кровати, схватив подушку и загородившись ею. Подождав немного и осторожно выглянув из-за пухлого угла, она заметила, что Сандро улыбается: из темноты ярко белели зубы.
— Ну, разве можно выходить за тебя замуж? — упрекнула Анна. — Чуть что не по тебе — и заколешь кинжалом! Дикарь!
— Ты мне отказываешь?
— Разумеется…
— Из-за Анциферова?
— Что?.. — Тут Анна растерялась по-настоящему и довольно долго не могла ничего сказать, пристально глядя в лицо Газданова. Тот тоже не отводил глаз.
— Послушай… — наконец медленно, глядя через плечо Сандро на уползший в сторону окна лунный луч, заговорила Анна. — Я не знаю, кто и что рассказывал тебе обо мне… но обсуждать с тобой свою жизнь, как бы низко я ни пала, я ни в коем случае не стану. Ты здесь, в этой постели, поскольку захотел того сам… а для меня это средство к существованию. Это знаю я, это знаешь ты, это знает весь город. Но едва ли у тебя есть право допрашивать меня и делать предложения, достойные глупых мальчишек. Я не собираюсь выходить замуж, поскольку нахожу это весьма мало мне необходимым — уж если тебе нужен серьезный ответ на пошлый вопрос. Такие, как я, не становятся женами. Пора бы тебе к тридцати годам это знать. Если ты обижен — не обессудь, я не хотела ссоры. Если ты решишь прервать теперь наше знакомство — это твое право. Прости, я действительно очень хочу спать.
Газданов молчал. «Сейчас он уйдет», — подумала Анна, мысленно уже составляя оправдательную речь перед Максимом Модестовичем. Вот ведь дьявол, а как хорошо и быстро все началось, как она радовалась, что у нее получается как надо, как надеялась, что и закончится этот вынужденный роман так же быстро. И что теперь?!
— Видишь ли, я в самом деле наводил о тебе справки, — не спеша, словно не услышав ее слов, отозвался Газданов. — И весьма подробные, поскольку… у моего ведомства имеется такая возможность. Я знаю, в каком положении оказалась твоя семья много лет назад, знаю, каким образом отошли в мир иной родители. Знаю, что случилось с братом и сестрами. Знаю, в чьи руки ты попала после Смольного… Твой опекун Ахичевский был большим мерзавцем, не так ли? И его сынок, с которым я знаком, — также. И еще мне известно, что, хотя по Москве и ходят самые разнообразные сплетни, ни с кем, кроме… м-м… мужчин семьи Ахичевских, ты не была близка. С твоей стороны слишком самонадеянно считать себя продажной женщиной при таком… незначительном числе соискателей…
Анна упала вниз лицом в подушку. Сдавленно произнесла:
— Убирайтесь…
— Аня…
— Вон!!!
— По Москве долгое время ходили слухи об Анциферове, — помолчав, как ни в чем не бывало продолжил Газданов. — Но мне почему-то кажется, что они пустые. Я знаю Максима Модестовича, это очень умный и очень осторожный человек. Он не стал бы искать связи с такой женщиной, как ты.
— А ты, значит, ищешь? — Анна подняла голову, и из ее глаз на Газданова плеснуло ненавистью и отчаянием, столь сильными, что он отшатнулся. — Ты, стало быть, не боишься связи с такой женщиной? Браво, полковник, браво, поразительная смелость! Как это великолепно — «камелия» графиня Грешнева, которая до вас была в руках ВСЕГО ЛИШЬ у мужчин семьи Ахичевских! А вы не думали, полковник, с какой стати такая добропорядочная шлюха, как я, вдруг позволила вам нырнуть в ее альков?!
— Я думал об этом, — ровно ответил Газданов.
— Ах, вот как? Наверное, вы предположили, что я влюбилась с первого взгляда?! Что потеряла голову, сошла с ума?! В моем-то возрасте, с моим опытом!..
Газданов молчал. «Что я делаю, боже, что я делаю, что мелю…» — лихорадочно проносилось в голове Анны. Понимая, что разговор уже перешел все границы здравого смысла, что еще миг — и она, потеряв самообладание, выпалит в лицо этому человеку, что просто выполняет поручение Анциферова, что совершенно напрасно он вообразил себе ее влюбленность… К счастью, Газданов не произносил больше ни слова, и Анна колоссальным усилием воли смогла взять себя в руки.
— Господин полковник, прошу меня оставить, — прошептала она, отворачиваясь к стене. — Разговор этот бессмыслен, и наше с вами совместное пребывание также. Я повысила тон, о чем сожалею. Более нам видеться незачем.
Газданов встал. Анна повернулась лицом к стене и молча ждала, пока Сандро оденется. Когда же полковник вышел из комнаты, она уткнулась лицом в подушку. Слез не было.
На другой день Анна проснулась поздно, с больной головой, и почти весь день пролежала в постели, то тихо, без всхлипов, плача, то просто глядя в стену остановившимися глазами. Ближе к вечеру она с огромным трудом вытащила себя из постели, дошла до секретера и попыталась написать письмо Анциферову, излагая произошедшее минувшей ночью и прося освободить ее от неудавшегося задания. Три или четыре смятых листа бумаги были в сердцах брошены под стол, пока Анна не поняла, что написать что-то вразумительное ей не под силу. В чем она собралась признаваться Максиму Модестовичу? В том, что бездарно провалила его поручение? В том, что Газданов оказался прав и она — действительно никуда не годная куртизанка? В том, что она, как выяснилось, вовсе не является «уродом, лишенным всяких женских чувств»?! Осознав последнюю мысль, Анна бросилась на неубранную постель и разрыдалась так, что прибежала испуганная горничная.
— Охти, Анна Николаевна, мигрень разошлась?! За доктором спосылать?
— Даша, поди прочь… Нет… Принеси воды, подай соли… Надо в конце концов одеваться, уже темнеет… Что это такое у тебя?.. Откуда?
Последнее относилось к огромному букету белых орхидей в руках горничной.
— Только что принесли, Васька из цветочного на Тверской в приемной дожидается, спрашивает — может, ответ будет?..
Недоумевая, Анна взяла в руки букет, от которого ударил свежий, чуть горьковатый запах, на миг даже облегчивший головную боль. Зачем-то осмотрев цветы, она привычным движением достала глянцевую карточку цвета слоновой кости и прочла короткое, написанное от руки четким косым почерком: «Графиня, простите ли вы меня? Князь Сандро Газданов».
Коротко вздохнув, Анна протянула букет горничной.
— Отослать назад. Ответа не будет.
— Отослать?! — изумилась Даша, которая служила в этом доме пять лет, и ни разу на ее памяти многочисленные букеты, присланные хозяйке, не отправлялись обратно. Анна посмотрела на нее со всей строгостью, которую допускали заплаканные, покрасневшие глаза, и горничная удалилась, вздыхая и сокрушенно бормоча:
— Господи, да чего ж он, сердешный, натворил-то?.. И Ваське вот только и дела, что по Москве с букетами взад-вперед шастать, то туда несть, то обратно, будто дела настоящего нетути…
— Даша, хватит ворчать! — крикнула ей вслед Анна. — Возвращайся скорей и подавай одеваться!
— Едете куда-то, барыня?
— В театр.
Идея насчет театра пришла в голову Анны неожиданно: еще пять минут назад она мечтала только снова лечь в постель и остаться там до скончания времен. Но появление орхидей навело ее на мысль о том, что Сандро, получив цветы обратно, вполне может явиться сюда для выяснения отношений. Представив себя перед Газдановым зареванной, растрепанной, несчастной и полностью утратившей привычные жизненные установки, Анна чуть не лишилась чувств и, не дожидаясь горничной, кинулась за платьем. Скорее, прочь из дому, куда угодно, лишь бы только никто не мог застать ее в подобном виде! А в том, что она сможет достойно держаться на людях, графиня Грешнева не сомневалась.
Вечером Анна сидела в ложе Большого театра. Давали «Жизнь за царя», где Софья исполняла маленькую партию Ольги. Театр был уже полон, внизу, в проходе партера, ручейками разливаясь по рядам, бурлила река из фраков, белых манишек, вечерних платьев, шалей и бриллиантовых искр, жужжал хор голосов, слышались возгласы приветствий и комплиментов, галдела галерка: театральная Москва жила привычной жизнью.
Опера Глинки казалась Анне, любившей итальянцев и Чайковского, слишком тяжеловесной, пафосной и верноподданической, но выбирать не приходилось, да и слушать сестру она любила неизменно. Анне до сих пор не верилось, что Соня, малышка Соня, которая давным-давно в Грешневке повторяла, стоя у фортепьяно, музыкальные уроки старшей сестры и пела на все имение звонким и верным голоском «Luna rossa» и «Torn'a Surriento», — теперь одна из солисток Императорского театра и через несколько дней будет исполнять Татьяну. Неисповедимы пути господни, вздохнула Анна, автоматически раскланиваясь из ложи с Анциферовым, который шел по проходу в партере и мельком скользнул по ней глазами. Да начала спектакля уже несколько человек заглянули к ней в ложу, чтобы поцеловать руку, сделать дежурный комплимент и заверить, что «в нынешний же вторник — у ваших ног, графиня!» Все это оказывались знакомые мужчины, главным образом гвардейские офицеры, и Анна спокойно протягивала руку для поцелуя, улыбалась и обещала, что будет рада встрече. Когда дверь ложи за ее спиной скрипнула в очередной раз, она положила программку на малиновый бархат барьера, с привычной улыбкой обернулась… но протянутая для поцелуя рука застыла в воздухе: в дверях ложи стояли Владимир Черменский и Сандро Газданов.
Замешательство Анны длилось лишь долю секунды. Через мгновение ее рука была протянута Черменскому.
— Здравствуйте… господа. Так вы сегодня тоже в опере? Владимир Дмитрич, вы все-таки остались в Москве! И не заходите ко мне, как же вам не стыдно?
Владимир только улыбнулся, а Газданов так ловко перехватил руку графини, что вырвать ее у него было бы уж совсем дурным тоном. Анна, собрав всю волю, улыбнулась и ему:
— Добрый вечер, господин полковник.
Газданов молчал, не поднимая глаз. Черменский покосился на него, затем несколько смущенно взглянул на Анну, открыл было рот, но Анна продолжала с улыбкой спрашивать:
— Так вы пришли слушать нашу Соню, Владимир Дмитрич? Пойдете за кулисы в антракте?
— Нет, разумеется. Графиня…
— Как положение дел в имении? — мило болтала Анна, отчаянно надеясь, что сейчас вот-вот опустят занавес. — Вижу, что хорошо, иначе бы вы не вырвались на зиму в Первопрестольную. Читала ваш последний очерк в «Листке», о заводах в Новочеркасске, просто бесподобно! Даже я, которая ничего не понимает в этой ужасной красильной промышленности, была заинтригована! Почему вы не пробуете сочинять романы, Володя?
— Потому что не могу писать о том, чего не видел сам, — честно ответил Черменский и, не давая ей развить тему, быстро сказал: — Анна Николаевна, я, собственно, желал бы выяснить, что происходит.
— Что вы имеете в виду?
— Вообразите, вот этот осетинский жеребец, — Черменский не глядя кивнул в сторону Газданова, — явился ко мне на квартиру час назад и попросил в счет старой дружбы замолвить за него слово перед вами, поскольку я, понимаете ли, старый друг семьи, пользуюсь вашим расположением, и тому подобное. Но сколько я ни пытался выяснить, в чем, собственно, он провинился, этот абрек молчит! И я, как вы изволите видеть, нахожусь в глупейшем положении! С одной стороны, — действительно старая корпусная дружба, койки два года рядом в дортуаре, вольтижировка, общие «хвосты» по фортификации и так далее. С другой — как я могу о чем-то просить вас, не зная даже в чем дело?
— Да, вы в сложной ситуации, — посочувствовала Анна, глядя при этом не на Черменского, а на Газданова, который смотрел на нее в упор. — Отчего бы князю не освободить вас от этой неудобной миссии и не действовать самостоятельно?
— Клянется, что пытался, но все попытки были безжалостно вами пресечены…
Хлопнула дверь, и Анна с облегчением повернулась на звук.
— Вот, господа, я же говорил, что она непременно сегодня в театре! — раздался радостный голос, и в ложу ввалилась толпа военных, внеся с собой запах уличного мороза, одеколона и шампанского. Гвардейцев оказалось человек семь, все они были очень молоды и, как с некоторой досадой отметила Анна, заметно пьяны. Возглавлял эту шумную ватагу корнет Никита Волгин, который, к великому сожалению графини, даже был принят когда-то в ее доме, пытался ухаживать за Одиль, но безуспешно, поскольку не располагал особенными средствами и не занимал важной должности. Еще тогда Анна заметила склонность молодого человека к безудержным возлияниям и велела Одиль под благовидным предлогом прервать знакомство. Девушка выполнила приказ, Волгин в доме Грешневой более не появлялся, но своим знакомством со знаменитой «московской Нинон де Ланкло» козырял безбожно, хвастаясь этим направо и налево. Вот и сейчас он геройски посмотрел на приятелей и потянулся за рукой Анны:
— Добрый вечер, добрый вечер, прелестнейшая… Позвольте выразить переполняющее, так сказать, душу и сердце счастье…
— Добрый вечер, Никита Андреевич, — сдержанно ответила Анна, с неохотой протягивая руку, которую корнет звонко чмокнул. Черменский и Газданов отошли в глубину ложи. — Вот уж не знала, что вы любитель оперы.
— Не оперы, а вас, дорогая Анна Николаевна! — фамильярно заявил Волгин.
Его приятели расхохотались, и запах вина разлился по всей ложе. Анна невольно отвернулась и как можно спокойнее произнесла:
— Господа, я очень рада вас видеть, но не лучше ли будет вам спуститься в зал? Вот-вот поднимется занавес…
— Да бог с ним, право! Кто ходит в театр слушать оперу?! — Волгин, не дожидаясь приглашения, сел в кресло рядом с Анной и снова взял ее за руку, которую она на этот раз демонстративно отняла. — Послушайте, моя дорогая, не хотите ли покинуть сие скучное заведение и прокатиться с нами… скажем, в Петровский парк? Тройки стоят у подъезда, я, собственно, заехал за вами, ма шер, чтобы…
— Корнет, вы забываетесь, — холодно перебила его Анна, с горечью чувствуя приближение скандала. Боже, как некстати, мелькнуло в голове, придется сейчас покинуть театр, так и не услышав Сони, а еще и Газданов здесь, надо же такому случиться, чтобы все сразу…
— Вспомните о вашем воспитании, Никита Андреевич, я вам не дорогая и не ма шер. Один вечер, проведенный в моем доме, не дает вам права…
— Ах, оставьте, Аннет! — пьяно улыбнулся Волгин. — Ведь вы и сами знаете, что вечер был не один… да и вовсе не вечер, а гораздо более позднее время…
— Корнет!!! — Анна встала. — Немедленно покиньте мою ложу, вы пьяны, и…
— Ах, ради бога, графиня! — рассмеялся Волгин, уставившись на Анну долгим взглядом опереточного соблазнителя и умудряясь при этом посматривать на друзей. Последние, судя по всему, оказались менее пьяны и, смущенно опустив глаза, понемногу отступали к дверям. — Не заставляйте меня забывать те божественные часы, которые мне подарила соблазнительнейшая московская Мессалина…
— Вон, — тихо произнесла Анна.
В полумраке ложи не было заметно, как она побледнела, но даже Волгин умолк, встретившись с Анной взглядом. Сзади кто-то из приятелей уже в открытую тянул его к выходу, но корнет, оправившись от минутного смущения, лишь ухмыльнулся и снисходительно отстранил товарища, продолжая в упор, нагло рассматривать графиню Грешневу.
— Встаньте, корнет, — вдруг раздался за спиной Анны ровный голос с едва заметным акцентом, и она, вздрогнув от неожиданности, обернулась. Газданов неторопливо вышел из полумрака ложи.
Волгин вскочил. Кинул быстрый взгляд на эполеты стоящего перед ним офицера и вытянулся.
— Корнет, вы ведете себя неподобающим образом, — негромко проговорил Газданов. — Вы явились пьяным в храм искусства, вы оскорбляете достойную даму… мою невесту.
Послышался изумленный ропот, в лице изменился даже Черменский. Анна закрыла глаза. Волгин трезвел на глазах.
— Господин полковник… Я, право же…
— Вы недостойны звания офицера русской гвардии, — отчеканил Газданов. Он по-прежнему казался абсолютно спокойным, но от этого спокойствия у Анны поползли мурашки по спине. — Я вызываю вас. Выбор оружия и место поединка — за вами. Черменский, вы не откажетесь быть моим секундантом?
— Сочту за честь, Газданов, — невозмутимо отозвался Владимир.
— Господа, господа, бог с вами, господа!!! — наконец опомнилась Анна. — Володя, Сандро… Александр Ильич, побойтесь бога, это же дети!
— Это не дети, Анна Николаевна, — сдержанно заметил Газданов, в упор глядя на Волгина, который стоял бледный, уставившись в паркет. — Это русская военная молодежь, гвардия, которая призвана воплощать лучшие силы России, ее гордость. Подобное поведение офицерского состава недопустимо, и прощать его нельзя. Я уж не говорю о том, что, оскорбив женщину, этот молодой человек опускает себя на уровень площадного босяка. И только из уважения к его эполетам, которых он не стоит, я вызываю его на поединок… а не обращаюсь с ним так, как он того заслуживает.
— Александр Ильич, прошу вас, вы же видите, что они все пьяны! — взмолилась Анна. — Позвольте ему извиниться, и… Никита, скорее просите прощения, и вон отсюда!!!
Не дав ни Газданову, ни Черменскому открыть рта, Анна вскочила из кресла, протянула перепуганному корнету руку, и тот упал на колени:
— Графиня, умоляю вас, простите…
— Я прощаю, немедленно покиньте мою ложу! — Анна подняла корнета, слегка толкнула его в плечо. — Господа, сию же минуту забирайте своего товарища!
Гвардейцы исполнили приказ по-военному четко: через мгновение в ложе остались только Анна, Газданов и Черменский. Последний изо всех сил пытался подавить приступ смеха, но ему удалось это лишь после того, как он взглянул на Анну и Газданова. Те стояли у края ложи и смотрели друг на друга так, что Владимир сразу же понял, что ему тут не место. Дверь тихо закрылась за ним, и никто этого не заметил.
Вскоре погас свет, зажглось сценическое освещение, опера началась, и Анна, с трудом взяв себя в руки, уставилась на сцену.
Позже, вспоминая тот вечер в театре, молодая женщина искренне недоумевала: как ей удалось просидеть четыре часа в ложе, выслушать длиннейшую оперу и не вспомнить ни минуты, ни мгновения из этого времени. Первое действие, второе, два антракта… За четверть часа до конца последнего акта Анна словно очнулась. Посмотрела на ярко освещенную сцену взглядом разбуженного среди ночи человека, решительно взяла с барьера ложи перчатки, встала и чуть слышно сказала тоже поднявшемуся Газданову:
— Я уезжаю, князь, прошу меня извинить.
— Позвольте проводить вас.
Анна, не ответив, прошла мимо него в темноте. Газданов отправился следом.
На улице стояла темная, ледяная, беззвездная ночь. Анна взобралась в экипаж, туда же вскочил Газданов и вполголоса велел кучеру: «Трогай!» Пролетка неспешно покатила через пустынную площадь.
Анна плакала — тихо, не вытирая слез, не замечая того, что Газданов молча, непрерывно целует ее холодную руку без перчатки. Молча они доехали до Столешникова, прошли в дом, пересекли темную гостиную, и графиня, отослав заспанную горничную, сама зажгла свечи.
— Благодарю вас, Александр Ильич… за прекрасный вечер. Час уже поздний, давайте попрощаемся, — устало произнесла она, опускаясь в кресло.
Но Газданов остался на месте, и Анна поняла, что он не уйдет. Где-то в глубине дома старинные часы пробили полночь.
— Вы напрасно это сделали сегодня, Сандро, — вздохнув и глядя мимо Газданова в затянутое морозными узорами окно, проговорила Анна. — Положительное в сегодняшней истории лишь то, что вы убедились: иметь серьезных отношений с такой женщиной, как я, невозможно. Было очень глупо называть меня своей невестой… тем более без моего на то согласия. По Москве теперь пойдут ненужные разговоры… А вы задумывались хоть на минуту, князь, во что превратится ваша жизнь, если вы женитесь на мне? Кто угодно где угодно сможет подойти к нам и сказать вашей законной супруге в лицо все то, что вы слышали сегодня от корнета. И вам нечем будет крыть, поскольку все это истинная правда. Право, странно, что я столько времени трачу на то, чтобы объяснить вам такие простые вещи. Ручаюсь, тому мальчику, Волгину, объяснения бы не понадобились.
— Графиня, это был просто дурно воспитанный щенок, — возразил Газданов.
— Ну… разве что и впрямь дурно воспитанный, — слабо улыбнулась Анна. — Будь Никита более воспитан и менее пьян, он просто не сказал бы всего этого вслух. Выбросьте из головы всякие благородные мысли, князь. Вы нравитесь мне… и минувшая ночь тому доказательство. У меня действительно было мало любовников… Гораздо меньше, чем мне приписывают, вы это верно заметили. Но жениться на мне с вашей стороны было бы безумием. На вас станут показывать пальцем, вас не пригласят ни в один приличный дом, осудят в свете, вы не сможете представить меня государю… да и карьере вашей придет конец. Оставьте все как есть, и забудем этот наш разговор. Поверьте, так лучше и для меня, и для вас. Пусть уж я останусь принадлежностью… мужчин семейства Ахичевских. А по поводу Анциферова — ложь, всё ложь. Я это знаю сама, а что думают другие, мне, ей-богу, безразлично.
Некоторое время Газданов молчал. Затем, подойдя к креслу, в котором сидела Анна, опустился возле него на колени, и молодая женщина, повернувшись, испуганно посмотрела на него:
— Князь! Что вы делаете, к чему такие жесты? Прошу вас, встаньте…
— И все-таки мы на «вы», — грустно улыбнулся Газданов. — Стало быть, я все еще наказан?
— Сандро! Господь с вами… с тобой! — Анна схватилась за голову. — Бог мой, да за что же мне все это… Поднимись немедленно, хватит ломать комедию, как тебе не стыдно, право?!
— Очень стыдно, потому и не встану. — Черные глаза спокойно и серьезно смотрели на нее. — Аня, я целый день думал о том, что наговорил тебе ночью. Поверь, я не хотел. Я никогда прежде не позволял себе подобного с женщинами и до сих пор не понимаю, почему все так вышло… Я рад бы думать, что был пьян. Это могло б меня извинить… хотя бы в твоих глазах, как того сопливого корнета… Но пьяным я не бываю никогда. Налицо банальная потеря головы… и вообще всяческого здравого смысла. Другого объяснения я не вижу. Аня, я люблю тебя. И прошу твоей руки. Я мог бы, разумеется, сказать, что мне безразлична собственная карьера, что не имеет значения то, что станут говорить в свете, и то, что я пренебрегу недовольством государя… Но ты умная женщина, и тебя такие пафосные пассажи не обманут. Все это, безусловно, не пустяки. Однако… наверное, для всякого человека рано или поздно приходит время, когда он выбирает то, что для него важнее, то, что имеет больший смысл. Ты и твоя любовь для меня сейчас важнее всего на свете.
— Что будет, когда через три недели ты поймешь, что ошибался? — спросила Анна. Рыдания душили ее, слезы бежали по лицу, капая на руки, судорожно сжимающие смятую перчатку.
— Этого не случится, — убежденно сказал Газданов.
— Позволь судить мне. — Анна вытерла перчаткой лицо; всхлипнув, перевела дыхание. — Возможно, что и я немного влюблена в тебя… как это ни смешно. Тем более я не поставлю под удар ни твое положение, ни твою карьеру.
— Ты мне отказываешь?
— Я ставлю условие.
— Какое же?
— Год. Один год. — Анна наконец смогла заставить себя посмотреть на Сандро и чуть не расплакалась снова, увидев его глаза так близко и с отчаянием поняв: любит, любит, проклятый, в самом деле любит и не врет. Как же это случилось?..
— Ровно через год мы вернемся к сегодняшнему разговору, — как можно тверже произнесла она. — Не раньше, Сандро, и не спорь со мной! Если через год ты сможешь без лукавства слово в слово повторить то, что сказал сейчас, — изволь, я выйду за тебя. А пока — прошу, не будем даже говорить об этом.
— Год длится очень долго, Аня, — серьезно сказал он, склоняясь над ее рукой.
— Я понимаю. Потому и назначаю этот срок. — Анна, не сдержавшись, погладила черную курчавую голову Сандро, вздохнула. — И поверь, тысячи мужчин были бы счастливы, получив от своей невесты подобную отсрочку и на таких условиях. Да поднимись же ты наконец жеребец осетинский… идем спать.
* * *
В день накануне премьеры у Софьи отчаянно болела голова. После недолгой оттепели неожиданно ударил мороз, покрыв инеем кусты сирени в палисадниках, накрепко сковав льдом подтаявший было снежный покров на мостовых и обвесив карнизы домов сосульками. Над Москвой опрокинулось сияющее синевой небо, солнечные лучи дробились в замерзших окнах домов, искрились на высившихся вдоль тротуаров сугробах. Жизнерадостно, будто весной, гомонили неунывающие воробьи, ловкая синичка утащила мерзлую горбушку хлеба прямо из-под носа принюхивающейся кошки и метнулась с добычей под застреху. Софья, наблюдающая за этим из окна репетиционного класса, вздохнула и отошла от подоконника. Последняя репетиция, в которой, по мнению Софьи, не было никакой нужды, подходила к концу. Премьера ожидалась завтра, и афиши уже висели по всему городу.
Собственно, назвать это репетицией было нельзя: позади остались и спевки с хором, и репетиция с оркестром, и генеральная, в костюмах, с забитой членами дирекции царской ложей. Но Альтани решил, что накануне премьеры не мешало бы еще раз прогнать основные дуэты, и Софья не стала с ним спорить. Она уже давно ни с кем здесь не спорила, поняв, что дело это бессмысленное и что слушать ее все равно никто не будет.
Софья не могла не чувствовать сама, что партия Татьяны легла на ее голос великолепно. Ни одна из арий, ни один из дуэтов не составили для нее труда, верхние ноты с фиоритурами, глиссандо и группетто проходили как по маслу, нижний и средний регистры звучали отлично, и Софья понимала, что, вероятнее всего, во время премьеры будет иметь успех. То же самое поняла и труппа Большого театра: с Софьей уже почтительно раскланивались в коридорах и кулисах, она замечала уважительные взгляды костюмерш и гримеров, начинающие певицы и хористки смотрели на нее обожающе, а молодые теноры даже пытались флиртовать, повергая актрису в немалую озадаченность.
После той памятной истории, когда мадемуазель Грешнева испортила прическу примадонне Нравиной, сопроводив это «монологом королевы разбойников», как выразилась Ниночка Дальская, Софью оставили в покое. Никто больше не решался размазывать вазелин по ее платьям, говорить громким шепотом гадости за спиной и бить форточки в уборной. Нравина, кажется, в самом деле сильно испуганная, старалась избегать соперницы. Заремин приходил на репетиции с головной болью и глазами христианского мученика: видимо, дома ему приходилось наблюдать феерические истерики жены. Софья искренне жалела уже немолодого тенора, который до этого два года спокойно пел главную мужскую партию в дуэте с супругой и никак не мог отвечать за решение дирекции о смене Татьяны, но не просить же было у Альтани другого Онегина…
— Софья Николаевна, вы слышите меня? В этом месте в конце первого акта вам придется сфорсировать звук! — вывел ее из раздумий резкий голос дирижера. — Вы слышите меня, мадемуазель?! Подойдите к роялю! Осмелюсь вам напомнить, что вы на последней репетиции, и завтра премьера! Вы усилите звучание, вот здесь, в последних словах: «О боже, как обидно и как больно». Сделаете крещендо до фортиссимо, это очень трудно, но вы можете, я не раз слышал, и публика будет в восторге!
— Где крещендо? Где фортиссимо?! — взорвалась, не выдержав, Софья, и стоящий рядом Заремин опасливо отошел на несколько шагов. — В конце последнего акта? Где Татьяна чуть живая после онегинской проповеди? Фортиссимо, когда она еле на ногах стоит от отчаяния?! Иполлит Джакомович, побойтесь бога! Да у Чайковского, у самого Чайковского в партитуре указано пианиссимо, и я не намерена…
— А я вам говорю, это будет очень эффектно! — упорствовал Альтани. — Среди публики окажется много ценителей. Они знают, как это сложно. Все оценят ваше мастерство, а…
— А я вам говорю, что Татьяна не может вопить, как гудок Морозовской фабрики! — Софья почувствовала, что сейчас разревется. — У нее разбито сердце, она готова плакать, а не выть в голос, это ломает образ, и я не могу…
— Софья Николаевна, пока еще я здесь дирижер! — рассердился Альтани.
Но коса нашла на камень, и Софья вздернула подбородок:
— А я солистка! И петь эту партию завтра мне! Если желаете, исполняйте Татьяну сами, а я не буду в угоду публике реветь весенним лосём! Вы понимаете, наконец, что я неопытная певица, что я могу попросту сорвать голос на ваших «крещендо до фортиссимо»?!
— Репетиция окончена, — сухо объявил обиженный Альтани. — Вы вольны петь завтра по собственному разумению, мадемуазель Грешнева, но я снимаю с себя всяческую ответственность за ваш успех. Постарайтесь сегодня и завтра как следует отдохнуть, привести в порядок нервы и, боже сохрани, ничего больше не исполнять. Еще, чего доброго, в самом деле сорвете голос. И никакой, никакой беготни по морозу! Немедленно — домой, чаю и — до завтра из дому ни ногой!
Сойдя со сцены, Софья догнала Заремина и решительно вошла вслед за ним в его уборную.
— Осип Михайлович, позвольте вас на минуту…
Бас, обернувшись, испуганно посмотрел на партнершу темными, близорукими глазами, и Софья вздохнула.
— Осип Михайлович, я хотела только объяснить, что очень хорошо все понимаю… Я невольно оказалась виноватой перед вами, но, клянусь, не по своей воле. Я вовсе не хотела тогда… м-м… наносить урон вашей супруге. Аграфена Ильинична вынудила меня к этому, и будь у меня в тот день покрепче нервы… Впрочем, неважно, тот поступок нисколько меня не оправдывает. Я хочу лишь сказать, что скоро это все кончится. Мы с вами поем «Онегина», и я ухожу из театра. Это уже решено. Успокойте Аграфену Ильиничну, скоро она вернет себе партию Татьяны.
Заремин, похоже, не сразу понял то, что хотела сказать молодая певица, и сначала машинально пробормотал:
— Откройте дверь, мадемуазель, мало ли что могут здесь подумать о нас с вами…
Софья, устало усмехнувшись, распахнула настежь дверь уборной. Но в этот момент до Заремина дошел смысл услышанного, и он вскочил из-за гримировочного столика так стремительно, что опрокинул баночку белил.
— Мадемуазель Грешнева, что вы такое говорите! Это… Если это блеф с вашей стороны, то, смею заметить, весьма дурного тона!
— Никакого блефа. — Софья стояла у замерзшего окна, прижавшись к нему лбом. — Если бы вы знали, как я устала от всего этого. Как мне осточертело думать, что я занимаю чужое место, делаю совсем не то, что хочу, и делаю плохо…
— Не кокетничайте, вы прекрасная певица!
— Возможно. Но я, знаете ли, так же прекрасно умею шить и кроить. И скорее всего, вернусь к этому занятию. Тогда уж никто не будет сплетничать за моей спиной и портить мою одежду. Для меня невыносимо находиться в такой обстановке, я схожу с ума, и дай бог мне завтра не сорвать Альтани премьеру. Я не рождена быть актрисой, теперь я это твердо знаю.
— Софья Николаевна… Сонечка, девочка моя… — неуверенно забормотал Заремин, подходя и не решаясь дотронуться до неподвижной, как статуя, Софьи. — Мне кажется… Мне кажется, вы преувеличиваете. Вы действительно великолепная певица, у вас прелестной окраски сопрано, вам нужно делать карьеру, не упускать ничего! Вы… вы тоже должны понять Грушеньку, ей очень тяжело сейчас. Разумеется, она перешла пределы допустимого, но… Знаете, когда ей было двадцать два года — столько же, сколько вам сейчас! — она пела в «Жизни за царя» Антониду, и перед вторым актом ей насыпали в туфли битого стекла. Кто-то из свиты соперницы, моей жене многие завидовали тогда. Кровь текла ручьем, Грушенька плакала, я умолял дирижера прервать спектакль, ведь впереди еще было три акта, невозможно несколько часов стоять на сцене и петь с такими ранами на ногах… Но она сказала, что будет петь! — Глаза Заремина засияли горделивым блеском. — Будет петь! И пела! Три часа! Ее вызывали без конца! Выйти на вызовы она уже не смогла, туфли были полны крови. Грушеньку увезли в больницу, неделю она находилась между жизнью и смертью, я сам чуть не умер там, рядом с ней, но…
— Вот видите, Осип Михайлович… — медленно произнесла Софья, водя пальцем по заиндевевшему стеклу. — Это и называется быть актрисой, певицей. Я другая. Я бы швырнула туфлей в дирижера и ушла куда глаза глядят, прочь от этой оголтелой своры комедианток, готовых искалечить соперницу ради такого пустяка. Ради пустяка, ерунды, понимаете?! Так уж вышло, что господь дал мне голос, которым я нисколько не дорожу, и талант актрисы, который мне тоже ничуть не нужен. Если б это было возможно, я легко подарила бы их первому, кто попросит. Меня не трогает успех, не пьянят аплодисменты. Я просто зарабатываю на жизнь единственным способом, который мне доступен. Я случайно оказалась здесь, в Императорском театре, и, видит бог, я в мыслях не держала, что все сложится таким образом. Вы вольны не верить мне, но это правда.
— Да… в самом деле, впервые в жизни слышу подобное, — качая головой и изумленно глядя на Софью, бормотал Заремин. — Однако… Не сочтите меня за старого сплетника, но здесь, в кулуарах, ходят всякие разговоры… Если я не ошибаюсь, вам нет нужды зарабатывать себе на пропитание…
— … поскольку я имею богатого покровителя? — с улыбкой закончила Софья. — Да, это так. Глупо скрывать то, о чем знает вся Москва. Но, видите ли, Осип Михайлович, жизнь, которую я вела смолоду, приучила меня к тому, что покровители — субстанция весьма непостоянная, и рассчитывать на их вечную помощь очень опрометчиво. Я привыкла полагаться лишь на собственные силы.
— Деточка, мне рассказывали, что ваш покровитель весьма крутого нрава… — неуверенно заметил Заремин. Софья только усмехнулась, и бас, поколебавшись, все же продолжил: — Возможно, это он настаивает на том, чтобы вы оставили театр? Я не ошибся? Многие талантливые актрисы шли на это ради своих привязанностей, но хочу вас предостеречь…
— Нет, Осип Михайлович, — перебила его Софья. — Подобные решения я всегда принимаю сама. Простите, что заняла вас так надолго, объясните все Аграфене Ильиничне, и… помоги нам завтра бог.
Она вышла из уборной Заремина, даже не заметив столпившихся в открытую прямо у дверей молодых актрис, и поспешила к себе. Головная боль усиливалась, виски ломило, хотелось домой, похлебать горячих Марфиных щей и лечь спать.
Когда Софья вышла из театра, ей сразу стало понятно, отчего так трещит голова. Погода снова переменилась: небо обложило тяжелыми снежными тучами, скрывшими солнце, вокруг потемнело, как в сумерках, и первые хлопья уже кружились в воздухе. Когда Софья подошла к дому, снег валил густой пеленой, сквозь которую едва просвечивал оранжевый огонек лампы из окна кухни.
— И чего вас носит по этим липитициям, сколько можно-то? — мрачно вопросила из кухни Марфа, когда Софья раздевалась в передней. — Уж завтра премьера, нечего бы уже так-то стараться.
— Дирекции видней. — Софья обметала веником облепленные снегом валенки. — Марфа, можно поскорей обедать, и я страшно хочу спать… Федор не приходил?
Яростный грохот чугунков был Марфиным ответом. Софья вздохнула и пошла на кухню.
Федор не появлялся уже неделю, исчезнув из дома в Богословском наутро после того, как Софье приснился кошмар. Она знала, что из Москвы Мартемьянов не уехал, и сначала не особенно беспокоилась, но к концу недели начала немного волноваться. Подливала масла в огонь и Марфа, которая ходила мрачнее тучи, разговаривала исключительно ругательствами и по сто раз на дню грозно провозглашала, что пора им с барышней идти куда глаза глядят, поскольку далее мучиться с этаким паскудником нет никакой человеческой возможности.
— Ну что ты его ругаешь… — устало говорила Софья. — Наверное, дела, он с компаньонами, у него же здесь торговля…
— Да?! Кому другому расскажите, а я этого кромешника наскрозь вижу! Дела у него! Компаньоны! Знаю я компаньонов-то этих, совестно только при вас говорить! И как совести хватает от вашей красоты по страмным девкам бегать?! Вы, как он вернется, ему спуску-то не давайте! Знаю я вас, слова не скажете, будто жена, а стоит ли он вашей милости, кобель?!
— Во-первых, я ему в самом деле не жена, и он имеет право…
— Право?! А ну как болесть какую нехорошую вам принесет из борделя-то, что вы мне тогда запоете?.. Только этого позору нам не хватало — с «французкой»[1] по докторам бегать!
— Во-вторых, — Софья изо всех сил скрывала испуг, — с чего ты взяла, что он именно там?.. Может, его, боже сохрани, зарезали где-то?..
— Своя агентура имеется! Все знаем! — отрезала Марфа и, печатая шаг, удалялась на кухню греметь сковородками.
Софья понимала, что, скорее всего, Марфа права. Шумные загулы с цыганами и проститутками у Мартемьянова случались и прежде. Раз в два-три месяца Федор пропадал куда-то на несколько дней, а иногда и недель, никого не предупредив; появлялся похмельный, черный, злой как черт, поэтому Софья обычно на некоторое время перебиралась к сестре. Потом возвращалась, и жизнь шла своим чередом. Где Федор бывает, с кем гуляет, Софья не знала, а он, разумеется, не рассказывал любовнице об этом.
Что ж… Наверное, права Марфа: надо уезжать. Спеть премьеру, продать Грешневку, которая все равно никому не нужна, вернуть Федору деньги, чтобы между ними не было никаких счетов, — и отправляться прочь из Москвы. В любой город, где есть театральная труппа или хотя бы приличное ателье. Марфа была во всем согласна со своей барышней, но настаивала на том, чтобы Софья продолжала театральную карьеру: «Оченно надо глаза-то шитьем портить, этак вы у меня к тридцати годам ослепнете, да к тому времени уже и в тиятр не сгодитесь. А на сцене чем вам плохо? Знай расхаживай да слова говори, еще и деньги за это получай! Нет, уж лучше вы в актрысах оставайтесь, все доходу больше, и спину не горбатить. А шить я и сама возьмусь!»
Размышляя об этом и прикидывая, кого попросить заняться продажей имения и не лучше ли поручить столь важное дело Анне, у которой имелся хоть какой-то опыт в денежных вопросах, Софья прилегла на диван в гостиной, укрылась шалью и задремала.
Она проснулась от приглушенных голосов в передней и долго не могла понять, который теперь час. Сначала ей показалось, что спала она недолго и сейчас еще вечер, но, запалив свечу и взглянув на ходики, Софья увидела, что уже второй час ночи.
«Федор вернулся, слава богу!» — подумала она, набрасывая на плечи шаль и от радости даже забыв принять, как рекомендовала Марфа, грозный супружеский вид. Но, подойдя к дверям гостиной, она убедилась, что ни один из голосов, робко и почтительно втолковывавших что-то Марфе, Мартемьянову не принадлежит.
— И не просите, черти копченые! — бушевала Марфа громким шепотом. — И не нойте тут дуетом, не пущу! И будить нипочем не стану! Да виданное ли дело, прымадонну перед премьерой будоражить?! Софье Николавне завтра Татьяну в Императорском тиятре петь, не ровен час голос сядет аль сокрушение какое приключится — вы, что ль, конокрады, за нее споете-то, аль аспидки ваши носатые?! Ваше ремесло, сами и разгребайтесь, а мы свой интерес разумеем!
— Марфа, что случилось? — испуганно спросила Софья, выходя в переднюю и зябко стягивая шаль на плечах. — Кто это? От Федора?
— Вот, нехристи, разбудили все-таки! — рявкнула в полный голос Марфа, делая шаг в сторону от двери.
Взгляду молодой женщины предстали двое испуганных цыганских мальчишек в мохнатых, засыпанных снегом шапках, которые, впрочем, при виде Софьи немедленно были сдернуты.
— Доброй ночи, Софья Николавна, прощенья просим!
— З-здравствуйте… — пролепетала она. — Вы ко мне, господа? Отчего ж так поздно?..
— Так что от Якова Васильева, хоревода с Живодерки, посланы со всеми скоростями, — затараторил один из мальчишек, лет шестнадцати, курчавый и широкоскулый, с блестящими хитрыми глазами. — Велено передать, что ихнее степенство Федор Пантелеевич Мартемьянов у Осетрова уж неделю как гуляют и в большое неподобание заведение привели.
— У Осетрова?.. — растерянно переспросила Софья. — Это же в Грузинах?.. Вы из цыганского хора?
— Точно так, — быстро поклонился цыганенок. — И у Федора Пантелеича гулевое расположение уже цельную неделю тянется. Поначалу, грех жаловаться, все ладно было, и на тройках с барышнями в Богородское с нами всеми катались, и вино от Шустова дюжинами брали…
Мальчишка постарше, скроив зверскую рожу, ткнул приятеля кулаком в бок, и тот растерянно умолк. Марфа гневно закатила глаза. Софья, осмотрев их всех, только вздохнула:
— Итак, — катались с барышнями в Богородское… Что же потом случилось, господа?
— Так сущее непотребство началось, — солидным баском вступил в разговор парнишка постарше. — Не в обиду вам будет сказано, только чуть не все дома с девицами в Москве объездили. А третьего дня застряли у Осетрова, да песен требуют. Девки наши уж умаялись третьи сутки-то плясать, а они все просют и просют! Да деньги такие мечут, что даже и нам страшно стало! Яков Васильич-то нам говорит: — Не берите боле, хватит с вас, да мы и сами не просим, потому много перепало и так, а Федор Пантелеич кидают и кидают! Все окна у Осетрова перебили, по залу ветер с метелью гуляют, пальмы в кадках скрючило, ни одного зеркала целого не осталось…
— Боже мой, Марфа, что же делать?.. — потерянно спросила Софья.
Та молча, свирепо сопела, глядя в распахнутую дверь.
— Уж и за полицией спосылали, так господа полицейские боятся и сунуться! Потому пистолет у Федора Пантелеича, и поначалу они по люстрам палили, потом — по воронам, а дале грозились уже и жандармов перестрелять, потому, говорят, все едино терять нечего. Тогда Яков Васильич нам велел: дуйте живо в Богословский переулок, там у Мартемьянова этуаль живет, авось она приедет, его с божьей помощью уговорит не буйствовать да домой заберет. Жандармы-то скоро спохватятся, с силами соберутся да приступом его возьмут, и это уж будет дело горячее!
Тут Софья и Марфа заголосили одновременно.
— Марфа, я еду сейчас же, он там застрелит кого-нибудь!
— Ах, сукин сын, ах, мерзавец! Софья Николавна, не смейте ехать, я сама!!!
— Марфа, да что ты с ним сделаешь, он не послушает тебя!
— А куда он, бандит, денется! Я и спрашивать не стану! Кулаком с божьей помощью по кумполу приложу да уволоку!
— Выдумала, там жандармы справиться не смогли, а ты со своим кулаком!.. Господа, я еду, подождите минуту… — последние слова Софья выпалила, уже уносясь в комнаты. Марфа тяжело затопала следом.
— Подождем, у нас извозчик за углом! — крикнул ей в спину старший цыганенок, в то время как из комнаты доносились звуки поспешных сборов, ругань и причитания.
Вскоре Софья вышла, бледная и решительная, на ходу набрасывая поверх прически платок и отбиваясь от наседающей на нее Марфы.
— Да куда ж вы, Софья Николаевна… Вот, рукавички возьмите… Да заберут его жандармы, и черт с ним, откупится, не впервой поди! Застегнитесь получше… Да у вас же премьера завтра, а вы помчались расстройство получать, а что у вас с голосом-то приключится?! Какая вам завтра будет Татьяна, один сип останется?!. Дозвольте, за ради Христа, мне!..
— Да бог с ним, с голосом… Отстань, Марфа, оставайся дома, подай лучше полушубок… Ты же видишь, у них извозчик, стало быть, быстро… Едемте, господа.
Цыгане пропустили Софью вперед, вежливо поклонились растрепанной и испуганной Марфе и бесшумно растворились в темноте. Марфа перекрестилась, машинально прикрыла дверь, села прямо на порог и заплакала.
* * *
… — А я вам говорю — нет, нет и нет! Никогда!!! Нет, у меня несвободен завтрашний вечер! У меня не бывает свободных вечеров! Да вы с ума сошли, Петухов! Я — рецензию на оперу?! Да вы бы еще на балет меня послали, Андрей Григорьич! Я понимаю, что все сотрудники больны! И что Бельэтажин запил! Он регулярно у вас запивает в течение шести лет, а рецензии на спектакли тем не менее появляются! Ах, вы сами… Ну вот и пишите, на то вы и редактор! Тряхните стариной, у вас чу-у-удно получится! А я занята! У меня полоса горит! У меня, изволите ли видеть, завтра шайка гастролеров-карманников прибывает на Варшавский вокзал, сам Гриня Сухаревский встречает, а я должна сидеть в ложе по вашей милости?! Черт знает что такое!
Сильный, звонкий, стальной голос Ирэн Кречетовской разносился по всему коридору «Московского листка», и Черменский, входя в редакцию, невольно поморщился. Северьян же, напротив, широко ухмыльнулся.
— Мать господня, никак Ирина Станиславна разоряются? Повезло тебе, Дмитрич, не разминулись!
Владимир вовсе не был уверен в том, что ему повезло. Да, в последнее их свидание Ирэн говорила о том, что в Питере ею весьма недовольны и ей, по-видимому, придется надолго остаться в Москве, где «Московский листок» и несколько других изданий всегда с удовольствием принимали ее «уголовные» статьи, но Черменский не придал словам Кречетовской значения и быстро забыл о них. Сам он все это время дописывал в Раздольном цикл очерков для того же «Московского листка». Работать нужно было быстро, из Москвы приходили отчаянные телеграммы Петухова, уверявшего, что очерки пользуются «феерическим» успехом, и требующего еще и еще. Ирэн в Раздольное не приезжала, и Владимир думал, что она все-таки выбила себе амнистию в Питере.
И вот Кречетовская собственной персоной стоит посреди кабинета Петухова и вдохновенно скандалит на всю редакцию, а в дверь гроздьями просовываются головы заинтересованных сотрудников. Вежливо раздвинув их плечом, Черменский вошел внутрь и, заглушая поток гневных воплей, поздоровался:
— Доброй ночи, Андрей Григорьич… Номер еще набирается?
Ирэн, стоявшая посреди кабинета, развернулась к нему всем телом. Ее черные глаза воинственно сверкали, кудрявые волосы стояли вокруг головы растрепанным нимбом, острые скулы горели огнем.
— Как есть царица эфиопская! — одобрил Северьян, высунув из-за спины Черменского свою раскосую физиономию и посылая Ирэн нахальный взгляд.
— Болван китайский! — отрезала она — и тут же улыбнулась. — Доброй ночи, Черменский, что ж так поздно? Вообрази, он меня в оперу загоняет! Меня!!!
Владимир через ее плечо молча посмотрел на Петухова. Толстенький, с объемным брюшком, похожий на престарелого колобка редактор обиженно поглядывал на разошедшуюся Ирэн из-под толстых стекол очков.
— Здравствуйте, Черменский, вы очень вовремя… Может, вы как-то сумеете воздействовать… Просто невыносимо стало работать! Где сотрудники, я вас спрашиваю? Где работники пера и слова?! Один запил, другой хоронит тетушку в Клину, третьего забрали в долговую, и некому написать театральную рецензию на три строки! Может быть, вовсе пора прекращать эту деятельность? Мало мне хлопот с цензурой — чуть не закрыли третьего дня из-за невиннейшей карикатуры, в которой господин обер-полицмейстер углядел собственную, так сказать, личность… Так еще и выслушивать подобные речи!
— Ирэн, а из-за чего столько шуму? — едва сумел вклиниться в эти причитания Черменский.
— В Большом, изволите ли видеть, завтра, то есть уже сегодня, премьера! — взглянув на часики, пожала плечами та. — «Евгений Онегин». Дебют госпожи Грешневой, она поет Татьяну или Ольгу, или обеих вместе, еще не выясняла… И некому написать рецензию! Бельэтажин, подлец, снова запил! А у меня приезжают питерские урки на гастроли, я их всех сто лет не видела, великолепный может быть материал, и у Грини Сухаревского всегда есть что сказать…
— Дебют Грешневой? — медленно переспросил Владимир, спиной чувствуя острый, внимательный взгляд Северьяна. — Софья Грешнева будет петь Татьяну?
Ирэн, сощурив глаза, посмотрела на него.
— Похоже, что так. А ты знаком?..
— Немного. — Черменский посмотрел на несчастного Петухова. — Так в чем же дело, я могу съездить в Большой. Андрей Григорьич, вы не возражаете? У меня, правда, нет опыта театральных рецензий, но работать в театре доводилось. Надеюсь, я не сильно испорчу материал. В крайнем случае, вы почистите.
— Дорогой вы мой! Да ради бога, поезжайте, разумеется! — обрадовался Петухов. — Вот действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Много и не надо, много пусть «Театральные ведомости» да «Вестник сцены» пишут, а наше дело маленькое: была, мол, премьера, и замечательно спела новая певица. И все!
— А вы наверное знаете, что она споет замечательно? — насмешливо спросила Ирэн, доставая папиросу и разминая ее в пальцах. При этом Кречетовская продолжала в упор смотреть на Черменского.
— В Москве говорят, что у госпожи Грешневой великолепный голос, — сказал Петухов. — Мне самому, правда, не доводилось слышать, я не большой любитель. Что ж, завтра Владимир Дмитрич нам это подтвердит… или опровергнет.
— Я уверен, опровержения не понадобится. Госпожа Грешнева в самом деле прекрасная певица… Ирэн, отчего ты меня так разглядываешь?
— Жду, когда тебе надоест валять дурака и заговаривать нам зубы, — отрезала Кречетовская. — Ты привез очерки? Или опять вместе с Северьяном ездили на лошадиную ярмарку, бессовестные лентяи?
— Среди зимы — на ярмарку? — усмехнулся Владимир.
— В самом деле, Черменский! — оживился Петухов. — Вы написали? Привезли? И молчите?! Немедля, немедля несите в набор, пойдет прямо в утреннем номере…
— Андрей Григорьич, да вы посмотрите хотя бы, может, плохо…
— У вас не бывает плохо! Это уже поняли и я, и читатели! И даже цензура!!! Сколько еще я должен вас умолять, чтобы вы вылезли из своего медвежьего угла и окончательно перебрались в Москву, на репортерскую работу?
— Бесполезно, Петухов, — с напускной печалью заверила Ирэн, изящно присаживаясь на край стола и прикуривая от поданной Северьяном спички. — Никуда этот леший из своей чащобы не вылезет. У него там, видите ли, КОНИ! И ДЕТИ! И что еще?.. Ах да — ОЗИМЫЕ ВЗОПРЕЛИ!!!
— Ирэн, Ирэн! Озимые не преют, а всходят, и…
— Вот-вот, я и говорю — леший! А вы ему, Петухов, про репортерскую работу… Да вы меня, меня должны благодарить денно и нощно за то, что я заставила его написать для вас хотя бы это!
Спорить с Ирэн, когда она находилась в таком настроении, было опасно для здоровья, и ни Петухов, ни Черменский не стали рисковать. Владимир отнес очерки в типографию, располагающуюся тут же, в подвале, получил деньги от редактора, еще раз пообещал, что завтра будет в театре, а сразу после спектакля — в редакции, и заявил, что раскланивается.
— Ты к себе, на Остоженку? — спросила Ирэн, когда они вместе вышли из дверей редакции в темную ледяную ночь.
Владимир молчал. Ирэн пришлось с некоторой досадой повторить вопрос, прежде чем в ответ послышалось:
— Да… конечно. Там Наташка сварила щи… И хоть полночи надо поспать.
— Я, может быть, приеду позже. У меня еще, видишь ли… А что это там за песнопения, в Грузинах, ты слышишь? Второй час ночи! Черменский! Черменский, эй?! Да что с тобой, черт возьми?!
— Это цыгане… — пожал плечами Черменский, глядя через плечо Ирэн в темноту и явно думая о другом. — Наверное, у Осетрова гуляет какой-нибудь купец…
— Что-то слишком громко он гуляет. — Ирэн, приподнявшись на цыпочки, вслушивалась в цыганские голоса, стройным хором исполняющие на все ночные Грузины «По улице мостовой». Затем пение оборвалось, раздался отчаянный визг сразу нескольких женщин, оглушительный звон разбитого стекла, ругань — и тут же, как ни в чем не бывало, снова зазвучала песня.
— Нет, это просто восхитительно, — пробормотала Ирэн, вытаскивая очередную папиросу и зябко запахивая макинтош, неизменный даже зимой. — Черменский, как хочешь — а я пойду посмотрю. В Питере такое не часто услышишь, а здесь, в Первопрестольной, нравы дикие… Может и статейка на завтра получится.
— Я пойду с тобой, — вздохнув, произнес Владимир.
Черменский знал, что отговорить Ирэн от принятого решения не под силу никому, а отпустить ее одну в осетровский ресторан, пользующийся в столице лихой славой, он не мог. Стало быть, прощайте Наташкины щи и спокойный сон… Но в глубине души Владимир даже обрадовался неожиданному происшествию. Голова горела, словно в жару, сердце бухало в ребра, как отбойный молоток, и все мысли заслоняла одна: завтра, в Большом театре, Софья Грешнева будет петь Татьяну. Как счастливо вышло, что он оказался в Москве…
— И охота вам, Ирина Станиславовна… — заныл из-за спины Владимира Северьян, которому тоже хотелось горячих щей, к Наташке под бок и спать. — Мало ли купцов-то по ночам гуляют, про всех писать — бумаги не напасешься, да и велика новость: Тит Титыч зеркала в ресторане бьет! Кажин день бьют, такая уж их позиция…
— Каждый день, Северьян, так не бьют, — убежденно возразила Ирэн, прислушавшись к очередному взрыву стекольного звона, слившемуся с цыганским пением, и решительно устремляясь вниз по пустому темному переулку. — Да это, похоже, уже и не зеркала, а окна! Черменский, что ты стоишь, догоняй, опять все кончится без нас!
— Иди домой, спи, я один, — без всякой надежды сказал Владимир Северьяну. Тот не удостоил его даже взглядом и своей бесшумной, чуть раскачивающейся походкой неспешно зашагал за исчезнувшим в потемках макинтошем. Владимиру оставалось лишь тронуться следом.
Знаменитый своим цыганским хором ресторан Осетрова в Грузинах представлял сегодня довольно странное зрелище: еще в переулке Черменскому показалось, что в большом зале открыты настежь все окна, и яркий свет выливается из проемов на улицу свободно. Когда они с Ирэн подошли ближе, выяснилось, что так и есть, только окна были не открыты, а все до одного выбиты, и стеклянная крошка вместе с крупными осколками затейливой мозаикой мерцала на истоптанном снегу. Кроме осколков, внизу лежали несколько разбитых вазонов из-под пальм и сами пальмы, вырванные с корнем. Молодая некрасивая цыганка с непокрытой головой, в одном платье ползала по снегу на коленях, собирая мокрые, скомканные денежные билеты, ей помогал пожилой половой. Увидев подходящих, женщина подняла сердитое и усталое лицо, с ненавистью проговорила:
— Никакой совести человеку нет!.. — и продолжила свое занятие.
— Сущий апокалипсис приключается! — подтвердил и половой. — Уж почитай что лет пять такого не видали, с тех пор, как Блудовы-братья получение наследства праздновали! Так и то тогда четыре окна целыми остались, а сейчас и вовсе ни единого! Убытку-то, убытку, мать-заступница…
— Никитич, это купец гуляет? — с ходу кинулась расспрашивать Ирэн, усевшись прямо в снег рядом с половым и ловко помогая ему собирать разлетевшиеся деньги. — Из каких? Рукавишников? Пряничкин? Столбов?
— Никак нет, Ирина Станиславовна, они приезжие, костромские, тута только дела имеют да зазнобу.
— Что, и зазноба тоже там? — кивнула Ирэн на разбитые окна, из которых доносилось заунывное пение. — Какая-то цыганка? Стеша, это из ваших?
— Нет, наших они никого не обожают, — фыркнула Стеша. — У них актерка в содержанках живет, певица из театра, Софья Грешнева. Но она с ним не приезжала!
Северьян молча, быстро взглянул на Черменского, но тот не заметил этого, потому что сердце внезапно стукнуло так, что отдалось в ушах.
— Здесь Мартемьянов? — словно со стороны услышал он собственный охрипший голос. — Федор Пантелеевич?
— Точно так, — удивленно подтвердил Никитич.
Ирэн, прекратив шарить руками в снегу, повернула к нему нахмуренное лицо, но Черменский и этого не заметил и быстро, словно боясь опоздать, зашагал к высоким дверям ресторана, в которых тоже не осталось ни одного целого стекла. Северьян метнулся следом, и в огромный зал они вошли вместе.
В знаменитом «цыганском» зале ресторана Осетрова гуляла метель. В разбитых окнах печально качались занавеси, свободно пропуская под собой снежные хлопья, и блестящий наборный паркет уже был покрыт небольшими сугробиками. Скатерти, сдернутые со столов, валялись тут же на полу, скомканные, как тряпки. Осколки битой посуды и зеркал устилали паркет ковром. Всюду, как газетная бумага, были разбросаны ассигнации весьма немелкого достоинства. Северьян ловко наступил на одну из них, поднял, покосился на Черменского и осторожно отправил ассигнацию за пазуху. В углу, тесно прижавшись друг к дружке, дремали три девицы из близлежащего публичного дома мадам Данаи Востряковой. Носы у них были красные, замерзшие, сбитые набок шляпки смотрелись довольно жалко, и выглядели жрицы любви очень усталыми. Стулья, стоящие полукругом и предназначавшиеся для цыганского хора, пустовали, да и цыган в зале было уже немного: несколько немолодых женщин, укутавшихся в салопы и шали, и заспанные, хмурые гитаристы. Видимо, хоревод проявил благоразумие и спровадил красавиц солисток через черный ход домой, чтобы не допустить непотребства. Оставшиеся цыгане, едва скрывая зевоту, героически и довольно слаженно тянули:
Ты гори-гори, моя лучина, Догорю с тобой и я…Владимир долго стоял на пороге, рассматривая разгромленный зал, перевернутые столы, усталых цыган и строгое, ничуть не опечаленное лицо хозяина, Фрола Григорьича Осетрова, по морщинам на лбу которого можно было безошибочно определить: ресторатор вовсю подсчитывает убыток и решает, с чего завтра начинать ремонт. Но песня кончилась, в дальнем углу, где не горели лампы, шевельнулось что-то мохнатое, огромное, хриплым голосом потребовало: «Снова то ж!» — и Черменский увидел Федора.
Владимир узнал Мартемьянова сразу, хотя они не встречались четыре года, первый купец Костромы за это время не изменился. Все таким же осталось его жесткое, некрасивое, словно вырезанное из темного дерева лицо, такими же черными, курчавыми и встрепанными, как просмоленная пакля, были его волосы и короткая борода, все так же недоверчиво, недобро и упорно смотрели из-под сросшихся бровей блестящие, совсем, казалось, не пьяные глаза. Но когда мужчины встретились взглядами и Мартемьянов с заметным усилием поднялся из-за стола, Черменский убедился: пьян очень сильно и непостижимым образом держится на ногах. Впрочем, купец и прежде был довольно крепок во хмелю.
— Здравствуй, Владимир Дмитрич, — хрипло и спокойно, ничуть не удивленно сказал он.
Владимир увидел у него на лбу длинную, сочащуюся кровью царапину: наверное, чиркнуло разбившимся стеклом.
— Здравствуй и ты.
— Выпьешь?
— Не откажусь.
Не сводя друг с друга глаз, они опустились за стол, на котором, кроме полупустой бутылки водки, пачки денег, револьвера, тарелки с солеными огурцами и стакана, ничего не было.
— Стакан мне! — прорычал в сторону Мартемьянов, и тут же половой, метнувшись, угодливо поставил на стол чистую рюмку.
— Вот и свиделись, что ли, Владимир Дмитрич? — негромко спросил через стол купец, и Черменскому снова показалось, что Федор почти не пьян. — Ну, за встречу! Эй, вы там, жареные, повеселей что-нибудь!
Цыгане послушно затянули «Матушку-сударушку». Мартемьянов, как воду, вытянул полный стакан водки, откусил огурец. Довольно долго молчал, глядя в разбитое окно на падающие хлопья снега. Черменский ждал. Сердце в груди колотилось как бешеное. Он чувствовал, что застывший в двух шагах у стены Северьян ищет его взгляда, пытаясь определить план действий, но не поворачивался к другу, поскольку плана никакого не придумал.
— Видишь, стало быть, все-таки по-моему вышло, Владимир Дмитрич? — не отворачиваясь от окна, произнес Мартемьянов.
Черменский поставил пустую рюмку на стол. Помолчав, согласился:
— Стало быть, так.
— Ты меня обдурить тогда попробовал… мол, утопилась она… Что, не вышло?
— Не вышло, — снова согласился Владимир.
— Четвертый год ведь она со мной. И прочь идти не желает, хоть, бог свидетель, веревками я ее не вязал.
— Знаю.
— Жениться вот на ней думаю к Пасхе.
— Женись, Федор Пантелеич, бог в помощь, — ровным голосом отозвался Владимир, и Северьян, хорошо знавший, чем может обернуться это спокойствие, медленно отлепился от стены и приблизился.
— А, и ты здесь, недобитый? — не поворачиваясь к нему, проговорил Мартемьянов. — Что — жив покуда, конокрад?
— Твоими молитвами, — почти весело ответил Северьян. — Владимир Дмитрич, ты меня, конечно, можешь и не слушать, только я вот тебе так скажу…
— Замолчи! — дружно повернувшись к нему, крикнули Черменский и Мартемьянов.
— Я тебе так скажу, — нахально, словно не услышав, продолжил Северьян. — Что, коли человек со своей бабой ладом живет да еще жениться собирается, он неделями по девкам и кабакам не шляется, водку не жрет, окна в приличном заведении не крушит! Брешешь, Федор Пантелеич, ни черта у тебя там хорошего нет! И ни в жисть наша с Дмитричем Софья Николавна за тебя не выйдет, хоть ты ее озолоти! Да еще…
Закончить он не успел: бутылка водки со стола полетела прямо ему в голову, и, не будь у Северьяна великолепной реакции, ему тут же пришел бы конец. Но Северьян успел отклониться, и бутылка под дружный вопль цыганок и проснувшихся проституток разбилась о стену, осыпав пол осколками. Мартемьянов, зарычав, вскочил из-за стола, и Северьян с готовностью метнулся купцу навстречу, но Черменский удержал друга:
— Уймись. Он пьян. Назад, говорят тебе!
Северьян с огромной неохотой подчинился, ворча сквозь зубы, как гончая собака, которую насильно отводят от волчьей норы. В это время звонкий голос с порога залы восхищенно провозгласил: «Боже мой, вот так Шипка!», и Черменский понял, что наконец-то появилась Ирэн.
— Действительно, бесподобно, — заявила она, подходя вплотную к столу. — Северьян, почему у тебя шерсть дыбом, что тут еще случилось? Господин купец, это вы так разнесли Осетрову его заведение? Имеется весомый повод? Вы намерены оплачивать убытки? Вам известно, что полиция уже вызвана?
— Это еще что такое? — удивился Мартемьянов, глядя на стоящую возле стола и беззастенчиво рассматривающую его черноволосую стриженую девушку с папиросой в углу губ и в мужском макинтоше.
Ирэн мило улыбнулась в ответ, взяла со стола револьвер купца и, размахнувшись, швырнула в окно. Мартемьянов с некоторым уважением покачал головой. Вопросительно взглянул на Черменского.
— Это Ирина Станиславовна Кречетовская, — пояснил Владимир. — Сотрудник «Московского листка», моя… — Он запнулся на мгновение, не зная, как отрекомендовать Ирэн, и та непринужденно подсказала:
— Его любовница.
— Вона как, — без улыбки заметил Мартемьянов. — А жениться, стало быть, не желает?
— Да, не имеет таких намерений, — пожала плечами Ирэн. — И я, признаться, тоже, карьера моя к замужеству не располагает.
— Куда как хорошо устроился-то, Владимир Дмитрич! — глядя на смеющуюся Ирэн, покачал лохматой головой Мартемьянов. — На что ж тебе еще и Софью мою до такой компании?
— Не помню, чтобы я об этом говорил. — Владимир почувствовал, как от бешенства сводит скулы. Рука Северьяна уже лежала на его плече, и голос друга нашептывал в ухо: «Спокойно, Дмитрич, спокойно, вот на двор выйдем, там ему рыло-то на пару и начистим, здесь нельзя, бабы тут, визг поднимется…» Но Черменский сбросил руку Северьяна и, всей кожей чувствуя прямой взгляд Ирэн, отчеканил: — Софья Николаевна вольна была сама принимать решение… и она его приняла. Не мне вмешиваться в ее жизнь, коль уж она так счастлива с тобой. Если это, разумеется, правда.
— А ежели нет? — неожиданно спросил Мартемьянов.
Владимир не ответил, и купец, криво, нехорошо усмехнувшись, опустил встрепанную голову. Молча протянул в сторону руку, в которую услужливый половой тут же вложил открытую бутылку водки, сам налил себе полный стакан, выпил, на этот раз не предложив Черменскому, и, уставившись в стол, глухо, сквозь зубы произнес:
— Дурак ты, твое благородие, каких свет не родил. И четыре года назад дураком был, когда со своим конокрадом обвести меня вздумал… и допреж не поумнел. Вот я тебе сейчас скажу… Скажу оттого, что пьян, от тверезого ты от меня нипочем не услыхал бы, так что слушай… пользуйся. Я ведь ее обманом взял, Софью-то. Ты, поди, у себя в Раздольном удивлялся, отчего она на письма твои не отвечала. Не отвечала, потому что не получила ни единого. Я их получал. Большие-то деньги у нас в Расее чудеса делают. А помогала мне Машка Мерцалова, актрыска, которая по тебе еще с Костромы сохла. Вдвоем мы Софью до того довели, что она во всякой любви отчаялась и со мной поехала — как в омут головой кинулась. Мы с ней полгода за границей прожили, и я кажин день на нее смотрел и видел, что у нее ты по-прежнему в глазах стоишь. Видел, хоть она слова мне про то не говорила! А осенью Соня эти письма твои растреклятые у меня нашла… — Мартемьянов недобро усмехнулся, исподлобья взглянул на Черменского мутными черными глазами. — И не уехала! Слышь, ты, — не уехала! — Тяжелый кулак грохнул по столу так, что, зазвенев, опрокинулась рюмка. — При мне осталась, хоть я уж силом-то не держал! Понимал небось, что козыри мои кончились… А она не ушла… Посейчас живет со мной, по своей воле! На все четыре стороны уйти может — ан не уходит! — Мартемьянов вдруг рассмеялся и через стол в упор посмотрел на Черменского. — Да нужна ль она тебе, Владимир Дмитрич? Душу положу, что без надобности… Я тебе так скажу: когда б я знал, наверное знал, что она, Соня, ко мне так, как к тебе… Я б тогда у забора не стоял… Ох, не стоял бы! И с девкой стриженой в польте мужском не обжимался б! Я б к ней, к Соне моей, через полземли пришел бы, на карачках бы дополз, на пузе, коль бы силов не хватило… У самого черта из-под носа бы увел, с того света б на руках унес! А ты… Коль на свадьбу приглашу весной — придешь, что ли?!
Владимир встал, чувствуя как темнеет в глазах, не слыша испуганного возгласа Ирэн и радостного вопля Северьяна, решившего, что наконец-то началось. Мартемьянов вскочил тоже, чуть не опрокинув стол… и в это время от дверей раздалось негромкое:
— Федор!
Владимир повернулся — и увидел Софью.
Она стояла в дверях в распахнутом салопе и съехавшем на затылок пуховом платке, из-под которого пушистыми прядями выбивались покрытые снегом волосы. Весь в снегу был и подол черного платья. Широко раскрытые глаза удивленно скользили по засыпанному битым стеклом полу, пустым оконным проемам, сорванным скатертям и перевернутым столам. Никакого испуга в этом взгляде Владимир не увидел. За спиной Софьи стояли два цыганских парня. Косясь на огромную фигуру купца, они по стенке прокрались к гитаристам и негромко, взволнованно заговорили с ними на своем языке.
— Федор, что ты делаешь? — спросила Софья, подобрав подол платья и пробираясь между опрокинутыми столами и табуретками к Мартемьянову. Владимир с невольным восхищением отметил, как она спокойна. — Это все ты устроил? Лихо, нечего сказать… Что ж, теперь, может быть, поедем домой?
Мартемьянов поднялся из-за стола во весь рост. Казалось, он ничуть не смущен появлением любовницы, но Черменский успел заметить, что в черных глазах Федора мелькнуло смятение. Но это было лишь мгновение: в следующую минуту Мартемьянов зычно заорал в сторону притихших цыган:
— Эй, нехристи, что примолкли там? Заплочено вам аль нет? Не видите — невеста моя прибыла, Софья Николаевна! Величальную!!! Величальную, конокрады копченые!
Неуверенно всхлипнула одна гитара, за ней — другая. Цыгане подошли ближе, с любопытством уставились на Софью. Та слабо улыбнулась в ответ — и только сейчас увидела Черменского.
Он не сводил с нее глаз, готовый заметить любую перемену в лице, надеясь бог знает на что, ведь не мог быть напрасным этот ошалелый стук сердца, из-за которого Владимир даже цыганских гитар не слышал… И собственный голос показался чужим, сиплым, незнакомым:
— Софья Николаевна, добрый вечер.
— Доброй ночи, Владимир Дмитриевич, — ровно ответила она.
Ее лицо стало таким белым, что Владимир испугался.
— Зачем вы здесь?
— Вы же сами видите.
— У вас завтра премьера, вы рискуете посадить голос…
— Возможно.
— Поезжайте немедленно домой!
— Едва ли вы имеете право настаивать на этом.
Она стояла в двух шагах и смотрела на него не опуская глаз: зеленых, тревожных, полных слез глаз, которые четыре года снились ему по ночам. Владимир не знал, что сказать Софье. Он понимал: сейчас может произойти что-то важное, что перевернет их жизнь и все исправит, догадывался, что другого случая, наверное, уже не будет… и не мог произнести ни слова. Молчала и Софья. По ее бледному лицу медленно сползла капля талого снега с волос, она не глядя смахнула ее. Не сводя глаз с Черменского, тихо сказала:
— Федор, едем домой. Здесь в самом деле скоро снова будет полиция. Ты перепугал полгорода.
— А ежели не поеду? — спокойно, без всякой издевки спросил Федор. — С ним вот укатишь, матушка? И полюбовница его стриженая тебе не в помеху будет? Посмотри, вон она стоит… Красивая, мне даже спьяну видать, что хороша… Эй, вы, черти, что примолкли-то?! Ну-ка, сюда все! Да громче играйте-то, пристали, что ль? Скоро уж отдых вам будет, а пока…
Он, шатаясь, подошел вплотную к Софье, и та отвернулась от Владимира. Посмотрев на Мартемьянова, устало проговорила:
— Федор, ты простудишься насмерть. Сколько ты уже так сидишь?
Черменский только сейчас заметил, что поверх обычной полотняной рубахи, залитой вином и порванной от ворота почти до пупа, на Мартемьянове ничего не надето. Но тот лишь мотнул лохматой головой и качнулся к Софье так, что ее обожгло пахнущим перегаром и солеными огурцами дыханием, а черные сумасшедшие глаза оказались совсем близко.
— Ништо… Не барских кровей небось. Эй, вы там! Конокрады! Ну, спойте напоследок-то, и леший с вами, поеду я! Давайте! «Очи черные»!
Цыгане переглянулись. Взяли гитары наперевес, как один одарили Софью смущенными улыбками и выпихнули вперед сердитую, кутающуюся в шаль Стешку. Та огрызнулась на них по-своему, посмотрев на Софью, пожала плечами и гортанно, низко взяла:
— О-о-очи черныя-я-я…
Мартемьянов искоса взглянул на нее. Поймал цыганку за руку, осторожно привлек к себе и неожиданно подтянул ей хриплым, сорванным, но довольно верным басом:
Очи черные, очи страстные, Очи жгучие и прекрасные! Как люблю я вас, как боюсь я вас, Знать, увидел вас я в недобрый час!Владимир смотрел на Софью. Рядом с ним стояла Ирэн, он чувствовал ее острый, внимательный взгляд, где-то на задворках сознания понимал, что ситуация сложилась отвратительная, — и все же не мог отвернуться от смуглого, тонкого, чуть побледневшего лица, от зеленых глаз, наблюдавших за пьяным Федором без отвращения, без гнева, с едва заметной грустью. А тот, в упор уставившись на нее шальными от водки глазами, машинально стирал кулаком со лба кровь и уже не пел, а просто хрипло говорил вслед за цыганкой под переборы гитар:
Часто снятся мне в полуночной тьме Очи черные, непокорные, А проснулся я — ночь кругом темна, И здесь некому пожалеть меня… Не видал бы вас, не страдал бы так, Я бы прожил жизнь улыбаючись, Вы сгубили меня, очи черные, Унесли навек мое счастие…Наконец песня кончилась. Стешка улыбнулась, поклонилась Мартемьянову (тот серьезно ответил тем же) и, подойдя к Софье, шепотом сказала:
— Ты, матушка, забирай его поскорее, покуда буйствовать опять не ударился, сейчас самое время…
Она кивнула. И, подойдя к Федору, спокойно, но решительно взяла его за плечо.
— Ты весь дрожишь. Едем. Прошу тебя.
— Вот скажи, что любишь меня, — и поеду, — опустив глаза, хрипло произнес он сквозь зубы. — В тот же миг поеду. Вот так скажи, чтоб и барин твой слышал, и девка его стриженая.
— Я люблю тебя, — медленно, раздельно, словно втолковывая что-то ребенку, проговорила Софья. Глаза ее были полны слез, и одна уже бежала по щеке. — Едем.
— Поцелуй, не то не поверю, — по-прежнему глядя в пол, потребовал Мартемьянов. Софья молча, приподнявшись на цыпочках, обняла его за шею, коснулась губами щеки.
— Не сюда!
Сграбастав Софью в охапку и качнувшись при этом так, что они вдвоем чуть не грохнулись на пол, Федор сам поцеловал ее в испуганно открывшиеся губы. Софья осторожно, но настойчиво высвободилась. Владимир видел, как дрожат ее руки и покрывается красными пятнами лицо.
— Едем, Федор. — Отвернувшись, она быстро пошла к дверям.
Мартемьянов пожал плечами и тронулся было за ней — но на полпути остановился, глянул на Черменского — и неожиданно усмехнулся, сверкнув белыми крупными зубами:
— Ведь моя все ж взяла, твое благородие, а?
В ту же секунду Владимира сорвало с места. Миг — и зал наполнился звоном стекла, треском ломающихся стульев, отчаянными воплями цыганок и мужской головокружительной руганью: Черменский и Мартемьянов покатились по полу, яростно молотя друг друга и опрокидывая все, что каким-то чудом еще держалось на своих местах. Затрещав, полетела на пол вместе с карнизом уцелевшая занавеска, двое цыган, схватив гитары, вспрыгнули на столы, цыганки бросились по углам.
— Ой, мамочки… Ой, мамочки-и… — тоненько пищала самая молодая из проституток, розовая блондинка лет шестнадцати, прижавшись к стене и стиснув кулаки. — Осподи, да разведите ж их, люди добрые, поубивают ведь друг друга!..
Софья опомнилась первая и кинулась к дерущимся. Сначала ее даже не заметили, и неизвестно кто, Мартемьянов или Владимир, отшвырнул ее так, что она отлетела к стене и охнула, ударившись затылком. И тут же, вскочив на ноги, как кошка, бросилась снова. На этот раз ей удалось повиснуть на спине Мартемьянова, и он с бешеной руганью отбросил ее. Софья снова полетела к стене, упала, закричала от боли, проехавшись щекой по усыпавшим пол осколкам. И снова поднялась, снова кинулась в драку, и от ее истошного вопля вздрогнули все:
— Федор, я тебе горло перерву!!!
Бах! Бах! Бах! — вдруг раздались оглушительные хлопки. Это было так неожиданно, что драка прекратилась, и катающийся по полу ком распался. Все увидели Владимира, ругающегося отборным армейским матом, Мартемьянова, рычащего, как цепной пес, и плачущую Софью с залитой кровью щекой.
— Шармант, дамы и господа. Великолепно! — издевательски похвалила Ирэн, убирая в сумочку еще дымящийся «франкотт», и быстро подошла к полю битвы. Попутно она отвесила такой подзатыльник Северьяну, что тот качнулся.
— Ты чего стоял, болван, как вкопанный? Труса праздновал?!
— А вот черта лысого! — вскинулся оскорбленный Северьян. — Два на одного, да еще пьяного, — не по чести будет, да Владимир Дмитрич и сам бы управился… Дмитрич, ты рехнулся, что ли? Какого лешего я тебя десять лет китайскому мордобою учил?! Чтоб по-русски хари друг другу чистить?! С таким медведём по-русски драться — здоровье не беречь!
Но Черменский ничего не слышал. Он сидел на полу рядом с Софьей, обнимая ее, и скомканной салфеткой осторожно вытирал кровь с ее щеки. Растрепанная голова Софьи лежала на его плече, зеленые, широко открытые глаза не отрываясь смотрели в лицо Владимира. Губы, покрытые уже запекающейся кровью, что-то едва слышно шептали. Владимир так же тихо отвечал ей. Мартемьянов, сидя в углу, молча, упорно глядел на них из-под сросшихся бровей, но почему-то не двигался с места. За ним так же напряженно наблюдал напрягшийся, каждую минуту готовый броситься вперед Северьян. По стенке к дверям бесшумно двигались перепуганные зрители. Цыган уже давно словно сдуло ветром; последними убежали проститутки и половые ресторана. Ирэн не спеша, размеренно, как часовой, ходила по залу, держа на отлете папиросу; тонкие брови на бледном лице Кречетовской были мрачно сдвинуты. Наконец, резким движением отбросив в угол окурок, она подошла к Черменскому и Софье и отчеканила:
— Все это очень трогательно, господа, но я рекомендовала бы вам, мадемуазель, — журналистка холодно посмотрела на Софью, которая сразу же отстранилась от Владимира, — забирать свое буйное сокровище и поскорее уезжать. Полиция будет с минуты на минуту.
Зеленые глаза высохли мгновенно — Владимир даже не успел удивиться сей стремительной метаморфозе. Софья вытерла остатки крови со щеки, чуть поморщилась, задев ссадину, смерила Ирэн не менее ледяным взглядом и с достоинством ответила:
— Я рекомендовала бы и вам забирать своего… друга и уходить. Драка начата им, закончена вами, причем оружие первой достали вы. Хотя можно было вполне обойтись и без этого эффекта. Полиция действительно может приехать очень быстро.
По лицу Ирэн мелькнуло странное выражение изумления пополам с горечью. Оно, впрочем, тут же пропало, и заметить его успел только Черменский. Тут же Ирэн вскочила на ноги и деловито распорядилась:
— Черменский, делаем ноги, мадемуазель Грешнева права.
Владимир не ответил. Он продолжал смотреть на Софью. Та, отвернувшись от него, встала на ноги, болезненно поморщилась и начала отряхивать платье.
— Я поеду с вами, Софья Николаевна.
— Нет.
— Не спорьте, вы не справитесь с ним одна.
— До сих пор великолепно справлялась. — Софья обернулась, посмотрела на Владимира внимательно и грустно. — Где ваше воспитание, господин Черменский? Вы пришли сюда со своей дамой — следовательно, ее вы и должны провожать.
— Ирэн — не дама!
— Да? Как же она умудряется в таком случае быть вашей любовницей?
— Браво, — тихо сказала Ирэн, на лице которой застыла странная усмешка.
Владимир молчал. Впечатление было такое, будто ему плеснули в лицо кипятком. Чья-то рука с силой сжала его плечо, и он знал, не оборачиваясь, что это Северьян.
— Едем, Дмитрич. Не идет нам карта сегодня.
Он отчетливо понимал, что друг прав. И все же не мог ни сдвинуться с места, ни отвести взгляда от Софьи, которая, подойдя к сидящему на полу Мартемьянову, наклонилась и вполголоса произнесла несколько слов.
Федор опустил голову. Тяжело, не сразу поднялся на ноги, качнулся, удержавшись за стену, и медленно, шатаясь, пошел вслед за Софьей к выходу. Судя по страшному треску, донесшемуся спустя минуту снаружи, на улице он все-таки свалился.
— Северьян… — не глядя позвал Владимир, и тот молнией метнулся к дверям. Вернувшись пять минут спустя, доложил:
— Они-таки грохнулись на снежочке-то. Ну да ничего, хужей, чем есть, не будет. Я их в сани помог загрузить и Софью Николавну тоже подсадил.
— Она плачет? — зачем-то спросил Владимир.
— Не… Строгая такая сидит, молчит… Мне, правда, улыбнулась. Спасибо, говорит, Северьян, и как звать, не забыла… Тут недалече, скоро доедут. Мы-то куда сейчас, Дмитрич? Пойдем напьемся, что ль, с горя?
Черменский молчал. Ничего не говорила и стоящая рядом Ирэн.
— Я, пожалуй, вернусь в редакцию, — негромко, словно ни к кому не обращаясь, проговорила она. — Петухов наверняка еще там, сообщу ему сногсшибательную новость: премьера в Большом не состоится!
— Не пиши об этом, — не глядя на нее, попросил Владимир.
— Почему? — изумилась она. — Ты полагаешь, Грешнева сможет завтра выйти петь Татьяну с таким лицом?!
— Я давно ее знаю и полагаю, что она сможет все, — заверил Черменский. — Не пиши. Ты рискуешь оказаться в глупом положении.
— Если об этом раньше меня напишут другие, я окажусь в еще более глупом положении! — взорвалась Ирэн. — Черменский! Что, черт возьми, происходит?! Грешнева — твоя бывшая пассия? Вы встречались когда-то?
По затянувшемуся молчанию Ирэн поняла, что ответа не будет, с сердцем загасила папиросу о стену, сухо бросила: «Ну, как угодно…» и, подняв ветер распахнутым макинтошем, быстро вышла из ресторана.
— Дмитрич, как же она на тебя смотрела… — вполголоса произнес Северьян. — Из меня и то чуть слезу не вышибло.
— Кто — Ирэн?..
— Да Софья же! — рассердился Северьян. — Эка невовремя-то Ирина Станиславна влезли! Еще б чуть-чуть — и плюнула бы наша Софья Николавна на своего купца! И с нами бы укатила! Эх, ну вот завсегда это бабьё невпопад сунется!
Черменский ничего не сказал. Молча они покинули разгромленный ресторан, прошли мимо сгрудившихся у извозчичьих саней и о чем-то тихо спорящих цыган, пересекли Большую Грузинку, свернули на Садовую, и только на пустой, призрачно освещенной голубыми фонарями Тверской Северьян вдруг вспомнил:
— Дмитрич, а что ты ей говорил, Софье-то? Ну, когда она у тебя в охапке ревела, а ты ей кровянку вытирал?
— Я говорил, что люблю ее, — равнодушно, словно думая о другом, ответил Черменский.
Северьян осторожно посмотрел на его неподвижное лицо с уже взбухшим возле глаза багровым синяком, почесал затылок, неуверенно спросил:
— А она-то… что она тебе сказала? Ведь говорила чего-то, я видел!
Владимир не ответил. Северьян не рискнул спрашивать еще раз, и до самой Остоженки они шли молча.
* * *
— Матушка-заступница!!! — закричала Марфа, когда в проеме открытой двери показалось бледное, усталое, разбитое в кровь лицо Софьи. — Пресвятая Богородица, да что же это такое?! Где?! Где эта сволочь проклятая, да я сейчас, я ему!..
— Марфа, это не он, — торопливо произнесла Софья, опираясь плечом о косяк.
— А кто?!!
— Я сама… Я влезла в драку… Марфа, ради бога, я не могу уже говорить, я устала, у меня болит голова… Я сейчас поеду ночевать к Ане, здесь совсем рядом, я не отпускала извозчика. Там, в санях, Федор, он у меня заснул по дороге, я не могу его поднять, помоги… Да оденься!
— Ничего, небось не застыну! — Марфа в одной рубашке, босиком выскочила на заваленное снегом крыльцо. — А вы сами-то отчего раздетые? Салоп где? Платок где?! Это вы так от самых Грузин ехали?!
— Да… — растерянно проговорила Софья, только сейчас заметив, что на ней поверх черного, уже заиндевевшего платья нет ничего. — Боже мой…
— О-о-о, я ему завтра… Пусть только, сукин сын, проспится… — Марфа ловко, по-медвежьи переваливалась по сугробам к черневшим у забора саням, из которых доносился чудовищный храп. — Софья Николавна, я сама управлюсь, а вы сей же минут домой! Оденьтесь! Чаю выпейте! А там посмотрим, куда вам ночевать ехать! Да я лучше этого кромешника под забором замерзать оставлю, чем вас куда-то отпущу!
Не слушая ее, Софья сдернула с гвоздя старый Марфин полушубок и ковровый платок, оделась и быстро вышла из дома. Через четверть часа она была в Столешниковом переулке и звонила в дверь сестры. А еще через несколько минут лежала на кровати, запрокинув лицо с закрытыми глазами, горничная снимала с нее промерзшие насквозь валенки, а встревоженная, едва сдерживающая слезы Анна в кое-как запахнутом пеньюаре отрывисто говорила заспанной кухарке:
— Фекла, у нее сильный жар, достань липового цвету, приготовь обтирание, завтра нужно будет послать за доктором… Боже мой, боже, что же могло случиться?! Бедная моя, бедная, зачем… Будь она проклята, эта наша жизнь!..
* * *
На следующий день, ближе к двенадцати, Владимир Черменский стоял на крыльце дома графини Анны Грешневой. На звонок прибежала горничная и, узнав гостя, с ужасом уставилась на его синяки, за ночь приобретшие богатейшую палитру багрово-желто-сизых тонов.
— Господи, Владимир Дмитрич, да вас-то где угораздило?!
— Даша, доложи обо мне графине, — не отвечая, попросил Черменский. Час назад Северьян всеми силами отговаривал его наносить визит Грешневым, уверяя, что с такой физиономией Владимиру даже не дойти до Столешникова переулка: еще на Тверской заберет полиция. Черменский не послушался, но извозчика, чтобы не нервировать служителей правопорядка, однако же взял.
Горничная вернулась спустя пять минут, растерянная и смущенная.
— Владимир Дмитрич, барыня передали, что не принимают… и что вам навовсе от дома отказано. Уж простите, как есть говорю.
Черменский кивнул, ничуть не удивившись. Спокойно сел в кресло у стены и сказал Даше, что он с места не двинется, пока графиня не соблаговолит его принять. Горничная, ахнув, кинулась докладывать.
Ждал Черменский недолго: через несколько минут в приемную, шурша платьем, быстрыми шагами вошла графиня Грешнева.
— Господин Черменский, я, кажется, достаточно ясно дала понять… О-о-о, бо-о-оже, Володя, что с вами?!
— То же, что и с Софьей Николаевной, — с легкой досадой ответил Черменский, вставая и не решаясь привычно поцеловать графине руку. — Я, собственно, приехал справиться о ее здоровье и…
— Как вам не стыдно?! — взвилась Анна. — Соня приехала ко мне в три часа ночи, одна, насквозь промерзшая, в жару, с разбитым лицом, в слезах! Упала в постель, ничего не объяснив, у нее сразу началась горячка, она прометалась всю ночь, я опасалась за ее рассудок! Час назад был доктор, уверяет, что это нервное, да еще сильнейшая простуда! Соня в бреду, постоянно повторяет ваше имя! Я кое-как поняла, что вчера она была с вами, это так? Да или нет?! Как вы могли отпустить ее одну в таком состоянии?! Что это за побоище у Осетрова, в котором вы вместе приняли участие? О Сониной премьере уже и речи быть не может! Я лишь час назад послала в театр человека известить о ее нездоровье, а газеты уже пишут всякий вздор! Что вы натворили вчера? Почему об этом уже пишет «Московский листок» и мне прислуга рассказывает подробности?! Боже, Владимир Дмитрич, я не ожидала от вас!..
Черменский слушал эту обвинительную речь молча, все больше и больше темнея лицом. Под конец он перебил Анну самым невежливым образом, встав и потребовав сию минуту утренний номер «Московского листка». Графиня принесла его из комнаты, брезгливо держа двумя пальцами, и Владимир, забыв поблагодарить, развернул смятую газету.
Заметка Ирэн шла на первой полосе и называлась «Битва в Грузинах».
* * *
«С глубокой грустью редакция уведомляет москвичей, что так долго ожидаемая премьера «Евгения Онегина» в Большом Императорском театре не состоится. Причина этому весьма тривиальная: исполнительница партии Татьяны госпожа Грешнева была очень занята накануне премьеры, и отнюдь не шлифовкой очаровательных нот своего верхнего регистра. Известный в Москве костромской купец первой гильдии Федор Мартемьянов в течение недели развлекал собственную персону цыганским искусством, которым так знаменит ресторан Осетрова в Грузинах. Госпожа Грешнева, которая уже несколько лет является сердечной привязанностью господина Мартемьянова, напрасно ждала его в эти дни у домашнего очага и в конце концов…»
* * *
Далее на половине полосы спокойным, чуть ироничным, так хорошо знакомым Владимиру стилем было изящно изложено во всех подробностях вчерашнее происшествие у Осетрова. Ирэн даже указала полностью фамилии, чего, как правило, не делала, если ее об этом не просили, и только своего имени Черменский в статье не нашел. Подписан сей опус был традиционно: «Поручик Герман».
— Какая гадость, как это отвратительно! — отрывисто произнесла Анна, глядя через плечо Черменского на газетные строчки. — Что Соня могла сделать автору заметки? С какой стати он называет ее здесь «сердечной привязанностью» и «интимной знакомой» этого разбойника?! Да, все правда, мне ли не знать, но отчего такое злое, такое беспардонное вмешательство в частную жизнь?.. Неужели Мартемьянов ее избил?! Откуда все так быстро стало известно? Владимир, вы можете объяснить мне хоть что-нибудь? Этот фарс подписан неким поручиком Германом, но я в жизни не поверю, что мужчина способен на подобную мерзость! Такое только нашей сестре под силу… Соня все время зовет вас. Вы были вчера там, с ней? Как вы могли допустить это?
— Простите меня, графиня, — не поднимая глаз, проговорил Черменский. — Я действительно был там. И… наверное, мог не допустить, но… Случилось то, что случилось, и виноват в значительной степени я.
Наступила тишина. Анна пристально вглядывалась в сумрачное лицо Черменского, но продолжения не следовало.
— Владимир Дмитрич, объясните же мне наконец…
— Вам все расскажет Софья Николаевна. — Владимир по-прежнему смотрел в пол. — Вы самый близкий ей человек, и я уверен, что она ничего от вас не скроет. Впрочем, скрывать вашей сестре нечего. Она одна этой ночью повела себя самым достойным образом. О себе я подобного, к сожалению, сказать не могу.
— А этот человек? Мартемьянов?
— Он был страшно пьян и вообще не мог ни за что отвечать, — помедлив, произнес Черменский. — Им сейчас занимается ваша Марфа… и я ему, признаться, не завидую.
Уже на крыльце Анна удержала Черменского за рукав и взволнованно спросила:
— Володя, ведь вы любите ее? Вы вольны не отвечать, но я еще что-то понимаю в людях. Ведь вы любите Соню как прежде?
— Да, — просто, не задумавшись, ответил он.
— Отчего же вы медлите?
Черменский пожал плечами. Какое-то время молчал. Затем, глядя на скачущих по кустам сирени синиц, поинтересовался:
— Вы предлагаете мне похитить Софью Николаевну против ее воли, как черкесскую княжну?
— Иногда я думаю, что это было бы лучше всего, — медленно сказала Анна. — До свидания, Володя. Не забывайте меня, заходите.
— Разве мне не отказано от дома? — грустно улыбнулся он.
— Полно, какой вы обидчивый! Приезжайте, Владимир Дмитрич. Я все еще надеюсь вам помочь.
— Благодарю, графиня. Я, право, не стою вашего покровительства. Простите меня. — Черменский поцеловал протянутую ему руку, сбежал с крыльца, вышел за ограду, где его ожидал извозчик, и через несколько минут был уже в редакции «Московского листка».
Ирэн, разумеется, там не оказалось. Впрочем, редактор Петухов был на своем месте и, с опаской поглядывая на бледное от гнева, покрытое ссадинами и синяками лицо Черменского, объяснил, что мадемуазель Кречетовская примчалась в четвертом часу утра, с ходу кинулась в типографию и настрочила статью о ночном происшествии у Осетрова на отдельных узких полосах бумаги, которые прямо у нее из-под пера рвали наборщики. Статья тут же пошла в печать и увидела свет в утреннем выпуске.
— Петухов, вы, честное слово, ума лишились! — загремел Владимир так, что во всех комнатах смолкли «рединготы» и «ундервуды», а сотрудники высыпали в коридор. — Вам никто никогда не говорил о журналистской этике? О том, что статьи должны иметь подтверждение?!
— Так это все неправда, господи?! — всполошился Петухов. — Боже праведный, опять, выходит, скандал?! Да как же Ирина Станиславовна могла подложить мне такую свинью, она всегда гордилась м-м… достоверностью своих фельетонов, это была ее визитная карточка, ее, так сказать, отличительная черта! Она уверяла меня, что здесь каждое слово соответствует истине! Боже, боже, значит, опровержение?! Премьера в Большом будет, мы печатаем в вечернем выпуске обширное извинение перед госпожой Грешневой, этого, надеюсь, хватит… И прекрасную рецензию на спектакль непременно…
— Ничего этого не надобно, — мрачно возразил Черменский, уже стоя на пороге. — Здесь действительно все правда. Прощайте, Петухов.
Хлопнула дверь. Петухов ошарашенно смотрел на раскачивающуюся от сквозняка занавеску. Он не сказал Черменскому о том, что буквально через полчаса после выхода газеты Ирэн снова ворвалась в редакцию и потребовала немедленного отзыва свежего номера. Когда совершенно сбитый с толку редактор объяснил, что номер уже отдан в розничную продажу, произошел небывалый случай: железная мадемуазель Кречетовская уткнулась лицом в пыльную занавеску и разрыдалась. Впрочем, через минуту она успокоилась, залпом выпила всю воду из графина, объявила, что сей же час по настоянию папеньки уезжает в Питер, а также предупредила, что, если об этой идиотской истерике, вызванной исключительно бессонной ночью и смертельной усталостью, узнает хоть одна живая душа, он, Петухов, будет застрелен на месте из «франкотта». В последнем редактор почти не сомневался и клятвенно пообещал молчать.
Час спустя Владимир был на вокзале, а еще через полчаса сидел в вагоне курьерского «Москва — Петербург» вместе с крайне озадаченным и по этому случаю даже молчавшим Северьяном. Они уже проехали Клин, когда последний все-таки рискнул высказаться:
— Дмитрич, а за каким чертом едем-то? Не драться же с бабой, хоть и сука… А убивать ее из-за пустяка-то не след…
— Я раньше тебя убью, болван, если ты рта не закроешь, — ровно, не поворачиваясь к Северьяну, произнес Владимир, и тот отчетливо понял, что в самом деле лучше будет пока помолчать. И через несколько минут, не желая терять времени даром, уже спал — как всегда, бесшумно и неподвижно.
За окном мелькал однообразный зимний пейзаж. Черный, застывший, почти сплошь скрытый снежными шапками лес сменялся унылыми вереницами деревенских изб с торчащими иногда, как спицы, колокольнями церквушек. Постепенно стемнело, снова пошел снег — сперва редкий, а затем гуще и гуще, заслонив наконец весь вид за окном белесыми косыми полосами, — а Черменский продолжал сидеть не двигаясь, глядя в сумеречное, уже наполовину залепленное снегом вагонное окно и, казалось, ни о чем не думая. Даже зачем сейчас он едет в Питер, что скажет Ирэн и нужно ли вообще что-то говорить после случившегося — даже об этом размышлять ему не хотелось. Перед глазами, бесконечные, плыли воспоминания. И, заслоняя собой все остальное, виделось, как наяву, темное, худое лицо Маши Мерцаловой с лихорадочно блестящими черными глазами — какой Владимир видел ее последний раз, в плохом публичном доме на Грачевке, сидящей за расстроенным роялем и время от времени надсадно кашляющей в испачканный кровью платок. Да, тогда, прощаясь, она упоминала о какой-то своей вине перед ним, и после, в предсмертном письме, которое Владимир знал наизусть и вызывал сейчас в памяти строчку за строчкой, повторила снова:
«Если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой, но, бог свидетель, лишь потому, что любила тебя страшно… хоть это нисколько и не оправдание. Не могу написать подробнее. Пусть уж этот грех на душе останется. Одно лишь скажу: о Соне Грешневой не думай плохо, она с этим толстосумом только из-за нашего бабьего горя поехала… и постарайся с ней встретиться. Она все расскажет».
Стало быть, вот в чем каялась Маша… Это она, живя тогда, в Ярославле, в одном доме с Софьей, перехватывала письма к ней. Она, обманув подругу, привела ее к Мартемьянову. И она, именно она, как ни гнал Черменский от себя эту мысль, что-то наговорила Софье о нем… Возможно, призналась в своей прошлой связи с ним, сказала, что беременна от него… Что ж, у Маши было полное право на это, но… Но в глубине души Владимир понимал: произошло что-то еще. Что-то, заставившее Софью очертя голову кинуться прочь из Ярославля с Мартемьяновым, которого совсем недавно она смертельно боялась. Что же?.. Глядя на бесконечные, синие от сумерек снежные равнины за окном вагона, Черменский думал, что теперь, после смерти Маши, он не узнает об этом никогда. «Постарайся с ней встретиться», — написала Мерцалова в своих последних строках к нему. Он старался — и что же?..
По ночному Петербургу гуляла метель. Страшные белые столбы взвихренного снега носились по Невскому проспекту, сквозь них еле виднелись мутные пятна фонарей, ветер визжал, беснуясь, и Владимир не слышал, что кричит ему Северьян. Впрочем, обо всем можно было догадаться по обозленной физиономии друга.
— Вот и сидел бы дома, я тебя с собой не звал! — рявкнул наугад в ответ Владимир и, видимо, попал в точку, потому что Северьян, от души выматерившись, пошел искать извозчика. Тот, к изумлению Черменского, обнаружился довольно быстро, и вскоре они неслись сквозь снежную пургу в промерзших насквозь санях к Сенной площади.
Петербурга Владимир не любил и приезжал сюда редко. Последний раз это было около года назад, когда Ирэн потащила его с собой на какую-то премьеру в Мариинке, которая Черменскому тогда крайне не понравилась. Ночевали они в огромной квартире Кречетовской на Мойке, и этот высоченный серый дом с широкой подворотней Владимир запомнил очень хорошо. Сидя в санях и отворачиваясь от летящих в лицо снежных хлопьев, Черменский думал о том, что может и не застать ее дома: в собственной квартире «поручик Герман» оказывалась редко, предпочитая проводить время в переулках близ Сенной, в воровских трактирах и бродяжьих ночлежках. Надежда была лишь на то, что такая собачья погода даже неуемную Ирэн загонит домой, поближе к теплой печи. Что он скажет Кречетовской, с чего начнет разговор, Владимир не знал, за время дороги на ум ему так ничего и не пришло, и даже тогда, когда они с Северьяном поднимались по темной широкой лестнице на второй этаж, в голове по-прежнему не появилось ни одной мысли.
Владимир не ошибся: после первого же звонка за высокой массивной дверью послышались шаги, которые, к удивлению Черменского, были какими-то странными: неровными, то слишком медленными, то, напротив, учащенными. Он напряг память и вспомнил, что Кречетовские держали в прислугах столетнюю старуху, то ли няньку, то ли гувернантку отца семейства. Но чтобы древняя бабка семенила таким козьим аллюром?.. Сомнения Владимира разрешились, когда дверь отворилась. На пороге со свечой в руке стояла сама мадемуазель Кречетовская.
— Ба-а, Черменский! — радостно провозгласила она, поднимая свечу одной рукой, а другой старательно удерживаясь за пальто на вешалке. — А я тебя, признаться, не ждала… То есть, я всегда, разумеется, тебя жду… но не сегодня! Впрочем, черт с тобой, проходи… Что ты делаешь?! Что ты делаешь, нахал? Я в своем доме!
— Ты сейчас спалишь этот дом, — убежденно произнес Черменский, отбирая у Ирэн свечу и настойчиво беря девушку под руку.
Сомнений не оставалось: мадемуазель Кречетовская была вдребезги пьяна. Северьян неслышно отступил в глубину прихожей и слился с темнотой.
— Ты одна?
— Да-а-а… У папы — заседание комиссии… или что-то в этом духе… Погодка недурная, правда? Где Северьян? Северья-а-ан! Не отзывается… Ну и черт с ним. Что там в Москве? Пр… Пр… Премьера в Большом сост… т… тоялась?
Владимир, не отвечая, продолжал буксировать без умолку болтающую Ирэн через прихожую по направлению к пятну света в конце коридора, говорящему о том, что где-то в доме зажжена лампа.
Освещенным местом оказался громадный зал библиотеки, вдоль стен которой высились упирающиеся в потолок книжные шкафы, заполненные солидными томами. Огонек лампы, каким-то чудом державшейся на самом краю массивного круглого стола, робко отражался в стеклянных и зеркальных дверцах и, как ни старался, почти ничего не мог осветить.
Оказавшись в библиотеке, Черменский стряхнул Ирэн в обширное кожаное кресло и первым делом отодвинул от края стола лампу.
— Что случилось? Отчего ты в… таком состоянии?
— Пьяна, как гусарский ротмистр, — по привычке назвала вещи своими именами Ирэн и, звучно икнув, попыталась щелкнуть каблуками. — И тем не менее к твоим услугам. Ты прибыл требовать сат… саф… саси… сатисфакции? Защищать свою даму? Госпожа Грешнева ведь дама, не так ли… в отличие от меня?
Черменский молча сел в кресло напротив. Ситуация складывалась тем более идиотская, что он и сам не знал, для чего находится здесь.
— Жалеешь, верно, что я не мужчина. А то бы кулаком в морду — и все… — посочувствовала Ирэн, нервно оглядываясь в поисках чего-то и силясь подняться из глубокого кресла. — Какого дьявола ты меня сюда воткнул?! Я теперь, пожалуй, и не выберусь… Где мое вино?
— Выберешься, — сухо заверил Владимир. — Постарайся собраться с мыслями и объяснить, зачем тебе понадобилась эта мерзость в «Листке»?
— Ах, так ты оби-и-иделся?.. Какая жалость… Ик!
— Мне не на что обижаться. Моего имени ты почему-то не назвала. Но что дурного тебе сделала Софья Грешнева? Премьера, между прочим, так и не состоялась, артистка тяжело больна, в горячке, сестра опасается за ее жизнь. Впрочем, твоей вины тут нет: твоего пасквиля Софья даже не видела. Пока. Зачем тебе это было нужно?
— Поди во-он, — протяжно сказала Ирэн, оставив безуспешные попытки подняться и выгибаясь в кресле как кошка. — Где, черт возьми, мое вино? Я хочу еще… Черменский, ты просто дурак.
— Возможно. — Черменский оглянулся, увидел наполовину пустую бутылку мадеры, стоящую возле толстой, как у слона, ножки стола, осмотрелся в поисках стакана, не нашел его и протянул Ирэн всю бутылку. Кречетовская прочувствованно кивнула, приложилась прямо к горлышку, довольно изящно сделала несколько глотков и начала устанавливать бутылку на краю стола с предельной аккуратностью, от которой та в конце концов свалилась на паркет.
— Фуй, какое свинство! — прокомментировала Ирэн, глядя через ручку кресла на расползающуюся по полу лужу мадеры. — Черменский, поди наконец прочь, ты же видишь, что я не расположена… нынче ночью… к дискуссиям… ик! А что у тебя было с этой Грешневой?
От неожиданности Владимир сказал правду:
— Ничего.
— Бе-е-едный… — пропела Ирэн. — А ведь влюблен уж четвертый год… Неужели у нее такое ледяное сердце? Странно все это, господа, ох как странно…
— Что ты знаешь? — не сводя с нее глаз, спросил Черменский.
Ирэн ответила ему пристальным, вполне осмысленным, очень злым взглядом. В ее черных узких глазах бился огонек лампы, делая их похожими на чертенячьи.
— А я знаю, что ты ее любил и любишь! — с вызовом, продолжая в упор рассматривать Черменского, произнесла Кречетовская. — И она тебя любит также! И что та актриса, Мерцалова, кажется, вмешалась тогда между вами, и этот купчина тоже своего не упустил, и вот теперь… Грешнева с ним мучается, а ты — со мной… Как две этих самых в проруби… столкнутся — отплывут, столкнутся — отплывут… Точно как мы с тобой, Черменский… смешно, правда? Ик!!!
С минуту Владимир изумленно рассматривал ее. Затем чуть усмехнулся, отвернулся к темному окну, за которым заполошно метался свет качающегося от ветра фонаря. Медленно сказал:
— Я, похоже, начинаю понимать… Ты прочла тогда Машино письмо?
Ирэн широко улыбнулась. Почти сочувственно проговорила:
— Не понимаю, как ты мог рассчитывать на мою порядочность.
Владимир не ответил, вспоминая ту осеннюю ночь три года назад, когда они вместе, только познакомившись, ехали из Петербурга в Москву, и наутро выяснилось, что Ирэн за ночь прочла от корки до корки всю его записную книжку. Узнав об этом, Черменский тогда ничего не сказал: глупо объяснять взрослому человеку правила хорошего воспитания. Ирэн, впрочем, поклялась, что вложенного в книжку распечатанного письма не открыла. Владимир поверил ей, посчитав, что содержание чужого письма попросту не могло быть ничем интересно Кречетовской. Оказалось, ошибся. И она столько лет молчала…
— Мерцалова убила себя? — словно прочитав его мысли, спросила Ирэн.
— Отравилась, — глухо отозвался Владимир. — Наглоталась мышьяка. У нее была чахотка, надежды не осталось никакой, и Маша не захотела…
— Почему ты ей не помог?
— Я ничего не знал, мы встретились случайно. — Это было чистейшей правдой, но у него, как и три года назад, болезненно сжалось сердце. Маша… Отчего все так получилось, кто виноват?
— Она очень тебя любила, — медленно сказала Ирэн. — И только поэтому сделала эту подлость… Знаешь, я ее понимаю. Я, как выясняется, сама такая же. И кто бы… ик… мог подумать…
— Ирэн, ты говоришь глупости, — решительно перебил ее Черменский, вставая. — Ты пьяна, и разговаривать нам с тобой сейчас бессмысленно. Встретимся завтра… а лучше нам более не встречаться вовсе.
— Разуме-е-ется… — протянула Ирэн, запрокидывая голову и широко улыбаясь прямо в лицо Владимиру. — Слушай, Черменский, ну что в тебе находят женщины? Ты их не любишь, а они из-за тебя идут на такие мерзости, каких сами от себя не ожидали! Просто какой-то роковой герой-любовник… Гамлет! Или нет… Макбет! Или… Пфуй, ну почему я не понимаю театра?!
— Оставь эту позу. Ты меня никогда не любила.
— А вот это не тебе судить!!! — рявкнула вдруг Ирэн так, что Владимир вздрогнул. — Сукин сын! До тридцати лет дожил, а в бабах разбираться не научился! Северьян твой больше соображает, право!
— Ирэн! — Владимир встал, подошел к ней вплотную. — Но ты же сама… Помнишь, как ты приехала тогда ко мне в Раздольное? Помнишь, о чем тогда мы с тобой разговаривали? Ты клялась, что свобода тебе дороже всего на свете, что тебе страшно думать о замужестве…
— Дур-рак… — отчетливо выговорила Ирэн, опуская голову. Спутанные курчавые пряди упали ей на глаза. — Я в тебя влюбилась как кошка еще в Питере. Помнишь, когда вы с Северьяном спалили дом этого… Ванькиного благодетеля… Семенова или Севостьянова… Но не кидаться же мне было тебе на шею с разбегу, Черменский, а? Хотя, верно, забавно бы вышло… — Ирэн хмыкнула и тут же снова стала серьезной. — А потом еще письмо этой Мерцаловой. Я тогда обратила внимание на дату… Она написала его и отравилась всего за неделю до нашей с тобой встречи. Я все-таки не совсем дура, Черменский. Я понимала, что тебе сейчас не до женщин… что ты влюблен в другую… в Софью Грешневу, к которой тебя Мерцалова на пороге смерти так усиленно подталкивала… что эта Софья, судя по письму, далеко и с другим человеком… и что еще не время навязываться тебе со своими чувствами. Да к тому же вашего брата так легко напугать… Вы же пуще смерти боитесь хомута на шее! Ну, скажи, что нет! Да сознайся я тебе тогда в своей неугасимой страсти, ты бы, пожалуй, от меня на Север к алеутам сбежал!
Владимир, подумав, согласно кивнул. Ирэн умолкла, и в библиотеке отчетливо стало слышно истерическое завывание ветра в подворотне. От летящих в окно снежных хлопьев содрогались стекла. На полу, неподвижные, скрестились тени. Откуда-то, словно выступив из стены, появился огромный серый кот с задранным трубой хвостом. Он потерся о безвольно свешивающуюся с кресла руку хозяйки, неприязненно покосился на Владимира и начал независимо расхаживать взад и вперед по паркету, изредка брезгливо обнюхивая пролитое вино.
— Этот кот лучше собаки, — сообщила Ирэн, поднимая помутневший взгляд на серый покачивающийся хвост. — Сейчас велю ему: «Наполеон, куси!» — и он тебе рожу расцарапает! Слово чести!
— Если тебе это поможет… — усмехнулся Владимир, непроизвольно дотрагиваясь до едва поджившей ссадины на скуле. — Мне, верно, хуже-то уж не будет.
— Ай, оставь… — поморщилась Ирэн. — Я и сама тебе морду могла бы набить, кабы польза была. А, собственно, за что?.. Слушай, ты поедешь к ней?
— Нет.
— Отчего?
Владимир не ответил, и Ирэн неожиданно сухо произнесла:
— Черменский, умоляю тебя, не будь дураком. Я видела вчера эту Софью. Видела тебя. Вы влюблены друг в друга до умопомрачения. Неужели этот Мартемьянов тебе помеха? Неужели ты в самом деле, как он говорит, будешь стоять у забора и дожидаться… Чего дожидаться, Черменский?! Того, что Грешнева, как та актриса, хватанет мышьяку?! Да что же вы за люди, мужчины?! Почему вы совершенно не способны терпеть, когда кто-то вам переходит дорогу?! Хотя… хотя вон этот купец небось не дожидался! Пусть против воли, пусть обманом — а увел! И, видит бог, всю жизнь с ней проживет! И она за него в конце концов замуж выйдет! С горя, потому что тебя, мерзавца, не будет сил дожидаться!
— Ирэн, замолчи!!! — заорал Черменский так, что задрожало пламя лампы, и кот, вздыбив шерсть, зашипел, как сбрызнутый водой утюг, на всю библиотеку. — Да понимаешь ли ты, что она не хочет меня видеть?! Что все четыре года я ищу встречи с ней, что приехал в Москву из-за нее! Из-за нее, а не из-за этих дурацких своих опусов, этой трижды проклятой петуховской газетенки?! Софья убегает из гостей, как только видит там меня! Что я могу сделать, скажи мне, что?!
— Не знаю, — отозвалась Ирэн, устало закрывая глаза. — Наполеон, фу, уймись, никому я не нужна… Черменский, я в третий раз тебя покорнейше и нижайше, поганца, прошу: — Пошел вон. Я видеть тебя не могу. И советов от несчастной любви давать не… не намерена. Ик… Нет, все-таки я, пожалуй, буду спать!
Кот мягко вспрыгнул ей на колени. Узкая рука Ирэн вяло погладила его и тут же сползла по гладкой серой шерсти вниз. Черменский встал. Кот яростно взглянул на него, приподнялся, готовясь броситься.
— Не беспокойся, — еще тяжело дыша, сказал ему Владимир.
Кот недоверчиво поднял уши и отвернулся с чрезвычайной брезгливостью. Ирэн не шевелилась. Ее дыхание было спокойным и ровным. Кажется, она и в самом деле заснула.
В темной прихожей Черменский сдернул с вешалки пальто, вышел из квартиры, как можно плотнее прикрыв дверь, спустился по лестнице во двор, не замечая, что сзади за ним неслышно, след в след идет Северьян. Улица встретила ледяным ветром и пригоршнями снега в лицо, но Владимир не обратил на это никакого внимания. На душе было отвратительно, и более того — он знал, что Ирэн права. Права во всем, от первого до последнего своего слова.
* * *
Через неделю на Москву свалилась оттепель, и с крыш закапало, как весной. Тротуары покрылись слякотью, повсюду стояла вода, под подошвами чавкал кисель из талого снега и грязи, и Марфа, в сумерках вернувшаяся из Столешникова переулка домой, долго топала в сенях насквозь промокшими валенками и бурчала:
— Никакого вовсе порядку в городе не стало… О чем только в управе думают, то мороз, то теплынь… зима это у них называется! А все почему?! Потому что взяли моду в Христа не веровать! Доиграются, анчихристы, господь-бог наш им скоро посреди зимы жару устроит за ихнее неуважение!
В доме было темно и, казалось, пусто. Марфа величественно прошествовала на кухню, шуганула со стола пристроившуюся за свернутой газетой мышь, заглянула под крышку чугуна со щами, потрогала самовар, неодобрительно нахмурилась и крикнула в сторону коридора:
— Федор Пантелеевич! Обедать, что ль, не изволили? Ведь все горячее в печи вам оставила! Федор Пантелеевич! Почивать, что ль, легли?!
Ответа не было. Дом молчал.
— Тьфу ты, каторга, на Конную смылся, поди… — в сердцах выругалась Марфа и пошла ставить самовар. Тот уже начал пыхтеть и булькать, плюясь через неплотно притиснутую крышку кипятком, когда из глубины темных комнат послышались тяжелые шаги. Марфа обернулась.
— Так вы в дому? Пошто не отзывались?
Мартемьянов стоял на пороге кухни, занимая своей огромной фигурой весь дверной проем. На смуглой физиономии уже начали подживать ссадины и синяки, полученные неделю назад, курчавые волосы были, как всегда, встрепаны.
— Водки-то не принесла? — мирно и без особой надежды спросил Федор, но Марфа тут же вскинулась:
— Не принесла, и не собиралась! И вас за ней не выпущу, хоть убейте!!!
— Ну, спрошу я тебя! — грозно проговорил он.
— Оченно мне ваш спрос нужен! Вот встану поперек дверей с ухватом, и попробуйте отодвиньте!
— И отодвину!
— Отодвиньте, отодвиньте! — милостиво разрешила Марфа. — Я-то без бою не сдамся, все едино вам после этого уж не до водки станет!
— Вот зараза… — буркнул Мартемьянов, проходя в кухню и садясь за стол. — Ну и черт с тобой, давай обедать, что ль.
— Могли б и сами, промежду прочим! — Марфа яростно швырнула на стол пустую миску, которая с грохотом запрыгала к краю столешницы и упала бы, не поймай ее Федор. — Я вам тут не нанималась, и жалованья вы мне не плотите, и вовсе я не ваша, а господ Грешневых! Навязался на голову, черт бессовестный, еще и корми его! А по-хорошему, вам не штей с мясом, а арапника ременного всыпать надобно, да погуще!..
— Будет уж, Марфа… — мрачно отозвался Мартемьянов, глядя в стоящую перед ним пустую миску. — Седьмые сутки из меня душу вынаешь, не притомилась? Скажи лучше, как там-то, в Столешниковом?.. Что Соня?
Марфа метнула на него свирепый взгляд, но Мартемьянов его не заметил. Тогда, вздохнув, она поставила на стол дымящийся чугунок, открыла крышку и, наливая в злополучную миску щей, проворчала:
— Слава богу, лучшей… И жара нет, и лихорадка вся сошла. Не бредит боле, сидит в постеле, книжки читает… Плачет иногда, а то еще думает о чем-то. Из тиятра все время приходят, беспокоятся, спрашивают, — когда ж она петь смогёт опять… Синяки-царапины у ней поджили навроде, а уж как мы с Анной Николавной боялись, что отметины останутся! Софья Николавна ведь у нас актрыса, ей личико ясное для ремесла надобно, а тут… Федор Пантелеич, забожитесь еще раз, что это не вы ее разукрасили!
— Да сколько ж можно?! — взмолился, бросая ложку, Мартемьянов. — Ну, спасением души клянусь, вот тебе крест со святой Пятницей, не я! Да что ж мне, под всеми иконами в дому на коленях проползти, чтоб ты успокоилась?!
— А кто, как не вы?! Кто, я спрашиваю?!
— Марфа, пьян был в доску, ей-богу, не помню!
— Все вы помните, — отрезала она, усаживаясь за стол напротив Федора и придвигая к себе горбушку хлеба. — Как не совестно только, тьфу…
— Совестно, Марфа, да что толку-то?.. — хмуро отозвался Мартемьянов, снова принимаясь за щи.
Марфа недоверчиво покосилась на него, но ничего не сказала и решительно откусила от своей горбушки. Несколько минут оба молча жевали. В кухне потемнело, и Марфа, тяжело поднявшись, пошла за лампой. Вернувшись, она установила «керосинку» на припечке, зажгла ее, и неяркий свет язычками забился в черных глазах Федора.
— Отчего она домой не идет, скажи вот? — вполголоса спросил он, отодвигая пустую миску и отворачиваясь к окну. — Уж коли жар сошел, так и возвертаться можно, тут, слава богу, полминуты ходу. Я б лошадей прислал за ней, как царицу бы довезли…
— И сами распрекрасно знаете отчего, — сквозь зубы буркнула Марфа. — Незачем и спрашивать. Чай будете пить?
— Да отстань ты с чаем со своим! — Мартемьянов вдруг поднял голову, и Марфа невольно вздрогнула от его сумрачного взгляда из-под сросшихся бровей. — Хватит уж издеваться-то, не натешилась за неделю, езуитка?! Чуть не помер через тебя на другой день-то опосля всего! Человек с похмелья дохнет, а она, язва персидская, пива не дает!
— Еще пи-и-ива вам?! — вскакивая, с готовностью завопила Марфа. — Ничего, не велики баре, и рассолом обошлись чудненько! Весь, какой в доме был, на вас перевела, штей перекислых цельную лохань выхлебали, и недовольны еще! Да вы поблагодарите, что я вас с порога не пришибла под горячую руку, а уж как душа горела! За все подвиги ваши разом-то!
— Да уймись ты, дурища… — без злости, устало произнес Федор. — Скажи лучше… Соня там говорит чего про меня? Злая?
— Нет, не злая, — помолчав и снова усаживаясь, неохотно ответила Марфа. — Даже иногда смеется.
Мартемьянов изумленно посмотрел на нее.
— Смеется?.. Чему ж?
— А как почнет вдруг вспоминать, как ваше степенство там, у Осетрова, с цыганкой на два голоса «Очи черные» исполнять изволили… Вспомнит — и хохочет! Да хорошо-то как пели, говорит! Прямо дуэт Аиды с Радамесом! Анна Николавна так и вскидывается, это слышамши! Ты, говорит, глупа до невозможности, Соня, тебе ни в коем случае нельзя туда возвращаться… — Марфа умолкла, заметив, что Мартемьянов с потемневшим лицом снова отвернулся к окну.
— Так что ж… она впрямь сюда не вернется боле? — хрипло спросил он.
— Ну вот, с чего вы взяли-то? Сами видите, вещей собирать мне не велено, и сама я тут сижу, приказу от барышень не было в Столешников перебираться… Значит, возвернется скоро.
— Это когда ж? Не говорила тебе?
— Не могу знать. Да вы и сами понимать должны, ей сейчас вашу личность битую наблюдать радости мало. Подождите, успокоится вовсе да и придет.
— Ты наверное знаешь? Черменский-то к ней не захаживал?
Мартемьянов задал этот вопрос не меняя тона, но Марфа внимательно посмотрела на него через стол. Подумав, ответила правду:
— Дважды захаживали, но не к ней, а к Анне Николавне. Софья Николавна их до себя не допущала.
— Она не допущала? Аль он сам не рвался?
— Не знаю! — вышла из себя Марфа. — Мне господа своих намереньев объяснять не обязаны! А уж вам тем более! Поели, ваше степенство? Чаю не желаете?! Ну и ступайте с богом из кухни, мне еще рубашки гладить! Могли б и про дела свои вспомнить, они у вас в сильном запустенье, должно, находятся! Шутка ли, почти сорок тыщ на цыган прошвырять! И то от них мальчишка на другой день прибёг, восемь тыщ принес, они их в снегу всем хором собирали! Нам, говорит, лишнего-то не нужно, мы люди честные, свою гордость имеем! До сих пор сердце останавливается, как вспомню! Идите прочь с глаз, до греха не доводите!
Мартемьянов покорно встал, шагнул было к двери, но остановился, не дойдя. Стоя у темной стены, спиной к Марфе, он негромко спросил:
— Что ж мне поделать-то теперь, Марфа?
— Схвати-ились… — фыркнула она. — Допрежь думать-то следовало, теперь чего?.. Только убытки считать да милости божьей ждать.
Мартемьянов молчал, все так же стоя лицом к стене, его огромная лохматая тень застыла в пятне света. Марфа неторопливо убрала со стола, задвинула в печь полупустой чугунок щей, вытащила из угла ворох рубашек, ожидающих глажки, бросила их поперек лавки, искоса взглянула на неподвижную фигуру. Вздохнув, сказала:
— Да ты не убивайся до времени, Федор Пантелеевич. Говорю — придет она. Я за тебя слово-то замолвлю, найду минутку нужную. Только и ты смотри, дураком не будь! Сразу в ноги падай да все на водку вали! Знаю я барышню-то, она зла подолгу не держит, не умеет. Братец ейный покойный, Сергей Николаич, не такое в Грешневке закатывали, на весь уезд страму было… так и то она с ним договориться опосля завсегда могла.
— Марфа, о чем ты… — глухо отозвался, не поворачиваясь, Мартемьянов. — Да я сутки у ней в ногах провалялся б, кабы помогло… Только что ж ты, не знаешь ее, Соню-то? Она придет — слова мне не скажет! Ни единого! Словно не было ничего, понимаешь?! Я вот этого пуще смерти боюсь! Как мне с ней говорить-то?! Какими словами каяться?! Она же только скажет: «Твой дом, твои деньги, ты всему этому хозяин, а я у тебя на содержании». И все!
— Да ведь так оно и есть, Федор Пантелеевич… — осторожно напомнила Марфа.
— И что ж с того-то?! — Федор ударил обоими кулаками по стене так, что затрещали бревна и сверху посыпалась труха. — Я разве этого хотел?! Ты вспомни, сколь разов я ее замуж звал! Всему бы хозяйка была: и дому, и капиталу, и мне со всеми моими потрохами! Не идет ведь! Денег почти не берет! Вон цельная пачка с осени в комоде нетронутая лежит, на что вы с ней живете-то, не пойму?! Ни одной цацки не надела, что я дарил, аметисты грошовые носит, что сестрица на день Ангела пожаловала! И кабы назло мне делала, характер показывала, так нет! Нет же, вижу я! Да рази ж содержанки такие бывают?! Грешневку — и ту продавать вздумала! Ничего она мне не скажет, ни браниться не будет, ни кричать, ни плакать! И как мне такое терпеть-то?!
Марфа молчала. Когда Мартемьянов тоже умолк, тяжело дыша, она сурово произнесла:
— Грех твой, Федор Пантелеевич. Ты ее обманом взял, за то и платишь теперь. Все по справедливости.
— Не хотел я такого, Марфа…
— А по-другому у тебя и вовсе ничего не вышло бы. Поехала б она с тобой тогда из Ярославля, как же, держи карман шире… И что теперь мучиться, когда дело сделано и не поправишь?.. Да хватит тебе стенку-то держать, Федор Пантелеевич, не обвалится небось, сядь…
Мартемьянов, который все еще стоял, уперевшись кулаками в стену, хмуро усмехнулся и вернулся за стол. Марфа подошла, села рядом. Не глядя, погладила его по плечу, вздохнула:
— Будет, будет, Федор Пантелеевич… Коли получится, уговорю Софью-то Николавну, авось покричит на тебя малость, коль тебе без этого свет не мил. Эх, меня б попросил!.. Уж мало б не показалось, свету бы белого не взвидел, на том крест поцелую!
— Да уж твою-то голосину знаю я… Труба ерихонская, — пробурчал Федор. — Несчастный твой мужик будет…
— Оченно вы мне нужны, племя непутевое… — фыркнула Марфа, поднимаясь и решительно бухая на плиту черный от копоти утюг. — Ступай спать, Федор Пантелеевич, не мешай работать, у меня дела еще много. Авось я за ночь и придумаю чего умного. Ступай с богом.
Федор ушел. Марфа еще долго стояла у окна, ожидая, пока нагреется утюг, и бездумно глядя на то, как желтый свет лампы, пробиваясь сквозь переплеты окна, ложится ровными квадратами на голубой снег в палисаднике. Затем она сняла утюг с плиты, развернула на столе рубашку и привычно принялась за работу.
* * *
Софья вернулась в дом в Богословском переулке через десять дней. Это вполне можно было сделать и раньше: ссадины на лице зажили, превратившись в чуть заметные царапины, лихорадка от умелого и бережного ухода быстро прошла. Но молодой женщине до безумия не хотелось подниматься с постели и покидать дом сестры. Сначала ей казалось, что это вызвано нежеланием возвращаться к Федору, но вскоре Софья поняла, что ни злости, ни обиды, ни отвращения к нему она не чувствует, сама не зная почему. Марфа, прибегая каждый день в Столешников, основательно усаживалась у Софьиной постели и принималась вдохновенно, на все лады проклинать Мартемьянова, убеждая барышню бросить к чертовой матери «этого каторжника и изверга безграмотного» и уехать в Ярославль или, по крайней мере, вернувшись в Богословский, закатить грандиознейший скандал.
— Вы меня, конечно, Софья Николаевна, и не послушать можете, потому ваше дело господское, а я дура неученая, но только уж больно много вы ему спущаете, вот что я вам скажу! Сорок тыщ по ветру кинуто! Цельный ресторан разнес в осколочки, ни единого небитого окошка не оставил, цыган да девок до смерти перепужал! Позорище на всю Москву, ажник в газетах пропечатали! Премьеру вам спортил, а уж какая форменная Татьяна-то была, куда этой корове Нравиной! В такую свару вас втянул, лихорадку через него, варнака, схватили! А вы вернетесь и молчать ему станете, точно жена венчаная! Да ведь и не всякая жена так-то будет! Ух, уж я б на вашем месте…
— Марфа, оставь… — отмахивалась Софья. — Какой с него спрос, он другим не будет.
— Не будет, покуда ему с рук все сходит! Ну что вам, в тягость крик поднять? В опере своей уж как голосите, стекла дрожат, а в собственном дому боитесь!
— Это его дом, а не мой.
— Соня, Марфа права, — подавала голос Анна. — Только нужно не скандалить попусту — много чести! — а просто уходить от этого человека. Ты сама теперь видишь, к чему жизнь с ним привела.
— К чему, Аня?.. Просто недоразумение… Я сама виновата, не стоило и ехать в этот ресторан.
— Честное слово, складывается впечатление, что ты влюблена в него до полусмерти! — сердилась Анна. — Да как же можно так относиться к себе?!
— Аня, оставь. Я все решу сама, — коротко говорила она, и Анна, глядя в бледное, замкнутое лицо сестры, неохотно умолкала.
Софья знала, что Черменский постоянно приходил сюда, чтобы узнать о ее здоровье, но ни разу не вышла к нему, хотя Анна и намекала, что это вполне возможно. День за днем, лежа в постели, еще чувствуя слабость после лихорадки, она вспоминала ту ночь, когда очертя голову кинулась в мужскую драку, вспоминала страшный удар о стену, боль в щеке, проехавшейся по осколкам… и такие знакомые, сильные, горячие руки, голос, серые глаза… Как все это было близко… Он обнимал ее за плечи, стирал с лица кровь, говорил, что любит… что же она отвечала? Софья промучилась несколько дней, стараясь вспомнить собственные слова, но из памяти словно выстригли кусок, и, хоть убей, не вспоминалось ничего. А вместо этого стояло перед глазами бледное, красивое лицо девушки с кудрявыми остриженными волосами. Его любовница… При мысли об этом у Софьи болезненно сжималось сердце, хотя она не уставала убеждать себя, что сей факт естественен закономерен, вполне позволителен и даже извинителен. Анна не раз говорила ей с брезгливой улыбкой, что все мужчины — животные, которые без плотской любви не могут прожить и недели. Марфа утверждала то же самое, но с весьма довольным видом. Федор на осторожные Софьины вопросы по этому поводу пожимал плечами и отвечал, что хоть и свинство, а куда ж деваться, коли мужиком родился — надо… Значит, так оно и есть, думала Софья, откинувшись на подушку и глядя на то, как солнечный луч лениво перебирается с занавески на сугроб в палисаднике. Ни один мужчина без этого не может, стало быть, в чем вина Владимира? И ей ли, господи, ей ли упрекать его?! Тут же глаза становились горячими, слезы лились ручьем, и Софья торопливо утыкалась в подушку, чтобы сестра не услышала всхлипываний. В памяти снова возникали картины недавних событий: разгромленный зал ресторана с выбитыми окнами и усеянным осколками полом, пьяный Федор в разорванной рубахе, в упор глядящий на нее мрачными, бешеными от водки глазами, цыганка, певшая «Очи черные»… и она сама, Софья, среди всего этого безобразия. А драка, а грохот посуды, визг проституток?.. Ужас… Зачем понадобилось бросаться в эту кутерьму, слава богу, что хоть не убили сгоряча… Что теперь Владимир думает о ней? Падшая, грязная женщина, купеческая содержанка, бегающая за своим торгашом по ресторанам, насильно утаскивающая его от цыган и уличных девиц, бросающаяся разнимать мужские драки… Графиня Грешнева! Певица, актриса, подающая надежды сопрано Императорского театра!.. Как стыдно, господи, думала Софья, вжимаясь пылающим лицом в подушку, и ведь ни в чем не виновата, а противна самой себе так, словно оказалась прилюдно вывалянной в грязи, до сих пор тошнота подступает к горлу… И любовница Владимира тоже была там, и видела это все… Господи, за что?! И зачем Владимир сейчас приезжает справляться о ее здоровье, и как это допускает стриженая девушка в мужском макинтоше, так презрительно тогда смотревая на Софью своими черными бесстрашными глазами? Возможно, они с Владимиром близки уже давно, возможно, он вскоре женится на ней, ведь видно, что девушка одного с ним круга, образована, умна… несмотря на обрезанные волосы, но сейчас же многие так ходят: нигилизм, убеждения… Какая, впрочем, разница.
Если бы можно было уехать куда-нибудь… Уехать и никогда больше не видеть его, не ждать нечаянной встречи, не надеяться в глубине души на то, чего никогда, никогда не случится… Наверное, нужно в самом деле решиться, отчаянно думала Софья. Решиться, пойти на ссору с сестрой, покинуть Москву и уехать с Федором в его Кострому. И будь что будет. Хуже чем есть, верно, не получится.
Самой легкой, самой спокойной и утешительной для Софьи в те дни оказалась мысль, что она никогда больше не поднимется на сцену Большого театра. Решение это пришло само собой, ясно и просто. После всего случившегося в осетровском ресторане Софье было странно вспоминать о том, что она могла всерьез волноваться, беспокоиться, плакать из-за такого пустяка. Анне она сообщила о своем решении сразу же, и та, увидев безмятежное лицо сестры, поняла, что возражать не имеет смысла. Поэтому Анна лишь растерянно сказала:
— Но… как же твой контракт? Неустойка? Премьера так и не состоялась…
— У Альтани найдется кому петь Татьяну, — беспечно ответила Софья, потягиваясь в постели и впервые за время болезни улыбаясь. — Ах, Аня, не поверишь, я просто счастлива!
— Соня, я отказываюсь тебя понимать! Чему ты радуешься, mon die, это же катастрофа! Твоей карьере певицы конец!
— Вот и хорошо, какая из меня певица… — Софья закинула руки за голову и рассмеялась с таким облегчением, что Анна невольно улыбнулась в ответ. — Как хорошо, как чудно, что я больше не вернусь в это змеиное гнездо! Пусть Нравина радуется, да и Заремин, бедный, вздохнет свободно… она его, верно, совсем извела своими нервическими припадками, а он ведь тоже артист… Думаю, и великому князю под горячую руку перепадает, тяжко быть в любовниках у первой сопрано… Ха!
Анна только махнула рукой:
— Поступай как знаешь… Для меня самое главное — твое благополучие.
Поднявшись с постели, Софья первым делом отправилась в дирекцию Большого театра, где объявила о том, что уходит. Поднялся страшный шум, Альтани вопил по-итальянски ужасные непристойности, бегал по тесному кабинету, как пойманный жук по спичечному коробку, и кричал, что подобной подлости ему не устраивала накануне премьеры ни одна сопрано. Дирижер уговаривал, убеждал, упрашивал Софью спеть хотя бы один спектакль, дабы она сама смогла убедиться, что теряет, и отказаться от своего безумного решения. Софья героически выслушала громовые тирады до конца, покосилась на столпившуюся в дверях труппу и спокойно повторила, что менять решение не намерена.
Поняв наконец что мадемуазель Грешнева не интересничает, не набивает себе цену и не пытается поднять гонорар, Альтани уселся в царственной позе за стол и очень сухо объявил, что в таком случае ей придется выплатить неустойку за разорванный контракт. Софья лихо согласилась, стараясь не думать о том, где возьмет положенные пять тысяч, вежливо простилась, в ответ не услышав ничего, и не спеша, чувствуя на себе изумленные взгляды десятков глаз, вышла из кабинета прочь — на волю. Настроение было таким замечательным, что она прямо из театра храбро двинулась в Богословский переулок, хотя еще утром у нее даже мысли об этом не возникало.
В доме обнаружилась только Марфа, которая с ожесточением терла в корыте белье и фальшиво распевала в такт собственным движениям арию Ольги:
— «Я беззабо-о-отна и шаловли-и-ива… Меня ребенком все-е-е зову-у-ут…» Софья Николавна?! Да это вы откуда взялись-то?!
— Из театра, Марфа! — радостно сообщила Софья. — Расчет взяла! Свободные люди мы с тобой теперь!
— Ну и слава богу. — Марфа, вытерев лоб мокрой рукой, подозрительно посмотрела на Софью. — А что ж вы мне не сказались? Я б вам и дойтить помогла, не ровен час в омморок бы хлопнулись после хвори-то…
Софья только отмахнулась и потрогала ладонью самовар.
— Можно чаю, Марфа? А… где Федор? В Костроме?
— Здесь покудова… С утра в конные ряды ушел. Спосылать за ним?
— Зачем? Вечером ведь сам вернется. Давай лучше чаю, и я тебе помогу стирать…
— Еще чего! — вознегодовала Марфа. — Уж сделайте милость, под ногами не мешайтесь, да и мне отлучиться надобно. Я как знала, бубликов с сайками купила, поищите сами там на полке, свеженькие!
Марфа действительно вскоре куда-то убежала, бросив посреди кухни недостиранное белье. Софья оттащила тяжелое корыто на лавку у стены, дождалась, пока вскипит самовар, попила чаю с сайкой, прошлась по дому, убедилась, что всюду чисто и прибрано, вернулась в спальню и села на аккуратно застеленную кровать.
Видимо, она переоценила свои силы, потому что голова слегка кружилась, а в ногах чувствовалась усталость, словно она прошагала с утра не две улицы с переулком, а несколько верст. «Совсем обленилась, что ж дальше-то будет?» — подумала Софья, но все же прилегла на кровать, подсунув под голову подушку. За окном, несмотря на два часа пополудни, было сумеречно. Снова собрались тяжелые тучи, из которых сперва понемногу, а потом все гуще и гуще, мохнатыми хлопьями, начал сыпать снег. Софья, лежа и запрокинув голову, бездумно смотрела на это кружение белых мух за окном, затем незаметно задремала.
Ее разбудил приближающийся дробный стук копыт за окном. Софья моргнула, приподняла голову, недоумевая, кто это может лететь очертя голову верхом по их тихому переулку. Снег валил сплошной пеленой, в пустом доме было темно, и спросонья она не сразу сообразила, день ли еще или наступил вечер. А стук копыт слышался уже во дворе, потом вдруг смолк, вместо него забухали тяжелые сапоги на крыльце, в сенях, в доме, ударила одна, другая, третья дверь — и в комнату с грохотом влетел Федор.
— Соня?!
Она растерянно приподнялась на локте. Даже в полумраке комнаты было заметно, что Мартемьянов весь в снегу и что у него совершенно дикие глаза. Испугавшись, Софья быстро спустила ноги с кровати, поднялась и спросила первое, что пришло в голову:
— Федор Пантелеевич, ты пьян?..
— Нет… — ответил он, машинально проводя заснеженным рукавом по лицу. — Соня, ты… совсем пришла?.. Спала, что ли, тут? Разбудил?
— Нет, не спала. Конечно, совсем пришла… А что с тобой случилось, откуда ты?!
— Да вот же… с Конной площади… — держась одной рукой за дверной косяк, Мартемьянов безуспешно пытался перевести дыхание. — С утра татары лошадей пригнали с-под Уралья, я смотрел… Хороши кони, масти ровной, только дикие… Тьфу, да на что ж я тебе-то про них…
Он наконец оторвался от косяка, подошел к кровати, ступая по скрипящим половицам облепленными снегом сапогами. Сел. Софья посмотрела через его плечо в окно, где уже ничего не было видно от падающего стеной снега. Не поворачиваясь спросила:
— Откуда ты узнал, что я пришла?
— Марфа за мной прибежала, прямо на Конную, уговор у меня с ей был, — тоже не глядя на нее, отозвался Федор. — Я — верхом на лошадь, да и домой! Боялся, что уйдешь ты, меня не дождешься. Думал, что за шмотьями пришла…
— На чьей же ты лошади прилетел?
— Не знаю.
— Что, и хозяина не видал?!
— Нет… Какая первая попалась, на ту и прыгнул. Привязь разорвал, и… Будочник, правда, свистел, да мне до него рази ж было?..
— Господи, Федор, могила тебя исправит! — схватилась за голову Софья. — Через всю Москву на чужой лошади! Вот и в конокрады подался, дожили… Ну, что ты, в самом деле, себе вообразил? Как бы я ушла, с тобой не простившись?
— Так ты… проститься пришла?
Она лишь горько улыбнулась, но Федор, не дождавшись ответа, резко дернул Софью за руку, впился черными бешеными глазами в ее лицо:
— Соня!!! Проститься пришла?!
— Федька! — испугалась она, чудом удержавшись на ногах и хватаясь за железный шар кровати. — Что ты, право, с ума сошел?! Я же остаюсь, болван! Если ты, разумеется, не против! С чего только взял?.. Федор… Господи, да разве можно так пугать, что ты дрожишь?!
Мартемьянов медленно, шумно выдохнул и, сгорбившись, опустил взлохмаченную голову к самым коленям. Софья встала рядом, обняла его за плечи, осторожно погладила курчавый, мокрый от растаявшего снега затылок.
— Ну… ну… уймись. Ведь я же здесь, сам видишь.
— Прости, Соня… — сдавленно сказал он. — Меня так со страху, верно, разобрало… Столько ден ждал, кажин час душа дрожала, что вот сейчас Марфа войдет и узлы вязать станет… Дверь скрипнет — а у меня уж сердце падает… И с тобой не повидаюсь даже… Прости меня… Что хочешь делай — прости…
— Ну, вот еще выдумал… Что с тебя взять-то, душа разбойничья… — Софья встревоженно гладила его по голове. — Первый раз, что ли? Ты и раньше погулять хорошо умел…
— Допреж ты в это не мешалась.
— И более уж не буду, пропадай сам, хватит!
Мартемьянов молчал, глядя в пол. Чуть погодя он вдруг неловко поднялся с кровати, отстранив опешившую Софью. Прошелся по комнате от стены к стене, мотнул головой, словно отгоняя что-то. Замер у окна, серо-белого от снежной пелены. Софья долго и изумленно смотрела ему в спину, но Мартемьянов не оглядывался.
— Федор… — наконец позвала она.
Мартемьянов не пошевелился. Софья подошла к нему сама, осторожно тронула за плечо.
— Федор, что ты?.. Повернись ко мне. Ну, зачем же ты такой упрямый… Федор! Но это же такие пустяки, чего ты стыдишься?..
— Соня, не тронь… Уйди… Само сейчас всё… Тьфу, страму-то, будто баба… — смущенно ворчал Федор, упираясь до тех пор, пока Софья, потеряв терпение, не взяла его за ухо и насильно не развернула к себе.
— Ухи мне накрутить решила?.. — через силу усмехнулся он.
— Вот и правильно было бы… — Софья, приподнявшись на цыпочки, ладонью вытерла ему глаза. — Что ты их прячешь-то, Федор? Очи свои черные? Подумаешь, напугал… Как будто я тебе чужая… Иди, иди сюда, ложись, и я с тобой сяду.
К ее огромному облегчению, Мартемьянов послушался и растянулся на кровати, положив голову на колени пристроившейся в изголовье Софьи. В комнате надолго повисла тишина. За окном летел снег, в углу мигала желтая лампадка под иконой Троеручицы.
— Отчего молчишь, Соня? — наконец, не открывая глаз, спросил Мартемьянов. — Расскажи хоть, что там Татьяна твоя? Марфа говорила — накрылась бадьей…
— Разумеется.
— Что ж теперь-то?..
— Ничего… Я сегодня взяла расчет в театре.
— Пошто? — Он приподнялся. — Это… из-за меня?
— Нет, я сама так решила. Давно хотела, а тут и случай, слава богу, представился. Теперь только неустойку выплачу по контракту — и всё. Нужно пять тысяч, но у Ани они, кажется, есть…
— Соня, да за что ж ты так-то меня?.. — хрипло спросил Федор, поднимаясь на кровати. — Я и сам разумею, что меня теперь повесить мало… Надавай мне хоть по морде утюгом Марфиным, коль душа еще горит, а неустойку твою я уж как-нибудь выплачу!
— Мало тебе досталось? — Софья невольно улыбнулась, взглянув в его темную хмурую физиономию. — Марфа мне рассказывает — у Федора Пантелеича вся личность, как пасхальное яйцо сделалась, а я ей не верю. Вот теперь гляжу — и верно…
— Выходи за меня, Соня, а?.. — вдруг попросил он, снова кладя голову ей на колени и утыкаясь лицом в складки юбки. — Четвертый год во грехе живем, к чему это?
— Оставь… — Софья старалась произнести это жестко, но получилось лишь очень грустно. — Я тебе много раз говорила, что — нет.
— Отчего ж?
— Я тебя не люблю, прости.
— А его… любишь? — не поднимая головы, спросил он. — Ты в эти дни видалась с ним?
— Нет.
— И не станешь?
— Не стану.
— Отчего ж? — снова сдавленно выговорил Мартемьянов.
Софья перевела дыхание. Медленно, словно выбирая каждое слово, сказала:
— Оттого, что прошлого не вернешь. Оттого, что у него другая женщина. Оттого, что ты целовал меня при нем, и я ничего не могла поделать. Оттого, что жизнь моя сломана, и исправить уж ничего нельзя. А броситься в реку еще раз я не смогу. И, прошу, не спрашивай меня об этом больше. Мне больно… и тебе, кажется, тоже нехорошо.
— Ты меня простишь когда-нибудь, Соня? — помолчав, негромко спросил он. — Кабы я знал, что так у нас сложится, — за семь верст бы тогда Грешневку объехал, лишь бы тебя не видеть. Потому, если б увидел, — все бы сызнова сделал, ни на что б не поглядел, все едино в аду гореть-то опосля… Ты мне не на радость, а за грехи послана, я теперь наверное знаю. Только ж всякому греху своя выслуга имеется… И на каторге люди вечно не сидят.
— Бывает, что и пожизненно остаются.
— Что ж… из таких я у тебя, что ль? Из пожизненных? Как висельник нераскаянный?
Софья легла рядом с ним. Кулаком решительно вытерла набежавшие было слезы.
— Федька, да если б я сумела… Поверь, у меня самой бы гора с плеч свалилась. Сразу бы так ясно и просто все стало. Но ведь не могу… Вижу, что и тебе тяжело. Если тебе совсем плохо со мной, давай расстанемся по-доброму. Я одна не пропаду, ты — тем более…
— Соня, да что ты… Что ты, Сонька… — Федор крепко, до боли, прижал ее к себе, уткнулся в плечо. — Тьфу, и кто меня только за язык потянул… Соня, да пойми: без тебя мне вовсе жить незачем, что я без тебя-то?.. Сама ж прежде говорила, что не вовсе худо тебе, так куда ты собралась? Оставайся, Соня, за ради бога, хоть как оставайся… Не любишь меня — бог с тобой, и не за что, я понимаю… Так любовь — для господ же, Соня! И то, верно, не для всех, не то б они не ходили на это по тиятрам смотреть, всяк бы дома свою имел… Простой-то народец, подлый, без нее обретается — и ничего, не жалится! Я-то тебя люблю! Я ж для тебя все что ни пожелаешь… Чтоб я еще когда загулял али запил — нипочем… Хоть образ тебе на том поцелую! Авось стерпится, Соня, бывает же так у людей… Привыкнешь, может, четыре-то года — не срок еще…
— Может быть, — согласилась Софья, обнимая его и закрывая глаза, из которых снова медленно потекли слезы. — Что делать, Федор… Проживем.
* * *
На другой день Мартемьянов уехал в Кострому — как всегда, не сказав, на сколько времени и когда вернется. Софья, впрочем, была даже рада этому и две недели просидела дома в блаженном одиночестве, помогая Марфе кроить взятый в ателье батист на рубашки. Та, впрочем, уверяла, что барышня ей больше мешает, чем помогает, и настойчиво выпроваживала Софью «погулять»:
— Самое время походить проветриться, смотрите, погоды-то какие стоят!
«Погоды» действительно были загляденье: перед самой Масленицей ослаб мороз и выпал небольшой снежок. Он облепил легкими шапками разноцветные маковки церквей на Таганке и в Замоскворечье, комьями разлегся на тонких ветвях лип и высоких купеческих заборах, покрыл обледенелые тротуары нежным пушком. Москва словно помолодела и заневестилась, застенчиво выглядывая из-за тонкого снежного платка. В палисадниках щелкали и носились между ветвями деревьев красногрудые важные снегири и нарядные юркие синички, от их возни пухлые комки снега летели с веток наземь и рассыпались сверкающей пылью. С неба время от времени летели такие же легкие, едва заметные снежинки, иногда проглядывало розовое февральское солнце, день понемногу начал прибавляться, напоминая о том, что недалеко уже и до весны.
На Масленицу Софья была разбужена арией Ленского в Марфином исполнении, грохотом сковородок и пресным запахом опарных блинов. Сладко зевнув, приподнявшись на локте и выглянув в окно, она увидела, что стоит пасмурный денек, снова идет снег, а солнце, то и дело заспанно проглядывая сквозь прорехи в тучах, обдает наст в палисаднике пастельным блеском. Со стороны Петровки доносились звуки гармони и нестройная песня: народ уже справлял Масленицу.
— Я люблю-у-у вас, Ольга, как одна безу-у-умная душа поэ-эта… Проснулись, барышня? Пожалте блины кушать! — Марфа просунула в дверь улыбающееся распаренное лицо. — Вот давно у меня таких не получалось, один к одному, как солдаты! И сметанка свежая имеется!
Софья рассмеялась и выскочила из постели.
На кухне действительно ожидали блины: золотистая горка, проложенная растаявшими кусками масла, высилась на любимом голубом Марфином блюде. Софья решительно уселась за стол, с восторгом вспомнила, что теперь ей нет нужды влезать в сценические костюмы и, следовательно, можно не беречь талию, вытащила из горшка со сметаной деревянную ложку и принялась за блины. Марфа сидела напротив, тоже ела, свернув блин «конвертиком», чуть заметно усмехалась, глядя на барышню, и изредка о чем-то вздыхала.
— Пойдем к Ане в гости? — невнятно, с набитым ртом спросила Софья. — Она приглашала, у нее сегодня вечер…
— А коли вечер, так куда же я-то попруся? — ворчливо отозвалась Марфа. — С Феклой ихней на кухне разговоры о капусте квашеной разводить? Нет уж, я с вами лучше в неприемный день пойду, тогда все вместе по старой памяти за столом посидим, чайку попьем, житье наше горькое повспоминаем… А нонеча вы сами идите, коли в радость. Все забава, лучше, чем дома-то над полотном ножницами щелкать…
Софья в задумчивости доедала последний блин, запивая его остывшим чаем и думая, идти или не идти сегодня к Ане, — когда с улицы постучали.
— Это к нам? — удивилась Софья, вставая. — Но… кто же? Я никого не жду нынче…
— А я и тем боле. — Марфа тяжело поднялась, вытирая руки о передник. — Софья Николавна, вы на всякий случай с кухни-то уберитесь. Ежели кто порядочный, так я к вам зайду и по всей форме доложу. А то помните, какой конфуз в Ярославле был, когда к вам антрыпрынер с ангажиментом явился, а вы в моем неподходящем обчестве картофь в кухне чистите, словно чернавка какая…
— Ма-а-арфа… Сколько, право, можно вспоминать…
— Софья Николавна, мы обращение небось знаем! — И Марфа неторопливо, словно фрегат под парусами, поплыла в сени.
Софье оставалось лишь смириться и, с сожалением отложив недоеденный блин, ретироваться в гостиную.
Через минуту Марфа вернулась, и по ее настороженному лицу Софья с изумлением поняла, что явился действительно кто-то «порядочный».
— Марфа, господи, кто там? Кто-то незнакомый?
— Незнакомый, но весьма познакомиться желают, — объявила Марфа. — Купец первой гильдии Половцев Иван Никитич.
— Господи… — пролепетала Софья, падая в кресло. — Половцев… Это тот самый… Половцев — здесь, у меня?.. Боже мой! Марфа, беги скорее, неси черное муаровое! Да не с открытыми плечами, с пелериной! Ой, зачем же я блинов наелась, теперь и не влезу в него! Марфа, все из-за тебя!
— Влезете, барышня, у меня во что угодно влезете! — пыхтела Марфа, стремительно уносясь в комнаты. — Ништо, сейчас шнурочки мигом расставим, и поместитесь как в родное! Вы лучше прическу наверните наверх хоть немного, я чичас прибегу пособлю!
Волноваться в самом деле было от чего. Половцева Ивана Никитича знала не только вся Москва, но и весь Петербург. Представитель старинной купеческой фамилии, богатейшего рода Половцевых, владевших заводами на Урале, судоходными компаниями на Волге и фабриками в обеих столицах, он был известен тем, что, получив состояние по наследству от умершего родителя, за десять лет умножил его втрое. Иван Никитич принадлежал к «новым» купцам, оставившим далеко позади сапоги «бутылками», долгополые сюртуки и смазанные репейным маслом бороды своих «тятек». Отец отправил его в Московский университет на экономический факультет, который Половцев-младший с блеском закончил и получил государственную стипендию на продолжение образования в Англии. Из-за границы его вернула в Россию телеграмма о смерти родителя. Приехав в Москву, Половцев принял в свои руки фамильную фирму, отделил младших братьев и взялся за дело. Через несколько лет он уже брал государственные подряды на строительство железных дорог и мостов и каждый раз безупречно выполнял их, еще более укрепляя свою репутацию и приумножая состояние. При этом Москва знала его и как щедрого мецената, не только выделяющего значительную часть доходов на нужды русского искусства, но и, в отличие от многих других, весьма неплохо разбирающегося в этом искусстве. Нищие, но талантливые русские художники тащили в роскошный особняк Половцева на Ордынке свои картины, и он с восхищавшим всю Москву чутьем угадывал те, которым суждено было прославиться, посылал их авторов за границу, устраивал им выставки и платил стипендии из собственного фонда. Большое внимание Иван Никитич уделял театру, не пропуская ни одной премьеры ни в Москве, ни в Петербурге; ходили слухи, что он даже пишет критические статьи в газеты — под псевдонимом, разумеется. У него было хорошее музыкальное образование, он отлично знал несколько европейских языков, разбирался в русской и западной драматургии, любил классическую музыку и оперу, и кое-кто даже уверял, что сам Половцев считает своим истинным призванием сцену. Впрочем, это не мешало ему с блеском проворачивать миллионные операции, держать в голове множество цифр и расчетов, вести дела в России и за границей и победоносно богатеть год от года.
Кое-как втиснувшись с помощью Марфы в черное муаровое платье, уложив волосы и напустив на лицо безмятежное выражение, Софья вошла в гостиную, уселась в кресло и велела:
— Марфа, проси!
Через минуту показался гость.
Прожив три года в Москве, Софья, разумеется, слышала много разговоров об этом человеке, но ни разу не видела его: на вечера к Анне Половцев не приходил. За ним вообще не числилось обычных для купечества подвигов вроде поездок к цыганам, шумных загулов по ресторанам, погромов в борделях и купаний своих «этуалей» в лоханях с шампанским. У первого купца Москвы не имелось для подобного отдыха ни времени, ни желания. Говорили даже совсем уж несусветное — что Половцев не держит любовницы, уже почти двадцать лет храня верность жене. И Софья чувствовала себя довольно неловко, поднимаясь из кресла навстречу невысокому, прекрасно одетому человеку лет сорока с некрасивым умным татарским лицом, протягивая ему руку и отчаянно гадая: зачем она могла ему понадобиться? Физиономия Половцева показалась ей смутно знакомой, но где и когда она видела ее, Софья никак не могла вспомнить.
— Доброе утро, госпожа Грешнева, — низким, спокойным, сразу же понравившимся Софье голосом поздоровался гость, весьма умело прикладываясь к ее руке. — Сразу же прошу прощения за то, что, не будучи представлен, позволил себе ввалиться к вам спозаранку.
— О, что вы, будьте без церемоний, я очень рада знакомству, — чинно произнесла Софья, наспех вспоминая Аннины уроки хороших манер. — Прошу садиться, господин Половцев. Сейчас подадут чаю.
Несколько минут они вежливо беседовали о погоде, последних театральных премьерах, недавно вышедшей в журнале «Нива» и наделавшей много шуму повести Григоровича и прочих пустяках. Наконец Марфа внесла самовар, чашки, на всякий случай смерила Половцева грозным взглядом и, тяжело ступая, удалилась. По звуку ее шагов Софья поняла, что Марфа направилась в соседнюю комнату, откуда без помех можно было услышать все, что говорится в гостиной.
— Софья Николаевна, вы, вероятно, желали бы знать, с какой стати я мешаю вам в воскресенье спокойно отдыхать, — очень серьезно произнес Половцев, но узкие глаза его, устремленные на молодую женщину, смеялись, и она, чувствуя, как ее отпускает настороженность, улыбнулась и искренне сказала:
— Вы правы, я умираю от любопытства. Ваш визит для меня большая честь, но я в толк не возьму, чем могу быть вам полезна.
— Совсем наоборот. — Половцев не спеша отпил крепкого чаю и аккуратно вернул чашку на блюдце. — Это я могу быть полезен вам, что и сочту за великую честь.
— Простите, я вас не понимаю, — спокойно проговорила Софья, хотя внутри ее уже забилось, запрыгало предчувствие недоброго. Он — полезен — ей?! Но — как? Господи, неужто снова… «Тысяча — содержание и без счету на булавки», кто же это предлагал ей такое? Да кто только не предлагал… Первым был давным-давно, еще в Ярославле, тамошний предводитель дворянства… Маша Мерцалова тогда со смехом уверяла ее, что подобные предложения — необходимая составляющая жизни любой актрисы. Неужели и Половцев туда же? Господи, а ведь такой серьезный человек…
— Чем вы так испуганы, Софья Николаевна? — поинтересовался Половцев. — Поверьте, я здесь лишь потому, что знаю о вашем уходе из Большого театра. И знаю все, что тому предшествовало. Это ведь ни для кого не секрет, не так ли?
— К сожалению, да, — осторожно ответила Софья. — После той статьи в «Листке»…
Половцев коротко и внимательно взглянул на нее. Помолчав, продолжил:
— Я, как вы, верно, знаете, свой человек за кулисами, не раз бывал на репетициях. Я присутствовал и на последней, генеральной, когда вы так решительно отстаивали перед Альтани свой взгляд на подачу образа… и, признаться, полностью был на вашей стороне.
Только сейчас Софья поняла, почему лицо гостя показалось ей знакомым: она в самом деле не раз встречала его за кулисами или видела сидящим в зале, но думала, что это покровитель какой-нибудь хористки, и никого о нем не расспрашивала.
— Не спорю, Альтани — великий дирижер и его заслуги перед русской оперой неоценимы… но есть вещи, которых он не чувствует, — не спеша говорил между тем Половцев. — Не чувствует просто в силу своего возраста и принадлежности к иной певческой школе. Я множество раз убеждал Альтани в том, что опера — тоже театральное действо, там должно быть место и драматической игре, и достоверности образа, но… — Половцев пожал плечами. Софья молча, без улыбки смотрела на него. — Когда я впервые увидел вас на сцене Большого — кажется, в «Русалке», — я был весьма рад тому, что русская сцена получила прекрасное лирическое сопрано и незаурядную актрису. — Половцев слегка улыбнулся. — Я ведь некоторым образом знаком с вами заочно, Софья Николаевна. Три года назад я видел ваш дебют на сцене театра «Семь цветов Неаполя» госпожи Росси. Оказался в Неаполе, знаете ли, случайно, со скуки пришел в частный театр послушать знаменитую пару Гондолини — Скорпиацца… а услышал вас. Да-а… Признаться, не только я тогда был поражен. Помните, как театр чуть не рухнул от овации? Вашу Виолетту в Неаполе вспоминают до сих пор! А ведь вы тогда пели, кажется, почти без репетиций, заменяя несравненную Джемму… Кстати, куда вы исчезли после спектакля? Вашу уборную, после того, как вы не явились на вызовы, неаполитанцы взяли приступом — и никого в ней не нашли!
— Я сбежала через окно, — усмехнувшись, созналась Софья. — Там вилась виноградная лоза, старая, довольно толстая, и я спустилась по ней без потерь.
— Браво, браво, — улыбаясь одними глазами, сказал Половцев. — Так и хочется спросить о причине подобной… стремительности. Но, боюсь, мы с вами еще не настолько коротко знакомы. Посмею только предположить, что причина была весьма серьезная.
— О да, — коротко ответила Софья.
— Итак, не буду тратить ваше время. — Половцев одним духом допил остывший чай и улыбнулся Софье. — Я пришел, чтобы предложить вам ангажемент.
— Мне?..
— Разумеется. Ведь вы сейчас его, надеюсь, еще не имеете?
— Нет, конечно же… но… — Софья была совершенно растеряна. Она ожидала чего угодно — но не этого.
— Вы — очень смелая и незаурядная особа, Софья Николаевна, — объявил Половцев. — Я не знаю случая, чтобы певица покинула сцену Императорского театра лишь потому, что она не согласна с режиссерской трактовкой роли.
— Иван Никитич, вы находитесь в заблуждении, — вздохнув, возразила Софья. — Я ушла из Большого вовсе не по этой причине, а потому что…
— Не трудитесь объяснять, — мягко прервал ее Половцев. — В любом случае, ваш уход мне чрезвычайно выгоден. Я слежу за вашей карьерой уже несколько лет и до недавнего времени, к сожалению, мог только облизываться: переманить солистку из Большого театра никому еще не удавалось. Но сейчас обстоятельства сложились для меня весьма удачно, и я не могу себе позволить упустить такой великолепный случай. Хотите петь в моем театре?
— В вашей «Домашней опере»? — недоверчиво уточнила Софья.
— Да. Условия назначите сами. Я могу предложить вам любой репертуар для вашего голоса. У меня, как вы знаете, ставятся главным образом русские оперы, и для вас я готов поставить «Евгения Онегина». Ваша трактовка образа Татьяны мне нравится, я со своей режиссерской стороны не буду вам мешать.
Софья молчала, героическими усилиями стараясь собрать воедино распрыгавшиеся мысли.
Разумеется, она знала о половцевском оперном театре (так называемой «Домашней опере»), находившемся в Камергерском переулке, — как знала о нем вся Москва. Несколько лет назад Иван Никитич начал собирать под свое крыло подающих надежды молодых певцов, — как столичных, так и провинциальных. К нему шли охотно, поскольку жалованье здесь было не в пример больше, чем в императорских театрах, дышалось гораздо свободнее, а дирекцией на корню пресекались любые интриги внутри труппы. Получила широкую огласку история, когда год назад Половцев уволил одну из своих сопрано лишь за то, что та облила керосином сценический костюм соперницы. Труппа была молодая, очень талантливая, на равных с режиссером артисты участвовали в обсуждениях тетральной деятельности, решения о новых постановках принимались на общем собрании, и в «Домашней опере» даже не пахло застарелой академичностью Большого и Мариинки.
Отзывались о «Домашней опере» по-разному. Одни критики в открытую шипели, предсказывая «оперному самодуру» Половцеву скорый провал; другие, более осторожные, намекали на то, что «кесарю кесарево, богу — богово», и что господину Половцеву было бы лучше заниматься поставками угля и государственной железной дорогой, оставив оперную сцену специалистам. Пророчества и тех и других не оправдались: «Домашняя опера» сразу же загремела на всю Москву. Половцев отдавал предпочтение русским операм, сразу обогнав в этом Большой театр, по старинке ставивший итальянцев. Премьеры «Снегурочки», «Мазепы» и «Русалки» вызвали разговоры о себе во всем городе, в критических статьях о «Домашней опере» зазвучало уважение: оперы были поставлены весьма профессионально, и голоса подобраны поистине великолепные. Половцев не жалел денег на свое любимое детище: для спектаклей шились роскошные костюмы, декорации писались знаменитыми художниками, которых когда-то Иван Никитич вытащил из нищеты и безвестности, самые талантливые певцы посылались в Италию учиться бельканто — и маленькая «Домашняя опера» в Камергерском переулке уже начинала составлять солидную конкуренцию императорским театрам.
Вспомнив все это, Софья побледнела, перевела дыхание и шепотом спросила:
— Вы… приглашаете меня в свою труппу?
— Буду счастлив, — серьезно ответил Половцев. — Вы для нас просто находка, поскольку хорошее сопрано вообще найти трудно, а уж на роль Татьяны и подавно. Я пять лет не ставил «Евгения Онегина» только потому, что если у певицы есть голос — то совершенно не годится внешность или возраст. Или наоборот — молода, красива, а голос не тот. Или же еще хуже: и хороша, и голосиста — а стоит на сцене столбом, как солдат в карауле, и не знает, что делать с руками. И научить невозможно, сразу слезы, истерики, я певица, а не драматическая актриса, я должна петь… А вы… вы, не сочтите за пошлость, просто бриллиант. Причем, как я знаю, бриллиант, получивший огранку именно на драматических ролях. Вы же начинали в театре?
— Да, в провинциальном…
— Вот и замечательно, чудно! А то наши примы настолько увлечены своими голосами, что напрочь забывают о том, что опера — тот же театр, что там так же необходима игра… Вы, как я успел понять на репетициях в Большом, со мной согласны. Сам Петр Ильич в беседах со мной сколько раз жаловался, что нет ни одной мало-мальски подходящей Татьяны! Я ему клятвенно обещал, что отыщу, — и вот, наконец, счастливый случай… — Половцев умолк, внимательно посмотрел на Софью.
— Ох, Иван Никитич… Это так… неожиданно. — Последние воспоминания о хороших манерах улетели далеко-далеко, и Софья, даже не пытаясь скрыть растерянность, громко вздохнула и взялась за голову. — А я-то… Я, признаться, уже готова была совсем оставить сцену. Уже обрадовалась, успокоилась… Боже мой, как было хорошо целый месяц без всего этого! Без гадости закулисной, без сплетен, без зависти…
Тут она спохватилась, подумав, что Половцев может принять ее вздохи за обычное кокетничанье примадонны, подняла голову, взглянув в глаза гостю, — и увидела, что тот серьезно, понимающе кивает.
— Знаю, знаю, Софья Николаевна. Большой театр — это гнездо интриг… Как, впрочем, и любой другой. У меня с этим поспокойнее. Да и жалованье я артистам плачу отменное, так что грызться особенно не из-за чего. И о моих певицах ни одна бульварная газетенка не посмеет написать такого, что написали о вас… Вот это я вам обещаю.
— В той газете была чистая правда, — через силу улыбнулась Софья. — Но говорить об этом не стоит. Я подумаю над вашим предложением, Иван Никитич.
— Только не слишком долго, умоляю, — попросил Половцев. — Если вы готовы принять ангажемент, то репетиции могут начаться хоть завтра, у меня есть и Онегин, и Ленский, и Ольга… Вы позволите задать вам неделикатный вопрос?
Софья со вздохом кивнула, уже зная, что это будет за вопрос. И не ошиблась.
— Я хорошо знаком с господином Мартемьяновым, — объявил Половцев. — У нас с ним за плечами несколько общих контрактов, я его знаю как человека железного слова, прекрасного коммерсанта с огромным умом, но при этом с… — Он замялся на мгновение, и Софья закончила за него:
— … с замашками ватажного атамана.
— Совершенно верно, — согласился Половцев. — И вопрос мой таков: не может ли он влиять на вас? Мешать в той или иной степени вашему восхождению? Наш брат мужчина иногда ведет себя совершенно по-свински, когда женщине требуется некоторая свобода… Эта дурацкая статья в «Листке» — вернее, события, которые в ней описывались, — одно из подтверждений тому. Если все так, я берусь с ним поговорить, и, возможно…
— О нет, этого не потребуется, — торопливо заверила Софья. — Федор… Господин Мартемьянов никогда не вмешивался в мою сценическую карьеру, весь этот шум у цыган произошел тогда совсем по иной причине, и… Вам вовсе не о чем беспокоиться, господин Половцев. Я… я принимаю ваше предложение.
— Как, прямо сейчас? — улыбнулся Половцев. — Не поговорив со своим… с Федором Пантелеевичем?
— В этом нет нужды. Я готова подписать контракт и начать репетиции в любое удобное для вас время.
— В таком случае я счастлив, госпожа Грешнева. — Половцев встал, приложился к протянутой ему руке. Выпрямившись и снова внимательно взглянув на взволнованную Софью, он вдруг с интересом спросил:
— Сколько вам лет, Софья Николаевна?
— Двадцать два года.
— Вы из хорошей дворянской семьи?
— Да.
— Вы умны, начитаны. Многое видели в своей жизни. Ничуть не завистливы и не жадны, не больны нарядами и драгоценностями, это я успел понять. Как вы могли оказаться рядом с?.. — Половцев не закончил фразы, остановленный мгновенно потемневшим взглядом зеленых, как болотная трава, глаз.
— Извините меня, Софья Николаевна, — поспешно сказал он.
— Пустое. — Софья изо всех сил постаралась, чтобы голос ее не звучал холодно. — Известите меня, когда я должна буду приехать и подписать свой контракт.
— Это можно сделать завтра с утра, в моей конторе в Камергерском. И сразу же — на репетицию. Итак — по рукам?
Софья широко улыбнулась:
— По рукам!
Едва за Половцевым закрылась дверь, Софья прыгнула с разбегу в кресло, раскинула руки и закричала на весь дом:
— Марфа-а-а-а!!!
Встревоженная Марфа, тяжело топая, выбежала из соседней комнаты:
— Ась, Софья Николавна? Уехал этот-то?.. И как вам не совестно шепотом-то разговаривать, я извертелася вся, а ничего не услыхала, ни вас, ни господина… Ай! Ой! Барышня! Ой, бога побойтесь, сроните, как есть сроните!
Но Софья, захохотав, кинулась к ней на шею и запрыгала вместе с Марфой по комнате, изображая мазурку:
— Марфа! Марфа! Ура! Я! Буду! Петь! Татьяну! У Половцева!!!
— Батюшки святы! Ну… и… что?! — пыхтела Марфа, кое-как подлаживаясь под па мазурки и еле поспевая вслед за своей барышней по трещавшему паркету. — И чего ж тут скакать? И чего прыгать?! И так понятно было, что они вас в покое-то надолго не оставят, антрыпрынеры эти ваши! И вы ни в жисть своего не бросите! И слава богу! Денег-то… Уф-ф… Денег-то много, лиходей, обещал?
— А я и не спросила! Не знаю! Ура-а-а-а!!! Марфа, ура!
Половцев, еще не отъехавший и стоящий на улице возле своего обитого синим бархатом возка, запряженного парой прекрасных вороных, услышав визг и восторженные вопли, доносящиеся из дома, усмехнулся и повернулся к кучеру:
— Можешь меня поздравить, Кузьма.
— Так что с приобретеньицем вас, Иван Никитич, — прогудел с козел седой статный старик. — Стоит хоть того девица-то?
— Не то слово, старина. Девушка редкостная, и воистину небесного таланта. Дай бог, чтобы задержалась у нас… Что ж, поедем, надобно спешить, меня ждут в Счетной палате и у Тестова. Трогай!
* * *
Весна свалилась на Москву неожиданно и быстро. Утром двадцать пятого марта еще скрипел от холода снег под полозьями извозчичьих саней, светились морозными гранями сосульки, бахромой унизывавшие наличники и застрехи домов, дули в рукавицы и приплясывали на месте уличные торговцы сбитнем и пирогами, и поджимали лапы бегущие по своим делам бродячие собаки. Но уже к вечеру потеплело, снег на мостовых раскис и пополз длинными ноздреватыми пластами, с сосулек закапало, как-то разом обнажились и повлажнели ветви деревьев. Спустившаяся ночь была полна шорохов, тихого шума, влажных всплесков — а наутро оказалось, что тротуары залиты талой водой, сугробы просели и потемнели, а поднявшееся солнце прямо и упорно светит в пыльные окна, выбивая из них снопы искр. За всю следующую неделю оно не прикрылось ни одним облачком и пекло так, что в некоторых местах снег растаял до дощатых тротуаров. Нижние улицы Замоскворечья превратились в полноводные ручьи, по которым свободно плавал разнообразный перезимовавший хлам. Лишь к первому воскресенью апреля солнце вдруг успокоилось, спряталось в мягкие серые облака, и на ошалевшую от неожиданного тепла Москву закапал первый весенний дождь, смывавший последние следы надоевших морозов.
Капли дождя сбегали по оконным стеклам, переплетаясь причудливыми узорами, осторожно постукивали по крыше, и Анна подумала, что запросто могла б сейчас заснуть. К тому же недавно было выпито столько валерьянки и лавровишневых капель, что глубокий сон прямо в кабинете Анциферова оказался бы вполне закономерен и извинителен.
— Итак, Аннет?.. — Максим Модестович сидел в тяжелом кожаном кресле у письменного стола, и графиня Грешнева, не поворачиваясь, чувствовала знакомый острый взгляд из-под тяжелых век. — Я, право, и не знаю, на чем записать такую радость: впервые за все время нашего знакомства вы сами появляетесь у меня в гостях. Не смею надеяться, что вы по мне соскучились…
— И правильно, не надейтесь, — без улыбки ответила Анна, отходя от окна. — Я осмелилась явиться к вам лишь потому, что дело не терпит отлагательств. Задание ваше выполнено.
Анциферов молча, внимательно смотрел через стол на Анну. Она, также ничего не говоря, смотрела на него.
— Вы неважно выглядите, девочка моя, — наконец произнес Максим Модестович.
— Мне это непозволительно?
— Бог с вами, Аннет, о чем вы… Просто, наверное, не следовало так спешить?
— Другой возможности не было, и вы это знаете, — сухо возразила Анна. — На выполнение вашей просьбы у меня и так ушло почти полгода… По-моему, много.
— По-моему, тоже.
— Иначе было нельзя. Полагаю, вы и сами это понимаете. Полковник Газданов — очень умный человек.
— О да. Именно потому я и осмелился просить об этом вас. Итак?..
— Интересующие вас бумаги здесь. — Анна выложила на скатерть потертую кожаную папку с массивными металлическими застежками. — Вот ключ. Я пересмотрела бумаги перед тем, как взять, но не уверена, что это именно то, что вас интересует.
— Это они, не беспокойтесь, — медленно проговорил Анциферов, пролистав содержимое папки и подняв на Анну черные ничего не выражавшие глаза. — Что ж, девочка моя… как всегда, блестяще. Вы знаете о том, что сейчас перевернули судьбу России?
Анна молча, не поворачиваясь, смотрела в плачущее дождем окно.
— Кстати, верны ли слухи о том, что Газданов сделал вам предложение? — невозмутимо продолжал Максим Модестович. — Вы знаете, я не любитель собирать сплетни, но из-за вашей помолвки в свете поднялся невообразимый шум. Я при всем сопротивлении не мог им не заинтересоваться. Так это верно?
— Да.
— То есть вы приняли предложение?
— Скажем так: я его отсрочила. — Анна, повернувшись, внимательно посмотрела в лицо сидящего напротив человека. — Как вы знаете, я не намерена ни выходить замуж, ни просто связывать свою жизнь с кем-то на длительный срок. В эти игры я уже играла.
— Почему же вы не отказали Газданову сразу?
— Потому — и вы должны бы это понимать, — что тогда выполнять ваше поручение мне было бы крайне затруднительно.
Анциферов не спеша поднялся из кресла. Анна молча смотрела на то, как он приближается, как берет в горячие ладони ее неподвижную руку. Думала: почему люди не умирают когда хотят? Как это было бы легко и просто: пожелать смерти — и сразу перестать жить…
— Так он в самом деле настолько потерял голову? Газданов?! — Анциферов вдруг вполголоса рассмеялся, не выпуская руки Анны. — Бог мой, кто бы мог подумать… Ну, а вы, Аннет?
— Что — я?
— Вы не были увлечены? Нисколько? Князь — весьма интересный мужчина, он не шутя влюбился в вас, а всем женщинам, даже самым умным, кружит голову успех, как известно…
— Женщинам — возможно, — глядя в сторону, отозвалась Анна. — Но мы с вами давным-давно решили, что я — не женщина. Я — просто послушный исполнитель ваших желаний…
— Аннет, как вы можете?!
— …о чем вы хорошо знаете.
— Девочка моя, развитие этой темы до добра не доведет, — внимательно глядя на нее, произнес Максим Модестович. — Прежде чем вы покинете меня, хотелось бы узнать еще, как вам все удалось? Ведь Газданов уже две недели находится в Берлине с посольской миссией, и…
— Как мне удалось… — горько усмехнулась Анна. — Все предельно просто, ваше превосходительство. Вы и сами только что заметили: когда мужчина влюбляется, он теряет здравый смысл. Мы с князем близки уже несколько месяцев. Нас считают помолвленными, и высший свет кипит. Мне рассказывали о недоумении государя по этому поводу. Не знаю, были ли уже у Сандро неприятности по службе, но ничего удивительного в том я бы не увидела.
— Были, были, — неторопливо подтвердил Анциферов. — Но князь — не тот человек, чтобы извещать об этом свою невесту.
— Allors, я так и думала… Впрочем, я его предупреждала, и все это целиком на его совести. Князь свободно вхож в мой дом, я соответственно — в его. У меня есть ключи, прислуга меня знает. И в том, что вчера я зашла в дом Сандро, чтобы забрать свою бархотку из его кабинета, не было ничего странного.
— А дверь кабинета? Сейф?
Анна только махнула рукой.
— Блестяще, Аннет, — искренне повторил Анциферов. — Просто великолепно, других слов у меня нет. Что же вы намерены делать дальше?
— Разве у меня большой выбор? — Анна медленно опустилась в кресло, боясь, что через минуту она просто упадет. Силы уходили, как песок сквозь пальцы, отчаянно кружилась голова, от монотонного стука дождевых капель по стеклу хотелось кричать.
— Что мне остается делать? Подождать, пока вы вернете мне эти бумаги… после того, как узнаете из них все, что вам нужно. Отнести их на место до возвращения Сандро из Берлина. Под любым предлогом разорвать помолвку. И быть снова к услугам вашего превосходительства.
Наступило молчание. Анна сидела не двигаясь, до боли сцепив пальцы под кистями скатерти. Анциферов, положив тяжелую ладонь на закрытую папку, пристально, в упор разглядывал графиню.
— Вы потрясающая женщина, Аннет, — наконец произнес он. — Отрадно сознавать, что я в очередной раз не ошибся в вас. Право, мне вовсе не хочется вас огорчать… но дело в том, что вернуть эту безделицу на место вы не сможете.
Короткое молчание. Анна повернула к Анциферову бледное застывшее лицо.
— Вот как? Отчего же?
— Оттого, что эти бумаги мне нужны. Нужны для того, чтобы свалить не только Газданова, но нынешнего министра иностранных дел. Вернее, даже не его, он человек слабый и не представляющий никакой опасности, а того «серого кардинала», который правит сейчас империей и которому так преданно служит ваш… м-м… экс-жених. В принципе, удар направлялся не на него, Газданов — лишь переходное звено цепи… впрочем, для вас эти подробности вряд ли представляют интерес.
— Что будет с Сандро? — не дослушав, перебила Анна. — Отставка?
— Вероятно… Не делайте скорбного лица, моя дорогая, это так часто случается на высших ступеньках управления империей, что давно уже не является трагедией. Кстати, отставку он вполне может получить, если и дальше будет козырять связью с вами. Однако как вы бледны… Неужто князь имел у вас больший успех, нежели я предполагал?
— А моя судьба окажется, вероятно, еще печальнее?.. — Анна не сводила с Анциферова неподвижных глаз, словно смотря на что-то за его спиной. Голова внезапно стала легкой и ясной, ушла давящая тяжесть, пропал монотонный шум в ушах, и даже на мгновение захотелось рассмеяться. Испугавшись, что это преддверие истерики, Анна изо всех сил сжала кулаки, вонзив ногти в ладони, и от острой боли немного успокоилась.
— Когда пропажа документов обнаружится, Сандро сразу поймет, кто мог это сделать, не так ли?
— Боюсь, Аннет, что именно так, — не стал отпираться Анциферов. — Но вам, я убежден, ничего не грозит. Доказательств не имеется, да и князь не тот человек, чтобы подставлять женщину. К тому же вы сами понимаете, в каком идиотском положении он окажется. Мало того, что налицо пропажа ценнейших бумаг, так еще и очевидно, что за этим стоит дама, которую он полагал своей невестой…
— Довольно, ваше превосходительство!
— … Кроме того, он отлично понимает: за вами — я. А свалить меня ему не удастся ни при каких обстоятельствах.
— О, я уверена в этом, господин Анциферов, — подтвердила Анна, не сводя с него блестящих от слез глаз. — И, насколько я понимаю, теперь я получаю полную свободу? Ведь если наша с вами связь выходит на поверхность, стало быть, она теряет всякий смысл.
— Совершенно верно, девочка моя.
— И мы с вами в расчете?
— О да. Хотя я всегда говорил: вы ничего мне не должны.
— Последний вопрос, ваше превосходительство. — Анна почувствовала, что слезы все-таки выкатились из глаз, и поспешно отвернулась к окну. — Разумеется, вы можете не отвечать. Я вот уже какой год пытаюсь понять: к чему была эта ложь о вашей любви ко мне?
— Мои слова — чистая правда, Аннет.
Анна коротко рассмеялась сквозь слезы и спрятала лицо в ладони. Анциферов смотрел на нее в упор, но по его глазам, как всегда, ничего нельзя было прочитать.
Через несколько минут Анна встала. Тщательно вытерла глаза платком, вздохнула, протянула Анциферову мокрую от слез руку.
— Прощайте, ваше превосходительство.
— Прощайте, девочка моя.
Анна повернулась и, не оглядываясь, почти выбежала из кабинета. В приемной секретарь помог ей накинуть горжетку, протянул зонтик, и она вышла прямо под дождь.
Анна медленно брела через Кузнецкий мост, — безлюдный в такую погоду. Даже у модных магазинов не было видно экипажей, возле дверей не толпились нарядные женщины и щегольски одетые мужчины. Дождь стал мельче, по небу неслись клочковатые тучи, ветер трепал еще голые ветви лип и кленов, сырость забралась под горжетку Анны, и ее начало знобить. Она, машинально передернув плечами, ускорила шаг. Нужно было как можно быстрее попасть домой.
Слава богу, что все расчеты кончены, словно в полусне думала она, сворачивая на пустую, серую от ранних сумерек, покрытую лужами Петровку. Слава богу, что теперь от нее ничего уже не зависит, что ей больше не нужно никого спасать, что минули те времена, когда у нее на шее были малолетние сестры и разоренное имение, что и Соня, и Катя давно взрослые и сами, как могут, устраивают свои судьбы. Значит, она, Анна Грешнева, наконец свободна. И сейчас можно будет прийти домой, отпустить прислугу, написать несколько писем и достать из нижнего ящика комода пакетик с белым порошком, о котором она мечтала столько лет, с того самого дня, как ее, семнадцатилетнюю выпускницу Смольного института, лишил девичества старик опекун. Тогда Анна не решилась это сделать: удержала мысль о том, что сестры без нее погибнут. А теперь — она сама себе хозяйка, и в своей жизни, и в смерти. Вот и всё…
Впереди уже виден был знакомый поворот в Столешников, до него оставались лишь аптека, шляпная мастерская мадам Дюффо и большой ювелирный магазин, возле витрины которого графиня невольно остановилась: две недели назад они с Сандро приходили сюда, и Газданов, преодолев отчаянное сопротивление Анны, купил для нее изумрудное колье «в цвет глаз». Острая, отчаянная боль вдруг сжала сердце так, что молодая женщина покачнулась и прислонилась лбом к холодному, забрызганному дождем стеклу витрины.
— Мадам дурно? — осторожно спросил стоящий у дверей служащий.
— О нет, нет… Не беспокойтесь, — сквозь слезы улыбнулась Анна.
Собравшись с силами, она отошла от витрины, мельком взглянула сквозь нее в ярко освещенное нутро магазина… и вдруг беззвучно ахнула. И, машинально запахнув промокшую насквозь, безнадежно испорченную горжетку, шагнула к дверям. Служащий попятился, изумленно посмотрел на нее, но Анна этого не заметила.
Магазин был почти пуст. Лишь у самого входа склонился над витриной с запонками почтенных лет господин в суконном пальто, а у дальней стойки, окруженная почтительно кланяющимися служащими, стояла молодая пара. Мужчина, высокий и стройный, в хорошем шевиотовом костюме, с переброшенным через руку макинтошем, что-то весело говорил своей даме, показывая на разложенные на черном бархате прилавка бриллианты, а та тихо смеялась, отворачиваясь, и кокетливо поправляла маленькую шляпку с вуалью. Ошеломленная Анна увидела черный гладкий узел волос, резкую линию скулы, чуть раскосые зеленые глаза. И, не помня себя, выкрикнула:
— Катя?!!
Молодая дама повернулась на возглас. Обернулся и ее спутник: со смуглого лица холодно, ничуть не испуганно блеснули светлые, почти прозрачные, знакомые Анне глаза.
— Катя… Сергей?.. Боже… — прошептала она, чувствуя, как пол уходит из-под ног и разноцветные огоньки бриллиантов, качаясь, начинают кружиться в глазахЧья-то сильная жесткая рука сжала ее локоть, и Анна, растерянно оглянувшись, увидела рядом с собой того самого немолодого господина, который минуту назад так внимательно изучал запонки в витрине.
— Мадам все же надо принять воздуха, — непринужденно заметил он, увлекая полубесчувственную Анну к дверям. — Здесь крайне неудобно лишаться чувств, поднимется лишний шум, кому это интересно?..
— Но позвольте, там моя сестра!
— Это я понял…
— Аня, не беспокойся, я здесь, — послышался знакомый голос, и Анна сама не заметила, как очутилась на улице, перед магазином, под тем же непрекращающимся дождем, и высокий черноволосый человек крепко держал ее за локоть, а перед ней, хмуро улыбаясь, стояла Катерина. Валет вышел из магазина последним, аккуратно прикрыл за собой тяжелую стеклянную дверь, посмотрел на Катерину, на Анну, на стоящего рядом с ней мужчину. Огорченно присвистнул:
— Ша, Грек, дело порвалось… Добрый вечер, мадам.
— Здравствуйте, Сережа, — машинально ответила Анна.
И это было единственное, на что у нее хватило сил. В следующее мгновение она уже рыдала, тяжело, глухо, отчаянно, на груди младшей сестры, а Катерина, ничуть не удивленная и не испуганная, через ее плечо говорила мужчинам:
— Мы идем к ней. Здесь близко, в Столешников, я знаю дорогу.
Дождь хлынул сильнее, идти пришлось быстро, и за время пути Анна успокоилась. Войдя в дом вместе со своими спутниками, она сразу же отпустила горничную, отдала на кухне распоряжения кухарке и вернулась в гостиную, где ожидала вся компания.
Катерина встретила сестру прямым сумрачным взглядом. Она сидела в дальнем углу, забравшись с ногами в кресло, курила длинную папиросу, и из-за синего облака дыма Анна не могла увидеть ее лица. Грек, очень непринужденно расположившийся на зеленом диване у камина, поднялся, когда хозяйка вернулась в гостиную, и светски поклонился ей. Валет, покосившись на него, неловко встал тоже. По коротким сердитым взглядам, которые он бросал на безмятежную Катерину, было очевидно, что он чувствует себя не в своей тарелке и охотно ушел бы из этого дома. Анна, подойдя к нему, просто и ласково взяла его за руку, и Валет невольно вздрогнул:
— Мадам?..
— Я все эти годы хотела поблагодарить вас, Сережа, — глядя в настороженную физиономию вора, сказала она. — Очень немногие люди смогли бы тогда поступить так, как вы. Вы спасли Катю от суда, от каторги, не побоявшись взять всё на себя…
— Там и так всё мое было… — смущенно проворчал Валет, отвечая яростным взглядом на чуть заметную насмешливую ухмылку Грека. — Катька — дура, малявка, пошто ей на каторгу-то… А мое дело привычное, так что вы напрасно даже…
— Ничуть не напрасно. Но… — Анна запнулась. — Поскольку я снова вижу вас, значит?..
— Таки да, мадам, подорвал этим летом, — с натяжкой усмехнулся Валет. — Как Катьке вон обещал, так и сделал… С задержкой, правда, но тут уж ничего не поделаешь, как фарт лег.
— Только этим летом?.. — удивилась Анна. — Но… как же так? Ведь я уверена была, что Анциферов… Что Максим Модестович… Разве он не обещал вам свободу через короткое время?
— Обещал волк кобыле хвост пришить… — Валет окончательно пришел в себя и с жесткой усмешкой посмотрел в изумленное лицо Анны. — Кто ж нашего брата на свободу пущать будет с каторги-то? Это только Катька по малолетству купилась… да вы вот через ваше благородство. А нам оно все понятно было…
— И, видит бог, я с Анциферовым еще сочтусь, — сквозь зубы пообещала Катерина, поднимая на Валета сощуренные глаза. По тому взгляду, которым ответил ей Валет, Анна поняла, что разговор этот у сестры и ее любовника не первый.
— Катя, ради бога, забудь, — торопливо произнесла она. — Сережа, вы взрослый, опытный мужчина, вы обязаны ее разубедить! Господин Анциферов — страшный человек, он очень опасен…
— От я ей то ж самое с осени вкручиваю, а она слухать не желает, — без улыбки отозвался Валет. — Коль чего себе в башку вбила, так нипочем не вытрусишь. Вы, коли ей сестра, так и сами знаете.
— А ты меня не трогай! Сама разберусь, что делать! — отрезала Катерина, и Анна поспешно проговорила:
— Катя, ради бога, веди себя прилично… И представь мне вашего знакомого, это ведь, право, невежливо…
Катерина усмехнулась. Поднялась было из кресла, но Грек, о котором шла речь, успел встать первым. Подойдя к Анне, он склонил черноволосую голову, поднес к губам протянутую ему руку и, поцеловав ее, отрекомендовался:
— Илларион Грек, марвихер. К вашим услугам, графиня.
— Очень приятное знакомство, — автоматически сказала Анна.
Катерина, не выдержав, расхохоталась так, что забилось пламя свечей в канделябре на столе. Усмехнулся, отвернувшись к темному окну, и Валет. Грек как ни в чем не бывало, удерживал в руках ладонь Анны и с интересом разглядывал ее черными блестящими глазами. Она собралась с силами и улыбнулась стоящему перед ней вору.
— Что ж, господа… прошу за стол. Хоть и поздно, а надо ужинать.
* * *
— … Так, стало быть, ты… имеешь дело с ними двумя? — задумчиво спросила Анна, когда час спустя Грек и Валет, тихо посовещавшись между собой, заявили, что время позднее и пора бы освободить хозяйку от гостей. К удивлению и отчаянной радости Анны, уверенной, что сестра уйдет вместе со своими подельниками, Катерина сказала, что останется ночевать в Столешниковом. Они вдвоем напились чаю, залезли на большую кровать, как когда-то давным-давно в Грешневке, и Анна, вооружившись огромным гребешком, принялась расчесывать младшей сестренке волосы.
— У тебя одной волосы, как у мамы, — сказала она, глядя на черный, блестящий локон Катерины на своей ладони. — Мы все — другие, с рыжиной, а у тебя — совершенно черкесский шелк… даже с синевой на отливе. Какая же ты стала красавица, Катя! И совсем взрослая… Отчего ты не писала, не появлялась все эти годы?
— Зачем было?.. — пожала плечами Катерина, сидящая с запрокинутой головой и закрытыми глазами. — Ты же знаешь, какую жизнь я веду. Еще не хватало, чтобы у тебя были из-за меня неприятности.
— Она тебе нравится — твоя жизнь? — осторожно спросила Анна.
Катерина, не открывая глаз, кивнула.
— Я, наверное, тебя понимаю… — Анна машинально продолжала расчесывать волосы сестры. — Ты слишком влюблена в своего… Валета. Ведь это он втянул тебя…
— Аня, Аня! — с досадой перебила ее Катерина. — Ты все забыла! Мое первое дело было — в Москве, в приюте! А за что я там оказалась, помнишь?! И ни о чем не пожалела! До сих пор — ни разу — ни о чем! А когда Сережу в каторгу взяли, я пошла с Греком! И тоже бога благодарю за то, что так получилось!
— Так он тоже твой?..
Анна не договорила, но Катерина, резким движением освободив волосы, обернулась и прямо посмотрела в лицо старшей сестры.
— Ни-ког-да! — отчеканила она. — С Греком — просто работа и больше ничего! Он меня научил всему, я с ним и за границей гастролировала, и в обеих столицах… Да вот ведь в Москве прошлой осенью, магазин Штакенберга на Кузнецком мосту! Наверное, и в газеты тогда попало?
— Постой-постой… — Анна наморщила лоб. — Действительно, было много шума… Какие-то бриллианты на огромную сумму, банда мошенников…
— Не банда, а я и Грек! — гордо заявила Катерина.
Анна внимательно посмотрела на нее. Задумчиво, глядя на гребешок в своих руках, произнесла:
— Катя, если я правильно поняла, ты с… этим человеком… занималась своим ремеслом не один год. И между вами ничего не было.
— Никогда! Я Сереже слово давала!
— Допустим. То, что ты об этом не думала, вполне возможно, ты — юная женщина, неопытная и влюбленная до смерти совсем в другого. Но — он?.. Катя, ты красавица, ты молода, ты невероятно интересна, и мне трудно поверить, что этот… Грек… не увлекся тобой.
— Да ничего подобного! Аня! Он же мне в отцы годится! — взвилась Катерина.
— Господи правый, какая же ты молодая… — с горечью вздохнула Анна. — Ну, хорошо, Катя, хорошо, я вижу, ты уже сердишься… Ответь мне на один, последний, вопрос — и я больше не вернусь к этому разговору, обещаю. Тем более что ты сама прекрасно справляешься со своей жизнью, теперь я вижу. И гораздо, кажется, лучше, чем я со своей… Скажи мне: неужели ни разу за эти три года ты не заметила, не почувствовала со стороны Грека интереса к себе? Я имею в виду мужской интерес, который любая женщина, даже круглая дура, чувствует безошибочно. Катя — никогда, ни разу?..
— Нет, конечно же!.. — запальчиво начала было Катерина. И запнулась на полуслове, вдруг вспомнив теплую венецианскую ночь после карнавала, старинную гостиницу, темный номер, развороченную постель и приблизившиеся вплотную черные странно блестящие глаза Грека.
Анна пристально смотрела в изменившееся, сразу ставшее растерянным лицо сестры.
— Значит, я не ошиблась, Катя?
— Но… такое было всего один раз… давно… И он сказал, что это пустяки…
— Разумеется… Что же еще ему было говорить?.. — вздохнула Анна. — Катя, поверь мне, это в сто раз опаснее, чем все твои авантюры вместе взятые.
— О чем ты?..
— О том, что ты держишь при себе сразу двух влюбленных в тебя мужчин. И таких мужчин. Катя, это очень, очень рискованно, постарайся изменить ситуацию, иначе…
— Аня, я просто не могу поверить! — с нервным смешком сказала Катерина, отбрасывая за спину так и не заплетенные волосы и резким движением вытягиваясь на постели. В памяти ее встала минувшая осень, когда через неделю после возвращения Валета в доме Хеси Пароход снова появился Грек. Он спокойно и непринужденно поинтересовался у Валета и Катерины, чем они теперь намерены заниматься. Валет довольно холодно ответил, что лично он намерен сначала осмотреться и прикинуть, стоит ли продолжать налеты в Одессе, как прежде, или же понадобится перебираться в другой большой город.
— Это правильно, — одобрил Грек. — Здесь-то твою вывеску хорошо еще помнят. С Катькой что будешь делать?
— Что я с ней сделаю? Она сама себе голова.
— Я с тобой! — тут же заявила Катерина Валету, с вызовом посмотрев на Грека.
Тот тихо рассмеялся.
— Детка… стало быть, все мои труды насмарку? Чему я тебя учил столько лет, все коту под хвост? Я очень извиняюсь, Валет, но налеты — дело безголовых биндюжников, которые решили, что с большим стволом в кармане им многое в этой жизни можно. Мне наплевать, но ты таки доведешь малышку до каторги и сам подохнешь на Сахалине.
— Каждому свое, — хмуро отозвался Валет, переводя взгляд с безмятежного Грека на ощетинившуюся Катерину. — Я — вор, и доля моя воровская. Все когда-нибудь на тот Сахалин попадем. И подохнем тож все, ни один под лавкой не спрячется.
— Валет, воры — это тебе не семечки в кармане, они разные. Кто-то на базаре тараньку тырит, кто-то, — Грек посмотрел на Катерину, — берет в магазине камешки на полсотни тысяч и спокойно едет в Париж. Мне почему-то кажется, что нашей Катьке Париж понравится больше Сахалина.
— Так ты с богом в доле, и он тебя не посадит?! — начал злиться Валет. — Для тебя на Сахалине шконок не срублено?! От и ладушки, стало быть, сговорено! Катька, ты с им в Париж едешь? Едешь аль нет?!
— Давно в морду не имел?.. — проворковала Катерина, шаря возле себя в поисках чего-нибудь тяжелого.
Грек придержал руку девушки и, ничуть не испугавшись метнувшегося в его сторону василискового взгляда, снова повернулся к Валету.
— Посмотри на эти ручки, халамидник, — уже без улыбки произнес он, показывая Валету длинные, тонкие пальцы Катерины. — Такими нельзя ковыряться в навозе. Твои налеты — это навоз, и очень дурно пахнущий. Уж если греметь на Сахалин — то за большое дело, а не за лабаз на Ближних Мельницах. Валет, хорошо подумай, прежде чем ответить мне «нет». Я хочу взять тебя в долю.
— Нет, — сразу же сказал Валет.
— Ну, была бы честь предложена, — спокойно ответил Грек, выходя на улицу. Но на другой день Катерина пришла к бывшему подельнику и объявила, что и она, и Валет — к его услугам.
Вспомнив сейчас тот день и ту ночь, которую ей пришлось потратить на то, чтобы уговорить любовника работать с Греком, Катерина невольно забеспокоилась. И, словно защищаясь от опасных мыслей, вытянула вперед, в свет лампы, руку с тонкими, длинными пальцами.
— Знаешь, Аня… Я действительно шикарная воровка. Мне всего девятнадцать, а у меня уже есть своя репутация, меня знают, меня уважают воры. И все это только благодаря Греку.
— Вот уж действительно есть за что благодарить! — не сдержалась Анна, и Катерина повернулась к ней.
— Аня, я могла бы просто оказаться на панели…
— Почему б тебе было не вернуться ко мне?!
— Да ведь у тебя я делала бы то же самое! Да-да, то же самое! Ну, наверное, мела бы подолом не тротуар, а паркет… но ведь это не меняет сути! А я не хотела, понимаешь, не хотела, по мне лучше воровать! Прости, прости меня, но это так!
Анна молча отвернулась к стене. Катерина, не глядя на нее, продолжала:
— Грек говорит, что у меня настоящий талант, что он сразу же это заметил, что такие руки — редкость… Ты права, я мало разбираюсь в мужчинах, но… но мне почему-то кажется, что, если бы он просто хотел спать со мной, то не стал бы тратить на меня столько времени. У него был другой интерес. Аня, ты ошиблась, — с облегчением закончила Катерина, повернулась к сестре — и осеклась, увидев залитое слезами лицо Анны.
— Аня?! Господи, прости меня, я вовсе не хотела… Я совсем не то собиралась говорить… Аня, да что же ты плачешь?! Я тебя так обидела?! Аня, господи, я никогда в жизни не судила тебя, ведь ты вырастила нас с Соней, и я знаю какой ценой! Я плохая сестра, я всегда все делала не так, но я тебя люблю, я… Нет, нет, не то, я знаю, что не то… — Катерина обняла сестру, крепко, неожиданно сильно прижала ее к себе, и Анна захлебнулась рыданиями, уткнувшись в твердое, угловатое плечо младшей сестренки.
— Аня, Аня, что же ты… Бедная моя… И сегодня, в магазине, тоже… Расскажи, что случилось, вдруг я сумею помочь.
Анна не отвечала, содрогаясь от слез. Катерина гладила ее рассыпавшиеся по спине волосы. Через плечо сестры смотрела на круглый прикроватный столик, покрытый кружевной салфеткой. На ней, аккуратно прислоненный к статуэтке Венеры Милосской, стоял большой фотографический портрет мужчины в военной форме. Катерина заинтересованно всмотрелась в высокую фигуру с широким разворотом плеч, в твердое ястребиное темноглазое лицо. Вполголоса спросила:
— Аня, это… он?
* * *
— Девочка, не стоит рисковать впустую, — сказал Грек, глядя сквозь приспущенные занавески гостиничного номера на серое дождливое московское утро. — Я уважаю твои чувства, сестра есть сестра, но… Мы ничем ей не поможем и просто погорим безо всякой пользы. А поскольку это не цацки с магазина, а, как ты говоришь, государственные бумаги, то и спрос с нас будет… по-государственному. Прости, детка, но я не в доле. Каждый должен заниматься своим. Я — честный марвихер, а не шпион. В мои годы менять ремесло смешно.
— И черт с тобой, — холодно ответила Катерина, глядя в сторону, чтобы Грек не заметил бешенства в ее глазах. — Ты прав, это дело семейное, я справлюсь сама.
— Дура! — взорвался вдруг Грек так, что Катерина от неожиданности подскочила. И тут же взвился сидящий верхом на стуле Валет:
— Не ори на нее, рукопомойник!!!
— Кто тебе тут рукопомойник, сявка немытая, язык отрежу, — нежно пообещал ему Грек, поднимаясь с кровати.
Валет с готовностью вскочил, и Катерине тут же вспомнился ночной разговор с сестрой. Господи… неужели правда?..
— Хватит!!! — рявкнула она, оба вора замерли и обернулись к ней. — Идите к чертям! Я все сделаю одна, а вы — проваливайте!
— Я останусь, — буркнул сквозь зубы Валет, неохотно возвращаясь обратно на стул.
Грек внимательно посмотрел на него, чуть усмехнулся. Повернувшись к взбешенной, тяжело дышащей Катерине, серьезно произнес:
— Детка, пойми, что умные люди не бегают по рельсам навстречу паровозу. Я знаю того фраера, про которого ты говоришь, это солидный фраер. Я скакать поперек его дорожки не рискну. И тебе это тоже не будет интересно. Кроме того — вспомни, ты ему должна, он отмазал тебя от каторги…
— Я его об этом не просила! Я хотела другого! Он меня не отмазывал, а просто обманул! И к тому же, Грек…
— Малышка, прости, но я ухожу. Я еще давно тебе говорил: работаем вместе, горим врозь.
Она шумно выдохнула, скрестила руки на груди и принялась размашисто, по-мужски мерить шагами гостиничный номер, отчаянно сожалея, что у нее кончились папиросы. Грек молча снял с вешалки пальто и шляпу, обернулся с порога, улыбнулся Катерине, ответившей ему яростным взглядом, и тихо вышел за дверь.
— Можешь и ты проваливать, — мрачно разрешила она Валету, который, по-прежнему сидя верхом на стуле, молча наблюдал за тем, как любовница мечется по комнате. — Я серьезно говорю, без понта и обид.
— Вот так бы в морду и дал лахудре… — хмуро сообщил в ответ Валет, вставая и насильно ловя ее за плечи. — Дура ты дура, куда ж я от тебя денусь? Смотри, Катька… Грек — он ведь правду сказал. Дело гиблое, ни на грош фарта не будет. Ты на каторгу уйдешь, и надолго, а я… я на Сахалин. Оттуда не бегают.
Катерина повернулась к Валету, внимательно и уже без ярости взглянула в его лицо.
— Я не дура, Сережа. И это все не хуже тебя знаю. Прости меня, ты прав. Уезжай в Одессу, я попробую сама. Не перебивай! — оборвала она открывшего было рот подельника. — С Сахалина я тебя не вытащу, это верно… А сама с каторги, если надо будет, подорву. А если нет… что ж, значит, судьба. Да пойми же ты, пойми, не могу я Аню вот так оставить! Она сестра мне! Она меня столько раз спасала. Если б не Аня — я бы уже пятый год в тюрьме сидела за то, что брата живьем в доме сожгла! Не могу я ее бросить, ей, кроме меня, никто сейчас не поможет!
— И ты не поможешь, дура! А одну я тебя не пущу! Погорим ясным пламенем и сестрицу твою не вытащим! — убежденно сказал Валет. Но, увидев упрямые, полные решимости глаза подруги, шумно вздохнул, опустил голову и снова сел на стул. — Ох ты, Катька… Послал ведь вот господь маруху… Не судьба мне, видать, на воле погулять с тобой. — Он еще раз протяжно, с искренней тоской вздохнул. — Бог ты мой, как обратно-то не хочется… Катька, ты не обессудь, но, ежели меня возьмут, я застрелюсь. Не поеду на Сахалин, душа не стерпит!
Катерина задумалась. Затем повернула к подельнику сумрачное лицо.
— Поступай как знаешь, но тогда меня вперед застрели. Потому что я без тебя тоже долго не проживу. И — хватит об этом. На фарт молись, он и спляшет. Давай подумаем, как дело работать. Анциферов живет в Лопухинском переулке, это на Пречистенке…
* * *
Неделю спустя дожди закончились, смыв последние воспоминания о морозе и снеге, и в Москву пришло тепло. Подсохли тротуары, окутались нежной зеленоватой дымкой липы и клены на Пречистенке, по переулкам зашныряли влюбленного вида кошки. Спускающиеся вечерние сумерки были сиреневыми, таинственными и полными странных шорохов. Уже в полной темноте из-за башен Страстного монастыря выплывала желтая ущербная луна, распластывая по пустым улицам и переулкам близ Пречистенки бледный свет. Томно завывали коты. Чуть слышно цокали по мостовой копыта извозчичьих лошадок. Чьи-то вкрадчивые шаги шелестели по тротуарам. В сыром, мягком воздухе пронзительно пахло весной.
Около полуночи к дому тайного советника Анциферова подъехала пролетка, из которой выскочила женщина. Она обменялась с извозчиком несколькими тихими словами, и экипаж неспешно покатился дальше, к углу Лопухинского и Пречистенки. Женская фигура быстро и бесшумно пересекла пустой, залитый лунным светом двор, остановилась в темноте у двери черного хода и неподвижно застыла, словно обратившись в изваяние.
Минуло около четверти часа, луна переместилась с крыши дома в развилку большого клена. Мимо, в сторону бульвара, прошла громко разговаривая и смеясь, компания пьяных купцов. Когда в переулке снова стало тихо, дверь черного хода беззвучно открылась, и женская фигура скользнула туда.
— Сережа?..
— Ша, под ноги гляди, ступеньки тут… Фрола с пролеткой куда отправила?
— На углу Лопухинского будет ждать… Что горничная?
— Спит… Малинка мамашина сбою не дает…
— Ты с ней кувыркался?
— С кем?..
— Арапа не заправляй мне! С горничной!
— Не, запросто так она меня в дом пустила… — Из темноты сверкнули в ухмылке белые зубы. — Катька, да не скалься, то ж для дела…
— Тьфу, коб-бель… Куда идти?
— За мной поворачивай… Дом пустой, никого. Хозяин только утром ожидается.
Повороты, переходы, лестницы, темнота, изредка — метнувшаяся прямо из-под ног мышь, чуть слышный скрип ступеньки, сияющий луной проем окна в переплете еще голых ветвей, призрачные полосы света на полу… Никакого страха Катерина, идущая шаг в шаг за подельником по незнакомому, чужому дому, не чувствовала. Голова была восхитительно ясной, мысли — четкими, дыхание — спокойным. Катерина даже немного заволновалась, зная, что излишняя уверенность на деле — плохая примета. Но долго размышлять об этом девушке было некогда: через минуту Валет остановился перед высокими запертыми дверями. Луна, заглядывавшая в окно галереи, светила прямо на них, и по смутно поблескивающему наборному паркету протянулись две длинные тени.
— Здесь. Пожди, я зараз…
С минуту Валет возился с замком. Затем удовлетворенно вздохнул, шагнул в сторону — и створка двери открылась.
Это был большой кабинет с плотно задернутыми гардинами на окнах. Лунный свет сюда не проникал, и Катерина, поколебавшись, зажгла свечу в огромном канделябре, располагавшемся на тоже огромном столе черного полированного дерева.
— Катя, может, зря? — осторожно спросил Валет, стоя у дверей и осматриваясь. — Не ровен час, сквозь занавески просочится, прямо на Пречистенку окна-то выходят…
— По-другому не получится. — Катерина осмотрела стол, заваленный картонными папками, два уходящих под потолок застекленных шкафа и массивный крупповский сейф в углу. — Я и при свете не сразу найду…
— Ежели вовсе найдешь. Катя, поклянись, что через полчаса рвем когти. Не в охоту по-глупому-то сгореть…
Катерина не отвечала, отгородив свечу от окна огромной книгой и сосредоточенно роясь в бумажных завалах на столе. Валет вздохнул, пожал плечами и бесшумно, как кот, пошел по блестящему паркету к громаде сейфа.
Про себя Катерина благодарила бога за то, что Анна, полностью утратив самобладание в тот вечер, когда они были вдвоем, рассказала ей обо всем. Вернее, Катерина, воспользовавшись ситуацией, вытянула из сестры необходимые сведения. Расчет ее был верным: полчаса спустя Анна, выпив лошадиную дозу лавровишневых капель, пришла в себя и принялась умолять младшую сестренку ни во что не вмешиваться и — самое главное! — не искать никаких встреч с Анциферовым: «Катя, ты даже не представляешь, какой это страшный человек!» Катерина пообещала, сказав, что даже она не рискнет соваться в такое опасное дело. Анна вроде бы поверила, хотя за минувшую неделю, встречаясь с сестрой у нее дома, Катерина то и дело ловила на себе ее подозрительные взгляды.
Девушка знала, что искать следует толстую папку коричневой кожи, бумаги в которой написаны по-немецки. Этот язык Катерина помнила плохо, но отличить его на бумаге от любого другого была вполне способна. Именно этим она и мотивировала свое присутствие на деле Валету, всерьез намеревавшемуся «обстряпать» все в одиночку. Одесскому вору, который с трудом читал даже по-русски, в конце концов пришлось признать правоту подруги.
— Катька, надо уходить, — спустя час произнес Валет, оставив в покое выпотрошенный сейф и обведя взглядом разгромленную комнату, ковра в которой было не видно под слоем вываленных из папок и сброшенных с полок бумаг. — Холера ясна, нету тут ничего.
— Не пойду. — Катерина, не поднимая головы, ожесточенно рылась в самом нижнем ящике стола. Движением подбородка она показала Валету на скрытую тяжелой бархатной портьерой, почти незаметную дверь, ведущую, судя по всему, в смежную комнату. — Загляни туда.
— С чего вы с сестрицей взяли, что он здесь, в своем дому, ту папку держит? — упорствовал, не двигаясь с места, Валет. — Может, она у него в департаменте в шкафе с охранкой спрятана. Али в банке заныкана. Мест-то у такого туза много должно быть, не шпана какая переулошная… А может, он ее уже скинул кому надо. Время линять, Катька. Мы, что могли, сделали.
— Однако, Валет, своего здравомыслия ты на каторге не растерял, похвально, — послышался вдруг низкий, тяжелый голос. Он раздался, казалось, совсем рядом, и Катерина, медленно поворачиваясь на звук, мельком подумала: вот ведь верно блатные говорят, что, коли без страха на дело идешь, — непременно сгоришь… Окончательно она убедилась в правильности сей воровской приметы, когда портьера, скрывавшая вход в другую комнату, дернулась в сторону, дверь без скрипа открылась, и в кабинет неторопливо вошел тайный советник Максим Модестович Анциферов.
— А вы очень выросли и похорошели, Катерина Николаевна, — одобрительно произнес он, обходя загораживающее ему дорогу кресло и садясь в него.
Катерина, вытянувшись в струнку у стола, не моргая смотрела на него, и ее глаза, кажущиеся в полумраке черными, были похожи на две ямы на бледном лице.
— Как вы сейчас похожи на свою сестру, — безмятежно продолжал Анциферов. — Но моложе и… м-м… более дики, что ли. Черкесская кровь в вас очень сильна. Да-а, Валет… Тебя можно, наверное, понять, — но я все же, воля твоя, не понимаю. Во второй раз из-за одной и той же женщины… смешно. Да не трогай ты «наган», сучий потрох, спокойно! Спокойно! Ты понимаешь, что я сниму в первую очередь твою Катерину?!
Та резко обернулась и увидела, что Валет с искаженным от бессильного бешенства лицом неловко опускает пистолет на край стола. Не понимая, чем вызвана такая покладистость подельника, она снова посмотрела на Анциферова и заметила, что из его руки целится прямо ей в грудь холодно поблескивающий в лунном свете ствол.
— «Смит-и-вессон»? — машинально спросила Катерина.
Страха не было хоть убей. «Я, наверное, сумасшедшая…» — мельком подумалось ей.
— «Баярд», — не меняя позы, любезно ответил Максим Модестович. — Гораздо лучше: меньше отдача, удобнее заряжается и не так тяжел. Учтите это на будущее и постарайтесь приобрести.
— Вы полагаете, для меня возможно будущее? — холодно поинтересовалась Катерина.
— Разумеется… Вас я отпущу, если вы не сделаете глупости. Это будет моим последним подарком Аннет. Кстати, до сих пор не могу понять: неужели она впала в такое отчаяние, что проболталась о нашей с ней м-м… деятельности вам и вашему другу? До сих пор Аннет была несвойственна подобная откровенность.
— Она не проболталась. С ней просто случилась истерика, — объяснила Катерина, садясь на край стола. Ствол «баярда» предупреждающе качнулся, но она даже не взглянула на него. — Мы с сестрой встретились в городе случайно, я застала Аню врасплох. В противном случае, можете быть уверены, она ничего бы мне не рассказала.
— Да… узнаю Аннет. Стало быть, она не знает, что вы здесь?
— Разумеется, нет. — Катерина, на мгновение задумавшись о чем-то, усмехнулась. — Полагаю, что Аня лучше бы собственноручно сдала меня легавым, чем отпустила бы на дело сюда. Она вас считает ужасным человеком.
— Ах, Аннет, Аннет… — вздохнул Максим Модестович. — Отчего же все так глупо вышло?.. Ну что ж, господа, время позднее, и я, признаться, немного устал, наблюдая за вашими действиями. Катерина Николаевна, вам нужно уходить, вскоре здесь будет полиция.
— Отпустите Сережу, — потребовала Катерина, не меняя позы. — Без него я не пойду.
— Катька, пошла прочь, дура! — рявкнул на нее Валет.
— Не указывай мне, шаромыжник! — заорала в ответ Катерина, и Анциферов в кресле зашелся приступом беззвучного смеха.
— Нет, ну положительно ничему этих людей жизнь не учит! Все, как в прежние времена в Одессе! Катерина Николаевна, да послушайтесь же вы его хоть раз, это ведь все-таки мужчина!
— Какого черта, я шага отсюда не сделаю! — Катерина вскочила со стола, резко развернувшись к Анциферову, тайный советник машинально взглянул на нее… И в тот миг что-то черное, бесформенное со свистом промелькнуло в воздухе. Это была куртка Валета, молниеносно запущенная им в лицо тайного советника. Тут же ударил выстрел «баярда», вор, коротко выругавшись, схватился за плечо. Анциферов отшвырнул куртку — и замер: в лицо его неприветливо смотрел вороненый ствол.
— Я вас убью, — сдержанно пообещала Катерина, стоя прямо перед ним с «наганом» Валета в руке. — Убью не задумавшись, и вы знаете, что это так. Перезарядиться вы не успеете. Поэтому говорите быстро: где коричневая папка. Клянусь, что возьму ее и уйду, не прикоснувшись к вам. Отвечайте!
— Катя, вы делаете ошибку, — медленно, раздельно произнес Максим Модестович, не сводя глаз со ствола «нагана». — Мой выстрел был слышен на улице, через несколько минут тут появятся люди. Пречистенка — не Хитровка, здесь пальба — большая редкость. Уходите. Черт с вами, забирайте своего Валета и идите.
— Папку мне!
— Катя…
Грохнул выстрел. Анциферов коротко, низко вскрикнул, дернулся. Сквозь рукав его домашнего сюртука побежала лента крови, «баярд» упал на паркет. Катерина пинком отправила пистолет под ноги Валету.
— Документы, господин Анциферов! Мне нечего терять! Вы еще не поняли, что я вас убью? За сестру! За себя! За то, что вы обманули меня три года назад в Одессе! Неужели вы хотите умереть из-за немецких бумажек? Может, они и изменят внешнюю политику России, но вам это будет уже безразлично!
— Да послушайте же меня, Катерина!..
Второй выстрел раскатился по дому, и на этот раз тайный советник закричал в голос.
— Ранение в колено всегда очень болезненно, мне об этом рассказывали, — хрипло сообщила Катерина, глядя на то, как по ноге Анциферова бежит темная струя. — Папку! Сюда! Мое время на исходе!
— Будьте вы прокляты… — прошипел Анциферов. — Там… В комнате… Подними паркетную шашку под столом, там тайник… Дура, вас все равно возьмут, возьмут мгновенно… Ты не представляешь, во что я превращу твою жизнь… Твою и твоей шлюхи-сестры…
Катерина, не слушая его, метнулась в темную соседнюю комнату. Валет поднял с пола «баярд»; морщась и зажимая одной рукой рану в плече, другой взял на прицел Максима Модестовича. Тот, не видя этого, чуть слышно стонал от боли, пытаясь зажать черную дыру ниже колена. Из переулка уже доносился топот, испуганные крики.
— Здесь! — Катерина появилась на пороге комнаты, держа в руках пухлую кожаную папку. — Сережа, как ты?
— Хуже бывало…
— Молодец. Окна в той комнате идут в переулок, давай…
Валет медлил.
— А ты? — подозрительно спросил он, глядя в белое, застывшее, как у гипсовой куклы, лицо подруги.
— Сразу за тобой, — ответила она.
Валет быстро подошел, заглянул в зеленые глаза Катерины. Кинув взгляд на Анциферова, тихо сказал:
— Катя, не надо, не бери греха…
— Рада бы, да не могу, — так же тихо возразила она. И, повернувшись к тайному советнику, в последний раз спустила курок. Кровь хлестнула на изголовье кресла, щедро забрызгала зеленое сукно стола. Валет перекрестился — и метнулся в соседнюю комнату. Через мгновение послышался звон стекла, треск сломанной рамы.
— Катя, тикаем! Иди первой!
Она, прижимая к груди папку, обвела последним взглядом кабинет — и одним резким движением перевернула стоящий на столе канделябр с горящими свечами. Разбросанные бумаги занялись мгновенно, и, уже убегая в соседнюю комнату, Катерина успела увидеть, как пол кабинета словно покрывается пылающим ковром. Задрав юбку чуть не до пояса, она вскочила на подоконник и — прыгнула вниз со второго этажа. Через минуту рядом без единого слова приземлился Валет.
— Терпеть можешь? — шепотом спросила Катерина.
— «Наган» сбрось, дура… — не отвечая, прошипел Валет. — Чему только тебя Грек учил, бестолочь…
Катерина, опешив, только сейчас заметила, что вместе с папкой прижимает к животу еще теплый пистолет. Сильно размахнувшись, она запустила его через забор и припустила бегом по безлюдному переулку. Со стороны Пречистенки усилился шум и топот, кто-то уже спешил в обход дома к переулку, раздавались переливчатые трели свистка.
— Катька, беги… Катька, беги… — хрипло подгонял ее Валет. — Ежели отстану, — все равно беги, не останавливайся, ради бога…
— Я тебе отстану! — Катерина схватила его за руку. — Сережа, родненький, еще немножко! Ну! Ну!!! Вон пролетка! Эй, Фрол, сюда!
Одинокая пролетка ожидала на углу. От крика Катерины лошаденка пробудилась, извозчик вскинул голову, дернул вожжи, и экипаж мягко покатился по влажному тротуару. Девушка вскочила в него на ходу; протянув руку, помогла взобраться и Валету, лицо которого было серым от боли, а сквозь пальцы руки, зажимающей рану на плече, сочилась кровь.
— Гони! — шепотом приказала Катерина, извозчик хлестнул лошадь, и пролетка свернула в сторону бульваров.
Последним, что девушка увидела, обернувшись, были вырывающиеся из выбитого окна языки пламени и черные клубы дыма. С Пречистенки доносились истерические бабьи завывания:
— Ой, лишенько, горим, крещеные, гори-и-и-им!
— Цекаво решила — подпалить-то, — морщась, похвалил Валет. — Пока разберутся, что к чему, пока потушат — не до нас станет… Ох, лихая ты, Катька, у меня… Страшно с тобой.
— Тебе-то страшно? — Катерина, задрав подол, методично отрывала полосу ткани от кружевной нижней юбки. — Вот уж не поверю. Покажи плечо, дай замотаю. Ох, крови-то… Терпи, Сережа, скоро на месте будем.
До Хитрова рынка по предутренней пустой Москве доехали без препятствий. На Солянке отпустили Фрола, пешком дошли до грязных переулков Хитровки, нырнули в черную, неприметную дверь трактира «Сибирь». Хозяин Анисим Ерофеич, спокойный, бодрый и невозмутимый, провел фартовых в дальнюю комнату за общим залом, предварительно выкинув оттуда сонную проститутку и ее ругающегося с недосыпу «кота». Катерина потребовала воды и чистых тряпок; сама разрезала рубаху Валета, осмотрела рану, тихо взвыла от радости, убедившись, что пуля прошла навылет и выкатилась из рукава, не задев кости, и ловко сделала перевязку.
— Ты смотри, чисто фершалка… — подивился Валет сквозь стиснутые зубы. — Это-то откуда знаешь?
— Я все знаю, Сережа… — Катерина встала, осмотрела свое мятое, порванное, забрызганное кровью платье. — Господи, вот незадача… Ерофеич! Распорядись принести мои вещи!
— Как прикажете, Катерина Николавна! — отозвался из сеней голос хозяина, и через несколько минут взъерошенный подросток в бабьей кофте втащил в комнату чемодан и два саквояжа, привезенные сюда накануне «дела».
Девушка открыла чемодан, вытащила черную юбку, скромную батистовую кофточку и, не стесняясь Валета, начала переодеваться. Вскоре она превратилась в курсистку и, приладив на растрепанные волосы аккуратную шляпку, довершила преображение.
— Катя, а куда ты? — поинтересовался наблюдающий с топчана за действиями подруги Валет. — Паровоз у нас в двенадцать, билеты есть, ложись да спи, покуда можно. Зачем по улице болтаться, еще признает кто… К сестрице собралась?
— Нет. — Катерина, не глядя на него, завязывала под подбородком тесемки накидки. — Аню лучше не вмешивать, она ничего не знала, только испугается зря. Папку ей отнесут позже. Я иду в «Англию».
— Зачем, Катя? — тут же спросил Валет.
Руки Катерины, завязывающие тесемки, замерли. Обернувшись к любовнику, она некоторое время пристально, без улыбки смотрела на него, словно что-то соображая. Затем, так ничего и не сказав, подхватила с пола маленький черный ридикюль и быстро вышла из комнаты.
— Так ты валялась все ж таки с ним, сука?! — заорал Валет, вскакивая и снова со стоном опускаясь обратно на топчан от пронзившей плечо боли.
Ответа не последовало, лишь в конце сеней хлопнула дверь на улицу да заглянул в комнату заинтересованный Анисим Ерофеич.
— Сгинь, портомоина… — хрипло велел ему Валет. Лег навзничь на топчан и закрыл глаза.
До номеров «Англия» на Троицком подворье Катерина добралась за считанные минуты. Коридорный, узнав девушку, беспрепятственно пропустил ее в пустой грязноватый вестибюль.
— К господину Констанди? В шестой пожалуйте, они у себя еще, должно, почивают. Утром съезжать собирались, уж и номер оплатили…
Катерина быстро поднялась по темной лестнице на второй этаж, прошла длинным коридором и постучала в дверь шестого номера.
Ей открыл Грек, в полутьме она не могла разглядеть выражения его лица. Голос его, после мгновенной заминки, прозвучал знакомо, спокойно:
— Малышка?.. Что ж, раз ты здесь, значит, дело ваше выгорело?
— Да. — Катерина, отстранив его, прошла в номер, мельком посмотрела на два английских чемодана у дверей. — Ты уже рвешь когти? Куда?
— В Варшаву, есть хороший навод. — Грек стоял в дверях, следил за ней взглядом. — Это было сегодня, детка? Как все прошло? Без крови, надеюсь?
— Это было сегодня. — Катерина, обернувшись, посмотрела на него в упор. — Сегодня, Грек, и ты об этом знаешь. Зачем ты меня сдал?
Грек молчал. Темно-карие, блестящие, как маслины, глаза отвечали Катерине непроницаемым взглядом. Та не отворачивалась, чувствуя, как, словно обручем, сжимает горло, и всеми силами молясь: не заплакать бы, господи… Заговорить она не могла, боясь, что тут же разрыдается, и только молча смотрела в лицо человека, бывшего рядом с ней три года.
— Ты пришила этого туза? — наконец спросил Грек, подходя к Катерине и кладя тяжелые, горячие руки ей на плечи. — Ты или Валет?
— Я. Я была вынуждена. — С первыми же словами слезы все-таки брызнули из глаз, и Катерина, невольно уцепившись за руку Грека, опустилась на застланную кровать. — Он накрыл нас прямо на работе, зацепил Валета, так что по-другому было нельзя… Я убила его, подожгла дом, и мы оторвались на Хитровку. Это просто чудо, что все так получилось. Сегодня же мы уезжаем в Одессу… Зачем ты меня сдал, Грек?
— Не тебя, детка, — спокойно ответил Грек, прикуривая от спички папиросу и садясь на кровать рядом с Катериной. — У меня был договор с тем фраером: он берет Валета и отпускает тебя. Он сделал тебе это предложение?
— Да… Да. И я сразу поняла, что… Грек! Грек! Ты же честный вор, тебя уважает вся Одесса, ты козырной марвихер! Так ссучиться, боже мой, Грек, зачем?! — Катерина зарыдала в голос, уткнувшись лицом в ладони. — Как ты мог думать, что я оставлю Валета?! Я бы пропала вместе с ним, сгорела б вместе с ним, и что бы ты с этого имел? На что ты рассчитывал?!
— На твою замечательную головку, девочка. — Грек смотрел в сторону, в окно, за которым над куполами Страстного монастыря занималось розовое сияние. — Я подумал, что ты, может, не захочешь греметь под Нерчинск из-за обычной сявки, которая пальчика твоего бриллиантового не стоит. Прости мне этот грех, детка. Я люблю тебя.
Катерина плакала навзрыд, сжав растрепанную голову руками и отчаянно, по-детски сморкаясь в скомканный платок. Грек не пытался успокоить ее, молча курил, сидя рядом и не замечая, что пепел с папиросы падает прямо на ковер. С улицы доносились звуки просыпающегося города: цокот лошадиных копыт, звон первой конки, проехавшей с Тверской, заунывный крик точильщика: «Ножи-нож-ж-ж-жницы точить…»
Наконец Катерина глубоко вздохнула, вытерла лицо потерявшим всякий вид платком и поднялась. Отвернувшись к висящему на стене зеркалу и поправив волосы, сказала:
— Езжай в Варшаву, черт с тобой. И дай бог мне тебя никогда больше не видеть.
— Катя! — Грек встал, взял ее за обе руки, взял так сильно, что Катерина не сразу смогла освободиться. — Катя, пойми… Ты совсем молодая, у тебя впереди жизнь, красивая жизнь, девочка, поверь мне, а Валет… Это же просто босяк с Молдаванки, из него не выйдет ничего путевого. Что он может тебе дать?! Катя, мы с тобой…
— Мы с тобой больше не увидимся. — Катерина взяла со стола свой ридикюль и быстро пошла к дверям. С порога обернулась, устало произнесла:
— Бог тебе судья, Грек. Убить тебя не могу, жаль… Прощай.
Грек не ответил ей. Он стоял, отвернувшись к стене, и не обернулся даже тогда, когда дверь за Катериной тихо закрылась.
На Хитровку девушка пришла около десяти утра: бледная, с красными глазами, но больше не плачущая. В «Сибири» уже сидел народ: шайка «поездушников» громко и беспорядочно «тырбанила слам», двое громил мрачно выпивали в дальнем углу, немолодая проститутка с серым после рабочей ночи лицом жадно уписывала горячую солянку. Катерина быстро, не глядя по сторонам, прошла между столами. Один из фартовых, не узнав ее, глумливым голосом отпустил вслед какую-то гадость, но на него сразу зашипели, и он растерянно осекся. Катерина этого не заметила: она уже поднималась по темной, скользкой лестнице на второй этаж.
Валет спал на спине, разметавшись по топчану; прямо на лицо вора клином падал солнечный луч из окна. Катерина, подойдя, задернула ситцевую занавеску, села в изголовье. Осторожно потрогала лоб любовника, облегченно вздохнула и прислонилась плечом к стене.
— Ну что, Катя? — не открывая глаз, спросил вдруг Валет, и она невольно вздрогнула. — Верно ты подумала? Грек нас вложил?
— Да.
— Я сразу-то не понял… Потом уж полежал, мозги на место пристроил, сообразил, зачем ты к нему помчалась. Не серчай на меня.
— Иди к черту, дурак…
— Он живой?
— Да. Я не смогла.
— И слава богу, — сказал Валет с таким искренним облегчением, что Катерина изумленно уставилась на него. Поймав этот взгляд, вор покраснел. Сердито проворчал: — Катька, мне до твоей лихости, верно, далеко скакать. Только к чему лишнее-то на душу вешать? На нас с тобой и без того много болтается…
Катерина слабо улыбнулась в ответ.
— Как ты? Плечо болит? До вокзала доедешь?
— С тобой я не только до вокзала — до самой Одессы пешком пойду. — Валет встал, чуть поморщился, покосился на проступившую сквозь перевязку кровь — и вдруг широко улыбнулся, блеснув зубами. — Ить как же тебя, дура, фарт любит! Ладно, с богом, едем!
— Вот еще что, Сережа. — Катерина подошла к нему вплотную, взглянула в лицо, и Валет сразу перестал улыбаться. — Поклянись мне, что блатные об этом не узнают никогда. О том, что Грек… Я этого не хочу. Будем знать ты и я, больше никто. Можешь поклясться? Все-таки Грек из меня сделал шикарную воровку. И, что бы ты там себе ни думал, пальцем ко мне не прикоснулся. Я его смерти не хочу. Поклянись, Сережа.
— Чтоб мне свободы не увидеть, — помолчав, мрачно пообещал Валет. И, отвернувшись от Катерины, сдернул с гвоздя свою куртку.
* * *
Через три дня в Москву пришла ранняя Пасха. Этой сырой, теплой лунной ночью, казалось, никто в городе не спал: горели окна домов, открыты были двери храмов, в которых виднелись огни множества свечей, людские тени, освещенные алтари, древние лики святых в украшенных камнями окладах, искрящиеся одеяния священников. По всем улицам слышалось церковное пение молитв. Голоса хоров и протодьяконов сливались в мощный поток, уносящийся к бледному сиреневому небу, прихожане подпевали как могли, стоя в приделах храмов с узелками, в которых были спрятаны куличи и крашеные нарядные яйца. Луна, уже полная, апельсином висела над куполами церквей, и, когда в полночь сотнями разноголосых колоколов ударил знаменитый московский благовест, славящий воскрешение Христа, желтый лунный диск, казалось, дрогнул и покачнулся в кольце легких перистых облачков. Восторженный хорал грянул из всех церквей, сливаясь с радостным колокольным перезвоном, прихожане целовались, крестились, отовсюду — из храмов, из домов, из улиц и переулков — неслось оживленное: «Христос воскресе, православные! Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Графиня Анна Грешнева встретила пасхальную ночь дома, хотя еще накануне приготовила строгое серое платье и кружевную мантилью, чтобы пойти в церковь. Но около девяти часов вечера, в который раз за минувшие дни разрыдавшись и увидев в зеркале свое подурневшее, измученное, залитое слезами лицо, молодая женщина поняла: вести себя насильно в храм и стоять бесконечную пасхальную службу у нее нет ни сил, ни желания. Она отпустила в церковь счастливую горничную, прямо в платье легла на разобранную постель и, не вытирая бесконечных, медленно ползущих по щекам слез, постаралась ни о чем не думать. В окно ярко светила полная луна, ее луч лежал наискосок на подушке, и Анна машинально водила по нему пальцами. Ее знобило, но потянуться за одеялом казалось немыслимым, и она не двигалась с места. Думы упорно возвращались к Максиму Модестовичу Анциферову.
Когда три дня назад Анна из газет узнала о загадочной смерти «одного из влиятельнейших государственных лиц Российской империи», ей показалось, что рассудок разламывается на несколько частей и каждая взрывается истерическими, суматошными, ни капли не похожими друг на дружку мыслями. Сначала Анна чуть не кинулась в Лопухинский переулок; затем, кое-как сообразив, что толку там от нее никакого не будет, а разговоров лишь добавит, решила отправиться в номера «Англии», где, как говорила Катя, она остановилась со своими двумя джентльменами. В том, что младшая сестра причастна к смерти Анциферова, Анна не сомневалась, но, собрав остатки самообладания, она в конце концов не поехала и туда. Каким-то задним чутьем молодая женщина сумела понять, что, если сейчас она кинется к Кате и начнет читать ей мораль, та зыбкая ниточка доверия, протянувшаяся между ними, оборвется, и она снова не увидит сестры много лет.
При мысли о том, что младшая сестра убила Анциферова, у Анны темнело в глазах, и она торопливо напоминала самой себе, что при Кате находятся два законченных бандита, которые могли сделать это и легче, и лучше. Выпив все лавровишневые капли, отыскавшиеся в доме, Анна послала за одной из своих девушек, Сюзон, которая отличалась тем, что никогда не задавала глупых вопросов, и отправила ее на разведку в Лопухинский. Сюзон помчалась, вернулась поздно вечером, и от привезенных ею новостей Анне стало еще хуже.
Выяснилось, что весь Лопухинский и пол-Пречистенки были разбужены среди ночи револьверной пальбой. Из подворотен повыскакивали дворники, кто-то послал за квартальным, сбежались заспанные горожане, но, когда это войско столпилось у ворот дома тайного советника Анциферова, дом уже жарко и весело полыхал, выбрасывая из окон верхнего этажа рыжие языки пламени. С первого взгляда стало понятно, что его не потушить, и задача теперь заключалась в том, чтобы не дать заняться другим домам в переулке. Дворник из соседнего дома, отставной солдат Кузьма тем не менее успел совершить героический поступок, попавший во все газеты: облившись водой и накинув на голову полушубок, он кинулся в пылающий дом и выволок из него спящую мертвым сном горничную Анциферова Глашку. Добудиться Глашки в ту ночь так и не смогли: она не проснулась даже после того, как ее окатили водой, и благополучно почивала на коленях Кузьмы, назвавшемся женихом девушки, до окончания пожара. Обыватели помчались за ведрами, вскоре принеслась и пожарная команда Тверской части, которая начала поливать дом Анциферова, но уже через несколько минут провалилась пылающая крыша, и пожарные предпочли заняться домами по соседству.
К утру пожар потушили, от дома тайного советника остались лишь черные развалы обуглившихся бревен. Сюзон поспела как раз к тому моменту, когда из-под них извлекли обгоревший до неузнаваемости труп, на котором обнаружили черный от копоти золотой портсигар с вензелем Его Величества. По общему мнению, труп до пожара был Максимом Модестовичем Анциферовым. Сыскная бригада допросила проснувшуюся, наконец, Глашку, но та знать ничего не знала, ревела ревмя, уверяла «господ сыскарей», что крепкий сон у нее с младенчества, и взахлеб благодарила «геройского Кузьму Парфеныча» за спасение.
Выслушав доклад своей девушки, Анна изменилась в лице так, что Сюзон перепугалась до полусмерти:
— Анна Николаевна, что с вами?! Ну, помер и помер, царствие небесное, такой большой человек был… Оно, конечно, непонятно, что это за…
— Не «оно, конечно, непонятно», Сюзон, а «как странно», сколько можно объяснять… — автоматически произнесла Анна, переводя дыхание и с трудом приходя в себя. — Спасибо, ты свободна. И прошу никому не рассказывать об этом.
— Я, разумеется, не скажу, будьте покойны… Но ведь и без меня вся Москва про то языками чешет! То есть об этом разговаривает…
— Поговорят и перестанут. А ты все-таки молчи.
Вконец сбитая с толку Сюзон поспешила сделать реверанс и исчезнуть. Оставшись одна, Анна упала навзничь на кровать и разрыдалась.
«Господи праведный, Катя, Катя, зачем?.. Как же ты могла, девочка… Как могла такое… Боже, ведь это все из-за меня, зачем я ей рассказала, ведь она же сумасшедшая, она же дикая, она еще совсем ребенок… Гос-по-ди-и-и…»
Анна проплакала до темноты и, когда поднялась луна, забылась на неразобранной кровати тяжелым, беспокойным сном.
На похороны она не пошла, не видя в том никакого смысла, да пожалуй, это было бы и опасно. Московский сыск, справедливо подозревающий, что произошедшее — отнюдь не случайность, а намеренный умысел, усиленно занимался делом о безвременной и весьма странной кончине важного государственного лица. Горничную Глашку уже на следующий день вынудили сознаться, что накануне трагедии, вечером, к ней в гости заходил молодой человек, назвавшийся Иваном Красилиным, купцом из Харькова, — красивый, высокий, сероглазый, «вот прямо на французскую картинку похожий». Девушка, рыдая, покаялась в том, что познакомилась с «французской картинкой» случайно, в трактире, что молодой человек изобразил вселенскую страсть, поклялся в вечной и негасимой любви, пообещал сто рублей за одно только свидание, более того — показал эти сто рублей, и Глашка капитулировала, пригласив «харьковского купца» к себе в ту ночь, когда хозяина наверняка не должно бы быть дома. Отчего Анциферов очутился все-таки дома и без возражений дал себя зажарить, почему сама Глашка, так и не отработав ста рублей, уснула богатырским сном, а также кто такой Иван Красилин и куда он делся после пожара — ни Глашка, ни московский сыск ответить не могли. Следствие продолжалось, департамент, главой которого служил покойный, трясся в ожидании проверок, допросов, перетряхивания и полета голов с плеч. Москва гудела от разговоров и пересудов.
К Анне тоже приходил немолодой внимательный следователь. Он застал хозяйку в слезах и «полной буре чувств», довольно мягко проговорил с ней полчаса, выяснил, что покойный был частым гостем в этом доме, поинтересовался, не велись ли здесь разговоры государственного толка, выслушал возмущенную отповедь графини Грешневой по поводу того, что стены сей гостиной никогда не слыхали бесед серьезнее обсуждения последней театральной премьеры, поклонился и отбыл, — ни на минуту, кажется, Анне не поверив.
До Пасхи она проходила словно в полусне, чему немало способствовал постоянный прием валерьянки. И сейчас, лежа на кровати и слушая пасхальный перезвон за окном, молодая женщина вяло думала о том, что теперь наконец-то свободна и, черт возьми, знать не знает, что ей делать с этой свободой и на какие деньги жить… о том, что коричневая папка, из-за которой погиб Анциферов, канула, скорее всего, в небытие и что вернуть ее Сандро нельзя… что Катя и ее мужчины рисковали напрасно… что жизнь ее, Анны, в который раз летит под откос и что даже травиться мышьяком ей отчаянно лень…
Скрипнула дверь, вбежала на цыпочках горничная. Разглядев на постели силуэт хозяйки, шепотом произнесла:
— Христос воскрес, Анна Николавна!
— Воистину воскрес, Даша… Ты уже из церкви, так рано?
— Рано? Да ведь утро уже, барыня! Сами-то взгляньте, благолепие какое!
Изумленная Анна подняла голову с подушки и убедилась в том, что луны в посветлевшем небе давно уже нет, а над крышами переулка плывут розовые, с жемчужным подбоем, рассветные облака.
— Как незаметно прошла ночь… Даша, ты можешь быть свободна. Сегодня ведь праздник, пойди куда-нибудь погулять, к родне. Я, вероятно, останусь на весь день дома.
— Вот благодарствую, барыня… — Горничная неожиданно замялась. — Да еще тут вот какая беспримерность явленная воплотилась, изволите видеть…
— Что случилось? — забеспокоилась Анна, зная, что выражаться высоким штилем ее Даша начинает лишь в минуты крайнего замешательства.
— Тут к вам посетитель просится… уж не знаю как и сказать…
— Говори как есть! — Анна вскочила. — И, пожалуйста, четко и ясно, без этих твоих вариаций!
— Да что ж вы так вскидываетесь, барыня! И когда это я себе варьяции дозволяла? Вот и говорю ясно: мальчонка к вам, незнакомый и куда какой замурзанный. Говорит — дело к самой графине, послан от сестрицы ее Катерины Николавны…
— Господи! Проси! Зови! Немедленно!
Дашу как ветром сдуло. Вместо нее вскоре появился босой подросток лет четырнадцати в надетом прямо на голое тело рваном сюртуке, который странно топорщился в районе груди, и в подвязанных веревкой штанах.
— Так что Христос воскрес, ваше сиятельство! — деловито объявил он, остановившись на пороге и с нескрываемым интересом рассматривая обстановку комнаты.
— Воистину воскрес… — Анна нетерпеливо подошла ближе, геройски стараясь не морщиться от ударившей в нос вони. — Ты от Кати? Что с ней?
— Фартовая просила вам передать, что они с Валетом оторвались с Москвы без послед-стви-ев. — Последнее слово мальчишка выговорил с удовольствием и явно гордясь собственной ученостью. — Двери можно прикрыть?
— Изволь…
Мальчишка аккуратно закрыл створки высоких дверей; мягко, как животное, ступая босыми ногами, подошел к столу, распахнул свой сюртук… И Анне сразу же стало ясно, отчего тот стоял колом: из-под замасленной полы на скатерть выскользнула знакомая папка коричневой кожи — слегка испачканная по нижнему краю чем-то темным.
— Что это? — машинально спросила Анна, потерев темные потеки пальцем.
— Известно что — кровянка! — хмыкнул мальчишка. — Да вы не извольте беспокоиться, фартовая цела, без дырочки-царапинки, — на то и фартовая… Ужасти, до чего бабе везет! Валета вот слегка зацепило, но и он на своих ногах с Москвы ушел. Велели вам кланяться и вот эту книжищу передать.
— Спасибо… — одними губами выговорила Анна, чувствуя, что бешено колотящееся сердце вот-вот выскочит из горла. — Постой, я заплачу тебе…
— Без надобности, фартовая заплатила. Здоровы будьте, ваше сиятельство. — И мальчишка, лениво развернувшись на черных пятках и зацепив плечом дверной косяк, вышел из комнаты.
Вбежавшая через минуту горничная увидела барыню плачущей навзрыд над какой-то толстенной книгой и тут же решила, что ни в какие гости она сегодня не пойдет, потому как всем известно, что господа обожают ныне безо всякой причины руки на себя накладывать…
Своим пасхальным отдыхом самоотверженная Даша пожертвовала напрасно: к вечеру Анна окончательно пришла в себя. Тщательно пересмотрев содержимое папки, она убедилась, что все бумаги целы и невредимы. Но вздыхать с облегчением было рано, поскольку папка находилась у Анциферова неделю. За это время он мог снять сколько угодно копий с этих документов или просто дать их прочесть нужным лицам. И тем не менее на губах Анны нет-нет да и появлялась счастливая улыбка.
Главное, самое главное то, что ее сумасшедшая сестренка со своим беглым каторжником уже далеко отсюда и в полной безопасности. Более того — никто, кажется, не знает, что ими совершено убийство Анциферова. Их даже не могут в этом заподозрить, поскольку никаких мотивов ни у Катерины, ни у Валета для того не имеется. «Слава богу, слава богу, слава богу…» — бесконечно, как молитву, шептала Анна. От этой волнами накатывающей на сердце радости какой-то пустяковой и никчемной стала мысль о собственной судьбе. Да, снова одна, снова без денег. И опять нужно ломать голову, как прожить, опять надо искать покровителя… Но это все житейская шелуха, а главное, самое главное — Катя жива и далеко отсюда. И — нет Анциферова! Второй раз в жизни Анна без всяких угрызений совести радовалась смерти человека. Первый был четыре года назад, когда все та же Катерина сожгла в запертом доме брата Сергея.
В сумерках, когда вся Москва пьяным-пьяна догуливала Пасху и с улицы доносились хмельные нестройные голоса, рев гармоник и бабьи взвизги, Анна сидела без огня и любовалась луной, которая снова всходила над крышами переулка золотой монетой, уже немного ущербной. Довольная Даша убирала со стола. Впервые за неделю ей удалось наконец как следует накормить барыню, и вся приготовленная «праздничная пишша» пошла впрок.
— Чаю изволите испить, барыня? У меня и куличи, и пироги, и пастила от Елисеева закуплена…
— Чуть позже… Даша, кажется, кто-то подъехал?
— Ваша правда. — Горничная, подбежав к окну, прислушалась. — Пойду открою. Принимать? Аль нет?
— Сначала доложи. — Анне не хотелось видеть никаких гостей.
— Слушаюсь. — Даша ушла.
Через некоторое время послышался короткий приглушенный разговор в передней, затем — Дашин возражающий голос, перебитый решительным мужским басом. Узнав его, Анна побледнела, поднялась с кресла, зачем-то неловко накинула на одно плечо шаль — и в комнату быстрыми шагами вошел полковник Газданов.
— Аня, Христос воскрес! — широко улыбаясь, произнес он, и Анна вдруг почувствовала, как незнакомо, больно у нее защемило сердце при виде этих черных глаз, жестких, ястребиных черт лица и высокой широкоплечей фигуры. — Я — прямо с корабля на бал! То есть с поезда к тебе! Прости, что без предупреждения, твоя Даша встала было в дверях, утверждает, что у тебя «непоколебимая ипохондрия», но я все равно прорвался! Потому что соскучился страшно! Что с тобой, отчего ты не принимаешь в такой день, ты больна? Аня! Почему ты плачешь? Я… настолько не вовремя?
— Прошу садиться, князь… Воистину воскрес… — Анна едва справлялась с дрожащими губами, отчаянно боясь лишь одного: грохнуться в обморок. — Вы… действительно несколько не вовремя…
— Аня! — Газданов и не подумал сесть, подойдя вплотную к Анне и внимательно, тревожно посмотрев в ее лицо. — Что случилось, я опять в чем-то провинился? Что это за «вы» снова между нами?! И как я мог тебя огорчить, если всего полчаса как в Москве?!
Анна, не отвечая, пристально смотрела в черные глаза стоящего перед ней мужчины. И решение пришло внезапно, ясное, спокойное, единственно правильное. Сразу же исчезла дрожь, растворилась подступающая к горлу дурнота. Глубоко вздохнув и удивившись про себя — как это она могла столько времени быть такой дурой, — Анна вытерла слезы, жестом пригласила Газданова подойти вместе с ней к столу и переставила свечу так, чтобы ее свет упал на кожаную папку. Газданов посмотрел на нее — и медленно перевел взгляд на Анну. Он не изменился в лице, лишь на мгновение ей показалось, что на жесткой, словно вылитой из меди скуле дрогнул желвак.
— Сядь, пожалуйста, Сандро, — спокойно попросила Анна, кладя ладонь на коричневый переплет с засохшими на нем пятнами крови. — Сядь, и я все расскажу тебе. Все как есть, и после этого мы расстанемся навсегда. Выслушай меня и, по возможности, не перебивай. Рассказ мой будет недолгим.
* * *
— Дмитри-ич… Дмитри-ич… Да просыпайся уже, Дмитрич, ну?!
Просыпаться не хотелось, и Владимир сердито замычал, зарывшись головой в подушку, но настойчивое шипение над самым ухом не прекратилось ни на миг. В конце концов пришлось сдаться и открыть глаза, потеряв всякую надежду остаться в осеннем теплом Крыму, на нагретом солнцем песке, у зеленоватых, мягко лижущих гальку волн. Сразу же оказалось, что он находится не на крымском побережье, а в своей квартире на Остоженке, что в открытое окно лезут зацветающие ветви вишни, что над этими ветвями — голубое безоблачное майское небо, которое заслоняет встрепанная голова Северьяна.
— Ты чего шипишь, дурак? — удивился Владимир, поднимаясь на локте. — Что стряслось? Который час? Манька, доброе утро… ты еще здесь?!
Последнее адресовалось худой и мосластой, молоденькой, донельзя растерянной проститутке, которую вчера на ночь глядя Северьян притащил в дом и которая сейчас стояла рядом с другом, кое-как, явно наспех, одетая, и смущенно теребила в пальцах расшитый стеклярусом ридикюльчик.
— Так что вот, ваша милость… Не успела вовремя оторваться-то, заснули мы под утро с Северьяном Дмитричем напрочь, просыпаемся — а у вас в кухне уж поют-с…
Ничего не понявший Владимир перевел глаза на Северьяна. Тот, поймав взгляд друга, пожал плечами и дернул лохматой головой в сторону кухонной двери. Владимир машинально прислушался — и только сейчас сообразил, что в кухне в самом деле поют. Красивое, чуть приглушенное, очень знакомое ему контральто с чувством выводило:
Позарастали стежки-дорожки, Где проходили милого ножки, Позарастали мохом-травою, Там, где гуляли, милый, с тобою…— Наталья приехала?! — поразился Владимир.
Северьян уныло кивнул:
— Утром! С первым паровозом, чертова кукла, явилась… Пришла, плиту раскочегарила, оторва, самовар поставила, поет вон…
— Так в первый раз, что ли? — растерянно спросил Владимир.
В случившемся действительно не было ничего особенного: за зимний сезон Наташка не однажды являлась из имения с отчетом о текущих делах и жалобами на отбивающегося от рук Ваньку. Она не забывала привозить корзины, полные домашней снеди, на которую Черменский с Северьяном набрасывались как на манну небесную. Северьян во время этих приездов «зазнобы» ходил весьма довольный: они с Натальей давно перестали прятаться по углам и, несмотря на категорический отказ Северьяна венчаться, уже считались в Раздольном людьми семейными. Наташка, впрочем, на законном браке не настаивала, по-прежнему называла Северьяна на «вы» и «благодетелем» и безропотно жила в имении всю зиму на положении соломенной вдовы. Изредка наезжая в Москву, она успевала за пару дней отскрести холостяцкую квартиру Черменского, перестирать гору белья, наготовить еды на полк солдат и осторожно дать понять, что и она, и Ванька-балбес, отцовской милости не стоящий, и едва таскающий ноги Фролыч ждут не дождутся возвращения хозяев. «Весной к пахоте вернемся, Наталья», — клятвенно обещал Владимир.
— Дмитрич, что делать-то?! — трагическим шепотом воззвал Северьян. — Кто ж знал, что Наташка заявится нынче?! Куда вот я теперь Маньку дену? Мимо кухни-то ее никаким крюком не выпроводишь, все едино видно будет… Не в окно ж кидать, застрянет еще! Ой, крику, поди, будет… Оно ж, бабьё, всё без понятья в таких-то делах…
Положение казалось отчаянным. Владимир, вскочив, подошел к окну и сразу же понял, что выпроводить Маньку через него в самом деле не удастся: мало того что прыгать со второго этажа было высоко, так еще и прямо под окнами джунглями разрослась молодая крапива.
— Северьян Дмитрич, я под кровать заховаться могу, — тихо предложила Манька. — А как ваша супруга хоть на минутку из дому вывернется, я тут и шмыгну…
— Некуда ей выворачиваться, дура, — с досадой возразил Северьян. — До ночи, что ль, под кроватью проваляешься?.. Тьфу, грехи наши тяжкие, и надо ж было вляпаться на старости лет… Дмитрич, слушай, а давай я ее тебе оставлю, а?..
— Чего?!.
— Дмитри-ич! Ну что тебе стоит-то?! — взмолился почуявший выход Северьян. — С тебя у Натальи спрос какой?! Не ейное дело думать, кого барин себе с улицы водит! Она и рта не откроет даже, я наверное говорю! Счас давай я Маньку-то у тебя посажу, а сам на кухню, как порядочный, вылезу, а вы чуть попозжей выгребайтесь вдвоем мимо нас — и всего-то делов…
— Да иди ты к чёрту, болван!.. — возмутился было Черменский, однако тут же понял, что это, кажется, действительно единственный выход из положения. Но до чего, черт возьми, глупо получается…
— Как ты мне надоел со своими девками, право! — в сердцах выругался он. — Сколько раз говорил: — Не води сюда, сам у них оставайся, коли нужда! Я сюда хоть одну приводил?! Ну, скажи, сукин сын, — приводил?! Нет! А твои дивизиями маршируют! Если еще хоть одну шалаву мне прятать придется…
— Дмитрич, вот ей-богу, не буду больше! — Северьян вскочил и кинулся за дверь, напоследок бросив: — Манька, сиди, лахудра! Через полчаса вылазьте с Дмитричем!
Дверь захлопнулась. Сквозняк качнул ветку вишни за открытым окном, и на пол упало несколько белых лепестков. Черменский сердито посмотрел на ни в чем не повинную Маньку. Та тяжко вздохнула, пожала худыми плечами, примостилась на краешке смятой постели и деликатно отвернулась, ковыряя в носу, когда Владимир начал одеваться.
Через полчаса Черменский, толкая впереди себя сопящую проститутку, вошел в кухню. Северьян, паршивец, чин чинарем сидел за столом у самовара и солидно тянул из блюдца дымящийся чай. На столе стояло необъятных размеров блюдо с привезенными Натальей слегка помятыми в дороге пирогами, а сама Наталья крутилась у плиты. Даже со спины было заметно, как она располнела за зиму, и немудрено: Наташкиному животу насчитывалось уже полных пять месяцев.
— Доброго утра, Владимир Дмитрич, — с улыбкой поздоровалась она, поворачиваясь от плиты и закалывая на затылке размотавшуюся рыжую косу. При виде Маньки выражение Наташкиного лица осталось безмятежным. — И вам, барышня, здравствуйте. Чаю испить изволите?
— Благодарствуйте, дома выпью… — пролепетала Манька, пулей выскакивая в сени. Владимир едва успел сунуть ей ридикюль с честно заработанным полтинником.
Наталья преспокойно вернулась к плите, по-прежнему напевая «Стежки-дорожки». Владимир кинул на Северьяна яростный взгляд, друг невиннейшим образом уставился в потолок.
— Как дела в Раздольном? — мрачно спросил Черменский у Наташки. — Отчего ты не боишься в таком положении ездить по железке? Поберечься бы уже надо.
— А какое мое положение? — певуче отозвалась Наталья, бухая на стол тарелку с холодной ветчиной. — Самое что ни есть абнакновенное, бабье. И рази ж я барышня, чтоб беречься? В Раздольном, слава господу, благополучно все. Фролыча вот только на Василья пострел разбил, я уж ходила за ним, ходила, да чуть его малость отпустило — сейчас к вам понеслась. Он и сам велел: поезжай, говорит, Наталья, скажи, что пора пахать, земля-то уж подошла, ком об землю в пух разбивается, мужики давно сохи повытаскивали, не дело дожидаться-то, упустим землицу… Не годится старику тревожиться, Владимир Дмитрич, вы бы и правда возвертались! Без хозяев куда как худо, и Ванька совсем слушаться перестал. Я-то ему не начальство, и страху парню от меня никакого, цельными сутками при конюшне, с вороного не слезает… Четвертого дня табор цыганский пришел, так Ванька туда улепетнул — и боле не ворочался! Не увезли б они его еще, нехристи… А до школы два месяца нога не доходила! Я его стращаю — вот, мол, родитель приедет, выпорет, — а он мне только скалится, неслух!
— Надо бы взаправду возвращаться, Дмитрич, а? — осторожно произнес Северьян. — Упустим землю, весь хлеб коту под хвост сгинет… Еще неделя-другая — и уйдет погода-то! Ну, за ради чего мы тут сидим? Каких милостей небесных дожидаемся? Нечего дожидаться-то тебе…
Владимир через стол в упор уставился на него. Северьян ответил таким же прямым взглядом. Наталья посмотрела на одного, на другого, решительно поднялась, накинула на волосы платок и взяла корзинку.
— Пойду до рынка прогуляюсь, к обеду провизью куплю какую… А вы, господа, промеж себя решите, как скажете — так я Фролычу и передам. Ввечеру уж и поеду, коли ваша милость будет.
— Осторожней, гляди, на рынке-то, чтоб не пихнул кто… — буркнул ей вслед Северьян.
Наталья обернулась с порога — и неожиданно объявила:
— Я вам, Северьян Дмитрич, конечно, не супруга и о дерзости этакой даже не помышляю! Вы меня, конечно, и вовсе не слушать имеете право! Только я вам все едино скажу: коли вы и дальше станете с улицы двугривенных девиц притаскивать, то очень просто можете дурную болесть словить. Вот страму-то будет опосля по лекарям бегать! Надо же осторожность иметь, коли брать — так уж хоть полуторарублевую, из заведения! Их и дохтура проверяют, и мадам следит! А уж вам, Владимир Дмитрич, и вовсе невместно! Серьезный человек-то какой, барин, в газетах пишетесь, а туда ж!
Эта проповедь оказалась бы воистину уничтожительной, не будь на веснушчатом лице Наташки широкой лукавой улыбки. Закончив сию прокурорскую речь, она кораблем выплыла в сени и уже там, совсем по-девчоночьи взвизгнув, расхохоталась в голос, оставив Владимира и Северьяна таращиться друг на друга в полной растерянности.
— Вот же баба чертова… — пробормотал Северьян, покраснев, насколько это позволяла его черная физиономия. — Такую комбинацию нам с тобой разбила… И регочет еще, проклятая, на всю Остоженку! Говорил я тебе, Дмитрич, надо было Маньку в окно кидать! Ничего, со второго этажа небось не убилась бы…
— Женись, брат, женись, — усмехнувшись, посоветовал Черменский. — Другой такой не сыщешь.
— Сразу ж опосля тебя! — огрызнулся Северьян, высовываясь в окно и провожая взглядом чинно идущую через двор Наталью. — Ну, Дмитрич… Поедем домой, что ль?
— Поезжай один, — коротко ответил Черменский.
Северьян, с досадой вздохнув, отвернулся от окна. Прошелся по комнате, разминая в пальцах папиросу и осторожно поглядывая на друга. Затем вполголоса произнес:
— Мне-то, сам знаешь, все едино. Хоть и на лето здесь останемся, без разницы, хотя хлеба и жалко. Но чего дожидаться-то? Говорил я тебе: тогда Софью хватать надо было, тогда! Зимой, у цыган, прямо у Мартемьянова из-под носа! Хватать да силком и увозить!
— Да, а Ирэн послать за извозчиком!.. — огрызнулся Владимир.
— И ничего, не померла бы небось! — вспылил и Северьян. — Она тебе не жена и не невеста, таковых на помойке за грош дюжина отпущается! Только разве в ей дело-то, Дмитрич?.. Ты три года около этой Софьи крутишься! Три! К ейной сестре в дом слободно вхож, и сколько разов ты там с Софьей виделся? Сто, а может, и боле! Кабы хотели, так давно б уж сговорились! В тиятре ейном мало разве вы нос к носу стыкивались? Сам рассказывал: здоровается и мимо идет! Из ресторана тогда зимой сам бог ей велел с тобой уехать — не поехала же! С этим своим чертом осталась! Так какого ж тебе еще рожна надо?! Чтоб она тебе в конце концов в глаза сказала, чтоб ты ее своим вниманьем не беспокоил?!
Владимир молчал. Умолк и Северьян, с сердцем сплюнув через окно в крапиву. В комнате повисла тишина, которую нарушала лишь звонкая перебранка воробьев за окном.
Северьян мог бы и и не напоминать о той морозной ночи в разгромленном ресторане: дня не проходило, чтобы Владимир не подумал об этом сам. Ничего не помогало: ни здравые, в общем-то, мысли о том, что он едва знает Софью, что все, что было между ними, — длинная ветреная ночь на берегу Угры, несколько писем, слишком поздно полученных адресатом, чужой обман и разговор — короткий, нелепый разговор, обрывки слов на усыпанном битым стеклом и снегом паркете. Как наваждение, как колдовской морок, изо дня в день стояли перед глазами зеленые, словно болотная трава, полные слез глаза Софьи, ее высыпавшиеся из прически каштановые кудри, исцарапанное в кровь лицо, прерывистый шепот: «Поздно… поздно… поздно…» С острой горечью Владимир думал о том, что, возможно, правы и графиня Анна, и Северьян: нужно было тогда попросту, никого не слушая, ни на что не обращая внимания, вынести Софью на руках из этого кабака, как украденную черкесскую княжну, сунуть ее в сани и пообещать извозчику по червонцу за версту — а там как бог пошлет. Что не позволило ему тогда сделать так? Страх, малодушие? Нет, тысячу раз нет! Он никогда не боялся Мартемьянова, даже четыре года назад, когда полностью был зависим от него, а уж сейчас… Присутствие Ирэн? Возможно… Категорический отказ самой Софьи? Да… именно так. Вновь и вновь вспоминая ту ночь, Черменский не мог не сознаваться самому себе: она действительно не хотела ехать с ним. Не нужно было даже слов: он понял бы малейший жест, движение ресниц, чуть заметный взгляд, едва различимый вздох… Но она не хотела. Почему? Владимир не знал. То, что Софья не любит Мартемьянова, было для него настолько ясным и очевидным, что не стоило даже размышлений. Тысячу раз об этом же ему говорила графиня Анна, до последнего не терявшая надежды свести Черменского с сестрой. А теперь графиня уехала, и Софья больше не служит в Большом. Видеться им более негде.
О том, что Анна Грешнева покидает Россию, Владимир узнал на Пасху от Газданова, который ворвался к нему в третьем часу ночи взбудораженный настолько, что Черменский сначала решил, что Сандро пьян.
— Газданов, ты с ума сошел? Иди спать… Ты откуда здесь взялся, я думал, ты в Берлине… Который час? Христос еще воскрес?.. Напился ты, что ли?
— Я нэ пьян! И нэ в Берлине! Воистину воскрэс еще вчера, бог с ним, нэ до него! — По акценту Сандро Владимир тотчас понял, что тот взволнован сверх меры, и вынужден был оторваться от подушки.
— Сядь и слушай, — велел Газданов, оседлывая стул и решительно поворачиваясь к другу.
Тому пришлось кое-как усесться, принять заинтересованный вид и начать внимать сбивчивому, сумбурному рассказу Сандро. Сначала Владимир действительно слушал его сквозь наваливающийся сон, затем закурил, встал и принялся ходить по комнате, а когда Газданов закончил и в упор уставился на друга черными, как бездна, глазами, остановился перед ним и взволнованно спросил:
— И когда же ты все это узнал?
— Полчаса назад от нее самой! Анна рассказала мне все!
— И… что же ты?
Газданов молчал.
— Ты… ушел? Оставил ее одну?!
— Она велела уйти, — растерянно ответил Сандро. — Сказала, что никогда не выйдет за меня замуж… ни через год, ни позже… Что все кончено, и для нее так будет лучше… И я…
— И ты, баран осетинский, послушался?!! — загремел Владимир так, что Северьян на печи, до сих пор усиленно прикидывающийся спящим, свесил с полатей голову и сонно забурчал о своей несчастной жизни, в которой нет покоя от господ ни днем ни ночью.
— Заткнись! — хором рявкнули на него Газданов и Черменский. После чего Владимир подошел к вставшему ему навстречу Сандро и холодно произнес:
— Я, признаться, думал о тебе лучше. И еще осенью предупреждал, что к графине Грешневой нельзя подходить с обычными скотскими мерками. Твои мозги государственного деятеля, оказывается, гроша ломаного не стоят, когда дело касается женщины! Подумай хотя бы, свинья, на какую опасность она пошла ради тебя! Ты лучше всех знаешь, на что был способен Анциферов! Представь, что могло бы случиться, если б младшую сестру графини постигла неудача! Если бы застрелили или взяли в тюрьму ее друга, ее саму, если б всплыло твое имя… Три человека рисковали ради тебя, из них — две женщины, родные сестры! Черт с тобой, Газданов, поступай как знаешь! Но со своей стороны клянусь: если ты оставишь Анну, я тебе, во-первых, набью морду, во-вторых, вызову тебя на поединок и застрелю, в-третьих, прерву с тобой все отношения!
— Сначала застрелишь, а потом прервешь? — попытался пошутить Газданов, но было заметно, что он очень смущен и совершенно сбит с толку.
— Как тебе угодно! — отрезал Черменский, потушив папиросу о подоконник и выбрасывая ее в форточку. Затем он сделал несколько шагов по комнате и, не глядя на Сандро, сказал: — Или ты сей же час идешь к Анне, или… я не желаю тебя больше знать.
— Да пойми… — начал было Газданов, но Черменский, подойдя, с силой сжал его плечо.
— Это ты пойми, дурак, что сейчас теряешь одну из лучших женщин в России! И, видит бог, будешь жалеть об этом до конца дней своих! И не говори потом, что я не пытался тебя удержать!
Сандро поднял голову. Коротко сверкнул из темноты глазами. Хотел было что-то ответить, но не стал и молча, быстро вышел из комнаты. Черменский с размаху сел на развороченную постель, снова потянулся за папиросами, проворчав сквозь зубы: «С-собачий сын…»
— Лихо ты с ним, Дмитрич! — Северьян спустил с полатей босые пятки и, спрыгнув вниз, бесшумно прошелся по комнате. — Ажник меня мороз по хребту продрал, лежу и думаю себе: вот-вот мордобой начнется, а на Пасху все ж таки грех… — Он остановился прямо перед Владимиром и медленно, без улыбки произнес: — Вот нашелся бы добрый человек да тебя самого эдак-то к Софье отправил, — уж я бы за его здоровье во-от такую свечу в церкви воткнул!
— Замолчи, — отрывисто велел Черменский. Повалился навзничь на постель и закрыл глаза.
Через две недели он провожал на вокзале Газданова и Анну, уезжавших за границу. Оба они показались Черменскому больше растерянными, чем счастливыми, Анна плакала не скрываясь и упрашивала Владимира: «Умоляю вас, Володя, что бы ни случилось, не оставьте Софью! Она любит вас, поверьте, но я ничего не могу более сделать для вас обоих! Вообразите, она хотела ехать провожать меня до поезда, но, узнав, что здесь будете вы, отказалась напрочь! С ней нет никакой возможности спорить! Потерпите еще немного, у меня предчувствие, что вскорости это как-то разрешится…»
Владимир, разумеется, пообещал, что потерпит, не оставит и так далее. Но внутри его кто-то уставший и разуверившийся безнадежно шептал о том, что ничего не исправить и не возвратить, и что без такого верного союзника, как графиня Анна, ему вовсе не на что рассчитывать. Анна в самом деле сделала что могла… и ждать было больше нечего. А в Раздольном уже поспела земля, в голубом, как промытое стекло, небе звенят жаворонки, и кони ищут молодую траву на холмах, и все деревни вышли в поле, босые мужики идут за сохами и боронами, и… Права Наташка, и Северьян уже измучился совсем, не отвези его сейчас в Раздольное — чего доброго, сорвется по старой памяти бродяжить в Крым, и Фролыч доживает последние свои дни и боится помереть, не увидев молодого барина… Нужно ехать.
Владимир встал из-за стола. Вздохнул, потянулся до хруста и, глядя через плечо насторожившегося Северьяна в открытое окно, за которым качались белопенные ветви вишен, проговорил:
— Дождись Натальи, и начинайте укладываться. Я схожу в редакцию… вечером поедем.
— Дмитрич, может, погодим еще?.. — помолчав, осторожно спросил Северьян.
— Чего годить? Сам мне уже всю душу вымотал… Собирайся. Пора. Землю упустим. — Черменский сдернул с вешалки куртку и, не оглядываясь, вышел за дверь.
* * *
— Пускай погибну я, но прежде Я в ослепительной надежде Блаженство новое зову-у-у…— Отлично, Соня, прекрасно! Теперь я вижу, что так правильно! Оставляем это фортиссимо, и более — нигде до конца арии! — Половцев взбежал на авансцену так стремительно, словно ему было не сорок пять, а восемнадцать лет.
Софья, едва успевшая перевести дыхание, широко улыбнулась и протянула руку:
— Ну вот, я же говорила! Я чувствую, что так лучше!
— Ура безошибочным чувствам лучшей сопрано России! — провозгласил из партера «Онегин» — Ваня Быков, тридцатилетний бас, найденный Половцевым в церковном хоре города Гданьска полгода назад. Глядя на него, Софья в который раз с беспокойством подумала об ограниченных возможностях театрального гримера, которому предстояло перед спектаклем превратить этого атамана Кудеяра с косой саженью в плечах и носом, напоминающим идеальной формы картофелину, в скучающего, пресыщенного жизнью аристократа. Но старый гример Сидорыч, переманенный Половцевым из Мариинки, бодро успокаивал и Софью, и самого «Онегина»: «Не волнуйтесь, господа артисты, я из волжского грузчика графа Альмавиву делал так, что комар носа не подтачивал! Фигура вполне мужеская имеется, а все остальное — дело ремесла!»
Софья с Иваном лишь вздыхали и тревожно переглядывались: приходилось верить Сидорычу на слово.
К Ваниному голосу присоединились и другие, перешедшие в смех и аплодисменты. Вся труппа «Домашней оперы» собралась сегодня в зале — несмотря на то, что репетировать должны были лишь Татьяна, Онегин и Гремин. Софья уже привыкла к тому, что тут живо и искренне интересуются не только своей партией, но и успехом всего спектакля. «Домашняя опера» напоминала ей театр «Семь цветов Неаполя» синьоры Росси: здесь, как и там, труппа была молодой, легкомысленной, смешливой и очень талантливой — талантливой настолько, что никто не завидовал успехам другого. А может, Половцев просто умел выбирать людей. Во всяком случае, когда Софья осторожно спросила Любу Стрепетову, колоратурное сопрано, толстенькую веселую блондинку, не думала ли она сама попробовать Татьяну, та лишь беспечно рассмеялась:
— Господь с вами, Сонечка, при моей-то комплекции? Татьяну должна исполнять девушка вроде вас — эфир зеленоглазый с косой, томная и несчастная… А я буду спокойно себе петь Маргариту в «Фаусте»! Пухленькая, беленькая невинная Маргарита — это пикантно и вполне в бюргерском духе! И Мефистофелю интересно будет… Я уверена, что он, как все мерзавцы, как раз таких и любил!
— А… Фаусту? — спросила Софья, лихорадочно вызывая в памяти забытые строки Гете. — Разве не его вы должны прельстить?
— Ах, Фауст такой болван! — всплеснула руками Любочка. — Вы никогда не замечали, что он совершенно не способен сам соображать и может лишь брать то, что подсовывает ему этот черт?! А Мефистофелю нужно любой ценой довести Фауста до «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» И, разумеется, он судит по себе, как все мужчины! Что прекрасно Мефистофелю, то и Фаусту сойдет! — И Любочка комически подхватила обеими руками аппетитные полушария своей груди (дело проходило в женской уборной).
Софья расхохоталась так, что из соседней уборной обеспокоенно застучали как раз те самые «Мефистофель» и «Фауст», о которых шла речь.
— Эй, дамы! Тут, между прочим, в дырку все отлично слышно! Любочка, вот уж не ожидали от вас такой смелой трактовки Гете!
— Рада стараться, ваше благородие! — зычно проорала в ответ Стрепетова и подмигнула Софье. — Да что же вы смеетесь, наш Мефистофель, между прочим, бывший штабс-капитан, в Турецкую с башибузуками воевал! Его Иван Никитич в ресторане встретил, он там в сильном подпитии пытался, вообразите, цыган научить петь дуэт Демона и Тамары!
Вот в такой пестрой, веселой и беспечной компании Софья пребывала уже третий месяц. Репетиции «Онегина» шли полным ходом и для Софьи, выучившей свою партию еще в Большом, не составляли никакого труда. Спеваться с «Ольгой» и «Онегиным» было легко, эти еще совсем молодые люди не успели приобрести амбиций маститых артистов и с охотой соглашались на компромиссы и уступки друг другу. Половцев весьма профессионально выполнял обязанности режиссера, и Софья даже не представляла, — когда он успевает заниматься своими коммерческими делами, если каждый день по два-три часа проводит в опере. Иван Никитич был настолько захвачен «Евгением Онегиным», что всерьез намеревался дать премьеру в конце сезона, — несмотря на дружные уверения артистов, что никто так не делает.
— Это пусть в Мариинке не делают и в Большом! А мы сделаем! И Москва узнает, что такое настоящая опера, настоящий Чайковский и настоящий успех! — уверял Половцев, по-молодому блестя татарскими глазами и захватывая своим кипучим азартом остальных. Через неделю Софья уже поняла, отчего этому человеку способствует успех во всех делах: противиться напору и обаянию Ивана Никитича было совершенно невозможно.
Репетиция подходила к концу, Ваня исполнил последнюю арию Онегина, Софья допела «Счастье было так возможно, так близко…», из кулис вышел Гремин в халате, с тем, чтобы величественно показать Онегину на дверь… и в этот момент Половцев вдруг спросил из зала:
— Софья Николаевна, вы чем-то недовольны?
— О, что вы, ничуть… — машинально ответила она. И смутилась, поймав внимательный и острый взгляд Ивана Никитича. — Право же, нет… Я хотела лишь сказать… Это, разумеется, никакого отношения не имеет к моей партии, и я, верно, не должна… Но…
— Говорите же, Соня! Нам всем интересно! — как маленькой девочке, улыбнулся ей Половцев.
Софья растерянно посмотрела на обращенные к ней лица артистов, вздохнула… и решилась.
— Иван Никитич, если я не права, скажите мне сразу же, и я более рта не открою, клянусь! Я солистка, а не режиссер, мое дело петь. Но, видите ли, я все время думаю: к чему этот последний выход мужа Татьяны? У Пушкина его нет… И, на мой взгляд, совершенно правильно! В романе сказано: «И здесь героя моего в минуту, злую для него, читатель, мы теперь оставим». И всё! Я уверена, что и Петру Ильичу не нужна была эта мораль в конце! Ведь Гремин не произносит ни единой реплики! Ни слова, ни звука! Просто этакая статуя Правосудия, указывающая на двери, — а для чего? Вы полагаете, что Онегину мало досталось? И разве он в чем-то виноват? И, если муж Татьяны знает обо всем и делает подобные жесты, стало быть, она сама ему об этом и рассказала! Иначе никак, а разве Татьяна могла так поступить? Как бы то ни было, она любит Онегина и вряд ли желает его унижения! Впрочем, я, верно, ошибаюсь…
— Нет, не думаю, — медленно произнес Половцев, не сводя с нее внимательного взгляда. — Боже, Софья Николаевна, как вы взволнованы! Признайтесь, что вам не только что пришло все это в голову?
— Разумеется, нет! Я еще в Большом не могла понять… Но… Там и без этого было достаточно поводов для скандала.
Среди артистов короткой волной пробежал смех. Растерянная Софья посмотрела на Половцева, тот, в свою очередь, — на баса из Калуги Нила Гаврилыча Богоявленского, бывшего протодьякона.
— Что скажешь, Гремин? Твоя партия урезается!
— Скажу, что барышня права, — прогудел Богоявленский, лукаво поглядывя на Софью из-под лохматых бровей. — Мне нет никакой радости являться Немезидой в шлафроке… и не брать при этом ни одной ноты… Тогда как я, может быть, Онегину искренне, по-мужски сочувствовал бы на месте Гремина. Я-то в супруге своей уверен! От таких, как я, генералов по Онегиным не бегают, уверяю-с!
Грянул такой хохот, что испуганной Софье показалось, будто закачался занавес.
— Что ж, замечательно, если никто не в обиде, тогда попросту убираем эту сцену, — довольно проговорил Половцев. — Странно, что я сам не заметил до сих пор. Что значит женский взгляд! Благодарю вас, Софья Николаевна, вы прирожденный режиссер, все свободны до вечерней генеральной репетиции. А я уже опаздываю в Торговую палату.
Он протянул руку, галантно помогая Софье спуститься в зал, улыбнулся ей, пожал руки «Гремину» и «Онегину», — и, не оглядываясь, пошел к выходу. Уже в дверях Половцев разминулся с какой-то барышней, поклонился ей и заспешил дальше. А барышня торопливо подошла к самой сцене — и Софья сразу же узнала ее, и что-то резко, больно дернулось под сердцем. Перед ней в расстегнутом мужском макинтоше, в маленькой черной шляпке, из-под которой выбивались вьющиеся пряди, с чуть откинутой назад головой стояла Ирэн Кречетовская.
— Здравствуйте, госпожа Грешнева, я пришла говорить с вами, — спокойно, строго сказала она, посмотрев на Софью темными, чуть прищуренными глазами.
Та незаметно перевела дух и, чувствуя на себе заинтересованные взгляды всей труппы, как можно сдержаннее произнесла:
— Прошу в мою уборную.
Пропустив Ирэн впереди себя в крошечную комнатку, где пахло пудрой и мышами, как во всех театральных уборных, Софья заперла дверь и открыла окно. На улице было еще прохладно, но ей казалось, что воздух в уборной слишком спертый и именно поэтому у нее бешено колотится, заходясь под самым горлом, сердце. Постояв с минуту у подоконника, Софья зачем-то обвела взглядом пустой, заросший крапивой и молодой полынью задний двор театра, глубоко вздохнула и решительно повернулась к гостье.
— Садитесь, мадемуазель Кречетовская. Что же вам угодно от меня?
— Мне угодно просить у вас прощения, — решительно сообщила Ирэн, опускаясь в скрипучее кресло у гримировального столика и вызывающе глядя на Софью.
— Вам — у меня? За что же? — Софья неловко присела на край стола и посмотрела в бледное лицо Ирэн.
— За ту статью в «Московском листке».
— Какую статью?.. — Софья некоторое время не могла вспомнить, о чем идет речь. А когда вспомнила, изумленно спросила:
— Так это… вы?.. Но подпись была мужской…
— Разумеется. Я всегда подписываюсь мужским псевдонимом, это очень упрощает жизнь.
— Да?.. Ну и слава богу, — с искренним облегчением вздохнула Софья. — А я-то уж какой месяц думаю: что я могла сделать совершенно незнакомому господину, если он состряпал такой пасквиль в мой адрес. Грешила и на Нравину, у которой есть связи в газетах, и на других… Что ж… по крайней мере, теперь все понятно.
— Простите меня, госпожа Грешнева, — мрачно глядя в стену, сказала Ирэн. — И поверьте, со мной такое впервые. Сами видите, я несколько месяцев промучилась, пыталась держать гордость… Никогда в жизни не делала подлостей, и вот — в двадцать три года оскоромилась.
— Вас можно понять, — медленно проговорила Софья, поднимаясь и делая несколько шагов по уборной. — Я неуверена, что на вашем месте не поступила бы так же.
— В самом деле? — усмехнулась Ирэн, доставая длинную папиросу. — Вас не обеспокоит, если я закурю?
— Ничуть.
Ирэн чиркнула спичкой, уронила коробок, поднимать его не стала и поспешно, слишком глубоко затянулась.
— Почему вы не пойдете к нему? — глядя на улетающий в открытое окно дымок, задумчиво поинтересовалась она. — Вы влюблены, это видно. Он тоже уж какой год сходит с ума по вас. Глупо взрослым, много пережившим людям так мучить друг друга.
— Почему?.. — Софья тоже смотрела на струйку дыма. — Вероятно, потому, что около него — вы. И около меня — тоже другой человек.
— Вы ему что-то должны? Этому вашему покровителю? Деньги? Или вы дали слово? Или иные обязательства?
— Нет, ничего.
— Тогда это пустяки. И я… — Ирэн вдруг закашлялась, поперхнувшись папиросным дымом. — И я, поверьте, тоже пустяки.
Софья остановилась. Пристально посмотрела на сидящую в кресле женщину. Та снова глубоко затянулась, и облако дыма на миг скрыло ее лицо. Сквозь эту завесу улыбка Ирэн показалась Софье странной, растерянной.
— Я пришла, чтобы говорить в его защиту. Просто потому, что, как бы ни закончился наш с вами разговор, с Черменским я более не увижусь. Мы расстались еще зимой, сразу же после того, что… что я сделала.
— Вы были с ним все эти годы? — набравшись смелости, спросила Софья. Проклятое сердце бухало так, что она едва слышала собственный голос.
— Нет. О, черт! — Папироса сломалась в пальцах Ирэн, и она, вполголоса выругавшись, достала новую. Софья молча подняла с пола коробок, положила на край стола.
— Благодарю. Мы не были вместе… по крайней мере, в том смысле, который вы подразумеваете. Я жила в Питере, он здесь, рядом с вами. Вы не можете не знать, что только из-за вас Черменский живет в Москве! Еще в самом начале моего с ним знакомства я прочла одно его частное письмо… Украдкой. И узнала, что он влюблен в женщину, которая убежала от него с другим. И женщину эту зовут Софья Грешнева. Но… — Ирэн снова странно усмехнулась, откинулась на отчаянно заскрипевшую спинку кресла. — Но я самонадеянно решила, что это пройдет. И повисла у него на шее. А он… видимо, имел слишком хорошее воспитание, чтобы меня стряхнуть.
— Вы его любили?
Ирэн не ответила, и Софья отвернулась к окну.
— Простите…
— Я хочу, чтобы вы меня поняли, госпожа Грешнева. — Жестким, чеканным тоном произнесла Ирэн. — То, что было между мной и Черменским, — обычная связь мужчины с женщиной. Обычная связь — и ничего более, вы не можете его в этом упрекать. Для любого свободного человека такие отношения естественны. Вы — актриса, следовательно — не ханжа, и можете понять.
— Поверьте, у меня в мыслях не было… Я не имею никакого права…
— Я взяла его приступом, как Суворов — Измаил. — Ирэн мерно барабанила пальцами по коленке. — Мужчины так легко капитулируют в подобных случаях, даже смешно! Более того, я даже думала, что сама остаюсь совершенно свободной! И уйду когда захочу, и забуду его сразу же, как только почувствую в этом необходимость! И вот… сами видите, до чего все дошло. «Поручик Герман» пишет ревнивые пасквили в «Московском листке». Это я-то! Знал бы папа… И мои фартовые с Сенного…
— Мадемуазель Кречетовская, вы совершенно напрасно рассказываете мне об этом…
— Я знаю, сударыня, что делаю! — отрезала Ирэн. — Час назад я видела Черменского в редакции «Листка». Сегодня вечером он уезжает из Москвы… и, кажется, окончательно. Я это узнала от Петухова, сама переговорить с Владимиром так и не смогла. Постыдно укрылась в комнате верстальщиков, но оттуда все было отлично слышно.
— Он… уезжает? — прошептала Софья.
— Да! В Раздольное! Вечерним поездом! — вдруг взорвалась, вскочив, Ирэн. Коробок спичек вновь упал на пол, но теперь уже никто не обратил на это внимания. — И я вам настоятельно рекомендую ехать за ним! Потому что мне, видите ли, небезразлично его счастье! Я от природы страшная эгоистка и берегу свой душевный покой! А этого покоя и след простыл с самой зимы, и все из-за вас! Не дурите, госпожа Грешнева, поезжайте к нему… и, черт возьми, будьте счастливы, если способны! Вы хотя бы знаете, где он живет? Нет?! Бо-о-оже… Остоженка, дом Степанова, во втором этаже!
— Но…
— «Но» у вас было три года назад!!! А сейчас последнее «но» стоит перед вами и нынче же уезжает в Петербург! И очень надеется никогда больше не увидеться ни с вами, ни с господином Черменским! Он мне, поверьте, слишком дорого обошелся! Прощайте!
Мимо Софьи пронесся вихрь, поднятый полами макинтоша, мелькнуло бледное лицо Ирэн с закушенными губами, растрепавшиеся кудри из-под шляпки… Хлопнула дверь, от сквозняка закачалась ситцевая занавеска. Стиснув руки у груди, не зная, как успокоить скачущее галопом сердце, Софья полными слез глазами смотрела на валяющийся у ножки стола коробок спичек.
Позже она сама не могла вспомнить, как переоделась, как выбежала из театра, как оказалась на Тверской, заполненной людьми и экипажами. Дул ветерок, небо понемногу затягивалось легкими тучками, обещавшими дождь, и от уличной прохлады Софья немного пришла в себя. Остановившись напротив входа в Камергерский переулок, она попыталась спросить саму себя, куда так мчится. Остоженка находилась совсем в другой стороне, и Софья направилась было туда, но через несколько шагов опять остановилась. Только сейчас она вспомнила, что сегодня вернулся из Костромы Мартемьянов.
Федор приехал ночью, сразу же вошел к ней в спальню, едва раздевшись, повалился рядом и заснул, крепко прижав Софью к себе. До утра он спал неспокойно, метался, с кем-то яростно ругался во сне, и Софья не сомкнула глаз, то вслушиваясь в его невнятную брань, то тряся любовника за плечо (без всякой пользы), то просто поглаживая по спине и стараясь успокоить, — тоже безрезультатно. Наутро, когда она, совсем разбитая, поднялась, чтобы бежать на репетицию, Федор наконец заснул по-настоящему. Может быть, спит и сейчас, подумала Софья, сама не замечая, что привычно сворачивает в Столешников переулок, а затем и в Богословский. Когда же рядом замелькали знакомые низкие дома, она вдруг остановилась и несколько минут стояла не двигаясь, с закрытыми глазами, несказанно удивив этим чинно шествующую мимо, в сторону Рождественки, торговку-пирожницу. Затем Софья вздохнула, перекрестилась и продолжила путь.
Когда она вошла в дом, то еще с порога поняла, что Федор уже встал и находится на кухне. Оттуда же доносился звон посуды и ворчливый голос Марфы:
— … а на что ей эти деньги, когда у Половцева жалованье в пять раз против прежнего положили? Мы теперь с барышней, почитай, и сами цари! Софья Николавна веселая бегают, репетируют, премьеру собираются петь до конца сезона, и даже не ревели с самой Пасхи ни разу! Что значит жалованье-то хорошее да путёвый человек в начальстве!
Федор что-то ответил, что — Софья не расслышала, но голос любовника показался ей недовольным. Она, нагнувшись, хотела снять боты, но тут же выпрямилась, поняв, что этого не нужно, что через несколько минут она уйдет отсюда навсегда и что по-другому быть уже не может. В душе вдруг разом стало спокойно и ясно. Софья глубоко вздохнула и быстро, словно в воду бросившись, вошла в кухню.
Федор сидел за столом, Марфа убирала посуду после обеда. Она первая обернулась на шаги — и, увидев лицо вошедшей Софьи, вдруг выронила из рук смятое полотенце.
— Господи, барышня… — пробормотала она, неловко наклоняясь и шаря рукой по полу. — Что стряслось-то? Нешто и от Половцева уволили?!
— Поди, Марфа, — спокойно сказала Софья, проходя мимо нее к столу. — Мне надо поговорить с Федором Пантелеевичем.
Она еще не закончила фразы, а Марфу уже как ветром сдуло, лишь полотенце осталось валяться у печи. Мельком Софья даже удивилась: как это Марфа с ее комплекцией умудрилась так стремительно выскочить из кухни. Подойдя, молодая женщина хотела было сесть за стол, но Мартемьянов сам поднялся ей навстречу.
— Уходишь, что ли, от меня, Соня? — глядя ей в лицо, очень спокойно спросил он.
— Да, Федор, — ничуть не удивившись и так же прямо посмотрев в его черные упорные глаза, которых она смертельно боялась четыре года назад, ответила Софья.
Мартемьянов странно усмехнулся. Отвел взгляд. Сделал несколько шагов по кухне, слишком маленькой для его огромной фигуры. Остановился у стены, спиной к Софье. Она долго ждала, глядя на него, но Федор молчал.
— Ты знал? Откуда? — наконец спросила Софья.
— Чего ж тут не знать? — хрипло отозвался он. — Какой год уж жду… Он, что ль, к тебе приходил?
— Нет. — Вздохнув, Софья подошла к окну, за которым сходились в небе легкие облака. Глядя на вербу под окном, всю затянутую зеленой дымкой молодой листвы, произнесла: — Я не должна была уезжать с тобой. Еще тогда, в Ярославле… Не должна была. Я только сейчас это поняла.
— Ну-у, Соня… Коли я начну вспоминать то, чего не должен был, — до Второго пришествия, поди, не кончу. Может… Может, погодишь еще?
— Больше не могу.
— Вот так даже? Что ж… К нему сейчас поедешь?
— Да.
Молчание — и внезапный грохот, смешавшийся с головокружительным ругательством: Федор ударил кулаком по стене так, что сорвалась с гвоздя посудная полка. Марфины миски и кружки со звоном посыпались на пол, брызнули осколки; гремя и прыгая, покатились медные кастрюли. Софья зажмурилась, уверенная, что следующий удар придется как раз ей по голове, но грохот и треск смолкли, и снова наступила тишина. Осторожно открыв глаза, Софья увидела, что Федор стоит у стола, оперевшись на него руками, и хрипло, прерывисто дышит. Подойдя, она тронула его за плечо.
— Останься, Сонька, ради бога… — не поворачиваясь, попросил он. — Да подумай, что будет, коль он тебя не захочет? Не хотел ведь до сей поры, с другой миловался… Да стоит ли он тебя, сукин сын?!
Софья промолчала, и Мартемьянов криво усмехнулся:
— Знаю, что думаешь. Коль он тебя не стоит, так я — тем более? Так, что ль? Ты не молчи, скажи…
— Не буду говорить. Это не так. — Софья прижалась к твердому, словно железному, плечу Федора, чувствуя всем телом, как он дрожит, и не зная, что дальше делать. — Не так, Федька, спасением души клянусь. Мне хорошо с тобой было. Только я его люблю.
— Ну, а коли он все ж не захочет, Соня, что тогда?! — упрямо, не поднимая глаз, спросил он. — Вернешься? Соня, я ведь ждать буду, сколько снадобится… До самой смерти…
— Нет. Не вернусь, Федор Пантелеевич. Прости. — Софья потерлась лицом о его рубаху, вытирая бегущие по лицу слезы. — Помнишь, тогда, зимой, ты с меня слово взял, что не уйду не простившись? Я ведь только поэтому и пришла. Чтоб ты знал. И чтоб лихом не поминал. Ведь не чужие все же мы с тобой.
— Ты-то меня как поминать будешь? — Мартемьянов вдруг обнял ее, крепко, до боли прижав к себе, и Софья привычно уткнулась в его широкую грудь.
Где-то в глубине дома пробили часы. Из-за окна послышалось дребезжанье пролетки, с заднего двора закричал петух, затем почти сразу раздался слабый, приглушенный рокот, словно по камням протащили что-то тяжелое. «Это гром… Будет гроза», — подумала Софья. И, вздохнув, осторожно вывободилась из рук Мартемьянова.
— Прощай, Федор. Храни тебя господь.
Он не ответил, не поднял головы. Софья отвернулась от него и быстро, стараясь сглотнуть вставший в горле ком, вышла из кухни в сени.
Уже во дворе ее догнала запыхавшаяся, в сбитой набок косынке Марфа.
— Барышня! Господи, да куда ж вы?! Что там у вас гремело-то? Вы не позвали, а я сама сунуться побоялась… Он вас, варнак, не тронул, спаси бог?!
— Что ж ты плачешь? — Софья, обернувшись, взяла Марфу за обе руки, внимательно посмотрела в ее растерянное, залитое слезами лицо. — Ты ведь слышала всё? Слышала же?
— Вестимо… Еще б не слышала… — всхлипнула Марфа. — Да вы и сами вон ревете… Куда же вас понесло-то так, в одночасье? И без меня?! Вы обождите, Софья Николавна, я узел свяжу, ведь хоть чего с собой прихватить-то надо… И поедем с божьей помощью, первый раз нам, что ли…
— Не надо, Марфа. Ты… Ты, пожалуйста, оставайся здесь.
Рябое Марфино лицо вдруг побелело так, что Софья, всерьез испугавшись, что ее железная служанка вот-вот грохнется в декадентский обморок, схватила ее за локоть.
— Марфа, что с тобой?!
— Да что же… Что же это такое вы говорить изволите, Софья Николавна?.. Да куда ж это я вас одну-то пущу? — бормотала Марфа, прислоняясь к жалобно заскрипевшему забору и недоверчиво всматриваясь в глаза Софьи. — Отродясь не было, чтоб вы без меня в бега кидались…
— Ну, а теперь вот будет. — Софья грустно улыбнулась. — Марфа, неужели ты думаешь, что я не видела, не знала? Ты же любишь его. И всегда любила.
— Окститесь, барышня, грех вам… — пролепетала Марфа, но Софья твердо оборвала ее:
— Оставайся, Марфа. И не вой как по мертвой, ведь не навек же расстаемся. Мне еще петь Татьяну у Половцева через неделю, стало быть, увидимся! Уж этой премьеры я, клянусь, не упущу!
— Господи… Барышня! Софья Николаевна-а-а!!! — Марфа взвыла в голос, навалившись всем телом на забор.
Софья, склонившись к ней, тихо сказала:
— Иди к нему, Марфа. Ради бога, ступай. Ты ведь знаешь, какой он… Не допусти его дров наломать, а то зимний-то загул нам с тобой счастьем покажется. А мне пора. Уже и так, боюсь, не успеваю.
— Барышня!.. — вскинулась Марфа, но черное платье Софьи уже мелькало на другом конце переулка, а вскоре донесся и ее голос:
— Извозчик, на Остоженку!
— Ой-й-й, и что ж это деется… — Марфа тяжело осела на землю, прямо в заросли молодых лопухов, закрыв лицо руками.
Проходящий мимо петух покосился на нее любопытным круглым глазом, деловито поскреб лапой землю, вытянул общипанную шею и надрывно заорал. Марфа, вздрогнув, подняла голову, выругалась:
— Пшел ты, нечисть!.. Горлодёр, хужей околоточного…
Петух, захлопав крыльями, оскорбленно взвился на забор. Марфа тяжело, держась за перекладину, поднялась, посмотрела на темный дом, из которого не доносилось ни звука. Вздохнула, обтерла передником лицо и медленно пошла к крыльцу.
* * *
В пятом часу вечера возле Варшавского вокзала остановилась пролетка.
— Прибавить бы, барышня, надо, — проворчал пожилой извозчик, глядя на то, как пассажирка стремительно прыгает из экипажа прямо в обширную лужу. — Ить как гнали-то, ровно на пожар! Вон там на Смоленск стоит, я знаю, не первый год вожу!
— Возьми. — Софья не глядя высыпала в подставленную ладонь все монеты, которые нашлись в сумочке, и, не слушая удивленных криков: «Эй, барышня, много дали-то, у нас тоже совесть имеется, обождите!», — кинулась сквозь шумную, суетливую, спешащую к поездам толпу на перрон.
На Остоженку она приехала слишком поздно. Квартира во втором этаже оказалась заперта, соседей не было. Заспанный дворник, обнаруженный на поленнице, где он мирно почивал с похмелья, кое-как объяснил, что квартиранты еще утром разочлись с хозяином и час назад умчались на вокзал, а на какой и зачем — ему неведомо. Как ни была разочарована и растеряна Софья, она все же сообразила, что в Смоленскую губернию нужно ехать с Варшавского вокзала, и понеслась искать извозчика. Небо между тем совсем потемнело, за Новодевичьим монастырем угрожающе громыхало, из-за его пряничных башен ползла страшная сизая туча, по которой время от времени, как судороги, пробегали нити молний, и вокзальная толпа уже с беспокойством задирала головы и оглядывалась в поисках укрытия.
Софья вихрем влетела на перрон и, чуть не заплакав, увидела, что смоленский поезд мягко, еле заметно тронулся с места. Ее обдало облаком черного дыма, чуть ли не в лицо раскричался басовитый гудок… «Я сейчас умру…» — в ужасе подумала Софья, быстро идя вдоль состава и с последней надеждой заглядывая в пыльные окна. Она сама не знала, зачем делает это, ведь ничего не стоило дождаться завтрашнего поезда и с ним уехать в Смоленск, а оттуда — в Раздольное, но Софья почувствовала вдруг такое отчаяние, словно, опоздав сегодня, теряла Владимира навсегда. Торопясь за вагонами, Софья все ускоряла и ускоряла шаг, наконец побежала — и вдруг чуть не упала, споткнувшись, когда увидела в открытом окне чью-то смутно знакомую разбойничью смуглую физиономию с раскосыми глазами и папиросой в углу губ. Глаза эти встретились с уже затуманенным от слез взглядом Софьи, и в ту же минуту раздался такой истошный вопль, что все, стоящие на перроне, дружно повернули головы к уходящему составу.
— ДМИТРИ-И-И-ИЧ!!!
«Господи, это же Северьян кричит!» — поняла Софья — и почти сразу же из набирающего скорость вагона выскочил Черменский. Качнувшись, он чудом не упал, неловко шагнул было к Софье — и остановился. Тогда она сама побежала к нему под хлынувшим теплым ливнем, не замечая, что встречный ветер сорвал с плеч накидку, что ноги и подол платья уже мокрые насквозь, что на них смотрит весь вокзал… И остановилась, с размаху ударившись в грудь Черменского.
— Софья Николаевна?.. — хрипло спросил он, беря ее за руку. — Что случилось? Вы — здесь?… Почему?
— Владимир… Владимир Дмитрич… Ради бога… — Софья едва могла говорить, дыхание рвалось, грозя вот-вот прекратиться совсем, сердце приходилось зажимать рукой, чтобы оно не выскочило прочь, пробив и грудь, и платье. — Я теперь знаю все… Я говорила сегодня с Ирэн, она рассказала мне… Я все знаю… Я люблю вас, это правда, я любила вас всегда, с самого первого дня… Но скажите мне лишь одно… Вот это письмо… Кому вы писали его?
Она разжала ладонь, в которой лежала последняя записка Черменского — скомканная, потерявшая всякий вид, с расплывшимися чернильными строчками. Владимир машинально взял ее, но серые светлые глаза не отрываясь смотрели в бледное, мокрое от слез и дождя лицо Софьи.
— Кому вы писали это письмо? — тихо, не отводя глаз, повторила она, и Черменский, наконец опомнившись, перевел взгляд на сжатый в руке смятый лист дешевой гостиничной бумаги. И по тому, как Владимир покраснел и на скулах у него коротко дернулись желваки, Софья догадалась: он понял, что это за письмо, даже не развернув его.
— Вы писали это… мне? — уже совсем чуть слышно спросила она.
— Нет, — ответил Черменский не задумываясь и таким тоном, что Софья поверила сразу же и замотала головой:
— Не надо… Больше ничего не говорите, я не хочу, не должна это знать… Оно попало ко мне случайно, и я…
— Оно не могло попасть к вам случайно, Софья Николаевна, — медленно, глядя в сторону, возразил Черменский. — Я писал это Марье Мерцаловой — четыре года назад, после того, как мы провели вместе ночь в калужской привокзальной гостинице… и я уехал, не дождавшись Машиного пробуждения. Вероятно, оправдания мне быть не может. Кроме одного: я уже тогда любил вас. И все же…
— Она умерла, это правда? — быстро перебила его Софья.
— Да. Отравилась мышьяком.
— Господи, бедная, как же так… — Софья закрыла лицо руками. — Кто же мог подумать… Она отравилась… из-за вас?
— Маша была безнадежно больна, — помолчав, тяжело произнес Черменский. — Может быть, это было даже лучше для нее… Как это письмо попало к вам?
— Маша отдала… Сказала, что его прислали мне вы, что она вскрыла письмо из любопытства, а конверт потом потеряла… Объяснила, что не отдала его сразу, чтобы не расстраивать меня зря… Я ведь ничего не знала о вас с ней, Владимир Дмитрич… Не подумайте, что я осуждаю, вы имели право, вы мужчина, вы были свободны, но я… — Софья говорила и пристально, не отрываясь смотрела в светлые серые глаза на темном от загара лице напротив. Сколько лет она мечтала об этом — просто смотреть не отрываясь, долго-долго, пока хватит сил…
— Отчего же вы поверили ей?
— Оттого, что я не получала ваших писем! Оттого, что вы не приезжали! Оттого, что Федор… И Маша… Впрочем, вы сами всё знаете… И я хотела бы, прежде чем вы уедете…
— Вы согласны стать моей женой? — быстро спросил Черменский, беря Софью за обе руки и прерывая этим бессвязный, сумбурный поток слов. Болотная зелень погибельных русалочьих глаз плеснула, казалось, прямо ему в лицо, и, как от крепкого вина, разом закружилась голова.
— Да. Да, да, — сразу же ответила она. Улыбнулась. И заплакала.
— Дмитрич, вот знаешь чего, свинство это! — вдруг послышался мрачный вывод, и над перроном появилась встрепанная голова Северьяна. Через мгновение и сам он, взъерошенный и злой, стоял рядом с Владимиром и Софьей.
— Здрасьте, Софья Николавна, явились, слава господу… Дмитрич, у меня ведь годы уж не те, чтоб на всем ходу с поезда за тобой сигать! Ты-то хоть на перрон успел, а я — прямо под откос, так кубарьком и покатился!
— Скажите на милость! — изумился Владимир. — Годы свои он считать начал! Сразу видно — собрался жениться!
— Не дождетесь, и не надейтесь! — огрызнулся Северьян. — А Наталья, промежду прочим, тож за мной следом прыгнула! И с узлами, и с корзиной своей!
— Да вы что, рехнулись? — Владимир сразу перестал улыбаться и растерянно посмотрел на Северьяна. — Куда же она прыгнула? С ее-то брюхом?! Сумасшедшая, право, что ж теперь будет… Ты хоть ловил?!
— Какое! Самого бы кто словил! Опомниться не успел, а она уж следом под откос катится с корзинкой в обнимку и верещит… Да вон уже она сама лезет, дурища! Скинет теперь, как бог свят!
Из-за края перрона действительно появилась рыжая простоволосая голова со съехавшим на шею платком. Владимир и Северьян не сговариваясь подскочили и втянули на перрон пыхтящую как паровоз Наталью, так и не выпустившую из рук ни корзинки, ни узла.
— Да что же… это… такое?! — накинулась на мужчин она, едва обретя почву под ногами. — Владимир Дмитрич! Северьян Дмитрич! Вы чего это вздумали на ходу с машины прыгать? А ежли б я не поспела за вами-то?!
— Доехала бы, дура, до Смоленска одна, как барыня, только и всего! А ты чего, фармазонка, вытворила?! — разорался Северьянна весь вокзал. Владимир, увидев его побелевшие скулы, на всякий случай положил руку другу на плечо, но тот не обратил на это ни малейшего внимания. — Ну, говори, чего там пузо-то твое? Дите еще живое? Не придавила? Не ударила?! Аспидка! Холера крымская! Вот только учуди мне еще раз такое, косу на руку намотаю да вожжами отхожу!
— Господь с вами, Северьян Дмитрич, что нам с пузом-то сделается… — преспокойно отмахнулась Наташка. Она степенно, словно минуту назад не прыгала под откос из набиравшего ход состава, поправила платок, огладила живот и с интересом оглядела стоящую рядом с Черменским Софью. Та, в свою очередь, испуганно смотрела на ее живот, и Наташка снисходительно пояснила: — Вот коли б два месяца назад такая оказия случилась, обеспокоиться можно было бы, а чичас ничего с ним не сделается, потому большой уже и держится крепко… Уж мы-то знаем-с, не впервой, поди. Доброго здоровьичка, барышня.
— Наталья, знакомься, это моя невеста, Софья Николаевна Грешнева, — улыбаясь, сказал Владимир.
Наташка перевела внимательный взгляд с него на Софью, подумала о чем-то — и улыбнулась.
— Так это из-за вас, барышня, мы все с машины-то попрыгали? И что ж нам теперича делать? Следушшая только завтрева пойдет… А еще и дождичком кропит.
Софья посмотрела на Владимира. Чувствуя, как бегут по лицу струйки теплого дождя, задумчиво отозвалась:
— Я, собственно, собиралась вас пригласить на генеральную репетицию «Онегина» в половцевской «Домашней опере»…
— Что ж… тогда пойдем все вместе в театр! — решил Владимир.
Северьян закатил глаза и сел прямо на мокрый перрон, обхватив голову руками. Наталья тихо рассмеялась и, усевшись в лужу рядом, начала что-то чуть слышно втолковывать ему на ухо. А Софья стояла перед Владимиром, смотрела и смотрела в серые глаза, которые были теперь так близко, думала о том, что, наверное, это навсегда, и о том, что он еще ни разу, никогда в жизни не целовал ее. И Владимир, словно почувствовав ее мысли, бережно привлек Софью к себе и взял в мокрые ладони ее лицо. В ту минуту вдруг ударил такой раскат грома, что Наташка тоненько взвизгнула, а Северьян чертыхнулся. Голубая вспышка молнии осветила молодую зелень берез, растущих вдоль насыпи, с новой силой хлынул ливень, и из-за всего этого Софья даже не смогла понять, был он только что или нет — этот поцелуй.
Примечания
1
Простонародное название сифилиса.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

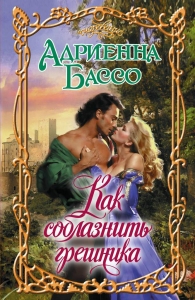
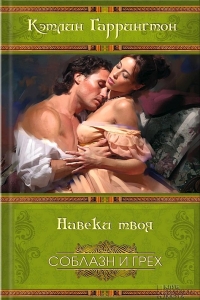




Комментарии к книге «Душа так просится к тебе», Анастасия Вячеславовна Дробина
Всего 0 комментариев