Мы разбили Армаду, величайшую силу в истории человечества. Мы, Англия и я, Елизавета, королева Елизавета.
Я стала живой легендой, на которую дивился весь мир, несравненной женщиной и непревзойденной королевой. Женщиной по-прежнему уязвимой и даже, увы, еще более отягощенной плотью. К вечной головной боли из-за политики прибавилась другая — не так-то просто быть живой богиней.
Мы подпалили испанскому королю бороду, оттаскали его за нос, стащили штаны, повернули ко всему миру голой задницей и так всыпали, что ему до конца жизни неуютно было сидеть.
То была великая, могучая, прогремевшая на весь мир победа. Однако надо было жить дальше. И мне и Англии, сейчас и потом, сей же час.
Сейчас? Невозможно.
Надо.
Итак, в мою жизнь вступил мой новый лорд.
Покуда приходилось отбиваться и от Испании, и от миссионеров из Дуэ, смирять внутренних врагов, как в восьмидесятых, я еще могла держать Купидона в узде.
Но теперь…
Для него, для моего юного лорда…
Иметь то, чего не купишь ни за какие деньги, свободный доступ ко мне, в мою опочивальню, возможность нашептывать мне на ухо, близость к трону, за которую мужчины соперничали всю мою жизнь, а тем паче теперь, на вершине нашего триумфа, — разве это не лучше, чем владеть золотыми рудниками в Индии, и разве человеку, достигшему столь заоблачных высот, не следовало почитать себя небожителем?
Вы не согласны, что мой лорд, взысканный такой благосклонностью, мог числить себя в сонме земных богов?
Когда я его полюбила, я была уже сказочной королевой, легендой из прошлого и в то же время стержнем — нет, архитектором нынешнего миропорядка, королевой былого и грядущего. Едва ли хоть одна живая душа в Англии помнила время, когда я не сидела на троне.
И еще я была не такая, как прочие женщины, — богатая, властительная, источающая желания и восторги, терзания и муки на каждом шагу — танцевала ли я, скакала ли верхом, смеялась ли над житейской дуростью, рыдала от горя и утрат или улыбалась в глаза возлюбленного.
Так что с того, если мне было чуть за пятьдесят, а ему — несколько меньше? Чего бы ни отдали другие молодые люди, бесчисленные молодые люди, за эту безраздельную близость, за прогулки и беседы с глазу на глаз в ту весеннюю пору нашей любви?
О, любовь моя — теперь можно это сказать, — моя сладкая любовь, повелитель моей любви…
Когда я вас полюбила, мой лорд, возлюбленный, я была замечательна, талантлива, величава и прежде всего — обворожительна в своих и в ваших очах.
А вы? Постепенно вы становились грубее, громогласнее, решительнее — уже не тот краснеющий мальчик, но горячая голова, необузданный рубака, из-под вашего бархатного с кружевами камзола рвалась наружу неуправляемая стихия.
А я? Господи, зачем прикидываться и юлить?
Вы были высоченный, рыжебородый, своенравный и взрывались гневом, чуть что не по-вашему.
А меня это пугало, сердило, заставляло ежиться — почему бы не сознаться, что после стольких лет всеобщей шелковой вкрадчивости и атласной лести это меня возбуждало.
Я не скрывала от себя, что люблю лорда Эссекса, как отец любил мою мать. И как иной меряет свое достоинство весом тугой мошны, так Генрих мерил свою любовь дороговизной посланных даров.
Он, как и я, одаривал свою единственную любовь золотыми цепями и серебряными шнурами, рубиновыми сердцами и ожерельями из изумрудов в цвет ее зеленым шелкам — он любил, чтоб она одевалась в зеленое, это напоминало ему о майских гуляньях, когда он впервые ее заметил.
Ей полагалось все новое, словно королеве, — новый охотничий лук и стрелы с наконечниками из серебра, собственные часы с выгравированными на гирьках Г» и А». Она спала на ложе из чистейшего утиного пуха, на белоснежных простынях, за ткаными занавесями, в опочивальне, где стены украшали надушенные шпалеры с любовными сценами, а пол устилали мягчайшие шелковые ковры.
Как-то он вошел в ее покои и объявил:
— Я приготовил тебе дар почище прежних.
— Почище этого, милорд?
Анна гордо повернулась к нему. Ее грудь украшал утренний дар Генриха — жемчужная нить, которая оборачивалась вокруг шеи, спускалась к талии длинной, в целый фут, петлей и заканчивалась подвеской из чистого золота с буквой Б» — Болейн и тремя огромными висячими жемчужинами.
— Не в пример лучше, милая, — серьезно заверил он.
Она набросилась на него, вывернула карманы, открыла кошель, даже разжала его шутливо сжатые кулаки — ничего. Служители украдкой пересмеивались. Она взорвалась:
— Вы насмехаетесь надо мной, милорд!
Генрих хлопнул в ладоши. В маленький покой вошли глава Геральдической палаты и лорд-помощник герольда, их карточное великолепие озарило комнату. Преклонив колена у ног Анны, они вручили ей огромный пергаментный свиток с лентами и алыми государственными печатями.
По королевскому знаку все упали на колени.
Анна, трепеща, присела в глубоком реверансе.
— О нет, мистрис, не преклоняйте колен, — сказал Генрих, поднимая ее с пола, — теперь вы — маркиза Пембрук, выше вас в королевстве только король.
Что такое любовь без власти или власть без любви — любви, которую можно дарить, власти дарить — дарить, дарить?..
Я не могла увенчать моего лорда титулом, я уже пожаловала одним из величайших титулов его отца, а как Девере он был одним из родовитейших людей страны. Однако я могла позолотить лилию пышными почестями. И еще я могла дать ему денег, даровать монополии, как, например, на сладкие вина (от нее пошло начало его богатства), и, что куда важнее для него, возможность блистать во главе государства, где он сиял звездой, королем меж людей, божественным ребенком.
Однако я стремилась дать ему не блеск, а сущность, не внешний лоск, но само одеяние, до которого он бы постепенно дорастал, пока бы в действительности не стал тем, кем казался, — звездой, королем и божеством в одном лице. Я хотела, чтоб он научился повелевать — собой и другими, — как повелевал мной.
Безнадежно. Я любила его той любовью, какой раньше не знала. Да, я любила Робина — вы теперь знаете, как сильно я его любила. Я всем сердцем любила верного Хаттона, такого рослого, такого божественного танцора, — любила Рели за глаза цвета берлинской лазури и едкое остроумие — однако никого из них я не желала, как желала моего лорда.
Да, видит Бог, оттого, что стареет лицо и сморщиваются груди, живот становится дряблым и отвисает зад, пламя в чреслах не утихает! И если бы только в чреслах — ибо теперь я горела в двойном огне, мучительного вожделения к моему лорду и презрения к себе за эти неотступные похотливые мысли.
— Поставьте на меня, ваша милость!
Смотреть, как он играет в теннис, закатав рукава, так что видны золотисто-смуглые локти, без камзола, в одной рубахе, любоваться его безупречным римским торсом, ловить очертания мускулов, сильные коричневые соски, курчавую поросль на груди…
— Что вы сказали, Ваше Величество?
Видеть его рядом с собой в присутствии, когда, ловя мой повелительный шепот, он сгибает благородный стан, склоняет голову, касается моей щеки пламенно-русыми кудрями, отчего я вся вспыхиваю…
Видеть, как он преклоняет предо мною колена, видеть его смеющиеся глаза и губы вровень с моим лицом, вдыхать цветочный аромат, жаркую пряность его духов, видеть сильную руку на подлокотнике трона, смуглую щеку меньше чем в футе от моих любящих пальцев — видеть все это и не потянуться к этому теплу, к этой благоуханной мужественности, ни единым пальчиком не провести по жестким темно-русым волосам, не зажать в ладонях это лицо, не покрыть его поцелуями, не впиться в полные мужские губы, не выпить его душу, не умереть самой…
Не сделать ничего из того, к чему денно и нощно толкали меня любовь и стосковавшаяся плоть, — что же дивиться, если я стала сварлива и раздражительна, порою слезлива, а порою мстительна, злилась, когда мне перечили, и еще больше — когда меня пытались задобрить, умаслить, словно ребенка или умалишенную?..
Как же шутит Господь! Теперь, когда я могла завести наконец любезника, когда у меня больше года не было месячных и, значит, не приходилось бояться беременности, бояться бесчестья и унижения, — теперь, когда весь мир, за исключением испанского короля, восхищался иною настолько, что простил, бы мне любые безумства, когда я могла выбирать любого мужчину, любого короля, я по уши влюбилась в мальчишку, который так и не заметил моей любви, даже когда она клокотала перед самым его носом и звала: Люби меня! Люби меня и возьми меня! Обладай мною, как пастух обладает коровницей, так чтоб у меня закружилась голова, перед глазами пошли круги, а из легких вырвался, хриплый крик о пощаде» — круженье, затменье, удушье, смерть…
Однако он так этого и не увидел.
Потому что всегда видел одно, с нашей первой встречи, когда ему было девять и он с отвращением отвернулся, не дал себя поцеловать, пусть даже и королеве.
Потому что он видел морщинистую старуху, с лицом, как у ящерицы, набеленную и нарумяненную так, что при каждой улыбке краска на лице трескалась, словно старая штукатурка.
Я не просила его о любви, я не могла приказывать. Я не могла заставить его полюбить во мне женщину, раз он не видел меня как мужчина. Поэтому я брала, что могла, радовалась тому, что имею.
И никогда не переставала вожделеть то, что не получила и не могла получить, никогда не получу.
Я замерзаю, я горю…
Хоть бы раз он поцеловал меня, провел ладонью по груди, коснулся губами соска, повалил, раздел, восхитился моей наготой — хоть бы раз…
Но он так никогда этого и не сделал — хуже того, ему явно никогда это не приходило в голову.
Я не могла выкинуть из головы эти мысли…
При том что мне следовало думать о многом, многом другом.
Глава 1
Дунул Господь, и они рассеялись.
Хорошо звучит, правда? Я сама выбрала этот девиз для медали, которую Монетный двор чеканил в честь победы над Армадой. Народу понравилось. Мне тоже. А о том, чтобы угодить вам, тогда и речи не было.
Enfin[1].
Allora[2].
Довольно!
Война окончилась, начиналась война.
Мы посеяли драконьи зубы, и нам предстояло пожать бурю, бурю испанского гнева. Сидеть ли и ждать, пока она снова подберется к нашим берегам, или, как встарь, выступить самим, жечь испанские суда в их собственных гаванях, атаковать войска, укрепившиеся в собственных стенах?
А мне следовало позаботиться о преемстве — подумать о том, чтобы оставить по себе страну, сильную изнутри, крепкую за морем. Мне доносили, что юный Яков Шотландский — большой книгочей и не склонен воевать… По крайней мере в этом он наполовину Тюдор. Должна ли я восполнить недостающую воинственную половину, чтобы сохранить для Англии мир?
Мой юный лорд, распаленный победой, а еще больше — орденом Подвязки, которым я его наградила к великой досаде Рели, ратовал за войну — не спускать испанцам, напасть на них немедленно.
— Самое время накрепко вбить им в головы полученный урок, Ваше Величество! — убеждал он, сверкая золотисто-черными очами. — Они повержены, мы можем сделать с ними что угодно!
Даже заклятый соперник с ним соглашался.
— Верьте вашим воинам, мадам, вашим латникам, вашим защитникам, а не книжным червям, что заседают в совете, не худосочным писарям! — уговаривал Рели. — Самое время разнести Великую Испанскую Империю в клочья, пусть испанский король, как во время оно, повелевает цыганами, смоковницами и апельсинами!
Только прикажите, мадам! Мы их сразим!
Сразить, или быть сраженным. Сразить, или быть сраженным.
Однако Берли, скрюченный подагрой до такой степени, что с трудом думал о чем-нибудь другом, закрывал усталые от боли глаза и через силу повторял:
— Осмотрительность, миролюбие и осмотрительность.
— Осмотрительность? Черт возьми, осмотрительность?!
Слово жгло моему лорду глотку. Он разразился гневными упреками и поливал Берли грязью, так что мне пришлось прекратить заседание. Через несколько часов, когда я за ним послала, он все еще кипел.
— Мадам, простите, но эти старые зануды кого угодно выведут из себя! — с порога выругался он.
Я рассмеялась над его серьезной миной, над стремительной, прыгающей походкой, когда он заходил взад и вперед по комнате.
— Неужто вы ничему не научились за то время, когда вас опекал мудрейший человек в Англии?
У него глаза полезли на лоб, лицо исказилось презрением.
— Кто, миледи? Милорд Берли? Умнее вашего тайного секретаря Уолсингема или даже Рели, при всей моей к нему ненависти? Конечно, нет!
Умнее своих племянников, братьев Бэконов, сыновей вашего старого лорда-хранителя печати?
Ваша милость с ними еще не знакомы, они пока в Кембриджском университете, но могу заверить вас по проведенным в доме Берли годам, Англия еще не видела таких острых умов!
Я заинтересовалась.
— Почему же тогда лорд Берли не приставит их к какому-нибудь месту в правительстве?
На это он, как я и думала, ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Если Берли не счел нужным представить мне своих близких родственников, значит, они недостойны мне служить! Тем временем к его собственному сыну, карлику Роберту, я с каждым днем все больше привыкала, словно к любимой кухонной вещице, с которой все делается сподручнее. Он был редкая умница, сообразительный, спокойный, усидчивый, твердый как гранит, и внушал если не любовь, то по крайней мере доверие, такое же, как я испытывала к его отцу.
А вот мой лорд не разделял этих чувств.
— Ваш лорд-казначей Берли недооценивает и несправедливо обижает своих племянников! Господь свидетель, мадам, вы увидите, что они годятся для королевской службы, в первую очередь Фрэнсис, я должен подыскать ему достойный пост! Потому что я ваш рыцарь на веки вечные, лучше меня у вас нет и не будет, я вам докажу, вот увидите!
Мне нравилась та дерзость, с которой он указывал мне, что делать, его уверенность, что он вправе выбирать мне людей и требовать должностей для тех, кого считает достойными. После стольких лет раболепного обожания, когда меня называли то Дианой, то Белфебой, воспевали в стихотворном лепете и в рифмованном нытье: О, нежная царица Ночи», и все в таком роде, после этого меня пленило его грубое очарование — сердитый блеск в глазах, всплески яростного негодования, пусть даже быстро подавляемого, его уверенность в собственном превосходстве, — от всего этого меня бросало в холод и в жар, я замерзала, я горела…
Да, да, придержите язык, черт вас подери! Не смейте говорить, что надо было предвидеть расплату — расплату, которая ждет всякую женщину, которая выбирает мужчину причинным местом, а не головой, слабым телом, а не царственным разумом…
Я все знала.
И очень скоро он показал, что обо мне думает.
— Идите на компромисс, — учила я его, — держитесь среднего пути, в этом и состоит дипломатия!
Мне не следовало воевать с Испанией, война стоит денег, а их у меня не было. Однако не следовало мне и сидеть на троне, подпершись рукой, и ждать, пока Испания соберется с силами, чтобы напасть снова! В те лето и осень я вечер за вечером штудировала бесконечные списки, рапорты, депеши — сколько испанских кораблей достоверно уничтожены, сколько считается пропавшими, сколько, по нашим подсчетам, вернулось в Испанию и в каком состоянии. И шаг за шагом вырисовывалась стратегия.
Однако в эти победные дни мне не давали особенно засиживаться над бумагами: нельзя было пренебрегать народным и придворным ликованием. Все, начиная с рассудительного Берли и угрюмого Уолсингема и кончая последним слугой, выносящим ночную посуду, — нет, кончая последним городским золотарем, все веселились и бражничали от зари до зари. Я тоже музицировала — да, на вирджиналах, на чем же еще? — мы смотрели столько представлений, сколько никогда прежде.
Надо сказать, и пьесы и сочинители стали заметно лучше. Лорд Оксфорд покровительствовал самому выдающемуся из них, некоему Лили.
А в это Рождество мой недавно назначенный лорд-камергер, кузен Хансдон, решил сделать мне приятное.
Бедный Гарри! Он раздался вширь, его юношеская красота осталась в прошлом, как и шевелюра. Однако любовь к проказам и веселью осталась.
— Ваша милость, протеже лорда Оксфорда предлагает для празднества пьесу, он говорит, слабенькую, но его собственную, бойкую вещицу, как раз для новогодней ночи…
Наступил Новый год, на замерзший Лондон опустилась ночь, фонари озарили потолочные балки, я воссела впереди придворных. Вышел юноша — красивый? — не то слово, обворожительный, с первым росистым пушком на подбородке, с усиками мягче, чем у бедной старушки Парри, однако изломанный, извращенный, развратный, один из тех, кто навсегда потерян для женщин, — и представление началось.
О, Синтия!» — воскликнул красавчик, кланяясь направо и налево, но прежде всего — самой Синтии, как он именовал меня, богине Луны, царице Ночи — мне, облаченной в атлас цвета белейшей слоновой кости, в алмазы и жемчуга, блистающей в парадной зале Уайтхолла, словно луна в окружении звезд-придворных…
О, Синтия, я — Эндимион, влюбленный Эндимион, в моих очах ничто не ярко, кроме твоих очей, ничто не прекрасно, кроме твоего лика, ничто не достойно восхищения, кроме твоих добродетелей…»
Правда, красивая легенда, история Эндимиона, юноши, который влюбился в Луну и будет спать тысячу лет, пока она не разбудит его поцелуем?
А рядом с моим собственным Эндимионом, моим сладостным юным лордом, который, покуда шла пьеса, опирался на подлокотник моего кресла и отпускал скороспелые замечания по ходу действия, я и впрямь была Луной, воистину плывущей в облаках.
— Как Вашему Величеству пьеса?
Бедный старательный Хансдон, вечно-то он стремится угодить, доставить мне удовольствие.
Я улыбнулась, как моя маска, как милостивая королева, а не как глупая коровника в любовном забытьи.
— Мне понравилось. Скажите этому Лили, что он может рассчитывать… — Тут я вспомнила, как туго у нас с деньгами, и слегка поправилась, — на искреннее и должное признание с нашей стороны.
Старое лицо Хансдона просветлело.
— Мадам, ему скажут.
Сказать — дешево. Обнадежить и вовсе ничего не стоит. Собрать войско, начать войну — вот что дорого. А без войны никак.
Они все хотели воевать: Рели, и Дрейк, и мой лорд, и все мои юные ястребы, и этот глупец Норрис — впрочем, не совсем глупец, он успешно воевал в Нидерландах под началом Робина, — нет, поскольку время на исходе, скажем всю правду: сэр Жан» Норрис, как называли его голландцы, был опорой нашей армии и Робиновой правой рукой, опытным военачальником, нет, ведущим актером на театре военных действий. Он поднаторел и в морской войне, иначе я не включила бы его вместе с Рели в число тех немногих, кто тайно известили меня о нескольких уголках нашего маленького острова, где могли бросить якорь испанские галионы — глубокая осадка не позволяла им заходить в обычные бухты. Норрис знал все.
Так зачем же он — зачем же они в один голос настаивали на новом походе, зачем дали мне такой неудачный совет?
И если уж говорить правду — разве я слушалась не моего лорда, который поддерживал этот замысел с самого начала? Разве я, не хотела быть с ним заодно, в надежде сблизиться хоть так, раз иная близость между нами невозможна?
Если так, то я жестоко поплатилась! Чтобы снарядить флот, пришлось залезть в оба кармана, вывернуть их наизнанку, наскрести фунты и пенсы, которых требовали мои вояки. Пришлось одалживаться в Казначействе, занимать у чужеземных ростовщиков, вот до чего я дошла. Черт их всех побери, у меня сердце изошло кровью!
— Повторите, — говорила я Дрейку, — зачем нужна эта авантюра? И какую добычу вы с товарищами обещаете на этот раз?
— Ваше Величество, мне нечего добавить к тому, что сэр Джон Норрис и ваш собственный граф Эссекс говорили вам двадцать раз! — отвечал он скорее по-моряцки грубовато, нежели придворно-учтиво. — Мы плывем в Лиссабон, где укрываются последние уцелевшие после разгрома Армады крысы, и поджигаем их. Этим мы окончательно ставим крест на испанском военном флоте, после чего и вы, и вся Англия можете не опасаться Испании и Рима, Папы и всех попов-заговорщиков, вместе взятых! Оказавшись в Лиссабоне, мы поднимаем португальцев на восстание против испанского короля, напоминаем им об истинном короле, низложенном доне Антонио…
Дон Антонио — Господи, конечно! — жертва Филиппова властолюбия, он и сейчас, как докладывает Уолсингем, умоляет Англию помочь ему против испанского супостата…
— Да, да, продолжайте, я слушаю!
— Затем, Ваше Величество, мы направимся к Азорам, где надеемся поживиться богатой добычей…
— Да, да, богатой добычей.
Я алчно смаковала эти слова. Деньги, сокровища, средства, наличность — как они мне нужны!
Страсть к золоту мучила меня ничуть не меньше, чем страсть к моему лорду, и почти так же сильно, как несчастные гнилые зубы…
Мои кошельки пусты! Военная казна пущена на борьбу с Испанией, потрачена, истощена, — золота! золота! Я нуждаюсь в нем, мы нуждаемся, Англии нужно…
Мне, нам, Англии? Я и мы — одно, я — это Англия, и Англия — это я, родимая страна, страна, которую я родила, мое единственное дитя…
А что говорит Дрейк?
— ..в это время года в Испанию приходит караван с золотом и серебром, добытыми на рудниках Перу, — если вы захотите, мы их перехватим, целые корабли, груженные слитками и самородками, сокровищами и самоцветами, какие вы видели в прошлый раз…
О да, я видела, я обладала огромными изумрудными распятиями, алмазными коронами, рубиновыми, сапфировыми, агатовыми, аметистовыми реликвиями — разумеется, грубыми, аляповатыми, — истинным протестантам ничего другого не оставалось, кроме как сломать их, камни похуже продать, получше — оправить заново к вящей славе Елизаветы, Англии, нашего Бога.
Да! Золото, драгоценности, богатая добыча, да!
Большой, обрамленный сапфирами алмаз одобрительно подмигнул, когда я протянула Дрейку унизанные перстнями пальцы.
— Отправляйтесь, сэр Фрэнсис! И, как в былые времена, покажите себя истинным драконом!
Однако, предупреждаю, в этот раз я не удовлетворюсь одной подпаленной бородой — извольте зажарить их и прокоптить, потушить и хорошенько подрумянить с обеих сторон!
Коротышка поклонился, венчик редеющих волос весело заколыхался.
— Милостивая государыня, я отвечу, как старый охотник: покажите ловчим дичь, покажите гончим оленя, и кровь вам обеспечена — считайте, что желанный ливер уже шипит на вертеле и охота на испанцев будет продолжаться, пока сама Англия не воскликнет: Довольно, я сыта, уже в горло не лезет!»
И так, стараясь убедить меня, говорили все, кроме Берли и его сына, — а мой лорд громче всех.
Зачем я их слушалась, зачем слушалась кого-либо, кроме Берли и маленького Роберта, слушала эти хвастливые бредни?
Не говорите, не отвечайте, знать ничего не желаю.
А покуда они готовили свой грандиозный поход — воистину грандиозный, если судить по затраченным деньгам! Сперва у меня просили всего пять тысяч фунтов, и этого хватило бы за глаза! Потом всякими но» и если», ложью и экивоками, уловками и увертками сумма увеличилась до восьми, потом до двенадцати тысяч, — пока разворачивалась эта суматоха, мой синеглазый Рели (все такой же синеглазый, но давно не мальчик по сравнению с моим лордом) обнаружил себя на вторых ролях и впал в приступ ревности.
— Вынужден просить вашего дозволения покинуть двор, — натянуто объявил он как-то весенним утром, когда хмурая погода, казалось, просочилась в присутствие — такими мы все выглядели серыми, — и поехать в Шерборн, Ваше Величество, в свои земли, а затем в Ирландию, где мои поместья приходят без меня в запустение.
У него хватало забот и с заморскими прожектами.
— Выдумал какую-то собачью чушь — сажать в Ирландии корнеплоды, которые его люди вывезли из Нового Света, — громко потешался мой лорд. — Я их видел и вареными, и жареными — белые, мучнистые, в бурой кожуре, называются чудно — картошка». Хуже репы, люди эту гадость есть не станут, даже деревенские, одним словом, на наших островах это не привьется!
— Гм! Значит, самая подходящая пища для ирландцев, желаю Рели успеха!
Итак, Рели покинул двор, и я тут же его позабыла за новой суматохой.
— Мадам, гонец из Шотландии, от короля Якова.
Вот и он, низкорослый, веснушчатый, белобрысый, скуластый, — не успел открыть рот, как я перенеслась во времена кузины Марии Шотландской, когда то она, то ее посланцы одолевали меня своими грубыми притязаниями. Господи, что за выговор! Как же я ненавижу шотландцев! Интересно, правду ли говорила Кэт, что волосы у них растут даже между пальцами ног? Откуда она узнала?
Что он говорит?
— ..мой король и повелитель надеется, что вы, дражайшая миледи, дадите ему совет… …вы, дра… Выдра? Точнее не скажешь. Впрочем, ладно, незачем выискивать обидные каламбуры там, где они возникают ненамеренно.
— Мой повелитель король Яков хочет вступить в брак, как заповедал нам Господь, и его взор устремлен на принцессу Датскую, юную Анну Сканденборг, дочь короля Фридриха.
Прежде чем посвататься, он смиренно просит вашу милость высказать свое мнение.
Так вот, значит, как? — радостно фыркнула я про себя. — И правильно! Еще бы ему не спрашивать моего совета, еще бы не рассыпаться в горячих благодарностях! Разбив Армаду, я укрепила и его притязания на английский престол, вопреки усилиям дуры-матери завещать этот трон Филиппу. А как дела пойдут дальше, зависит уже от его почтения ко мне — своей крестной, кузине и — пусть и дальней — тетке!»
Я нахмурила брови и сделала вид, что советуюсь со стоящими возле трона Берли и Уолсингемом.
— Жениться на датской принцессе? Нам следует это обдумать.
На самом деле предполагаемый брак меня вполне устраивал. Он означал, что Яков, невзирая на все Мариины козни, на все усилия католических дядьев Гизов, намерен крепко держаться протестантской веры: ведь, подобно Англии, Дания — одна из немногих протестантских держав мира. Датчане!
Я рассмеялась. Они сватались ко мне еще до моего восшествия на престол, в те времена, когда меня так рьяно домогался Эрик Шведский, — сейчас я вполне могла бы быть датской королевой, величайшей из датчан…
Я кивнула шотландцу и улыбкой показала, что аудиенция закончена.
— Я подумаю. Приходите завтра и отвезете королю наш ответ. Мне многое нужно ему сказать, многое посоветовать. По-прежнему ли его осаждают оголтелые ковенантеры вроде Нокса?
Нам с ним надо остерегаться мерзких пуритан, пресвитериан, как бы они себя ни называли, ибо эти гусеницы вредят содружеству не меньше католических слизняков! Что до его брака — ладно, об этом завтра.
Я повернулась, чтобы уйти, и тут заметила, что Бесс Трокмортон украдкой всхлипывает.
Что на нее нашло?
— Бога ради, милая, неужто одно упоминание о браке вызывает у вас слезы?
И вдруг меня осенило. Она сдуру вообразила, будто Рели в нее влюблен, а он тем временем доказал свою верность мне — предпочел скорее покинуть двор, чем лицезреть возвышение соперника, — и Бесс посчитала себя обманутой! А теперь, когда разговор зашел о браке, наверное испугалась, что вместо Уолтера ее силком выдадут за какое-нибудь постылое чудовище, о котором я и слыхом не слыхивала.
После смерти отца бедняжка осталась на попечении брата и в полной его власти. Однако, пока я — ее хозяйка, никто не посмеет принуждать мою фрейлину к ненавистному браку! Я взяла ее за руку, грубовато похлопала:
— Поверьте, милочка, вы не пойдете замуж против своей воли, обещаю вам. Можете не бояться — вместе со мной вы останетесь девственницей, пока не высохнет Северное море.
Она потупила взор и прошептала:
— Благослови вас Бог, мэм.
Лживая потаскушка! Ей было с чего прятать глаза! А я-то пребывала в полной невинности, или меня очень ловко провели. Круглая дура — я так ничего и не заподозрила.
Как и тогда, когда мой сладостный лорд крутился вокруг трона, ловил каждое мое слово, будто все его мысли со мной, возле меня, а на самом деле улетал в своих мечтах далеко-далеко…
Я не могла отпустить его с Дрейком — тут и говорить было не о чем. Однако он вынудил меня произнести это вслух. Да еще как вынудил — одолевал неотступно, пока я не завопила в голос, не завизжала ему прямо в лицо:
— Не разрешаю!
— Клянусь Божьим телом, кровью и костями, мадам, — вскричал мой лорд (и откуда он узнал, что это было любимое отцовское ругательство?), — на коленях молю не унижать меня так!
Вы лишаете меня мужественности, когда не дозволяете сражаться! Зачем вы удерживаете меня здесь, когда я мог бы стяжать славу и вам, и Англии?
— Вы слишком уверены в победе! — рявкнула я. — Быть может, я удерживаю вас здесь, чтобы мне не пришлось расхлебывать ваши поражения и потери?
Однако, говоря потери», я имела в виду не деньги — я боялась потерять его или даже одну секунду, проведенную в его обществе…
И вот однажды я просыпаюсь, швыряю в голову служанке принесенный хлеб — ибо, видит Бог, он был тверже, чем ее дубовая башка, — и спрашиваю:
— Какие сегодня вести о милорде?
— О милорде? Об Эссексе?
По окнам хлестал дождь — я и сейчас отчетливо вижу ее лицо в сером утреннем свете.
— О ком же еще, дура? Сию же минуту пошли за ним!
Она не двинулась с места, только захлопала ресницами, широко открыв рот, заламывая руки, принялась лепетать какую-то чушь. Я кликнула фрейлин, но ни одна не посмела сказать что-нибудь путное. Господи, после смерти Кэт ни на кого нельзя положиться! Я рыдала, вопила, выла:
— Где он?!
И снова неблагодарную роль вестника взвалил на себя Берли — один взгляд на него, и я снова забилась в истерике. Господи Боже милостивый, как я буду обходиться без этого человека, когда он умрет?
Разжиревший, скрюченный, постоянно страдающий одышкой, он тем не менее слез с носилок и отвесил положенный поклон, прежде чем печально сообщить:
— Мадам, его нет.
Глава 2
О, западный ветер, новей ты вновь, И маленький дождик пролей, Была бы со мною моя любовь, А я — в постели моей.— Как… почему… нет?
Старческие глаза Берли были тоскливы, как дождливая весна за окном. Вспоминает ли он прошлые случаи, когда вынужден был сообщать другие скорбные новости? Он чуть слышно вздохнул:
— Лорд Эссекс уехал, мадам, дабы присоединиться к флоту — к походу против Испании — и стяжать вам и Англии славу.
— Себе! — рыдала я. — Он хочет славы для себя! Плевать ему на меня и тем более на Англию!
О, совершенно ясно, что он обо мне не думал.
Любил бы — не бросил. Надо забыть его, выкинуть из головы эту жестокую и бесплодную любовь, немедленно, ради спокойствия моей души! Но разве словами рассудка уймешь расходившееся сердце, укротишь своевольную любовь? Я любила его тем больше (если это возможно), чем меньше его интересовала, — история, ведомая каждой женщине…
— Дайте перо, чернила, велите оседлать самого резвого коня, и пусть гонец ждет!
Берли поклонился:
— Сию минуту, мадам.
Дышащим яростью пером я выводила огненные буквы — требование немедленно возвращаться. Однако корабль уже вышел в Ла-Манш, его было не вернуть.
Недели тянулись нескончаемо; я жила по-вдовьи. Фрейлины пытались меня развеселить, все, кроме самой вдовы, Фрэнсис Сидни. Ее лицо стало желтее отцовского, пуританское благочестие сделалось еще более истовым, в церкви она молилась за успех нашего флота дольше и ревностнее, чем последняя дура-горничная. С чего бы это? Такая набожность у фрейлины неуместна.
Надо подыскать ей мужа.
Как все, кто никогда не засыпает простым сном невинного изнеможения, кто ночи напролет зовет божество забвения и не получает ответа на свои мольбы, я ненавижу утро. Ворочаясь с боку на бок в последней ускользающей полудреме, я услышала за опущенным балдахином щебет, нет, немелодичное чириканье:
Говорят, что черноват,
А по мне, так всем хорош.
О мой славный, мой забавный,
Лучше Джонни не найдешь.
— Кто там? — сварливо осведомилась я.
Слуги еще не вынесли ночную посуду, в комнате омерзительно воняло нужником. Я сердито повернулась на другой бок. Зубы в эти дни болели нестерпимо, не отпускали, пока Радклифф не смазала их клеверным маслом и Анна Уорвик не прополоскала мне рот aqua vitae. Занавеси раздвинулись, появилась раскрасневшаяся сияющая физиономия Бесс Трокмортон.
— Я, мадам, с приятным сообщением. Сэр Уолтер Рели прибыл ко двору с вестями из Ирландии, Америки, о своих людях и плантациях…
— Придержи язык! — резко оборвала я. — И не будь дурой! Он тебя не любит, иначе бы не уехал.
Она подняла брови и сделала круглые глаза.
Меня захлестнула ярость — она что, смеет думать то же самое обо мне? — и от злобы я заговорила резко:
— Прикажите немедленно подавать завтрак — хлеб и крепкий эль, никакого жидкого пива! И выбросьте сэра Уолтера из своей дурацкой башки! Он не женится, покуда вынужден покупать мою любовь, дабы расплачиваться с кредиторами, — а тем более на нищей бесприданнице вроде вас, без отца и семейства! А теперь задерните балдахин и дайте мне отдохнуть!
Лежа на подушке и тщетно пытаясь снова заснуть, я слышала, как она ходит по комнате и тихонько хлюпает носом. И не ей одной пришлось плакать в этот день.
Наутро снова пришел Берли, дай ему Бог здоровья, — ночные свечи уже догорели, взошло солнце, пригожая английская заря разбудила крапивника и малиновку, голубку и скворца, когда запоздалый соловей еще оглашал мокрые леса своими тягучими трелями.
Берли поклонился:
— Ваше Величество, донесения с флота. Мы взяли Корунью, не потеряв ни одного человека убитыми. А лорд Эссекс — герой дня!
Слезы, непрошеные слезы…
— Прикажите ему вернуться! Пообещайте военную службу, если ему уж так нужно геройствовать, только поближе к моему трону, чем на Азорских или Канарских островах, или где он там…
А ближе к Англии — ближе ко мне…
Еще один провал во времени, еще одна пустыня в сердце, еще один скудный сорокадневный пост.
И все меньше времени, а оно все драгоценнее…
Наконец он вернулся, чтобы выслушать все мои гневные укоры. Когда он входил в двери, когда шел мимо телохранителей, солдаты широко раскрывали глаза, вытягивались во фрунт и улыбались во весь рот, словно вернулся некий великий Цезарь или непобедимый Александр. Внезапно на дне моего сердца шевельнулся червячок ревности — нет, скорее страха. Значит, теперь толпа его любит, обожает доблестного покорителя испанцев, которыми ее пугают с колыбели. Не в ущерб ли мне он добивается народной любви? Вспоминалась роковая историческая аналогия. Именно так во времена Ричарда, Ричарда И, сын Гонта, узурпатор Генри Болингброк привлек на свою сторону чернь и сбросил Ричарда с престола!
И это в довершение вопиющего непослушания и дерзости, с которыми он оставил меня вопреки четко выраженному приказу, — Боже Праведный! Я не могла дождаться, когда он подойдет к помосту, — соскочила с трона и бросилась навстречу, чтобы накинуться на него, задать ему жару…
По крайней мере, это я намеревалась сделать — а затем увидела его лицо, глаза, и вся моя ярость испарилась, выплеснулась слезами, затем шепотом, он целовал мне руки, я приникла к нему. А потом — сильное тепло его рук, утешительное ощущение близости, запах помады от волос, нежно склоненная голова, губы, шепчущие: Ваше Величество, это все ради вас, я отправился ради вас, только ради вас…»
Как могла я поверить, как, могла на такое клюнуть?
Как, могла потребовать музыки и яств, представлений и интерлюдий, плясать так, как не плясала с Робиновой смерти, и даже, утомившись, милостиво приказать Эссексу пригласить на танец, Бесс Трокмортон, а Рели — Фрэнсис Сидни, чтоб девчушки поразвлеклись, — так щедра была я в своей любви?
Как я могла?
Легко вам спрашивать! Притом что великий поход — война в Испании, которая должна была завершить войну, экспедиция за сокровищами — закончился грандиозным провалом, полным и разорительным поражением, с какой стороны ни глянь.
Кузен Говард, докладывая, прятал свои всегда смелые глаза: как лорду-адмиралу, ему хотелось провалиться сквозь землю, однако, Господь свидетель, его командиры подчинялись ему не больше, чем мне. Он говорил и говорил, покуда я не взорвалась:
— Что? Эти дураки натолкнулись на половину испанского флота, запертую в Кадисе, и, перессорившись между собой, дали ей уйти?
Говард поджал губы, потянул себя за светлую бородку:
— Они сожгли один галион.
— Потом в Лиссабоне португальцы отказались восстать ради возвращения дона Антонио? А что до сокровищ — ха! Всего-то добычи — полные трюмы французской болезни!
Говард сердито топнул ногой:
— Ваше Величество забыли про корабли с зерном, захваченные у островов Зеленого Мыса!
— Ничего я не забыла. Все ваше зерно не покроет и десятой части моих расходов на снаряжение флота!
Дрейка я видеть не пожелала. В моих глазах он растерял все свои заслуги в разгроме Армады, весь ореол героизма. Я поклялась, что больше не поручу ему экспедиций, и сдержала слово.
А мой лорд? Укоряла ли я его? Да, но не слишком искренне. И почему я верила ему, когда он сваливал вину на других, когда клялся и божился, что все это время сражался, жил и дышал исключительно ради меня?
Почему?
Он уверял, что любит меня.
Спросите любую женщину, которая выслушивает подобные слова, ловит их, пьет их, вбирает, глотает, упивается ими и всем своим существом пресмыкается перед ничтожеством…
Нет, не произносите этого слова, я заговорилась, он не был ничтожеством, нет, никогда…
Я любила его! Значит, он никак не был ничтожеством, я бы этого не потерпела, я, Елизавета, королева Елизавета!
Однако, Боже милостивый, пока он дурил и чудил по всему миру, играл в войны и посвящал их мне, складывал их к моим ногам, как кот убивает полуразложившуюся чумную крысу и гордо несет вам свою вонючую, никчемную добычу…
…Покуда он безумствовал, Франция раскололась надвое, разорвалась от горла и до пупа, распоролась от темечка до зева в последних конвульсиях гражданской войны. Здесь, на задворках Европы, в Англии или в Дании, в Нидерландах или даже в Португалии, пока ее не завоевали испанцы, мы избегли самых страшных проявлений католической ненависти, страшной папской власти, направленной против Реформации, борьбы с протестантизмом, которая калечила, душила и жгла, мучила и убивала. Однако по Испании и Франции пришелся главный удар, и обе эти страны претерпели немыслимые муки.
О чем я?
Просто о том, что последний из сыновей регентши Екатерины, бедной старой ведьмы Медичи, матери стольких сыновей, каждому из которых выпало есть свинец, пить яд, глотать сталь, погибать страшной насильственной смертью, ее последний сын, Генрих III…
При виде гонца из Франции я тяжело вздохнула:
— Мсье, сколько ваших черных собратьев стояли передо мной с подобными же вестями?
— Что, Ваше Величество?
Бедный лягушатник, ему невдомек было, о чем я говорю.
Он поведал о смерти очередного французского короля, об очередном убийстве, ибо этого Генриха, Генриха III, тоже убили, и теперь на трон Валуа вступил очередной Генрих, Генрих IV. Однако не Валуа, этот французский король, благодарение Богу, — протестант.
— Чернила, бумагу, все самого лучшего качества! — кричала я окрыленно. — И пусть приготовят королевскую печать!
Дражайший король и кузен, наш брат во Христе…»
В то лето я пять или шесть раз писала ему собственноручно, советовала, ободряла, посылала молитвы и пожелания успеха и не очень обижалась, когда он не отвечал. Разумеется, он вел гражданскую войну, сражался за жизнь и трон, даже за свою столицу, которая оставалась в руках папистов. Роберт Сесил соединил отцовское провидение с донесениями Уолсингемовых лазутчиков, когда сообщил: Все протестанты, по всей Европе, стекаются под его знамена».
Он заглянул мне в глаза ясным и умным взором, и я прочитала подтекст.
Как раз по душе моему лорду. Если не запретить, он сейчас же помчится во Францию, а запретить — сбежит тайком, ускользнет, и я не буду знать, где он…
Летняя ночь была в разгаре, мы танцевали на берегу Темзы. Фонари сотнями рыдающих лун отражались в черной реке, когда я разрешила ему ехать.
— Если вы так желаете сражаться, милорд, — сказала я, трепеща от усилия говорить спокойно, — отправляйтесь, ради всего святого, во Фратрию!
Светлая кожа — его лучший барометр — вспыхнула румянцем изумления и радости.
— Во Францию, милостивая государыня?
— Не повторяйте моих слов, как полный болван, дубина стоеросовая! — вызверилась я.
Теперь он побагровел, сердитый закатный румянец предвещал бурю.
— Я не болван! Даже для вашей добрейшей милости!
— О, отправляйтесь во Францию и помогите королю Наваррскому отбить у папистов Париж — ведь он до сих пор король без трона!
— Будет исполнено, мадам!
Едва он умчался, появился Уолсингем с писцом и ворохом бумаг.
— Депеши, мадам, вам на подпись.
— В такой час? Дурные вести из Франции?
— Нет, Ваше Величество, все хорошо.
Но сам он был изжелта-серый, хуже обычного, впервые его сопровождала и поддерживала под руку дочь, скучная Фрэнсис, вдова Сидни.
Неужто он тоже стареет? Я грубовато попыталась его ободрить.
— Ради всего святого, милорд, эти вести из Франции, что королем стал Генрих Наваррский, должны бы согреть вашу печенку, выгнать из нее всякую хворобу! Армада разгромлена, Франция обратилась к нашей вере, можете с полным основанием утверждать, что Бог показал себя протестантом! — Я хлопнула в ладоши, подзывая слугу. — Выпьем за это?
Тонкие губы Уолсингема задрожали.
— Увольте, мадам, бумаги ждут… — И он заспешил прочь.
Я с улыбкой отослала виночерпия. Воистину, печенку старому Уолсингему греет исключительно ненависть к папистам, ни разу в жизни не видела, чтоб он пропустил хоть каплю чего-нибудь существенного. Надо послать ему моего лейб-медика, еврея Лопеса.
А пока испробуем, не поможет ли травяная настойка. Едва возвратившись к себе, я кликнула Парри.
— Где вы, мадам, где?
— Здесь, Парри, глупая, возле очага…
Она стала слепая, как крот, но ума не растеряла, без нее я по-прежнему была как без рук.
— Велите послать лорду Уолсингему настойку вербены и анютиных глазок, ту, что готовила отцу мадам Екатерина Парр.
Парри задумалась.
— Валерианы и анютиных глазок, насколько я помню, не вербены, мы еще готовили ее милорду Лестеру во время его последней болезни, так ведь?..
— Парри, проследи, чтобы приготовили настойку, и не будем ворошить прошлое…
Господь — большой шутник. Он любит с нами позабавиться.
Однако по части шуток смерть даст Ему сто очков вперед. Покуда я своими снадобьями отгоняла ее от Уолсингема, Косая нанесла мне неожиданный удар в спину. Направляясь в кладовую, чтобы распорядиться насчет лекарства для Уолсингема, Парри как шла, так и рухнула — когда к ней подбежали, она не могла ни говорить, ни шевелиться. Я навещала ее каждый день, собственноручно поила бульоном, приказывала поправляться — под страхом смерти! На третий день она открыла глаза и заговорила. Знаете, а ведь я нянчила вас в колыбели», — нежно произнесла она, опустила веки и заснула.
Я впервые об этом слышала. А теперь, когда мне о столъком хотелось бы ее расспросить, было уже поздно.
Смерть занесла свое острое лезвие и, похоже, решила выкосить всех моих близких. Следующей жертвой пал Амброз, Робинов старший брат.
— Мужайтесь, Уорвик! — говорила я его вдове Анне.
Фрэнсис Сидни взяла ее за руку, погладила заплаканное лицо.
— Господь любит вдов и заботится о них, — уговаривала она. — На все Его воля, надо терпеть.
Однако слова эти не утешали — как и юная Фрэнсис, Анна была бездетна, Амброз оказался последним в этом злополучном роду…
Super flu mi na Babylonis…
На реках Вавилонских мы сидели и плакали…
Похороны были роскошные, гроб сопровождали пятьсот плакальщиц. Я молилась и вспоминала старого Нортемберленда, каким его впервые увидела — когда он на зависть всем выступал впереди пятерых красавчиков сыновей: Джона, Амброза, Робина, Гилдфорда и Генри. Где они все? Кто бы поверил, что его род оборвется, что ни один из них не оставит потомства, кроме Робинового побочного ребенка от Дуглас, незаконнорожденного, который не может наследовать.
Отступи, смерть…
Уолсингем умер в следующем апреле, когда только-только вылезали нарциссы. Убитая горем Фрэнсис, верная дочернему долгу, убивалась теперь по отцу и снова надела траур. Бесс Трокмортон тоже рыдала. Бог весть с чего у нее случилась водянка, груди и живот, ноги и руки раздулись, мне пришлось отослать ее на поправку в деревню. Мы с Берли вместе молились и плакали о старом соратнике, после этих похорон я долго не могла отойти, и Берли пригласил меня отдохнуть в Теобалдсе.
Однако даже в разъездах, в разгар летних каникул, когда мы весело перебирались с места на место, все было не как раньше. Распустить двор и совет, уложить все наши пожитки в сундуки и на подводы, разместить до двух тысяч человек (в те дни наш двор вырос до размеров целого города), а потом недели и месяцы проводить в дороге — все это утратило для меня былую прелесть и превратилось в тяжкое испытание. О да, я сберегала денежки, пользуясь щедрым гостеприимством подданных! И мне по-прежнему нравилось встречаться с народом, видеть радостные лица и слышать немудреные выражения любви. Но все это не окупало затраченных сил.
Потом занемог Хаттон и, глупец, до последнего скрывал от меня свою болезнь. И снова я посылала за доктором Лопесом, бежавшим от Инквизиции португальским врачом, снова сидела у постели больного, подавала бульон и грозила всеми мыслимыми карами, если посмеет умереть, а он улыбался, по обыкновению, ласково и обещал слушаться.
Но, как мы все, Хаттон подчинялся закону, который даже я не властна отменить.
— Он не мочился уже больше недели, — сказал Лопес, чуть заметно пожимая плечами. — А внутри у него от груди вниз все сплошной гной, ноги чернеют…
Меня передернуло.
— Не говорите так! Бога ради, вы же можете его спасти. Леди Стрэчи целый месяц пролежала в обмороке, а потом все обошлось.
Он поднес тонкие пальцы к губам, поднял на меня свои печальные библейские глаза — в них стояла смерть.
— Ваше Величество, велите повесить меня, как Александр повесил врача, не сумевшего вылечить его любимого Гефестиона, но я не в силах его спасти.
— Будьте благословенны вовеки, дражайшая, сладчайшая королева!
Он умер, улыбаясь и сжимая мне руку. Господи, неужели такое красивое рослое тело, созданное для танцев и слегка раздавшееся от возраста и почестей, не могло продержаться чуть дольше?
Кит — единственный мой преданный воздыхатель, единственный, кто не женился, кто хранил мне верность, до последнего издыхания служил своей королеве и ни одной другой женщине. Ты — последний, кого я целовала, целовала так, что кровь застывала в жилах, дыхание учащалось, а сердце колотилось о грудную клетку, как пленная голубка.
Жди меня на небесах, я мечтаю о нашей встрече, ты будешь мне там нужен…
Мой Хаттон умер в последнюю неделю ноября, я плакала о нем всю долгую зиму, да и сейчас плачу при воспоминании о нем — его легкой поступи в галлиарде, темной бородке, его прикосновениях, поцелуях, его любви…
Не плачь, королева, слезы — суета…[3].
Кажется, это сказал тот стратфордский проныра, лысый актеришка и сочинитель, похожий на дамского портного. Я считала, что он пишет вещицы побойчее. Но я забыла.
Неужто все мои старые лорды умерли? С кем поговорить, к кому обратиться за помощью? Господи, избавь меня от этой нескончаемой вереницы черных гонцов, возвещающих смерть, пахнущих смертью — напоминающих мне о собственной бренности. И кем заменить ушедших?
— Роберт? Где мастер Сесил?
— Здесь, мадам, к вашим услугам!
Я взглянула на его узкое, бледное, так похожее на отцовское лицо, сияющие глаза, старческую голову на молодых плечах, изящные маленькие руки и сказала себе: Пришло ваше время, сэр».
В Теобалдсе я посвятила его в рыцари, а по возвращении в Лондон произвела в тайные советники. В тот вечер я с удовольствием смаковала свое вино. Роберт. Да. Он будет хорошим советником — умный, верный, в строгих шелках и длинных черных мантиях, которые скрадывают горб и уродство фигуры. Он уравновесит лихих вояк вроде моего лорда. Он будет честно служить Англии, служить государству.
Вдруг меня пронзила острая боль — зубы, что ли, от цукатов? Или сердце? У Англии служители есть, а у Елизаветы? Рели снова уехал в Ирландию, Оксфорда больше занимали актеры, чем королева, молодежь вроде графа Саутгемптона или братьев Пембруков, сыновей моего старого графа, по мне еще слишком зелены и неотесаны.
Меня должны окружать мужчины, молодые мужчины, а не мальчишки! Где мужчина, сияющий в огненно-алом пламенеющем бархате, где цветущий лорд в зеленом, вихрь в небесно-голубом, юный росток в одеянии цвета первого желтого крокуса, человек, который будет служить не государству, а мне?
Где мой лорд?
Мой майский лорд был в Нормандии, куда отправился воевать за меня, за короля Генриха и за торжество истины во Франции. Он посылал письма, исполненные такой нежности, какой только может желать женщина.
Чудесная, дражайшая, превосходнейшая государыня!
Покуда Ваше Величество дозволяет мне выказывать свою любовь, моя радость, как и обожание, неизменна. Запретите мне — и Вы погубите мою жизнь, но не сломите моего постоянства.
Пусть приятства Вашей натуры обратятся в величайшую недоброжелательность, Вы увидите, что даже могущественнейшая королева не властна умерить мою к Вам любовь…
Вашей прекрасной милости слуга навеки Роберт Девере, граф Эссекс».
Господи Боже мой, я больше не в силах без него жить.
— Прикажите милорду возвращаться… немедленно!
Что мне до пересудов о нем, обо мне, о том, что молодой человек лезет вверх, пользуясь тем, что старуха окончательно рехнулась… Я хотела, чтоб он вернулся, и могла это приказать — так почему бы нет?
А потом я нуждалась в нем, чтобы отпраздновать некое событие. Мне преподнесли новую игрушку — зато какую огромную!
Нонсач![4].
Бесподобный — лучший дворец в нашей стране.
Когда отец его строил и нарекал, он имел в виду именно это — Sans Egal, несравненный, не имеющий равных. Больше, чем его драгоценный Уайтхолл, дворец Нонсач должен был стать одним из чудес света. И кто, кроме сестры Марии, боявшейся всего великолепного, щедрого, чувственного, бьющего по чувствам, мог бы его подарить?
Чтоб ей ни дна ни покрышки! Взойдя на престол, она подарила Нонсач графу Арунделу, дабы заручиться верностью этого скользкого старого паписта. Берли говорил, она ненавидела дворец, потому что острые шпили, вздымающиеся к облакам башенки и огромный горделивый фасад представлялись ее запуганной душе самой сущностью нашего отца. Генрих ее черных дней жил в каждом кирпиче и камне, в каждой лепной розетке, в каждой уродливой горгулье, в каждой огромной, великолепной статуе, и прежде всего — в королевском размахе! — еще бы, даже башня над главными воротами вознеслась на целых пять этажей! И Мария его подарила! Однако теперь старый граф умер — смерть нет-нет да и прольется серебряным дождем, — и наследник посчитал разумным предложить дворец мне.
Лучший дворец в Англии, построенный на века.
Я вцепилась в него обеими руками. Да! Мое!
Теперь для полного счастья мне недоставало только моего лорда.
И он вернулся, в огненном камзоле, из перехваченных золотым шнуром разрезов рукавов выглядывала золотая парча, — и что же я? Я готова была съесть его золотые пуговицы. Да, веселье будет бесподобное, как я и мечтала — как и должно быть…
Стоял солнечный май, зима давно кончилась, Бесс вернулась ко двору, счастливо исцелившись и от водянки, и от слабости к моему Рели. А поскольку, как я знала точно, он к ней и раньше был равнодушен (я нарочно подсылала к нему Роберта, и Рели высмеял само предположение, поклялся спасением души, что любит меня и никогда не женится), то теперь и он и она не обращали друг на друга ни малейшего внимания.
Даже несчастная Сидни немного оправилась, сняла вдовий траур, охотно улыбалась моим лордам в присутствии и вместе со всеми дразнила сэра Уолтера его ньюфаундлендом».
Однако в тот вечер мой лорд был не в духе и, как ребенок, не успокоился, пока не испортил настроение и мне. Опираясь на подлокотник моего трона, наблюдая за танцующими и рассказывая о Франции, о тамошней бойне, о том, как часто видел смерть, почти касался ее, смотрел ей в лицо, он вдруг сказал:
— Смерть и желание идут рука об руку, леди.
Мне двадцать четыре, и кто знает, когда позовет смерть? Если я умру на вашей службе, как лорды Лестер и Уорвик, не оставив потомства, мой род прервется. Мужчина обязан жениться, обязан стремиться к браку.
— Жениться? И не заикайтесь!
И думать не смейте!
Он замолк. Однако у меня на душе осталось беспокойство — он пригласил на танец попрыгушку Бесс Трокмортон, потом, правда, танцевал с Радклифф и несколькими другими дамами, но затем снова с Бесс. Мало того, она о чем-то его с жаром расспрашивала и опасливо косилась в мою сторону.
Может быть, все-таки спокойнее, когда он во Франции…
Но не могла я с ним так скоро расстаться!
А пока я изводилась сомнениями, привели ее.
Близилось время обеда, небо наконец прояснилось после дождливого утра, мой лорд прислал с конюшни сказать, что лошади готовы. Мы собирались выезжать, и помеха была исключительно некстати.
— Черт побери, кто это?
Стражники втащили в комнату огромную жирную бабищу — шея мощная, что твой дуб, харя поперек себя шире, исполинские груди выбились из-под сальной повязки, соски в грязных потеках. Господи, и это чудовище — мать? — перемазанная, вонючая…
От нее разило прогорклым выменем и хлевом.
Меня замутило, я в отчаянии обернулась к своим дамам:
— Нюхательную соль, скорее! И пошлите за благовониями! Кто эта женщина?
От группы стражников отделился Роберт:
— Кормилица, мадам, арестована в Детфорде за пьяную драку. Болтала во хмелю, и я решил, что вам интересно будет это услышать. — Он повернулся к женщине:
— Говори. Расскажи Ее Величеству, что сказала мне.
Поблескивая хитрым звериным глазом из-за спутанных косм, словно только что опоросившаяся свинья, она запричитала:
— А вы, ваша честь, обещаете, что меня не вздернут?
— Обещаю, что вздернут, — ласково сказал Роберт, — сию же минуту, если не заговоришь.
И она рассказала, сморкаясь, всхлипывая, божась и постоянно умоляя ее не вешать. Некая придворная дама оказалась в интересном положении, тайно разрешилась на квартире в Ист-Энде, родила мальчика и наняла эту свинью в кормилицы. Сразу после родов в дом приходил джентльмен и был восприемником на крестинах младенца — высокий лорд с курчавыми темно-русыми волосами, слегка сутулится при ходьбе…
— Довольно. — Роберт кивнул стражникам. — Уведите ее.
Я на мгновение перестала ломать руки:
— Не… не вешайте ее за это…
Роберт улыбнулся.
— Вполне достанет и хорошей порки. Если бидлы постараются, ты, женщина, возможно, лишишься части кожи с нижней половины твоих телес, — дружелюбно сообщил он женщине, — но, судя по твоим габаритам, потеря невелика. За жизнь свою можешь не бояться, пока держишь язык за зубами.
Бабу уволокли, но ее крики из-за двери еще долго вторили моим.
Придворная дама и джентльмен, отец ребенка.
Я знала, кто они.
Роберт терпеливо ожидал, что я прикажу.
Я подняла руку:
— Прикажите мистрис Трокмортон оставаться в своей комнате. И пусть ко мне немедленно приведут лорда Эссекса — под вооруженной охраной.
Он пришел бледный, дрожащий, в сопровождении стражников, которые, видя унижение своего героя, выглядели ничуть не лучше того.
— Мадам, что это значит?
— Изменник! — завопила я. — Вы женились на ней, на Бесс Трокмортон, у нее от вас ребенок!
— Изменник? Я? — Он походил на человека, который тонет в трясине и не может спастись. — Нет, Ваше Величество! — Он едва шевелил побелевшими губами. — Я не женился на ней, и детей у меня нет. Между нами ничего не было.
— И почему же, сэр, почему, — взвыла я, — я обязана вам верить?
Он запрокинул голову, набрал в грудь воздуха и закрыл глаза.
— Потому что, дражайшая миледи, изменник, которого вы ищете, — не здесь, это не я… потому что я… я уже женат.
Глава 3
Он стоял передо мною в моем покое, скалясь, как пес, и думал, что я по-прежнему счастлива его видеть. Из Ирландии он привез стихотворца Спенсера, тщедушного, коротко и некрасиво остриженного на манер проклятых пуритан, в бедном черном наряде с завязками на воротнике, словно у клерка, — впрочем, он, похоже, и был теперь клерком. В другое время я приняла бы его тепло и даже сейчас старалась держаться вежливо.
— Если не ошибаюсь, мастер Эдмунд, до отъезда в Ирландию секретарем губернатора вы служили у графа Лестера?
Он поклонился рывком:
— Вашему Величеству, надеюсь, приятно слышать, что то был мой первый и самый лучший покровитель. — Нервный смешок. — Он благосклонно относился к моим маленьким сонетам, любовным стишкам, которые я назвал Аморетти», и хотел, чтобы я писал пасторали.
Да, а еще он использовал ваше перо для нападок на мой предполагаемый брак с Франциском Анжуйским, я отлично помню, что вы написали тогда Сказку мамаши Хабберд». Ладно, не будем поминать старое — они оба теперь мертвы.
— Пасторали, мастер секретарь? Так вы верите, что в тот золотой век мир был лучше, мужчины верны, клятвы нерушимы и честь еще не превратилась в пустой звук?
Рели воззрился на меня, прощупывая мое настроение. Потом весело вскочил:
— Раз уж речь зашла о пасторалях, мадам, велите этому человеку открыть вам свое сердце.
Он пишет поэму, замечательную уже тем, что будет длиннейшей из написанного в вашу честь!
Эпическую поэму, которая поспорит с Энеидой» — да и с Одиссеей» Гомера — и на веки вечные утвердит ваше неоспоримое место как поэтической музы этих островов, богини, которую все мы любим и чтим.
Он повернулся к беспомощно хлопающему глазами Спенсеру и потрепал его по плечу:
— Прочтите Ее Величеству отрывок!
— Стихотворец без долгих слов начал:
Достойный рыцарь устремился вдаль,
Навстречу великому приключению,
Что поручила ему величайшая Глориана…
— И все про меня? Все в мою честь? Что ж, сэр, даю вам свое благословение.
— В таком случае. Ваше Величество, могу ли я… — Он едва осмеливался просить. — Могу ли я умолять вас о милости… чтобы вы любезно позволили… могу ли я назвать ее в вашу честь — Королева фей»?
— Называйте!
— О, мадам! — И он, раскрасневшийся от успеха, убежал договариваться с издателем.
Мы остались одни.
Теперь я могла поиграть с Рели, как он играл со мной.
— Вина, сэр? — ласково улыбнулась я. — Милорд Эссекс сказал мне, что хочет жениться.
Я ответила, что считаю это изменой, прогнала его от двора и велела сидеть в поместье, пока придумаю наказание. Каково ваше мнение на этот счет? Что вы думаете о женитьбе?
Уловила ли я тень тревоги в глубине этих по-прежнему чудных синих глаз?
— Я думаю, — осторожно начал он, нащупывая почву, — что это почетные узы, которые наш Господь назвал священными…
Он говорит священными»? Колкость напрашивалась сама собой.
— Однако наш Господь не женился!
Рели натянуто хохотнул:
— Однако мы, Его недостойные дети, слабы плотью, и нам трудно следовать Его примеру…
О да, сэр, извивайтесь своей слабой плотью сколько хотите, вы у меня на крючке!
— А распространяется ли Его заповедь на деторождение? — спросила я как бы между прочим.
Теперь он вспотел, верхняя губа под тугими черными завитками усов покрылась тонкой пленочкой страха. Однако годы, проведенные в боях, закалили его нервы. Он не дрогнул.
— Да, мадам.
— Разумеется, если мужчина и женщина спят вместе, они рано или поздно приживут младенчика, вы согласны?
Теперь он понял. И принял мужественно.
— Ваше Величество совершенно правы — тайное станет явным.
— Ладно, сэр, убирайтесь прочь.
Я не любительница отрывать паукам ноги и смотреть, как они корчатся в тщетной попытке уползти. Поэтому я его отпустила. Однако не успел он поклониться, взглянуть на меня и выйти в двери, как я уже кликнула одного из кавалеров.
— Пусть ко мне немедленно явится капитан гвардии с вооруженным отрядом.
Чтобы взять под стражу.
И препроводить изменника в Тауэр.
Шли вы из Святой Земли,
Уолсингам, Уолсингам,
Повстречать мою любовь
Не случалось вам?
Как узнать, о коей речь?
Многих встретил я тогда
По пути или навстречь:
Кто туда, кто сюда…
Не бела и не черна,
Но яснее, чем рассвет,
Столь великих совершенств
На земле и в небе нет.
Доводилось повстречать:
Ликом — ангел во плоти,
Нимфе царственной под стать
Так смотреть, так идти.
Здесь она меня забыла,
Здесь ни с кем я не знаком,
А бывало — в бой водила,
Нарекла своим бойцом.
Верная любовь в душе,
Словно в пламени, живет.
Не стареет, не болеет,
Не изменит, не умрет.
Он посылал из заключения эти и другие любовные мольбы, но я была непреклонна. Вернее, я заболела от ярости, занемогла от расстройства чувств — впрочем, расстроились не только чувства, как всегда, от переживаний у меня скрутило живот. Елена, Уорвик и горничные смущенно смотрели в пол, когда я, воняя нужником, выходила из уборной.
Одна Елена не растерялась, шагнула вперед и спокойно взяла меня за руку.
— Послать за доктором Лопесом, мадам, или еще за кем из врачей?
— Нет, не надо, — плакала я. — Они не вылечили меня от измены лорда Лестера, не вылечат и теперь.
Подошла Радклифф с серебряным подносом, на котором были бокал миндальной настойки и вишневые вафельки.
— Ваша милость с утра ничего не кушали, пожалуйста, возьмите хоть чуть-чуть для подкрепления сил…
Я отмахнулась. Однако любовь и нежная тревога в ее глазах пронзили меня до глубины души, я не могла более сдерживаться.
— О, Господи, — запричитала я, — неужели все снова, как с Робином? Или это Божья кара за то, что я зажилась на этом свете? Видеть, как события повторяются и вновь переживать прежние муки?
Уорвик и Радклифф уложили меня в постель, Елена взяла за руку и ровным голосом, из которого так и не изгладился шведский акцент, зашептала на ухо:
— За тем исключением, мадам, что Ваше Величество никогда не любили, — она замялась, — и не привечали сэра Уолтера, как лорда Лестера.
А сейчас у вашей милости по-прежнему есть любовь лорда Эссекса.
Уорвик наклонилась с другой стороны.
— Госпожа, отхлебните чуточку лекарства, которое приготовила Радклифф, — оно очень сильное, вы сразу уснете…
Любовь Эссекса… Я начинала дремать. Да! Она, по крайней мере, у меня, есть, истинная правда. Он ежедневно шлет мне нежные и мужественные любовные послания: Я женился не ради себя, но ради нее — из жалости… я вынужден был ее пожалеть…»
Я сжала руку Уорвик:
— У мерзавца Рели нет даже такого оправдания. Он спал с ней из похоти! И под самым моим носом.
И притом несколько лет — по меньшей мере два года…
— Отвезли его в Тауэр?
— Как Ваше Величество и приказали. Обоих.
Они ждут вашего решения.
Загадку раскрыл Роберт — ему не потребовалось много слов. Глаза его горели искренним сочувствием, когда он с поклоном протянул мне пергамент:
— Сэр Уолтер Рели шлет вам письмо с извинениями и покаяниями. Ваше Величество, а с ним стихи…
Я взвыла и вышибла из рук Роберта пергамент:
— Не желаю извинений и стихов, хочу знать правду!
— Вы ее услышите, миледи. — И Роберт защебетал:
— Сэр Уолтер и дама приглянулись друг другу, и он лишил ее невинности. Затем она понесла…
Я знала! Вот чем была ее водянка — а я-то ее пожалела, отправила в деревню на поправку, подышать чистым воздухом.
— И сэр Уолтер на ней женился. А когда вы отправили ее в деревню, она вместо этого укрылась в доме брата в Мил-Энде, где и родила сына. А сэр Уолтер уговорил графа Эссекса стать крестным отцом ребенка. Сэр Уолтер рассчитывал на сочувствие графа — они хоть и соперники, но граф тоже скомпрометировал себя тайным браком, заключенным без воли Вашего Величества…
Я вскочила и заходила по комнате.
— Это не одно и то же! Женитьба графа — совсем другое дело.
Рядом с постелью лежали письма, в которых мой лорд объяснял все:
Внемлите мне, Ваше Величество, Вашей душой заклинаю, внемлите!
Я впервые увидел ее в Зютфене, куда она приехала к раненому мужу, сэру Филиппу Сидни, за которым ухаживала до самой его смерти, — и он сам, умирая, поручил ее моим заботам. В моих глазах он был безвременно павшим героем, а его последнее желание — законом. Покойный лорд Лестер, который любил Ваше Величество так же страстно, как я, если такое возможно, обойдись с ним судьба помягче, подтвердил бы мои слова. Жениться на даме было долгом чести, от которого рыцарь уклониться не может. Однако, если честь и связала меня с нею, к вам меня влечет любовь, безмерная любовь…»
Да! Он по-прежнему меня любит! Я схватила последнее письмо и прижала к губам. Да и кто бы не предпочел меня ей, его жене, жалкой вдове Сидни.
Сказать по правде, я не имела ничего против его брака с Фрэнсис. Я даже жалела ее, когда вспоминала ее худосочное мальчишеское тело, благочестиво опущенные долу коровьи глаза, бледную кожу, излишне темные глаза и волосы — в то время как в моде мои золотисто-рыжие локоны и фарфоровый цвет лица. Конечно, он ее не любит. Он любит меня, хоть и не может этого проявить, слишком велико расстояние между нами. А уж кому-кому, а ему обязательно нужно продолжить род, чтобы его титулы — и красота — сохранились в потомстве.
Да, этот брак больше походил на суровый долг, даже на кару Господню, чем на потворство греховной плоти.
Я могла если и не простить его, то по крайней мере сделать вид, что ничего не произошло. А мне его так не хватало! Надо было его вернуть.
И не только для себя. Это вдруг стало совершенно ясно. Теперь, когда старики поумирали, надо ради блага Англии возвышать новых людей, молодых. Мой лорд силен и отважен, неутомимый боец и верный англичанин до мозга костей. Он может пригодиться — надо ввести его в Тайный совет в качестве одного из первых лордов и советников.
Однако я по-прежнему колебалась.
Можно ли совместить интересы Англии и мои собственные? Да? — говорила гордость. И почему бы нет? Мне всегда это удавалось. Я его обуздаю, приструню. Его можно исправить, простить.
В отличие от Рели. Вот без кого прекрасно можно было обойтись. Тем более что вдруг отпала нужда в рубаках.
Перемена произошла просто, быстро и мощно, как всегда. Мир наступил самым мокрым днем того ужасного лета, когда дождь хлестал не переставая и казалось — Бог открыл небесные шлюзы. Запертые в Нонсаче, мы извелись от тоски и скуки, стали замкнутыми, и тем более изумила нас пришедшая извне весть.
Война во Франции окончена.
Нашим войскам не нужно больше поддерживать протестантского короля Генриха против его подданных-католиков.
Я лихорадочно расхаживала взад-вперед по террасе, куда вышла подышать воздухом, пока снова не начался дождь.
По крайности мы сбережем деньги, а то — сколько? — двести, триста тысяч крон истрачены безвозвратно… Я пыталась отыскать хоть зернышко утешения в сообщенных Берли вестях — бедняга, он едва встал с носилок, на которых принесли его слуги.
— Что? Что он сказал? О, сядьте же, милорд, не надо стоять!
Берли со вздохом опустился на подушки. Рядом стоял помрачневший Роберт.
— Мадам, король сказал: Париж стоит обедни».
— И ради этого он отвернулся от истинной веры, от света нашей религии, отказался бороться за торжество протестантизма в своей стране и перешел в католичество? Господи, была бы я мужчиной! — рыдала я в гневе. — Зубами бы вырвала у него сердце и съела на ярмарке! Дайте перо и пергамент и пошлите за моим лордом!
Мне надо утешиться.
Слова лились с пера:
Моему кузену королю и повелителю Франции Генриху IV.
Мне сообщили, что ради достижения мира в своей стране Вы отреклись от нашей веры и бросились в объятия Рима. Ах, как Вы меня огорчили, как стенает моя душа! Неужто вы ожидаете добрых последствий от поступка столь нечестивого? Надеюсь только, что Вы одумаетесь. Вписала Вас на первое место в свой поминальник, молюсь о Вас денно и нощно.
Ваша по-прежнему любящая сестра, если Вы — прежний, а нет — так между нами все кончено.
Королева Елизавета».
Берли прочел и улыбнулся:
— Вижу, упреки Вашего Величества по-прежнему разящи. Однако не бойтесь, миледи. Союзника мы не потеряли, Генрих никогда не решится воевать с нами, его страна слишком истощена.
И вы увидите, что теперь, когда Франция объединилась, испанский король переключит внимание на нее — его злейший враг там, а мы так, сбоку припека, и этот шаг, безусловно, пойдет нам на пользу.
Я, немного успокоенная, кивнула в ответ:
— Будем надеяться, потому что, боюсь, у нас хватит хлопот и здесь!
Ибо я уже знала, что мир не приносит мира несчастным, тем, кто подобно мне постоянно борется с любовью и с собой. А поскольку мой лорд любит войну, он не даст мне пожить в мире. Казалось бы, отделавшись от главного соперника, Рели, мой лорд, погубивший себя глупой женитьбой, и зная, что повелевает мною и множеством моих даров — сладкими винами, лесами и полями, огромными поместьями и соответствующими доходами, аккуратно выплачиваемыми четыре раза в год, — мог бы угомониться. Но — и это превратилось в мой вечный рефрен — надо было предвидеть…
Я послала за ним в твердой решимости использовать его дарования на благо Англии.
Я старалась держать его на расстоянии вытянутой руки, обходиться более сдержанно, когда он возвращался из деревни, где жила его жена. Однако эта пьеса, наша осенняя трагедия, была еще не доиграна. А в трудную минуту мудрый обращается за помощью к философии.
Чтобы смириться с отступничеством французского короля, я вновь обратилась к школьным занятиям, переводила великое творение Боэция, De Consolation Philosopiae — Об утешении философией», с благородной латыни на не менее благородный английский, до того довел меня гнев на короля, на Рели, на всех вероломных мужчин.
Однако занятия принесли плоды. Я возобновила переписку с заблудшим королем, выпустила Рели и его шлюшку Бесс Трокмортон из тюрьмы. Я даже обнаружила, что он еще может быть полезен — это выяснилось, когда мои каперы захватили самую богатую добычу, Madre de Dios».
Madre de Dios. Воистину, Матерь Божья! То был купеческий корабль самого испанского короля, величайший в его флоте, плавучий семипалубный красавец с шестью сотнями матросов. Словно дворец, высился он над водой, нагруженный несметными сокровищами Ост-Индии!
Драгоценные камни и слоновая кость, сандаловое дерево, шелка и пряности, тигровые зубы и китайские кровати, мускус и амбра, перец и павлиньи хвосты! Я послала Рели в Плимут забрать это все для меня, а потом не пустила ко двору и отправила в Шерборн к Бесси», посмотреть, как ему понравятся хваленые священные узы».
Захват Madre de Dios» принес мне сто тысяч фунтов от продажи одного только перца. Мы, как и предсказывал Берли, жили в мире с Францией, Испания нас не трогала. Можно было подумать о том, как наполнить казну и наши тощие кошельки, можно было играть, ездить верхом, охотиться и веселиться, приглашать актеров хоть каждый вечер, слушать лютни, танцевать и смеяться до зари. Теперь и двор обновился, на волне радости от победы над Армадой в Лондон повалила молодежь: новые имена, новые лица, Кэри и Пембрук, Коук и Кемберленд, Саутгемптон, Говард и Харингтон, да, и даже братья Бэконы, любимцы моего лорда. Ну и пусть это сыновья и дочери моих первых придворных, пусть я износила целое поколение и затребовала новое! Разве я когда-нибудь жаловалась на юность и красоту?
У нас было все, о чем можно мечтать, у меня и у моего лорда, однако по-прежнему любовь его и гордость были как трутница — того и гляди, вспыхнут!..
И по-прежнему шел дождь. Июль и август дорыдались до мокрого сентября, урожай погиб, наступил ноябрь, и турниры в честь очередной годовщины моего восшествия на престол утонули в грязи и в лужах, как ни доблестно сражались мои рыцари. Я по обыкновению раздавала награды и хвалы, однако сердце мое напоминало красное глиняное месиво под конскими копытами. Но как-то с вечера я долго не могла уснуть. а проснулась на заре, чистой и ясной, словно утро нового мира.
— Быстрее! — Я нетерпеливо ткнула ногой спящую на приставной лежанке горничную. — Буди моих женщин, зови кавалеров, я немедленно еду кататься! Пошли за лордом Эссексом, пусть ждет в конюшне!
Счастливая, я бежала к нему по закоулкам и дворикам Нонсача, свита едва поспевала следом.
Он, как всегда, будет в конюшне, выберет мне лошадь, подставит под ступню сцепленные ладони, забросит в седло, поправляя стремя, возьмет за лодыжку сильными загорелыми пальцами, тронет руку на уздечке…
Потом повернется ко мне: Нравится, Ваше Величество?» — и вскочит на своего скакуна, перебросит великолепную ногу через заднюю луку седла, и мы помчимся во весь опор, в карьер — как пожелает моя душа…
Я уже чувствовала расходящееся изнутри знакомое тепло, жар, я дрожала, стыла, жила и умирала…
— Нет, надо ей сказать! Все равно не утаим!
Внезапно из-под низкой арки впереди высыпала толпа разгоряченно спорящих придворных — кузен Гарри Хансдон, лорд Говард, женоликий новичок граф Саутгемптон и его друг молодой граф Пембрук, с ними слуги… Откуда они тут взялись ни свет ни заря?
— Милорды?
Все прятали глаза. Даже кузен Хансдон, одиннадцатью годами меня старше, толстый, лысый, выглядящий на все семьдесят, вел себя словно пойманный с поличным воришка, перед которым маячит виселица.
— Мы не ждали Ваше Величество так рано!
Я оскалилась:
— Говорите, кузен, — почему же?
— Мадам, я…
Он запнулся. Остальные смотрели на молочно-белое небо, в пол, только не на меня. Наконец красивое лицо Пембрука, одного из молодых, горячих и неотесанных, вспыхнуло, и он выпалил:
— Лорд Эссекс и сэр Кристофер Блант повздорили из-за Вашего Величества и решили рассудить спор поединком. Они сошлись на заре, на лугу возле реки…
— О, Господи, нет!
Саутгемптон улыбнулся кривой кошачьей усмешкой:
— Оба живы, Ваше Величество. Но…
Он выдержал томительную паузу. Я поборола минутный гнев:
— Что но», сэр? Говорите.
— Милорд Эссекс ранен…
— Ранен?! — В ужасе я ударила Хансдона по руке. — Пошлите за моими врачами, сейчас же, немедленно, позовите доктора Лопеса!
— Не надо, не надо! — успокоил Хансдон. — Рана неглубокая, с ними были цирюльники, они сейчас ей занимаются.
— Неглубокая?
Ему неглубокая — мне глубокая…
Саутгемптон снова вроде бы ухмыльнулся — или просто лицо у него такое? — и провел ладонью по мясистой стороне бедра вверх.
— Сюда, в пах, — ехидно заметил он. — И, я полагаю, рана мучит его меньше, чем уязвленная гордость, поскольку победа осталась за сэром Китом — тот только отделался царапинами.
Я почувствовала облегчение и гнев одновременно.
— Клянусь Богом, он знает, что при нашем дворе строжайше запрещены драки и дуэли! В отцовские времена за такое руки рубили! Как посмел он вызвать Бланта? Давно пора было кому-нибудь сбить с него спесь и поучить хорошим манерам! — Я повернулась к Хансдону:
— Какая муха его укусила? Почему он полез в драку?
Хансдон вздохнул:
— Потому что Ваше Величество отметили Кита Бланта после турнира — послали ему свою золотую с красной инкрустацией шахматную фигурку, и милорд объявил, что никакому мерзавцу» не достанется его королева»…
Что на это сказать?
Когда надо было сбить с него спесь, я принимала ее за любовь. И мне нравилось.
Однако отлично известно: когда мужчины дерутся из-за женщины, им нужна не женщина, а драка. А человек, который подрался с ближайшим другом, каким был моему лорду Блант, не пощадит никого.
Господи, попадись он мне в ту минуту, я бы отхлестала его по щекам за то, что так глупо, по-детски рисковал жизнью! Однако он, как необъезженный жеребенок, все делал по-своему.
А делать по-своему для него значило воевать.
Не во Франции, так в Испании. Испания!» — был теперь его боевой клич; он оправился от раны и теперь требовал отправить его на войну.
А вокруг него собрались все молодые ястребы, те, кто, подобно ему, рвался отыскать славу или смерть в пушечном жерле. Эссекс как их вожак сам принялся искать достойный повод взяться за меч и, разумеется, нашел.
— Привечайте дона Антонио, мадам, оказывайте ему расположение, — убеждал он. — Его превосходительство — вот тот, кто нам нужен, мы потребуем от Испании восстановления его законных прав.
Дон Антонио. Да. Можно было догадаться, что два таких искателя приключений споются. У меня самой не было времени на дона Антонио — по правде говоря, я избегала встречаться с коротышкой-португальцем, который вечно терся возле двора, отказывалась его принимать. Филипп вторгся в его пределы, отнял страну и трон, все верно. Однако я была так же далека от мысли ввязываться в чужие войны и свары, как от полета на Луну. Верно, что Филипп ввел в завоеванной Португалии свою жуткую Инквизицию, чем вынудил бежать многих честных людей, евреев и христиан, в том числе и моего нынешнего лейб-медика доктора Лопеса. Однако мне вполне хватало борьбы с местными католиками. Не хватало только вести войну в тысяче миль от дома!
Нет, дону Антонио я не помощница. Юному Кемберленду, воспитаннику старого графа Бедфорда, а значит, человеку надежному, я сказала, что мне не нравятся пышные усы португальца. Они и впрямь были нелепы и ужасны, но я гораздо больше боялась возможных осложнений с Испанией. Не стану же я рисковать жизнями своих англичан, чтобы впутываться в чужие дела и тягаться с Филиппом в ею собственных пределах!
Однако для моего лорда дон Антонио был героем рыцарского романа, несправедливо обиженным, которого мы должны восстановить в законных правах.
С тем же жаром, с каким мой лорд ратовал за войну, Берли и Роберт, старый кузен Ноллис и лорд-адмирал Говард призывали к миру.
— Я докажу вам всю мерзость Испании, — клялся и божился мой лорд.
Сцены, разыгрывающиеся при нашем дворе, все больше напоминали сражения времен Армады. Жаль моих надежд сделать из него разумного советника — он не слушал ничьих мнений, кроме своего. Все чаще и чаще мой лорд вскакивал из-за стола — вещь прежде неслыханная — и, подобно Ахиллу, удалялся с поля боя в свою палатку.
И, как Ахилла при осаде Трои, его приходилось выманивать щедрыми подношениями…
…которые шли и шли от меня — и расставалась я, не только с деньгами…
После того как он особенно сильно вспылил, мне пришлось пустить кровь. Когда блестящая карминная струйка замутила воду в стеклянном тазу, я поняла, что исхожу кровью сердца ради него, ради возлюбленного-пеликана, который вытянет из меня любовь, жизнь до последней капли.
— Вашему Величеству дурно?
— Нет, доктор, нет — давите дальше!..
А она все продолжалась, наша любовная песнь, наша трагикомедия.
— Ваше Величество дозволит…
— Мадам, мне надо…
— Ваша милость не может отказать…
Он окреп, расцвел от моей любви, требования звучали все чаще.
— Желания лорда Эссекса написаны у него на лбу, — сухо заметил Роберт. — Всем видно, кому он благоволит.
— Я благоволю всякому, кто служит Ее Величеству как мужчина, а не как евнух! — сердито отвечал мой лорд. — Мужчинам, которые доказывают, что нам надо воевать с Испанией!
— Как милорду угодно.
Если кто-нибудь и подставлял ближнему левую щеку, так это мой Пигмей, как звала я про себя Роберта. Любезный, бодрый, даже веселый в бесконечных придворных передрягах, он, помимо своих обязанностей, исполнял теперь и немалую долю опювских. На требования моего лорда у него всегда находился благожелательный ответ. Однако это не меняло дела.
— Сэр Роберт и его отец терпеть меня не могут! — утверждал мой лорд. — Но они еще увидят, что я умею воевать не только в совете! Мне нужны свои люди в правительстве, люди, которым я могу доверять. Я должен получить пост генерал-адвоката для Фрэнсиса Бэкона и должность для его брата Энтони, моего ближайшего советника, у него целый штат лазутчиков, он знает подноготную всех наших врагов…
— Гром и молния! Нечего мне указывать и тыкать в лицо этим Бэконом. Ваш Фрэнсис мне ни к чему, и враги эти существуют только в вашем воображении! Королевство живет в мире, подданные меня любят, мне не грозит никакая опасность!
Агатовый блеск в его глазах потух, он посмотрел на меня без всякого выражения и сказал тихо:
— Мадам, скоро вы убедитесь в обратном.
В то лето мы далеко не уехали — не то что в прежние дни, когда я ни за что почитала добраться, скажем, до Нортгемптоншира. Теперь я держалась ближе к Лондону, но по-прежнему не давала поводов думать, будто не могу сидеть на лошади или весь день напролет трястись в дорожном паланкине. Впрочем, худые новости доберутся всюду и быстрее, чем следовало бы. Так что мы оказались в Теобалдсе, поместье Берли в Герфордшире, которое я всегда любила.
Берли знал, как мне угодить! Каждый камень в его доме укладывался с мыслью сделать мне приятное, каждое крыло пристраивалось из соображений моего удобства. Для меня каменщики соорудили в центральном дворе Зеленую галерею, где я могла расхаживать перед написанной во всю стену картой Англии, в Фонтанной галерее после всех английских королей и королев стоял мой мраморный бюст, а Большая галерея была столь просторна, что я могла идти по ней со всем двором, наехавшими погостить послами и их свитой. Мне нравились высокие арки, башенки, нравился и здешний теплый прием.
И этот приезд ничем не отличался от предыдущих — поначалу.
Свет-королева, мы тебя встречаем.
С радостным сердцем тебя привечаем…
Меня встречала толпа детей в зеленых туниках, с венками на голове — они пели прелестные песенки, играли на свирелях, прыгали вокруг коней и радостно сообщали, как их хозяин счастлив меня принимать. После обеда Берли удалился, сославшись на возраст и усталость, но когда Роберт повел меня по цветникам мимо журчащих фонтанов, мраморных статуй и липовых аллей, Берли выглянул из летнего домика, одетый отшельником, со свечой, книгой и колоколом, и сообщил, что удаляется от мира, а посему просит меня о милости — передать должность его сыну.
— Нет-нет, милорд! — Я от души хохотала над его проделкой. — Не могу отправить вас на покой, вы мне слишком нужны! И зачем мне вас отпускать, если сейчас у меня два Сесила по цене одного.
Берли горестно улыбнулся, но я видела, что он явно польщен. И, что радостно, он снова был на ногах, носили его только тогда, когда надо было переходить из здания в здание.
В тот вечер в Большом зале мне прислуживали по высшему королевскому разряду: сперва мои телохранители в геральдических плащах алого атласа, со златоткаными королевскими гербами на груди и на спине, внесли козлы и доски. Едва стол был установлен, вошла процессия с булавами; пройдя несколько шагов, служители троекратно кланялись. Затем другие слуги, тоже с поклонами, внесли камчатную скатерть и хрусталь, тарелки и вилки, королевскую солонку в форме корабля, такую большую, что в ней поместился бы ребенок. Потом мои фрейлины присели в реверансе, кавалеры склонились в поклоне, внесли кушанья, от каждого отрезали кусочек и сняли пробу, как положено по ритуалу. Наконец мне подали хлеб, вино, и все, что я пожелала из сотни предложенных блюд — рыбы, мяса, птицы, сластей, десертов и засахаренных фруктов на любой вкус.
Я была очень довольна, говорила тихо, как всегда в конце дня, после сытной трапезы. В углу мальчик перебирал струны лютни и нежным голосом напевал один из сотни сонетов, сочиненных в мою честь поэтами и просто поклонниками:
Прелестных уст ее увидев цвет,
Стыдом зардевшись, розы пламенеют,
И лилии от ревности бледнеют
К ее рукам, белее коих нет.
В глубоких чашах маков кровь густеет
Сердечных ран моих, ее победы след.
Мне было так хорошо, так покойно, не хватало одного — моего лорда. Он обещал к вечеру вернуться из Сити, куда отпросился на день под предлогом срочного дела.
— Здравствуйте, Ваше Величество!
Как всегда, он налетел свежим весенним ветром, разгоняющим любые тучи. Однако я давно научилась читать в этих глазах, как на небосклоне, и сейчас видела грозные предвестники бури.
— Воистину, милорд пропустил большую потеху! — вскричал мой bete noire[5], молодой Саутгемптон, одним махом оказываясь возле Эссекса. — Сегодня мы в честь королевы травили медведя. Видели бы вы его, когда он красным глазом зыркал на очередного мастифа, слышали бы, как он ревел, когда собаки рвали его в клочья…
Мой лорд прервал Саутгемптона коротким поклоном:
— Простите мою грубость, сэр, но моя обязанность не оставляет времени для вежливости.
Как и мой долг перед королевой.
Он опустился на одно колено, тепло сжал мою руку. Вот какими крохами довольствуются нищие — он держит мою руку в своей, подносит к губам, покрывает поцелуями сморщенную тыльную сторону ладони…
— Слушайте меня, все! Эй, стража! Ближе к королеве!
Нас всех охватило предчувствие чего-то ужасного. Волнение его передалось мне, когда он с жаром возгласил:
— Покуда вы тут веселились или спали, я охранял Ее Прекраснейшее Величество! Один я люблю ее настолько, чтобы бодрствовать и бдеть! И я раскрыл гнусный заговор в ближайшем ее окружении! Ее Величеству ежечасно грозит гибель! И я самолично отправил убийцу в Тауэр!
Глава 4
Отправлять в Тауэр — исключительное право монарха. Но пусть будет так.
Доверие ведет к предательству — пословица, старая как мир. Если волк повадился в стадо, смотри не только за овцами, но и за пастухом.
Нас urget lupus, hoc canis angit, сказал старый поэт Гораций — так и я попалась между волком и собакой.
— Не зря его назвали волком». Ваше Величество, — взволнованно продолжал мой лорд, — ибо, если мерзкая тварь коварно подкрадывается, чтоб укусить, под покровом доброты Вашего Величества…
Говард и Ноллис, Уорвик и Радклифф, Берли и Роберт, братья Пембруки, Саутгемптон и Кемберленд — все разинули рты, как деревенские актеры, забывшие свою реплику. Я не дышала.
Кто возьмет решение на себя, кто мне поможет?
— Мой лорд?
Он сжал мою простертую руку, прижал к губам, покрыл торопливыми поцелуями.
— Ваше Величество полностью доверяли ему, а он тем временем злоумышлял против вас…
Кому я доверяла? Я тоскливо оглядела моих верных лордов, кузенов, придворных. Господи, когда же воцарится мир, когда же воцарится покой?
— О ком вы, мой лорд?
— О волке, дражайшая миледи, и о том, кто натравил его на вас, — о короле Испанском!
И вот мы прощаемся с Теобалдсом, возчики и грузчики пыхтят и бранятся, мулы спотыкаются под кое-как собранной поклажей, тщательно составленные кровати разобраны на доски и перекладины, и каждую вилку и ложку, каждую брошку и пряжку, каждый сапог и башмак нужно упаковать и отправить в Лондон, где мы переждем неприятности. Пока мужчины во дворе переругиваются, а девицы в доме носятся туда-сюда, я созвала военный совет, чтобы обсудить известия. Мой лорд в своей стихии. Сверкая глазами, поминутно меняясь в лице, он смеется, вскакивает, садится, словно места себе не находит.
— Пока вы, сони, грелись на солнышке, — вопиет он, — я бдел и стерег ради Ее Величества и Англии. Мой Энтони, — он не удержался, важно поклонился мне, — старший Бэкон, коего Ваше Величество столь недооценивает, сплел мне такую паутину слежки, что и муха не пролетит. И мы таки поймали ядовитую тварь!
Я больше не могла терпеть.
— Кто? Что? Говорите!
— Ваш секретарь знает, — мой лорд кивнул на Роберта, бледного, сидящего в спокойной позе, но, как и все, взволнованного, — что было решено следить за домом дона Антонио и его приближенными португальцами, дабы испанцы не похитили его или не убили здесь, в Лондоне, как Вильгельма Молчаливого в Голландии и как многократно пытались убить вас руками северных графов, итальянца Ридольфи, предателей Трокмортона и Бабингтона.
— Господи, что вы меня мучите? Чего ради ворошите прошлое? (Напоминаете про эти страхи, эти муки, эти бессонные ночи, вы же сами помогли мне их пережить, о мой лорд, мой лорд, что происходит, что вы, со мной творите?) К делу!
Его лицо вспыхнуло.
— Что ж, тогда к делу, мадам! — сердито сказал он. — Двух слуг дона Антонио заподозрили, что они подкуплены испанцами и состоят в заговоре против хозяина, их взяли — сэр Роберт знает! (Роберт снова безмолвно кивнул.) и подвергли подвешению, они полностью и добровольно сознались.
Подвешению? Помилуй, Боже. Пытка неописуемая, подвешивают за связанные сзади руки, а затем — Иисусе, выговорить трудно! — когда после многочасовых мук сознание милостиво покидает страдальца, его спускают, приводят в чувство, и все начинается снова.
Я вышла из себя:
— И что они сказали, милорд?
Он ликовал, как школьник, подставивший под розги главного врага.
— Они сознались, что покушались не на дона Антонио, а их мишенью были вы, мадам, и что агенты короля Филиппа подкупили вашего врача, этого еврея Лопеса, чтобы вас отравить.
Лопес — lupus[6].
Волк.
Вот на что он намекал.
Но мой Лопес, который лечил Робина, поддерживал жизнь Уолсингема, когда природа от того отступила, заботливо смягчал последние муки бедного Хаттона, когда тот гнил заживо… Лопес?
Если я хоть что-то понимаю в людях, он не предатель, не отравитель!
Слезы хлынули неудержимо.
— Этим негодным слугам вывернули руки?
Да под такой пыткой вам скажут что угодно, обвинят кого угодно! Безрассудный юнец, у вас нет ничего против доктора! Вы ничего не докажете! Я знаю, он невиновен!
Надо было догадаться, что противодействие только раззадорит моего лорда. Я пыталась обуздать его, назначила Роберта и Берли допросить Лопеса вместе с ним.
— Ваше Величество, он невиновен, никакого заговора нет, — уверял меня Берли после долгих часов допроса.
— Мадам, вас обманывают! — настаивал мой лорд и вознамерился это доказать.
Итак, пробудился старый испанский страх, и теперь страхи и заговоры плодились быстрее скорпионов. Пока жив был Уолсингем, нити его паутины были так прочны, что, если ловилась муха, если билась оса, если кому-то отрывали лапки и крылышки, даже если рабочая пчела, вылетев из улья, исчезала невесть куда, я этого не слышала, не замечала. Теперь выползло наружу что-то склизкое, мерзкое, непонятное, мутило липкий ил, испускало зловонные вредоносные пары. В начале лета довольно странно погиб один сочинитель пьес.
— Марло, с дозволения Вашего Величества, — в Детфордской таверне, во время ссоры из-за счета, — доложил лорд Бакхерст, мой новый тайный советник, боевой, но сдержанный. — И драка, и поножовщина — пустяки, но как бы не было за этим чего. (Боже, опять заговор?) Убитый молодой человек уже был взят на заметку, лорд Берли распорядился допросить его в Звездной палате.
— И?..
Бакхерст брезгливо сморщил длинный нос:
— Мужеложец он был, мадам, да еще этим бравировал, хвастался, мол, мальчиков с ним лучше не оставлять. Вообще скользкий тип — вроде бы он Марло, а назывался то Марли, то Морли, Марлин, Мерлин — одно слово, мерзкий…
— Хватит каламбурить, сэр! Ближе к сути!
Он склонил голову. По его знаку мне подали пергамент. Я пробежала глазами строки:
Кристоферу Марло, сочинителю пьес, перед Звездной палатой Ее Величества надлежит ответить за вменяемые ему речения, а именно:
Во-первых, что религию выдумали, дабы держать людей в страхе.
Во-вторых, что Христос был ублюдок, а его мать — шлюха.
В-третьих, что Иисус держал в любовниках Иоанна Крестителя.
В-четвертых, что все, кто не любит табак и мальчиков, глупцы».
Я глазам не верила — что за богохульство!
И неприкрытая содомия вдобавок, если я что-нибудь в этом понимаю, так и слышится скулеж пухлозадого Ганимеда.
В то лето в Лондоне скулили и другие. Еще одного грамотея, сочинителя для сцены, взяли по делу Марло и допросили. Кид, как его, Фрэнсис? Нет, Томас. С ним наш главный палач Топклифф чуток перестарался, а тот возьми да умри под пыткой. Бедняга только в том и провинился, что снимал комнату пополам с коллегой. Но и пытками не вырвали у него темных тайн жизни и смерти Марло. Он клялся, что тот был благонамеренный горожанин и никакого злого умысла против меня не существует.
— Ваше Величество, Кида загубили беззаконно! — протестовал лорд Оксфорд. — Он писал новую пьесу, которая затмила бы даже его шедевр, Испанскую трагедию». Ваше Величество видели ее на Масленицу…
— Где призрак орет: Справедливость, месть!», а кто-то притворяется безумным и представляет пьесу, чтобы убийца признал свою вину?
— Она самая, мадам. Замысел просто отличный.
Замысел действительно хорош, можно перекроить и со временем подать снова, ибо с похорон Кида поминный пирог сгодился на пир другого писаки. Видели здесь, при дворе, пару месяцев назад пьесу «Гамлет, принц Датский»? Не подумали, что Шекспир, мастер урвать там и сям, уволок у покойного собрата целую историю, здесь убрал, там вставил и сляпал вещицу, которую пристало бы назвать датской трагедией»?
— Что слышно о докторе Лопесе?
— Пока ничего, Ваше Величество. Но милорд убежден, что со временем он сознается.
— Я не велела пытать его — никоим образом, это известно?
— Мадам, известно — и исполнено.
Нет сил продолжать, а надо продолжать.
И смерть продолжается, и жизнь продолжается.
И вот бедный Лопес дрожал до смертного пота в стенах Тауэра, а над нами сгущались иные тучи. Солнечные дни в Теобалдсе, в парке старого Берли, застыли в воспоминаниях третной картинкой, похищенной у вечности, вставленной во время, в рамку серого неба и беспросветных дождей. Когда в сентябре наступил мой день рождения, я запретила все празднества, не до веселья нам было.
И уж конечно, не потому, что перевалило на седьмой десяток, и думать не смейте! Что значит шестьдесят лет для такой женщины, как я!
Но как веселиться, если в нашей многострадальной стране вновь неурожай? Пшеница заросла сорняками и полегла, ячмень почернел и заплесневел, вороны жирели на падали — свирепствовал ящур, деревенский люд исхудал.
Каждое воскресенье в каждой церкви слышалось одно и тоже: Domine ut quis, ut quis, Domine? Почто, Господи, почто отступил от нас, почто воспылал гневом на овцы Твоя?
Роберт неусыпно собирал сведения.
— В Лондоне зерно подорожало с семи до десяти шиллингов за бушель, Ваше Величество…
— Десять шиллингов?! Что с нами будет?
— Пятнадцать в Бристоу, восемнадцать в Шрусбери…
— Господи помилуй!
Бедняки начали умирать в начале осени. Но каждый сгинувший младенец, каждый до срока угасший старик радовал жестокосердных. Поистине никогда не были счастливее недовольные, возмутители спокойствия, смутьяны, что питаются бедствиями и недовольством. Теперь-то они обнадежились, теперь-то искали случая взбрыкнуть и сбросить нас, и я с растущим страхом чувствовала, как бразды правления ускользают из моих рук.
Ибо моль в наше государство летела не только из Рима, вскармливалась не только Римом, приносилась не только жаркими дуновениями Рима. Нет, были и свои, доморощенные скребуны и грызуны, жадные и невежественные, уверенные в себе почище иного папского прелата и самого антихриста.
А начали мои парламентарии, эта горстка самодовольных властолюбцев, назойливых болтунов! Ныне как раз была сессия, и мой лорд-хранитель печати, верный сэр Джон Пакеринг, имел с ними уйму хлопот. Во главе кучки моих лордов он пришел из палаты общин ко мне в Уайтхолл. Я кисла от скуки в своих покоях, лень было даже побренчать на вирджиналах, подсесть к играющим в карты дамам. Мой лорд занимался делом Лопеса, и мне было не до забав. Но от доклада Пакеринга у меня запылало нутро.
— Он требует что? — Я не поверила своим ушам.
— Свободы слова, мадам, согласно древним вольностям, дарованным парламенту…
— Вы сказали, Уэнтворт? Депутат от Барнстепла? Который надоедал мне своими памфлетами?
— Теперь он от Лизарда, мадам, да, Питер Уэнтворт, вольнодумец и памфлетист. У него есть сторонники.
— От Лизарда? Пятка Англии — да что там пятка, большой палец! — будет учить голову?
Какой-то дурак наставляет меня, что мне делать! Свобода слова ему, видите ли, понадобилась! Вот что происходит, когда подданные сомневаются в исключительном праве королей, поучают королеву, когда простолюдинам вбивают в голову, что и они могут править! Да если столь богохульная измена укоренится, кому будет нужна монархия? Король?
— Но в его словах нет измены. Ваше Величество, — твердил Пакеринг. — Древнее право…
— Под властью короны! Только под моей властью!
— Но подобные права…
Я топнула ногой, словно вгоняла в землю всех вольнодумцев разом.
— Я его удавлю! Передайте мастеру Уэнтворту мое почтение и пошлите его в распоряжение Тауэра — пусть наслаждается там свободой! Любой из его сторонников может отправиться с ним, если пожелает! И ни слова больше о них!
Наступила оглушительная тишина. Наконец поднял голову кузен:
— Ваши парламентарии нередко досаждают Вашему Величеству… — Смуглое лицо Ноллиса сияло пуританским огнем. (Я так и знала, что он бросится защищать эту инакомыслящую букашку, ничтожного Уэнтворта!)
— Но все же, мадам…
— Досаждают? Дело не в подлом Уэнтворте.
Сколько я царствую, они вечно подкапываются под меня! То право наследования, то замужество, потом королева Шотландская, притом постоянные вмешательства в денежные дела, в церковные…
— Но, мадам, они безотказно голосовали за все субсидии, потребные вашей милости…
— Потребные мне? Потребные им! Воевать за них, хранить мир для них, для их женушек, для их деток!
— Вам не следует сомневаться в их преданности! Или наказывать за честные речи о злоупотреблениях в церкви и государстве! — Он впился в меня взглядом и погрозил тощим пальцем. С ужасом я увидела на его лице печать двадцати с лишним лет, на которые он старше меня. Он казался старше самого времени. — Предостерегаю вашу милость, если вы вместо изменников-папистов начнете карать добрых людей…
— Пуритане и проповедники — не добрые люди! Это мятежные вредители, алчные, невежественные! Кузен, вы знаете, изуверы одинаково опасны для государства, что те, что другие! — Я страстно сжала руки, прошлась взад-вперед. — Помните сестру Марию — все для Рима? И вот приходит брат Эдуард, мир переворачивается вверх дном ради иной догмы? Нет, долой фанатизм! Во всем золотая середина! Давайте прикроем деликатно окна души, чтобы никто не подглядывал.
Снова молчание, но уже одобрительное. Верный Пакеринг вздохнул:
— А что с Уэнтвортом, мадам? Я бы предложил…
Боже, как я от них устала!
— С Уэнтвортом? Не трудитесь просить за него. Будет гнить в Тауэре, пока не раскается всей душой, на коленях.
Конечно, он не смирился, твердолобый самоуверенный фарисей, как все пуритане! Я разрешила ему любые удобства, вплоть до мистрис Уэнтворт — малышка вслед за мужем вселилась в Тауэр, и жили они там — за мой счет! — как у Христа за пазухой. Но я не смягчилась и его не выпустила. Его судьба во многом пошла на пользу парламентариям, вдруг обнаружившим, что не так-то им нужна свобода слова, и больше они ко мне не приставали.
Но в любое время найдется иная порода — чем больше их топчешь, тем упрямее лезут они вверх. Следом шла рыбка позубастей — некто Марпрелат, Мартин Марпрелат.
Что скрывать? Встреться мы сейчас, я бы со смехом хлопнула его по плечу, пожала руку и сказала: Сэр, я, бывало, славно охотилась, травила зайца и кабана, гоняла и стреляла в лесу могучих оленей — но вы таки заставили нас побегать!»
А тогда мне было вовсе не до смеха. По правде говоря, я взбесилась, ибо в ушах моих no-прежнему отдавались грозные слова кузена, сказанные о Марии Шотландской: Срази, или будь сражен!»
— Ваше Величество, вы звали?
— Нет, нет, спи, девочка, я разбужу, если нужно.
Милая девушка, новая фрейлина, внучка Берли Елизавета, в мою честь, конечно, и — о Боже! — снова кровь Сесила у меня на службе, дочь его любимой дочери Анны, сестры Роберта, так неудачно выданной за лорда Оксфорда, давно покойной. Я взяла девушку к себе, чтобы утешить после смерти матери, вместе с другой малюткой Бесс, Елизаветой Верной, — сколько этих Бесси нынче развелось, видимо-невидимо! — но она осталась печальной и озабоченной. Замуж бы ей. За кого-нибудь из сыновей Пембрука? Нет, за молодого Саутгемптона — пустой малый, болтается с моим лордом, женитьба его выправит! Надо этим заняться, отбить моего лорда у собутыльников вроде Саутгемптона, отучить его выслеживать заговорщиков, ловчить с братьями Бэконами, чтобы мне осталось больше его времени и внимания… больше любви, больше радости…
Но прежде всего надо поймать этого пуританского разбойника, Мартина Марпрелата, он уже стоит нам поперек горла. Незримая рука пишет непристойности о церкви, обвиняет епископов, оскорбляет в сатирах даже меня. Народ голодает, беспокоится, шепчется, случились даже вспышки недовольства законным правительством, и если не схватить его, начнется мятеж.
Однако как его схватить? Никто не знал, кто он, откуда берутся трактаты, как попадают на каждый угол, в каждую таверну, в каждый карман. Все, что я могла, — напустить на него лучшие умы королевства и ждать, что будет.
Запертая в покоях дождем, я рассеянно играла в шахматы с моим дорогим лордом, когда Берли и Роберт вошли с докладом. Вездесущий Саутгемптон болтал в уголке с Верной, новой фрейлиной, но и он умолк при их появлении.
С болью в сердце я увидела, что Берли снова в кресле-носилках. Впрочем, повадка его была по-прежнему суровой.
— Трактаты выходят из печатни в Лондоне, мадам, это мы узнали, — говорил Берли, — поскольку нашли их в Чипсайде и Хай-холборне с непросохшей краской. Мы взяли печатника — на исходе прошлой ночи он с другими работниками пытался перепрятать станок.
— Чудно! — воскликнула я. — Теперь недолго и до автора добраться, до этого самого Мартина Марпрелата, и уж тогда…
Я мстительно умолкла, оставив незаконченной зловещую угрозу.
Мой лорд вскочил и прошелся по комнате.
— И что тогда. Ваше Величество? — спросил он с деланным смехом.
Я взглянула на него. О, как хорошо, как любовь все дробит в осколки, всякую сосредоточенность, — но хватит!
— Его — в Тауэр, если не на галеры! Мы измараем его перо и его писульки, раз он грозится замарать наших священников и прелатов, самих князей нашей церкви. Такая же участь ждет всех тех, кто связался с этим подстрекателем, кто читал эти трактаты, хранил или передавал другим.
Он опять засмеялся, но каким-то диким смехом:
— А со мной, миледи, что будет со мной?
Сунул руку в карман штанов — я уже знала, что он оттуда вынет. Я не могла прочесть мелких черных строк на листке, который он мне протянул, но знала, что там написано:
«Послание Мартина Марпрелата в укор и ниспровержение всех рогатых господ, именуемых епископами, всех надменных прелатов, мелких антихристов, врагов Слова Божия, и свинского сброда ничтожных завистников, называющих себя викариями церкви…»
И он говорил о внутренних врагах?
— Дурак, дурак! — заорала я. (Отхлестать бы его по щекам!) — Неужто вам не дорога собственная безопасность, собственная жизнь?
Можно ли так ничего не видеть, ни о чем не думать, не видеть даже, что мы живем в карточном домике, что мы, власть, по воле Божьей устоим или падем вместе? Уберите епископов, уберите веру в истинную власть, исходящую от Бога! Уберите эту власть — и прощайте лорды, прощайте короли!
Я разрыдалась и вцепилась в молча стоящего рядом Роберта:
— Найдите Марпрелата! Если он и дальше будет марать прелатов, он вымарает все: и священников, и королей!
Его так и не поймали. Печатник под пыткой губ не разжал. Вот ведь упрямые безумцы эти пуритане! Но выборочные налеты на дома пуритан, преследование тех, кто звал себя «праведными», открыли нам их убежища, и мы наконец вырвали змеиное жало. После семи бурных выступлений, семи отдельных книжиц, каждая новая злоехиднее предыдущих, Марпрелата втоптали в землю, больше он ничего не писал. Но я приказала не ослаблять слежку. Головы и глаза гидры по-прежнему грозили мне и моему королевству. Они появлялись, появлялись отовсюду.
Ибо мельница измен в Дуэ вертелась непрерывно, и венец мученика оставался высшей наградой, какую Рим мог предложить юному семинаристу. Временами их пытались щадить — Рели велел не вешать одного священника в западных графствах, потому что этот малый жарко молился обо мне. Велел не вешать и вдруг понял, что негодник в свою последнюю земную минуту молил Бога вернуть королеву Англии в лоно католической церкви!
Тут я сам вышиб из-под него лестницу, Ваше Величество! — мрачно сообщал он в письме. — Но, жалея его больше, чем гнусные паписты пожалели бы нас, я позволил ему висеть, пока не умрет, так что он не видел и не чувствовал, что проделывали с его потрохами и срамными частями, а другим пришлось».
Что ж, все какая-то жалость, которую большинство упрямо отвергало. Особенно один — упрямец — не то слово. Но душа его была полна красоты…
Морозной ночью я дрожал среди сугробов снега.
Внезапный жар меня объял, в груди тепло и нега.
Взор поднял в страхе, посмотреть, что тут пылает рядом:
Младенец дивный, весь в огне, моим явился взглядам.
Он лил потоки слез, но огнь, которым он палим,
В потоке слез не угасал, а разжигался им.
Увы, — сказал, — едва рожден, пылаю я в огне,
Но хладные сердца возжечь кому же, как не мне?
Как я пылаю ради вас в огне своей любви,
Купелью стану, чтобы всех омыть в моей крови».
С тем он исчез из глаз моих, растаяли слова.
Я вспомнил, что сегодня день Христова Рождества.
Кто бы подумал, что иезуит может носить в себе такое? Конечно, он не был обычным папистом, попом-исповедником, этот Роберт Саутвелл. Он назвал свои стихи Горящее Дитя» и, томясь в Тауэре, рвался в огонь. Само собой, его не сожгли — он был не еретик, но предатель.
Мужественный. Хуже, чем Кэмпиона, пытали его, целых тринадцать раз. И душа его цвела в этом кровавом саду, изумляя видевших. Подобно Кэмпиону, он шел на смерть, как на свадьбу, светясь от радости.
Но не считайте их мучениками. Он умер законно! В моей земле всегда будет только одна религия. А всем другим никакой пощады!
Лордам моим, народу, всего больше лондонцам, после ареста Саутвелла не по нраву было щадить папистов, а уж тем паче евреев. Месяцами, не допуская допросчиков, длили жизнь Лопеса — день за днем, пядь за пядью. Как-то в апреле выглянуло солнце, мне захотелось на реку. Грозил дождь, но я все же послала за моим лордом. Мы бы дышали воздухом в королевской барке, под королевскую музыку, а вся свита, следуя в другой барке, распевала бы мадригалы в честь весны…
— Мадам, милорд идет сюда.
— Где? О, вижу!
Один взгляд на величавую фигуру в белом и золотом, которая идет ко мне вдоль пристани, высясь над спутниками, жеманным Саутгемптоном и славным Блантом, — и сердце мое заплясало. Но ненадолго.
Он небрежно поклонился — кажется мне или он действительно стал менее почтителен? — но глаза его пылали.
— Я доказал, я говорил, что докажу! Я разоблачил самый отчаянный и опасный заговор, дражайшая миледи!
Голос его разносился над водой — он что, радуется?
— Я говорил, цель заговора — отравить Ваше Величество, орудие — Лопес, и вот он наконец сознался!
У меня остановилось сердце.
— бы его пытали.
Он привычно вспыхнул от гнева:
— Да нет же, мадам, — вы запретили!
— Как же тогда?
Он беззаботно рассмеялся:
— Я распорядился показать ему орудия пытки.
Показать орудия пытки. Parce, parce, Domine, помилуй мя, Боже. Человеку впечатлительному, мнительному, напуганному после этого палач в кожаном, переднике уже не нужен.
Мой лорд красовался передо мной, как летний лебедь.
— И я оказался прав — он во всем сознался!
Тучи сгустились над моим бедным волком».
После признания из собственных уст я уже его спасти не могла. Три месяца я медлила с подписанием приговора, но толпа требовала его крови. И мой лорд вцепился в него, как пес в крысу. Я сделала, что могла, — приказала оставить его висеть, пока не умрет. Иное дело — Саутвелл; должна же толпа получить и пинту крови, и кишки, и все прочее.
Я отказалась конфисковать собственность Лопеса, все оставила вдове. Но долго еще мои сны посещала его темная тень.
И сейчас посещает.
Он говорит со мной словами пьесы[7], которые сочинили против него и поставили на сцене, они звенят у меня в ушах. Он стоит и произносит, как тот, другой еврей, что требовал у купца фунт мяса из груди, после того как венецианские христиане его до этого довели:
Ваш лорд охлаждал моих друзей, раззадоривал моих врагов; а какая у него для этого была причина? Только та, что я еврей. Да разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, органов, чувств, привязанностей, страстей, как у других? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не холодят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? А если нас отравить — разве мы не умираем?» — спрашивает он меня, а я не могу ответить.
Мой лорд звал Лопеса волком» и радовался его погибели. Но я смотрю на эти крепкие белые зубы, эту довольную ухмылку и боязливо вспоминаю строки Теренция, читанные когда-то с Грин-Валом.
Auribus teneo lupum, nam neque quo amitam a me invenio, neque ut retinam scio. Я обнаружил, что держу волка за уши, и не знаю, как быть: избавиться от него или отпустить.
Глава 5
Ax, порой веселой мая,
Когда мальчики играют…
Он одолел еврея, короля Испанского, португальских предателей-слуг и Сесилов в придачу — теперь мой лорд был на коне. И хотя мой дикий жеребец разрывал мне сердце каждым своим новым коленцем, Бог свидетель, это было ему к лицу. В счастье он был щедр, ласков. добр — тем летом он одаривал меня, как пастух одаривает возлюбленную, — и у меня теплело на сердце. Как мне нравились причуды его внимания!
— Вашей милости следует носить белое, оно вам идет, — походя распоряжался он и заказывал мне сверкающее платье иерусалимской парчи, белое, как перламутр устрицы.
— У меня для вас новая кобыла, серая в яблоках, глаза у нее почти такие же красивые, как у Вашего Величества, и сердце под стать вашему — львиное. Она весело промчит вас много миль — когда желаете покататься?
Знал ли он, что так говорил Робин?
Но лучшим подарком был поздний летний вечер, когда придворные дремали по углам, стража прикорнула на полу в присутствии, во всем мире не спали лишь мы двое, как в первую весеннюю пору нашей любви. Он лежал рядом со мной, откинувшись на огромную красную бархатную подушку, яркий в шафраново-алом шелке, привольно вытянув свои бесподобные ноги. Я глядела на него и вздыхала про себя, как много раз прежде.
О, мой сладостный лорд…
Ты пахнешь лавандой и гранатовым цветом…
Что, если соскользнуть сейчас с кресла и лечь рядом, с тобой на подушку?
Гладить твое лицо, перебирать каштановые кудри, пока они не вспыхнут охрой и пламенем… трогать подбородок, щеку, вести пальцем по шее, по мягкому кругляшку на загривке…
Притянуть тебя к себе, поцеловать, как хочется впиться в крупный мужской рот, ощутить острый подвижный язык. Потом — твою твердую руку на своей груди, пальцы, нащупывающие застежки корсета, снимающие юбку, оставляющие меня в одной сорочке.
Справиться с сорока гербовыми пуговицами на твоем камзоле, помочь твоим дрожащим рукам стянуть панталоны и чулки. А потом ты одним сильным движением сдернешь мне через голову сорочку, со смехом воскликнешь: Ну, мадам, ну! Зачем вам больше покровов, чем мужчине?»
Почувствовать твою руку, твою печать на моей груди, твое прикосновение к моему телу, твой восторг, твое умение, твое длинное сильное тело, твою плоть, твое мужское естество, твою любовь во мне — тебя, тебя всего…
О, как сладко!
Я была уже не в тех летах, чтобы краснеть от подобных мыслей. Я только закрыла глаза, чтобы скрыть их от него, и лежала то ли во сне, то ли в раю, когда он коснулся моей руки.
— Взгляните, Ваше Величество!
Он надевал мне на безымянный палец перстень. Из тяжелой золотой оправы подмигивала камея: тонкий белый профиль на черном фоне, высокий воротник, блестящие каштановые волосы. Это лицо я знала, как свое, — нет, лучше, потому что гляделась в него чаще, чем в зеркало. Это был мой лорд.
— О-о…
Я ничего не могла сказать, только сняла кольцо с пальца и поднесла к глазам, чтобы насладиться мастерством. Изнутри камень был инкрустирован крошечными незабудками на белом фоне, они были голубые и такие же живые, как те, что цвели вместе с белыми маргаритками и желтыми калужницами на заливном лугу.
Глаза его во мраке были иссиня-черные, когда он прошептал:
— Мадам, не забудьте меня!
Забыть? Я пообещала ему носить это кольцо всегда — и на руке, что водит этим, пером, царапает этот пергамент, несмотря ни на что, сверкает все та же камея.
Я в свой черед заказала ему кольцо, надела на палец как-то ночью в присутствии, когда мы жарко танцевали, разгоряченные любовью или чувствами, называйте как хотите, — словом, тем, что между нами росло.
— Если я когда-нибудь вам понадоблюсь» мой дорогой лорд, — прошептала я, — пошлите мне это кольцо и требуйте чего угодно.
Он поднес палец к губам и поцеловал кольцо — простое, золотое с черной эмалью, мужское, — однако внутри был начертан невидимый снаружи девиз, краткая любовная мольба, выраженная все теми же его словами: Не забудьте меня…»
В то лето Рели покинул нас, томимый жаждой приключений. Он уплыл в заморские владения, увлекаемый помимо своей любви к новому, неизведанному в еще большей степени страстью к деньгам, ибо, подобно мне, страдал от почти рокового истощения кошелька. Деньги!
Мы, словно ростовщики, оплакивали свою пустую мошну и потирали руки в предвкушении золота, которое он должен был привезти.
— Оно где-то там, Ваше Величество, я знаю, это не просто моряцкая мечта, — серьезно убеждал он, глядя за окно тем же отсутствующим взглядом, что я видела когда-то у Дрейка. — Эльдорадо! Золотая земля!
Однако вернулся он всего лишь с несколькими кусками руды и яркими камешками, которые лондонские ювелиры отвергли как ничего не стоящий марказит, и ни у него, ни у меня в кошельке не прибавилось.
Однако, наслаждаясь богатствами любви, я расстраивалась из-за бедности казны меньше, чем следовало бы, и гораздо меньше, чем расстраивалась бы, случись это прежде. В то Рождество у нас были невиданные пиры и празднества. Началось со свадьбы моей маленькой фрейлины Елизаветы, внучки Берли.
Перед церковью она пришла ко мне в свадебном платье за благословением. Образцовая невеста — белая, как лилия, в венке из красных и белых гвоздик, платье скромное, почти монашеское.
— Ну, Бесс, — поддразнила я, — разве королева не обещала тебе подыскать хорошего мужа? А вы, старый друг, — обратилась я к Берли, которого внесли вслед за невестой, — извольте-ка встать с носилок и плясать на свадьбе!
Водянистые старческие глаза блеснули радостью.
— Мадам, только прикажите, и затанцуют даже калеки! Мысленно я буду плясать от радости за вашу доброту к моей внучке.
Однако я шутила, чтобы скрыть собственное замешательство — первый мой план устроить ее будущее закончился обидным отказом. Поначалу я прочила ее за этого гадкого Саутгемптона, одного из товарищей моего лорда, но тот, к моей досаде, наотрез отказался жениться не только на малютке Бесс, но и вообще на комлибо. Мадам, я следую вашему примеру, — усмехнулся он (Что в этом человеке не так?), — и предпочитаю благословенное одиночество. блаженствам семейной жизни!»
— Вот как, сэр?! — в ярости прошипела я, глядя на длинные шелковистые локоны, которые водопадом золотых завитков сбегали с левого плеча, осторожные, скрытные глаза, тонкие чувственные губы. Неужто и этот — совратитель юношества? Одно точно — он путается с актерами; кузен Хансдон, мой лорд-камергер, сказал, что сочинитель из его труппы, некто Шекспир, написал для графа поэму, где воспевает любовь Венеры к прекрасному юноше Адонису. Следует ли он по пути содомлян или просто Онана?
Как бы там ни было, хоть лопни, жениться его не заставишь!
Однако мы с Берли в конце концов подыскали девушке приличную партию и отлично повеселились, приглашали комедиантов или плясали каждый Божий вечер. Кузен Гарри насилу меня дождался, его толстое лицо так и сияло.
— Вот программа празднества на ваше одобрение, мадам.
Нелегко быть лордом-камергером: кузен Хансдон с ног сбился, все устраивая, за всем приглядывая, однако, по правде сказать, он, несмотря на возраст, делал это с охотой. Мало того, я слышала, что кузен содержит черноволосую шлюшку, которую зовет смуглой леди», дочь музыканта Эмилию Ланье. Однако я не лезу мужчинам в панталоны! Покуда у Хансдона наготове музыка и танцы для нас, пусть хороводится хоть с приходской кошкой, мне до этого дела нет!
А танцев, музыки и спектаклей на эти Святки было хоть отбавляй. Едва в покои внесли пахучие охапки темно-зеленого плюща и колючего, усыпанного алыми ягодами остролиста, а лошади, скользя копытами на льду, притащили из лесу новогоднюю елку, повара внесли быка и дикого кабана, павлина и поросенка, лебедя и барашка, пироги, пудинги и парфе, как актеры и музыканты забегали взад-вперед, словно они тут самые главные.
— С вашего разрешения, сэр!..
— О, добрый сэр, простите меня!
Разумеется, они соперничали, все эти расплодившиеся труппы: мои люди — с людьми лорда-адмирала, актеры графа Пембрука — с актерами Оксфорда и комедиантами Вустера и все вместе — с труппой лорда-камергера, которая слыла лучшей. Еще бы ей не быть, за такие-то деньги!
— Вы не шутите, этот сын плотника Берберри действительно выйдет на сцену в плаще за шестнадцать фунтов? — опешила я.
— Бербедж, мадам, его зовут Ричард Бербедж, а его отец был не просто плотник, он построил театр, мало того, он владел первым театром в Лондоне…
— Театр, футы-нуты! Почему не играть в гостиных и во дворах, как раньше?
— Мадам, видели бы вы новые театры вроде Глобуса» в Саутуорке, с большими сценами, балконами, артистическими уборными…
— Черт, Гарри, вы вскружите этим людям головы! В конце концов, они всего лишь слуги, они носят наши ливреи. Этот ваш Берби…
— Бербедж, ваша милость.
— ..пусть расстарается, когда будет играть передо мною в плаще за шестнадцать фунтов — не то отниму плащ и отдам кому-нибудь из разорившихся придворных!
Я шутила, но за шуткой порой скрывается серьезная боль. Я была уверена, что мой лорд не на дело тратит свои деньги — мои деньги! У него и гроша не было своего, только то, что давала я.
Подумать только — завел свою сеть лазутчиков, копает под Сесилов, вербует себе сторонников!
Мало-помалу я начала отбирать у него ренты и откупа. Когда Англия голодает, пусть и мой лорд кроит себе кафтан из того что есть!
Однако в то Рождество я не позволила своему скопидомству испортить нам развлечения.
— Мадам, пьеса замечательная, — убеждал Хансдон, обеспокоенный моим разговором про плотников и плащи, — вот увидите!
И мы увидели — я, и все мои фрейлины, и мой лорд, и его приятели, Блант, Саутгемптон и прочие прихлебатели, и Берли, Роберт, Рели и Кемберленд, граф Оксфорд, юные Пембруки и все остальные — в Большом зале. Пламя очага и принесенные актерами большие подсвечники бросали на вышедшую поклониться труппу причудливые колеблющиеся тени. Загремели барабаны, зазвучала труба, мальчонка, которому явно не исполнилось и десяти, вышел вперед и пропищал:
Послушайте, любезные, сейчас
Мы вам представим скромный свой рассказ.
— Видите актера, одетого стариком в черной шапочке и мантии, который будет играть педанта? — зашептал мне на ухо Хансдон. — Это Шекспир, мой человек, который сочинил пьесу, — до чего живой ум! Говорят, он не вымарывает ни единой строки.
— А коллеги по сочинительству ругают его остроумие и желают, чтоб он вымарал тысячу! — рассмеялся Саутгемптон.
Мой лорд фыркнул и обнял его за плечи:
— Говорят, милорд, он кропает стишки о вас — из дружеских чувств, разумеется, — и называет вас другом» в своих слащавых сонетах, которые, говорят, ходят меж его друзей.
— Фи, дружище, фи! — Саутгемптон гневно схватился за шпагу. — Вы намекаете, что мы с ним…
— Милорды, милорды! — яростно зашипел Хансдон. — Тише, представление начинается!
Первой я заказала комедию, и вещица мне понравилась — любовная история про французскую принцессу и короля Наварры под названием Бесплодные усилия любви», затейливая и остроумная. Я одобрительно кивала, когда представление закончилось так: Слова Меркурия режут ухо после песен Аполлона» — правильно сказано и к тому же изящно. Я окликнула Оксфорда, внимательно наблюдавшего за спектаклем со сцены.
— В духе вашего Лили, не правда ли, только менее цветисто?
Тонкое лицо Оксфорда неприятно скривилось.
— Магистр Лили, мадам, — произнес он с нажимом, — человек образованный, закончил университет, его собираются включить в совет колледжа Магдалины. Его труды будут жить, когда эту деревенщину, этот уорвикширский сорняк давно позабудут! Помяните мои слова, Ваше Величество, хорошее воспитание возьмет верх. — Он замолк, кашлянул. — Я и сам пописываю пьесы, возможно, вам угодно будет прочесть — их ставят мои актеры…
Читать его пьесы? Упаси Бог.
— Ладно, сэр. — Я решила отделаться шуткой. — Если вы наймете этого потрясателя сцены»[8] и выпустите его сочинения под своим именем, вы и впрямь прославитесь! А теперь ш-ш-ш, начинается следующее представление!
Следующим, как предупредил меня Хансдон, должны были давать историю короля Генри Болингброка, называемого Генрихом IV.
— Что? — нахмурилась я. (Это тот негодяй, что сверг Ричарда Второго, — опять измены и заговоры под видом развлечения?) Хансдон, видя мой гнев, встревожился и поспешил успокоить:
— Там нет ничего о низложении законного короля, Ваше Величество, ничего оскорбительного, ровным счетом ничего!
Я не поверила:
— Но этот же ваш Шекспир описал падение Ричарда Второго, то, как его свергли и убили!
— Оно было поставлено для простонародья, мадам, и успеха не имело. Эта пьеса вам понравится, клянусь честью!
Она мне и впрямь понравилась. Хансдон не сказал про лучшее, что в ней было, — толстого рыцаря в войне двух Генрихов, сэра Джона Фальстафа, ну и острый же на язычок негодяй.
Что ни слово, то истина! Одно из украшений храбрости — скромность»[9], — сказал старый трус, и я хохотала от души. Люблю таких!
Последняя пьеса меня утомила, я устала смотреть, хотела говорить, танцевать и веселиться, хотела быть с моим лордом. Но nobless oblige[10] — я одобрительно кивала, хотя не запомнила ни слова.
— Актеры здесь, поблизости, — гордо объявил Хансдон, когда представление окончилось. — Вашему Величеству угодно их видеть?
Угодно ли мне их видеть, вместо того чтобы веселиться с моим лордом? Я подумала, взглянула на Эссекса, потом на кузена и смилостивилась:
— Пусть подойдут.
Вне подмостков они выглядели, как все актеры, потрепанными и выжатыми как лимон. Главный, Бербедж, тот, что играл короля, был мал ростом и, как ни выпячивал грудь, на короля совсем не походил; шут был печален, с опухшими веками; прекрасная принцесса оказалась тощим мальчишкой с огромным выпирающим кадыком; толстяк сжался до обычных человеческих размеров. Позади скромно держался низенький человек. Я подозвала его:
— Это вы написали пьесы?
Он поклонился:
— Если Вашему Величеству угодно.
Он был в костюме старика, которого играл в спектакле, однако по лицу и глазам ему можно было дать лет тридцать или чуть более. У него был ужасный, свойственный срединным графствам выговор, что калечит каждую гласную и неизбежно взмывает к концу фразы. Я взглянула на смиренное лицо, лоб с залысинами — ни дать ни взять торговец сукном.
— Мастер Шекспир, ваш толстый рыцарь мне угодил. Хотелось бы увидеть сэра Джона Фальстафа влюбленным.
— Коли Ваше Величество приказывает, он уже влюблен; вы увидите его…
Он замолк, что-то быстро прикидывая в уме.
Его товарищи постарались скрыть живой интерес к делу, которое заставит всех их попотеть.
— ..влюбленным в прелестную особу — нет, в целую стайку насмешниц! — в ближайшие две недели.
Комедианты незаметно расслабились. Главный, Бербедж, расправил плащ за шестнадцать фунтов (алый плюш, золотой галун, ворот обшит венецианским кружевом, отделан гранатом и черным кораллом, воистину по-королевски!) и отвесил поклон, который сделал бы честь даже испанцу.
— Ричард Бербедж к услугам милостивой королевы. Ваше Величество оказывает своим недостойным слугам слишком большую честь.
— Похоже на то! — Я зевнула. Голос замечательный, но я утомилась. — Ваша последняя пьеса, сегодняшняя комедия, как она называлась?
Стратфордский сочинитель поклонился:
— Успешные усилия любви», ваша милость.
— Она мне не понравилась.
Он солнечно улыбнулся:
— Тогда она проклята, истреблена с лица земли, мертва с этой самой минуты. Мы никогда ее больше не дадим. Коли Вашему Величеству не понравилась, считайте, ее нет!
Разумеется, он получил за это золотом, как и рассчитывал. Умный человек.
Мы заставили попотеть и его, и остальных, мы славно повеселились в то Рождество при дворе, я и мой лорд. Несмотря даже на то, что гадина Рич, леди Пенелопа, выбрала именно это время для того, чтобы приехать из деревни и одолевать нас своим обществом.
— Вашего Величества смиреннейшая слуга.
Она сделала реверанс. Я смотрела с явным неодобрением — она стала еще развязнее и толще. Живот выпирает, как нос у боевого корабля, — Господи, да она снова с пузом! Сколько у нее детей от мужа? — по слухам, последний появился без всякого участия со стороны лорда Рича. А как разряжена, несмотря на свое положение, — шляпка и все прочее. Но мне-то что? Если ее муженек смотрит и улыбается, то я и подавно.
Улыбалась я и в другой пикантной ситуации: разгневанная обер-фрейлина приволокла ко мне зеленую от слез Елизавету Верной и заставила ту сознаться, что беременна. О, я отхлестала дурочку по щекам, когда она, всхлипывая, призналась, что отец ее будущего ребенка — Саутгемптон; я-то все время считала, что этот писаный красавчик бегает за мальчиками, а я не люблю ошибаться! Хуже того, он не только соблазнил ее, но и взял в жены, лишив меня законного права выбрать своей фрейлине мужа. За это я наградила ее еще парой оплеух, а вдобавок оттаскала за волосы и бросила обоих в Тауэр — охладиться. Но я была довольна жизнью и могла себе позволить быть доброй.
Даже когда я узнала, что эта распутница Пенелопа Рич предоставила Саутгемптону и Бесс Верной дом для свиданий и, более того, уговаривала девушку, я все равно решила, что не позволю им испортить мне радость общения с моим лордом.
А он был такой ласковый! Можете потешаться над старухой, которая оплачивает благосклонность молодого человека, однако, клянусь, это стоило любых денег, вернее, такую благосклонность не купишь за все сокровища мира! Конечно, я никогда не видела его жены — она меня не волновала. В любом случае, бедная Фрэнсис была мне не помеха — она, как верная жена, жила в деревне и рожала.
Мой лорд скрывал это от меня, никогда о ней не говорил, но когда Роберт сообщил мне, что она родила сына, я за него порадовалась. Он поселил ее у матери — ненавистная Леттис по-прежнему, хоть и в опале, жила и здравствовала, чтоб ей пусто было, — я так и не простила их брак с Робином. Бесс Трокмортон, теперь леди Рели, проживала в Шерборнском аббатстве, имении Рели, так что я могла, не страшась волчиц, наслаждаться близостью моего лорда.
Но тут случился Кадис.
Глава 6
Кадис.
Мария божилась, что, когда ее вскроют, то прочтут на ее сердце кровавые буквы Кале». Когда будут вскрывать меня, этим словом окажется Кадис».
Оно будет вписано рядом с Ирландией» в эти каменные развалины, кладбище моего сердца. Однако Кадис был раньше.
Кадис. Он должен был стать величайшей победой моего лорда, часом его торжества. Я-то считала его только придворным, а он, оказывается, грезил о ратной славе. Я любила его в шелках и атласе, он мечтал о коже и стали. Я радовалась, что Испания дремлет; он всегда был готов разбудить спящую собаку, просто чтобы послушать лай. Я предпочитала войну без войны — когда испанский король не решался на нас напасть, а мне не приходилось тратиться на военную потеху. Но моему лорду любая потеха была не в радость, кроме военной, а раз так — подавай ему потеху в его вкусе.
Она началась в Гринвиче в самый разгар нашего веселья: как-то утром меня разбудило от тяжелой дремоты глухое, похожее на гром ворчание. Однако для грозы время года было еще раннее, кроме того, звук не раскатывался по округе, как гром. Мне не пришлось в страхе звать моего лорда; он уже ждал в смежной комнате и с жаром приветствовал меня одним ненавистным словом: «Война»!
— Господи Боже мой, что это значит?
— Пушки, мадам, испанцы осадили Кале! Вы слышите войну!
За ним стоял лорд-адмирал — кузен Говард, Роберт и Берли, Рели, старый кузен Ноллис и лорд-хранитель пяти портов — лорд Кобем. Он-то и шагнул вперед, посеревший от бессонной ночи, поклонился скованно, и немудрено, ведь ему пришлось скакать несколько часов, чтоб поспеть с вестями к заре.
— Ваше Величество, испанцы вторглись во Францию, они на северном берегу, у врат Кале!
Я потянулась, чтобы опереться на моего лорда.
— А что французы?
Он подал мне руку, сказал хриплым от волнения голосом:
— Французы и голландцы сражались, как защитники Трои, но они разбиты.
Рели покачал головой:
— А если испанцы вступят в Кале…
Кобем не мог сдержаться:
— Тогда мы опять вернемся во времена Армады, когда ждали, что десятки тысяч под командованием герцога Пармского вот-вот хлынут на нашу землю!
Роберт шагнул вперед:
— Они не вторгнутся!
— А дела другого суверенного государства нас не касаются, — устало вымолвил Берли. — Надо сохранять мир.
— Мир! — оскалился мой лорд. — Надо воевать!
Однако, чтобы сохранить мир, нередко приходится воевать. В ту ночь мне приснился бог войны Марс — то был юноша в черненых боевых доспехах, как у моего лорда, в черном шлеме с опущенным забралом. Он стоял на высоком холме и громко обращался к стоящей внизу черной толпе, все было черно, голос его гремел: Ныне мы вновь должны вынести войну вон из нашего королевства, как горящие уголья, а не ждать, пока они с шипением обрушатся нам на голову!»
Он повернулся ко мне, снял шлем с колышущимся черным плюмажем. На меня смотрело лицо моего лорда.
Я вновь стала Беллоной, богиней брани, — его матерью, возлюбленной, но прежде всего — королевой!
— Ладно, если только война принесет нам мир, пусть будет война, но подальше от наших берегов.
— Тогда отправьте нас в Кадис, мадам, — настаивал мой лорд, его прекрасное лицо лучилось боевым пылом. — Мы подпалим королю Филиппу бороду, сожжем его боевые корабли, ограбим галионы! Озолотим вас, обескровим его — ему придется убраться из Европы, из Кале на веки вечные!
Он вкратце набросал мне план кампании. Какая же я дура! Пока я считала его образцовым придворным, он продумывал планы ведения войны! Он собирался взять Кадис, потом отплыть к Тринидаду в Вест-Индии, потом к Испанскому материку.
— А когда назад?
— Ваше Величество, как мне знать это?
Господи, зачем я его отпустила?
И зачем согласилась дать на эту авантюру пятьдесят тысяч фунтов?
А если бы ценой оказалась его бесценная жизнь?
После Зютфена Робин говорил мне, что мой лорд бесстрашен в бою. Чтобы сдержать его порывы, я назначила командовать флотом кузена Говарда, лорда-адмирала, а Эссексу поручила сухопутные войска. Рели отправился с ними — он одинаково хорошо сражался на суше и на море и знал что делает. Опытный воин, он умел служить под чужим началом, умел подчиняться.
Не то что мой лорд — тот умел только командовать и не признавал ничьей власти, кроме собственной. Он начал затевать ссоры, писал мне Говард, еще до выхода из Ла-Манша.
Говард писал мне по две-три депеши на дню, негодовал на заносчивость моего лорда, на его грубость и нежелание слушать советы, не говоря уж о подчинении, стремление единолично завоевать всю славу. И в каждом столкновении мой Говард, который умел сохранить согласие между семью командующими во времена Армады, теперь терпел поражение от одного.
— Господи! — плакала я, читая его письма. — Надо смирить это дерзкое сердце, сломить эту гордыню!
Но тихий голос в ушах рыдал: Поздно!»
Кадис взяли.
— Они сообщают, что одержали великую победу, — с такими словами промозглым осенним утром вбежал ко мне маленький Роберт. — Часть галионов захвачена, часть сожжена, город разграблен, и там, как пишет милорд Говард, взята богатая добыча.
Мой лорд тоже писал, в духе истинно воинском:
Вообразите битву, Ваше Величество: Ваши могучие пушки сотрясают землю и оглашают грохотом, небеса, я тесню Ваших врагов, начертав на мече и в сердце Ваше имя; Ваши солдаты сражаются, как тигры, и вот уже брешь открылась в стене, сквозь которую, казалось, не пролезть и крысе…»
Я поцеловала пергамент и, как дура, залилась слезами. Роберт сочувственно помолчал, потом подмигнул и сказал:
— Я слышал, что лорд Эссекс как лорд-генерал показал истинное рыцарство в отношении женщин!
Я рассмеялась сквозь слезы:
— Каких женщин?
Роберт сделал большие глаза:
— Он запретил своим солдатам всякое насилие — вещь доселе неслыханная! И велел им стоять в почетном карауле — весьма галантный жест с его стороны, — пока женщины покидали город!
Эти и другие вести летели из Испании быстрее самой любви. И когда он вернулся, его внесла в Лондон волна народной жажды иметь героя, радоваться победе и хоть чем-то отвлечься от вечных мыслей о пустом желудке. Ладно, раз так, Глориана примет своего героя как подобает!
Я ехала встречать его к пристани — да, я вся извелась, я не могла дождаться, когда он сам ко мне явится, — а на улицах, как всегда в таких случаях, толпился народ: от врат Уайтхолла и дальше, сколько хватал глаз, люди шумели и выкрикивали приветствия.
И немудрено! Ведь я так тщательно нарядилась: роба золотой парчи, сплошь расшитая агатами, алмазами и жемчугами, юбка и шлейф блестящего белого атласа, огромные серебряные буфы рукавов, прозрачная серебряная кисея на плечах.
Поутру я взглянула в зеркало, с воплем швырнула его об пол и зарыдала:
— Клянусь Божьими костями, я никогда не выглядела хуже! Позовите Уорвик! Где Радклифф? Принесите… принесите…
Принесите новое лицо, без этих ужасных морщин, без ввалившихся, как у ведьмы, глаз; новые зубы вместо желтых и черных пеньков, шатающихся, как жертвы голода; новые волосы вместо редких седых косм; новую шею вместо этой утиной гузки; новую грудь, достойную ласк моего юного лорда…
— Ваше Величество никогда не выглядели привлекательнее.
Мои женщины знали свое дело и тут же к нему приступили: сперва белила густым, как побелка, слоем поверх легчайшего налета розовой краски, затем румяна на щеки, яркий кармин для губ, а поверх всего блестящая пленка яичного белка — главное, не улыбаться, чтобы она не лопнула. И завершение — парик: триумф густых рыжих локонов и завитушек, усыпанный звездочками блесток и высящийся словно Филиппов галион, — да, так-то лучше! А ведь меня ждет мой лорд — разве его любовь не делает меня краше, краше обычного?
День был пасмурный — вот-вот закапает дождик; никому из моих придворных не хотелось ехать на пристань, портить свои шелка и бархат.
Однако я решилась. Мое сердце от радости исходило слезами, нет, кровью — он вернулся, он здесь, прощай, печаль, прощайте, одинокие бессонные ночи…
Стражники распахнули большие ворота Уайтхолла, мой кортеж выехал на улицу. Я ликовала.
Выглянуло солнышко — конечно же дождя больше не будет. Солнечные лучи вспыхнули на золотой парче и, судя по приветственным возгласам, по обыкновению, зажгли толпу. О, мой добрый народ! Я любила его всем сердцем.
Однако по мере того, как мы подъезжали, я начинала разбирать слова.
— Лорд Эссекс! Хотим видеть лорда-генерала!
— Храни Господь доброго графа! Благодарение Богу, что он вернулся невредим!
— Где граф? Граф! Добрый граф!
По всей набережной, по всей Флит, до вершины Ладгейтского холма, за старым собором Святого Павла, в Ист-чипе и Бай-уорде слышалось одно и то же:
— Граф! Граф!
— Господь да хранит героя Кадиса, нашего избавителя!
— Покажите графа!
Разумеется, кое-что перепало и мне.
— Небеса благоволят Ее Величеству!
— Вот наша добрая королева Бесс!
Однако мои губы, которые произносили Благодарю тебя, мой добрый народ», были холодны, еще холоднее было на сердце. Никто не крикнул: Вспоминаю доброго короля Гарри!», никто не благословлял мое прекрасное лицо». И никто не кричал: Многие лета!», только: Лорд-генерал! Лорд-генерал! Когда мы увидим графа?!»
Он стоял на носу корабля и тянул шею, высматривая меня. Я подъехала, он спрыгнул на сходни, сбежал на берег в сопровождении роя своих спутников, схватил мою руку, прижал ко лбу, припал губами к стремени.
— О, моя сладкая королева!
Он рыдал в открытую, плакал светлыми слезами радости. А что я?
Ничего.
Я мечтала о его возвращении, молилась и плакала. Вот он здесь — радость обернулась во рту пеплом, болью, желчью.
Как я вырастила эту гадюку, которая того и гляди обернется против меня и ужалит? Кто спасет меня от многоглавого чудовища, грозы всех королей, от черни, враждебного народа, рассерженной толпы?
Сейчас она занята его великой победой над нашим давним врагом, ненавистной Испанией. Но четыре дождливых года, четыре года неурожая, — и они начнут голодать, а тогда, как сера, вспыхнут от малейшей искры…
Я хотела вернуться той же дорогой, по улицам Лондона, во главе пышной церемониальной процессии: я — на серой в яблоках кобыле, он — на черном жеребце, которого вели за мной в поводу. Но какой дурак покажет народу человека, которого любят больше меня? Раз так, вернемся по реке. Я сказалась усталой и потребовала королевскую барку.
Его возвращение зажгло меня ревностью, новости, которые он привез, подлили масла в огонь. Кузен Говард, вернувшийся вместе с ним, насилу дождался, когда сможет высказать свое негодование. Когда мой лорд утратил расположение моего доброго Чарльза?
Они сожгли меньше галионов, чем полагали вначале, стиснув зубы, докладывал Говард. Испанская угроза отодвинута, но не уничтожена.
Придется спускать с цепи моих каперов — Хоукинса, Джильберта, Фробишера, — чтобы они довершили дело, а значит — снова платить за каждый нанесенный Испании удар.
Из-за своих разногласий они упустили купеческий флот — мой лорд не послушал главнокомандующего. Покуда они телились, испанский адмирал хладнокровно распорядился поджечь корабли, лишив меня — и своего короля — примерно двадцати миллионов флоринов.
Я молча выслушала взбешенного Говарда, поблагодарила и отпустила. Оставшись одна, уронила голову на руки. Что за скорбная повесть о гордости и безумии! Одна подробность сразила меня в самое сердце. Этого так оставлять нельзя!
— Милорд, кузен сказал, что в этом плавании вы посвятили в рыцари шестьдесят с лишним человек?
— Это награда за доблесть! — вспылил он. — Привилегия полководца — самому посвящать в рыцари.
Привилегия?
Привилегии бывают у королей. У подданных — нет.
Я была очень спокойна.
— В таком путешествии уместно было посвятить двоих, самое большее — четверых, шестеро было бы уже чересчур. Но шестьдесят?
Он страстно возвысил голос:
— Не сомневайтесь в действиях вашего верного слуги, мадам, сердце подсказывает мне, когда и как я должен поступить!
Иными словами: Я буду делать, что мне заблагорассудится!»
Может быть, я разозлилась из-за того, что один из его скороспелых трехгрошовых рыцарей — Робинов бастард, побочный сын от Дуглас? Даже видеть, что он вырос и является ко двору как сэр Роберт Дадли — так называли в молодости самого Робина, — с Робиновыми глазами, носом, ртом, походкой, осанкой, было достаточно тяжело, а если еще и знать, что это мой лорд вывел его в люди…
Однако хуже всего был страх — нет, уверенность, — что мой лорд присвоил себе королевское право осыпать милостями и вершить суд. Я выкормила чудовище.
И не я одна это видела. Его же креатура Фрэнсис Бэкон, которого я не любила, но которым поневоле восхищалась, предостерегал его. Добивайтесь расположения государыни личной преданностью, как лорд Лестер, — убеждал он, — не войной и не поисками народной любви.
Ныне вы любимец Англии, а не английской королевы — может ли образ более опасный представиться воображению монарха, тем паче столь чувствительной женщины, как Ее Величество?»
Любимец Англии.
Верно, толпа его любила, верила, что он во всем прав. Она считала, что ее герой спас меня от заговора и выиграл войну. Его ум доказан разоблачением Лопеса, его доблесть — осадой Кадиса.
Его обожали.
Как когда-то обожали меня.
И все-таки я по-прежнему его обожала.
Как дура, как все дуры — скажите уж, как все старые дуры! — я по-прежнему за него цеплялась. Несмотря на страхи, на злость, мое глупое сердце всякий раз его прощало — спустя дни, часы, даже минуты оно оттаивало, как было с Робином… я нуждалась в нем, в его молодости и жизни, особенно теперь, когда смерть вновь перешла в наступление и скосила тех, кто заслонял меня своими телами, — одного за другим.
Я потеряла двух старых кузенов — прежде всего Хансдона, дорогого старого Гарри Кари, моего лорда-камергера, сына моей тетки Марии, затем старого советчика, сурового пуританина, но верного друга, моего родственника со стороны его жены Кэт, сестры Гарри.
И снова, как дура, я в полубезумии выкрикивала вслед их отлетающим душам: Как вы посмели, как посмели!» Ноллиса я назначила своим советником в день вступления на престол, Хансдона вскоре после того. Оба оставили сыновей, которые тут же заняли отцовские места и должности, добрых и верных, подобно своим родителям. Оба прожили долгую жизнь в почете и довольстве, оба умерли своей смертью, мне не из-за чего было убиваться. Однако я скорбела, и не только о себе: вслед за Робином, Хаттоном, Уолсингемом еще два звена моей золотой цепи распались навеки.
И кто теперь скажет мне правду?
Этот же год унес и третьего, и четвертого: Пакеринга, лорда-хранителя печати, и старого Кобема, хранителя пяти портов, ничем особо не выдающегося до последних трагических событий, но тем не менее незаменимого. Одиночество подступало ко мне все ближе.
Последняя потеря была самой горькой. После первого поражения в Кадисе я больше не отпускала Дрейка в плаванье. Однако мой морской дракон вымолил себе последнюю экспедицию, и здесь, в море. Фортуна его покинула.
Он не пожелал бы себе другой могилы, кроме Испанского материка: теперь его душа плывет с Богом в вечно золотеющих водах, а рыбы проплывают сквозь его скелет.
А в пучине самого черного человеческого моря зрели по мою душу, пробуждались и шевелились новые бедствия.
Глава 7
Ирландия.
Наигоршая из моих горестей, безбрежное море бедствий, земля гнева Господня.
Родился ли тот, кто исцелит этот недужный край?
Какая женщина по-детски не любит подарков? Особенно на Благовещенье, когда кончается время сбора податей и наступает март, когда подснежники сменяются примулами и в память Пресвятой Богородицы всем женщинам дарят подарки. Было позднее утро, и я нежилась в постели, когда в дверь постучали. Я приподняла голову с локтя.
— Радклифф, что там?
— Подарки, мадам.
Вошел дюжий детина-привратник с книгой и ящиком.
— Открой!
Радклифф тонкими руками с трудом подняла тяжелый том, уложила на стол возле меня, раскрыла кожаный переплет. Нашей Глориане, высочайшей и великолепной Императрице, прославленной своими добродетелями, благочестием и милостивым правлением, Елизавете, — прочла она, — милостью Божией королеве Англии и Франции, Ирландии и Виргинии, защитнице нашей веры. Ее покорнейший слуга Эдмунд Спенсер со всем смирением посвящает и преподносит свой труд. Да живет Королева фей» в вечности Ее славы».
Я рассмеялась от радости:
— Значит, маленький сочинитель завершил эпическую поэму обо мне?
— По крайней мере шесть книг, — сказала Радклифф, заглядывая в конец. (Пусть ее глаза на тридцать лет моложе моих, зрение — не в пример хуже!) — Угодно Вашему Величеству почитать?
— Может быть, позже. Эй, любезный! — окликнула я привратника. — Что это за ящик?
— Из Ирландии. — Он потянул себя за вихор. — С письмом.
— Открой.
Он широко улыбнулся щербатым ртом:
— Нет, мэм, я читать не умею!
— Уорвик!
Уорвик сделала мне реверанс, приняла из рук носильщика письмо и начала читать:
— «Небесную правительницу наших земных небес приветствует ее вассальный воин Томас Ли, рыцарь.
В Лимрике во время казни великого ирландского бунтовщика на моих глазах престарелая дама взяла сей предмет двумя руками и пила из него, словно на празднестве богов. Посему я взял на себя смелость послать cue Вашему Величеству как дань Вашему могуществу. Бессловесный, он тем не менее скажет за себя. Шлю вместе с ним заверения, что буду и впредь так же поступать с Вашими врагами в этой богомерзкой стране.
Ваш во всем,
Томас Ли, капитан».
— Из него пила престарелая дама? — задумалась Радклифф. — Красивый кубок, мадам, или круговая чаша, отбитая у гнусных бунтовщиков. — Она повернулась к привратнику:
— Ну, открывай!
Ящик был заколочен гвоздями, пришлось вскрывать кочергой. Внутри оказался круглый, обернутый тряпьем сверток. Тонкое стекло, может быть, даже венецианское.
Привратник вытащил сверток.
— Осторожно, осторожно! — вскричала Уорвик.
Поздно. Что-то вывалилось из тряпья и шмякнулось об пол. Здесь оно, к моему ужасу, подпрыгнуло и — о. Господи! — покатилось, докатилось до моих ног и остановилось, оскалившись в улыбке.
Голова, человеческая голова, черная, полуразложившаяся, мертвые, кишащие личинками мух губы шевелились, будто пытались что-то произнести, открытые глаза пялились, из черных глазниц выглядывало по червю…
Я не могла даже вскрикнуть — меня безудержно рвало, снова и снова я харкала кровью и желчью, и только проглотив лекарство, погрузилась в обморочное забытье…
Ирландия.
Я велела устроить розыск в отношении дарителя», Томаса Ли. Мне сообщили, что этот жуткий рыцарь служил под началом моего лорда в Нидерландах и Франции. Он действительно видел, как сумасшедшая старуха, у которой казненный злодей убил сына, схватила отрубленную голову и жадно пила хлещущую из нее кровь. Этот же человек убил троих собственных сыновей и брата, прежде чем Ли без суда и следствия повесил его, утопил, четвертовал и обезглавил — а затем сжег старуху, подозревая в ней ведьму.
Жестокий и беспощадный человек, крутой и скорый на расправу, — но, говорят, только такие могут служить в этой дьяволовой заднице, Ирландии.
Забытой Богом стране.
Такова Ирландия.
Однако и Англия была не намного лучше, мой лорд постоянно добивался власти, он вознамерился быть и конем, и возничим английской судьбы. В Кадисе он отрастил бороду, я говорила? Каждый мужчина когда-нибудь это делает, потом одни сбривают, другие оставляют, кто предпочитает усы, а кто, как Робин, — бородку клинышком. Однако всегда это означает возмужание, стремление к силе, к положению, к самостоятельной власти. Или к власти как таковой…
Борода заступом, рыжая, как у лиса. Я ее ненавидела.
А еще больше я ненавидела и еще больше боялась его растущую жажду ссор. У меня были серьезные причины опасаться многого другого: народной любви к нему, его враждебности к лорду-адмиралу Говарду, которого он публично обвинял в провале Кадисской экспедиции, разногласий, которые он вносил в совет, его давней ненависти к Берли и Роберту, которые всегда были для него писаришкоми», мужчинами, лишенными мужских качеств, евнухами, проклятьем всякого мужественного воина. Однако все мои страхи коренились в его любви к войне, которой он жаждал все сильнее, чтобы восстановить ореол героизма и вернуть утраченное в Кадисе доверие. Я видела, что его влечет к предначертанному крушению, видела письмена на стене, хотя и не могла разобрать дату. И когда это случилось, оно, как все худшие крушения в жизни, случилось неожиданно.
Мы собрались отпраздновать добрую весть, я и горстка моих тайных советников, — нам сообщили о смерти моего старого друга и врага Филиппа Испанского. Человек, который когда-то любил и желал меня, предлагал руку, потом ненавидел и преследовал даже в моем собственном королевстве, отошел в мир иной. Я говорю добрую весть» не из злорадства, смерть пришла к нему желанным избавлением от чудовищных телесных мук. Черви, что завелись в голове ирландского бунтовщика после смерти, владели Филиппом при жизни — три месяца он, оставаясь в сознании, гнил заживо, пожираемый червями, которые копошились в его открытых зловонных ранах, жутких гниющих язвах, которые он не позволял врачам промывать, считая их Божьей карой за грехи своей плоти.
Мы глядели друг на друга, Берли и Роберт, мой лорд, кузен Говард и новичок в совете, молодой Ноллис, недавно заступивший на место отца. Он был еще совсем юный и нежный, этот Вильям, едва за двадцать — тот возраст, когда считаешь себя бессмертным, — и явно мой лорд, и даже маленький умница Роберт ощущали себя такими же. Однако кузен Говард давно достиг средних лет, и его суровые, пронзительные глаза, которые сейчас пристально следили за моим лордом, видели смерть и знали — она придет.
А Берли — о, как больно было на него смотреть! Скрюченный подагрой, страдающий одышкой, каждое слово дается ему с трудом — сколько он еще протянет, долго ли будет помогать мне так, как умеет он один? Ведь ум его по-прежнему остер, чутье — верно, хватка — тверда.
Кузен Говард нарушил молчание, и я поняла — он вспоминал Армаду, когда во главе английского флота вел собственную войну против короля Испанского.
— Упокой Господи его душу, — мрачно сказал Говард, — и избави нас от такого конца.
— Аминь! — подхватила я. — Благодарение Богу, теперь он покоится в мире!
— Очень может быть, мадам, мир осенит и нас, — просипел Берли. — Его сын, молодой Филипп, не унаследовал отцовского нрава, он не будет искать войны.
— Ха! — Мой лорд громко рассмеялся прямо в лицо старику. — Значит, сэр, самое время ее ему навязать!
Роберт отцовским жестом задумчиво свел пальцы и прошептал:
— Блаженны миротворцы…
Мой лорд снова вспылил.
— Чтоб вам провалиться, миролюбцы трусливые! — с жаром вскричал он. — Разве вы не видите, что лишь война доставит нам почетный мир и что единственный почет, который может сыскать мужчина, достигается на войне! Сейчас мы можем разнести их в клочья, размолоть их мясо, растереть их кости в муку, чтобы псам войны не осталось на поживу ничего, кроме вражеских ладоней! А для Ее Величества, — поспешно добавил он, почти не удостоив меня взглядом, — будут сожженные галионы, захваченные города и сокровища, честь и слава!
Столько же, сколько после Кадиса и других ваших авантюр!» — желчно подумала я. Он словно прочел мои мысли — вскинул голову и гневно посмотрел на меня.
— И все ради вас. Ваше Величество, все, все ради вас!
Берли устало покачал головой. Он подвинул вперед маленькую книжку, которую держал под рукой, и дрожащим пальцем указал на пятьдесят пятый[11] псалом: Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих».
Лицо моего лорда почернело от возмущения.
— Клянусь ранами Божьими, сэр, мне не возражают! — Он схватился за шпагу.
Как, угрожать Берли? Больному старику? Я в испуге схватила его за руку — не то бы он вскочил.
О чем он думает? Я с ужасом видела, что не он один держится за эфес — кузен Говард тоже привстал. Я мотнула головой, он плюхнулся в кресло, но глаза его, суровые и пронзительные, следили за моим лордом, как за ядовитой гадиной. У меня голова пошла кругом.
— Ладно, милорды, — пролепетала я, — оставим этот разговор. Как насчет Ирландии? Депеши день ото дня все мрачнее. Бунтовщики копят силы, я боюсь мятежа — как его избежать?
— Его не избежать, — мрачно сказал Говард. — Ирландия — это бродильный чан, нам никогда не удавалось ее усмирить! Единственный выход — послать туда войско, возглавляемое крупным военачальником, чтобы объединить тамошних наших людей, которые действуют каждый на свой страх и риск и не способны сдержать восстание.
Ирландия всегда воюет… никогда не замиряется… послать войско… если не справится, послать другое… вечная история с Ирландией…
Сердце мое упало, желудок свело — обычная свистопляска.
Люди и деньги!
Всегда их мало!
Всегда!
Я ухватилась за мыс корсета, с силой вдавила его в живот, чтоб унять расходившееся нутро.
Потом подождала и заговорила уже спокойно:
— Кто будет этим видным военачальником?
Ноллис, молодой Ноллис, белокурый в мать и ничуть не похожий на моего старого кузена, впервые подал голос:
— Это должен быть знатный вельможа, дражайшая миледи, наделенный Вашим Величеством полной властью, чтобы не только подавить бунтовщиков, но и увлечь за собой честных людей.
— Милорд казначей? — повернулась я к Берли.
— У нас есть лорд Маунтжой, мадам, верный слуга и опытный воитель.
— Или молодой лорд Кобем, — вставил Роберт. Он пристально взглянул на меня. — Если Ваше Величество не намерены назначить его на отцовскую должность хранителя пяти портов.
Я улыбнулась: он угадал верно.
— Хранителя пяти портов? — грубо вмешался мой лорд. Тряхнул головой. — Нет, нет. Ее Величество не отдаст это место Кобему!
Он повернулся ко мне, заговорил без тени учтивости. Как же он изменился! Кадис его преобразил!
— Я должен получить этот пост для Саутгемптона, он на мели и нуждается в доходах, — легко объявил он. — И Маунтжоя в Ирландию я как главнокомандующий вашими сухопутными силами не пущу.
Нуждается в доходах?
Он не пустит?..
Он — главнокомандующий?..
Все навалилось на меня разом — Испания, Ирландия, враги засели в Кале, четыре года подряд недород, люди голодают, в казне ни пенса, ни фартинга, чтобы как-то помочь, а мой, видите ли, лорд не пустит…
Что-то сломалось у меня в голове.
— Он нуждается в доходах? — в ярости завопила я. — А вам нужна война, вам нужно командовать? — Я повернулась к моим лордам:
— Клянусь Богом, он здесь король, не я! — В бешенстве я перегнулась через стол, схватила его за мантию. — Не будет по-твоему! Кобем получит должность хранителя пяти портов, и я — я, Елизавета, королева Елизавета, — решу, кого отправить в Ирландию!
Мои лорды как стояли вокруг стола, так и застыли в ужасе. Берли придвинулся ко мне, словно желая заслонить своим бедным старческим телом, Говард, сидящий рядом с моим лордом, следил за ним, как следят за скорпионом.
Мой лорд грохнул кулаком о зеленую скатерть.
— Господи, вам нравится все делать мне наперекор! — вскричал он страстно. — Однако ваша милость должна понимать…
— Малыш, малыш! — Не помня себя от ярости, я тоже стукнула по столу. — Слова вы должны» не обращают к венценосцам![12] Нет, это вы должны согнуть свою жестокую шею, повиноваться, приходить и уходить по моему зову, как делают те, кто старше и лучше вас!
У юного Ноллиса от ужаса глаза полезли на лоб, кузен Говард с каменным лицом медленно подвигался на край стула.
— И вы уйдете! — визжала я. — Уберетесь прочь от двора, в свои поместья, и будете сидеть там, покуда не научитесь служить мне со всем почтением!
Я, задыхаясь, вскочила на ноги. Казалось, все это происходит во сне — мой лорд тоже встал.
Его лицо только что было красным от гнева — теперь оно побелело и сверкало, словно у смертельно больного. Вся комната замерла.
— Что ж, — сказал он непривычным глухим голосом, — теперь я понял, каково это — служить… — Он замолк и выпустил каждое слово, будто стрелу с отравленным наконечником:
— Служить… незаконнорожденной… бабе!
Из глотки его вырвался звук, похожий на дикий хохот. Он оттолкнул стул и полуобернулся к дверям. В эту секунду я метнулась к нему, схватила за высокое плечо и развернула к себе лицом. Я не слышала слов, брыжжущих из моего открытого рта. Но эти, я знала, вырвались из глубин моей души: Никто не смеет называть меня незаконнорожденной…» Я отвела руку и с размаху дала ему пощечину.
— Ну, берегитесь!
Он молниеносно выхватил шпагу, убийственная ярость исказила его лицо. Говард с грохотом отшвырнул стул и очутился между нами, лицом к моему лорду.
— Ради всего святого! — заорал он. — Придите в себя! Это королева. Ее Величество, ваша государыня! Обнажать в ее присутствии шпагу — измена! Прочь! Прочь!
Он грубо вытолкал его за дверь, крича на ходу:
— Стража! Стража! Отведите милорда в его комнату, ему дурно. И пришлите Ее Величеству фрейлин с нюхательной солью, сию минуту!
Ему дурно.
Мне дурно.
Все дурно.
Однако когда я, задыхаясь и теряя сознание, рухнула на руки юному Ноуллзу, одно я знала наверняка — кто отправится в Ирландию.
Глава 8
Незаконнорожденная.
Я сидела в своей комнате, бесилась и смеялась.
Процарствовать сорок лет, чтобы снова услышать такое!
Это ли слово убило во мне любовь? Ибо она ушла, сердце окаменело. Однако оставалась Англия…
Женщина подлого рождения. Ублюдок.
Может, надо было отправить его в Тауэр? Бросить в тюрьму, казнить? Видит Бог, я желала его смерти. Но, как прежде с Марией, я не хотела стать его палачом… Раз так, может быть, дать ему большую веревку и он, подобно Марии, сам сплетет себе удавку?
— Вы не спите, мадам? Мне показалось, вы ненадолго уснули.
— Нет, милая, нет. Скажи, кто там прискакал к черному крыльцу?
— Гонец из Теобалдса, миледи, — лорд-казначей прислал сообщить, что благополучно добрался до места. Он благодарит Ваше Величество за дозволение не сопровождать вас этим летом в путешествии и надеется вернуться к вам в полном здравии до того еще, как заалеют ягоды на кустах.
Однако и он покинул меня, как покидали все, умер мирно в своей постели, молясь Господу до последней сладкой капли смерти». И, как после смерти Робина, на меня нашло помрачение, я лежала в постели и трое суток молча прощалась с ним.
Как мог он оставить меня в самую трудную минуту?
Впрочем, какая минута за пятьдесят лет не была самой трудной?
О, мой старый, самый лучший, самый любимый друг, встречай меня на небесах, я не заставлю тебя ждать долго. Позаботься, чтобы меня приняли по-королевски — ты всегда отстаивал мои интересы, всегда заботился обо мне, надеюсь, что и в вечном царствии мы будем править вместе, как правили здесь, внизу.
А год уходил, оставляя после себя единственное слово.
Незаконнорожденная.
Он сказал мне это в лицо.
Я — женщина подлого рождения?
Возможно, я и цинична, возможно, и должна быть стоиком, но подлая?
Пусть поцелует меня в самое подлое место!
И так я сказала про себя, когда решила отправить его в Ирландию. Несколько месяцев он протомился в поместье, я его не трогала. Но в Ирландию отправится он.
Пусть докажет свою верность.
Пусть хоть что-то выйдет из тлеющих развалин моей гордости и нашей любви, не для меня, так хоть для нашей страны!
Эта дьяволова плотина, Ирландия, прорвалась, из нее потоком хлынули напасти. Потерянный, дрожащий вернулся ко двору мой прежний поэт-лауреат Спенсер, ему пришлось уносить ноги из Ирландии, его перспективы были тоскливы, как день за окном.
— Эти скоты-ирландцы разрушают все прекрасное и доброе, что мы построили и насадили в их гнусном болоте! — доложил он, трясясь всем телом. — Пес-полукровка, их вождь, идет во главе своего песьего войска, подлых мужиков кернов и галоуглассов, по которым плачет виселица, он берет английские поселения, деревню за деревней, город за городом, режет людей, как скотину, а скотину — как чумных крыс!
Разумеется, он потерял все, как и остальные.
Молодой лорд, которого я послала командовать войском, лишился сестры — ее увез и обесчестил ирландский злодей, а затем и жизни в битве, которую назвали Бойней у Желтого Брода — величайшем поражении из всех, что случались на английской земле. Спенсер вслед за многими другими умер от страха и горя. А одна из потерь опечалила меня едва ли не так же, как смерть Берли: моя любимая фрейлина Радклифф, потеряв в Ирландии двух братьев, после того как двое других погибли в Нидерландах, зарылась бледным лицом в подушку и отошла в слезах.
Я тоже каждый раз умирала вместе со своими любимыми людьми. Однако одно было ясно, словно маяк, в этом черном море скорбей.
Кто-то должен отправиться в Ирландию.
Так пусть это будет он.
Покуда он готовился к отъезду, наступило Рождество. Я не хотела расставаться по-плохому, напротив, постаралась всячески ему помочь.
Назначила графом-маршалом — этот геральдический титул присваивается высшему полководцу Англии. И когда под музыку в присутствии он в сияющем прорезном камзоле цвета слоновой кости на черной подкладке, весь — нежность и пылкое обожание, повел меня в танце, последнем, — я знала это и решила последний раз его предупредить:
— Милорд, я многое стерпела…
Он сразу вспыхнул:
— А я, мадам? Разве подданные всегда не правы? А властитель не может ошибаться? Я не спустил бы такого даже вашему батюшке, королю Гарри! Вы преступили все законы нашей привязанности…
И это — человек, назвавший меня незаконнорожденной?
Я была само спокойствие.
— Довольно, я спрятала ваше оскорбление в карман, оно никогда не будет использовано против вас. Однако поостерегитесь ставить под сомнение мою власть. Я могу простить то, что затрагивает мою особу, но не скипетр и не государство. Задеть меня как женщину — одно; замахнуться на монарха — значит заслужить смерть.
— Я замахнулся на вас? О, Ваше Величество!
Он откинул великолепную голову и громко расхохотался.
Шут часто оказывается пророком, сказал сочинитель Шекспир.
Его отец успешно торговал овцами в Стратфорде-на-Эвоне. Откуда уорвикширский скототорговец знал больше, чем первый граф королевства?
Спросите Того, Кто сотворил нас всех, Он один знает.
Двадцать с лишним лет, с тех пор как впервые увидела его ребенком, наблюдала я за расцветом моего лорда. Теперь, словно летящему вниз метеору, ему оставались уже не годы — недели.
Однако он до последнего озарял небеса. Никто не покидал Англию с большими надеждами и с большей шумихой — женщины и дети бежали за его конем, целовали стремя, засовывали под поводья розы.
Приблизившись на прощанье к моей руке, он просил дозволения вернуться, когда пожелает.
Замялся, с трудом выговорил:
— Потому что… я буду тосковать в разлуке… не смогу долго жить вдали от вас.
Я поборола слабость:
— Разбейте бунтовщиков и возвращайтесь немедленно!
Он, словно не слыша резкого ответа, задержал мою руку в своей.
— Берегите себя, — сказал он тихо. Коснулся кольца — своего подарка, повернул на пальце. — О, моя сладчайшая королева, молю, заботьтесь о моих друзьях, охлаждайте моих врагов и… не забывайте меня.
Господи Боже, если б только он всегда был таким…
Если только…
Я ходила по острию ножа. Легко погладила кольцо — мой дар ему.
— Не бойтесь, мой лорд, — пообещала я из темных глубин своей души, — я вас не забуду!
Да, я плакала при расставании — а вы бы сдержались? Его последние слова внесли в мою душу разлад. Охлаждать его врагов? Боже правый! За что он так взъелся на Сесилов, которые, и живой и мертвый, всегда служили мне верой и правдой?
И даже ему! Ни у одного полководца не было армии лучше — шестнадцать тысяч пеших и тысяча конных, вся английская молодежь в едином порыве продавала луга, чтобы купить коня и следовать за Эссексом на войну. Ни один поход за все мое царствование не стоил мне столько денег — более четверти миллиона фунтов, до сих пор больно вспоминать. А деньги собрал именно Роберт — выпрашивал, занимал, вымогал угрозами, чтобы мой лорд в ранге вице-короля засиял истинно королевским блеском.
За это я и назначила Роберта лордом-попечителем — пост, дающий власть и деньги. Знаю, мой лорд сам метил на это место. Ну что ж!
Пусть это послужит ему предупреждением. Берегите свои денежки, милорд, — говорила я, — и то, что уже от меня получили; выгодными должностями распоряжаюсь я, хочу — дам, не захочу — нет; моя сила, моя должна быть и слава, недаром я — Глориана, Елизавета, королева Елизавета».
Однако первые же депеши из его лагеря доказали, как мало внимал он моим советам и как далек был от исправления. И хотя я этого ждала — да, можете сказать, присвоив себе роль Божества, сама и подстроила, — он все равно каждый раз доводил меня до исступления.
Хоть вы и приказали немедленно выступить против Тирона О'Нила, — писал он, — Ваше Величество должны доверять своему полководцу на месте определить время боя».
Слышался все тот же рефрен: Я буду делать, что мне заблагорассудится».
Он взял с собой любезного дружка, этого негодяя Саутгемптона — вот кого я ненавидела и кому не доверяла с тех пор, как тот похитил у меня Бесс Верной. Я считала его извращенцем и мужеложцем и ужасно досадовала, узнав, что ошибалась. Если он едет, пусть едет вашим спутником, а не моим офицером», — предупредила я. И вот читаю дерзкий ответ: Графа Саутгемптона я назначил в этот поход шталмейстером Вашего Величества».
— Клянусь Иисусом и Его страстями! — Я в гневе обернулась к Роберту. — Шталмейстером?! Человека, который на ристалище не смел тягаться даже со слабейшими, который и сидел-то разве что на кургузом мерине! Что он понимает в лошадях?
— В депешах содержится еще не все, — тихо сказал Роберт. — Один из офицеров, он здесь, доложит…
Господи, я стала совсем слепая! Не заметила офицера, пока он с торопливым поклоном не выскользнул из-за Робертова плеча — бывалый вояка с пустыми холодными глазами и старым шрамом на подбородке.
— Мой человек, — пояснил Роберт. — Ирландский офицер под началом вашего главнокомандующего.
И ваш осведомитель?
Офицер вытянулся в струнку и начал:
— Войско редеет с каждым днем, офицеры пьянствуют ночи напролет, интенданты воруют и жиреют, у нас нет боеприпасов. Ваш граф-маршал говорит о наступлении, но кавалерия, единственное, чего страшатся бунтовщики, не может двинуться с места.
— Черт! А что шталмейстер, граф Саутгемптон?
— Проводит время в палатке с молодым офицером, смазливым юношей по имени Пирс…
— Довольно! (Господи, как мало утешения в моей правоте.) А главарь заговорщиков?
— Боя не было. Но по слухам ночами тайно приезжают гонцы — ходят толки о перемирии…
О перемирии…
Я запретила это наотрез, запретила даже переговоры — он должен сражаться. Вперед! Вперед! Я велела ему не мешкать, не обсуждать, главное — не заключать перемирия.
Всякий, заключающий перемирие с бунтовщиком и предателем, — предатель.
Что ни день, то темнее — его планета неслась к затмению.
— Посвятил двадцать новых рыцарей? Уже сорок? Пятьдесят? Что же, напишите ему, пусть уж посвятит сотню!
Зачем он посвящал в рыцари? Чтобы собрать людей, верных ему, не мне.
— Он говорит, солдаты мрут от болезней и дезертируют? (Конечно, Ирландия — одно большое болото, его собственный отец умер там от дизентерии.) Но чтобы из армии в шестнадцать тысяч осталось только четыре?
Если только он не отправил тысяч пять — восемь в другое место для собственных целей, словно свое личное войско.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Он создает свою партию, свою армию. Трудно ли было угадать ответ на мое последнее требование, которое перешло в вой, затем в визг, когда я слала упрек за упреком: почему он не выступает?
Я отменила свое разрешение вернуться ему, когда он пожелает. Не думайте возвращаться, пока повеление мое не исполнено! — в гневе писала я. — Немедленно выступайте против О'Нила! Атакуйте, убейте, уничтожьте гнусных мятежников, пусть ни одна крыса не останется в живых!»
Я и сейчас не понимаю, почему он не послушался. Это был raison d'etre, изначальный смысл всей войны — удар, который вернул бы ему имя и доверие, звание любимца Англии, а главное, это было то, чего я от него хотела.
Боялся ли он? После всех разговоров о войне он, едва дошло до дела, спрятал голову в домик, словно улитка. Неделю за неделей он торчал в Дублине, теряя время, теряя людей. И когда наконец ему пришлось схватиться с О'Нилом, мятежным Тироном, который из презрения спустился со своими людьми на равнину, у него оставалась лишь четверть армии, и ни кавалерии, ни желания сражаться — теперь он понимал, что просто не может победить. Немудрено, что он согласился встретиться с косматым бунтовщиком и проговорил с ним сорок минут наедине — они беседовали, сидя на конях посреди быстрой реки, а на милю вокруг не было ни одного человека.
Когда я это услышала, то поняла, что он предал.
И я знала, что он знает, что я узнаю. Знает, что, едва начнутся переговоры, человек вроде Робертова осведомителя выскользнет из рядов, вскочит на самую резвую лошадь и на скорейшем корабле привезет мне весть об этом немыслимом отступничестве, этой сокрушительной дерзости.
Так и случилось. Меня разыскали в Нонсаче.
В тот год мне снова пришлось мучительно трогаться в летний переезд, проводить дни в дороге, на подводах и сундуках. И этот переезд из Гринвича еще на семь лиг отодвинул моего лорда от меня. Я велела вынести из покоев его пожитки — даже если он вернется, ему рядом со мной не жить. Эджертон, лорд-хранитель печати, которого я назначила на место старого Пакеринга, и принес мне это.
— Нашли в жилище лорда Эссекса, мадам, и принесли мне.
Я взяла книгу из его рук, попыталась разобрать золотую вязь на корешке — тщетно.
Проклятье слабеющим глазам! С болью в сердце я открыла форзац. Достославному графу Эссексу, лорду-маршалу Англии, виконту Херефорду и Буршьеру, барону Феррерзу и Чартли, лордумаркизу Бурже и Лиона посвящается эта история Генриха, называемого Четвертым, с описанием его вступления на престол и низвержения суетного тирана Ричарда II…»
Больно? О, как больно!
Предательский желудок схватывало при каждом прочитанном слове, я сдавливала руками живот.
— Милорд хранитель печати, верните имущество моего лорда в его покои, пусть он не знает, что мы видели. Что до автора…
Эджертон понял с полуслова:
— Он уже в наших руках, миледи. На допросе он клялся, что посвятил это книгу великому графу и написал об узурпаторе без всякой задней мысли…
Я взвизгнула от гнева:
— Еще бы ему этого не говорить! На дыбу его!
На дыбе сочинитель держался своего, пришлось его отпустить. Однако было слишком ясно, что ниточки сплетаются в узор. И вот теплой, бледной сентябрьской ночью, когда смертная земля спала, а в чистых небесах по-прежнему вставала Дева, я у себя в покоях сидела и складывала их воедино.
Не так давно был мой день рождения — не спрашивайте, который! Впрочем, вычтите тридцать третий, год моего рождения, из нынешнего девяносто девятого, и получите две из трех цифр, знаменующих присутствие дьявола — и он, похоже, был недалеко.
Задней дверью короля Испанского назвал Ирландию Рели. Тот, кто удерживает этот остров, держит Англию на мушке.
Кусочки сложились, словно в детской головоломке.
Мой лорд решил сделать Ирландию своей вотчиной, плацдармом, чтобы угрожать мне. Он создает свою армию, свою воинственную партию из своих новых рыцарей в качестве офицеров и солдат, которых записал пропавшими».
Он не станет драться с О'Нилом, тем более — исполнять мой приказ и выкорчевывать мятеж, бунтовщик станет его вассальным королем, чтобы править Ирландией от его — не моего — имени.
Ради этого он добивался популярности, заигрывал с толпой, ставил под сомнение мою власть и пытался подменить ее своей. Этому всему он научился у Генри Болингброка, именно так тот сверг Ричарда II! Он хочет низложить меня! Самому стать королем!
Слава Богу, он в Ирландии! И не может вернуться без моего приказа — так пусть остается там, покуда я не призову моих верных лордов выгнать его из берлоги на открытое место, где я сумею с ним справиться.
Худые бледные пальбы новой безжизненной зари робко ощупывали небо. Я подняла отяжелевшую голову. Из зеркала на меня глянула одетая в линялый шлафор не Глориана, не я, а дряхлая старуха, с запавшими глазами, с ненакрашенным лицом, с седыми взлохмаченными космами.
О, мой лорд, мой лорд…
Будь я молочницей с подойником в руках, ты — юным пастухом с холмов, были бы мы счастливей?
Если я плачу сейчас — последние ли это слезы?
О, мой сладкий лорд…
Мой сладкий предатель…
Что-то происходило — суета внизу расколола росистую утреннюю тишину, словно стекло: крики, звон стали о сталь. Топот бегущих ног — при дворе бегут только из страха. Или, упаси Бог, желая убить? Мужские шаги, громкие, они приближаются, они здесь…
Шум в дверях, женский визг, Уорвик бросается ко мне, тщетно пытается заслонить своим телом, и вот он врывается, в руке его обнаженный меч, направленный мне в сердце!
Глава 9
— Ни с места, если вам дорога жизнь!
Так ли оно было, когда лорд Сеймур ворвался к моему брату, — и пронзил ли тогда Эдуарда тот же смертельный, оглушительный ужас?
Domine, in manus tuas… В руце Твои, Господи, предаю дух свой…
В ту секунду я видела свою смерть, и она была прекрасна. Даже под слоем дорожной грязи лицо его было краше обычного, щеки раскраснелись от утренней скачки, локоны падали в живописном беспорядке, тело возмужало, свежий шрам на руке сиял, как другой шрам на другой руке, впервые разбудившей жар в моей крови, научившей пламень в чреслах то согревать, то распаляться…
Если в разговоре о том, что люди думают перед смертью, вам начнут вещать о высоком и священном, не верьте. Когда умирал Сократ, его мужской орган принял боевую готовность, это видели все ученики. Чудо! — вскричал порочный старый мудрец. — Эрекция на смертном одре! От моего имени принесите в жертву Богу любовь петушка!»
Так и я в эту минуту умирала от блаженства при виде моего лорда, его глаз, его тела и думала о том, что могла бы им обладать.
Сгорая…
Я горела, горела — может, я умерла и попала в ад? Но нет, руки мои, сердце, голова были холодны как лед.
И я заставила себя холодно встретить этот опасный взгляд.
— Что все это значит, милорд?
Он рассмеялся странным диким смехом:
— Это не измена, хоть и выглядит подобием измены! Я не замышляю никакого предательства, хотя вернулся очистить себя от предательских наветов, разогнать подлых наушников, что клевещут вам на вашего преданнейшего и вернейшего слугу…
Кто с ним? Я не сводила глаз с его искаженного лица, однако боковым зрением видела в дверях частокол обнаженных мечей — это не мои люди.
— Где стража? Я не решалась позвать из страха быть заколотой.
— Милорд, пощадите королеву, коли надеетесь на милость Божью!
Это воскликнула моя верная Уорвик. Мой лорд взглянул на нее так, будто это она повредилась в рассудке, а не он сам.
— Бог с тобою, женщина! — сказала он удивленно. — Угроза Ее Величеству исходит не от меня!
— В этом никто не сомневается, милорд, — проворковала я. — Так зачем же было бряцать оружием? — Я махнула в сторону двери. — Здесь одни женщины, они все любят и чтут вашу светлость.
Я сделала отчаянный жест, и они, слава Богу, поняли, зашептали синими от страха губами:
Да, да, сэр! Да!» — напоминая собой хор в греческой трагедии.
Он кивнул все так же странно, словно во сне:
— Да, мадам, коли вы так говорите.
Похоже, он немного успокоился; я поспешила этим воспользоваться;
— Так что умоляю, дорогой лорд, удалитесь к себе, переоденьтесь с дороги и предстаньте передо мной во всем вашем блеске. Теперь, когда вы вернулись и у меня нет причины сидеть горюющей вдовицей, мы устроим музыку и танцы, сегодня будем пировать, праздновать ваше возвращение!
И, Господи, меня помилуй…
Он бросился передо мной на колени, облобызал руку:
— Ваше Величество, будет исполнено!
И, словно ураган, унесся так же, как и ворвался, увлекая за собой солдат.
Он видел меня в таком виде, в каком не видел никто другой, — голой в спальне. Господи, в наказание ли Ты послал мне этот последний позор? Что стало с Глорианой? Отражение в зеркале смотрело на меня с тем тупым, бессловесным выражением боли и стыда, которое я видела на лицах городских шлюх, когда на потеху ярмарочной толпе их заголяют для публичной порки.
О, я горела, горела, я горела и все же стыла…
Но я не заплакала. Повернулась к Елене, мраморной статуей застывшей позади моего кресла.
— Дайте платок, пожалуйста, накрыть голову, и меховой шлафор. И попросите слугу развести огонь, я замерзла.
Все ожили, засуетились. Я подняла руку:
— И немедленно пошлите за сэром Робертом Сесилом.
— Если Ваше Величество позволит… — Маленькая горничная еще не оправилась от ужаса и говорила с трудом. — Он уже в прихожей, однако говорит, что не покажется пред ваши светлейшие очи, пока вы не одеты, и будет ждать, пока Ваше Величество соизволит выйти.
Роберт сказал, что мой лорд не привел с собой войска. Ни воинственных сподвижников, ни солдат для дворцового переворота, только кучку ближайших друзей, отчаянных голов, которые вместе с ним сбежали из Ирландии в надежде, что я по доброте сердечной прощу и забуду неуспех тамошнего похода. Великий полководец бросил ирландскую войну и поставил все на эту последнюю карту — так, понятно. Однако столковался ли он с ирландским бунтовщиком, или с королем Испании, Папой, или с католическим французским королем сбросить меня и мое правительство — это по-прежнему оставалось загадкой.
— Вашему Величеству надо выпытать у него всю подноготную, — мрачно сказал Роберт, — пока он не взят под стражу и не отдан под суд.
— О, Господи, обязательно ли его судить?
И кто это должен, я?..
Роберт поднял на меня отцовский взгляд, взгляд законоведа.
— Ваше Величество, подумайте. Ваш граф-маршал в Ирландии вопреки всем вашим приказам вступает в переговоры с бунтовщиком и вашим врагом, возвращается наперекор ясно высказанному запрету и врывается к вам с обнаженным мечом. За каждое из этих преступлений он достоин смерти. Даже мой отец, соверши он такое, не избежал бы обвинений в измене и оскорблении величества. У нас нет выхода.
Я взвыла от горя:
— Ваш отец, будь он жив, не посмел бы так со мной говорить.
Роберт дипломатично сменил тему и продолжал настаивать.
— Однако мы должны знать, скрывается ли за ним кто-либо из недругов вашей милости — поставил ли он вашу жизнь в опасность по собственной горячности или в результате заговора.
Тогда, зная, кто вам грозит, мы, ваши защитники, сразим их без всякой жалости.
Срази, или будь сражен. Срази, или будь сражен.
О, Господи, снова?
По собственной горячности или в результате заговора?
Сердцем, а точнее, нутром я знала ответ.
Мои страхи, а не его злокозненность, сплели ту паутину тайного сговора, которая померещилась мне вчера при восходе Девы, в холодные пустые предрассветные часы. Однако, чтобы убедиться, надо за ним послать. Придет ли?
Напрасные опасения! Он явился без всякого зова еще до обеда, когда теплое сентябрьское солнышко заглядывало в окно, а в покоях стояло золотистое благоухание воска, бархатцев и белых, как звездочки, маргариток. Я вновь стала Глорианой, разодетая пышно и дерзко, словно для парадного обеда в честь дюжины заморских послов. На мне было платье тяжелого черного бархата, скроенное по новой моде целиком, но по-прежнему утянутое в талии. От ворота к подолу шла причудливая цветочная кайма — маргаритки, составленные из жемчужин, с листочками-изумрудами, рубиновые розы на золотых стебельках, плоскогранные сапфиры цвета синих чернил. Воротник был выше, шире, белее, жестче, ажурнее всех прежних, парик венчала диадема — жемчужно-сапфировый нимб. На поясе и плечах победно пламенели алые банты. Теперь я была Глориана, Венера, Юнона, Ирида с радугой в руках, языком молнией и карающими громами наготове.
— Пригласите милорда — скажите, он может войти.
А к левому рукаву я прицепила рубиновое сердце на золотом, любовном, узелке». Заметит ли он, отметит? Он вошел, свободный от всякого чувства вины, словно райская газель на заре времен.
При нем не было меча, кинжал в золоченых. инкрустированных ониксом ножнах висел на боку — я знала это — исключительно для красоты. В перламутровом шелке, расшитом золотыми и топазовыми бусинами, с золотой цепью на шее, с кружевными отворотами, с большой жемчужиной — моим символом! — в ухе, он, как и прежде, умел пустить пыль в мои слабеющие глаза.
— Навеки ваш. Ваше Величество, — покуда вам угоден!
О, он был очарователен!
И снова жар, идущий от женской сердцевины, женского нутра, пышущий жар…
Он преклонил колено, смиренный, ласковый, приложился к руке:
— Окажите мне милость. Ваше Величество, одарите хоть словечком.
Я отвечала спокойно и очень тихо:
— Это будет слово упрека за вашу дерзость…
Он по старинке вскинул было голову, но одумался, покаянно опустился рядом со мной на колени:
— Покарайте меня, миледи, накажите за содеянное.
Он, словно цветок, поник головой. Я с трудом овладела собой:
— Зачем вы вернулись?
Глаза у него были дикие, напуганные, как у ягненка, лицо — очень бледное.
— Чтобы вас видеть!
— Чего вы хотите?
— Ничего, только служить вам смиренным, благодарным сердцем.
Он рассеянно провел рукой по лбу, по волосам.
— Вы изменились, милорд.
— Да. — Он отвечал тихо и растерянно, словно заблудился в тумане.
Здоров ли он? Это не тот человек, который переступил через меня, через мои приказы.
Будь начеку! Будь начеку!» — звучало в голове.
Однако предательское сердце ликовало.
Неужто ом усвоил урок? Неужто гордый дух смирился, неужто мой дикий жеребец укрощен, объезжен, послушен моей руке, узде, шпорам?
Мои приближенные неестественно замерли, словно актеры в живой картине. Теперь они расслабились. Елена выступила вперед, за ней горничные.
— Ваша милость отобедает с милордом? Желаете вина, или цукатов, или десерта? С кухни только что принесли бузинного желе…
— Нет, ничего не надо, оставьте нас.
По моему знаку все выскользнули из комнаты, мы остались вдвоем.
После стольких обид и горестей он здесь, сейчас…
Он стоял на коленях рядом с моим креслом, совсем-совсем близко, солнечный луч из окна превратил его локоны в золотую кудель, нимб, как и у меня. Я впервые увидела золотой ободок вокруг его дивных зрачков, увидела их черные коралловые глубины. Он сбрил ненавистную бороду, оставил лишь коротенькую эспаньолку, как у Робина, прелестную, мужественную, ее так хотелось погладить…
Он смотрел мне в глаза, потом потупился, словно девственник в первую брачную ночь.
Дыхание его участилось, как и мое, пряный аромат его волос пронизывал мое существо, с неестественной четкостью я различала каждый кориандровый завиток волос на его шее, нежный румянец щек, алый колодец дивного большого рта…
Он поднял голову, заглянул в глаза, на ощупь отыскал руку, повернул на пальце перстень, свой давнишний подарок, мои пальцы тем временем нащупали и гладили теплый ободок, кольцо, которое я ему подарила.
— О, мой лорд, мой лорд!
Отныне мне звать тебя отверженным…
Из глубины его души вырвался вздох:
— О, моя сладкая королева!
Он закрыл глаза.
Он был здесь, со мной, он был мой…
О, Робин, Робин, любовь моя, моя единственная любовь…
Я, как и он, закрыла глаза, скользнула рукой по его шее, погладила лицо. Потом, словно и не я, не понимая, что делаю, сжала его лицо ладонями, притянула к себе, припала к его губам в долгожданном, желанном, запретном поцелуе…
Поцелуй был немыслимый, невообразимый, поцелуй, от которого трепещет изумленная плоть, манна небесная, амброзия, поцелуй, долгий, как мое изгнание со брегов любви.
Долгий, как жизнь…
…как смерть…
Он вздрогнул, словно жеребенок, отпрянул, уставился на меня, чувства молниеносно сменялись на его лице. И вдруг я увидела мальчика, того самого, что вырвался из моих объятий двадцать лет назад, в нашу встречу у Берли.
Любой ребенок назвал бы меня тогда старой — накрашенную, в морщинах, ничуть не более желанную, чем Медуза Горгона или древняя королева змей.
Что он подумал сейчас?
Мне все равно.
Я получила, свой поцелуй, поцелуй Пуды, горький и сладкий, ведь за, дверьми стояла стража, чтобы его взять. Но поцелуй, которого я желала, — поцелуй, которого я заслужила.
Бери что хочешь и плати за это, говорит Бог.
Женщина Елизавета свое получила. Теперь дело за королевой.
— Стража!
Его допрашивал Тайный совет, все, кто был со мной, и все, кого удалось в спешке собрать, — Роберт и Говард, Бакхерст и лорд-хранитель печати, молодой Ноллис и молодой Кобем.
— И хотя допрос длился пять часов. Ваше Величество, решение приняли меньше чем в пять минут, — доложил Роберт.
Роберт никогда не носит ароматического шарика и не душит волос; когда он входит, от него никогда не пахнет мужчиной. С чего бы это? Я закрыла глаза.
— И?..
Я не хотела слышать ответ.
— Выяснилось лишь то, что было известно и ранее. Однако милорд Эссекс не объяснил своих действий и не представил оправданий. Даже за малейший из его проступков кара — смерть.
Вряд ли остается другой путь, кроме как немедля заключить его в тюрьму и сразу судить.
Я набрала в грудь воздуха:
— Больше ничего не известно?
Роберт сделал паузу, потом сказал со старательным нажимом:
— Ничего больше не выяснилось, никаких новых признаний не получено. Однако переговоры с ирландским бунтовщиком так и не получили объяснения.
Я сухо рассмеялась:
— Однако это уже не такая и загадка, сэр Роберт. Если мой лорд не замышлял низложить меня и захватить трон, если он не в сговоре с нашими внешними врагами, то с кем же?
Роберт притворился, что раздумывает.
— Верно, госпожа, он мог помышлять о том, кто, возможно, унаследует ваш трон. Однако согласно завещанию вашего покойного батюшки вмешиваться в дела престолонаследования само по себе измена.
Измена — рассуждать о том, кто меня сменит?
Измена — думать о последнем из Тюдоров, короле, более известном как Стюарт, о молодом Якове, говорить о нем с Тироном?
Уверена, они все о нем думают, ведут с ним переговоры, состоят в тайной переписке. Как королева на пороге библейских семидесяти лет, я не могла бы уважать человека, который не заглядывает вперед, не взвешивает возможности, да, и не старается подстелить соломку!
Наши взгляды встретились. Очи Роберта были чисты, как омут, точь-в-точь у его отца, когда тот особенно лукавил.
— Да, милорд секретарь, — сказала я с недрогнувшим литром, — надеюсь, что всякому, кто участвует в таких изменнических сношениях, достанет ума и сноровки сохранять их в тайне.
Я смотрела на Роберта в упор, но он выдержал мой взгляд.
— Безусловно, мадам, — согласился он. — В противном случае такой человек не годился бы в советники кошке, не имел бы права жить, тем паче — жить и служить Глориане, такой, как Ваше Величество.
Я кивнула:
— Совершенно верно.
Роберт заколебался:
— Так что же делать с милордом?
Действительно, что?
Бросить в тюрьму — разумеется, однако, пока я в силах этому помешать, его не казнят!
Сколько ни возмущались Говард и Рели, сколько ни писал мне Фрэнсис Бэкон (бывший протеже и соратник моего лорда, державшийся за него, покуда тот, словно Икар, не подлетел слишком близко к солнцу, после чего люди поумнее поспешили отыскать покровителей в других сферах), я не могла лишить его жизни.
— Ваше Величество, назовите мне хоть одну причину, по которой этот негодяй не достоин смерти! — взывал Рели.
Я не могла назвать ни одной, кроме твердого убеждения, что он не совершил измены, не злоумышлял против моей короны. Да, он по-детски тщеславен и бесконечно обидчив, но совершенно не опасен, разве что для моей гордости. Он оскорбил меня лично, но угрозы державе не было. Опрометчивость его поступков доказывала, на мой взгляд, что он не в себе. И впрямь, недуг, тлевший в нем со дня приезда в Ирландию, разыгрался не на, шутку. Заключенный в Йорк-хауз, он слег с болезнью настолько тяжелой, что все удивлялись, как он вообще добрался до Англии живым.
Дьяволовой задницей называют Ирландию — даже дизентерия там хуже, чем где-либо еще.
Господи, не дай ему умереть, как умер его отец!
Он находится между жизнью и смертью, не ведая, что творится в мире и какое ему готовится наказание. Мне показалось излишним издавать королевский указ, подтверждающий его арест, воспрещающий ему занимать государственные посты, являться ко двору и приближаться к моей особе ближе чем на двадцать миль, когда у него сил меньше, чем у самого слабого в помете суточного поросенка, и, подобно этому жалкому существу, он не в силах даже открыть глаза.
Суждено ли ему было умереть?
Господь так не считал.
Однако что-то умерло. Ибо тем поцелуем я с ним попрощалась, и лорд, которого я любила, для меня умер.
Однако не для него самого. В те дни, когда год катился к Рождеству Христову, раскручивая маховик следующего столетия, и весь мир, затаив дыхание, молился о наступлении новой эры, когда в 1600 году обновлялся век, мой лорд, подобно Лазарю, воскрес. Но что такое жизнь без любви, занятий, общества? А особенно без денег — теперь, когда мои щедроты и его кошельки истощились, кредиторы слетелись, словно стервятники на раненого зверя. Запертый в Йорк-хаузе, мой лорд гнил без употребления, а мир шел вперед без него. Я мечтала его отпустить — нужно быть извергом, чтобы держать такую птичку в клетке. Ведь простил же Господь блудного сына! Однако меня и так бранили за опасную снисходительность, и едва ли хоть один из моих лордов не обрадовался бы, увидев его в гробу, и не побежал бы босиком, приплясывая, за его катафалком.
И все же я пыталась! Словно нежная мать, я не оставляла надежды, что непутевый отпрыск наконец исправится.
Подходящее поручение, чтобы испытать одного из моих юных лордов — того, кто никогда не был его врагом и может еще стать другом.
— Передайте моему лорду в любезных выражениях следующее. Если он хотя бы выкажет раскаяние, проявит искреннее сожаление, если он решится служить мне, как я сочту нужным…
— Будет исполнено, Ваше Величество!
Юный Вильям Ноллис, раскрасневшийся от спешки, вернулся из Эссекс-хауза раньше, чем, я думала, он ушел. Я протянула ему руку для поцелуя:
— Ну, что он сказал?
Он замялся, изменился в лице, смущенно прошелся по комнате:
— Ручаюсь, милорд не в себе, и телом, и духом! Когда я пришел…
— Что он сказал?!
Ноллис упал на одно колено.
— Простите меня, мадам, — воззвал он. — Не вините за грубость его языка!
— Говорите!
Он пробормотал так тихо, что я еле разобрала слова:
— Ваше Величество, милорд Эссекс сказал:
Клянусь Богом, ее условия так же кривы, как и ее стан!»
Я улыбнулась. Почти так же кривы, мой сладкий лорд, как ваш бедный заблудший дух. Взглянула на обмершего от ужаса Ноллиса и ободряюще хохотнула:
— Ладно, сэр, посмотрим, может быть, кривая старая черепаха еще обгонит молодого зайца! Благодарю за услугу…
Жаль моего бедного лорда! Вместе с благоразумием он утратил теперь и ясность рассудка.
— Он просыпается по ночам. Ваше Величество, и страшно кричит во сне, — докладывал человек, чьему надзору я его поручила. — Трепещет за свою жизнь и ругает сэра Роберта Сесила виновником своих бед!
Господи, за что? Как мой лорд, рожденный любимцем природы и королем меж людей, отмеченный ростом, статью, лицом, мог так забыться, чтобы ревновать к горбуну, бедному пигмею, выброшенному на свет недоделанным, уродцу, чью тень облаивает каждая собака!
Ради его душевного и телесного здоровья я разрешила моему лорду вернуться в собственный дом на набережной.
— Пусть остается под надзором моих тайных советников! — предупредила я Бакхерста. — Однако я позволяю ему получать и отправлять письма, принимать гостей и начинать жизнь снова, покуда он никому не причиняет вреда.
Воспользуется ли он этим шансом, этой отсрочкой? На следующий же день, как я и ожидала, от него пришло первое письмо. Я, словно школьница, спрятала его на груди, под корсажем, и на весенней пойме у Ричмонд-парка, когда моя свита прогуливалась в отдалении, дрожащими руками развернула пергамент:
Сладчайшая королева!
Вашему всеведущему Величеству известно, что через неделю истекает срок моего откупа на продажу в Англии сладких вин. Без него я не смогу содержать себя, оплачивать кредиторов или держать голову прямо, как самый жалкий из людей.
Если б я мог рассчитывать на милостивое продление…»
От реки сильно тянуло вонью, жадные голоса дерущихся из-за корма птиц резали слух.
О мой лорд, мой корыстный пеликан! Я ждала любви, смирения, нежности, а он просит денег.
И даже не просит, а громко требует: Возобновите мои доходы, позаботьтесь о моих долгах, или я погиб!»
Я в тупом отчаянии расхаживала по берегу.
О, вы страдаете от эгоизма, мой лорд, и от неуемного аппетита. Голова шла кругом, страхи и желания вились вокруг меня, словно комары. Неужто никакой надежды?
Однако что такое любовь, если не один нескончаемый акт любви? А загубленная любовь, когда она возвращается, становится лучше прежней, сильнее, слаще. Из сильного выходит сладкое»[13], учит нас Господь устами Самсона.
Я сжала его глупое письмо в ладонях, поцеловала. Я не брошу моего Самсона львам. Я буду делать, что делала всегда: ждать, ждать и надеяться.
Весь тот год мир ждал от него, от меня, что мы выскажем нечто недосказанное. За каждым моим приближенным, за каждым поступком маячила тень моего невидимого лорда, он не шел у меня из головы. Что греха таить, мне было приятно угадывать его руку за каждым усилием его друзей напомнить мне о его существовании. На то Рождество в моде был новый сочинитель, очень остроумный каменщик Джонсон, Бен Джонсон или что-то в этом роде. На Крещенье он поставил пьесу под названием Забавы Синтии», там пели прелестную песенку в мою честь:
Час царице воссиять!
Феб на отдых отошел,
Так войди в чертог и сядь
На серебряный престол.
Однако и в этой бочке меда оказалась ложка дегтя, а именно последние две строчки:
Как ты Гесперу мила,
Превосходна и светла!
Неужели мой лорд устами каменщика намекает, что я мила ему светом своих щедрот? Ободренная духом нового начала, я решила быть великодушной, снова стать Синтией, Дианой, Юноной, Глорианой. Месяц спустя, когда февраль начался новым Сретеньем, новым празднеством света, новым величаньем Пресвятой Богородицы, я пролила свой свет на моего лорда, даровав ему полную свободу.
Впрочем, я и сейчас не верю, что к нему действительно вернулись здоровье и силы, что он вновь стал собой. А ухаживали за ним, распаляя собственную ненависть ко мне, две волчицы — мать Леттис и сестра Пенелопа.
Леттис ревновала ко мне с младых ногтей. Она отняла у меня Робина, за что поплатилась двадцатью годами позора. Теперь она была замужем за Китом Блантом, ближайшим другом и соратником моего лорда, который последовал за ним в Ирландию и разделил тамошнее поражение. Ее дочь, наглая Пенелопа, познакомилась с Блантом у матери и воспылала преступной страстью к его родичу, другому Бланту, барону Маунтжою, став его любовницей. А сам Маунтжой в Ирландии — командует войсками вместо моего лорда и держит в руках ключи от ненадежной задней двери в Англию…
Вот какой узелок завязался, вот какое гадючье гнездо, включая отвратительного Саутгемптона и толпу ирландцев, в том числе чудовищного Ли, того самого, что прислал мне голову казненного бунтовщика, обреталось каждый день в Эссекс-хаузе, питая тщеславие моего лорда и раздувая его безумие.
Да, безумие. Я сознательно употребляю это слово. Уж если кого боги желают погубить, лишают разума. И только безумец швырнул бы свою жизнь, как перчатку, под ноги женщине — тем более женщине, которая, как я, столько боролась за его бесценную жизнь.
На что он употребит дарованную свободу?
Как покажет мне свои замыслы, свои чаяния?
Я по-прежнему надеялась и ждала с замиранием сердца.
И вот оно пришло, налетело из-за левого плеча, черное, страшное против солнца. Однако нацелено было точно в основание моего трона.
Актерам, труппе лорда-камергера, заплатили, чтоб те поставили Ричарда II», разыграли свержение короля. Я потребовала Хансдона, моего лорда-камергера, и, расхаживая по комнате, заливаясь гневными слезами и ломая веер, завопила:
— Ваши актеры — изменники! А этот борзописец Шекспир, он же взял мой шиллинг, я заплатила ему из собственного кармана! Сочинители хуже шлюх, нет ни одного, кто бы не продался за деньги!
Бедный честный Хансдон побелел от моего гнева.
— Ваше Величество, лондонские театры ставят по двадцать пьес в неделю, в том числе из нашей истории. Ручаюсь, — продолжал он дрожащим голосом, — в этой пьесе нет ничего опасного, никакой угрозы государству, ровным счетом ничего предосудительного!
Я не выдержала.
— Ради всего святого, кузен, — простонала я, — откройте ваши слепые глаза. Ричард Второй — это я! Разве вы не поняли?
Когда ее ждать, попытку государственного переворота?
Потому что теперь каждая собака на улице знала о неизбежности мятежа.
Первым его вспугнул Рели, мой старый морской пес и землепроходец, который чуял врага за милю. Он первый выбежал с криком мне навстречу тем горьким воскресным днем после Сретенья, когда я выходила из церкви:
— Ваше Величество, вооружайтесь! Милорд Эссекс поднял оружие на вас!
Глава 10
Я отдала бы обе жизни, и свою и его, чтобы этого не случилось. Но так предначертал левой рукой Господь. А нам. Его детям, должно склоняться перед Его карой и, рыдая, целовать бич.
— Меня предупредили за час до рассвета, миледи, — продолжал Рели. — Старый офицер, служивший под моим началом в Ирландии, пришел сказать, чтобы я держался подальше от двора и Сити, ибо, клялся он, сегодня там прольется кровь.
Dies irae, dies sanguinus… День гнева, день крови, вот ты и наступил?
О, мой лорд, мой лорд!
Мы стояли в замерзшем церковном дворе, мои лорды тихо сомкнулись вокруг меня.
Роберт с жаром подался вперед:
— И больше вы ничего не выпытали?
— Когда они начнут? — подхватил Говард.
— Клянусь Божьей кровью, я пытался! — взорвался Рели. — Хотя он пришел как друг, я приставил ему к горлу кинжал, и, даю руку на отсечение, он больше ничего не знает! Однако не секрет, где в Лондоне собираются сбежавшие из Ирландии крысы!
Вот уж действительно не секрет, кто привечает у себя бывалых вояк, будь то последняя мразь.
— Так что я первым делом вскочил в лодку и велел, грести к дому милорда Эссекса, — торопливо продолжал Рели. — При моем появлении дозорный поднял тревогу. В следующий миг рядом с нами просвистела пуля.
Значит, вооруженный мятеж — неужто он все-таки замахнулся на измену, которую даже я не смогу простить! Я взглянула в бледное и разгоряченное лицо Рели и чуть не расцеловала его в васильковые глаза.
— Благодарение Богу, что вы целы, сэр Уолтер! Его рука спасла вас от смерти!
— Скажите лучше, крепкие руки моего доброго гребца., — мрачно отвечал Рели. — После первого же выстрела он быстро развернул лодку, и мы полетели, словно за нами черти гонятся! Однако ошибки быть не может, они там вооружены!
— Кто зачинщики? Кто засел в Эссексхаузе?
Роберт ответил без запинки:
— Все — хорошие знакомые Вашего Величества, все, за кем мы в последнее время установили надзор: сам милорд, его сподвижники, лорд Саутгемптон и сэр Кит Блант, с ними ирландское отребье, сержанты, капитаны и всякая мелкая сошка.
О, мой лорд, мой лорд, ни один из них не достоин развязать завяжи на вашей обуви! И в таком-то худом решете вы отважились выйти в море?
Они говорили, а я рыдала, не потому что, как они думали, испугалась вашего мятежа, но потому что скорбела о вашем падении, вашей роковой ошибке, вашей бесконечно обидной глупости.
Запах страха сгущался. Мы сбились в кружок, словно дети, ожидающие возгласа Отомри!», когда вбежал гонец с раскрасневшимся диким лицом и криком, которого мы все страшились: Заговор против королевы! Мятежники хотят отнять у нее корону, а затем и жизнь!»
Я предупреждала его, я сказала прямо — личное оскорбление я простить могу, умысел против моего трона — никогда. Моего трона? Нашего трона, державного трона королей, наследия Тюдоров, которое досталось мне от сестры, ей — от нашего брата, ему — от отца, а отцу — от основателя нашей династии. Как могла я простить подобное посягательство?
За этот трон я в юности чуть не поплатилась жизнью. За то, чтобы продержаться на нем сорок лет, я заплатила жизнью, несбывшейся надеждой иметь детей, здоровьем, душевным спокойствием, кровью в моих жилах.
Взять, удержать, сберечь — так говорят в народе. Ему бы следовало знать это.
Значит, никакой пощады Икару, которого безумие увлекло к самому Солнцу. Однако даже сейчас, бессильный помочь себе и тем более мне, он еще может помочь Англии. Он покажет нашим заморским друзьям и доморощенным недругам, что Англия верна Тюдорам, как в день Босворта, в день воцарения нашей династии. Пусть поднимает мятеж. Тогда мир увидит, что Англия признает лишь одну владычицу, Глориану, королеву Елизавету!
— Сэр Роберт!
— Ваше Величество?
— Не будем действовать сгоряча — будем искать мира даже на острие меча. Пошлите к моему лорду и его союзникам депутацию тайных советников, пусть учтиво попросят его предстать перед советом и объясниться.
— Будет исполнено, мадам.
Я знала повадки моего лорда. И если мой зов подействует на эту мягкую, но яростную глину, как я рассчитываю…
Ладно, посмотрим.
Разгадал ли Роберт мой замысел, унюхал ли, почувствовал ли нутром, как это нередко случалось прежде? Ибо он осуществил его быстрее мысли.
Однако не его рука качнула весы, нет, и не моя.
То, что произошло, было предопределено силой, рядом с которой мы все — ничто.
Ибо события устремились по предназначенному пути, в направлении, указанном на небесах до начала времен, до того, как земля обрела форму и субстанцию, по пути, положенному нам в тот миг, когда Божья рука, лепя человеческий род, подарила нам наше обиталище, сотворила планеты и зажгла звезды.
Мои лорды вступили в Эссекс-хауз и увидели, что он кишит отчаянным сбродом, а в воздухе висит безумие, словно в охваченном чумой городе, где каждый кричит: «Sauve qui pent! Спасайся кто может!» Лорд-хранитель печати Эджертон, сопровождаемый королевским герольдом, остановился посредине двора и зычно повелел моему лорду распустить соратников, сложить оружие и немедленно явиться ко двору, и его примут со всяческим почетом. За эту любезность все четверо посланцев в пять минут были схвачены моим лордом и заперты в Эссекс-хаузе.
Итак.
Сработало.
И вот, пока мы расхаживали по прихожей Уайтхолла, вбежал другой запыхавшийся гонец:
Милорд поднял восстание, весь Лондон идет за ним. Сити вооружается против королевы!»
Я коротко рассмеялась в бледные лица окруживших меня придворных:
— Мужайтесь, милорды! Пусть восстает — за ним не пойдут! Против меня — нет!
Самый воздух прошелестел общей молитвой:
Дай Бог, чтобы она оказалась права!»
Однако, подобно Кассандре, которую отвергнутый Бог наказал даром прозрения, я не радовалась своему предвидению. Ведь, если я права, мой лорд бросается в пучину заблуждений столь глубокую, что самому Богу его не вызволить.
Каждую минуту поступали новые вести.
— Милорд вышел на улицу, за ним бежит его сброд!
Я должна была убедиться.
— Как он выглядит?
— Дико, мадам, словно сбежал из бедлама.
Думаю, так оно и было, им владело исступление. В последующие годы будут писать о восстании» моего лорда, о его мятеже», однако в действительности это больше походило на парад шутов или умалишенных — он, словно оглашенный, бегал по Сити, сопровождаемый своим разношерстным воинством, и вопил: За королеву! За королеву! Ко мне, добрые люди! Меня хотят убить!
Ради Бога, ко мне!»
Безумие, безумие, он был одержим семью бесами, его пожирал его собственный нечистый дух.
— И впрямь все нечистые духи взялись ему помогать! — мрачно заметил Бакхерст, когда подоспели новые вести: сэр Кит Блант велел своим людям убивать всякого, кто станет на их пути, свирепая Пенелопа раскатывает по городу в экипаже, убеждает первых встречных поддержать брата.
— Впрочем, один лорд, едва она затащила его в карету, выпрыгнул в другую дверцу. Он поспешил сюда засвидетельствовать свою верность. Ваше Величество хочет с ним поговорить?
— Позже, позже, успеется…
Пенелопа. Без сомнения, она уже видит себя королевой рядом с братом в этом новом королевстве-без-королевы. Однако она, как и он, мочится желчью против ветра.
— Новости, мадам, о войске милорда Эссекса: общим счетом меньше двух сотен.
— Они направляются к собору Святого Павла с целью поднять народ после службы…
— Но они опоздали, прихожане разошлись по домам, нигде ни души…
— И на каждой улице, где они ищут поддержки, к ним поворачиваются спиной…
О, Господи, я видела все так ясно, словно сама присутствовала! Он, перед которым открывались все сердца, все двери, бегает, словно грешник в аду, под дьявольский стук хлопающих дверей и ставен, а женщины, которые целовали его стремя и забрасывали его путь розами, прячут детей, словно у него рога и раздвоенные копыта.
Наконец он подбежал к дому лондонского шерифа, потребовал ополченцев из Сити и свежую рубашку, потому что сильно вспотел (а день был февральский, морозный).
— Сию минуту, милорд, — учтиво отвечал шериф, а сам выскочил с заднего крыльца и поднял тревогу.
Они прождали час с лишним, а потом, утратив всякую надежду, вернулись в Эссекс-хауз.
И здесь я потеряла его: потеряла чувство сострадания к нему, потеряла человека, которого любила.
Когда мой лорд понял, что побежден? Что проиграл игру, а с нею и жизнь? Что одним отчаянным поступком лишился всего в этом мире и своего места в нем?
Или он уже знал, что у него нет будущего без моей любви и поддержки, без моих денег, моего долготерпения? Знал с тех пор, как потерял меня после бегства из Ирландии, после того, как вторгся в мою опочивальню, надругался над моей женской гордостью, — понял ли он тогда, что обречен?
А он был обречен. Словно великий Гектор на стенах Трои, когда того покинули боги, он остался в одиночестве. Вернулся в Эссекс-хауз, заперся в своих покоях, и что он там перестрадал, никто сказать не может.
— Милорд, милорд! — весь вечер не смолкал настойчивый стук в дверь и крики. — У причала ждет лодка, начинается отлив, бегите, сядьте на корабль, бегите во Францию!
Однако ответом была лишь неземная тишина.
День клонился к закату, Лондон затихал в воскресной дремоте, даже мыши не шебаршили.
Под вечер мэр и все олдермены, яркие в своих золотых цепях и мантиях, явились ко мне с приветствием от Сити:
— По правде сказать, Ваше Величество, войска, которые мы поставили охранять Сити, жалуются, что замерзают от безделья, им нечего делать!
И едва затеплились свечи, едва догорел его последний вольный денек, мой лорд отпустил заложников, сломал меч и сдался на милость судьбы.
Их судили в Вестминстере, его и Саутгемптона, судили двадцать три пэра. Кроме вооруженной попытки свергнуть меня с престола ему вменялась изменническая переписка с Испанией и с Шотландией — со всеми, кто соглашался выслушать его дикие предложения посадить их на мой трон в обмен на сохранение за ним должности лорда-генерала. Я получила мрачное удовлетворение от вести, что юному Якову Шотландскому достало ума не согласиться ни на что определенное. Однако он, как и следовало мудрому политику, держал моего лорда про запас.
Начался суд. Бланта судили на следующий день, признали виновным и еще через день обезглавили. Тогда же казнили и негодяя Ли, которого взяли в Уайтхолле на пути к моей опочивальне — он удумал взять меня в плен и потребовать жизнь моего лорда в обмен на мою. Как простолюдин, он не сподобился топора, но к виселице шел бодро и, по правде сказать, заслужил не одну смерть. Приятно подумать, что старая ведьма, которую он сжег, четвертованный ирландский бунтовщик и многие другие, кто вполне обоснованно проклинал час его рождения, дождались, когда он к ним спустится, — теперь у них впереди целая вечность, чтобы потолковать по душам.
Однако мой лорд, мой дикий жеребец, бился до последнего. Даже на суде, когда обличали его вину, он пытался сразить обвинителей их же оружием.
— Слушайте меня, милорды! — кричал он, его звонкий голос отдавался под гулкими сводами Вестминстер-холла. — Слушайте, если дорожите жизнью королевы! Ибо возле нее притаился изменник, чьи преступления много гнуснее тех, в которых обвиняют меня!
— Что он сказал?! — вскричала я, когда Роберт сообщил мне об этом. — Что советник, которому я доверяю больше всех, доверяю всем сердцем, повинен в государственной измене?
Роберт склонил голову. Он был очень бледен.
— И что этот советник в сговоре с врагами королевы, что он переписывается с Испанией и Шотландией.
Я не знала, смеяться мне или плакать.
— И милорд говорит, что этот изменник близок ко мне?
Роберт вытянулся во весь свой крошечный рост с достоинством, которым может похвастаться не всякий здоровяк.
— Ближе некуда. — Его глаза блестели от слез, он дрожал всем телом. — Ваше Величество, он обвинил меня.
О, мой бедный пигмей! Даже сейчас ему было не укрыться от застарелой ненависти моего лорда.
— Я не верю в это, не поверила и на секунду! — страстно вскричала я. — Никто не поверит! Не считайте себя обязанным защищаться от такого жестокого поклепа!
Однако он был уязвлен в самое сердце.
— Мадам, я должен!
Всю ночь он трудился над речью в свою защиту и на следующем заседании попросил у судей, чтобы ему позволили отвести прозвучавшие обвинения. Господи, какая жалость, что меня там не было! Многих королей, лордов и вельмож перевидал Вестминстер-холл, это тысячелетнее седалище правосудия, но Роберт в тот день произнес, наверное, самую благородную речь из всех, что когда-либо звучали в защиту жизни и правды.
— Милорд, — начал он с вызовом, — вы бросили мне страшное обвинение, и я презираю вас от всей души. Ибо по уму я уступаю вам, вы наделены им в избытке. Уступаю я вам и в знатности рождения, ибо я не знатен, хотя и горжусь званием джентльмена. Я не воин, а ваша светлость оделены и этим даром, здесь вы тоже впереди.
Однако у меня есть честность, совесть и искренность, чтобы защищаться от пересудов и от жала клеветнических языков. Я отстаиваю верность, которой никогда не изменял. Вы отстаиваете измену, которая владеет вашим сердцем. Я признаю, что размышлял о будущем королевства. Я говорил, что король Шотландский может претендовать на этот трон и что король Испанский мог, когда шотландская королева объявила его своим наследником, и я отрицаю, что это — измена. Вы же, милорд, поставили себя в один с ними ряд, вы домогались власти, вы искали возможность низложить королеву!
Ax, мой добрый лорд, если бы это была только ваша трагедия! Однако вы увлекли в свой мятеж дворян и джентльменов, и кровь их вопиет об отмщении!
Роберту хлопали так, что дрожали потолочные балки, его признали невиновным. Вся Англия ликовала и благодарила Бога за мое спасение. Снова я стала Глориана, королева Елизавета. Однако для моего лорда приговор был только один, только одно решение одетых в черное судей, возглашенное парламентским приставом. Я сказала ему, что прощу любые проступки против меня как женщины — и. Господь свидетель, мужчину, которого я любила, любила когда-то, я продолжаю любить.
Однако он пренебрег моим предупреждением. Человек, который не захотел стать моим возлюбленным, стал возлюбленным смерти. Суд был честный, судьи — достойные, вердикт — единственно возможный.
Вскоре мне принесли смертный приговор.
И вчера ночью я его подписала.
ЭПИЛОГ
Дворец Уайтхолл
25 февраля 1601 года
Больше свечей, в последний раз, чтобы разогнать тени прошлого! И подбросьте дров, ибо мороз приберегает самые жестокие щипки на этот кладбищенский час, час перед рассветом. Однако не переусердствуйте с огнем, не переусердствуйте, ибо в часах пересыпаются последние песчинки, и наша пьеса почти доиграна. Немного вина промочить горло, немного aqua vitae для моих зубов, и дайте мне зажечь последнюю свечу в пятисвечье моей повести.
Он назвал меня незаконнорожденной.
О, Господь любит не только шутить. Он еще обожает водить свои смертные создания по кругу.
И вот, с тем же пятном, с каким и родилась, я приближаюсь к смерти.
Незаконнорожденная ли я?
Мой отец надрывал пупок, чтобы этого не случилось. Оправдай Папа Климент свое имя, которое означает милосердный», прояви он снисхождение к Генриху, когда тому понадобилась новая жена, никакой вопросительный знак меня бы не коснулся. Однако тогда наша страна осталась бы под римской клюкой, вам такое в голову не приходило?
Честные английские граждане и их краснощекие жены по-прежнему бормотали бы мессу, перебирали четки, вымаливали бы (и оплачивали) индульгенции Святого Отца, били поклоны и тряслись над святыми мощами.
Получи Генрих развод с королевой Екатериной, он никогда не порвал бы с Римом. Да, да, знаю, это ересь, добрый король Генрих сжег пятнадцать человек за куда более умеренные высказывания, хотя он, как защитник нашей веры, и назвал их лоллардами[14].
Однако это правда.
Суровый Климент подпортил Генриху климат для свадебного путешествия, а помог ему в этом Священный Римский Император Карл. Его Иператорское Величество не особенно пекся о своей старой тетке Екатерине Арагонской, однако предполагаемое оскорбление семейству и собственной испанской гордости проглотить не пожелал. Священная кавалерия поскакала на север, римские копейщики взяли в кольцо Престол святого Петра, где раздумывал над ответом Папа. Как только Карл приставил меч к папскому горлу, на Климента снизошло озарение. Брак королевы Екатерины останется нерушимым.
Однако королю было уже наплевать на все это. Не любовницей, но супругой, получившей титул маркизы из рук самого короля, повез он Анну во Францию. Грудь ее украшали изумруды и сапфиры, она кушала черепаховый паштет и павлинов в тесте, танцевала на атласе и спала на шелке. Тем теплым сентябрем, веселясь день и ночь на глазах у своего давнего обожателя, французского короля, Анна замечательно проводила время.
А когда Анна и Генрих вернулись из Франции, стало известно, что она беременна.
Беременна и не замужем.
Как ни верти, а ребенок такой женщины называется ублюдком.
— Не бойся, душа моя! — кричал Генрих, гладя ее живот на глазах у всего двора и потчуя Анну гороховыми стручками и веретенником, перепелками с ягнячьими сердцами и розмарином, спелыми вишнями, взбитыми кремами и первыми абрикосами, всем, чего желала ее душа, ради сына, которого она носила под сердцем. — Это не повредит ни ему, ни тебе!
Однако принц не должен был родиться ублюдком. А природа торопила. В начале лета Господня 1533, невиданно морозным январем, Генрих женился на Анне, потом объявил о своем разводе с Екатериной, и Англия развелась с Римом.
В мае, раздавшуюся в талии, разодетую в белую камку и горностаев, украшенную алмазами и жемчугами, Анну провезли через Сити на коронацию в Вестминстерское аббатство.
Анна — королева, королева Генриха, королева Англии.
Жена и королева.
Пусть вопящая чернь на улице перевирает ее титулы, превращая их в похабные прозвища, кричит: «Девка! Шлюха!», требует вернуть добрую королеву Екатерину» и покончить с пучеглазой потаскухой Анной». Она будет смеяться последней.
К жене» и королеве» для полноты торжества осталось добавить лишь «Мать», и это тоже не за горами. Последняя месть побежденной сопернице из Арагона — она родит королю сына.
В августе после мессы королева Анна, скрытая под покрывалом золотой парчи, удалилась к себе, лорд-камергер и вся английская знать сопровождали ее из Гринвича. Съехавшиеся со всей Европы астрологи утверждали, что звезды, под которыми родится младенец, сияют мужским огнем. Не столько для жены, сколько для будущего сына король велел принести из сокровищницы парадное ложе в виде корабля под всеми парусами, отделанное золотом и застланное восточными шелками.
В сентябре королеве подошел срок родить, начались схватки.
Весь двор замер, король затаил дыхание, весь мир ждал.
И родилась я.
Я — Елизавета, я — маленький ублюдок.
Да-да, чего ради теперь утаивать истину! Мои мысли устремляются к последнему отчету, когда все сердца и деяния обнажатся. Так почему же не поделиться с вами тем, в чем я усматриваю Божью последнюю, лучшую, царственную шутку?
Когда отец женился на моей матери, он уже был женат. Если б он формально развелся с Екатериной, расторг брак с ней до того, как венчаться с моею матерью, моя совесть была бы чиста. Но Генрих — не Софи[15], а наш Господь не разрешает мужчине иметь двух жен сразу.
Однако он рассуждал, как Софи. Он верил, что может лепить мир по своему желанию, актом своей воли. И кто скажет, что он ошибался? Его дети наследовали ему именно так, как он пожелал, как указал в своей последней воле. И только справедливо, по Божьим законам и в порядке старшинства, что законные дети, Эдуард и Мария, предшествовали младшей дочери, чей герб отмечен ублюдочной полосой.
Но почему же, имея власть осуществлять свою волю, он не объявил меня законной? О, что пользы упрекать его сейчас! Когда дело касается власти, фактическое обладание равносильно закону. Законно, незаконно, я владела, царствовала, правила, я передам по наследству. И на помощь незаконным, боги![16].
И, если я незаконнорожденная, все, знавшие моего отца, поймут, что откуда взялось!
Господи, неужели я его любила? Ведь я же его ненавидела! Неужели во всех, кого я любила, я искала лишь его тень? Неужели я выбрала своего последнего лорда, чтоб навеки истребить в себе страх, власть этих больших, грубых, рыжеволосых верзил, от которых разит мужественностью, чувственностью, энергией?
Не думаю…
Нет, его смерть послужит лучшей, более темной цели. Пусть он разбил мое женское сердце, завтра он окажет последнюю и величайшую услугу королеве Елизавете. Пусть женщина утратила любовь, надежду, будущее. Зато королева во мне взяла верх над внутренним врагом.
Кто видел или угадал мой глубочайший замысел? Все считали, что глупая старуха увлеклась юным красавчиком, любимцем Англии, и не задавались дальнейшими вопросами. Думаю, Роберт догадывался; он единственный из моего окружения настолько поднаторел в политике, что видел скрытый замысел и прослеживал его исток до самых глубоких колодцев, что лежат под поверхностью наших мыслей.
Позволяя моему лорду расцветать во всей его задиристости, во всей его дерзости, во всей готовности бросать вызов и ставить других на место, я тем самым удерживала других моих воинственных и честолюбивых лордов в границах, которые для них установила.
А допустив — нет, я не согласна на слово спровоцировав» — его мятеж, я вместе с мятежом убила и самый дух мятежа. С его помощью я показала Сити и двору, Лондону и всей стране, Европе и всему миру, что мой народ никогда, никогда против меня не пойдет! Мы волна за волной отражали тех, кто считал, что с настоящим вождем, с настоящим претендентом на трон вся народная любовь ко мне рассыплется в прах, обратится против меня. Но раз народ не восстал даже ради любимца Англии, своего великого воителя, который взял Кадис и помочился в глаза могучему испанскому королю, значит, мой трон действительно неколебим.
Теперь мы можем трубить в трубы по всему миру, доказывать, что мое правление надежно и угодно народу, что я выиграла мир, как выиграла перед этим войну, победила Папу и Францию — Францию, которая побеждала даже великого Гарри! — расквасила нос и выпорола задницу Испании, никто из них не посмеет двинуться на нас войной.
Я смеялась. Кто знает? Очень может быть, что до конца света наши берега еще увидят испанских сватов и в крике: Испанцы!» — будет звучать не ужас, а ликование.
И теперь я могу мирно передать королевство преемнику.
Преемнику? Вы спрашиваете, кому?
Спросите себя, памятуя о моей любви к порядку и законности, предпочту я передать трон по старшей или по младшей линии? Предпочту ли я потомка какой-нибудь из этих дур, дочерей младшей сестры моего отца, всех этих тщеславных Грей, умнице и книгочею вроде меня? Не напоминайте мне о сыновьях Екатерины Грей! Я не допущу, чтоб потомки этой мерзавки сели на мое место, на английский королевский трон!
Ну же, пошевелите мозгами!
Кто это должен быть, как не наш шотландский кузен?
Яков Шестой в Шотландии, он будет Первым в нашей стране — потомок старшей сестры моего отца, которую Генрих лишил права наследовать, счастливо перескочивший через свою дуру-мамашу, жирную католическую лгунью Марию Шотландскую.
В моей долгой жизни много утешений — и прежде всего радость, что я пережила других.
Особенно ее!
Маленький шотландский король получит королевство по всем правилам и, если мой секретарь Роберт прав, перешагнет с трона на трон без всяких помех. Однако я еще не намерена умирать!
В этом, 1601 году исполнится ровно сто лет с тех пор, как маленькая арагонская инфанта Екатерина, хорошенькая, розовощекая, набожная, высадилась на английский берег будущей женой юного принца Артура.
Король Артур и королева Екатерина — как оно было бы, проживи они подольше?
Мой отец вступил на престол в девятый год шестнадцатого столетия — если я проживу еще несколько лет, можно будет сказать, что целых сто лет Англией правил один человек и его дети. Однако я многое сделала для Англии — я отдала ей все! Ради нее я так и не вышла замуж, даже за самого любимого, за Робина, ради нее я заигрывала с половиной мира и сражалась с другой половиной, ради нее уготовила моему последнему лорду его судьбу — все, все ради Англии! — не требуйте от меня большего!
А теперь взгляните за окно — светает, ночь на исходе. Сегодня Пепельная среда, день пепла, день его смерти, начало моей скорби.
Рядом с моей кроватью спят две горничные — почти девочки, на мой взгляд, когда я различаю их своим угасающим зрением! Они тихо посапывают во сне, свернувшись на тюфяках у камина рядом с комнатными собачонками. Мне хочется общества, мне одиноко.
Сейчас самое зловещее время ночи. Как там мой лорд ожидает своего часа? Молится ли он, плачет ли, как, я, думает ли обо мне?
— Ваше Величество! Эй, в комнате!
Господи, как напугал меня этот стук.
— Кто там?
Это Уорвик, глаза растерянные, заспанные, — судя по туалету, ее только что подняли с постели.
— Странное послание, мадам, и странный гонец из Тауэра. Мальчик…
Из Тауэра.
— Пусть войдет.
Крошечный рядом с дюжим стражником, он казался даже не мальчиком, а маленьким эльфом — глаза ошарашенные, стриженые волосы от холода встали дыбом. Казалось, он принес с собой холод Тауэра, запах страданий, беззвучные крики боли. Меня передернуло.
— Кто ты, дитя?
— Сын тауэрского тюремщика.
Я закрыла глаза, воспоминания нахлынули волной. Когда я была в Колокольной башне, а Робин — в Бошамп, он подкупил мальчишку, чтобы тот передал мне цветы и яйцо малиновки…
Я разрыдалась от слабости. Уорвик деликатно вмешалась:
— Так поговори с королевой, мальчик. Говори, зачем пришел.
— Лорд, который сейчас в Тауэре и которого утром казнят, шлет Ее Величеству вот это.
Он разжал худой кулачок. Уорвик шумно выдохнула — она узнала. Черный, блестящий, на детской ладони лежал золотой с эмалью ободок, мужское кольцо.
Носите его ради меня, мой дорогой лорд, сказала я тогда, и, если когда-нибудь у вас возникнет нужда во мне, пошлите его мне, он принесет вам все, чего бы ни пожелала ваша душа.
О Боже, Боже…
Меня захлестнула горечь. Он должен понимать, что я не отменю приговор. Смерть будет самым красивым поступком в его жизни — как может он разменивать последние часы на жалкую, тщетную, униженную мольбу о милосердии!
Однако так умер и лорд Сеймур; ослабевший, озлобленный, он всю последнюю ночь строчил ядовитые письма ко мне и к сестре Марии, распалял в себе ненависть к брату, к лорду-протектору, обреченному вскорости поцеловать ту же самую плаху.
Меня охватила страшная душевная усталость. Я попыталась собраться с мыслями. Скажите милорду…
Скажите ему — что?
О, неужто эти слезы никогда не кончатся?
— Иди, мальчик, ты утомил королеву. — Уорвик взяла протянутое кольцо и подтолкнула ребенка к двери.
Однако тот не сдавался:
— А послание? Мне велено было передать кольцо и послание. Милорд поклялся своей душой, что, если я не передам послание, его призрак не даст мне покоя.
— Послание? — Я не узнала свой голос.
— Я его выучил! Он заставил меня выучить наизусть! Милорд сказал, — детский голос сделался старательно-сосредоточенным, — он сказал, что возвращает вам его вместе с жизнью, добровольно, как любящий рыцарь — даме своего сердца. Он молится, чтобы любовь его и привязанность жили и после него и чтобы смерть смыла с него бесчестие и унижение. Он надеется по Божьей милости — не по своим заслугам — встретить вас на небесах. А покуда вы за ним не последовали, он надеется освещать Вашему Величеству вашу долгую-предолгую жизнь и быть с вами в час вашей смерти, что есть лишь врата, которыми, как сказал он, любящий радостно проходит вперед.
О, мой лорд, мой лорд.
Любовь моя, моя сладчайшая любовь.
Детские глаза горели, как фонари.
— Скажите моему лорду… что королева взяла кольцо.
Его кольцо. Оно на моей руке рядом с тем, что подарил мне он. Знаю, коронационный перстень придется срезать с мясом, он врос так глубоко, что его не снять. Но эти два я унесу с собою в могилу.
Что дальше?
Будущее расстилается передо мной — дрожащее, безмолвное. Уорвик ушла с мальчиком дать ему денег — горничные медленно просыпаются, пока их добудишься…
И я, и мой лорд ожидаем рассвета.
Очень скоро он покинет каземат, чтобы в последний раз пройти по земле, и каждый его шаг я пройду вместе с ним. Я буду с ним в те секунды, когда он вступит на эшафот, когда положит голову на плаху и раскинет руки, обнимая смерть. И я знаю так же точно, как если б сидела у него в головах, что его последняя молитва, последняя надежда будут обо мне, Елизавете, его королеве Елизавете.
А я буду ждать, когда Господь позовет меня следовать за ним. И здесь я его увижу — не смертного, не отягощенного пороками, но такого, каким он был и каким должен был быть.
Здесь, где души почивают на цветах, нам подарят вечную любовь и радость. С нами будут Дидона и Эней, Антоний и Клеопатра — можно ли желать общества лучше?
Я уже наполовину влюблена в смерть. И ничуть не боюсь. Не боюсь отправиться туда, где мои Кэт и Робин, Берли и Кранмер, Гриндал, Парри и ее брат и все мои возлюбленные лорды.
И здесь я наконец увижу свою мать, прикоснусь к той, что подарила мне жизнь, познаю материнский поцелуй и эту всеобъемлющую любовь.
Они все ушли в мир света, все зовут меня к себе. В моих снах наяву я вижу их в сиянии лучей, и душа моя рвется к ним.
— Интересно, как это будет?
Что видела Мария Шотландская, подходя к плахе, мы никогда не узнаем. Сестра Мария, умирая, рыдала от радости и говорила женщинам, что видит маленьких деток в золотом и белом, они резвятся и поют вокруг нее — призрачные младенцы, которых несчастная так и не родила. Однако я надеюсь и верю, что детский ангельский хор не станет докучать престарелой девственнице — я бы предпочла место потише, подальше от телесной или бестелесной малышни, которая, сказать по правде, никогда меня не интересовала.
А что теперь?
Жизнь — чтобы жить, пост — чтобы горевать, а за ним весна, а там и Пасха. Всякой вещи, учит Господь, свое время, время убивать и время целить; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать[17].
Я буду плакать, да, а потом плясать. Думаю, до последнего дня я буду плясать пляску самой жизни, Эроса и Танатоса — любви и смерти.
Так, не изменяя своим покойным лордам, моему Робину, моему последнему лорду, я присмотрю себе новых кавалеров. Что до танцев, ко двору недавно прибыл юный красавчик из графства, высокий, с росой на щеках, с горящим взором, телом наездника, рыжим отливом в шевелюре и бороде…
Да, я испытаю, каков он в танце. И, Господь свидетель, я молюсь, чтобы годы не помешали мне слегка полюбезничать зимней порою в темном уголке. Я по-прежнему люблю флирт и всегда буду нуждаться в обожании.
Через несколько недель, когда нарциссы зажелтеют по нашим зеленеющим лугам и черные ясеневые почки выпустят хрупкие пятипалые листики, когда вязы оденутся голубовато-зеленой дымкой, я вновь отправлюсь навстречу Англии. Я, как всегда, поеду в летнее путешествие по уютным пастбищам и заливным лугам, мимо ухоженных хлевов и упитанных ферм.»
Передо мной раскинутся благородные леса и возвышенные нагорья, нивы и пажити, меловые холмы и горные кряжи, становой хребет Англии. Широкие реки и резвые ручьи будут журчать в мою честь, улыбчивые озера и задумчивые леса — ожидать меня, вся мощная первобытная твердыня земли, существующая со времен, когда те, кто ныне скрываются в ее недрах, были ее королями.
Англия, моя Англия — как я люблю эту землю! Ее реки струятся в моих жилах, ее суглинок — это моя плоть, ее душа — моя душа, ее гордый дух — моя надежда, мое вдохновение.
И я любила, как жила, будучи англичанкой до мозга костей, до нутра, до сердцевины! И когда я умру, какая постель, какое место упокоения мягче, чем складки этой возлюбленной почвы?
Какая мать обнимает нежнее, чем родимая сторона? Я буду сладко спать в этой священной земле, совершающей свой дневной путь, стану частью державного острова, страны великих душ, обиталища славы, Англии — моей первой и последней самой большой любви.
Отныне и вовеки я — душа Англии, я — Елизавета, я — королева Елизавета.
КОНЕЦ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В МОЕЙ ИСТОРИИ
Альба, Фердинанде Альварес, герцог Толедо, командующий испанскими силами в Нидерландах в годы перед разгромом Армады.
Анжуйский Франциск, герцог, претендент на руку Елизаветы I, прежде герцог Алансонский.
Анна Клевская, немецкая принцесса, отвергнутая четвертая жена Генриха VIII, позже провозглашенная Королевской сестрой».
Артур, принц Уэльсский, сын Генриха VII и старший брат Генриха VIII, умер в пятнадцатилетнем возрасте.
Арундел (Эрандел), Генри Фицаллан, граф, поклонник Елизаветы I.
Бабингтон, сэр Энтони, католический заговорщик против Елизаветы I.
Барнуэлл, Роберт, ирландский католический заговорщик, казненный при Елизавете I.
Бедингфилд, сэр Генри, тюремщик принцессы Елизаветы в пору ее заточения в Вудстоке.
Бедфорд, Фрэнсис Рассел, граф, военный и тайный советник Елизаветы I.
Бербедж, Ричард, ведущий актер в труппе лорда-канцлера, коллега Вильяма Шекспира, сыгравший заглавные роли во всех его пьесах.
Берли, см. Сесил, сэр Вильям.
Берли, Хью, клеветник Елизаветы I.
Блант, Бесси, любовница Генриха VIII и мать Генри Фитцроя.
Болейн, Анна, вторая жена Генриха VIII, мать принцессы Елизаветы, обезглавлена по ложному обвинению в неверности.
Болейн, Мария, сестра Анны Болейн и любовница Генриха VIII, жена Вильяма Кэри, одного из приближенных Генриха VIII.
Болейн, Томас, отец Марии и Анны, позже граф Ормонд и Уилтишир.
Боннер, Эдмунд, епископ Лондонский при Марии I.
Босуэлл, Джеймс Хэпберн, глава шотландских лэрдов и третий муж Марии, королевы Шотландской.
Бофорт, леди Маргарита, мать Генриха VII.
Брайан, леди Маргарита, воспитательница Марии I, Эдуарда VI и Елизаветы I.
Брайан, сэр Томас, придворный, муж леди Маргариты.
Браун, леди, фрейлина при дворе Эдуарда VI и Марии I.
Бэкон, Энтони, сын сэра Николаев Бэкона, придворный и тайный агент, сподвижник графа Эссекса.
Бэкон, Фрэнсис, сын сэра Николаев Бэкона, младший брат Энтони, придворный и ученый, сподвижник графа Эссекса, впоследствии его оставивший.
Бэкон, сэр Николае, лорд-хранитель печати, свояк Вильяма Сесила.
Вайи, Фрэнсис, церемониймейстер принцессы Елизаветы.
Вавасур, Анна, впавшая в немилость фрейлина Елизаветы I и любовница графа Оксфорда.
Венди, доктор Томас, врач Генриха VIII.
Верной, Джеймс, брат Ричарда, приближенный принцессы Елизаветы.
Верной, Ричард, приближенный принцессы Елизаветы.
Вильгельм Завоеватель, побочный сын Роберта, герцога Норманского, узурпировавший английский престол в 1066 — 1087 гг.
Вулси, Томас, кардинал, премьер-министр Генриха VIII, основатель Гемптон-корта.
Гардинер, Стивен, епископ Винчестерский при Генрихе VIII, позже гонитель протестантов и премьер-министр при Марии I.
Гастингс, лорд Эдвард, тайный советник Марии I.
Гейз, сэр Джон, комендант лондонского Тауэра.
Генрих II, король Англии в 1153 — 1189 гг.
Генрих II, король Французский, свекор Марии, королевы Шотландской, любовник Марии Болейн, убит на турнире.
Генрих III, король Франции, убит фанатичным приверженцем Католической Лиги Яковом Клеманом.
Генрих VII, король Англии, отец принца Артура и Генриха VIII.
Генрих VIII, король Англии, отец Эдуарда VI. Марии I и Елизаветы I.
Герберт, леди, сестра и фрейлина Екатерины Парр.
Гертфорд, леди, впоследствии герцогиня Сомерсет, жена лорда-протектора при Эдуарде VI.
Гилберт, сэр Гемфри, воин и мореплаватель, родственник сэра Уолтера Рели.
Говард, лорд Чарльз Эффингем, лорд-адмирал и сын лорда Вильяма Говарда, лорда-главнокомандующего во времена Армады.
Говард, Екатерина, кузина принцессы Елизаветы и пятая жена Генриха VIII, казнена за супружескую неверность.
Говард, лорд Вильям Эффингем, тайный советник и двоюродный дед Елизаветы I.
Грей, леди Екатерина, внучка принцессы Марии Тюдор, сестра леди Джейн Грей и кузина (двоюродная племянница) Елизаветы I, незаконно обвенчанная с графом Гертфордом.
Грей, леди Фрэнсис, графиня Дорсет, позже герцогиня Сеффолк, дочь принцессы Марии Тюдор, сестры Генриха VIII, мать Джейн и Екатерины.
Грей, леди Джейн, внучка принцессы Марии Тюдор, старшая в семье, кузина Елизаветы I, королева в течение девяти дней, казнена при Марии I.
Грей, лорд Генри, граф Дорсет, позже герцог Сеффолк, отец Джейн и Екатерины, казнен при Марии I за организацию заговора.
Грешен, сэр Томас, финансист, советник Елизаветы I, основатель Королевской Биржи.
Гриндал, Вильям, наставник принцессы Елизаветы.
Дадли, Амброз, граф Уорвик (Варвик, Уорик), третий сын герцога Нортемберленда и брат Роберта Дадли.
Дадли, Гилфорд, четвертый сын герцога Нортемберленда и муж леди Джейн Грей, казнен при Марии I.
Дадли, лорд Генри, младший сын герцога Нортемберленда и брат Роберта Дадли.
Дадли, Джон, лорд Лил, впоследствии герцог Нортемберленд и премьер-министр Эдуарда VI, казнен при Марии I.
Дадли, Джон, герцог Уорвик, старший сын герцога Нортемберленда и брат Роберта Дадли.
Дадли, Мария, см. Сидни, Мария.
Дадли (Дедлей), Роберт, см. Лестер, Роберт Дадли (Робин).
Дарили (Дарнлей), лорд Генри, потомок принцессы Маргариты Тюдор и второй муж Марии, королевы Шотландской, убит шотландскими лэрдами.
Даун, мать Анна из Брентфорда, клеветница Елизаветы I.
Дейкрс, Леонард, католический заговорщик против Елизаветы I.
Дерби, Эдвард Стенли, граф, тайный советник Елизаветы I.
Девере, Доротея, дочь первого графа Эссекса и Леттис Ноллис, сестра Пенелопы и Роберта, позже — жена рыцаря сэра Томаса Перрота.
Девере, Пенелопа, дочь первого графа Эссекса и Леттис Ноллис, сестра Роберта, жена лорда Рича.
Девере, Роберт, см. Эссекс, Роберт Девере.
Денни, сэр Энтони, придворный кавалер при Генрихе VIII, при Эдуарде VI принимавший у себя принцессу Елизавету.
Димок, сэр Эдвард, придворный и рыцарь-защитник на коронации Эдуарда VI.
Дормер, Джейн, участница академии ученых дев» Екатерины Парр, тайная католичка.
Дрейк, сэр Фрэнсис, мореплаватель и морской пират, командующий английским флотом во время разгрома Армады.
Дэвисон, Вильям, государственный секретарь, навлекший на себя немилость участием в казни Марии, королевы Шотландской.
Екатерина Арагонская, испанская инфанта, первая жена Генриха VIII, мать Марии I.
Екатерина Медичи, королева Франции, свекровь Марии, королевы Шотландской.
Елизавета, принцесса Йоркская, жена Генриха VII, мать Артура, принца Уэльсского, и Генриха VIII.
Иннокентий V, Папа Римский.
Карлос, дон, испанский инфант, сын Филиппа II.
Карл Австрийский, эрцгерцог Габсбургский, сын Фердинанда и брат Максимилиана, претендент на руку Елизаветы I.
Карл V, король Испанский, император Священной Римской Империи, отец Филиппа II Испанского, племянник и защитник Екатерины Арагонской.
Карл IX, король Французский, претендент на руку Елизаветы I.
Де Квадра де Авила, епископ Альварес, испанский посол при дворе Елизаветы I, преемник Ферии.
Кид, Томас, драматург, друг Кристофера Марло.
Кларенсье, леди Сусанна, хранительница гардероба Марии I.
Климент VII, Папа Римский во времена Генриха VIII.
Клинтон, леди, фрейлина, жена лорда Клинтона.
Клинтон, Эдвард, граф де Фьенн, лорд, тайный советник и первый лорд Адмиралтейства.
Кобем (Кобгем, Кобхем), Генри Брук, лорд-хранитель пяти портов при Елизавете I.
Колиньи, адмирал Гаспар де, предводитель гугенотов в гражданской войне во Франции.
Кортни, Эдвард, потомок Эдуарда IV и претендент на престол, которого прочили в мужья Марии I и Елизавете I.
Кранмер, Томас, архиепископ Кентерберийский при Генрихе VIII, протестантский мученик.
Крофтс, сэр Джеймс, придворный, протестантский заговорщик против Марии I.
Кук, сэр Энтони, эллинист и королевский наставник.
Кук, Милдред, дочь сэра Энтони, входившая в академию ученых дев» Екатерины Парр, жена Вильяма Сесила и мать Роберта.
Кэмпион, Томас, иезуитский священник и поэт, казненный при Елизавете I.
Кэри, Генри, барон Хансдон, двоюродный брат Елизаветы I, тайный советник и лорд-камергер.
Кэри, Екатерина, дочь Марии Болейн, сестра Генри Кэри, двоюродная сестра Елизаветы I, жена Фрэнсиса Ноллиса, фрейлина.
Кэри, Екатерина, дочь Генри Кэри, фрейлина Елизаветы I.
Латимер, Хью, епископ Вустерский, протестантский мученик.
Леннокс, Маргарита Дуглас, графиня, дочь принцессы Маргариты Тюдор и мать лорда Дарили.
Леннокс, Мэтью, граф, англо-шотландский лэрд, отец лорда Дарили.
Лестер, Роберт Дадли (Робин), граф, третий сын герцога Нортемберленда, придворный и воин, фаворит Елизаветы I.
Лили, Джон, поэт и драматург.
Максимилиан, император Священной Римской Империи, сын Фердинанда и брат Карла, претендент на руку Елизаветы I.
Маргарита Тюдор, английская принцесса, старшая сестра Генриха VIII, жена Якова IV Шотландского, бабка Марии, королевы Шотландской, и второго мужа Марии, лорда Дарили.
Марло, Кристофер, драматург и правительственный агент, убит в кабацкой потасовке.
Марпрелат, Мартин, псевдоним неизвестного пуританского памфлетиста при Елизавете I.
Мария I, королева Англии, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, жена Филиппа II Испанского, ярая католичка, гонительница протестантов.
Мария, королева Шотландская (Мария Стюарт), дочь Якова V, жена сначала Франциска I Французского, затем лорда Дарили и затем графа Босуэлла, католическая претендентка на английский трон.
Мария Тюдор, английская принцесса, младшая сестра Генриха VIII, вышедшая впоследствии за Чарльза Брэндона, герцога Сеффолка.
Матильда, дочь и наследница Генриха I, королева Англии, так и не допущенная к власти.
Медина Сидония, герцог, командующий испанскими войсками во время Армады.
Мелвилл, сэр Джеймс, посол Марии, королевы Шотландской, при дворе Елизаветы I.
Мендоса, Бернардино де, последний испанский посол при дворе Елизаветы I.
Монтегью, Энтони Браун, лорд, тайный советник при Марии I.
Морей (Меррей, Марри), граф, шотландский лэрд, побочный единокровный брат Марии, королевы Шотландской, регент при Якове VI.
Мэтленд, лорд Вильям Летингтон, посол Марии, королевы Шотландской.
Нокс, Джон, шотландский протестантский проповедник и писатель.
Норрис, Генри, придворный Генриха VIII, казненный по ложному обвинению в блудодеянии с Анной Болейн.
Нортгемптон, Эдвард, маркиз, брат Екатерины Парр.
Нортгемптон, маркиза, см. Снакенборг, Елена.
Нортемберленд, восьмой граф, отец Гарри Перси, влюбленного в Анну Болейн.
Нортемберленд, девятый граф, участник католического заговора, казнен при Елизавете I.
Нортемберленд, герцог, см. Дадли, Джон, лорд Лил.
Норфолк, Томас Говард, третий герцог, отец Генри Говарда, граф Серри, тайный советник Генриха VIII.
Норфолк, Томас Говард, четвертый герцог, сын графа Серрея, тайный советник Елизаветы I, участник католического заговора.
Норфолк, вдовствующая герцогиня, мать третьего герцога.
Ноллис, Леттис, дочь сэра Фрэнсиса Ноллиса и Екатерины Кэри; жена виконта Херефорда, впоследствии первого графа Эссекса, мать Пенелопы и Доротеи Девере и Роберта Девере, второго графа Эссекса; позднее — жена Роберта Дадли, графа Лестера, и сэра Кристофера Бланта.
Ноуллз (Ноллис), сэр Фрэнсис, тайный советник, муж Екатерины Кэри, дочери Марии Болейн.
Оксфорд, Эдвард де Вер, граф, придворный и покровитель театров, муж Анны Сесил, дочери лорда Берли.
Паджет, Вильям, впоследствии лорд Паджет, секретарь Тайного совета при Генрихе VIII, Эдуарде VI и Марии I.
Палавичино, сэр Горацио, международный финансист.
Пакеринг, сэр Джон, лорд-хранитель печати при Елизавете I.
Паркер, Мэтью, архиепископ Кентерберийский.
Пармский, Александр Фарнезе, герцог, командующий испанскими войсками в Нидерландах.
Парр, Эдвард, см. Нортгемптон, Эдвард.
Парр, дама Екатерина, шестая жена Генриха VIII, впоследствии замужем за Томасом Сеймуром, бароном Садли, умерла родами.
Парри, Томас, казначей принцессы Елизаветы, впоследствии тайный советник Елизаветы I.
Парри, Бланш, фрейлина и подруга Елизаветы I.
Парри, доктор Вильям, член парламента, замышлявший убить Елизавету I.
Пембрук, сэр Вильям Генри, граф, воин и тайный советник.
Перси, Генри (Гарри), наследник графа Нортемберленда, влюбленный в Анну Болейн.
Пикеринг, сэр Вильям, сподвижник графа Серри, участник заговора против Марии I, посол во Франции и претендент на руку Елизаветы I.
Полет, сэр Вильям, впоследствии маркиз Винчестер, тайный советник при Генрихе VIII, Эдуарде VI, Марии I, Елизавете I, лорд-казначей.
Пул, Реджинальд, кардинал, папский легат при Марии I, архиепископ Кентерберийский, гонитель протестантов.
Радклифф, Маргарита, фрейлина Елизаветы I.
Рандолф, сэр Томас, английский посол к Марии, королеве Шотландской.
Рассел, Анна, фрейлина Елизаветы I, дочь графа Бедфорда, затем жена Амброза Уорвика, брата Роберта Дадли, графа Лестера.
Рассел, леди, фрейлина при дворе Эдуарда VI.
Рели (Релей), сэр Уолтер, придворный, воин и поэт, фаворит Елизаветы I.
Ренар, Симон, испанский посол при Марии I.
Ридли, Николае, епископ Лондонский, протестантский мученик.
Ридольфи, Роберто, участник католического заговора против Елизаветы I.
Ризли (Рисли), сэр Томас, тайный советник Генриха VIII, впоследствии граф Саутгемптон при Эдуарде VI.
Рич, сэр Ричард, впоследствии лорд Рич, судейский и придворный при Генрихе VIII.
Рич, Ричард, лорд, внук сэра Ричарда, муж Пенелопы Девере, сестры графа Эссекса.
Ричард II, король Англии в 1377 — 1400 гг., низложен и убит.
Ричард, герцог Йоркский, брат Эдуарда IV, впоследствии Ричард III, убит Генри Тюдором, будущим Генрихом VII в битве при Босворте.
Ричард, принц Йоркский, сын Эдуарда IV, брат Эдуарда V и племянник Ричарда III, убит в Тауэре.
Риччьо, Давид, личный секретарь Марии, королевы Шотландской, убит лордом Дарили.
Робсарт, Эми, жена Роберта Дадли, графа Лестера.
Рочфорд (Рокфорд), Джордж, виконт, брат Анны Болейн, казненный по ложному обвинению в блудодеянии с ней.
Сассекс, Томас Радклифф, граф, воин и тайный советник Марии I и Елизаветы I.
Саутвелл, Роберт, иезуитский священник и поэт, казненный при Елизавете I.
Сеймур, Эдвард, брат Джейн Сеймур и Томаса Сеймура, граф Гертфорд, впоследствии граф Сомерсет, лорд-протектор при Эдуарде VI.
Сеймур, Джейн, третья жена Генриха VIII, мать Эдуарда VI, сестра Эдварда и Томаса Сеймуров.
Сеймур, Томас, барон Садли, брат Эдварда и Джейн Сеймур, четвертый муж Екатерины Парр, придворный, воин, сватавшийся к принцессе Елизавете, участник заговора против своего брата — лорда-протектора.
Сент-Джохан, граф, казначей Генриха VII.
Сент-Джон, граф, лорд-гофмейстер при Генрихе VIII.
Сесил, сэр Вильям, впоследствии барон Берли, государственный секретарь и лорд-казначей, премьер-министр Елизаветы I.
Серрей (Суррей, Серри, Сарри), Генри Говард, граф, сын третьего герцога Норфолкского, отец четвертого герцога, казнен при Генрихе VIII.
Сидни, сэр Генри, приближенный Эдуарда VI, муж Марии Дадли и отец сэра Филиппа Сидни.
Сидни, Мария, фрейлина Елизаветы I, сестра Роберта Дадли, жена сэра Генри и мать Филиппа.
Сидни (Сидней), сэр Филипп, сын сэра Генри Сидни и Марии Дадли, придворный, воин и поэт, убит в битве при Зютфене.
Смитон, Марк, лютнист Анны Болейн, казненный за якобы совершенное с ней прелюбодеяние.
Снакенборг, Елена, шведская дворянка, фрейлина Елизаветы I с детских лет, впоследствии маркиза Нортгемптон.
Спенсер, Эдмунд, секретарь лорда-наместника Ирландии, поэт.
Стаббз, Филипп, пуританский памфлетист.
Стефан, король Англии в 1135 — 1153 гг., узурпировавший трон королевы Матильды.
Стори, доктор Джон, ярый католик, преследовавший протестантов при Марии I, член парламента.
Тиррит, леди Елизавета, падчерица Екатерины Парр и ее первая фрейлина.
Тиррит, сэр Роберт, муж леди Елизаветы, допрашивал принцессу Елизавету при Эдуарде VI.
Томас, Вильям, секретарь Тайного совета при Эдуарде II, участник заговора против Марии I.
Трокмортон, Елизавета, фрейлина Елизаветы I, дочь сэра Николаса и жена сэра Уолтера Рели.
Трокморюн, Фрэнсис, племянник сэра Николаев, участник католического заговора, казнен при Елизавете I.
Трокмортон, сэр Николае, посол во Франции и Шотландии при Елизавете I.
Уайет, сэр Томас, придворный и поэт, влюбленный в Анну Болейн.
Уайет, сэр Томас, сын сэра Томаса Уайета, сподвижник графа Серрея, придворный и участник заговора против Марии I, казнен.
Уэстерморленд, Чарльз Невил, граф, участник католического заговора против Елизаветы I, бежал на чужбину, где и умер.
Уолсингем, Фрэнсис, дочь сэра Фрэнсиса Уолсингема, жена сэра Филиппа Сидни, а после — графа Эссекса.
Уолсингем, сэр Фрэнсис, посол во Франции, государственный секретарь и руководитель тайной разведки при Елизавете I.
Уорнер, сэр Эдвард, комендант лондонского Тауэра.
Уорвик, Анна, см. Рассел, Анна.
Фаулер, Джон, приближенный Эдуарда VI, состоявший на жалованье у Томаса Сеймура, барона Садли.
Фелтон, Джон, мятежный католик, казнен за распространение Папской буллы против Елизаветы I.
Фердинанд I, император Священной Римской Империи, отец Максимилиана и Карла, претендент на руку Елизаветы I.
Ферия, дон Гомес Суарес де Фигероа, испанский посол при дворе Елизаветы I.
Филибер, Эммануэль, герцог Савойский, претендент на руку Елизаветы I.
Филипп II, король Испании, муж Марии I, претендент на руку Елизаветы I.
Фитцрой, Генри, герцог Ричмонд, побочный сын Генриха VIII от Бесси Блант, умер в возрасте семнадцати лет.
Форестер, Джон, управлякнций графа Лестера в Кумноре.
Франциск II, король Франции, муж Марии, королевы Шотландской, умер в возрасте шестнадцати лет.
Фуа, Поль де, французский посол при дворе Елизаветы I.
Фэйрфакс, лорд Вильям, сподвижник Генриха VII в битве при Босворте, придворный Генриха VI И.
Хантингдон, Генри, граф, придворный Елизаветы I, отдаленный потомок Эдуарда III.
Хаттон (Хэтон), сэр Кристофер, придворный, впоследствии лорд-канцлер, фаворит Елизаветы I.
Хенидж, сэр Томас, придворный, фаворит Елизаветы I.
Хоукинс (Гаукинс, Хокинс), сэр Джон, мореплаватель, один из организаторов разгрома Великой Армады.
Хуан Австрийский, дон, побочный единокровный брат дона Карлоса, испанский регент в Нидерландах.
Цецилия, принцесса Шведская, присланная своим братом королем Эриком сватать за него Елизавету I.
Чертей, сэр Джон, кавалер из свиты принцессы Елизаветы.
Чик, сэр Джон, эллинист и королевский наставник.
Шапюи, Юстас, посол Священной Римской Империи.
Шекспир, Вильям, актер и драматург, ведущий участник труппы лорда-гофмейстера.
Шеффилд, леди Дуглас, дочь лорда Вильяма Говарда, впоследствии связанная узами сомнительного брака с Робертом Дадли, графом Лестером; мать его единственного оставшегося в живых сына.
Шрусбери, Гилберт Тэлбот, граф, президент совета Севера, тайный советник.
Эскам, Роджер, наставник Елизаветы I в бытность ее принцессой и королевой.
Эскью, Анна, протестантская мученица, сожженная при Генрихе VIII.
Эшли, Джон, муж Кэт, дальний родственник Анны Болейн.
Эшли, Екатерина (Кэт), гувернантка принцессы Елизаветы в детстве, хранительница гардероба и старшая фрейлина Елизаветы-королевы.
Эдуард Исповедник, король Англии в 1042 — 1066 гг.
Эдуард II, король Англии в 1307 — 1327 гг., любовник Пирса Гавестона, низложен и убит.
Эдуард V, принц Йоркский, сын Эдуарда IV и племянник Ричарда III, убит в лондонском Тауэре при Ричарде III.
Эдуард VI, единственный сын Генриха VIII и Джейн Сеймур, умер в возрасте шестнадцати лет.
Эджертон, сэр Томас, лорд-хранитель печати при Елизавете I, преемник сэра Джона Пакеринга.
Эрик, король Шведский, претендент на руку Елизаветы I.
Эссекс, Роберт Девере, второй граф, сын Уолтера Девере, первого графа, и Леттис Ноуллз, воин и придворный, фаворит Елизаветы I, казнен за организацию заговора.
Яков V, король Шотландский, отец Марии, королевы Шотландской, умер, когда Марии была всего неделя от роду.
Яков VI, король Шотландский, сын Марии, королевы Шотландской, и лорда Дарнли.
Примечания
1
Наконец (фр.).
(обратно)2
Итак (ит.).
(обратно)3
В. Шекспир. Генрих IV», часть 1, акт 2, сцена. 4.
(обратно)4
None such — не такой, как все (англ.).
(обратно)5
Неприятный человек (фр.).
(обратно)6
Волк (лат.).
(обратно)7
В. Шекспир. Венецианский купец», акт 3, сцена. 1. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)8
Потрясателем сцены» неодобрительно назвал Шекспира один из современников. Каламбур основан на том, что фамилия Шекспир буквально переводится как Потрясающий копьем». Разговор о вымарывании строк основан на письме Джонсона.
(обратно)9
В. Шекспир. Король Генри IV», часть 1, акт 5, сцена 4. Пер. Б. Пастернака.
(обратно)10
Положение обязывает (лат.).
(обратно)11
В русской и английской Библии нумерация псалмов несколько отличается. У нас это пятьдесят четвертый псалом.
(обратно)12
В заключительных главах многие исторические высказывания Елизаветы и ее современников приведены в переводе Е. А. Суриц по книге Королева Елизавета и граф Эссекс». М.: Слово, 1992.
(обратно)13
Самсон нашел в трупе убитого льва пчелиный рой и мед, что дало ему повод для загадки: Из сильного вышло сладкое». (Суд. 14, 8 — 14)
(обратно)14
Лолларды были противниками иерархии, монашества и учения о таинствах Католической церкви, подавали Генриху петицию с предложением реформировать англиканскую церковь на новых началах. Подвергались гонениям.
(обратно)15
Софи (Сефевиды) — династия персидских шахов, правившая в 1499 — 1732 гг.
(обратно)16
В. Шекспир. Король Лир», акт 1, Сцена 2. Пер. Т.Щепкиной-Куперник.
(обратно)17
Екклезиаст, 3, 3 — 4.
(обратно)
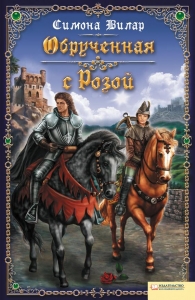




Комментарии к книге «Глориана», Розалин Майлз
Всего 0 комментариев