Леопольд фон Захер-Мазох Венера и Адонис
I
Ранним теплым летним вечером тысяча семьсот восемьдесят пятого года в густых и тенистых зарослях Царскосельского парка молодой художник устроил ателье под открытым небом. Его стройная фигура и благородные очертания головы с жгучими темными глазами с первого взгляда выдавали в нем итальянца. Он примостился на большом валуне и рисовал стоявшую перед ним модель – молодую, с белокурыми волосами и налитой уже грудью крестьянскую девку, которую, преодолев ее стыдливое сопротивление, он похитил для высоких надобностей искусства с расположенного поблизости гусиного пастбища. Внезапно ветви зеленой обители муз с шумом раздвинулись, и перед ними предстала женщина объемом в голландскую сельдяную бочку. При виде ее сельская Венера издала пронзительный крик и обратилась в бегство, а итальянский художник несколько раз крепко выругался на родном наречии. Между тем нарушительница спокойствия, скрестив руки на колоссальных грудях, стояла перед ним и хохотала так заразительно, что ходуном ходили все ее исполинские телеса. Это, очевидно, была дама знатная, ибо густые волосы ее были напудрены, и одета она была в белое неглиже из дорогих фламандских кружев. Много лет назад она несомненно была красавицей, но теперь облик ее напрочь утратил прежнюю форму, а на лице, до безобразия расплывшемся вширь, лежала печать вульгарной похоти; только глаза ее, надо признать, по-прежнему подкупали: то были большие и красивые голубые глаза, исполненные ума и отваги, и нечто повелительное улавливалось в их взгляде.
– Какой черт вас сюда принес, мадам? – на довольно приличном французском заговорил художник.
– Черт любопытства, – ответила незнакомка, – я увидела, что вы рисуете, а поскольку я сама люблю и покровительствую искусствам…
– Весьма благородно с вашей стороны, – бесцеремонно перебил ее итальянец, – но именно поэтому вам не следовало бы спугивать мою малышку; теперь набросок останется незаконченным.
– Взамен вы можете написать мой портрет, – с вальяжной величавостью возразил колосс женского пола.
– Ваш портрет? Вы это серьезно? – воскликнул художник.
Дама утвердительно кивнула, а молодой итальянец разразился сколь непочтительным, столь и развязным смехом.
– Стало быть, вы не желаете меня рисовать? – начала дама, мрачно хмуря гордые брови.
– Мне это как-то в голову не приходит.
– Разве я некрасива? – с неподражаемой самоуверенностью спросила незнакомка.
– О! Вы исключительно красивы, – в шутливом тоне ответил художник, – но почти также толсты, как красивы.
– Как вас зовут?
– Томази, – сказал художник, пожал плечами и принялся укладывать принадлежности ремесла.
– Я, похоже, вам не понравилась, – промолвила незнакомка, – но это ровным счетом ничего не значит, достаточно того, что вы понравились мне и, следовательно, будете писать мой портрет, адье!
Она милостиво кивнула головой и неторопливо удалилась. Итальянец последовал за ней на почтительном расстоянии. В густой аллее, куда он теперь свернул, он нашел своего друга и соотечественника Боски, с которым отправился в Россию, чтобы, подобно французским философам и итальянским певцам, добиться успеха при блестящем дворе легкомысленной Екатерины Второй. Он поведал ему о своем приключении, и они еще напару посмеялись над чудовищем, надумавшим увековечить себя с помощью его кисти, когда к ним подошел гвардейский офицер и осведомился, кто из них будет Томази.
– Я! – сказал молодой итальянец.
– Я получил приказ доставить вас во дворец, – пояснил офицер.
– Меня? И чей же…
– Особый приказ Их величества императрицы.
После этого Томази последовал за офицером, который по аллее парка и коридорам роскошной летней резиденции царицы довел его до двери, перед которой остановился.
– Входите сюда, – проговорил он, – госпожа Протасова, гофдама Их величества, поджидает вас, от нее вы услышите остальное.
От хитрого итальянца не ускользнуло, что офицер при этом почему-то хитро улыбнулся. Сбитый этой улыбкой с толку, Томази раздвинул портьеру, ожидая увидеть за нею женщину-колосса, с которой познакомился в парке. И тем приятнее было разочарование художника, когда его взору предстала возлежавшая на оттоманке молодая дама, с первого же мгновения показавшаяся ему идеалом красоты и грации. Правда, как все русские женщины, она тоже была пышна, но это была та влекущая, дразнящая чувства полнота, которая ни в чем сильно не нарушает классические линии тела; правильные черты ее тонкого личика располагали к себе, а темные глаза смотрели из-под длинных ресниц с таким шельмовским сладострастием, что обычно неробкий молодой человек пришел в немалое замешательство. Дама указала ему на кресло и еще некоторое время с пристальным интересом рассматривала его, прежде чем заговорить с ним.
– Меня зовут Софья Протасова, – наконец заговорила она, – вы, вероятно, догадываетесь, в чем заключается моя забавная обязанность.
– Прошу прощения, но при дворе великой Екатерины, как и вообще в России, я человек посторонний, – ответил художник.
– Тогда знайте, – промолвила молодая красавица, – что царица, как должно быть, вам и за пределами России доводилось слышать, настолько же слаба как женщина, настолько велика как правительница.
– Рассказывают, что она точно перчатки меняет своих фаворитов, – отозвался итальянец, – однако для женщины, являющейся самой могущественной и самой красивой в Европе, я нахожу сей факт вполне естественным и объяснимым.
– Вы забываете, что нынче Екатерине Второй уже минул пятьдесят шестой год, – возразила госпожа Протасова, – скажем, еще в сорок она была такой соблазнительной, что любой из ее фаворитов с одинаковым энтузиазмом поклонялся как женщине, так и монархине; но сейчас она растолстела до бесформенности и источает такой запах, заглушить который не в состоянии уже никакие духи. И вот эта-то глыба жира по-прежнему продолжает влюбляться и по-прежнему непостоянна в своих привязанностях, как когда-то, в бытность свою молодой и красивой женщиной. Екатерина Вторая сегодня вкушает любовь точно гурман яства, она хочет не просто питаться, добротно и вкусно питаться, но требует большего разнообразия блюд; дня не проходит, чтобы она не нашла себе новую жертву, пардон, я хотела сказать счастливца, и не использовала для своего времяпрепровождения. Сегодня этой милости в ее глазах удостоились вы.
– Я?! – в ужасе пролепетал Томази.
– Вы, кажется, не в большом восторге от перспективы, которая открывается перед вами, – насмешливо заметила госпожа Протасова.
– Действительно… не в восторге, – вымолвил итальянец, – однако как же императрица прознала о моем существовании?..
– Около четверти часа назад вы с ней в парке…
– Это чудовище спугнуло мою модель, с которым я так несдержанно разговаривал… – начал припоминать Томази.
– Было Екатериной Второй, – договорила за него госпожа Протасова.
– И вот эту бабищу я должен любить? – закричал Томази. – Да это же невозможно.
– На этот счет можете быть спокойны, императрица умеет делать невозможное возможным, – улыбнулась красивая женщина. – Не забывайте, пожалуйста, что в ее распоряжении масса таких очаровательных пустяков, как кнут, Сибирь, а если понадобится и… эшафот.
– Эшафот! – вскричал итальянец, у которого от ужаса ледяной пот заструился по спине.
– Скажем… Мировичу она приказала отрубить голову только по той причине, что ее начала тяготить его фанатичная любовь, – объяснила Протасова, – но не исключено, что однажды она может сделать это и из противоположных побуждений.
– Господи Иисусе! Вот так в историю я здесь вляпался, – жалобно запричитал художник. – Одиссею во дворце Цирцеи[1] по сравнению со мной можно позавидовать.
– Разве несчастье быть любимым императрицей столь уж тяжко? – насмешливо спросила госпожа Протасова.
– Конечно, – ответил Томази, – если императрица, как это имеет место в данном случае, весит больше двух центнеров.[2]
– А вот Рубенс, например, в своем творчестве вдохновлялся весьма толстыми идеалами.
– Я не Рубенс[3], милостивая государыня.
– Хочу заметить, что ваше отчаяние сколь забавно, столь и подозрительно, – проговорила доверенная подруга Екатерины после недолгой паузы. – Я ни секунды больше не сомневаюсь, что вы влюблены, влюблены в другую.
– Клянусь всеми святыми, это не так, мое сердце свободно, – заверил художник.
– Свободно… совершенно свободно?
– Абсолютно свободно.
– Ну, это несколько меняет дело в вашу пользу, – со странной улыбкой промолвила прелестная женщина, – потому что в этом дворце Цирцеи есть еще одна дама, испытывающая к вам симпатию.
– Симпатию… ко мне?
– Большую симпатию.
– И эта дама, наверное, тоже…? – спросил итальянец, показывая руками гигантские объемы царицы.
– Эту даму также, конечно, нельзя назвать худышкой, – ответила госпожа Протасова.
– Но она хоть молода и красива? – воскликнул Томази.
Госпожа Протасова пожала плечами.
– Я вашего вкуса не знаю, – промолвила она, кокетливо склоняя голову набок, – рассмотрите-ка ее еще разок, стало быть, хорошенько рассмотрите… и решите сами.
II
В последующие дни госпожа Протасова лишь на короткие мгновения разлучалась с возлюбленным. Стояла необычная жара, и пока солнце за окном грозило буквально испепелить все живое на земле, очаровательная тюремщица держала плененного Томази в своих просторных, прохладных покоях. Она лениво возлежала на мягких подушках турецкой оттоманки, а счастливый художник, примостившись у ее ног, играл на лютне, или они болтали о всякой ребяческой ерунде, как то могут делать только влюбленные.
А с наступлением вечера они точно пчелки мечтательно блуждали под сенью зеленой листвы по дорожкам парка, чтобы в завершение, когда небосвод разворачивал над их головами похожее на золотую вышивку звездное великолепие, посетить храм доброй феи этой сказки в летнюю ночь.
К счастью любящих императрица, казалось, забыла об итальянце, тем неприятнее была поражена Софья Протасова, когда однажды во время утреннего приема Екатерина Вторая внезапно сделала ей знак подойти ближе и, нисколько не стесняясь ни дам ни господ двора, ни своего фаворита Потемкина, с видимой заинтересованностью спросила о молодом художнике.
– Я не решалась до сего дня представить доклад вашему величеству, – залившись румянцем, начала госпожа Протасова, – потому что не могу, к сожалению, сообщить о молодом человеке ничего лестного.
– В самом деле? – спросила Екатерина, которой это показалось несколько странным. – Вы не находите его красивым?
Госпожа Протасова пожала плечами.
– Я не отважусь предвосхищать приговор вашего величества, но Томази столь же груб, как и красив.
– То, что вы именуете грубостью, – промолвила царица, поднося ко рту чашку шоколада, – в действительности, возможно, лишь проявление неукротимой мужественности.
– Прошу прощения, ваше величество, – поспешила возразить госпожа Протасова, – но этот итальянец гораздо больше похож на невоспитанного мальчишку, чем на мужчину, а вульгарные манеры в значительной степени снижают ценность его физических достоинств.
– Похоже, ваш обычно такой проницательный взгляд на сей раз утратил былую остроту, дорогая Софья, – ответила царица, – поэтому мне самой, видимо, придется внести в этот вопрос ясность.
– Но ваше величество…
– Хватит толковать о второстепенных вещах, – решительно оборвала ее своенравная самодержица. – Я хочу видеть Томази сегодня же вечером, и он должен будет нарисовать меня, вам понятно, Протасова?
Бедная влюбленная женщина, в эту минуту увидевшая, что потеряла все, ибо неповиновение Екатерине было равносильно самоубийству, молча поклонилась и затем быстро покинула флигель императрицы, чтобы излить свое горе Томази. Однако тот не захотел принимать близко к сердцу такой поворот событий.
– Сейчас я первым делом хочу нарисовать вас, дорогая Софья, – сказал он, устанавливая как положено свой мольберт, – а дальше поглядим, какую шутку нам сыграть с любвеобильной сельдяной бочкой на той стороне дома, несмотря на ее Сибирь.
– Но царица желает видеть вас уже сегодня, Томази.
– Подумаешь!
– Она отмстит мне и вам, если мы окажем ей сопротивление.
Томази расхохотался и принялся смешивать краски.
– Похоже, вы в самом деле собираетесь меня рисовать, – вздохнула молодая красивая женщина.
– Разумеется, и притом не откладывая.
– Но как? В каком туалете?
– Я изображу вас в образе олимпийской красавицы.
– Мне предстоит стать богиней, – пролепетала кокетливая дама.
– Вы уже богиня, – засмеялся Томази, – а я представляю собой счастливого смертного, к которому вы снизошли с высот Олимпа, Эндимиона[4], если позволите.
– Это невозможно, не могу же я как Диана…
– О! Если бы маркиза Помпадур велела изобразить себя с атрибутами этой девственной охотницы, – заметил Томази, – то вам тем более надлежит иметь при себе лук и колчан, чтобы они символизировали любовные стрелы, которые вы без сострадания посылаете в сердца всех мужчин.
– Каков льстец!
Итальянец придал красивой женщине нужное положение и приступил было к работе. Вдруг госпожа Протасова закричала: – Придумала, я придумала, – и пустилась, танцуя, кружить по комнате.
– Что вы придумали? – озадаченно спросил художник.
– Мы спасены! – ликовала госпожа Протасова. – Я знаю тут поблизости одного свободного крестьянина, у которого спрячу вас, а императрице скажу, что вы нежданно-негаданно захворали и по этой причине уехали из Царского Села.
Не спрашивая больше ни о чем своего обожателя, она поместила его в крытый паланкин и велела доверенным слугам кружными путями перенести его во двор свободного крестьянина, а сама тем временем вскочила на лошадь и поскакала к месту назначения впереди них, чтобы быстро договориться обо всем с преданным и готовым к услугам стариком. После этого она вернулась во дворец и без промедления попросила доложить о себе императрице.
– А где художник? – воскликнула при виде ее Екатерина Вторая, в роскошном неглиже восседавшая в кресле и время от времени сверху донизу опрыскивавшая себя духами.
– Он… он не может явиться, – запинаясь, проговорила доверенная подруга.
– Не может явиться, когда я приказываю?! – тяжело дыша, выговорила царица, ее груди начали вздыматься от ярости подобно бурному морю.
– Томази внезапно заболел, ваше величество! – продолжала госпожа Протасова. – Он был вынужден покинуть Царское Село и сейчас находится в доме одного крестьянина здесь поблизости.
– Ему придется немедленно выздороветь, – потребовала Екатерина Вторая, – и если в течение часа он не окажется передо мной, то его приволокут сюда четыре дюжих гренадера.
– Это исключено, ваше величество! – воскликнула госпожа Протасова. – Дело в том, что у Томази крайне опасная и очень заразная болезнь.
– Уж не оспа ли, случаем? – быстро спросила царица.
– Так и есть, ваше величество, оспа, – облегченно вздохнув, с готовностью подтвердила госпожа Протасова.
– Тогда конечно, – пробормотала Екатерина, – тогда ничего не поделаешь.
– Действительно, ничего не поделаешь, – поддакнула доверенная подруга, – вашему величеству ни в коем случае не следует подвергать опасности свою прославленную красоту.
– Ты все еще находишь меня красивой? – милостиво улыбнулась Екатерина Вторая.
– Кто рядом с вами устоял бы перед вашим очарованием.
– Я и правда сегодня очень недурно выгляжу, – сказала Екатерина, – она грузно поднялась и с трудом дотащила свое гигантское тело до ближайшего стенного зеркала, – очень-с недурно. Как только Томази снова будет здоров, он обязательно должен будет написать меня в образе Венеры.
Осень раньше обычного прогнала двор Северной Семирамиды из Царского Села, и вслед за ним Томази тоже перебрался в Петербург, где в компании своего друга Боски поселился в заднем корпусе протасовского дворца, и теперь рисовал и писал маслом его прекрасную хозяйку во всевозможных антуражах и туалетах. Население Олимпа было поголовно истреблено, чтобы им украсить ее дворец: здесь возлюбленная в образе Анадемены[5] поднимается из морской пены, там, окруженная нимфами, она превращает Томази-Актеона в оленя[6], чтобы в следующем зале в образе царицы богов[7], под охраной павлина, восседать на троне рядом с Юпитером-Боски.
Зима для любящих пролетела блаженно и радостно в обществе муз и маленького проказника – бога любви. В вакханическом водовороте придворных мероприятий, балов, ассамблей, санных катаний и зимних народных увеселений императрица напрочь позабыла о красивом итальянском художнике и о его оспе.
Но вот опять наступила весна, за ней подоспело лето, и снова Екатерина Вторая жила в загородной резиденции русских царей. Случаю было угодно, чтобы однажды вечером, прогуливаясь с княжной Меншиковой по парку, она прошла мимо зарослей кустарника, в которых когда-то застала врасплох рисующего Томази.
И моментально, вызванный легко объяснимой ассоциацией представлений, в ее душе снова во всей красочности возник образ красивого итальянца.
– А proposs![8] – заговорила она. – Вы ничего, княжна, больше не слыхали об итальянском художнике, который в прошлом году должен был написать мой портрет, но по странному стечению обстоятельств заболел оспой именно в тот день, когда собирался начать работу?
– Как его звали, ваше величество? – спросила Меншикова. – Я о нем никогда не слышала.
– Его имя выпало у меня из памяти, – ответила Екатерина Вторая, – но его по-юношески стройная фигура и теперь как живая стоит перед моими глазами.
– Итальянский художник, говорите? – задумалась княжна. – Не тот ли это, которому минувшей зимой госпожа Протасова дала тайный приют в своем дворце и который украсил великолепными картинами на мифологические сюжеты потолки и стены ее залов?
– Не может быть! – воскликнула царица. – Хотя постойте, не так уж не может, принцесса. Ну Протасова, если только она злоупотребляла моим доверием, тогда вы увидите, как я могу наказывать.
Глаза ее зловеще вращались, и Екатерина Вторая затряслась в гневе.
Едва вернувшись во дворец, многопудовая деспотиня приказала немедленно вызвать госпожу Протасову к себе в кабинет, где, напоминая разъяренную утку, она переваливалась с боку на бок тяжело ходила из угла в угол.
– Bon soir[9], моя дорогая! – начала она. – Скажите-ка мне, голубушка, а что сталось с тем итальянским художником, планы которого нарисовать меня прошлым летом так коварно расстроила оспа?
– У него… он теперь… он стал… – в неописуемом замешательстве пролепетала, запинаясь, доверенная подруга.
– Вас, ma ch?re[10], обвиняют в том, что вы держите его пленником в своем доме в Санкт-Петербурге, – допытывалась монархиня, нетерпеливо барабаня пальцами по оконному стеклу.
– За какой такой надобностью? – с вымученной улыбкой спросила Протасова.
Екатерина подошла к ней вплотную и испытующе посмотрела ей прямо в лицо проницательными голубыми глазами.
– Разве я должна вам это сказать?
– Я при всем желании не догадываюсь, о чем идет речь, – проговорила доверенная подруга, несколько оправившаяся тем временем от первоначального шока.
– Рассказывают, что он разукрасил ваш дворец настенными росписями, – продолжала допрос царица.
– Это правда, – чуть слышно выдохнула Протасова.
– Следовательно, вы знаете о его местонахождении?
– Да.
– Очень хорошо. Таким образом, я даю вам три дня сроку, чтобы разыскать и доставить сюда этого… как бишь его зовут… этого художника. Я хочу быть нарисованной его кистью, таков мой каприз, и я не желаю, чтобы вы проявили нерасторопность в этом вопросе или как-то расстроили мои намерения.
На этом трепетавшая как осиновый лист доверенная подруга покинула раздраженную до предела императрицу. Она тотчас же уселась в свой паланкин и велела доставить себя на двор старого крестьянина, у которого, как и в прошлом году, поселился Томази со своим приятелем Боски.
– Я самая несчастная женщина на белом свете, – воскликнула она, едва переступив порог избы, в которой обитали оба художника.
– Что стряслось? – с тревогой спросил Томази.
– Императрица… не знаю, как это она о вас опять вспомнила… короче, она во что бы то ни стало хочет, чтобы вы написали ее портрет, – сообщила перепуганная красавица. – Она приказала мне не позднее, чем через три дня привести вас к ней. В противном случае мне грозит немилость, отстранение от службы при дворе, а может и кое-что похуже.
– Ну, так позвольте мне, ради бога, нарисовать это чудище, – заявил Томази.
– Да оно бы и пусть, но как в этом случае быть с оспой? Не обнаружив ее следов, императрица сразу догадается, что мы обвели ее вокруг пальца. Ах! В гневе она ужасна, свирепа, неумолима, – сокрушенно вздохнула красавица.
– Проклятие! – пробормотал Томази.
– Мне пришла в голову счастливая идея, – вдруг воскликнул Боски, до сих пор тихо и задумчиво сидевший в сторонке. – Посмотрите-ка на мою рожу, видите, она вся испещрена оспинами, они мне даже левый глаз повредили. Поскольку мы с Томази приблизительно одинакового телосложения, я сыграю его роль у царицы и помогу нам всем. Ваша идиллия благополучно продолжится, а я еще и удачи добьюсь при этом курьезном дворе, в чем я уверен, как в том, что меня зовут Адриано Малеруцци Боски.
– Боски, ты чудный малый! – закричал Томази. – Ты просто гений, я это всегда говорил.
– Мы спасены, – обрадовалась госпожа Протасова. – Я хочу уже завтра же вечером представить вас царице, попытайтесь использовать всю смекалку и отвагу, в которых, впрочем, у вас никогда недостатка не было, чтобы одержать верх над капризной государыней божьей милостью.
На следующий день, в то время как любящие точно озорные дети беззаботно резвились во фруктовом саду, окружавшем избу крестьянина, Боски, казалось, в одночасье совершенно преобразился; он, на языке у которого постоянно вертелись всякие колкие шутки и прибаутки, теперь повесил голову, и лицо его приняло самое горемычное выражение на свете. С папкой под мышкой, он отправился слоняться по окрестностям, ведя сам с собой всевозможные трагикомические разговоры.
– Ах! Почему я так некрасив? – опять и опять задавался он сакраментальным вопросом. – Сейчас я мог бы стать фаворитом самой могущественной монархини на земле. Правда, она кругла как сельдяная бочка, да и разит от нее так же, однако она управляет огромной империей, в ее распоряжении находятся несметные богатства.
Он остановился у ручья, который журча бежал по камням и, казалось, подтрунивал над его горем.
– Действительно ли я такой уродливый? – спросил он у ручья, склоняясь над водой, из подвижного зеркала которой ему скорчило гримасу его искаженное лицо. – И в самом деле отвратительный малый, впрочем, этот ручей, видать, изрядный проказник, и не прочь надо мной покуражиться. Пойду-ка я поищу кого-нибудь почестнее!
Шагах в ста от ручья находился небольшой пруд. Боски подбежал к нему и с любопытством заглянул в его гладь.
– Тут я выгляжу намного лучше, – вздохнул он, – но все равно недостаточно, чтобы в меня влюбиться. Будь проклят час моего рождения!
Сейчас он находился на широком свежевыкошенном лугу, густо уставленном бесчисленными копнами сена; в некотором отдалении виднелась усадьба, выбеленные известью каменные стены которой эффектно оттеняли зеленью купы обстоявших ее деревьев. Все в целом являло собой приветливую сельскую картину, настолько отличавшуюся от ландшафтов его тосканской родины, что Боски, захваченный ею, присел тут же у ближайшего стога сена и принялся рисовать.
Вдруг ему почудилось, будто стог вздохнул.
– Странно, – пробормотал он, – что стог сена может быть таким же несчастным как я, наверно его тоже никто не любит. Эй! Есть тут кто?
В ответ тишина.
– Стало быть, все же стог.
Через некоторое время за спиной у него послышалось отчетливое сопение.
– Неплохо, – засмеялся Боски, – да он, батюшка, спит себе самым натуральным образом. Здесь, в этой еще почти неоскверненной рукой человека стране природа кажется одушевленной как в эзоповские времена Древней Греции. Однако давай-ка все же посмотрим.
Боски поднялся и медленно обогнул стог, и тут он внезапно обнаружил в сене перед собой лежащего на спине юношу необыкновенной красоты, который крепко спал. Он быстро вернулся за палкой и начал рисовать великолепного незнакомца, облик которого гораздо больше, чем вздохи стога, заставлял вспомнить Элладу.
Боски уже почти закончил эскиз, когда спящий красавец зашевелился, сладко потянулся и одновременно приоткрыл алые пухлые губы, чтобы громко зевнуть.
– Не двигайтесь, пожалуйста, сударь, вы испортите мне рисунок! – закричал художник.
Теперь незнакомец совершенно проснулся и с изумлением уставился на него.
– Полежите, пожалуйста, еще несколько минут на спине, – попросил Боски.
– Для какой такой надобности? – спросил незнакомец, не понимая итальянца.
– Разве вы не видите, что я вас рисую?
– Меня?
– Да, вас.
Молодой человек звонко расхохотался.
– Смейтесь сколько вашей душе угодно, – объяснил Боски, – но примите, пожалуйста, свое прежнее положение.
Незнакомец, которого забавляло случившееся с ним приключение, в конце концов выполнил просьбу итальянца, и тот смог беспрепятственно завершить начатый рисунок.
– Так, теперь вы свободны, – проговорил он, укладывая лист в папку, – позвольте мне в заключение еще полюбопытствовать, с кем имею честь?
– Меня зовут Платон Зубов[11], – ответил, поднимаясь на ноги, юноша, – я подпоручик гвардии Преображенского полка и в настоящий момент нахожусь в отпуске у своих родителей. Строение, которое вы видите вон там, является родовым гнездом нашей семьи. А вы-с кто будете?
– Боски, художник из Флоренции, – ответил итальянец. – А знаете ли, юный сударь, что вы любимец фортуны?
– Я?
– Да, вы.
– Ошибаетесь, – сказал Зубов, – я самый несчастный человек на российских просторах, а, возможно, и на всем белом свете.
– Быть не может.
– Но это именно так, – продолжал красивый подпоручик, – мне никак не удается продвинуться по службе, и моя возлюбленная вышла замуж за другого, вам этого недостаточно?
– Отказываюсь верить, вы молодой человек столь редкостной красоты?..
– О! Вы мне льстите…
– Ни в коей мере.
– Мне еще никто никогда не говорил, что я красив, поэтому простите меня, ради бога, если я с недоверием отношусь к вашим словам.
– Вы сами того не понимаете, – воскликнул Боски. – Коли я говорю, что вы красивы, то можете быть уверены, что это именно так и есть. И вы просто так, без сопротивления, покоряетесь судьбе, вы, человек от природы наделенный всеми дарами, чтобы играть первую роль при дворе Северной Семирамиды? Разрешите мне это устроить, юный герой, мы с вами должны стать друзьями, и если вы когда-нибудь смените этот камзол подпоручика на генеральский мундир, то не забудьте совсем своего верного Боски.
– Вы считаете такое возможным? – воскликнул Зубов.
– Я окажу вам протекцию, – с комичным достоинством заявил Боски, – а это в настоящий момент значит больше, чем если бы вам покровительствовал сам Потемкин.
– Но я не понимаю… – запинаясь пролепетал Зубов.
– А вам до поры до времени ничего понимать и не требуется.
На следующий день Боски, вырядившийся по этому случаю самым причудливым и забавным образом, был приведен госпожой Протасовой к императрице, которая, вытянув ноги на кресло, сидела в покойном фотэ и читала новую французскую книгу. Она долго испытующе смотрела на художника и в конце концов улыбнулась его туалету, пестротой напоминающему ящик с красками.
– Стало быть, вы и есть художник Томази? – спросила она.
– Да, ваше величество.
– Я бы вас теперь ни за что не узнала, – продолжала Екатерина Вторая, – прошло слишком много времени с того дня, когда я вас видела.
– О! Ваше величество слишком добры к своему смиренному рабу, – с топорной галантностью ответил Боски, неуклюже расшаркиваясь, – ваше величество не хочет прямо сказать, что за минувшее время эти отвратительные оспины так обезобразили меня, что даже мой лучший друг, художник Боски, уже почти не узнает меня.
– Я искренне сожалею о постигшем вас несчастье, – промолвила Екатерина Вторая, откладывая в сторону книгу. – Вы были очень симпатичным мужчиной, да-с, очень симпатичным, без всяких преувеличений, и с первого взгляда обращали на себя внимание.
– А сейчас ваше величество находят, что я превратился в настоящее пугало, – воскликнул Боски, – но я надеюсь, что дама вашей беспримерной гениальности не лишит меня по этой причине своей благосклонности.
– У меня было намерение позволить вам нарисовать меня, – перешла к делу царица.
– О! Не отказывайтесь от этого намерения, ваше величество, – взмолился Боски. – Если вы полагаете меня достойным исключительной милости своей кистью увековечить прелести самой красивой женщины в мире.
– В прошлый раз, помнится, у вас по этому поводу было совершенно другое мнение, – улыбнувшись, заметила царица.
– В прошлый раз я еще как следует не проштудировал Рубенса, – пояснил Боски, – но сейчас я готов дать клятву, что в привлекательности вам нет равных, ваше величество, это так же верно, клянусь, как то, что меня зовут Томази.
– Ну хорошо, вы должны написать меня, – ответила Екатерина Вторая, в порыве всезатопляющей благодарности Боски бросился к ее стопам и поцеловал маленькую жирную руку, которую она любезно протянула ему. – Однако я хочу, чтобы это был не парадный портрет, а картина на тот или иной мифологический сюжет, – продолжала она.
Тщеславным желанием всех изуродованных корсетом и туфлями на высоком каблуке дам эпохи рококо было красоваться на живописном полотне в роли какой-нибудь основательно декольтированной женщины.
– Естественно, это будет мифологическая картина, – воскликнул продувной итальянец, все еще продолжал стоять на коленях перед Северной Семирамидой, – и теперь, когда я воочию лицезрею вас, ваше величество, во всей неотразимости вашей красоты, то говорю себе, ей по рангу представить только богиню любви и никого другого. Я напишу большую картину в жанре созданной Паоло Веронезе[12] для венецианского палаццо Манфреи «Венеры и Адониса».
– Хорошо, но где в таком случае мы возьмем Адониса, мой дорогой Томази? – горестно вздохнула царица. – Как жаль, что оспа нанесла вам такой вред, из вас получился бы великолепный Адонис. Ах! Каким же вы были красавцем, бедный Томази!
Она ласково положила руку ему на плечо.
– Ничего не поделаешь, что случилось, то случилось, ваше величество, – воскликнул Боски, – но я подберу подходящую модель для картины, вы только позвольте мне самому об этом позаботиться.
Уже на следующий день Боски приступил к работе, он набросал эскиз всей сцены и затем усадил царицу позировать. Ему удалось превосходно разрешить казалось бы неразрешимую проблему: создать реалистичную парсуну[13], но в то же время волшебством своего мастерства изобразить на полотне обольстительно красивую женщину. Екатерина Вторая получилась на своем портрете лет, по крайней мере, на тридцать моложе оригинала и была наделена всеми прелестями, коими обладала в ту пору, когда, украсив шапку гирляндой на дубовых листьях, в красном трактире призывала войска к мятежу против своего супруга, царя Петра Третьего. Взглянув на результат, она осталась очень довольна и все никак не могла расстаться с картиной, когда Боски велел перенести ее в свое жилище, чтобы дорисовать лежащего у ее ног Адониса[14], фигура которого была лишь предварительно обозначена несколькими смелыми мазками. Тем временем наступила осень, и двор опять обитал в Санкт-Петербурге, когда он закончил живописное полотно. Установив его в зале Зимнего дворца, он попросил пригласить царицу, чтобы та оценила его работу. Екатерина Вторая не заставила себя ждать. Боски отдернул занавес, скрывавший картину. И в то же мгновение она издала крик восторга.
– Восхитительно! – ахнула она. – Потрясающе! Вы блестящий художник, Томази, но этот Адонис, этот юноша, сладостная красота которого бесподобна, он, наверняка, только плод вашего представления об идеале?
– Нет, ваше величество, – сухо возразил Боски, – этот Адонис действительно живой человек и зовут его Платон Зубов.
– Невероятно, – воскликнула Екатерина Вторая, пристально вглядываясь в картину. – Вы, по крайней мере, очень, видно, его приукрасили.
– Ни на йоту, – ответил художник, – впрочем, ваше величество могут самолично в этом убедиться.
– Да, я хотела бы это сделать, – в несказанном возбуждении проговорила царица, – и сделать еще сегодня, даже немедленно.
Когда Боски с красавцем Зубовым вошел в зал, где императрица все еще стояла, погрузившись в созерцание картины, она сначала не могла вымолвить ни слова, потом, переводя взгляд с Адониса на полотне, то на юношу… и обратно, который, краснея, замер перед нею, пробормотала:
– Да-а, Томази, вы правы, это Адонис во плоти.
Затем она приблизилась к Зубову, который смиренно опустился на колено, и сказала, похлопывая его по щеке:
– Вы мне очень нравитесь, молодой человек, и если ваши интеллектуальные задатки хоть отчасти соответствуют вашей физической привлекательности, то успех вам в будущем обеспечен, я обещаю вам это, я, императрица.
Она с благосклонной улыбкой протянула ему руку, и Зубов порывисто прижал ее к своим губам.
Императрица тяжело вздохнула, она с первой же секунды смертельно влюбилась в него, однако сколь бы слаба ни была эта великая женщина, она никогда не упускала из виду своего высочайшего назначения, сияния своего венца и ни за что на свете не допустила бы из-за своей привязанности влияния людей ничтожных на судьбу своего государства.
Таким образом, она прежде отослала Зубова к госпоже Протасовой, поручив последней как можно доверительней побеседовать с Адонисом и в интимном общении распознать его таланты, а также нрав и характер, а затем доложить ей о результатах.
Совершенно исключительная красота Зубова произвела на госпожу Протасову такое же неизгладимое впечатление, как и на царицу. Молодая, хорошо знающая свет женщина сначала не нашла слов, ибо – когда ребяческим жестом мечтательной девушки она пригласила его присесть на софу рядом с ней, щеки ее залились предательским румянцем, и когда Зубов, которого очаровательная женщина, с которой он остался наедине, точно так же привела в восторг, коснулся ее руки, она вся затрепетала. Стрела Амура ранила ее сердце так же серьезно, как и сердце ее коронованной покровительницы.
В задушевной болтовне незаметно пролетел час, и еще один. К госпоже Протасовой снова вернулось самообладание, и она пустила в ход все грозные ухищрения своего кокетства, чтобы пленить прекрасного Адониса, завоевать его, что, впрочем, было совершенно излишне, поскольку он и без того буквально горел желанием оказаться в ее сетях.
Из церемонного визита, в конце концов, вышла пасторальная идиллия. Оба никак не предполагали подобной развязки. Дверь оставалась открытой, и случилось так, что Зубов опустился к ногам очаровательной женщины, та заключила его в объятия, а в эту минуту Томази, настоящий Томази, пользующийся благосклонностью поклонник госпожи Протасовой, неожиданно предстал в будуаре прекрасной изменницы перед этой группой, которая выглядела настолько живописно и недвусмысленно, что привела его в неописуемое бешенство.
– Софья! – вскричал он. – Что я вижу! Змея подколодная! Чертовка! Я тебя задушу!
Он бросился было на возлюбленную, однако Зубов быстро вскочил на ноги и выхватил шпагу.
– Что надо этому человеку? – спросил он, точно так же охваченный ревностью.
– Не обращайте на него внимания, – с необыкновенным хладнокровием ответила госпожа Протасова, – у него некоторое помрачение рассудка, и когда с ним случается припадок, его мучают самые невероятные галлюцинации. Пожалуйста, оставьте меня наедине с ним, уж я-то сумею его урезонить.
– Галлюцинации? – заорал итальянец. – Значит, мне чудится, что вы меня любите?
– Конечно, любезный, вам это только чудится, – с озорным смехом оборвала его госпожа Протасова, – ступайте, Зубов, не беспокойтесь, пожалуйста, он мне не опасен.
Зубов сунул шпагу обратно в ножны, поцеловал красивой женщине руку и, бросив торжествующий взгляд на Томази, вышел из комнаты. Как только госпожа Протасова осталась с художником наедине, она быстро вскочила с софы, схватила Томази за ухо, и точно непослушного ребенка, принялась нещадно трепать его.
– Как вы можете так меня компрометировать, – приговаривала она при этом, – все, мы расстаемся, навсегда расстаемся. Немедленно покиньте меня!
Едва она отпустила ухо, Томази упал перед ней на колени и стал просить у нее прощения. Она еще какое-то время покапризничала, а потом сказала:
– Ладно уж, на сей раз вы у меня дешево отделались, но берегитесь, если вы хоть раз еще проявите ревность.
– Но разве у меня не было для этого повода? – робко возразил бедный художник.
– Нет.
– Действительно нет?.. Однако же ситуация, в которой…
– С сегодняшнего дня Зубов становится фаворитом царицы, – быстро нашлась госпожа Протасова. – Вам известно, что Екатерина Вторая пишет небольшие пьесы на французском языке и велит исполнять их на сцене перед придворной аудиторией. В самом последнем ее творении мы с Зубовым играем влюбленную пару, и как раз сейчас репетировали одну сцену.
– Правда?
Все остальные сомнения женщина заглушила жаркими поцелуями.
Доклад, спустя день представленный Софьей Протасовой царице о Платоне Зубове, был настолько благожелательным, что Екатерина Вторая незамедлительно произвела Адониса в полковники и отвела ему апартаменты во дворце. Отныне он стал ежедневным спутником обеих дам, и те вступили в подлинное соревнование, наперегонки осыпая его любезностями. И Боски, фальшивый Томази, тоже поймал свою птицу счастья. Екатерина Вторая распорядилась выплатить ему солидную сумму за картину «Венера и Адонис» и заказала ему другие мифологические сцены, а также портрет Платона Зубова. Кроме того, он получил жилье и роскошное ателье при дворце.
Томази тем временем, казалось, совершенно успокоился; но злому року было угодно, чтобы однажды вечером он, уже попрощавшись с Софьей, снова вернулся за альбомом для эскизов, позабытом в ее будуаре. Уже в коридоре он услыхал два голоса, которые, похоже, оживленно беседовали о чем-то в комнате его красавицы. Подойдя к двери, он отчетливо различал ее голос и голос какого-то мужчины. Его подозрение тотчас же пало на Зубова. Он прильнул к замочной скважине и увидел своего соперника, сидящего с госпожой Протасовой на диване. Они держали друг друга в объятиях, непринужденно болтая, и время от времени неверная привлекала Адониса к себе и целовала в пухлые, сочные губы.
Томази постучал.
Наступила тишина, но никто не откликнулся.
Он постучал повторно.
Теперь госпожа Протасова крикнула:
– Кто там?
– Это я, дорогая Софья.
– Я уже легла, – промолвила та в ответ.
– Я позабыл альбом для эскизов, – продолжал итальянец, – будь любезна на минутку открыть мне.
– Ты можешь забрать его завтра.
– Нет, любовь моя, с утра я собираюсь пораньше отправиться на пленэр.
– Как раз утром ты мог бы и не рисовать.
– У тебя кто-то есть? – спросил Томази, начинавший уже с ума сходить от ревности. – Твое поведение очень странно и вызывает подозрения.
– Дурак! – крикнула изменница. – Я тебе сейчас же открою, чтобы ты убедился, насколько ты глуп.
Томази снова заглянул в замочную скважину. Он увидел как госпожа Протасова спрятала Адониса в оконной нише, задернула занавеску и потом набросила поверх ночной сорочки роскошную домашнюю шубку.
Наконец она отворила. Томази вошел в будуар, запер за собой дверь и взглядом, исполненным одновременно боли и ярости, пристально посмотрел на красивую женщину, с полураспущенными волосами, в темных волнистых мехах, прикрывавших пышную грудь и полные руки, показавшуюся ему прельстительнее, чем когда-либо.
– Стало быть, все же предан, – пробормотал он, – предан двуличной, лицемерной змеей, ну погоди, я раздавлю тебя, змея подколодная, ты меня больше не проведешь.
Он схватил возлюбленную за руку и швырнул на пол.
– Ты что, рехнулся? – пролепетала госпожа Протасова.
– Я в слишком здравом уме, – крикнул он, – теперь я все ясно вижу, жалкая тварь, я прикончу тебя, а потом того, что прячется там за занавеской.
– На помощь, – возопила красавица, – на помощь!
Томази уже выдернул крепкий шелковый шнур, подпоясывавший ее шубу, чтобы набросить его ей на шею, и грозил вот-вот задушить ее, когда мощный удар кулака по затылку свалил его наземь, и в следующее мгновение Зубов придавил ногой полуоглушенного обожателя. И прежде, чем тот успел сообразить что к чему, прекрасная изменница тем же шнуром, которым он собирался ее удавить, догадалась спутать ему ноги, после чего соперник с ее помощью смог легко скрутить ему за спиной также руки и носовым платком заткнул ему рот.
Теперь, когда несчастный художник не в состоянии был не только говорить, но даже подать звука, госпожа Протасова подступила к нему и с язвительной усмешкой проговорила:
– Ну, Томази, теперь ты доволен? Если до тебя еще не дошло, то сейчас я говорю тебе прямо, ты мне наскучил, я больше тебя не люблю, я люблю вот этого Адониса, а тебя велю переправить через границу, потому что ты уже начинаешь стеснять меня.
Еще той же ночью по приказу шефа полиции, постоянно находившегося в распоряжении доверенной подруги императрицы, Томази, закованный в кандалы и под конвоем полицейских чинов, был увезен в кибитке из города и выпущен на свободу только на прусской границе.
Он отомстил весьма оригинальным способом двумя картинами, которые выставил в Париже и которые наделали там много шума. Одна изображала Екатерину Вторую Цирцеей, неуклюжей как голландская нимфа, в окружении царедворцев, преображенных его кистью в зверей, символизирующих их характеры. Орлов получился медведем, Потемкин – тигром, а Зубов – павлином.
На втором полотне красовалась госпожа Протасова в виде Дианы, которую Томази в образе Актеона застает во время купания и которая превращает его за это в оленя. Запечатлен был момент самого начала превращения, когда на голове у Томази прорастают ветвистые рога.
Итальянец сделал гравюры с обеих картин и послал экземпляры царице, которая ужасно разозлилась при виде сего творения, и госпоже Протасовой, которая от души посмеялась над этим.
Примечания
1
Цирцея (Кирка) – в греческой мифологии волшебница с острова Эя, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его самого удерживавшая на своем острове в течение года; в позднейшей литературе стала синонимом коварной обольстительницы.
(обратно)2
Здесь имеется в виду немецкий центнер, равный пятидесяти килограммам.
(обратно)3
Рубенс Питер Пауль (1577—1640), известный фламандский художник.
(обратно)4
В римской мифологии богиня Диана полюбила Эндимиона, но прежде чем поцеловать прекрасного юношу, погрузила его в вечный сон. В Эрмитаже хранится картина итальянского живописца Джованни Батиста Питтони (1687—1767) «Диана и Эндимион».
(обратно)5
Анадемена, т. е. «рожденная из пены» – прозвище Афродиты, греческой богини любви и красоты, соответствующей римской Венере.
(обратно)6
Здесь имеется в виду Артемида, превратившая охотника Актеона в оленя за то, что он увидел ее купающейся, после чего Актеон был растерзан собственными собаками.
(обратно)7
Супруга Юпитера – Юнона (Регина, т. е. «Царица»), отождествляемая с греческой Герой. Согласно мифу, Гера поместила сто глаз сторожа Аргуса после его убийства Гермесом на хвостовое оперение павлина; кроме того, павлин был символом звездного неба.
(обратно)8
Кстати, между прочим! (франц.)
(обратно)9
Добрый вечер (франц.).
(обратно)10
Моя дорогая (франц.)
(обратно)11
Зубов Платон Александрович (1767—1822), князь, русский государственный деятель, происходил из среднепоместного дворянства, фаворит Екатерины II, занимал ряд государственных должностей: генерал-губернатора, члена Военной коллегии, главнокомандующего Черноморским флотом, генерал-фельдцейхместера. Екатерина II подарила Зубову громадные поместья. В январе 1796 г. он был по приказу Павла I выслан за границу; в конце 1800 г. вернулся в Россию и стал участником заговора 1801 г. При Александре I отошел от службы.
(обратно)12
Веронезе Паоло (наст. имя Паоло Калиари, 1528—1588), итальянский живописец периода Возрождения, представитель венецианской школы, автор картин, панно и росписей. Из полотен вышеозначенной тематики в Эрмитаже хранится его «Диана».
(обратно)13
Парсуна – изображение какого-либо человека на картине или другом предмете (устар.).
(обратно)14
Зная, что ревнивый Марс готовит Адонису гибель, Венера умоляла его не идти на охоту. Но юноша не внял уговорам богини и был растерзан в лесу вепрем. Горько оплакивая Адониса, окропила Венера пролитую кровь нектаром и превратила в цветок анемона. В Эрмитаже хранится скульптурная группа итальянского ваятеля Джузеппе Маццуола (1644—1725) «Смерть Адониса»).
(обратно)


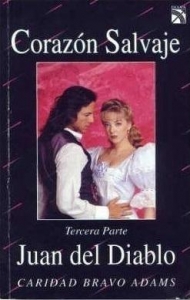
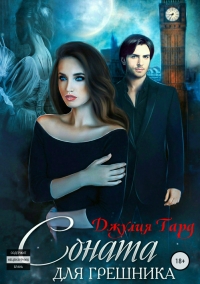

Комментарии к книге «Венера и Адонис», Леопольд фон Захер-Мазох
Всего 0 комментариев