Роксана Гедеон Край вечных туманов
Часть 1 БРЕТОНСКИЕ ДОРОГИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ БРЕТОНСКИЕ ДОРОГИ
1
– Алансон! Алансон! О, наконец-то!
Этот возглас одной из пассажирок дилижанса заставил меня выглянуть в окно. Лошади бежали вниз по тропе, проложенной на склоне холма. Я видела тусклый блеск темных вод Сарты и далекие, слабые огни какого-то жилища. Дождь шел целый день, покрыв мутной поволокой окна дилижанса. Дорога совсем раскисла, ехать стало трудно.
– Это не может быть Алансон, – проговорила я неуверенно.
– Алансон – большой город, а здесь так мало огней…
Но всем пассажирам, в том числе и мне, хотелось, чтобы это был Алансон. Постоянный дождь, сырость, скверные разбухшие дороги, грязевые потоки… Осторожный Паскаль вел свой дилижанс очень медленно: за четыре дня мы преодолели всего шестьдесят лье. Путешествие ужасно измучило всех пассажиров: хотелось, наконец, оказаться в большом городе и как следует отдохнуть.
– Это не Алансон, – раздался глухой голос старика Паскаля.
– Это постоялый двор. Там славный хозяин, а раньше было и славное вино. До Алансона еще добрых два лье. Ну, так что же вы скажете, граждане? Едем дальше или остановимся на ночь в гостинице?
Пассажиры переглянулись. Вид у всех был жалкий, измученный. У пожилого солдата открылась рана на ноге, дочери торговца уже который день чихали и кашляли. Да и я не отказалась бы от теплой постели и горячего ужина.
– Везите нас в гостиницу! – крикнул Брике.
– От холода уже зуб на зуб не попадает.
Паскаль хлестнул лошадей, и они побрели по грязи в сторону огней, грустно сиявших в дождливой темноте мартовского вечера. Я осторожно нащупала на поясе свой кошелек с ливрами, полученными от Батца. Денег было немного, но вполне хватит до Сент-Элуа. И даже еще останется…
Брике первым выпрыгнул из дилижанса и, как истинный кавалер, подал мне руку. Несмотря на помощь, я все равно почти утонула в грязи. На порог одноэтажной гостиницы вышел хозяин с фонарем в руках. Отблески света помогли прочесть название – «Золотой погребок».
– Чего изволите, граждане? Ужин, ночлег?
– И то, и другое, – пробасил Паскаль.
– Да еще хоть какого-нибудь корма моим лошадям, иначе мы точно никуда не доедем.
– Сделаем, все сделаем, гражданин.
– Цены, наверное, бешеные? – спросил Паскаль, прищуриваясь.
– Видит Бог, не выше, чем в Париже. В провинции Ман нынче голодно, как и везде.
Я поспешно прошла в трактирный зал, заняла место у пылающего камина. Каким наслаждением было стянуть мокрые ботинки и протянуть босые замерзшие ноги к огню… Сперва я даже обомлела от такого потока теплого воздуха. Рядом сидел Брике и тяжело сопел от удовольствия. Потом вокруг очага стали собираться другие пассажиры дилижанса. Немного согревшись, я чуть отодвинулась, чтобы дать место маленьким продрогшим дочерям торговца.
Гостиница была пуста, и, наверное, ее хозяин и не ожидал посетителей, поскольку еда не была готова. «Золотой погребок», несмотря на свое кокетливое название, был только грубо срубленным домом, толстые стены которого пропитались запахом капустного супа. Этот суп и подали на ужин. Чуть позже жена трактирщика принесла миски, полные очень горячей фасоли с салом и чесноком, и крынки молока.
– Вина нет и не будет, – сказала хозяйка угрюмо.
– Недавно были гвардейцы, искали хлеб. Да вдобавок перебили все последние бутылки…
Паскаль только крякнул в ответ.
Мне сейчас было все равно, что есть. Лишь бы была еда, да к тому же горячая.
– Времена нынче тяжелые, – сказал Паскаль.
– Путешествовать стало опасно. Да и с едой плохо. Я помню, раньше случался такой голод, что люди ели крапиву и сено, кору, капустные кочерыжки, коренья. Мололи ореховую скорлупу вместе е ядрами, чтобы добавить к последней горсти овса или ржи.
– Зачем вы говорите это? – спросила я.
– Затем, чтобы вы радовались тому, что имеете.
Ах, подумала я, мне и так радостно. Незачем пугать меня страшными картинами голода. Ценой собственного унижения я добилась исключения замка Сент-Элуа из списка имущества, подлежащего конфискации. Теперь замок как бы ни существовал. Но на деле-то он был мой, и я знала – у кого есть замок и земля, тот никогда не умрет с голоду.
Брике, поужинав, сразу улегся спать на войлочной подстилке, совсем близко от очага. Он был к этому привычен и охотнее спал на полу, чем в постели. Я взглянула на мальчика: тощий, маленький, но физиономия плутовская и нос ястребиный. Сколько лет этому сорванцу? Четырнадцать? Нет, пятнадцать.
Уже, наверное, было одиннадцать часов вечера. Дождь лил не переставая. Хозяин трактира потушил все огни, кроме маленькой лампы, что мерцала на столе, и теперь в зале было сумрачно. Бодрствовали только я и Паскаль. Я взяла свой высушенный у огня плащ и щеткой стала чистить его от грязи. Было тихо-тихо, лишь изредка потрескивало пламя лампы.
– Это ваш брат, мадам? – спросил Паскаль, указывая на Брике.
Я вздрогнула от обращения «мадам». Все давно уже говорили «гражданка».
– Нет. Он просто, просто мой друг.
– Я так и подумал. Сопляк совсем не похож на вас, явно не родственник. А зачем вы едете в Ренн, мадам Лоран?
– В Ренне у меня сын. Да еще всякие дела.
– А муж?
– У меня нет мужа. Я одна.
– Одна решились отправиться в такую дорогу?
Я удивленно взглянула на Паскаля.
– А что такого страшного в этой дороге? От холода и усталости меня и муж бы не спас. Разумеется, я не нуждаюсь в помощи.
Паскаль сокрушенно качал головой, набивая табаком трубку. Он был такой крепкий, уверенный, твердый, как скала, точно знающий, что должен опекать своих пассажиров, как детей.
– Здесь много разбойников, мадам Лоран. Видите, как я вооружен? Мне не впервой попадать в переделки.
– У меня нет денег, господин Паскаль. Меня не станут грабить.
– Да, но вам могут нанести иной урон.
Я подозревала, что он имеет в виду, но ничего не ответила. Паскаль слишком мрачно смотрит на мир. Здесь, в «Золотом погребке», сейчас так спокойно. Ночь пройдет быстро и мирно, на рассвете мы продолжим путь, а когда я доберусь до Сент-Элуа, мне и сам черт не страшен.
– Скверные времена, мадам. Очень скверные.
Голос Паскаля осекся. Из дождливого мрака ночи донесся странный протяжный звук. Словно хриплый крик старика… Я вздрогнула. Звук умолк, а дождь все шумел и шумел, заглушая даже треск хвороста в камине.
– Это кричит сипуха, – сказала я.
– Вы уверены?
Паскаль резко поднялся, выхватил из-за пояса тяжелый пистолет. Я встревожилась.
– Что вы хотите, господин Паскаль?
– Да так… Взгляну, что там во дворе.
Он вышел. Я слышала, как старик прошелся по трактирному двору, заглянул в какие-то двери – я ясно слышала их скрип. Грустно замычала корова в хлеву. Потом шум дождя усилился, и я уже ничего не слышала.
Струи воды стекали по оконному стеклу. Небо было темно, как черный бархат, и ни одна звезда не вспыхивала на нем. Ветер бился в окна, и жалобно звенели рамы под его порывами. Раздался первый раскат грома, и ослепительная молния синим пламенем озарила трактир. Я вздрогнула. Какая жуткая ночь! Молния вспыхнула еще раз, да так ярко, что я невольно подумала, есть ли в гостинице громоотвод. Разумеется, нет… Это ведь не Париж, а глухой уголок Мана.
Вернулся Паскаль – вымокший до нитки и рассерженный.
– Вы что-нибудь увидели?
– Черта с два что-то увидишь в такой дождь! Отправляйтесь спать, мадам Лоран. Наверное, это и вправду кричала сипуха.
Я и сама считала, что пора спать. Когда спишь, не боишься ни молнии, ни грома. Постель, приготовленная для меня, была более чем скромная – старый тюфяк, застланный простыней, застиранной до прозрачности. Я прижалась щекой к подушке, набитой соломой, и закрыла глаза. Мне вспомнился первый бал в Версале. Тогда тоже шел проливной дождь, и сверкала молния. Но мне не было грустно. Я была поражена собственным успехом и долго не могла уснуть, вспоминая мельчайшие подробности того блестящего вечера. С тех пор прошло семь лет… Стоит ли вспоминать о том, чего уже никогда не вернуть? Я давно привыкла к бедности, скверной еде и даже к Грязной работе – ведь не зря же я служила в кухне Тампля. Я привыкла даже к одиночеству. И теперь у меня была только одна цель – добраться до Сент-Элуа.
Жанно, наверное, и не узнает меня. Но я обниму его и спою «Прекрасную мельничиху» – не мог же он забыть свою любимую песенку. Каким он сейчас стал? Ему ведь уже почти шесть лет. Я представляла себе смуглого прелестного ребенка с шелковистыми кудрями, черными, как вороново крыло, и огромными глазами цвета самой нежной лазури – глазами прекрасными, как растаявшие жемчужины. Жанно, наверное, вырос и пообносился. Наверняка он нынче ходит в куртке и гетрах, как обыкновенные крестьянские дети, а летом бегает босой, в полотняных штанах и парусиновой рубашке. Вряд ли Маргарита могла одеть его получше. Боже, как низко мы все пали! Жанно – единственный наследник высокого рода де да Тремуйлей де Тальмонов, – на что он может надеяться, кроме нищеты? Если, конечно, нам не удастся покинуть Францию. Я вспомнила и об Авроре – ей уже одиннадцать. А еще есть Шарло. Господи Иисусе, какая забота свалится на меня.
Маргарита поможет мне. Думая о трех детях, которые будут у меня на руках, я и на миг не представляла, что рядом не окажется Маргариты. Я так любила ее. За год разлуки мне всегда казалось, что я осиротела. Не было постоянного ворчания, порицаний и нежных наставлений. Раньше они мне так надоедали, а теперь их не хватало. Пожалуй, Маргарита всегда была единственным человеком, на кого я могла надеяться. Паулино очень молод и, наверное, скоро откажется от обузы, которую представляла наша семья.
Громкий шум прервал мои мысли. Я вскинулась на постели. Послышался пронзительный звон разбитого стекла и ужасный треск – словно кто-то хотел выбить трактирную дверь.
– Кто там, черт побери? – раздался голос старого Паскаля.
Я стала поспешно одеваться, нащупывая в темноте комнаты свои ботинки, но мне удалось только накинуть на себя юбку. Чудовищная брань смешалась со звуками выстрелов. Стреляли раз, другой. Мои соседки – жена торговца, дама со служанкой и три маленьких девочки – закричали от ужаса.
– Надо закрыть дверь! – крикнула я.
Босиком бросившись к двери, я закрыла ее на задвижку.
– Мама! Мама! – кричали девочки.
– Нас хотят убить?
Мама приказала им замолчать, но они продолжали реветь от страха во весь голос.
– Да оставьте вы этого старика! – раздался чей-то громкий повелительный голос.
– Хватайте трактирщика! Он нам много задолжал, каналья! Да не упустите его женушку – у нее такие телеса, что хватит на целый полк!
Какие-то люди били посуду, двигали мебель, слышался шум борьбы, но больше не стреляли.
– Ух, как я замерз! – произнес тот же голос, видимо, принадлежащий главарю.
– Да и наш скряга наверняка тоже. Ну-ка, погрейте ему пятки у огня! Да не забудьте взглянуть, что там за дверью, я слышу какой-то женский писк. Мы отлично развлечемся!
– Это грабители, – прошептала я.
– «Поджариватели». Черт возьми, почему вы не заставили своих дочек замолчать!
Жена трактирщика закричала так истошно, что у меня потемнело перед глазами. Крики превращались в какую-то какофонию. Теперь вопил уже и мужчина. В комнату заползал отвратительный запах горелого мяса – словно бандиты жарили поросенка.
– Ну, ломаем дверь, что ли?
– Бери стол, Мартен! Мы живо справимся!
Я едва успела отскочить от двери. По ней ударили с такой силой, что зазвенели стекла в окнах. Еще один такой удар – и дверь сорвется с петель. Схватив плащ и ботинки, я бросилась к окну, изо всех сил затрясла раму – она не поддавалась. Но ведь надо же бежать! Не помня себя от страха, я изо всех сил ударила по стеклу рукой. Кровь залила мне пальцы, осколки посыпались на грудь, на платье, но я не отряхивала их. Вскочив на подоконник, я живо выпрыгнула из окна во двор.
Мои ноги утонули в холодном размокшем навозе и еще каких-то нечистотах. С трудом выбираясь из этой вонючей грязи, я поспешно натягивала ботинки. Дождь был такой, что я сразу вымокла до нитки, и моя нижняя рубашка и юбка, в которые я была одета, прилипли к телу. Я побежала к воротам, на ходу накидывая плащ.
Темная высокая фигура выросла передо мной. Я почти наткнулась на человека, что скалой неожиданно вырос на моем пути. Я отшатнулась. Незнакомец ударил меня по лицу с такой силой, что я упала. На мгновенье свет померк перед моими глазами.
Острая боль привела меня в чувство. Бандит тащил меня за волосы по земле, тащил в сторону трактира. Я застонала, вырываясь, но он так ударил меня ногой, что я задохнулась от боли. Бандит дотащил меня по грязи до порога, там схватил за шею, как тисками, силком поднял на ноги и так толкнул вперед, что я не удержалась на ногах и упала на пол. Яркие языки пламени в камине плясали перед моими глазами, приближаясь и становясь все краснее.
– Кого это ты приволок, Ноэль?
– Дамочку какую-то! Она уже почти удрала. Смотрите, какая она нежная! Наверняка из аристократок.
– Она вся в грязи, Ноэль. С дамами нужно обращаться повежливее, – произнес насмешливый голос.
Я узнала его. Голос главаря.
Он наклонился ко мне, рывком поднял с пола так, что я стояла теперь на коленях. Ужасное лицо приблизилось ко мне – горящие страшные глаза, желтоватые поры нечистой кожи, красные прожилки вокруг зрачков, и запах, противный запах перегара и пота. А еще я видела лужи крови на полу, бесчувственного трактирщика, лежащего у камина с обугленными ногами, убитого Паскаля и связанных, брошенных в углу, как дрова, женщин.
– Шеф, я поймал эту женщину. Не забудьте, что это я, Ноэль!
– Отвяжись. Видишь, наша дама не в себе. Меня зовут виконт де Маргадель, мадам, генерал всех «поджаривателей». А как зовут вас?
Я смотрела на это чудовище, которое смело называть себя виконтом, и не находила слов для достойного ответа. Впрочем, они, пожалуй, и не найдутся. Рука бандита сжимала мое плечо. Ловко изогнувшись, я впилась зубами в руку самозваного виконта – вот это был нужный ответ!
Я слышала, как он закричал, когда мои зубы прокусили кожу, и струйка крови побежала мне в рот. Он старался освободиться и бил меня по лицу, но я не ослабляла своей хватки и сжимала зубы все сильнее, сжимала с каким-то наслаждением, словно стремясь прокусить ему руку насквозь. Его кровь текла у меня по подбородку.
В это мгновение меня ударили по голове с такой силой, что я потеряла сознание.
Некоторое время я не помнила, что со мной происходило. Наверное, они меня били – и по лицу, и сапогами, и таскали за волосы.
– Ну-ка, давайте эту стерву к столбу!
Этот хриплый разъяренный возглас на мгновение вернул мне проблеск сознания. Потные огромные руки пригвоздили меня к трактирному столбу, скрутили веревками так, что я не могла пошевелиться, но и не падала, повиснув на бечевке. Кто-то окатил холодной водой, потом рванул на моей груди рубашку. От множества жадных похотливых рук, смердящих прикосновений, противных ртов и боли, нестерпимой боли во всем теле глаза у меня заволокло ярко-красным туманом.
Мне казалось, что я упала в огонь, в бездну, где бушует пламя, и закричала из последних сил. Чья-то рука ударила меня головой о столб. Я умолкла.
2
Такое же чувство было тогда, когда я потеряла Луи Франсуа. Пустота, ужасающая пустота в теле. Отсутствие мыслей и желаний, тихое отчаяние, заполняющее душу. И боль, резкая боль, пронзающая мозг. Будто тяжелый железный обруч сдавил голову.
В моем теле не осталось больше крови, ни единой капли. Отсюда такая пустота.
– Мадам! Мадам! Вы живы еще или нет?
Кто это спрашивает? Я не видела, хотя мои глаза были открыты. Не все ли равно, чей это голос.
– Вы дышите! Так что ж вы молчите?!
Это был тонкий жалобный голос, почти детский, и к нему примешивался плач. Кто-то взял мою голову в руки и пытался приподнять, подстилая охапку соломы. Потом я почувствовала прикосновение холодной мокрой губки ко лбу. Но и так было ужасно холодно, и от этого ледяного прикосновения меня передернуло. Словно электрический ток пробежал по телу. Я застонала, шаря рукой вокруг себя, пытаясь найти какую-нибудь одежду и укрыться. Но ничего не было, и сама я лежала почти нагая.
– Вам холодно, мадам? Сейчас я вас укрою!
Через минуту на меня свалилась тяжелая куртка из грубого сукна. Ткань была холодная. Пройдет много времени, пока я согреюсь.
– Брике, – произнесла я тихо.
– Брике, это ты?
– Я мадам! Ну, конечно! Я же знал, что вы живая. А бандиты подумали, что вы умерли, и бросили вас тут.
Надо мной склонилось так хорошо знакомое лицо с плутовскими глазами и ястребиным носом. Брике. Удивительно, как он оказался тут после того кошмара.
– Ты спасся? – прошептала я.
– Я перед самым нападением вышел по нужде. Ужин был такой дрянной, вот меня и потянуло. Я вышел. Гляжу: бандюги ворота сломали и бьют в трактире окна. Я сразу дал деру. Отсиделся в кустах возле речки. Дождь был – ужас! А утром я вернулся.
– Сейчас утро? – спросила я с трудом.
– Да какое там утро! Уже снова ночь. Я целый день старался вас расшевелить, да у меня ничего не выходило. Жутко иногда становилось. Вот, думаю, и влип в историю! Заехал черт знает куда, денег нет. Теперь и в Париж не вернешься. И брюхо набить тут нечем. Я голодный как волк.
Я понемногу начинала согреваться и чувствовала, как в окоченевшие члены возвращается теплая кровь. В трактире были выбиты все окна, и, несмотря на то что Брике закрыл дверь, по полу, где я лежала, проносился сильный сквозняк.
– А они вас, ну, того? Они вас изнасиловали, да, мадам?
– Замолчи! – сказала я с неожиданной яростью.
– Что ты сидишь? Ступай во двор, найди какие-нибудь дрова.
– Зачем?
– Чтобы разжечь камин, болван!
Меня колотила дрожь. Эта вспышка совсем меня обессилила. Хуже всего было то, что вместе с сознанием возвращалось чувство боли. Невыносимо ныло тело. Руки были ободраны, на ладонях – страшные порезы. Лицо разбито в кровь, губы рассечены, на груди и плечах живого места нет. Синяки, кровоподтеки, глубокие царапины. Все это ныло, саднило, мне хотелось кричать от боли. Я попыталась подняться, но не хватило сил. Я лишь заметила, что одежда изодрана в клочья, а я лежу в крови и грязи. На лодыжке большой ожог.
Вдруг ясно, до мельчайших подробностей вспомнилось все, что случилось. Мерзкие издевательства. Одно чудовище сменяется другим, и нет конца этому кошмару. Потные руки, разрывающие мое тело, запахи конюшни, душащие меня. Отвратительная физиономия виконта де Маргаделя, его рот, прилипающий к моему лицу, его морда рыжего кабана!
Я закричала от ужаса, словно переживала все это сейчас, и вся покрылась холодным потом. Боже, кто спасет меня? Как я выберусь из этой переделки? Отвращение так захлестнуло меня, что я насилу сдержала рвоту.
– Что это с вами, мадам? Вы почему кричали?
Брике бросил связку хвороста на пол и подбежал ко мне.
– Я слышал, вы кричали.
– Ничего, – прошептала я, вся дрожа.
– Ничего страшного. Разожги поскорее камин, если ты не хочешь, чтобы я замерзла насмерть.
Брике повиновался. Мокрый хворост скорее не горел, а тлел, но мне хотелось оказаться поближе к камину. Мальчишка помог мне передвинуться к огню. Я убедилась, что ходить еще не могу.
На полу трактира все так же валялись трупы. Старый Паскаль, трактирщик, которому сожгли ноги, и его замученная жена. Торговец был пригвожден к креслу пикой, Я закрыла глаза, не в силах созерцать это.
– Двоих судейских они бросили в колодец, – сказал Брике.
– А все три девочки умерли. Одна совсем недавно. Я давал ей воды, но она меня так и не услышала. «Поджариватели» их тоже изнасиловали.
– А остальные женщины?
– Они их увезли с собой. Я видел. Связали, перебросили через седла и увезли. И у вас, как я заметил, деньги забрали.
Я пошарила у пояса. Действительно, кошелька нет. Забрали даже те жалкие деньги! Подходящий промысел для человека, приписывающего себе титул виконта. А изнасиловать девочек! Я раньше о таком даже не слыхивала.
– Где ты берешь воду, Брике, если в колодце трупы?
– Так поблизости есть река, мадам.
– Ах да. Река Сарта.
Ночь прошла скверно. Меня то до костей пробирал холод, и я натягивала на себя все тряпки, что были вокруг, то трясла лихорадка, и я начинала бредить. Раны от побоев невыносимо ныли, лицо горело. Приходя в сознание, словно выныривая из темной бездны, я видела вокруг себя мрачные стены трактира, тусклый отблеск головешек в очаге и содрогалась при мысли о том, что рядом со мной трупы.
Утром я долго не могла подняться, разминая руки и ноги. Было ужасно холодно. Брике по моему приказанию отправился на поиски хвороста, а заодно и за водой. Как истинный парижанин, он не умел колоть дрова, и приходил в возмущение оттого, что должен заниматься такой работой.
«Если я не съем хоть чего-нибудь, – сказала я себе, – я так и умру в этом «Золотом погребке». Мне нужно встать».
Раны и кровоподтеки ныли, словно меня избили только вчера. Держась рукой за стену, я сперва поднялась на колени, а потом уж встала на ноги. Шатало, как после пьяной оргии. Башмаков нигде не было видно, от юбки остались лохмотья, корсаж с трудом стягивается на груди. Волосы, перемазанные грязью и кровью, падали на лицо…
Сволочи! Проклятые сволочи, и самый большой мерзавец среди них – виконт де Маргадель, их главарь, этот рыжий кабан!
Мерзавец – это еще чересчур мягко сказано.
Я с трудом прошлась по трактирному залу, вздрагивая от остекленевших взглядов мертвецов. Четыре трупа. Хоть бы уйти отсюда поскорее!
Кладовка была пуста. Я нашла только горсточку муки и несколько унций ржи, смешанной с золой. Когда вернулся Брике, мы разожгли огонь и поставили кипятить воду. Затем всыпали в горшок найденную мною муку – вот и получился суп.
Брике хлебал деревянной ложкой это варево и морщился. Я предпочитала не проявлять своего отношения к этому мутно-белесому супу. Он был горячий, только что с огня, и я чувствовала, что согреваюсь. Кровь прилила к щекам, боль почти угасла.
– Мадам, это ж только вода!
– С мукой, – добавила я.
– Вы думаете, этим можно наесться?
– Другого у меня нет.
Втайне я сознавала, что Брике прав. Голод будет терзать нас больше и больше, если мы не утолим его чем-нибудь более существенным. Послышался какой-то звук – грустный, протяжный, заунывный. Я удивленно подняла голову.
Брике смотрел на меня, ничего не понимая. Разозлившись, я отвесила ему подзатыльник:
– Болван! Ты сидишь здесь два дня и ничего не слышишь? Это же корова мычит! Ко-ро-ва! Недоенная, понимаешь? Вот напасть мне с таким помощником!
Как была босиком, я пошла в хлев. Так и есть, корова. Значит, мы получим молоко… Немного, конечно, и только один раз, потому что нам нечем покормить это животное. Господи Иисусе, спасибо тебе за то, что ты придумал корову!
– Брике, берись за дело!
Мальчишка отскочил от меня как ужаленный.
– Ну да! Я в жизни коров не видел!
Я покачала головой. А я видела? Даже представить невозможно, как я была далека от этого!
– Ну-ка, держи ее за рога! Хоть это ты можешь сделать, несчастный?
С нескрываемым страхом я прикоснулась к набухшему болезненному вымени. Ободранные руки ныли, и я сжимала зубы от боли. К счастью, корова словно чувствовала, что я хочу принести ей облегчение. Белые струи – свежие, теплые, пряные потекли на дно грязного деревянного ведра.
В хлеву я обнаружила и свинью – худую, почти умирающую, безразлично лежащую на боку. В корыте, к которому свинья не хотела притрагиваться, было несколько испорченных картофелин, капустные кочерыжки и добрая порция какой-то непонятной каши. Я тщательно собрала все это в тряпку. В огороде, порывшись в земле, удалось разыскать три перемерзшие морковки и еще странные закоченевшие клубни – я не знала, что это такое. Во всяком случае, съедобное, иначе бы не выращивали в огороде.
– У нас есть еда, Брике, – сказала я с нескрываемой гордостью за свои находки.
Мы ели все подряд, как голодные звери, жадно, быстро, не разбирая ни вкуса, ни отвратительного запаха подобной еды. Я взглянула на ведро с молоком. Как хорошо было бы напиться чего-то чистого, свежего после всей той дряни, что мы употребили в пищу! Но что будет завтра?
– Нет, – сказала я грустно.
– Молоко мы трогать не будем. До вечера, по крайней мере.
Поход за едой очень меня утомил. Жгучая боль от ожога пронизывала щиколотку. Как я страшна сейчас, мелькнула у меня мысль. Не женщина, а смертный грех.
Вечером у нас обоих началась ужасная рвота. Нас даже не рвало, а выворачивало наизнанку.
– Вот бы зарезать свинью, – сказала я отдышавшись, – да зажарить ее на огне. Ты можешь это сделать, Брике?
– Я? Зарезать? Да я не знаю даже, как это делается, мадам.
Я вздохнула. Значит, свинья умрет. Ей недолго осталось. Мы выпили все молоко, что надоили от коровы, и, устроившись у еще теплого очага, уснули. На этот раз сон был тяжелый, непробудный. Меня уже не тревожили никакие мысли. Только в теле жила приятная уверенность в том, что я отдыхаю, что завтра смогу отправиться в путь.
Утром я впервые решилась взглянуть повнимательнее на то, что же сделали со мной бандиты. Из маленького зеркальца, найденного на комоде, на меня смотрела страшно похудевшая женщина с грязными волосами соломенного цвета, с разбитыми, вспухшими губами и кровоподтеками на щеках. Два ужасных синяка были даже на шее, словно меня пытались задушить. Запекшаяся кровь на теле почернела и стягивала кожу. Выбрав тряпку почище, я осторожно обмывала следы побоев. Из этого ничего не вышло. Тогда я спустилась к пустынному берегу Сарты и, несмотря на то что вода была ледяная, вымылась. Кровь смыта. Но как смыть память о тех отвратительных руках, что прикасались ко мне, о той чужой мерзкой плоти, что осквернила меня? Еще долго я буду сама себе противна.
В сундуке трактирщицы я обнаружила какие-то старые лохмотья. Они лежали там, наверное, со времени Луи XIV, но, по крайней мере, прикрывали тело. Я переоделась в грубую бумазейную юбку, подол которой превратился в бахрому, жесткую рубашку и черный корсаж из саржи. Спутанные волосы туго уложила под чепчик. Тяжелую, толстую, как драп, шаль накинула на плечи, скрестила концы на груди и завязала крепким узлом за спиной. Никто не отличил бы меня от крестьянки, причем самой бедной. Вот только обуви не было. Тяжело вздыхая, я стащила с мертвого Паскаля кожаные сапоги. Они были велики для меня, но я подвязала их бечевкой, чтобы не сваливались. В такой обуви можно было дойти и до края света. О том, что сапоги сняты с трупа, я тогда и не вспомнила.
А мой пропуск? Пропуск, добытый с помощью обмана и морфия? Смешно было бы искать его после того, что произошло. Жалкая бумажка или сгорела, или просто пропала навсегда. Стало быть, меня может арестовать любой республиканский патруль, которому я попадусь на глаза.
Я еще раз оглядела трактирный зал, на полу которого уже запеклась кровь, и снова вспомнила кошмар, что здесь случился. Больше всего на свете я боялась, что у меня может быть ребенок от этого отвратительного насилия, но потом, сделав подсчеты, поняла, что Бог избавит меня от этого несчастья. А что, если мне снова встретится банда «поджаривателей»? Подумав, я выдернула из-за пояса старого Паскаля тяжелый пистолет, а за ним два мешочка с порохом и пулями. Если уж попала в ад, то надо уметь защищаться.
– Пойдем, Брике. Мы должны поскорее уйти из этого места.
Ступать на левую, поврежденную, ногу мне было тяжело, но я пересилила себя. Как можно быстрее пересекла двор, где лежали тела девочек-подростков. Над ними тоже надругались… Между ног одной из них торчал штык.
– Сволочи! Ах, какие сволочи!
– Да, эти «поджариватели» похуже, чем господа из Двора чудес, – резюмировал Брике.
– Можно сказать, суровые бандюги. Что ж поделаешь? Кто может, тот и грабит. Время нынче такое.
Я молчала. Дорога шла вдоль Сарты, и я брела по ней спотыкаясь. Кажется, я потеряла счет времени. Какое нынче число? Я принялась считать по пальцам… Оказалось, уже 7 марта 1793 года – я целую неделю в пути! За такое время можно добраться до Христиании.
– Куда мы идем? – осведомился Брике.
– В Алансон? Помнится, бедняга Паскаль говорил, что до Алансона еще целых два лье.
– Нет, – сказала я твердо.
– В Алансон мы заходить не будем. Мы пойдем через деревни, где меньше людей.
Я знала, что путь надо держать в Ле-Ман. Это крупная дорога, не какой-нибудь закоулок, где бесчинствуют молодчики виконта де Маргаделя. Я была в двойственном положении: с одной стороны, боялась республиканских патрулей, с другой – опасалась банд «поджаривателей».
– Все-таки вы молодец, мадам! – восклицал Брике, верный своей привычке бежать вприпрыжку впереди меня.
– Они такое с вами сделали, что, я думал, вы уже и не встанете. А если и встанете, то будете как сумасшедшая. Я знаю, такое бывает.
– Ну нет, – сказала я, усмехнувшись.
– Что-что, а нервы у меня крепкие. Я и не такое видела.
Был полдень, и воздух звенел от солнца и счастья. Я с удивлением замечала, как быстро вступает в свои права весна. Бутоны почек набухли так, что готовы были взорваться в сладострастном порыве цветения, а кое-где уже курчавилась молодая поросль. Голубоватый туман, первый предвестник весны, уже растаял, уступив место золотистой дымке. Уже готовился цвести пышный орешник. Нежные примулы обрамляли узкую тропинку и поднимались выше по холму. Волчье лыко расцвело красивыми розовыми цветами, испускающими острый аромат. Я знала, что в нем ядовито все, вплоть до листьев и корней, но все равно оно красиво.
– Куда мы идем? – снова спросил Брике.
– В Ле-Ман.
Не очень приветливо встречали меня родные края.
– Сударыня. Сударыня! Не дадите ли вы нам чего-нибудь поесть? Хоть бы кусочек хлеба… Я и мой брат очень голодны.
Один Бог знает, как я произнесла эти слова. Пожилая крестьянка окинула нас обоих пристальным взглядом. Вероятно, мои лохмотья и покрытое синяками лицо, а также тощая фигурка Брике произвели на нее впечатление. В руках у нее была миска с кашей – она как раз шла кормить кур. Быстрым движением крестьянка протянула нам щедрый кусок густой каши.
– Берите! Да скорее, чтобы муж не увидел. Ступайте с Богом!
– Мы будем молиться за вас, добрая женщина, – с постной миной простонал Брике.
За два дня пути он уже знал, что нужно говорить в таких случаях.
Мы отошли в безлюдный деревенский переулок. Наступала ночь. Кашу я разделила пополам и половину протянула Брике:
– Ешь и не хнычь больше! Видел бы мой отец, чем занимается принцесса де Тальмон.
– Я же вам предлагал свои услуги, – пробормотал Брике с набитым ртом.
– Милостыню просить – тоже мне, придумали! Набиваем брюхо всякой дрянью… Я мог бы украсть что-то в тысячу раз лучшее.
– Ты попадешься на воровстве, и нас заберут в полицию.
– Ха! – Брике искренне рассмеялся.
– Крестьяне никого не сдают в полицию. Если они ловят вора, то расправляются с ним сами.
– Вот уж не думала, что для тебя это лучше.
Мы пошли дальше, обеспокоенные мыслью о наступающей ночи. Где искать ночлег? Несмотря на то, что была первая декада марта, ночи были очень холодные, по утрам на земле серебрилась изморозь.
– Смотрите, мадам, река!
Да, действительно, путь нам преграждала река, и я совсем сникла. Ведь такая маленькая речушка, а нам ее не перейти.
– За перевоз потребуют денег, Брике.
– Ах, снова незадача. Смотрите, мадам, на том берегу огни – наверняка какая-то таверна! Только бы перебраться туда.
Я оглядела берег. Искать брод бесполезно, кроме того, меня передергивало при мысли о том, что я должна буду брести по колено в холодной воде. Тогда уж лихорадка обеспечена… Я видела лодку, озаренную затухающим светом дня, и сгорбленную фигуру рыбака. Ему ничего не стоит перевезти нас на другой берег.
– Брике, за мной, – скомандовала я решительно.
Мы быстро зашагали по склону холма к берегу. Воздух был влажный, сырой. Ноги тонули в песке. Если бы было не так холодно, я бы сняла обувь.
– Добрый человек! – обратилась я к рыбаку. – Нам непременно нужно на другой берег. Не могли бы вы перевезти нас…
Рыбак стал медленно подниматься в качающейся лодке, желая, вероятно, рассмотреть людей, обращающихся к нему.
– А деньги у вас есть?
– Да, не беспокойтесь, – холодным тоном сказала я, молниеносным движением приставляя дуло пистолета к его затылку.
– Ну, не можете ли вы поторопиться?
Брике визжал от восторга у меня за спиной, полагая, что все карты оказались в наших руках. Но я все же боялась. Пистолет был приставлен к затылку рыбака, и мой палец лежал на взведенном курке, но рыбак был здоровым и сильным мужчиной, а я – слабой полуголодной женщиной. Мало ли что может случиться?
– Нападение! Бандиты! Шлюха и маленький разбойник!
Я подтолкнула рыбака в спину.
– Заткнись, старое толстое чучело! Брике, где ты?
– Я здесь, мадам!
– Ступай в лодку! А вы, добрый человек, знайте, что шутить мы не намерены.
Подталкиваемый мной, рыбак сел на весла, и лодка медленно удалялась от берега. Я глаз не спускала с нашего перевозчика, и от напряжения рука, сжимавшая пистолет, затекла. Но я бы скорее умерла, чем опустила руку.
Через пять минут мы были уже на другом берегу и, поспешно выпрыгнув из лодки, бежали вверх по склону холма.
– Во всяком случае, – заметила я на прощанье, – вы не можете сказать, что мы нанесли вам серьезный урон.
– Стерва! Ах, стерва! Прикончить тебя мало за такие дела! Рыбак проклинал нас еще долго, и мы слышали его брань до тех пор, пока не удалились от берега на добрую сотню туазов.
– Видите, мадам, как ловко! – кричал Брике, захлебываясь.
– Вот это приключение! А то – милостыня! Добрая женщина, подайте мне и моему брату! Тьфу! Когда есть пистолет, нечего унижаться.
– Пожалуй, ты прав, – проговорила я, с трудом переводя дыхание.
– Ну и переволновалась же я!
– Это оттого, что в первый раз. А потом вы привыкнете. И я вам помогать буду. Вы еще не знаете, что я могу.
– Ты незаменим, Брике, – произнесла я, целуя его в щеку. – И что бы я без тебя делала?
Я была благодарна мальчику, что он сопровождает меня. Без него, без его шуток и здравомыслия трудности дороги были бы невыносимы. Как кстати появился в моей жизни этот сорванец! Неунывающий, веселый насмешник Брике!
Мы кругами ходили вокруг таверны «Французский двор», зная, что ночевать нас не пустят. Для этого нужны деньги. Подошло время, когда трактирщик и посетители отправились спать. Тогда мы легко перелезли через забор и устроились на ночлег в хлеву, среди коров. Их теплое смрадное дыхание преграждало путь ночному холоду. А на рассвете, когда едва занималась заря, я легко надоила в крынку молока – это и был наш завтрак.
– Пойдем, Брике. До Ле-Мана уже недалеко.
Оказавшись во дворе, я из любопытства подошла к двери трактира. Там всегда вывешивались объявления и извещения о том, кто приговорен к смертной казни. Но теперь я увидела что-то новенькое. Декрет Национального Конвента о наборе в армию трехсот тысяч волонтеров. Набирать, вероятно, будут и в деревнях.
Крестьяне, идя мимо таверны, громко разговаривали именно об этом:
– Я не отдам своего сына!
– Слышали? Они объявили войну еще и Испании! Если так пойдет, во Франции останутся одни женщины и старики.
– Проклятье! Прогнали священников и аристократов, перевернули все вверх дном, а теперь еще набирают рекрутов!
– Кукиш им вместо этого!
– Я лучше зарежу чиновника, который будет проводить набор, чем отдам хоть одного из своих сыновей…
Я удивилась. Крестьяне проклинали Революцию. Но это было мне известно, я давно знала, что она им как кость в горле. Но крестьяне бранились открыто, громко, никого не опасаясь. И не было никого, кто бы возразил им.
– Что ты об этом думаешь? – спросила я у Брике.
Он пожал плечами.
– Пожалуй, будет бунт.
«Великий мятеж Вандеи, Бретани и Пуату?» – вспомнилось мне. – Об этом говорил маркиз де Лескюр… Неужели это случится сейчас, так скоро?
Задумавшись, я не заметила, как во двор вышел трактирщик.
– Что ты бродишь здесь, проклятая нищенка? Убирайся! Я ничего не ответила. Ведь он, бедняга, не знал, что мы уже попользовались его кровом и позавтракали молоком его коровы. Не могла же я возражать человеку, который так нас облагодетельствовал.
Через час мы были у ворот Ле-Мана. Солнце уже встало, и утренний туман рассеивался. Обилие света, затопившего город, обещало солнечный теплый день.
– Сударыня, не скажете ли вы нам, далеко ли до Ренна? Прачка, к которой я обратилась с вопросом, испуганно замахала руками:
– До Ренна? Очень далеко! Ведь идти туда можно только через Анже.
– Анже! – удивленно воскликнула я. – Это же совсем в другую сторону. Я хотела добраться до Ренна через Лаваль.
– Вся дорога от Ле-Мана до Лаваля охвачена грабежами. Разве вы не слышали? «Поджариватели» нападают даже на деревни. Я живу за городом, так даже за себя опасаюсь. Да еще этот набор в солдаты. Знаете, как все кипятятся! Того и гляди вспыхнет мятеж. Они, бретонцы, – народ дикий и горячий. А многие из участников мятежа могут и проститься с жизнью!
Она видела мой испуг и была довольна впечатлением, которое произвели ее слова.
– Так-то, милочка. Не ходите через Лаваль. Ступайте на Анже – туда дорога широкая, испытанная, ее солдаты охраняют. Лучше уж сделать крюк, чем потерять жизнь, не так ли?
Я была согласна с этим. Лучше пройти липший десяток лье, чем снова встретиться с кем-нибудь из банды виконта де Маргаделя или ему подобными. Теперь я знала, что нищета и отсутствие денег не предохраняют от нападения.
– В Анже, Брике. Мы пойдем в Анже.
3
На этот раз нам повезло. Недалеко от Ла-Флеш по дороге ехал крестьянин, перевозивший в телеге какие-то свои пожитки. Увидев нас – усталых, измученных, – он сам предложил нас подвезти. «Есть еще добрые люди на свете, – подумала я. – И тогда не нужен никакой пистолет.»
В Анже я, разумеется, заходить и не думала. Там заставы, полиция, республиканские патрули. Нынче революционные власти были очень встревожены. И на это были причины. Обстановка накалялась с каждым днем. Куда бы мы ни приходили – в любую деревню, селение, хутор или маленький городок, – жители проклинали Революцию. За насильственные реквизиции хлеба и ничего не стоящие бумажки, оставленные взамен. За надругательство над религией и казнь невинного мученика Людовика XVI. За изгнание священников, не принявших присяги, и бесконечные беспорядки. Но больше всего – за войну и набор рекрутов.
Никто из крестьянских сыновей не хотел идти воевать. Комиссары, на которых Конвент возложил ответственность за набор 300 тысяч волонтеров, стремились действовать с помощью жеребьевки. Но из тех, кто вытащил жребий, никто не являлся на призывные пункты. Когда их хотели забрать силой, крестьяне нападали на комиссаров, избивали их, а иногда и убивали. Ярость тлела в деревнях, и достаточно было искры, чтобы произошел взрыв.
Теперь я и Брике, приходя на деревенскую площадь, открыто говорили, что мы бежим из Парижа от преследований революционных властей. Я рассказывала о сентябрьских убийствах, о сотнях замученных ни в чем не повинных людей… Я даже называла свое настоящее имя, и мне не только верили, но и давали сколько угодно еды, благословляя на дорогу. В одной из деревень принцессу, то есть меня, крестьянин почтительнейше пригласил переночевать, и я впервые после кошмара в «Золотом погребке» вымыла волосы.
– Ну и ну, – бормотал Брике.
– Мы попали совсем в другую Францию, мадам!
– Нет, – с гордостью сказала я. – Просто мы почти в Бретани.
Но втайне и я удивилась. Безвыездно прожив в Париже целый год, я была уверена, что всякое сопротивление подавлено. Что роялисты слабы и большей частью уничтожены. И вот теперь я своими глазами видела пламенный, иногда до фанатичности страстный роялизм. И где же? Среди крестьян.
«За Бога и короля» – достаточно было сказать эти несколько слов, и передо мной распахивалась дверь любого крестьянского дома.
«За Бога и короля» – и на меня смотрели как на свою, как на союзницу. И меня снова называли «мадам», «принцесса», «ваше сиятельство», а я, привыкшая ко всяким «гражданкам» и просто «шлюхам», не верила своим ушам.
К вечеру мы добрались до деревушки – последней перед Анже. Был День сорока святых, мучившихся в Севастийском озере. Вечерняя месса только что началась, и все крестьяне были в церкви.
– Пойдемте туда, – предложил Брике. – Все-таки нынче католический праздник.
– Ты веришь в Бога, Брике? Вот уж не подозревала этого!
– Я и сам не знаю, верю или нет. Ну а что здесь-то торчать? Сейчас дождь начнется, так мы его в церкви переждем.
Я взглянула на небо: Брике был прав. Свинцовые тучи сгущаются, наверняка через час начнется гроза.
Мы вошли в церковь. Я машинально перекрестилась. В церкви я не бывала очень давно, и сама не помнила, когда в последний раз присутствовала на мессе, да молилась редко, но внутри у меня была очень прочна память о том, что я христианка и католичка.
Вслед за нами вошли еще несколько крестьян, и церковь оказалась переполненной. Брике так громко сопел носом, что мне пришлось его одернуть. Он тяжело вздохнул и стал пристально разглядывать прихожан. Это были в большинстве своем крестьяне: грубые, обветренные вилланы, кожа на руках которых была выдублена плугом и вожжами; степенные крестьянки в нарядных одеждах, а также совсем молодые девушки – в ярких передниках, коротких юбках и золотистых чепчиках, приколотых к причудливо уложенным на голове мелким косичкам. В их нарядах ощущалась близость Бретани.
Крестьяне, стоявшие за нами, начали тихо переговариваться – так тихо, что никто не делал им замечаний. Сначала я не прислушивалась. Потом до моего слуха стали долетать некоторые слова – «oggi», «lettera», «conlessa».[1]
Итальянский язык. Да, несомненно. Но, черт побери, как могут крестьяне говорить на звучном диалекте Тосканы?
Заинтригованная, я прислушалась, незаметно придвигаясь чуть ближе. Ведь не так часто встретишь в глуши Нижнего Мана крестьян, свободно владеющих итальянским.
– Этот священник присягнул Конституции, не так ли.
– Да, герцог. Сейчас вы увидите, какую шутку сыграет с ним наша черная кошка. Этот трюк всегда действовал безотказно.
Они на некоторое время умолкли, а я размышляла о смысле этого непонятного разговора. Какая-то черная кошка. Может, это жаргон? Значительно понятнее то, что одного крестьянина называют герцогом. Нет, никак нельзя поверить, что это просто кличка.
– Не лучше ли нам уйти, как вы думаете, маркиз?
– У вас всегда какие-то страхи. Это, в конце концов, отдает трусостью.
– Вы превратно истолковываете мою осторожность, маркиз. Нас давно ожидает Тристан Отшельник…
– Тристан Отшельник подождет, – вмешался новый, очень властный голос.
– Замолчите, милейший герцог де Кабри. Вы очень надоедаете, и итальянский у вас скверный.
Их было трое – маркиз, герцог и еще кто-то, видимо главный. Один из них – герцог де Кабри! Я едва удержалась от того, чтобы повернуться и рассмотреть герцога повнимательнее. Неужели он, тот самый? С этим человеком меня связывает множество воспоминаний, причем, весьма неприятных.
Священник, который, как я теперь знала, присягнул Конституции, в эту минуту открывал дарохранительницу. И тут, едва поднялась крышка, – толпа даже шарахнулась от испуга, – какая-то черная быстрая тень метнулась из дарохранительницы на голову священника, вцепилась в епитрахиль, и по церкви разнеслось нервное и шипящее: «Мя-яу»!
Это была кошка, черная, крупная, разозленная, едва ли не пускающая искры, и ее появление из священного сосуда дарохранительницы показалось таким кощунственным, что толпа прихожан онемела от священного гнева.
– Дьявол! Дьявол! Сам Сатана пришел по наши души!
Пронзительно завизжали от страха женщины. Фанатично настроенные крестьяне мгновенно поверили в выдумку, которую так громко выкрикнул человек, которого называли герцогом де Кабри. Крестьяне бросились к священнику.
– Вот он – дьявол! Он присягнул новой власти, он проклят!
Началась ужасная суматоха, все бросались из угла в угол, ничего не понимая и стремясь поскорее выбежать из церкви. Мне насилу удалось выбраться из этой толчеи, хотя до порога было всего несколько шагов. Забыв о Брике, я побежала следом за тремя таинственными незнакомцами. Внешне их никто не отличил бы от крестьян – широкие штаны, как у греческих повстанцев, деревянные башмаки, толстые гетры, куртки из грубого сукна и круглые шляпы, затеняющие лицо. Один из них, несмотря на одежду, казался молодым и изящным. Второй был невысок – больше я ничего не могла сказать. Третий – обрюзгший, толстый, неловкий – очертаниями фигуры мог сойти за герцога де Кабри: по крайней мере, таким он должен был стать после семи лет, что минули с нашего разрыва.
– Куда это вы, мадам? – Брике все-таки догнал меня и не отставал ни на шаг.
– Т-с-с! Молчи! Я наткнулась на своих единомышленников, на аристократов, понимаешь?
Брике, все понимая, только кивнул в ответ, и дальше мы пошли вместе. Незнакомцы свернули за угол и направились к таверне «Гран-салон». Из открытых дверей неслась пьяная песня солдат, грубый хохот, шутки. Обилие посетителей, очевидно, отпугнуло заговорщиков. Некоторое время они перешептывались, а потом, раздумав входить в «Гран-салон», быстро пошли по дороге к лесу. У развилки еще раз остановились и переговорили… Затем, оглянувшись на деревню, углубились в лес.
– Мы пойдем за ними, мадам?
– Да. Может быть, они нам помогут. К тому же они идут как раз в ту сторону, куда и нам нужно.
В лесу было холоднее, чем в деревне, и дождь шумел между голыми ветвями деревьев. По небу неслись тяжелые тучи, за которыми то и дело таял желтый тусклый круг луны. Шуршали под ногами полусгнившие прошлогодние листья. Их прелый запах смешивался с ароматом свежих весенних примул.
Заросли становились все гуще, нам встречались поросшие мхом скалы и заваленные черной листвой ручьи. Лес то нырял в ущелье, чтобы затем выйти в долины, то поднимался к голым покатым холмам. Незнакомцы остановились посреди опушки, заросшей кустами шиповника и малины, на которых уже набухали почки. Дождь на некоторое время прекратился, и опушку окутывал мягкий и густой, как дым, туман, подсвеченный луной.
Заговорщики чувствовали себя свободнее и разговаривали громко. Как зачарованная, вглядывалась я в опушку, облитую сумрачным светом луны, на фоне которого вырисовывались силуэты людей.
– Ну, мы у Муравейника. Где же ваш Тристан?
– Минуту, монсеньор. Мы пришли чуть раньше, чем следовало. Ведь прежде было решено задержаться в таверне.
– Да, стоило послушать, чем закончилось приключение в церкви. Я бьюсь об заклад, что крестьяне убили священника.
– Убили – не убили, но ему придется несладко. Завтра встанет вся Вандея от Шоле до Брессюира, весь Пуату, вся Бретань. Каждая округа поднимется как один человек, – загадочно произнес тот, кого называли маркизом.
Он поразительно напоминал мне Лескюра, этот маркиз. Невысокий рост, тембр голоса. Ведь я не так уж плохо его знала! Второй мне тоже был как будто знаком. К тому же я слышала его имя – герцог де Кабри. А третий, самый главный? То, что он главный, было видно по его поведению, манерам, разговору. Так кто же он, в конце концов? Хоть бы раз назвали его по имени.
– Вы уверены? – слегка нервно спросил третий.
– Вполне, монсеньор. В каждом приходе у нас есть свой человек. Республиканские власти будут ошеломлены – настолько все мощно и слаженно. Поверьте мне, монсеньор!
– Я буду рад увидеть начало восстания. В любом случае, мне нельзя оставаться здесь долго. Флот ждет меня.
Я слушала, затаив дыхание. Третьего называют «монсеньор», следовательно, он кардинал или архиепископ. Или, может быть, принц?
– А вот и Тристан Отшельник, – радостно объявил маркиз.
– А с ним шевалье де Дьези из Верхнего Анжу.
Шорохи все приближались. Я слышала звон конской упряжи и шаги, множество шагов. Из леса на опушку, прихрамывая на одну ногу, вышел приземистый коренастый крестьянин. За ним темнели еще какие-то фигуры.
– Все ли готово, Тристан?
– Все, ваша светлость.
Отшельник повернулся в сторону третьего незнакомца и преклонил колено.
– Здравствуйте, монсеньор. Лошадей мы достали, проводника тоже. Одежда – в доме лесника, там, где находится штаб нашего лагеря «Черная корова». Пойдемте, монсеньор.
– Встаньте, Тристан. Пусть кто-нибудь из ваших людей подведет мне лошадь.
И тогда я решила, что мне нужно вмешаться. Теперь я была уверена, что это те самые люди, которых я раньше видела лишь на сверкающих паркетах Версаля, которым расточала улыбки и которые ухаживали за мной, принцессой д'Энен де Сен-Клоран. Нынче Революция загнала этих людей в лесную чащу, в дебри, в горы, но ведь это ничего не изменило в их сущности. Они – моего сословия. Аристократы. Они помогут мне.
– Постойте, – сказала я громко.
В лунном свете было хорошо видно, как ошеломляюще подействовал на них звук моего голоса. Руки у всех непроизвольно рванулись к рукояткам пистолетов.
– Постойте, – повторила я, выходя из своего укрытия.
– Возьмите меня с собой, господа. Помогите мне.
4
Они смотрели на меня мрачно и холодно. Даже те два человека, с которыми я была лично знакома, – и те меня не узнали. Один из них знал меня шестнадцатилетней, по-юному дерзкой, расцветающей. Другой – светской дамой, ближайшей подругой королевы. Тогда я была красива, изящно одета. А нынче… Впрочем, стоит ли об этом задумываться?
– Кто вы такая? – наконец осведомился один из них.
– Я? – переспросила я слегка виновато.
– Дочь принца де Тальмона, если только это вам что-то говорит.
– Принца де Тальмона?
Они были поражены. И только один из них, невысокий, сразу поверил мне, подошел ближе, заглянул в лицо. Теперь я ясно видела, что передо мной Лескюр.
– Маркиз! Вы узнаете меня?
Не отвечая, он повернулся к товарищам, и его рука сжала мою руку.
– Это правда? – резко спросил главный.
– Да, монсеньор. Эта женщина – действительно принцесса де Тальмон. Я узнал ее.
– Сударыня, – холодно обратился ко мне главный, – как мы можем быть уверены, что вы не республиканская шпионка? Что вы шли за нами только из благих побуждений?
– Сударь, – сказала я горячо, – доказательством этому может служить мое происхождение. Если же вы не верите, спросите маркиза де Лескюра! Мы многое пережили вместе.
– Да-да, – подтвердил маркиз.
– Верьте ей, монсеньор. Помните тот легендарный побег заключенных во время кровавого сентября? Ну, так перед вами вдохновительница этого подвига. Мадам де Тальмон защищала Тюилъри наравне с мужчинами. Это чудо, а не женщина. Я поклялся помогать ей.
– Ну, разумеется, – слегка раздраженно бросил главный, – все это очень романтично, но сейчас у нас нет времени. Какая, к черту, помощь? Близится время великого мятежа, мы должны помнить о Боге и короле, а не о женщинах, пусть даже они принцессы.
– Кто вы, сударь? – прервала я его довольно бесцеремонно.
– Вы позволяете именовать себя монсеньором, но я пока что не вижу никаких оснований для этого.
– Я принц де Латур д'Овернь, герцог Булонский, если только вам это что-нибудь говорит, – иронически отвечал он, явно уязвленный моим вопросом.
Я ничего не сказала. Имя этого человека было очень знатно, если бы я не знала того, что он, в сущности, никакого отношения к этому не имеет. Бывший флибустьер, усыновленный престарелым герцогом Булонским. Авантюрист – так говорили о нем в Версале.
– Если позволите, я буду называть вас просто герцогом. Из темноты выступила приземистая широкая фигура Тристана. Отшельник произнес глухим, чуть надтреснутым голосом:
– Надобно спешить, монсеньор. К рассвету вы должны быть уже далеко отсюда. А если эта дама просит какой-то помощи, то мы поможем ей. Ведь она аристократка. Значит, наша.
Я бросила на него благодарный взгляд. Как легко этот с виду грубый хромец нашел правильный выход, положив конец препирательствам, которые устроил сиятельный вельможа с усталой, полуголодной женщиной.
– Спасибо вам, господин Тристан.
– Этот мальчишка с вами? – осведомился хромец так же хмуро.
– Да. Это мой паж.
– Следуйте за мной, мадам. И вы, господа, – тоже.
Мы снова шли по лесу, но уже не вдвоем с Брике, а в окружении множества людей. В разных местах из-за деревьев мелькали шляпы крестьян, украшенные белыми роялистскими кокардами. Повстанцы разговаривали на местном наречии, которое я плохо понимала. Ясно было только то, что завтра утром начнется нечто невообразимое.
– Вы знаете, что ваш отец во Франции? – глухим голосом спросил Тристан Отшельник.
– Мой отец во Франции?!
Я не ожидала услышать нечто подобное. Мой отец, как я привыкла считать, находится в Вене, в эмиграции, на службе у императора Франца. В Вену я столько раз пыталась уехать. И тем более удивительно слышать о том, что принц де Тальмон во Франции.
– Да, мадам. Сейчас он в Бретани. Но еще неделю назад мы встречались в Шато-Гонтье, в Иль-и-Вилэне.
– В Шато-Гонтье! Это же наш замок! Вы видели моего отца собственными глазами, Тристан?
– Как вижу вас. Связь среди повстанцев хорошо налажена.
– Но почему он оказался здесь? Каким образом?
Тристан Отшельник взглянул на меня с полнейшим удивлением.
– Ваш отец – один из вождей великой католической армии, мадам! И вам это не известно?
– Впервые слышу о такой армии.
– Завтра вы ее увидите. За каждым кустом нынче таится повстанец. Каждая деревня выставит по доброй сотне воинов за Бога и короля. Мы прогоним всю эту революционную сволочь и установим над Анжу, Вандеей и Бретанью знамя Людовика XVII.
Я с трудом привыкала к патетическому слогу, господствовавшему в речах, когда дело касалось мятежа. И плохо верила в высокие душевные побуждения каждой анжуйской деревни. Воюют чаще всего из-за собственной выгоды – так и говорили бы об этом прямо.
Наш отряд по узкому мостику переходил глубокий холодный ручей. Дергающейся прихрамывающей походкой перешел на ту сторону Тристан, впереди меня шел маркиз де Лескюр. Я уже было ступила следом за ним на шаткую узкую жердь, соединяющую оба берега, и тут же ощутила сильный толчок в плечо. Мне не удалось удержаться на мостике, и я соскользнула в воду, оказавшись в ручье по колено.
Я в бешенстве обернулась, не сомневаясь, что меня толкнули нарочно. Ответом и подтверждением моей догадки были два узких, сведенных ненавистью глаза, Герцог де Кабри, вот мерзавец!
– Мадам, все в порядке?
Маркиз де Лескюр бросился мне на помощь, подал руку, помогая снова взойти на мостик:
– Что вы стоите, герцог? Помогите женщине!
– Нет, ради Бога, не надо! – вскричала я раздраженно.
– Мне вполне хватит вашей помощи, маркиз.
– Почему вы упали? В чем причина?
– Ни в чем. Я устала и оступилась, – произнесла я, считая ниже своего достоинства жаловаться на герцога.
Мерзавцем он был, таким же и остался. Ну и мелочная же душонка! До сих пор не забыл того, что давно уже стерлось в моей памяти. Мне вспомнились собственные слова о душе гнилой, как сердцевина червивого яблока. Так оно и есть. Тогда я точно выразилась.
Сдерживая слезы, я прошла в дом лесника. Тристан распорядился, чтобы нам дали поесть, и мы с Брике не заставили себя просить дважды. От выпитого вина мне стало жарко, я сбросила шаль, сняла чепчик и с удовольствием распустила золотистые волосы по плечам. Отблески свечей придавали локонам платиново-медный оттенок. Мужчины, ужинавшие вместе со мной, уставились на меня так, словно впервые увидели.
– Что такое? – проговорила я удивленно, чувствуя, что невольно краснею.
– Ну и чудеса! – изумленно протянул герцог Булонский.
– Я вас только сейчас разглядел. А вы, оказывается, прехорошенькая!
– Ах вот что? – сказала я, успокоившись. – Да, была когда-то.
– Да не когда-то, а сейчас, черт возьми! Ну и дела, ничего не скажешь. Вот только эта царапина – где вы ее получили?
Я осторожно прикоснулась к щеке.
– Так… Было дело.
Я выпила еще целую кружку сидра, не думая о том, что могу захмелеть. В домишке лесника было тепло, даже жарко, и от этого клонило ко сну. Румянец вспыхнул у меня на щеках, глаза закрывались.
– Погодите спать, мадам.
Тристан Отшельник словно бы и не пил ничего, оставался все таким же суровым и мрачным.
– Уже полночь. Клянусь святой Анной Орейской, вам надо спешить.
– Да, – прошептала я, – мне нужно в Бретань, в Сент-Элуа.
– Господа, кто возьмет с собой эту даму и обяжется доставить ее в Ренн целой и невредимой?
– Нет! – прервала я его умоляюще.
– Если вы позволите мне иметь свое мнение, то я бы очень хотела уехать вместе с маркизом де Лескюром. Мы давно знакомы. Я уверена, что маркиз не откажется.
– Не откажусь, – произнес маркиз, опуская голову.
– Но видите ли, мадам, я направляюсь немного не в ту сторону. Я должен быть в Баньярском лесу близ Фонтене-ле-Конт.
Я тяжело вздохнула. С чего это я вдруг преисполнилась радужных надежд? Никто никогда мне не помогал. Всем всегда нужно не в ту сторону, куда направляюсь я.
– Вы, монсеньор? – вежливо, но требовательно осведомился Тристан Отшельник, обращаясь к герцогу Булонскому.
– Мы все должны помнить, что отец этой дамы – великий роялист, который поведет за собою Мен и всю Нормандию.
– Тристан, сдается мне, вы хотите, чтобы я опекал эту женщину?!
– Да, монсеньор, вы. Ваша дорога лежит в Бен-де-Бретань. Хромец говорил почтительно, но твердо; его черные глаза светились пронзительным огнем, на лицо падали седые волосы. Он был одет в суконную куртку, под ней виднелось что-то вроде кацавейки, – словом, наряд его был более чем скромен, но держался этот человек внушительнее всех остальных.
– Черт возьми, Тристан, вы же знаете, что я не гожусь для эскорта! Да наша дама и ездить верхом не умеет.
– Нет-нет, умею! – возразила я горячо, – пожалуйста, возьмите меня, монсеньор!
Ради пользы дела я победила свою гордыню и все-таки назвала герцога монсеньором – титулом принцев и кардиналов.
Он глянул на меня исподлобья, потом посмотрел внимательнее. Я заметила, как его взгляд остановился на моих губах, потом спустился на грудь, скрытую глухим саржевым корсажем.
– В случае, если вы попадетесь республиканцам, я не стану выручать вас, – отрывисто бросил он.
– Вы поняли, мадам?
Я с готовностью кивнула.
– Вы будете только ехать со мной и моими людьми. Но за свою судьбу вы отвечаете сами. Не надейтесь на помощь и наше рыцарское благородство.
– Увы, – сказала я, – я давно уже ни на что не надеюсь.
– Хорошо. Очень хорошо. Тристан, пусть эта дама немного изменит свой облик.
Я прошла следом за Отшельником в каморку, служившую, видимо, ранее кладовкой. Отсюда еще не выветрился едкий запах чеснока. Груда всякой одежды валялась на земляном полу – одежды, наверняка стянутой с убитых.
– Одевайтесь. Выбирайте себе что-нибудь. Путешествовать в юбке не особенно приятно.
Тристан вышел. Превозмогая брезгливость, я натянула черные шершавые штаны, заправила в них свою рубашку; сверху надела шерстяную безрукавку и теплую куртку из сукна, которую стянула на талии широким кожаным поясом. Высокие жесткие сапоги дополнили мистификацию. За пояс я засунула пистолет, прицепила мешочки с пулями и порохом.
– Вам нужно обрезать волосы, – заметил Тристан, внезапно появляясь в дверях.
– Вы в мужской одежде и так кажетесь слишком тонкой и маленькой. Непременно нужно подстричься.
Я взглянула на него с ужасом.
– Подстричься? Как?
– Коротко, мадам. Очень коротко.
Я в страхе коснулась рукой своих волос.
– Нет. Ради Бога, нет. Я лучше спрячу их под шляпу.
Шляпа нашлась быстро – круглая, фетровая, с пряжкой, приколотой к тулье.
– Ну, как?
– Хорошо, мадам. Поспешите. Монсеньору уже оседлали лошадь.
Я с некоторой робостью коснулась рукой седла, погладила черного жеребца по гриве – он был смирный, послушный. Подумать только, я целых два года не ездила верхом. Где-то сейчас моя верная Стрела, что с ней стало, не прикончили ли ее из-за недостатка корма?
Было уже за полночь, когда мы тронулись в путь. Проводник ехал впереди, указывая дорогу, за ним скакали всадники – телохранители герцога Булонского, а уж потом сам герцог. По какой-то непонятной субординации я оказалась в самом конце кавалькады, но и не пыталась протестовать против этого. Меня только очень не устраивало соседство герцога де Кабри. Он скакал сзади, я даже слышала его посапывание…
Брике, сидевший у меня за спиной, был в восторге от всего происходящего.
– Ну, похожа ли я на мужчину хоть немного, Брике?
– О, мадам! Немного, конечно, да!
Ветер был сильный, порывистый. Гроза уже отгрохотала и молнии не было, но дождь шел не переставая, стекая по моей шляпе и шее – я поеживалась, чувствуя, как холодная вода щекочет ключицы и лопатки. Голые, мокрые после дождя ветви летели мне навстречу, норовя хлестнуть по лицу, и приходилось пригибаться в седле, чтобы избежать столкновения.
Лесная просека закончилась, и теперь нам навстречу летела каменистая мокрая дорога. Мелькали вязнущие в песчаном грунте ели. Мелькали и исчезали во мгновение ока.
5
Занималась заря.
Ночь еще не закончилась, но небо уже окрасилось нежно-розовым светом. Ночной мрак смешивался с молочно-белым туманом, сползающим с холмов и окутывающим все вокруг, – смешивался и понемногу таял. Из кустов, на которых уже курчавилась весенняя поросль, вылетали сонные перепелки, вспугнутые лошадиным топотом. Дорога петляла среди холмов и солончаков, вилась между крестьянскими полями, то разбегаясь в разные стороны, то выравниваясь в широкий изъезженный тракт. Летели по обочине дороги чахлые тополя, и конец этой тополиной аллеи терялся в легчайшей фарфорово-розовой дымке.
Я уже порядком устала после нескольких часов бешеной скачки, но герцог Булонский и его товарищи, казалось, были вылиты из железа. Разумеется, я не смела ни словом заикнуться о своей усталости. А пожаловаться можно было не только на это, но и на мокрую после ливня одежду, пронизывающий предрассветный ветер, утреннюю сырость, нервозность лошади, на боках которой уже выступила пена. Впрочем, хуже всего было не мне. Герцог де Кабри, хотя был вовсе не преклонного возраста, явно отставал от кавалькады и ему приходилось с большим трудом нагонять нас, от чего гневное сопение у меня за спиной становилось все грознее.
Это соседство мне не нравилось больше всего. Если уж говорить прямо, я бы предпочла никогда не встречаться с герцогом, а тем более не соседствовать с ним. Нас связывали слишком скверные воспоминания. И он явно не забыл, что был сослан в Вест-Индию благодаря моей кратковременной дружбе с герцогиней де Полиньяк и графом д'Артуа. В колониях он пробыл около трех лет… Я раньше ничего о нем не слышала.
А теперь эта мелочная месть – толкнуть меня в воду. Но кто знает, не учудит ли он чего-нибудь посерьезнее.
– Светает! – услышала я тревожный возглас. – Монсеньор, продолжать путь становится слишком опасно.
Герцог Булонский весьма энергично отмахнулся от предупреждения.
– Монсеньор, повсюду республиканские посты, а ведь этот край еще не наше владение!
– Пустяки! И, ради Бога, замолчите, Буассье! У меня такие силы, что мы вырвемся из любой переделки!
Брике, который было задремал у меня за спиной, от этих криков проснулся и усиленно протирал глаза руками.
– Как! Мы еще едем, мадам?
– Да. И, похоже, это надолго.
– А мне снилось, будто я отдыхаю на своей подстилке под Новым мостом. Знали бы вы, что там за уют летом! Даже сен-жерменский особняк этого белокурого красавчика, вашего Клавьера по сравнению с моим домиком никуда не годится.
Придерживая поводья одной рукой, я сильнее нахлобучила шляпу на голову: ветер был такой сильный, что я могла легко лишиться головного убора. Дорога пошла круто вниз. Земля была вся изрезана руслами ручьев и рытвинами, кусты орешника разрослись так, что норовили вцепиться в одежду.
– Синие, монсеньор! Смотрите, синие! А, что я говорил!
Я не поняла, кого он имеет в виду, но, во всяком случае, внимательно посмотрела в ту сторону, куда указывал проводник жестом, полным отчаяния. Из-за деревьев мелькали какие-то синие пятна. Приглядевшись, я различила фигуры солдат. Гвардейцы! Республиканцы, которых я так боялась в Париже, – их, оказывается, называют синими!
Отряд состоял примерно из трех десятков солдат, вероятно, переброшенных в эти края с западного и северного фронтов. Они видели свое превосходство и мчались за нами, неумолимо надвигаясь с запада. Послышались предупредительные выстрелы.
– Пришпорить коней! Быстрее! Они нас не могут догнать, через четверть часа мы будем в безопасности!
Я не понимала, как мы можем оказаться в безопасности, но, веря на слово и охваченная немым ужасом, пришпорила лошадь. Она и так в последний час пугала меня своей нервозностью, а теперь понесла так, словно в нее бес вселился, – не разбирая дороги, по ухабам, ямам и рытвинам, рискуя сломать себе ноги. Я насилу могла управлять ею.
– Ого-го, мадам! – орал Брике из-за моей спины. – Да это настоящая погоня!
Дорога летела мне навстречу с бешеной скоростью, у меня темнело в глазах. Яростно стучали копыта лошадей, что мчались впереди меня. Ветер свистел в ушах, я не способна была ничего слышать.
И тут раздался сухой щелчок – я не поняла даже, что это такое и почему раздалось так близко. В этот миг все завертелось у меня перед глазами, как в кошмарном калейдоскопе, – ели, песчаный грунт, глубокий овраг, поросший зубчиками хвоща… Я еще успела подумать, что лошади ни за что не взять такое опасное препятствие, и успела уяснить, что тот сухой щелчок означал выстрел из ружья.
Непреодолимая сила выбросила меня из седла, и я на мгновение потеряла сознание. Мне казалось, что я кубарем куда-то лечу. Почти тотчас придя в себя, я почувствовала резкую боль в щиколотке – такую резкую, что заставляла думать о переломе.
Я вылетела из седла, да так легко и удачно, что перелетела через овраг и теперь лежала на мху под старой елью. В двух шагах от меня постанывал Брике – губа у него была разбита о камень. Лошадь, явно раненая, став на задние ноги, безуспешно пыталась выбраться из оврага.
Герцог де Кабри, на полном скаку наткнувшийся на мою раненую лошадь, тоже вылетел из седла, только менее удачно, и упал в овраг. Его конь, довольный своим освобождением, резво убегал вслед за кавалькадой герцога Булонского. Я с завистью посмотрела в ту сторону. У меня не было сил подняться, а на противоположном берегу оврага уже останавливались и спешивались республиканские солдаты. Синие, как говорил проводник.
Я в ужасе спохватилась, огляделась вокруг. Во время всей этой кутерьмы шляпа слетела у меня с головы, и теперь распущенные локоны вольно рассыпались по плечам. Шляпы нигде не было видно.
– Вы живы, мадам? – простонал Брике так, словно собирался умирать.
– Надолго ли!
Нас обступили солдаты. Я невольно съежилась, подобрала ноги, пытаясь отодвинуться от них подальше. Пустые усилия.
– Глядите, женщина.
– Точно. Женщина, одетая как мужчина.
– По-моему, это странно.
– Это не странно, это подозрительно, клянусь святой пятницей!
– Мы отведем ее к капитану.
– А может, развлечемся?
У меня вся кровь прихлынула к лицу, когда я услышала эти слова. Проклятая грязная солдатня. Да я скорее пущу себе пулю в лоб, чем соглашусь снова пережить то, что со мной уже было.
– Что ты болтаешь, Жерве! Ты просто дурак. Эта женщина наверняка роялистская шпионка. Вот приедем в Сомор, там развлечемся в доме красотки Эммы.
То солдат, что говорил эти слова, наклонился ко мне:
– Вставай, гражданка! Мы отведем тебя к капитану.
– Я не могу встать, – сказала я злобно. – По вашей милости я, наверное, сломала ногу.
– Займись ею, Гаспар! Да не забудь обыскать.
Один из солдат, с виду совсем юный, лет восемнадцати, приблизился ко мне. Остальные направились к герцогу де Кабри. Куда делся Брике, я не успела заметить и теперь в недоумении оглядывалась по сторонам.
Юный, гвардеец, стараясь не встречаться со мной взглядом, стал ощупывать ногу и сделал так неловко, что я закричала от боли. Испугавшись, он мгновенно отдернул руки.
– Перелома нет, – заявил он хмуро.
– Просто растяжение.
Довольно ловко Гаспар выдернул у меня из-за пояса пистолет и, порывшись в ранце, достал кусок веревки.
– Давайте руки, гражданка.
– Вы думаете, я могу убежать от целой роты солдат?
– Давайте руки, и без разговоров. Я выполняю приказ. Я в бешенстве протянула ему руки, и Гаспар без всякой жалости туго стянул веревкой мои запястья.
– Ну, свяжите мне еще и ноги!
– Об этом вы скажете капитану, гражданка.
Он немногословен, этот юноша, с сарказмом подумала я. Жорж, наверное, ведет себя так же. Ему тоже около восемнадцати, и он уже много месяцев на фронте. Гаспар, не говоря ни слова, стал поднимать меня с земли. Постанывая от боли в щиколотке и опираясь на руку своего конвоира, я с трудом встала на ноги и проковыляла к лошади. Гаспар помог мне вскочить в седло позади себя. Как я буду держаться верхом, если даже руки у меня связаны, я не знала.
– Ну, все готовы? – раздался голос сержанта.
– В дорогу!
Лошадь ринулась вперед, и я еле-еле удержалась, ухитрившись ухватиться за куртку Гаспара. Ветер ударил мне в лицо, развеял в воздухе мои волосы подобно ослепительному шлейфу кометы…
Я снова не знала, что меня ожидает.
6
– Ты думаешь, у меня есть время заниматься этой ерундой! К черту! Выведи ее в дюны и расстреляй, вот и все. Мы сейчас же отправляемся в Ниор… С утра восстало пятнадцать приходов, сорок ферм, а ты лезешь ко мне с какой-то роялистской шпионкой! Говорю тебе, пуля положит конец всем проблемам. Все? Убирайся!
Капитан кричал и бранился, брызжа слюной. Небритая его физиономия нервно дергалась. Маленький лагерь республиканцев оказался среди бурлящего океана ненависти и насилия. Запад Франции запылал огнями пожаров, подобно рождественской елке.
Гаспар мрачно смотрел то на меня, то на свое ружье.
– Пойдемте, гражданка. Капитану не до вас.
Я молча последовала за своим конвоиром. Вокруг царила неразбериха: лагерь лихорадочно готовился к отбытию. Ржали лошади. Шипели костры, залитые водой, и поднимался в небо синеватый дымок бивуаков.
– Куда ты ведешь эту красотку, Гаспар? В дюны развлечься?
– А у этого малого неплохой вкус!
– Да, у аристократки все на месте, это надо признать!
– Что ты такой жадный, Гаспар? Христос завещал делиться!
Гаспар не отвечал на шутки и подтрунивания, но я под градом насмешек и весьма грубых замечаний чувствовала себя отвратительно. Глядя на русый крепкий затылок своего конвоира, его крепкие не по годам плечи, всю ладно сбитую фигуру, я невольно чувствовала ярость. Надо же, какой дубина! Неужели он действительно меня застрелит?
Мы прошли небольшой ельник, где воздух пропитался сыростью и запахом смолы, и вышли в песчаные дюны – пустынные, блеклые, грустные. Небо было серо-черное, как размазанные чернила. Кроме тамарисковых кустов, до самого горизонта не было видно никакой растительности.
Гаспар шел все дальше и дальше, словно ему недостаточно было того, что мы уже оказались в двадцати минутах ходьбы от лагеря. От этого молчаливого марша по дюнам мне в душу закрадывался страх. Господи Иисусе, о чем кричал тот небритый капитан? И неужели у этого юного Гаспара достанет жестокости выполнять небрежно отданный приказ? Нервы у меня были на пределе, неизвестность изводила больше всего, и я не выдержала:
– Черт возьми, хватит! Хватит брести по пескам, мне это надоело, я не выдержу больше! Это безумие какое-то, остановись!
Он медленно повернулся ко мне, и я застыла на месте. Руки у меня опустились, слова исчезли.
– Что вы кричите, гражданка? – хмуро спросил Гаспар. – Вы хотите, чтобы я вас расстрелял?
Я молчала, понимая, что ответы «да» и «нет» прозвучали бы в одинаковой степени нелепо. На щеках у меня горел румянец. Сейчас даже ветер, трепавший мои распущенные волосы, казался мне горячим сирокко.
– И надо было так случиться, что вас мне доверили.
– Послушай, – сказала я тихо, – тебе ведь не больше восемнадцати, правда? Я могла бы быть твоей сестрой. Так неужели.
– Нет, – прервал он меня. – Ты не могла бы быть мне сестрой. Ты аристократка и роялистская шпионка, и для таких есть только один исход – гильотина!
От этого слова у меня всегда мороз пробегал по коже, но теперь я не испугалась, хотя Гаспар произнес его со всем фанатизмом, на который только был способен.
– Ты такой молодой и такой кровожадный?
– Я за народ, за Революцию, за Республику.
– Тебе бы впору интересоваться девушками, а не убивать людей.
Он почти с мукой вглядывался в мое лицо, но, встречаясь с моим взглядом, отводил глаза.
– Вы сами убиваете людей. Иначе зачем бы вы шпионили?
– Я не шпионила. Вы все это выдумали. Я добираюсь к своим детям. Только поэтому я оказалась тут.
– Вранье! – безапелляционно заявил он.
– Ты просто глупый индюк, как и твой капитан, – выпалила я в бешенстве, – если можешь думать, что я шпионка!
– Ну хватит! – воскликнул он, багровея от гнева. – Замолчите, вы мне надоели, вы аристократка, такая же подлая, как и все ваше змеиное гнездо!
– А ты… ты болван, сопляк, деревенщина!
Он рванул с плеча ружье, весь красный от ярости. Сухо щелкнул затвор. Я была такая взвинченная, что даже испугаться не успела, а только крепко зажмурилась в ожидании выстрела. Но выстрела не последовало.
– Что…что это такое?
Я открыла глаза. Гаспар, побледневший и взволнованный, казалось, вслушивался в звуки, что проносились над дюнами. Шелест тамарисковых кустов, тихо вздыхающие зыбучие пески, а между всем этим – частое сухое потрескивание, как при игре в кости.
– Стрельба! Там идет бой!
Забыв обо мне, Гаспар бросился бежать к лагерю. Я осталась стоять в нерешительности. Вокруг было безлюдно. Сплошные песчаные дюны… Как бы там ни было, впереди дороги нет. Если уж мне надо идти, то следует сперва вернуться назад, в лагерь. Я пошла туда медленно, погруженная в размышления.
У меня словно камень с плеч свалился. Чувство необыкновенного облегчения было так сильно, что я ощутила прилив сил. Вот только руки у меня были связаны. Еще одна причина для того, чтобы вернуться, найти нож или кусок стекла и развязать их.
Насчет причины внезапного боя я не сомневалась. Герцог Булонский и Тристан Отшельник столько твердили о том, что утром начнется восстание, что я была уверена в том, что на синих напали либо белые, либо взбунтовавшиеся крестьяне. Я не знала, кто выйдет победителем. В любом случае мне не хотелось ввязываться в войну. Война – это всегда кровь, зверства, насилия, неизбежная гибель при попадании в плен… Я хотела только одного – добраться до Жанно, Шарло, Авроры, добраться и хоть один день прожить с ними в спокойствии, забыв о том, какие громы грохочут над Францией.
То, что я увидела на месте бывшего лагеря синих, подтвердило мои опасения.
Дым еще не рассеялся над множеством трупов, которыми было устлано поле боя. Здесь были и республиканцы, и крестьяне, зажавшие в руках простое оружие – вилы, но крестьян было значительно меньше. У многих синих было чудовищно изуродованы лица – то выколоты глаза, то поспешно вырезаны ноздри. Иногда казалось, что раненым насыпали в рот пороха, поджигали и взрывали. Вдалеке ржали обезумевшие от стрельбы лошади.
Но теперь уже все было позади. Стояла тишина, и только потрескивала, догорая, пылающая повозка. Кому повезло, тот спасся бегством. По всему было видно, что белые взяли верх, а синие бежали. Но радости от того, что победа на «нашей» стороне, я почему-то не чувствовала. Если так ужасна первая победа, что ж будет в дальнейшем.
Я склонилась над одним из убитых, чтобы вытащить у него из-за плеча нож, и тут что-то острое больно ткнулось мне в плечо и толкнуло так, что я едва удержалась на коленях.
– Вставай, проклятая роялистка! Наших-то они поубивали, но я еще жив, и отвечать тебе все-таки придется.
Я обернулась: это был Гаспар. По его лицу, почерневшему от копоти, текли слезы. Боже мой, он плачет!
– Вы все-таки решили убить меня? – спросила я, сама удивляясь отчего так холоден мой голос.
– Для этого мне не нужно вставать.
– Нет, – сказал он, шмыгнув носом, как маленький.
– Я отведу тебя в Ниор и сдам в Революционный трибунал. Вот что я сделаю.
– Ты еще мальчик, Гаспар. Война не для тебя.
– Молчи! – выкрикнул он с такой ненавистью, что меня бросило в дрожь от испуга. – Я тебя ненавижу. Я всех вас ненавижу. И я обязательно приду посмотреть, как на ниорской площади тебя подведут к гильотине и ты чихнешь головой в корзину.
Он даже трясся и дрожал от потрясения и ненависти. Я поднялась и, не сказав ни слова, пошла туда, куда он меня подталкивал.
В конце концов, я ничем не могла себе помочь. Свидание с Сент-Элуа откладывалось на неопределенное время.
7
Ночь была темная-темная, и где-то в глубине леса, в самой чаще гулко ухал филин.
Был только март, и, несмотря на то, что дни выдались теплые, спать на мху было холодно. Запрокинув голову, вглядываясь в беззвездное ночное небо, прикрытое кронами деревьев, я думала о том, сколько неприятностей может принести мне эта ночевка. Пожалуй, лихорадка будет самой легкой из них.
Да, теперь у меня было время подумать. Связанные руки затекли так, что уже ничего не чувствовали, и я не ощущала боли. Рядом спал Гаспар, прикрывшись шинелью. Я с невольной завистью подумала, что ему наверняка теплее, чем мне.
Вспоминался день, двенадцать часов непрерывных скитаний по лесам. Гаспар сам плохо знал дорогу и, намереваясь отвести меня в Ниор, то и дело плутал в безбрежных лесных зарослях. По многолюдным дорогам он идти опасался и пробирался напрямик через чащу. Все деревни окрест были объяты пламенем мятежа. Когда Гаспару нужно было узнать дорогу, он привязывал меня к дереву, а сам шел к дороге, где, пугая проезжающих одиноких крестьян ружьем, добывал нужные сведения. Собственный синий мундир с красной выпушкой и обтрепанными отворотами давно стал ему в тягость – по этой одежде любой мятежник понимал, к какому лагерю принадлежит мой конвоир.
Потом была Луара, вышедшая по весне из берегов, – Луара, главная река Франции. Ее мы преодолели уже знакомым мне способом. Гаспар припугнул паромщика ружьем, и тот, чертыхаясь, перевез нас на другой берег.
Другой берег – это уже была Вандея. Провинция, известная своим роялизмом, стало быть, провинция, которая приняла бы меня как родную, будь я свободна от компании Гаспара. Конечно, вандейские города еще держались, еще не пали под ударами мятежников – это наверняка. Но ведь городов здесь было так мало… И, вспоминая слова Тристана Отшельника, можно было не сомневаться, что скоро вся Вандея встанет под эгиду Золотых лилий.
И вот, ступая по вандейской земле, я из-за странного каприза судьбы была несвободна, рисковала оказаться в ниорской тюрьме, предстать перед Трибуналом, и, что самое неприятное, – обстоятельства уносили меня в сторону, совершенно противоположную Бретани и замку Сент-Элуа.
Рядом зашевелился Гаспар, и я отвернулась, делая вид, что сплю. Послал же мне Господь Бог в спутники такого фанатика! Я кожей чувствовала, что он смотрит сейчас в мою сторону, и у меня в душе зашевелились темные подозрения. Уж не вздумалось этому юнцу искать удовольствий? Я слышала, как он встал, как шуршит у него под ногами прелый мох, и вся внутренне напряглась. Да нет, не может быть, чтобы он начал приставать ко мне.
Что-то тяжелое, шершавое и пахнущее конской сбруей и потом опустилось на мои плечи, и меня сразу окатила волна тепла. Мундир! Он укрыл меня своим мундиром! Уж не сплю ли я?
Гаспар отошел, не подозревая, что я заметила его поступок. Я дышала тихо и спокойно, как во сне, с наслаждением чувствуя, что понемногу согреваюсь. Роялистка, укрытая республиканским мундиром. В какой странный узел иногда сплетаются события, соединяется то, что, казалось бы, несоединимо. Я невольно улыбнулась – возможно, впервые за все путешествие, и закрыла глаза.
Этот мальчик, Гаспар, стало быть, не так уж плох, как я думала раньше. Не все республиканцы грубы и жестоки. Как не все роялисты добры и справедливы. И тем более непонятно, что же все-таки ввергло Францию в войну и кровопролитие. Француз боится француза. Почему?
Эти мысли были сложны для меня, ответов я не находила, подумав о том, что мне не следует утруждать себя подобными вопросами. Я – простая француженка, не такая уж умная и не очень-то образованная, словом, обычная. Как и всех женщин, меня волнуют только мои дети.
Недалеко в кустах послышалось странное сопение. И шорох. Словно теленок заблудился в лесу. В это можно было поверить, ведь деревня была недалеко. Если бы только сопение не было таким странным. Мне стало страшно. Гаспар снова спал, я слышала его тихий храп. Вдруг там, в кустах – рысь? А я лежу здесь без оружия, и даже руки у меня связаны.
Шорох усилился, словно какое-то существо ползло через кусты в мою сторону. Раздался тихий свист, но я уже не могла определить откуда – из кустов или с другой стороны. Волна ледяного ужаса захлестнула меня. Надо немедленно разбудить Гаспара… Боже мой, это существо уже совсем близко, в каких-то двух шагах от меня!
Я готова была закричать во весь голос, как вдруг чья-то горячая вспотевшая рука, совсем небольшая по размерам, но шершавая, легла на мое лицо, пробежала по нему, словно нащупывая. Можно было подумать, что я имею дело со слепым. Рука принадлежала человеку – это я знала точно. Или, может быть, оборотню.
Из темноты вынырнуло круглое лицо с блестящими глазами.
– Это вы, мадам?
Я думала, что лишилась рассудка. Брике! Господи, что же это такое? Я потеряла мальчишку в двадцати лье отсюда и, как я думала, потеряла навсегда!
– Это ты, Брике?
– Да. Я. Лежите тихо, не разговаривайте.
Он бесшумно добыл из-за пояса свой небольшой нож и принялся перерезать веревку, стягивавшую мои руки. Вскоре я была свободна и огорчалась только от того, что запястья совершенно онемели. Синяки, наверное, останутся надолго. Я шевелила пальцами, стараясь усилить приток крови. Тем временем Брике легко, подобно невесомому лесному эльфу, одним прыжком оказался возле Гаспара и отбросил его ружье далеко в сторону – наверное, туаза на три. Затем бесшумно забрал пистолет – заряженный, лежащий наготове в изголовье республиканца. С этим оружием Брике и вернулся ко мне.
– Вот и все. Ловко, мадам?
Я молча прижала его голову к груди, поцеловала грязные спутанные волосы. Он вырвался, явно слишком гордый своим поступком, чтобы терпеть женские нежности.
– Как же ты здесь оказался? – шепотом спросила я.
– Я бежал за вами до самой Луары. Знаете, как вас арестовали, я уцепился за телегу этих самых синих и доехал до самого лагеря. Потом вы куда-то делись, я и не заметил. Синие попались ничего себе, угощали меня печеньем, обещали дать форму. Да только я плевать хотел на их форму. А потом белые напали, всех перерезали, а я под повозкой пересидел. Потом, правда, пришлось оттуда выбираться потому, что повозку подожгли. Ужас что они творили, эти белые. Словом, я гляжу, вас этот солдат под конвоем ведет. Я, конечно, пошел следом. Так до самой Луары. Там я от вас отстал. Насилу брод нашелся… Ваш солдат много глупостей сделал, крестьян пугал. О нем теперь все деревни знают. Ну, а я-то вас нашел, это самое главное.
– Ты просто герой, Брике, – сказала я с нежностью.
– Какая-то вы не такая сейчас, мадам.
– Ну, тогда я скажу, что ты самого Картуша переплюнул.
– Вот это похвала так похвала! – деловито воскликнул Брике.
– Наконец-то до вас дошло, что нужно сказать. А, вот еще что! Я чуть не забыл. Назад, мадам, никакой дороги нету. Бои идут такие, что насилу ноги унесешь. Сзади много синих, как бы нам им в зубы не попасться. Нужно идти только вперед. Раз уж вы белая, вы должны направляться к белым…
А помогут ли мне эти белые? Я задумалась. Здешние края мне неизвестны. В Ниор идти нельзя, так как я точно знала, что он в руках республиканцев. Куда же тогда?
– В Шоле, – подсказал мне мальчишка.
– В Шоле нужно идти. Я от крестьян слышал, что к Шоле подступают армии вандейцев. Тысяч пятнадцать, не меньше. Вам стоит только подойти к главарям, как вам тут же помогут.
– Да, ты прав, – произнесла я машинально.
Шоле недалеко, это я знала. Несколько часов пути.
– Ты слышал какие-нибудь имена вандейских генералов?
– Да. Болтают о каком-то великом Кателино. Его называют Анжуйским святым. Следующий – Стоффле.
– Это все, наверное, крестьяне. А аристократы?
– Я слышал имя Шаретта. Его называли господином графом.
Я чувствовала, что руки у меня почти совсем ожили, и бесшумно поднялась с земли. Итак, Шаретт. Он лучше других вандейских вождей должен понять меня. Ведь я аристократка, как и он. Если бы только удалось до него добраться.
– Нам нужно убить этого синего, – прошептал Брике, указывая на Гаспара.
Последний все так же спал, похрапывая во сне.
– От него так много неприятностей. Он большая, я вам скажу, зараза.
Я отрицательно покачала головой.
– Нет. Потихоньку разряди его ружье, вот и все. Чтобы он не смог догнать нас. Пистолет мы забрали. Но убивать не будем.
Пока Брике выполнял приказание, я молча посмотрела на Гаспара. Убивать действительно не было смысла. Его и так убьют. Неужели этот юноша верит, что сумеет добраться до Ниора, преодолеть роялистские армии повстанцев? Я не могу оставить ему ни одного патрона: вдруг Гаспару взбредет в голову догнать нас и застрелить. Словом, этот юноша обречен. Я почему-то чувствовала странную щемящую жалость от сознания этого.
– Пойдемте, мадам. Давайте выйдем из этого чертова леса. Здесь кругом наши. Нам нечего прятаться.
Мы быстро удалялись от поляны, где спал Гаспар. Я засунула пистолет за пояс. Рядом, посвистывая, прыгал Брике. Он все так же не мог терпеть никакой тишины и пытался разрушить ее хотя бы своим свистом. Но мальчик тоже, как и я, за дни путешествия научился двигаться бесшумно. Когда нужно было, мы могли идти так, что ни одна ветка не хрустнет под ногами. Не зашуршит даже мох.
Мы уже вышли из леса на проселочную дорогу, и только тогда я ощутила тяжесть, странно давящую на плечи. Это был мундир Гаспара. Я неосознанно унесла его. Но возвратиться уже не было никакой возможности.
8
Взрыв громыхнул так близко, что, казалось, деревья пригнулись к земле. Мы лежали, уткнувшись лицом в землю, за шиворот нам сыпались земля и пыль. Гранаты взрывались еще и еще, но уже значительно дальше, и гул канонады уходил на север.
– Мы живы?
– Да, черт возьми! Бежим!
Мы с Брике живо выбрались из оставленного вандейцами окопа, и бросились бежать с холмов вниз. Шоле отсюда казался пылающим факелом, отблески пожара плясали по старым стенам и радужными бликами отражались на колокольнях, но тем не менее я знала, что Шоле свободен. Теперь там белые, а синие – те, кому удалось прорвать окружение, – без памяти убегали на север.
Бесконечная вереница телег вытянулась вдоль дороги, обрамленная бесчисленными фигурами усталых женщин и детей. Это были семьи крестьян, воюющих за Бога и короля. Чуть впереди несколько вандейцев тащили на веревках пушку. Я с жалостью созерцала это воинство. Оно казалось жалким, недисциплинированным, разрозненным, скверно одетым и диковатым.
Все оружие вандейцев состояло из кос, вил, дубинок и ножей. Ружей не хватало, да и мало кто умел стрелять. Правда, возможно, что передовые отряды, уже прорвавшиеся в Шоле, вооружены получше. У них даже есть лошади.
Брике изумленно оглядывался по сторонам. За время пути мы встретили много повстанцев, но тут они словно бы собрались воедино. Некоторые были одеты во что-то наподобие длинных козьих шкур с прорезями для рук, короткие куртки с крестом из крашеных человеческих костей на груди. Правда, у большинства на груди было вышито сердце Иисуса. Шляпы украшались белыми лентами – символами роялизма, на нарукавных повязках вышивались евангельские изречения. Вся эта атрибутика дополнялась четками у пояса и вертелями, служившими оружием. У многих за поясами был рог, каким крестьяне созывают свои стада, – повстанцы трубили в него, стремясь произвести побольше шума и придать своему вступлению в город больший триумф.
– За Бога и короля!
– Да здравствует Людовик XVII!
– Долой рекрутские наборы!
Последний крик звучал с не меньшим воодушевлением, чем первые два. Мы вошли в Шоле через пролом в стене, образованный взрывом, и зашагали по улице к главной площади. Я сознавала, что нахожусь среди своих, но увереннее себя от этого не чувствовала. Воздух все еще звенел от стрельбы – многие повстанцы стреляли в небо, празднуя свою победу. Многие уже начали пьянствовать.
– Сударь, сударь, подождите!
Я отчаянно вцепилась в стремя одного всадника, что проезжал мимо. Он выглядел прилично и показался мне дворянином. Ему было лет тридцать. Из-под низко надвинутой на лоб шляпы сверкнули черные озорные глаза.
– Женщина, черт возьми!
Он остановился, уже не пытаясь отстранить меня, и заинтересованно наклонился в седле.
– Ведь ты женщина, не так ли?
– Да.
– Надо же! И совсем не похожа на крестьянку. Послушай, милочка, ты остановила меня как раз вовремя. У меня прекрасное настроение. Если хочешь, я могу предложить тебе добрый ужин со стаканчиком пива, ночлег и мою любовь. Конечно, если ты согласишься для начала умыться – уж очень ты чумазая.
Его болтовня и намек на то, что я лежала лицом в земле, задели меня. Я нетерпеливо топнула ногой.
– Как много предложений за такое короткое время!
– А разве они тебе не подходят? Интересно, кто откажется от предложений Гектора де Вабекура!
– Я аристократка.
Это заявление, похоже, не произвело на него никакого впечатления.
– Вот как? Ну что ж! – произнес он, не моргнув глазом. – Я тоже аристократ. Не думаю, чтобы для вас было унизительным пойти поужинать с графом де Вабекуром. У меня громкое имя, не считая того, что у меня есть деньги и чин.
– Уважаемый Гектор де Вабекур, – сказала я, теряя терпение, – ваши предки были, безусловно, знатные люди, но ведь не от самого же Юпитера они происходили! Я прошу у вас самую малость. Укажите мне, где находятся вожди повстанцев, и я буду вам очень благодарна.
– Вы недурно изъясняетесь, милочка, – заметил он с гримасой. – Ну, так и быть. Садитесь-ка! Я довезу вас.
Воспользовавшись предложенной мне рукой, я вскочила на лошадь позади Гектора де Вабекура, сожалея о том, сколько времени мне пришлось потратить на болтовню для решения такого пустячного дела.
Вабекур провез меня горящими улицами Шоле. Пылали дома и кричали женщины, видимо, принадлежавшие к республиканской партии и теперь подвергающиеся надругательствам. В канавах валялись трупы, повсюду стояли виселицы, а кое-где я видела уже и повешенных. Шел неприкрытый грабеж и мародерство. Лошадь поскальзывалась в крови. Но самое ужасное было то, что я не способна была ужасаться. Великая сила – привычка.
– Кому вы служите? – поинтересовалась я.
Мой спутник качнул головой.
– Я адъютант генерала Сушю.
– Кто это такой?
– Бывший сборщик податей, а нынче командир повстанцев.
– О-о-о! – протянула я. – И что же?
– Два часа назад он выступил к Машкулю, так что вам к нему не пробиться. Я остался здесь, чтобы присутствовать при решении некоторых вопросов. А вы, милочка? Кого вы ищете?
– Графа де Шаретта.
Вабекур фыркнул так изумленно, что я насторожилась.
– Что такое?
– Да так. Если вы ищете встречи с дьяволом, то вам указали точный адрес.
– Вы шутите?
– Вовсе нет. Шаретт и вправду сам дьявол, и я бы предпочел попасть в ад, чем иметь с ним дело.
– Что вы знаете о нем?
– О, ровно ничего! Достаточно на него взглянуть раз-другой, и все становится ясным. Кажется, он был военным, эмигрировал в Кобленц, потом вернулся. Но разве это имеет значение? Главное – это перемолвиться с ним двумя-тремя словами.
– Вы рисуете мне какое-то чудовище. Я не верю вам.
Вабекур ничего не ответил, останавливая лошадь. Мы уже были на городской площади перед ратушей. Повстанцы срубили дерево Свободы, подожгли его и теперь весело отплясывали вокруг костра, распевая роялистский гимн «Да здравствует Генрих IV!».
– Ну, вот мы и приехали, красотка! Бегите! Да не забудьте взять с собой ладанку, когда пойдете к самому дьяволу!
Последние слова Вабекура заглушили звуки выстрелов. Где-то во внутреннем дворике, за глухой стеной, непрерывно шел расстрел.
– Пятьсот человек согнали, – сказал на вандейском диалекте какой-то повстанец. – Уж можно быть уверенным, что каждый из них получит пулю. Кателино поклялся, и Кателино сделает…
– Они заседают в ратуше? – спросила я.
– Да. Там и Кателино, и Стоффле, и Шаретт. Был даже Сушю. Что-то решают. Видно, думают, куда нам идти после Шоле.
Из глухого переулка выскочила группа пьяниц, выкрикивающих какие-то слова на непонятном мне диалекте. Я не уловила в них ничего оскорбительного, но для повстанцев, расположившихся на площади, они явно не подходили. Вскочил один, потом другой, и через несколько секунд началась потасовка. Люди катались по земле, тузя друг друга, дрались, кричали, даже выхватывали медные тесаки.
– Вот это драка! Ну, я полагаю, маренцы намнут бока этим горцам!
Я пока еще не понимала, кто маренцы, а кто горцы, но вся эта потасовка казалась мне отвратительной.
– Долой разбойников с болотных мест!
– Боже, когда же кончится это безумие! – произнесла я в сердцах. – Брике, ты здесь?
– Да, мадам!
– Иди за мной и не отставай.
Мы просидели на земле возле ратуши до самого вечера. Хорошо еще, что день выдался теплый… Я заметила, что вокруг много людей, подобных мне: ищущих вандейских начальников, просящих о чем-то, надеющихся на помощь – впрочем, чаще всего напрасно. Было много совсем юных девушек, открыто желающих стать «походными женами» и подцепить себе какого-нибудь генерала или, на худой конец, адъютанта. Ради достижения такой заманчивой цели они дефилировали под окнами ратуши, зазывно смеясь и приподнимая юбки. Солдаты звали этих юных искательниц приключений к себе, обещая рюмку водки в награду, но те только фыркали и презрительно переглядывались: солдатня – это не для нас.
– Не знают они еще, что такое таскаться с ватагой разбойников по лесам и пескам, – проворчала старуха, сидевшая возле меня на земле. – А что ты сидишь, голубушка? Ты ведь красива. Могла бы тоже попробовать счастья…
– Я неудачлива, – ответила я коротко.
Старухе мы почему-то понравились. Она принялась расспрашивать меня, кто я и куда иду, почему так долго сижу перед ратушей. Мне пришлось выдумать жалостливую историю о том, что я – вдова, еще не оправившаяся от смерти мужа. Я ищу Шаретта, потому что он должен помочь мне вернуть назад маленькую ферму, секвестрированную Революцией.
– Да разве Шаретт поможет? Это скверный человек, душенька.
– Он был знаком с моим мужем, – солгала я. – Он знает меня.
Когда наступил вечер, старуха порылась в своей котомке и угостила нас добрыми кусками овечьего сыра. Нашлось у нее и вино – жидкое, трижды разбавленное, кислое, но я поняла это только тогда, когда выпила, и не почувствовала от этого большого огорчения.
– Шаретт! Шаретт! – раздались возгласы.
Я живо вскочила на ноги. На крыльцо выскочил высокий худой человек в гасконских кожаных штанах, безрукавке и высоких сапогах. Голова его была повязана черным платком, надвинутом на глаза, узел находился прямо на переносице. Так делают пираты, мелькнула у меня мысль.
– Маренцы! – заорал он громким голосом. – Мы уходим! К черту всю эту свору и Кателино в первую очередь!
Я бросилась к нему, пытаясь пробраться через неожиданно возникшую толпу, но Шаретт, разумеется, и не думал меня ждать. Я видела, как адъютанты подвели ему лошадь, как он вскочил в седло и с группой приверженцев стремительно удалился с площади – весь в черном, в темном плаще, развевающемся на ветру, поразительно похожий на дьявола.
– Он уехал! О-о! Что же мне теперь делать, обращаться к крестьянским генералам?
Растерянная, оглушенная, я стояла, опустив руки. Меня толкали со всех сторон. Суматоха была невообразимая. Маренцы, верные призыву Шаретта, лихорадочно собирались в путь. Судя по их обилию на площади, я подумала, что в Шоле их не меньше трех тысяч.
Брике отчаянно дергал меня за рукав, пока я не удосужилась взглянуть на мальчишку. Под уздцы он держал вороную лошадь.
– Что это такое? – спросила я ослабевшим голосом. – Откуда?
– Я увел ее! – гордо воскликнул Брике. – Ну-ка, садитесь! Мы поедем следом за Шареттом. Да быстрее, покуда хозяин не появился!
Я во второй раз краду лошадь, подумала я невольно, но у меня нет времени задумываться над моральной стороной этого поступка. К черту все! Мне важен только граф Шаретт. Аристократ, который согласится помочь мне, аристократке. Иначе этот бешеный поток войны будет уносить меня все дальше и дальше от Сент-Элуа. Я вскочила в седло, подождала Брике и пришпорила лошадь. По тяжести седла я поняла, что в чушках есть пистолеты.
Над площадью грохотало:
– В Фонтенэ! В Фонтенэ! За Шареттом.
Мы скакали по улицам Шоле так стремительно, что прохожие разбегались, – скакали до тех пор, пока я не слилась с передовыми отрядами графа де Шаретта. На меня глядели удивленно, но ничего не спрашивали.
– Что ты думаешь о происшедшем, Брике?
– Пустяки, мадам! Наверняка ваш Шаретт со всеми остальными генералами перегрызся. Оттого и уехал.
Отряды Шаретта выехали из Шоле и мчались теперь по дороге вдоль полей и огородов. На холме маячили столбы телеграфа.[2]
– За Бога и короля! – неслось из города, и тысячи голосов повстанцев дружно подхватывали этот крик.
ГЛАВА ВТОРАЯ ПЛАМЯ ВАНДЕИ
1
– Красотка, а красотка! Ну, пошли со мной! Ты все одна да одна. Честное слово, такой хорошенькой девушке это не пристало.
– Иди к дьяволу, – отвечала я в бешенстве.
– Это почему же?
– Потому что нельзя получить удовольствия, поцеловав твою физиономию.
Солдат ушел, покачиваясь. Я знала, что он пьян, знала, что не стоит так сердиться, но подобные предложения за десять дней скитаний по лесам мне осточертели. Каждый день появлялось едва ли не по пять кандидатов в любовники – грязных, небритых, вонючих. Но ужасно самоуверенных. Этого у них не отнять.
– Ну что ты так? – спросила Мьетта, одна из полковых девушек, протягивая мне горячий чай в жестяной кружке.
– Успокойся. Раз уж ты здесь, надо привыкнуть. Ты, видно, метишь на самого Шаретта и на мелюзгу не размениваешься?
Я молчала, задумавшись, и чай остывал у меня в руках.
Было жарко, словно стоял не март, а май. Я расстегнула ворот куртки, собрала в узел распустившиеся волосы. От терпкого запаха цветущего волчьего лыка слегка кружилась голова. В воздухе чувствовалась влажность. Рядом были болота и речные каналы, уже сплошь заросшие зеленью. Бывало, что селезни и прилетевшие с юга утки подплывали к людям на расстояние шага. Но здесь, где были мы, где потрескивал костер, земля была твердой. Хотя уже в четырех туазах отсюда переходила в зыбкую топь. Машкульский лес – изумрудные воды, поросшие высоким донником, болота и тихий шелест кленов, смешивающийся с шуршанием раннего весеннего дягиля. Мьетта прилегла рядом, устало потянулась.
– Откуда ты, Сюзанна? Как ты оказалась среди нас?
– А ты?
– Я? Со мной дело просто. Я пришла к повстанцам вместе с Бенжаменом. Но его в первом же бою убили. Я решила не возвращаться домой. Мало ли что можно заработать. Я здесь вроде маркитантки. После боев мне многое перепадает. Правда, спать приходится с кем попало.
Она говорила о грустных вещах, но ее голос не выражал огорчения. Я погладила ее по черным волосам.
– Ты красивая, Мьетта. Зачем тебе эта грязь?
Она резко повернулась ко мне, ее узкие шальные глаза блеснули, как лезвия кинжалов:
– А тебе зачем? Ну, зачем?
Я молчала, поразившись ее горячности. В этой девушке чувствовалась пылкая вандейская кровь – чувствовалась, несмотря на нежную наружность, прозрачные серые глаза и слабый рот.
– Прости, я не хотела читать тебе проповеди.
Мьетта смягчилась, шаловливо сжала мою руку в своей.
– Ну а что ты ищешь в этих лесах? Счастья? Возлюбленного?
Я покачала головой. Это был сложный вопрос. В памяти всплыли события последних десяти дней. Непрерывные бои с синими, когда пули свистят над головой и холодеет под ложечкой. Неделю назад у меня убили лошадь. Вся жизнь проходила в бесконечных блужданиях среди лесов, болот и солончаков Вандеи. Петли из мыз и замков, ферм и засад. Ночевать приходилось в лесных пещерах или узких круглых колодцах, под завалами из камней и сучьев, разделяющихся на рукава и лабиринты, – все эти убежища испокон веков скрывали мятежников. Теперь, когда стало совсем тепло, лезть под землю не хотелось. Небо полностью заменяло мне крышу, а мох – постель. Вот если бы не эти бои. Мне вспомнилось сражение за Шантенэ, закончившееся всего три дня назад. Я, как всегда, пыталась пробраться поближе к Шаретту, но путь мне преградил республиканец. Никогда не забыть ужаса, охватившего меня в то мгновение, когда солдат взмахнул саблей, и холодное лезвие, казалось, уже коснулось моей шеи. Раздался выстрел, республиканец упал замертво. Я в кутерьме так и не поняла, кто спас мне жизнь.
– Что я ищу?
– Скажи мне. Может быть, я помогу тебе.
– Сомневаюсь… Мне нужен граф де Шаретт. Наш Шаретт, в лагере которого мы находимся, за которым ты да я таскаемся день и ночь. Но разве этого человека можно поймать? Он всегда ускользает именно в тот миг, когда я оказываюсь поблизости. Временами мне кажется, что я хочу встретиться с призраком.
Мьетта беззвучно рассмеялась, вытягиваясь на земле. Вечер был солнечный, в потоках света, лившегося сквозь деревья, плавали золотые облака пыли и паутинок. Шлепали в тростнике цапли. На болоте расцвели лилии, испускающие запах воска и меда.
– Ты смеешься?
– Да, знаешь ли, подруга, нужно иметь смелость, чтобы гоняться за Шареттом.
– Он – мой единственный выход.
– Послушай, Сюзанна, я не хочу ни о чем тебя расспрашивать. Мне ясно, что ты что-то скрываешь, ну и скрывай на здоровье. Словом, я была права.
– В чем?
– В том, что ты метишь на Шаретта и по этой причине отказываешься от забав с солдатами.
– Ты просто дура, Мьетта.
Она не рассердилась, порывисто поднялась; встала на колени и пристально посмотрела мне в лицо.
– Вот что, моя дорогая! Что ты дашь мне взамен, если я научу тебя, как застать Шаретта в то время, когда он совершенно свободен?
Я недоверчиво посмотрела на нее.
– Ты – научишь?
– Да, и очень легко. Я даже сама проведу тебя к нему. Я знаю, где он сейчас находится.
– Откуда?
– Прошлую ночь я провела с его денщиком.
– Если ты поможешь, я отдам тебе все что угодно, но ты же знаешь, Мьетта, что у меня ничего нет.
Она расхохоталась.
– О, я не сомневаюсь, что, после того как Шаретт увидит тебя, ты не будешь испытывать недостатка в красивых вещах.
– Ты что, думаешь, я буду жить с ним?
– Ну, конечно!
– У меня и в мыслях такого нет. Я не собираюсь задерживаться здесь надолго и становиться его любовницей.
– Может быть, твои мысли и чисты, – весело заметила Мьетта. – Но его-то мысли чересчур греховны.
– К чему я ему? В отряде много девушек.
Я не говорила Мьетте, что являюсь аристократкой и стремлюсь как можно скорее добраться до Сент-Элуа, к сыну. Вполне понятно то, что она считает меня искательницей приключений. Но я и в мыслях не допускала, что аристократ Шаретт посмеет требовать чего-то такого от аристократки, да еще дочери принца де Тальмона. Я была уверена, что стоит мне только поговорить с ним.
– Девушек-то много. Но ты особенная. У тебя белые руки и нежная кожа. У тебя золотые волосы, как у лесной феи. И разговариваешь ты порой так, словно бывала в салонах.
Мьетта была щедра на похвалы, несмотря на то, что сама была женщиной.
– Шаретт очень хорош как мужчина, уж поверь. Я много слышала о нем рассказов. Только за время мятежа он переспал по меньшей мере с десятью девушками. Но я ни одной из них не завидую…
– Ах, оставь, пожалуйста! – сказала я в сердцах.
– У тебя только одно в голове. Если ты и вправду знаешь, где Шаретт, проводи меня к нему.
– Он на Овсяной опушке, в доме Святителя Мартена. Я знаю.
Она вскочила на ноги с легкостью лани, живо отряхнула бумазейную юбку, туже затянула платок, которым были повязаны волосы.
– Пойдем. Так и быть, я проведу тебя.
Путь пролегал через топкое озеро, и, переходя от островка к островку, мы по щиколотку тонули в воде. На темно-зеленой глади озера отражались силуэты буков и ясеней. На мелководье кишели проснувшиеся с весной моллюски, личинки и рачки. Из глубины тусклых омутов, которые Мьетта умело обходила, поднималось таинственное свечение. Уже дрожали крыльями в воздухе стрекозы. Вечерняя дымка окутывала болота, деревья погружались в сиренево-розовую пелену заката.
– Ты выбрала себе трудный путь, милочка, – болтала Мьетта, с легкостью перескакивая с камня на камень, с кочки на кочку.
– И неблагодарный. От Шаретта трудно дождаться любезности. Он хороший любовник, но ведет себя с женщинами как свинья. На первом месте у него война, а не мы.
– Мне это безразлично.
– Раз уж ты идешь к нему, стало быть, не безразлично. Я потому и рассказываю тебе это. Хотя, конечно, пусть Шаретт и свинья, но он все-таки Шаретт, а не простой вандеец. В этом отношении ты все верно рассчитала.
– Я ничего не рассчитывала.
– Ладно, скромница, притворяйся, если тебе это так нравится. Да только меня не обманешь. И потом, я бы не советовала тебе уж очень надеяться на успех. Конечно, ты Шаретту понравишься. Но ненадолго. Он стыдится нас, простых женщин. Ему подавай аристократок, всяких там герцогинь и маркиз. А с нами он не живет больше недели.
Мы подошли к Овсяной опушке, и Мьетта указывала рукой на небольшой деревянный домик, прислонившийся к поросшей мхом скале. Из расщелины бил веселый родник, рассыпая по земле брызги.
– Вот это и есть его логово. Ступай! Там он всегда один. Его денщик сегодня ночью отправится ко мне. А Святитель Мартен наверняка спит на чердаке. Его пушкой не разбудишь. У тебя вдоволь времени поговорить с Шареттом. Обещай только не говорить, кто тебя привел сюда! Он и так будет недоволен, что нарушили его одиночество… Но ты быстро его успокоишь, не так ли? – Мьетта прыснула в рукав и насмешливо добавила: – Я думаю, раньше завтрашнего утра тебя ждать не приходится?
Я рассерженно покачала головой, и Мьетта поспешно зажала себе рот рукой, словно обещая молчать. А потом, посмеиваясь, круто повернулась и снова запрыгала по кочкам – теперь уже назад, в лагерь.
Некоторое время я стояла в нерешительности, размышляя, уж не последовать ли мне за Мьеттой. Как я ни пыталась не обращать внимания на ее болтовню, подобные рассказы не могли не смущать меня хотя бы чуть-чуть. Вспоминался и Гектор де Вабекур, твердивший о том, что Шаретт – сам дьявол.
Впрочем, по какой причине я робею? Разве у меня есть другой выход?
2
Я приоткрыла дверь так тихо, что ни одна петля не заскрипела, и осторожно переступила порог. В косые маленькие сени пробивался свет из комнаты. С гвоздей свешивались связки чеснока и красного перца. В углу стаяла кадушка с засоленной рыбой, и воздух пропитался рыбным запахом. Словом, внешне здесь все было так, как в обычном домике лесника. И тем страннее было сознавать, что в этой избушке живет не кто иной, как грозный Святитель Мартен, принимающий у себя еще более грозного графа де Шаретта де ла Контри.
Я заглянула в комнату, прошлась по земляному полу, все больше убеждаясь, что в доме никого нет. По крайней мере, я не видела ни Мартена, ни Шаретта и ничего не слышала. А между тем вся обстановка подсказывала, что совсем недавно здесь кто-то был. На столе оплывала толстая тростниковая свеча, пропитанная маслом, и стояла глиняная кружка. По запаху можно было определить, что пили пиво.
Легкий шорох послышался сзади, словно кто-то бесшумно откуда-то спрыгнул. Я попыталась обернуться, но не успела: мощная грубая рука обхватила меня сзади, сдавила горло, и я почувствовала, как кожу под подбородком больно кольнуло острие кинжала.
От испуга и неожиданности я не смогла даже вскрикнуть, а кинжал, грозивший в одно мгновение перерезать мне горло, заставлял меня быть благоразумной и не шевелиться. Я чувствовала, как левая рука незнакомца молниеносно пошла вокруг моей талии и легко выдернула у меня из-за пояса пистолет, затем быстро ощупала одежду и, достигнув груди, замерла. Он понял, что я женщина.
С невероятной силой незнакомец отшвырнул меня от себя, и я так грохнулась головой о стену, что у меня потемнело в глазах. Шляпа слетела на пол, волосы рассыпались по плечам белокурой волной. Я не успела опомниться, как получила две оглушительные пощечины и услыхала вопрос:
– Кто тебя подослал? Кателино? Ах ты жалкая шлюха!
Это было слишком для меня. Дыхание у меня перехватило, я не могла произнести ни слова. Незнакомец оперся рукой о стену, его лицо наклонилось ко мне – смуглое, нервное, искаженное подозрительной гримасой. Глаза у него были широко расставленные, большие и такие бархатно-черные, что это заставляло задуматься о его восточном происхождении или о примеси крови мавров. Длинный нос с развитыми нервными ноздрями совершенно не гармонировал со ртом, почти женским. Толстые чувственные губы, пожалуй, были самыми притягательными в этом лице. Да еще ресницы – такие длинные, что бросали тень на щеки.
На вид ему было лет тридцать. Но наверняка черный платок, которым была повязана его голова, – платок корсара, и узел над самыми бровями делали его чуть старше.
– Вы граф де Шаретт? – прошептала я одними губами.
Струйка крови побежала от уголка моего рта к подбородку – свидетельство тех двух пощечин.
– Поверьте, вы совершенно напрасно меня подозреваете…
Он расхохотался так зло и оглушительно, что я подумала, не сошел ли он с ума.
– Ха! Шлюха еще и разговаривать умеет!
Он резко прервал свой смех и снова склонился надо мной.
– Ты вздумала меня дурачить? Стерва! Да я задушу тебя, если ты сразу же не скажешь, кто тебя подослал. Поняла? Ну?.. Кто же? Кателино? Стоффле? Или, может быть, добряк Боншан? Они все сговорились сжить меня со свету!
Его руки сомкнулись на моей шее и сдавили не на шутку. Меня окатила волна ужаса, я не могла произнести ни слова. Он что, всерьез похваляется меня задушить?
– Ах мерзавка! Ну!
Мне не хватало воздуха. Я чувствовала, как глаза снова заволакивает ярко-красный туман. Поплыли по лесному домику странные желтые круги. Ноги подкосились, и я словно куда-то полупровалилась.
– Гм, какая тонкая шея, – слышала я как во сне злой чужой голос. – И нашли же такую нежную красотку. Сколько она им стоила – тысяч двадцать?
Его руки разжались, он отпустил меня. Сквозь болезненный дурман удушья я слышала, как Шаретт наливает в кружку пиво. С ней он вернулся ко мне, насильно разжал мои губы и, запрокинув голову, влил мне в рот все содержимое кружки. Я поперхнулась, пиво потекло по подбородку, одежде.
– Оставьте меня, – произнесла я шепотом. – Иначе я сейчас умру.
– Нет, сначала ты скажешь мне, как ты здесь оказалась и какое у тебя было задание.
Шаретт видел, что я совершенно без сил, и, видимо, успокоился. Даже, отошел, сел в кресло, положив скрещенные длинные ноги на стол. Затем спохватился, достал пистолет, зарядил его и, положив перед собой, снова принял прежнюю позу. Я медленно вытерлась рукавом, недовольно подмечая, как жутко выглядит фигура Шаретта в последних красных отблесках головешек в очаге. Черное в красных бликах – чем не цвета ада? И внешность этого вандейца казалась демонической – лихорадочно блестящие, неправдоподобно большие и черные, как угли, глаза, какое-то безумие во взоре, чувственный крупный рот, искривленный ненавистью, трепещущие крылья носа и вдобавок – эта черная повязка на голове, из-под которой падают смоляные слипшиеся волосы.
– Ну? Ты можешь уже говорить?
– Я принцесса де ла Тремуйль де Тальмон. Я пришла к вам сама, меня никто не подсылал, и я не собиралась покушаться на вашу жизнь.
Он и бровью не повел, услышав эти слова, и я была слегка сбита с толку. Все-таки мое имя должно было прозвучать неожиданно и произвести сильное впечатление. А смуглое лицо Шаретта осталось странно застывшим и каменным.
– Вы меня слышали? – проговорила я полуиспуганно. – Я сказала вам правду. Я не выполняла ничьего задания. Меня привела сюда Мьетта, ну, девушка из вашего отряда. Мне нужно было застать вас одного. Я уже десять дней пытаюсь это сделать.
– Ага, стало быть, ты уже давно за мной охотишься.
– Вы употребляете не те слова. Я не охочусь. Я скорее гоняюсь. Я аристократка, и поэтому полагала, что вы, как аристократ, согласитесь мне помочь. Не могла же я обратиться к крестьянским вождям. Им было бы труднее понять меня.
– Ну, и чего же ты хочешь? – спросил он насмешливо.
Я трудно глотнула. Во рту у меня было сухо. Я не могла понять, верит он мне или нет, какое впечатление произвели на него мои слова, но я заметила, что он продолжает называть меня на «ты», хотя и слышал уже мое имя. Это меня уязвляло.
– Мой отец. Вы же знаете, он сейчас развернул широкие бои в Иль-и-Вилэне. Он знаменитый предводитель. Так получилось, что я оказалась вдали от него. И я подумала, не можете ли вы переправить меня к нему. Я полагала, его имя достаточно известно.
– Ну и что? – спросил он, пристально глядя на меня.
Я растерялась. Что? Но я, кажется, уже все сказала. Неужели этот Шаретт так глуп, что не понимает моей просьбы? Или не желает понимать?
– Ну и что?
– Ну, я же не могу сама, без сил, без средств, преодолеть линию фронта, ту территорию, где идут бои. Это почти невозможно. А мне непременно нужно быть у отца.
Я уже и не заикалась о Бретани, о Сент-Элуа. Если Шаретт так реагирует на Иль-и-Вилэн, то о более дальних краях и говорить не стоит.
– Мой отец, он сражается за то же, что и вы. За Бога и короля. Он будет вам очень благодарен, если вы поможете мне соединиться с ним. Ведь я его единственная дочь. И я полагала, что вожди повстанцев должны помогать друг другу.
– Почему?
– Почему? – переспросила я удивленно.
– Да. – Шаретт казался очень спокойным, но левое веко у него конвульсивно дергалось. – Почему ты так полагала?
Я совсем утратила нить разговора. Он что – болван?
– Признаться, господин граф, я не знаю, что вам ответить. Взаимопомощь обычно считается благородным делом. И если только вы дворянин, то вас положение обязывает. Я считала вас способным на благородные поступки.
– Ты ошибалась.
Кровь прилила мне к лицу. Этот безапелляционный тон, это «ты», это странное поведение выводило меня из себя. Мьетта говорила мне, что Шаретт – свинья. Но не до такой же степени…
– Почему вы, собственно, говорите мне «ты», господин де Шаретт? Возможно, я и ошиблась, но это никак не объясняет.
– Объясняет, – прервал он меня.
– Я всем женщинам говорю «ты». На земле нет такой женщины, которая удостоилась бы от меня «вы». Даже королева.
– Для аристократа у вас довольно странные привычки.
– Не тебе их обсуждать.
Я замолчала, сознавая, что таким же образом он будет отвечать на все мои слова. Я уже жалела, что пришла сюда. Достаточно вспомнить тот прием, который оказали мне, – рука, схватившая за горло, кинжал – чтобы понять, что разговор вряд ли стоил таких испытаний. Я была почти уверена, что Шаретт мне откажет. Чего еще ожидать от такого мстительного подозрительного субъекта, от негодяя, который несколько раз называл меня шлюхой и стервой.
– Хорошо, – произнес он, играя пистолетом. – Ты много тут наболтала. Я тебя очень терпеливо выслушал. Допустим, что я даже поверил твоим бредням. Но главное, что я понял, так это то, что ты до крайности глупа. Иначе как ты могла подумать, что я сделаю хоть что-нибудь просто так для какой-то смазливой бабенки?
– Что значит «просто так»? – спросила я настороженно.
– Вы хотите денег за услугу, о которой я вас прошу? Должна вам признаться, денег у меня нет. Но можете быть уверены, что, как только я приеду к отцу, вам хорошо заплатят. Вы потратитесь только на лошадей и несколько человек охраны, а получите в сто раз больше. Я знаю, отец ничего не пожалеет для вас. Он так давно мечтал увидеть меня.
Шаретт снова разразился уже знакомым мне оглушительным смехом – прямо-таки гоготом, не иначе, вскочил на ноги, перегнулся через стол ко мне:
– Ну и дура же ты! Что ты тут болтаешь? Да я пальцем о палец ради твоего папаши не ударю, и если уж на то пошло, то я твоего папашу презираю больше всех. Он – самое большое ничтожество во всей этой дерьмовой армии. И знаешь почему? Потому что он, идиот, верит в то, за что воюет.
Я с трудом проглотила комок гнева, подступивший к горлу. Можно было подумать, что я разговариваю с санкюлотом, с извозчиком с Вандомской площади, а не с отпрыском знаменитого рода графов де Шареттов де ла Контри.
– Ну, а вы? Вы что же, не верите в то, за что воюете? Зачем же в таком случае война?
Он взглянул на меня так презрительно, словно ничтожнее существа, чем я, ему и встречать не приходилось.
– Война – это война. Я люблю войну. Но мне плевать, за что она ведется. Мне нравится убивать и насиловать, вешать и пытать, вот и все. Но не с тобой об этом говорить.
– Да, конечно! – произнесла я возмущенно. – Такому мерзавцу, как вы, трудно найти во мне достойного собеседни…
Договорить я не успела: Шаретт снова ударил меня по лицу с такой силой, что я отлетела к стене и больно ударилась спиной о камин. В ту же минуту кровь бросилась мне в голову, сознание помутилось от гнева. Боже мой, Боже мой, если бы в эту минуту у меня за поясом был пистолет или нож…, если бы он только был, я не задумываясь прикончила бы этого подлеца… Но ножа не было и пистолета тоже. Я стояла, тяжело дыша и кусая губы от бешенства.
– Ну, как? Твое личико не слишком пострадало?
Я боролась с яростью, так и кипевшей во мне. Самые площадные ругательства готовы были сорваться у меня с языка, но я сдерживалась, сознавая, что в подобном случае этому мерзавцу, пожалуй, ничего не будет стоить избить меня до полусмерти. Значит, надо действовать хитростью? Но как?
– Со мной надо разговаривать без грубостей, красотка. Твой главный недостаток в том, что ты слишком большая гордячка. А я этого не люблю. Тебе ведь волей-неволей приходится считаться с моими вкусами, не так ли?
Я стояла молча, прижав прохладную ладонь к пылающей щеке. Надо же, какая сволочь! Сукин сын! О, если бы я могла высказать это вслух! Несмотря на бешенство, изрядно мешающее думать трезво, я все же успела подсознательно уяснить, что Шаретт – очень твердый орешек. Возможно, мне его даже не раскусить. Но ведь его можно использовать, хотя бы некоторое время, а потом оставить. Так всегда следует поступать со слишком большими препятствиями… Кто же это советовал мне? Кто? Я никак не могла вспомнить.
– Ты много намолола чепухи, а теперь послушай меня. За время разговора я тебя достаточно разглядел. Ты глупа, но хороша собой. Так вот что, имя твоего папаши и его деньги меня совершенно не волнуют. Но вот ты… Ты можешь быть весьма соблазнительной наградой. Именно ты.
– Что вы имеете в виду? – прошептала я, давно уже уяснив смысл его требований, но все же питая какую-то тайную надежду на то, что я не так поняла.
– Шлюхи из отряда мне надоели. Это подстилки. Ну а ты чуть повыше рангом. Не намного, конечно, потому что все женщины под платьем одинаковы, но все-таки повыше. Мне нравится то, что ты аристократка. Это как раз по мне. Я хочу тебя. И если ты согласишься жить со мной, я, возможно, помогу тебе. Ясно?
Его шершавая рука погладила меня по подбородку, зарылась в распущенный белокурый каскад локонов. Я была как каменная и в ту минуту почти не чувствовала его прикосновений. В мозгу медленно всплывали картины прошлого. Министр Дюпор, этот отвратительный старик, получивший меня в обмен на замок. Грузный тюремщик Мишо, купивший меня за бутылку спирта. Я скатываюсь все ниже и ниже, и этому нет конца. Значит, Шаретт станет новым звеном в этой мерзкой цепи? Значит, Мьетта была права?
Дюпор, Мишо… Они, по крайней мере, не били меня. Хотя бы в этом отношении мое достоинство было сохранено. А тот кошмарный вечер в «Золотом погребке», виконт де Маргадель и его бесчисленные товарищи, не знаю даже, сколько их было! Я падаю в бездну, в ад, в грязь, и никому уже не докажешь, что душа-то у меня чиста – так же чиста, как пять лет назад!
– Нет! – крикнула я исступленно. – Нет! Не будет этого! Уж вам-то меня никогда не получить, никогда!
Я отбросила его руку, как отбрасывают отвратительное склизкое насекомое, едва сдержав желание плюнуть ему в лицо. О, это лицо! Эта уродливая гримаса!
Трудно сказать, как я выскочила из сторожки Святителя Мартена. Я только сознавала, что он меня не удерживает. Кажется, я слышала смех Шаретта, и он казался мне сатанинским.
Уже была ночь, и лунный свет ослепил меня. Лес казался таинственно притихшим, безмолвным, словно прислушивающимся к тому, что происходило в домике. Шелест деревьев в ночи звучал почти феерически. Четкими силуэтами вырисовывались на фоне ночного неба полуголые костлявые грабы и ясени. Биение струй родника в лесной тишине было неожиданно громким.
– Нет, – прошептала я еще раз. – Нет. Я не могу. Это невозможно даже представить.
Презрительный смех в домике был мне ответом.
3
Маленький городок Машкуль давным-давно, еще в XIV веке, стал местом преступлений зловещего маршала Жиля де Реца. В его мрачном замке процветали пытки и жестокость, насилие и кровожадность. Жиль де Рец замучил сотни людей – женщин, девочек, мальчиков, – но его разоблачили и после суда сожгли на костре как чернокнижника. От его замка, помнившего столько преступлений, нынче остались только руины. Обугленные развалины, среди которых разросся чертополох.
Я вспомнила это, бредя по улице захваченного вандейцами Машкуля. Отряд Шаретта численностью в пять тысяч вошел сюда совсем недавно, не более двух часов назад. Пылали дома республиканцев. Дым не давал дышать и щипал горло. Я закашлялась, закрывая лицо рукой. Пламя бушевало в ратуше, по воздуху летали горящие бумаги – вандейцы жгли архив. В саду каждого дома либо насиловали женщин, либо грабили. Трудно было найти мало-мальски высокое дерево, где бы не было повешенного.
Стрельбы уже не было слышно. Наступил час грабежа. Как в те далекие времена, когда захваченный город на три дня отдавался в полное распоряжение солдат-победителей. Тогда не было над ними никакой власти. Нынешние повстанцы, еще вчера крестьяне, быстро учились повадкам рыцарей из темного средневековья. Вслед за вандейцами появлялись их жены и дети. Они тащили за собой тележки, которые тут же наполняли награбленным добром.
В одном из домов семью республиканца заперли и заживо подожгли. Дым и пламя валили из окон, смешиваясь с криками и запахом горелого мяса… На крыше другого дома инсургенты обнаружили спрятавшихся детей, чей отец был республиканцем. Их сбросили с крыши прямо на солдатские пики. Убийства и изнасилования не поддавались никакому подсчету.
Сердце у меня словно умерло. Я давно уже перестала понимать, во имя чего ведется эта бойня, кто за что воюет. Я знала только, что Франция ввергнута в ад, а вместе с нею в ад попала и я. Мне уже не хотелось задумываться, кто прав, кто виноват, чьи пролитые реки крови шире и длиннее. Остался только страх и желание выжить. И тайное облегчение оттого, что на моей куртке нашито красное сердце Иисуса – вандейский знак, стало быть, меня эти ужасы коснуться не могут.
Я уже не видела разницы между санкюлотами, свирепствовавшими в Париже, и повстанцами, воюющими за короля. Всюду была одна и та же толпа, – дикая, жаждущая крови, идущая на ее запах, как зверь. И всегда этой толпой двигала только одна цель – убивать, унижать, ниспровергать. Чернь словно пользовалась тем, что мир сошел с ума, что раз за несколько столетий, наконец, наступила возможность хорошо поработать длинными ножами. Над толпой стояли люди, разжигающие всеобщее безумие. И разница между Робеспьером и Шареттом стерлась, утонула в бездонном потоке крови. Молох поглотил Христа, Молох требовал жертв…
– Ну, я хорошо выгляжу?
Мьетта выскочила из одного из домов, радостно завертелась передо мной в новой юбке. Добротной, суконной, с фламандскими кружевами.
– Правда хороша обновка? Ах, как удивится Жиль!
. – Жиль? – переспросила я машинально. – Жиль де Рец…
– Да нет же! Жиль Крюшон, мой Жиль!
Мьетта заглянула мне в лицо, шаловливо обняла.
– Ну, что ты? Еще не привыкла? Лучше бы нашла себе женскую одежду! Сейчас можно найти самые роскошные вещи. Представляю, какая ты была бы миленькая в юбке!
– Оставь меня, – произнесла я, снимая ее руки со своей шеи. – Оставь, ты наверняка с трупа содрала свою юбку!
В бешенстве я оттолкнула от себя Мьетту, дрожа от отвращения. Как она может красоваться! Почему происходящее не внушает ей отвращения?!
– Подумаешь! – услыхала я раздраженный голос Мьетты. – Давно бы пора привыкнуть! Если синие грабили нас, почему бы нам не ограбить синих? Ты просто дура, вот и все! И никогда ты ничего не добьешься.
Я шла вперед не глядя, сознавая только то, что моя жизнь мало-помалу превращается в сплошной кошмар. Не прошло и месяца с тех пор, как я покинула Париж, а мне уже казалось, что и барон де Батц, и Тампль, и даже сама столица Франции – все это придумано мною, рождено каким-то странным сном. А если не придумано, то происходило лет сто назад. Я оказалась в действительности в тысячу раз более ужасной, чем парижская. А когда я вспомнила о Рене Клавьере, меня начинала колотить дрожь. Он не желал, чтобы кто-то стоял между нами. Но теперь нас разделял целый десяток мужчин. И я не была уверена, что на этом поставлю точку. Все так непредсказуемо, так независимо от моих желаний… А может быть, и Клавьера, и свою новую любовь я только вообразила, придумала? Иначе почему воспоминание об этой любви нисколько не греет мне душу.
– Мадам, вы же ничего не ели со вчерашнего вечера. Вот, возьмите, пожалуйста! А то я уже объелся.
Брике, подскакивая на одной ноге, протягивал мне несколько булочек с творогом. Они были еще теплые, мягкие. Я проглотила один кусок, другой, ощущая, как меня начинает тошнить. Нет, поглощать что-то в то время, когда улицы скользки от крови, выше моих сил.
– Где ты взял эти булочки?
– Так ведь булочную разграбили, мадам. Пекарь как раз достал вечернюю выпечку. Вот я и набил карманы. А что? Все правильно. Булки-то уже ничьи.
– А где пекарь?
Брике очень красноречивым жестом черкнул себе ладонью по шее:
– Прикончили.
Вот как. Булки пережили своего хозяина и стали ничьи. Я покачала головой. На Брике у меня не было злости. Он хороший мальчик. Вот если бы чуть меньше увлекался войной.
– Вас словно с креста сняли, мадам. Это потому, что крови много? А я уже привык. Столько уже всего навидался. Что, мы еще долго будем за Шареттом таскаться?
Я упрямо молчала. У меня самой было столько вопросов.
– Пойдемте-ка лучше на площадь. Туда привели всех самых главных синих – мэра Машкуля, всяких чиновников, прокурора. Для Шаретта уже поставили трон.
– Трон?
– Ну, почти как трон. Он сейчас будет судить синих.
– Судить? Он же не судья.
– Судья тот, у кого сила, – рассудительно заметил Брике, дожевывая булку.
Почти машинально я пошла следом за мальчишкой. Он тащил меня за руку, направляясь на главную площадь Машкуля. Здесь ратуша уже почти сгорела, и в воздухе летал пепел. Лошади, еще полчаса назад с бешеным ржанием и налитыми кровью глазами метавшиеся по площади, были усмирены или привязаны к коновязи. Горячий ветер обжигал щеки и нес золу прямо в лицо. Вечернее небо стало розовым – от заката и пожаров, пылающих в Машкуле.
Площадь была расчищена, словно для большого праздника, с четырех сторон окружена неровными рядами вандейцев. Для Шаретта и его подручных установили помост, вынесли из ратуши мягкие кресла. Вещи переживали своих хозяев. Хозяева менялись слишком часто.
– Что же здесь будет? – спросила я громко.
– Кровь! О, очень много крови!
Я успела заметить, как веселая Мьетта, хохоча, повисла на шее своего нового любовника Жиля. На площади начали работу какие-то люди с лопатами. Они копали узкие, длинные ямы. Для чего – я не понимала. Но давно знала, что хорошего ждать нечего. Теперешнее мое состояние было сходно с тем, что я переживала во время кровавого сентября 1792 года. Тогда смерть и пытки угрожали мне. Нынче я была в безопасности. Но откуда же эта страшная тоска, невыносимое сосание под ложечкой?
– Толпа, – прошептала я невнятно. – Я ненавижу толпу. Да, ненавижу.
Брике тянул меня к дереву, предлагая взобраться наверх. Не сознавая, что делаю, я с его помощью вскарабкалась на одну из толстых ветвей, прижалась щекой к коре, такой шершавой и ароматной. Правда, к запаху смолы примешивался теперь запах гари и пожаров… Зачем я взобралась на дерево? Неужели из того же любопытства, что терзает людей, наводнивших площадь? Животного, мерзкого любопытства.
Из ратуши вышел худой высокий человек в черном, и толпа зашлась криком, каким-то яростным исступлением. В человеке я узнала графа де Шаретта де ла Контри. Бандита, интригана и убийцу. Он что-то говорил, явно упиваясь своим успехом, своей властью, возможностью карать и миловать. И тут мне показалось, что я разгадала его. Он только на первый взгляд страшен. Только сначала его звериные инстинкты вызывают ужас. На самом же деле Шаретт по-животному прост. Посредственность, получившая возможность распоряжаться сотнями судеб. Обыкновенное кровожадное, амбициозное и жалкое ничтожество…
Я не слышала его слов. Впрочем, мне было безразлично, что он говорит. Наверняка то, что положено в таких случаях: о восстановлении справедливости, попранных прав Людовика XVII на престол, заслуженной каре негодяям, осмелившимся пойти против Бога и короля… То, что говорят вандейские генералы и во что сами не верят ни капли… Слова, предназначенные для одурманивания толпы. Для того чтобы придать грабежу законность. Ведь все, что нужно людям, – это знать, что их грехи покрыты. Безразлично чем: высокой целью, необходимостью, защитой справедливости.
– Мадам, он говорит ужасные вещи.
Я взглянула на мальчишку. Брике, насмешливый Брике, которому все было нипочем, смотрел на меня испуганно. Круглые глаза его смотрели совсем по-детски. Тощий, встрепанный, он был похож на воробышка и уже не вспоминал о Картуше. Я не поняла, что он имеет в виду. Я просто обняла его, ласково погладила по голове. Он прижался ко мне, непривычно притихший.
На площадь перед ратушей вывели каких-то людей. Некоторые из них были в синих республиканских мундирах, остальные в гражданском платье. Их уже избивали, мучили… Вандейцы, те, что добровольно вызвались стать палачами, подводили их к выкопанным глубоким ямам, опускали туда и засыпали землей по шею. Только головы оставались торчать, словно капуста на поле.
– За Бога и короля! – заорал Шаретт громовым голосом. Лицо его сейчас было просто безумно.
– Что же они будут делать? – прошептала я.
Раздались крики, призывающие толпу расступиться. В рассеявшемся море людей, в неожиданном проеме, возникшем среди толпы, я увидела десяток обезумевших лошадей. В их налитых кровью глазах еще отражались последние отблески пожаров. Лошадей насилу сдерживали цепи, прикованные к железным кольцам, вмурованным в стену. Какие-то люди подошли к ним, словно ожидая приказа. Шаретт махнул белым платком. Освободившиеся бешеные лошади понеслись прямо на площадь.
Пыль поднялась столбом, и трудно было что-то понять. Кто мог, тот сразу бросился наутек. Среди остальных началась давка, люди падали друг на друга, кричали, хрипели. Но я старалась не видеть этот кошмар. Я помнила, что там, посреди площади – люди. Люди, вкопанные в землю по самую шею. Можно ли было изобрести более варварский способ казни?
До меня донесся смех – ликующий, сатанинский. Я не была уверена, что это не галлюцинации. Но если смех все же был, то он мог принадлежать только Шаретту. Только ему.
Кто знает, сколько продолжался этот ад… Лошадей удалось поймать, усмирить. Леденящее душу зрелище открылось на площади. Земля и песок пополам с кровью, куски мозга, выбитые из голов… Кроме республиканцев, бешеными лошадьми были затоптаны и повстанцы, не успевшие взобраться на дерево или убежать. Площадь посыпали песком, как римскую арену после боя гладиаторов. Шаретта не было видно. Но он вскоре появился – смеющийся, довольный, с безумным блеском в глазах. Маньяк… Да, я нашла точное слово.
Бандит, нацепивший на себя шляпу судейского, снова что-то зачитывал, но ничего не было слышно. Дело касалось мэра Машкуля, республиканца Жубера. Ему, избитому до полусмерти, но еще живому, палач по приказу Шаретта маленькой пилой отпилил кисти рук.
Затем на площадь вывели целую группу синих – я насчитала тридцать человек. Из вежливости или в насмешку им оставили их трехцветные республиканские кокарды. Пленники были в длиннополых мундирах с широкими отворотами, в портупеях, перекрещенных на груди. «Как Гаспар», – мелькнула у меня мысль.
– Мы будем убивать вас маленькими партиями! – заорал кто-то из окружения Шаретта. – По тридцать человек и каждый день! Это называется убивать «четками», ей Богу, славно придумано!
– Пойдем, – сказала я Брике. – Пойдем быстрее!
Я не желала созерцать это дальше. С лихорадочной поспешностью спустившись с дерева, я зашагала прочь от площади. Да-да, подальше отсюда, и как можно скорее. По крайней мере, на расстоянии все будет казаться не таким ужасным.
– Мы не останемся здесь, Брике. Пусть нас лучше убьют синие, но мы не останемся у Шаретта ни за что. Иначе я в один прекрасный день сойду с ума.
Я вдруг почувствовала странное воодушевление. Выход найден! Еще минуту назад мне казалось, что я попала в заколдованный круг и мне некуда деться. Это угнетало меня. Теперь я знала, что сделаю. Я уеду из отряда Шаретта и присоединюсь к какому-нибудь другому вандейскому предводителю. Не может быть, чтобы все они были похожи на Шаретта. Если он ненавидит их, стало быть, они от него отличаются. Я слышала, среди них есть Боншан, которого все называют добряком. А еще д'Эльбе, Ларошжаклен – благородный рыцарь, экзальтированный католик Кателино, Жоли, Буленвилье, Тен-теньяк…
– Мадам, да постойте вы! Неужто вы не замечаете? Тот толстый увалень уже который час за нами бродит.
Голос Брике возвратил меня к реальности.
– Ты хочешь сказать, что за нами кто-то следит?
Я обернулась. Сумерки уже сгустились, но отблески затухающих пожаров разгоняли ночную темноту. Брике был прав, кто-то шел за нами.
– Что вам угодно, сударь? Мы вовсе не нуждаемся в вашем обществе!
Мне показалось, что массивная тень злорадно засмеялась. Свет упал на лицо незнакомца. О, я легко узнала эти слипшиеся светло-каштановые волосы, обрюзгшее лицо, косо стесанный подбородок.
– Какой ужас, – прошептала я в замешательстве. – Герцог де Кабри?
Он снова плотоядно засмеялся, приближаясь ко мне.
– Узнали, не так ли? Конечно!
Я молчала, подсознательно чувствуя, что смеется он потому, что получил возможность сделать мне какую-нибудь пакость.
– Как чудесно то, что мы снова встретились, мадам. Правда? Ведь при прошлой встрече мы и словом не обмолвились. Но я вижу, что вы не очень-то рады нашей встрече. Это на вас холодный душ так подействовал, что ли? Ведь это я толкнул вас в воду, хотя вы и предпочли не жаловаться на мой поступок.
– Вам незачем сообщать мне это. Я, как и раньше, считаю вас мерзавцем. Но поскольку судьба свела нас в одном лагере, я полагаю…
– Все, что вы полагаете, ошибочно, будьте уверены. Вы полагали, что меня расстреляли синие, а я жив. Я спасся, как и вы. Вы полагали, что больше не повстречаете меня, а вышло иначе. Судьба явно идет против вас.
– Прощайте, – сказала я холодно. – Ни до чего умного вы, как я и ожидала, не додумались.
– Вы не уйдете, – произнес он угрожающе и в то же время упиваясь своими словами.
– Интересно, что же мне помешает?! – воскликнула я.
– Человек, которого вы видите перед собой. Мне приказано прикончить вас одним выстрелом, если вы попытаетесь покинуть Машкуль или убежать из отряда.
Эти слова, как смерч, пронеслись у меня в голове, дошли до сознания. Кабри преследует меня по приказу сверху. Но, черт возьми, усерднее и страшнее тюремщика трудно было найти.
– Кто же вам приказал стеречь меня? Шаретт?
– Да.
– И зачем?
– Затем, чтобы уложить вас к себе в постель, дорогая. Уж вам-то это должно быть ясно. Увы, милочка, нынче для вас нет никакой иной перспективы. Только объятия кровавого графа де Шаретта де ла Контри. И я очень рад уверить вас, что любые ваши уловки будут тщетны. Я – вы это сами прекрасно знаете – не поймаюсь ни на какой крючок. Так что не тратьте усилий и не создавайте всякие увлекательные планы в вашей изобретательной головке. И мне чертовски приятно говорить вам это.
Я не желала с ним разговаривать. Не желала ничего слушать. Зажав уши руками, я побежала прочь.
Теперь уже назад, в город.
4
Была ужасная ночь. Темное, затянутое тучами небо рассекала ослепительно-голубая молния, и оглушительно гремел гром. Ливень не прекращался ни на минуту. Все пропиталось водой – одежда, порох, боеприпасы. Земля размокла, в жидкой грязи можно было утонуть по колено. Шум ливня смешивался с грохотом мощных валов, обрушивающихся на стены города. Это был океан.
Непрерывно гремела канонада пушек. Ядра свистели над окопами и взрывались где-то позади, осыпая всех грязью и оглушая шумом. Мы с Мьеттой уже который час лежали на дне бивуака, не решаясь взглянуть наружу. Лежали вымокшие, продрогшие, грязные и только молились, чтобы ядро не попало в нас.
Было 29 марта 1793 года, страстная пятница. Уже три дня вандейское воинство безуспешно осаждало с суши крупный фортификационный пункт, город Ле-Сабль-д'Олонн.
– Когда же все это кончится?! – кричала Мьетта в отчаянии, яростно стуча ногами о бревно, свалившееся на нас откуда-то сверху и едва не задавившее.
Мы понятия не имели, что происходит на поле боя, чья сторона берет верх, но подсознательно чувствовали, что сегодняшняя ночь станет решающей в этой непрерывной осаде. Бомбардировка Ле-Сабль-д'Олонна не прекращалась, кажется, ни на мгновение. Ливень усиливался. Волны бушевали все неистовее, с яростной силой обрушиваясь на крепостные стены, словно желая пробить их и помочь вандейцам.
– Их там всего горстка, а нас – девять тысяч. Чего же наши тянут волынку?
– Может быть, к синим подоспела подмога, – высказала я предположение.
– Подмога? Ха! Откуда? Разве что с неба!
– Подмога могла прийти по морю. Вполне могла. Взять хотя бы остров Ре – он рядом, и там мощный республиканский гарнизон.
– Ах, мне все равно, все равно, все равно! – закричала Мьетта. – Только бы поскорее этому наступил конец! Или они нас возьмут, или мы их, лишь бы конец!
Она была на грани истерики, и у меня не было никаких сил, чтобы успокаивать ее. Я сама чувствовала себя не лучше. Провести три дня кряду в такой обстановке. Я вся пропиталась порохом, дымом, не говоря уже о соленых запахах океана. В ушах непрерывно слышалось жужжание ядер.
– Я хочу есть! Черт возьми, у меня со вчерашнего дня в желудке ничего не было!
– Какой смысл есть, если нас могут в любую минуту убить? – спросила я.
– Ты – как всегда! Всегда успокаиваешь! А я не желаю думать о том, что будет через минуту. Я хочу есть сейчас.
Я протянула ей одно сухое печенье. Правда, это раньше оно было сухим, теперь же пропиталось водой. Мьетта взглянула на меня исподлобья, блеснула узкими глазами.
– Ладно уж, спасибо. Только давай поделимся.
– Я не хочу есть.
– Знаю я твои отговорки. Вот, держи половину!
Я равнодушно сжевала свою долю. Ливень полил так сильно, что под нами уже чавкала вода.
– Надо куда-то убираться отсюда, – заявила Мьетта решительно. – Иначе нам тут и конец придет.
– Ты можешь идти. А я нет.
– Почему?
– Герцог де Кабри, этот мерзавец, бродит где-то поблизости. Я в этом уверена.
– Похоже, он даст отрезать себе ухо, лишь бы насолить тебе.
– Да. Он меня ненавидит.
– Шаретт умеет выбирать охранников. Что ж, тогда я тоже останусь. Страшно уходить одной.
Мы обнялись, крепко прижались друг к дружке, и нам стало как будто теплее. Сердца у нас обеих бились, как у загнанных зайцев. Несмотря на ужасную обстановку и различие характеров, в груди у меня шевельнулось что-то вроде нежности к Мьетте. Господи ты Боже мой, что за шальной нрав. Авантюристка, искательница приключений, мародерка и маркитантка, а в то же время – такая верная подруга.
Мьетта всхлипнула, крепче прижалась ко мне.
– Ты помнишь свое обещание?
– Какое?
– Ну, когда Шаретт станет тебя одаривать, ты подаришь мне что-то, правда?
Меня даже передернуло от отвращения.
– Ты такая глупая, Мьетта. Во-первых, для этого еще нужно остаться в живых. Во-вторых, я скорее умру, чем приму от этого негодяя хоть что-нибудь.
– Что поделаешь, – вздохнула Мьетта, – если я так люблю красивые вещи, а их у меня так мало.
Под утро ливень прекратился. Моросил холодный мелкий дождь, но это было ничто по сравнению с тем, что мы пережили. Вместе с ливнем понемногу затихал и бой. На рассвете вдоль бивуаков промчался всадник, вздымая кучу грязных брызг, и прокричал: «Синим пришла подмога с острова Ре!» Всем стало ясно, что бой проигран.
Вандейские отряды сняли осаду Ле-Сабль-д'Олонна. Затем разъединились и разошлись в разные стороны. Каждый предводитель уводил своих людей в те края, что считались его вотчиной. Шаретт с войском отходил в болота Марё, Мьетта и я тряслись в мокрой старой телеге, прячась от дождя под драным тряпичным навесом. Дно телеги было устлано старыми размокшими газетами. Отрывая от досок влажные куски бумаги, я понемногу выискивала важные сообщения. На северном и северо-восточном фронтах дела у республиканцев неважные. Французов побили в Голландии, в войну против Франции вступил имперский сейм. Генерал Беррюйе, терпящий от вандейцев поражение за поражением, смещен и заменен Бироном. Можно не сомневаться, что Беррюйе ожидает гильотина.
И – самое главное… Конвент принял закон о мятежниках – суровый, решительный, жестокий, как того и следовало ожидать. «Всякий участник контрреволюционного мятежа, взятый с оружием в руках, в 24 часа передается в руки палача и будет предан смерти». За ношение белой роялистской кокарды – тоже смерть. Конвент выбрал тактику «выжженной земли»: мятежные деревни будут стерты с карты Франции, сожжены, уничтожены, все дома разрушены. Словом, принципом «Французский запад, либо республиканский, либо пустынный» пытались сломить, укротить непокорную Вандею.
Я прекрасно сознавала, что этот закон и меня касается. Правда, пока причин для беспокойства не было. Несмотря на отступление от Ле-Сабль-д'Олонна, вандейцы повсюду одерживали победы. Нигде им не оказывали ощутимого сопротивления, синие разбегались, едва завидев повстанческие отряды. Но от меня не ускользало и то, что вандейская армия разрозненна, ее раздирают противоречия. Крестьяне, уходя воевать, забирают с собой семьи, и, едва убедившись, что их деревня свободна от республиканцев, покидают армию и снова занимаются хлебопашеством. А у Республики и Конвента – железная рука. Да и разве можно представить это жалкое, полудикое, забитое воинство победоносно входящим в Париж?
Мы снова оказались в Машкульском лесу, в этом заповеднике чистых изумрудных вод, запахов хвои и плеска диких уток в тростнике. Сырой после продолжительных ливней, лес в начале апреля, когда установилась' жаркая, сухая погода, быстро прогрелся, и спать на мху стало совсем не холодно. Тепло было даже ночью, когда лунный свет лился прямо в озеро, разгоняя белый клубившийся туман и золотя верхушки ясеней. Весна оказалась ранней, бурной: к апрелю почти все деревья покрылись листьями, среди которых весело щебетали возвратившиеся с юга темно-бурые коноплянки, бледные зеленушки и лазоревки.
Все было бы хорошо, если бы не два обстоятельства… Я все так же была безнадежно далека от Жанно, и за моей спиной всегда чувствовалось тяжелое дыхание герцога де Кабри, служившего Шаретту с преданностью сторожевого пса.
О том, что мне предстоит сделать выбор, я упрямо старалась не думать.
5
Пальцами босой ноги я осторожно попробовала воду – теплая как парное молоко… Хотя, возможно, когда окажешься в озере по шею, будет вовсе не так тепло. Но сегодня день выдался такой душный и жаркий, что я готова была вытерпеть холод, лишь бы немного освежиться.
Как было бы хорошо вымыться – впервые за долгое время. Смыть с себя следы непрерывных походов, чтобы, наконец, кожа утратила запахи пороха и дыма. А еще – нарвать белых весенних кувшинок, прижать к груди что-то ароматное, красивое и нежное.
Кроме того, мне хотелось рассмотреть себя. Не слишком ли я изменилась за то время, как покинула Париж? Вот уже месяц я живу дикой бродячей жизнью. Одежда становится все шире, пояс затягивается на тонкой талии все туже. И как давно я не носила юбку.
Я оглянулась, сердито нахмурила брови.
– Эй, мой дорогой сторож! Я знаю, что вы мерзавец, но ведь я могу надеяться, что вы не станете подглядывать, как я купаюсь?
Герцог де Кабри, сидя в траве и держа наготове пистолет, злорадно ухмыльнулся.
– Увы, милочка! Вам придется купаться в моем присутствии. Я никуда не уйду отсюда. Мало ли что взбредет вам в голову.
Я качнула головой. К чему огорчаться? Мне заранее был известен его ответ. Ответ самодовольного злобствующего болвана.
– Ну что ж, – сказала я. – Тем хуже для вас.
Из-за этого ничтожества я вовсе не собиралась отказываться от купания. Напротив, пусть он почувствует, как мало стоит в моих глазах. Я разденусь в его присутствии – это подскажет ему, что он для меня и не мужчина вовсе, а просто сторож, пес, вещь.
Я сбросила куртку, затем безрукавку, пояс и сняла черные шершавые штаны, оставшись, таким образом, в одной рубашке. Каким облегчением было вынуть шпильки и распустить волосы… В одном из карманов у меня было зеркальце, подаренное Мьеттой: я положила его рядом с одеждой, решив посмотреться в него после купания. Ведь вполне может быть, если я взгляну в него сейчас, то останусь не очень довольна.
Я вошла в воду медленно, с некоторым страхом и вместе с тем с удовольствием. Так приятно было думать, что через несколько минут я буду чиста, как морская жемчужина. Да, как те жемчужины, за которыми ныряли рыбаки из нашей тосканской деревни.
Как ни странно, на меня нахлынули воспоминания. Полузабытые, отрывочные, невнятные, но такие радостные… Я как-то забыла, что на берегу сидит герцог де Кабри, что впереди у меня нет никакого выхода. Темная вода озера напоминала мне о тех днях, когда я с братьями резвилась на берегу морского залива, вздымая кучу брызг. Правда, там не было таких красивых кувшинок. Зато вода была гораздо теплее. На песчаный берег с шумом накатывались волны – до того прозрачные, что я различала камни и медуз на дне. А рядом под тремя остролистыми агавами шумел рыбный рынок, заманчиво пахли жареные креветки и тунцы. Луиджи ловко воровал их для меня. Где теперь мой милый Луиджи? Мне не хотелось думать о грустном.
Я вспоминала о мрачном, нелюдимом Антонио, который так и не ответил на мои письма; о мягком, уступчивом Джакомо, обремененном детьми и сварливой женой; о своем маленьком племяннике Ренцо, который так похож на Жанно, и с ужасом сознавала, как стала далека от этого. Сам Париж казался мне сном, а уж братья и подавно. Похоже, во всем мире есть только сырые леса, песчаные дюны и болота, на всем белом свете есть лишь Вандея, и из всех людских занятий осталась одна война. Я пыталась думать о Розарио, пыталась представить себе, каким он стал, насколько изменился, надев солдатскую форму и воюя за Республику, но тут же сама понимала надуманность этих мыслей. Разве до этого было сейчас, в глухом Машкульском лесу?
Дрожа от холода, я вышла из воды. Полотенца не было, пришлось обсыхать на солнце. Переминаясь с ноги на ногу, я взглянула на себя в зеркало. Да, следы встречи с виконтом де Маргаделем уже окончательно стерлись. Мокрые волосы кажутся более темными, чем есть на самом деле, но слегка преображают лицо: оно становится выразительнее, четче, ясно видны все его черты. Глаза кажутся более узкими, миндалевидными, совсем как у Мьетты. Только у нее они серые, а у меня темные, как агаты, с густо-черными зрачками.
Я легко провела пальцами по щеке, шее – кожа была гладкая, еще не опаленная солнцем и ветром; затем нащупала под рубашкой грудь – упругая, высокая, она натягивала ткань совсем по-девичьи. А чему же я удивляюсь? Мне ведь только-только исполнится двадцать три. Поэтому у меня такая тонкая гибкая талия, плавно переходящая в стройные бедра, длинные ноги, достойные сирены, округлые колени, тонкие щиколотки и изящные, безупречной формы маленькие ступни. И как бы ни старались обстоятельства, все это оставалось молодым, свежим, красивым. Даже в моих волосах не появилось ни единого седого волоска. Локоны все так же вились и оставались все такими же пышно-золотистыми.
Какой-то шорох раздался сзади. Либо это поднялся с земли мой сторож, либо подошел кто-то посторонний. Я поспешно натянула на еще влажную рубашку куртку и, не успев даже обуться, оглянулась. Возглас ужаса застрял у меня в горле. Я даже глазам своим не поверила. Передо мной был Шаретт, убийца Шаретт собственной персоной.
Он смотрел на меня с безумием сумасшедшего, в громадных черных глазах блестело странное исступление.
Я молчала, дав себе слово ни за что не заговорить первой. Мне было неизвестно, какие пути привели его сюда, зачем он забрел на берег тихого лесного озера. Я подозревала, что здесь, возможно, не обошлось без подлости де Кабри. Тем более что поблизости его не было видно. Он исчез, испарился, впервые за десять дней я не видела его рядом с собой.
Я молчала упрямо, как еретик перед судом инквизиции. Но ему, кажется, слова были не нужны. Глядя на меня взглядом слепого – таким же лихорадочным и неподвижным, – он сделал шаг ко мне. Я прижала руки к груди, не в силах разгадать его намерений, сознавая только, что они ничего хорошего не обещают. Для меня, по крайней мере. И тут Шаретт пошел ко мне, приблизился настолько стремительно и властно, что я не успела отшатнуться. Вернее, не смогла. Его лицо оказалось так близко от меня, и, когда я заглянула в него, меня охватил ужас. Ледяной ужас, сковавший все члены. Если этот человек прикоснется ко мне, я сойду с ума. Он безумен, жесток, отвратителен, я даже не знаю, чего он хочет, – унизить меня или убить.
– Не прикасайтесь ко мне, – прошептала я, уже сознавая, что мои слова ничего не изменят.
Его никто не в силах был остановить – ни я, ни вся Вселенная. Только на расстоянии я считала его ничтожеством. Вот так, вблизи, он внушал мне ужас.
Он с силой оторвал мои руки от груди, рванул мокрую рубашку. Его пальцы грубо вцепились в мои волосы так, что я не могла пошевелить головой. Шаретт повалил меня на землю, одним ударом колена разомкнул ноги. Я оказалась полностью открытой ему, беззащитной, беспомощной – самое ужасное положение для женщины, когда она знает, что с ней будут грубы и жестоки. Мужчины, подобные Шаретту, считают, что таким способом утверждают свое превосходство, но ведь это только иллюзия. Минута грубого скотского обладания дает лишь видимость превосходства, а на деле все остается так, как и раньше.
Но в тот миг я знала только то, что нет ничего отвратительнее моего положения. Когда он навалился на меня, проник внутрь – резко, разяще, как кинжал, я даже не успела осознать всю болезненность этого. Мгновенная, тяжелая, как свинец, ненависть всколыхнулась во мне, возрастая с каждым толчком, с каждым содроганием чужой мерзкой плоти у меня внутри, с каждой натужной гримасой на этом страшном лице. Надо ли говорить, что, кроме этого, я ничего не ощущала.
И когда он сжал челюсти, судорожно переживая наслаждение, я лишь силой подсознания удержалась, чтобы не плюнуть ему в лицо.
Шаретт заглядывал в мои глаза. Я прекрасно знала, что он хочет там увидеть. Смятение, испуг, на худой конец – покорность. Но я знала, какие у меня глаза в эту минуту – черные, как ночной мрак, огромные и ненавидящие. Его пальцы сжали мою шею, словно он намеревался меня задушить, потом разжались, и Шаретт, бессильно осыпая меня самыми грязными ругательствами, пошел прочь.
Он был безумен, без сомнения. Подумав об этом, я машинально стала одеваться. Руки у меня дрожали; я кусала губы, чтобы не закричать от ярости. Одевшись, я села на берегу, тупо уставившись в одну точку.
Этот ужас еще долго будет продолжаться, это точно. Если этот бандит, этот подонок, вдоволь поиздевавшись надо мной, все-таки даст мне возможность добраться до Жанно, я готова терпеть. Я буду терпеть до тех пор, пока хватит человеческого терпения. Ну а если у меня будет ребенок? От одной мысли об этом дрожь гадливости пробежала по спине.
Хотя, хотя вполне может быть, что все обойдется. Я попыталась трезво вспомнить свою жизнь после того, как на Королевской площади у меня случился выкидыш. Обстоятельства заставили меня продаваться. Был министр Дюпор и тюремщик Мишо. Были бурные ночи с Франсуа. Если припомнить, то был и тот безумный случай с Гийомом Брюном, от которого более всего следовало опасаться последствий. И, однако, я ни разу не забеременела. Видимо, что-то изменилось во мне после потери Луи Франсуа. А может быть, у меня уже никогда не будет детей. В этой мысли были и боль и облегчение одновременно. Если моя догадка верна, отвратительная связь с Шареттом еще не так страшна.
– Ну, как, вы довольны?
Рядом со мной, ухмыляясь, стоял герцог де Кабри. Мой взгляд медленно окинул коренастую фигуру этого человека, обтянутые гетрами толстые икры, грубые башмаки, выпирающее брюхо. Боже мой, и этот человек мог стать моим мужем!
– Говорят, наш генерал весьма любезен с женщинами. Но кто это наставил вам синяков, моя милейшая принцесса? На вас лица нет. Не смею поверить, что это близкое знакомство с Шареттом оказало на вас такое прискорбное воздействие.
Он говорил спокойно, но в голосе звучала ненависть. Как безжалостно война и Революция обнажили нутро каждого человека… И я вдруг содрогнулась от непреклонной мысли: я убью герцога. Да, непременно, когда-нибудь и где-нибудь. Убью, потому что не в силах сделать то же самое с графом де Шареттом.
6
В течение апреля и мая война в Вандее разгоралась, охватывая все большую и большую территорию. Неудача у Ле-Сабль-д'Олонна, казалось, только подстегнула отвагу защитников Бога и короля. После того как удалось разбить по частям четыре колонны республиканских войск, вся Вандея оказалась в руках восставших.
Воодушевляла их и славная победа у Сент-Эрмана, когда были наголову разгромлены регулярные войска – разгромлены недисциплинированным крестьянским воинством! Синие, то есть республиканцы, были приведены в панику, и напрасно командиры Гош и Карра призывали их к мужеству. Республиканские солдаты отошли к Фонтенэ и Ла-Рошели, забрав с собой пушки.
Звезда Шаретта сияла все ярче. Мне было непонятно, почему ему так везло. Я не замечала в нем ни хитрости, ни военного мастерства – ничего, кроме жестокости и безрассудства. Их он демонстрировал неустанно. Захватив в мае маленький городок Порник, он дошел до того, что приказал запереть жителей в домах и сжег их живьем, даже не разбираясь, республиканцы они или роялисты по убеждениям.
Главным и опасным соперником Шаретта, объектом его постоянной ненависти был республиканский генерал Лешель. Именно последний мешал полному воцарению Шаретта в области Маре. Но и тут богиня победы была на стороне вандейца. Спустя некоторое время после сожжения Порника Шаретт встретился с 26-тысячным отрядом Лешеля в ландах Круа-Батайль и разгромил его. Венцом этой победы была весть о том, что Лешель с горя покончил с собой.
В то время как слава Шаретта росла, я чувствовала, что мое терпение истощается.
Почти два месяца я жила с этим человеком, и уже весь отряд открыто величал меня «шлюхой Шаретта», хотя, надо сказать, я старалась как можно реже появляться там, где он останавливался ночевать, будь то дом или палатка. Впрочем, меня приводили к нему по первому требованию. И, главное, я не видела этому конца.
Он не был чрезмерно похотлив и ненасытен, кроме того, он имел еще нескольких женщин для удовлетворения своих прихотей. Он был просто мерзок и жесток, и каждая близость с ним была для меня пыткой. Ему доставляло удовольствие делать мне больно, унижать, издеваться, и он использовал для этого всевозможные способы, хотя каждая попытка завладеть мною целиком заканчивалась для него безуспешно. Он дарил мне золото, пытаясь убедиться, что я продажна, но я демонстративно отдавала все его подарки Мьетте. Он пытался своей жестокостью запугать меня, но с каждым разом я боялась его все меньше, а ненавидела все больше. Овладевая мною, почти насилуя меня, он хотел утвердить свою победу, но, как только его руки оставляли меня, я снова становилась свободна. Я никогда ни о чем с ним не разговаривала; он принимал это за высокомерие и таинственность, и именно эта тайна больше всего его бесила. Хотя тайны, по существу, не было.
Я смертельно устала от такой жизни, от присутствия герцога де Кабри. Мне нужно было поскорее вырваться. Я думала теперь только об этом.
25 мая вандейские военачальники соединились и взяли Фонтенэ-ле-Конт. В этот город понемногу съезжались белые генералы на Высший военный совет. Ожидалось объявление маленького Людовика XVII королем Франции. Шаретт надеялся, что на этом собрании получит чин генерал-лейтенанта королевских войск и Большой крест святого Людовика.
В Фонтенэ-ле-Конте Шаретт сделал своим жилищем бывший просторный дом республиканского прокурора, убежавшего вместе с синими. Мне отвели комнатку на втором этаже, недалеко от лестницы. В этот же вечер я впервые за много дней увидела Брике.
Он появился так же внезапно, как и исчез, и известил меня о своем появлении, бросив камешек в окно.
– Кажется, вы в почетном плену, мадам? – спросил он весело, прищуривая один глаз.
Я, конечно, обрадовалась его появлению, но настроение было такое мрачное, что я лишь невесело улыбнулась.
– Да, в почетном плену, Брике, который становится все менее почетным. Где ты был все эти недели?
По его виду можно было сказать, что жил он неплохо, был одет во все новое и даже засунул за пояс тяжелый пистолет.
– Я был во многих местах, мадам. Знаете, какая интересная штука эта война!
– Но ты же обещал служить мне, маленький обманщик!
– Потому-то и пришел, мадам. Вам нужна моя помощь?
Его легкомыслие и жизнерадостность были невыносимы.
Я гневно захлопнула окно.
Брике крикнул мне со двора:
– Я приду завтра вечером, мадам! Кто знает, может быть, вы что-то надумаете.
Я не обратила особого внимания на его слова.
7
Утро следующего дня началось как обычно. Я знала, что еще целую неделю Шаретт будет занят в Военном совете, и, таким образом, ему будет не до меня. Я хотела развеяться, выйти из мрачной комнатки, угнетающей меня уже тем, что я была под одной крышей с этим негодяем. Вода для умывания и завтрак на подносе стояли уже здесь – видимо, позаботилась Мьетта. Мне не хотелось есть, я с трудом заставила себя выпить чашку пенистого сидра. Потом быстро направилась к двери.
Для меня было неприятным сюрпризом обнаружить, что она заперта. Я толкнула ее сильнее, потом налегла всем телом, но результат был тот же – дверь не поддавалась. Видимо, меня заперли на замок. Уяснив это, я принялась что есть силы колотить в дверь.
Все напрасно. Ладони у меня заболели скорее, чем кто-то откликнулся на мой стук. Я бросила свое безуспешное занятие и подбежала к окну. Двор был пуст, если не считать солдата, дремлющего под кустами можжевельника.
Я в бешенстве швырнула в него песочными часами. Вандеец вскочил, озираясь по сторонам, и заметил в окне меня.
– Ты, видать, вконец рехнулась, женщина! Швыряться часами!
Он говорил на наречии Пуату, которое я с трудом разбирала.
– Ступай сюда и открой мою дверь! – приказала я по-французски. – Кто-то запер меня на замок, я не могу выйти.
Солдат уставился на меня в недоумении.
– Я? Чтобы я тебе открыл? Ну уж нет, этому не бывать.
– Почему же этому не бывать? Я хочу выйти отсюда!
– Хотеть можно чего угодно. Да только его светлость Шаретт приказал запереть вас. Никуда вам не выйти.
– Почему? – снова спросила я, уже догадываясь, что запертая дверь – это не просто недоразумение.
– А это мне неизвестно. Вот придет толстяк, который вас охраняет, от него-то вы все и узнаете.
– Куда же он пошел, этот толстяк?
– Не знаю. Может, отправился выпить стаканчик, а может, и в другое место.
Я была в ярости. Это уже слишком! Я и так была почти лишена свободы, а теперь, значит, меня будут запирать на замок. Но почему, черт побери? И почему так неожиданно, без всякого предупреждения? Боже мой, я ненавижу, ненавижу этого проклятого Шаретта больше всего на свете и, была бы рада, если бы кто-то всадил ему пулю в лоб!
Не владея собой, я швырнула за окно поднос с завтраком и все мелкие вещи, которые только были в комнате. После этого, утолив немного свой гнев, слегка успокоилась. Надо было сохранять трезвость ума и спокойно все обдумать, найти выход. Но как его найдешь, если дверь заперта, а под окном сидит солдат?
Весь день я просидела у окна, надеясь увидеть что-то такое, что принесет мне спасение. Все было тщетно. К вечеру двор счал наполняться людьми. Появились денщики Шаретта и кухарка, обслуживавшая всю эту ораву. Поужинав, денщики принялись пьянствовать, потом привели откуда-то девок и отплясывали с ними фарандолу под визгливые звуки скрипки. Я в бешенстве металась из угла в угол. Впервые мне хотелось, чтобы появился Шаретт. Мне хотелось узнать причину, побудившую запирать меня в комнате, как пленницу. Но Шаретт не появлялся. В Фонтенэ-ле-Конте проходил Высший военный совет, и, разумеется, он был там. Нет гарантии, что этот мерзавец придет ночью. Наверняка останется пировать с другими вандейскими военачальниками.
Уже совсем стемнело, когда я услышала на лестнице тяжелые шаги. Герцог де Кабри подошел к моей комнате и заглядывал в замочную скважину. Я отошла в сторону, чтобы он меня не заметил.
– Ну что, моя принцесса? Сбежать вам не удалось? Вы уже пришли в себя после изменения вашего положения?
– Принесите мне ужин! – грубо крикнула я, решив не вступать с ним в объяснения.
Хотя мне очень хотелось узнать, почему меня заперли, было выше моих сил спрашивать об этом у герцога. И выслушивать его тяжеловесные насмешки.
– Сию минуту, моя принцесса, – издевательски проговорил он.
Ужин мне принесла Мьетта. Герцог впустил ее в комнату, а потом снова запер дверь на замок. Мьетта быстро расставляла на столе ветчину с подливкой, яйца, картофельное пюре и кофейник.
– Зачем ты выбросила завтрак за окошко? – шепнула она. – Без еды все равно не обойдешься.
– Вот уж не ожидала, – сказала я, задыхаясь от гнева, – что и ты станешь моей тюремщицей. Такова твоя плата за мои подарки?
Мьетта строптиво повела плечами.
– Сюзанна, разве я могла отказаться? Мне приказали. Да я и не причиняю тебе вреда, я только приношу тебе поесть.
– Ты заодно с ними, и в этом весь вред!
– Я не заодно. Но не я командую Шареттом, а он мною.
Она оглянулась на дверь, а потом сделала мне знак, чтобы я ела. Рассерженная, я начала резать ножом ветчину. Мьетта наклонилась ко мне, ее губы почти коснулись моего уха.
– Знаешь, почему тебя заперли? Это все из-за Военного совета.
– Не понимаю, – произнесла я. – Совет был и вчера, однако вчера я могла ходить по городу.
– Я тоже не понимаю. Может быть, сегодня приехали такие люди, что Шаретту не выгодно, чтобы ты с ними встречалась?
Это объяснение показалось мне неправдоподобным.
– Ну и кто же сегодня приехал?
– Утром – Боншан, Буленвилье, Жоли. А еще ночью – Ларошжаклен и Тальмон…
Кусок застрял у меня в горле. Я медленно отложила вилку и пораженно смотрела на Мьетту.
– Кто, ты говоришь, приехал? Ну-ка, повтори последнее имя!
– Тальмон, – удивленно произнесла она.
– Принц де ла Тремуйль де Тальмон?
– Не знаю, принц или не принц. Он приехал из Шато-Гонтье.
Из Шато-Гонтье! Одного из наших замков! У меня перехватило дыхание.
– Боже мой, Мьетта, это же отец! Мой отец здесь.
Теперь мне стала очевидна вся подлость Шаретта. По-видимому, он и не думал выполнять свое обещание и помогать мне. Мой отец находится в Фонтенэ-ле-Конте, в одном городе со мной, и Шаретт запер меня, спрятал от его глаз! Ну и сволочь же этот Шаретт, ну и сукин сын!
Мьетта смотрела на меня с недоверием.
– Твой отец – принц?
– Ну еще бы! У меня первый муж был тоже принц, и я сама принцесса, хотя сейчас об этом не часто хочется вспоминать.
Я взглянула на Мьетту с решительностью, от которой она слегка попятилась.
– Я хочу убежать, Мьетта. Слушай, мне это совершенно необходимо. Если я упущу этот шанс, я буду последней дурой на свете.
Мьетта принялась лихорадочно собирать тарелки на поднос.
– Меня в это не вмешивайте, мадам. Мне жизнь еще дорога. Шаретт прикажет меня четвертовать, если я чем-то вам помогу. Или привяжет к лошади и пустит гулять по ландам.
Я схватила ее за руку. У Мьетты были недостатки – жадность и страсть к приключениям. Почему бы не сыграть на этом?
– Послушай, если ты поможешь мне, мой отец озолотит тебя. Я возьму тебя к себе, ты будешь жить как у Христа за пазухой. Намного лучше, чем здесь. Ну, что ты теряешь? В отряде Шаретта с тобой обращаются как с подстилкой. Не может быть, чтобы это тебе нравилось. И вовсе не обязательно, чтобы Шаретт тебя четвертовал. Мы будем в безопасности у моего отца. У тебя будут красивые платья, всякие золотые вещи – и все только за то, что ты поможешь мне!
– Нет, об этом и говорить не стоит, – твердила Мьетта, но я чувствовала, что упрямство ее тает. – Разве только.
– Что? – горячо спросила я.
– Вы подарите мне изумрудное колье? Я всю жизнь мечтала о нем. Как-то раз к Шаретту приезжала мадам де Ларошжаклен, у нее было такое ожерелье. Я думала, что сойду с ума от зависти.
– Черт побери, конечно, я подарю тебе это колье, только помоги мне!
Мьетта деловито блеснула серыми глазами.
– Ну и что нужно сделать?
Я поспешно сняла с шеи запаянную ампулу.
– Возьми. Это яд, цианистый калий. Герцог де Кабри, который сторожит за дверью, непременно попросит тебя принести ему вина. Ну а ты подсыпешь туда яду.
Мьетту волновала вовсе не моральная сторона вопроса.
– Ага, я подсыплю, а он как начнет вопить. Сбегутся все, кто есть в этом доме.
– Да нет же, дурочка! Он вздохнуть не успеет, подохнет сразу же. Туда этой свинье и дорога. Такой яд убивает мгновенно, я знаю…
Я вспомнила барона де Батца, который дал мне его. Все-таки нашелся случай, чтобы пустить ампулу в ход. Ей-богу, совесть меня не будет мучить.
– Но перед этим, Мьетта, тебе надо разыскать Брике. Ты знаешь его?
– Да. Такой худой хитрый мальчишка… Он бродил где-то поблизости.
– Он обещал появиться сегодня вечером. У него ловкие руки, пусть украдет лошадей. Одну для меня, другую для вас обоих. Я не собираюсь пешком метаться по Фонтенэ-ле-Конту, разыскивая отца.
Мьетта с суеверным страхом взяла в руки ампулу.
– Не бойся. Тебе яд не причинит вреда. Спрячь его за корсаж и отправляйся.
– А вы не забудете про ожерелье? – настороженно спросила она.
– Да не забуду, не забуду, ступай!
Она постучала в дверь. Герцог де Кабри подозрительным взглядом окинул комнату и только тогда дал Мьетте переступить порог. Она сделала шутливый реверанс, плутовски улыбаясь.
– Видит Бог, господин герцог, мне вас жалко. Вы все один да один. Может быть, принести вам стаканчик горячего вина из Бордери и ломтик сыра?
– Я сам хотел попросить тебя об этом.
Ключ со скрежетом повернулся в замке, и я снова осталась одна.
8
Начал накрапывать дождь. Я стояла, прижавшись лбом к стеклу, изо всех сил пытаясь умерить дрожь, пробегающую по телу. Напряжение было так велико, что я боялась, что могу чем-то выдать себя.
Капли дрожали на стекле и, сливаясь в струйки, сбегали вниз. Трепетали на ветру листья осин. Вместе с ночной темнотой на Фонтенэ-ле-Конт надвигалась свежая майская гроза. Пыль лежала на дороге, прибитая дождем, а еще несколько минут назад тучами носилась в воздухе, подгоняемая порывами ветра.
Какая-то тень мелькнула во дворе. Я напряженно вглядывалась в темноту, но все было тщетно. Оставалось надеяться, что тот темный силуэт принадлежал Мьетте. Я прислушалась. Так и есть – на лестнице раздались ее легкие быстрые шаги.
– Долго же ты ходила! – раздраженно бросил герцог, сидевший под дверью.
Я услышала, как Мьетта ставит на пол поднос с вином.
– Простите, господин герцог. Я так боюсь грозы, что едва решилась перебежать через двор. Вот, берите сыр. Это сыр бри, он остался еще от прежнего хозяина дома, прокурора.
После этих слов наступило молчание. Я представила себе все, что там происходило: искаженное ужасом лицо Мьетты, предсмертная гримаса на лице герцога… Раздался сильный стук, словно что-то упало, а потом хриплый стон. Даже не стон, а рычание.
Ключ повернулся в замке. Мьетта стояла на пороге, делая мне знаки.
– Все кончено. Скорее!
Я переступила через труп. На лице герцога застыла такая странная гримаса, что я невольно вздрогнула. Ведь это я убила его. Я уже дважды убийца. Но думать об этом, как всегда, было некогда. Я преодолела страх, наклонилась к герцогу и выдернула у него из-за пояса пистолет.
– А теперь идем. Нам надо спешить.
– Все уже спят, – прошептала Мьетта, когда мы спускались по лестнице. – Мальчишка ждет нас за воротами…
– А солдат? Тот, который был во дворе?
– Кто же будет во дворе в такой дождь?
Я остановилась перед дверью, осторожно выглянула во двор. Из-за дождя ничего нельзя было разглядеть.
– А собаки – они не будут лаять?
Мьетта пожала плечами.
– Не знаю. Я думаю, со мной они уже знакомы.
Взявшись за руки, мы опрометью пересекли двор. Я была в одном платье и вымокла так, что оно прилипло к телу. Мьетта живо проскользнула в калитку. Я последовала за ней и оказалась лицом к лицу с Брике, держащим под уздцы двух лошадей. Решительно, он незаменим, этот Брике… Едва успев подумать об этом, я вскочила в седло и что было силы погнала лошадь прочь от дома. Юбки у меня задрались до колен, и я только потом обнаружила, что потеряла одну туфлю.
Я мчалась по улице верхом на лошади, сама не понимая куда. Дождь, теплый майский дождь струями омывал меня, забирался под платье, щекотал ключицы. Прическа моя уже давно развалилась, и мокрые волосы прилипли к спине. Я давно не помнила такого бурного теплого ливня. Может, поэтому я слегка забылась.
Оказавшись на площади перед Отель де Виль,[3] я резко осадила лошадь.
– Брике!
– Я здесь, мадам, за вашей спиной.
– Я это слышу. Мне надо знать, где заседает Совет.
– И вы еще спрашиваете? Мы уже приехали.
– Ты хочешь сказать, что Совет заседает в ратуше?
Я спешилась, схватила лошадь под уздцы. Площадь не была вымощена камнем, и моя босая нога утонула в грязи. Камешки больно покалывали ступню. И как меня угораздило потерять туфельку.
Я шла прямо к ратуше. Окна там были ярко освещены. Конечно, Военный совет вандейских генералов может проходить только там. К тому же я заметила над ратушей знамя. Оно было мокрое, обвисшее, но я видела, что его цвет – белый, да еще с золотыми королевскими лилиями, стало быть, в ратуше заседают роялисты.
– Эй, там, с лошадью! Стой, а то стрелять буду.
После этих слов я услышала громкое щелканье затвора.
Я остановилась. Голос донесся из темноты. Чуть позже я разглядела темный мундир с вышитым белым крестом – знаком повстанцев. На моем платье был совсем другой знак – красное сердце Иисуса, но это тоже считалось роялистским отличием.
– Назови пароль!
– Я… я не знаю, – произнесла я прерывающимся голосом. – Послушайте, сударь! Я такая же роялистка, как и вы, но я не знаю пароля. Мне необходимо видеть принца де Тальмона.
Я интуитивно догадывалась, что передо мной не простой крестьянин, а офицер, значит, дворянин, и, кажется, моя догадка была верна.
– Боже, да это же женщина, – произнес офицер, подходя поближе.
– Ну-ка, стойте, не шевелитесь, а то я пристрелю вас! Я стояла спокойно, пока он обыскивал меня.
– Зачем у вас пистолет? И к чему пистолет, если нет ни пуль, ни пороха?
Он был прав. Я только теперь вспомнила, что, забрав у герцога пистолет, забыла обо всем остальном.
– Но, сударь, ведь это только доказывает, что у меня не было дурных намерений.
– Это верно.
Он свистнул, подзывая каких-то солдат.
– Ну и кого же вы хотите видеть?
– Принца де Тальмона.
– Зачем?
– У меня есть сообщение, да-да, очень важное сообщение, сударь! Принц здесь, не так ли?
– Не знаю. Я служу генералу Стоффле, другие военачальники меня не интересуют.
– Но ведь вы сможете проводить меня к принцу, не правда ли, сударь?
Я говорила умоляюще и выглядела такой беспомощной. К тому же офицер был намного выше меня ростом. Я видела, что он не прочь помочь мне.
– Хорошо. Солдаты, постерегите этого мальчишку и женщину! – скомандовал он, имея в виду Брике и Мьетту. – А вы, сударыня, следуйте за мной.
Я повиновалась. Мы вошли под низкие каменные своды ратуши, углубились в какой-то темный коридор. Я видела свет, пробивающийся из-за одной из дверей. К этой двери и подвел меня офицер.
– Имейте в виду, – предупредил он, – что если вы обманули меня и явились с каким-то пустяком, здесь найдется виселица даже для женщин.
– Это будет решать только человек, к которому я пришла, сударь.
Офицер отстранил часового и, распахнув дверь, втолкнул меня внутрь.
– Прошу прощения, господа! – произнес он, отдавая честь. – Эта дама говорит, что должна передать какое-то важное сообщение, и просит о встрече с его сиятельством принцем де Тальмоном.
Ослепленная светом люстры, я слышала, как смолкли голоса присутствующих. В большом зале в два ряда стояли столы, заваленные бумагами. За столами сидели генералы – вандейские военачальники – и внимательно смотрели на меня.
Дрожа от волнения, я обвела их глазами. Где же мой отец? Вопреки ожиданиям, никто не бросался мне навстречу. Тогда я принялась по очереди смотреть на каждого. Первый, пятый, десятый… И тут – о ужас! – я осознала, что среди них нет моего отца.
Я поняла это еще раньше, чем закончила осмотр. Поняла и увидела, как из-за стола поднимается мой самый страшный враг – граф де Шаретт де ла Контри – побагровевший, дрожащий от бешенства.
9
– Господа! – произнес он, указывая на меня пальцем. – Это измена! Страшная, коварная измена! Я знаю эту женщину. Она – республиканская шпионка!
Я – шпионка! Мне захотелось зажать уши. Будет ли конец подлости этого человека?
– Вы негодяй! – крикнула я в свою очередь. – Вы заперли меня на замок, вы, аристократ, посмели захватить в плен меня, аристократку, и теперь еще заявляете, что я шпионка! Вам нет названия, господин Подлец!
Я обратилась к остальным генералам, умоляя о защите.
– Господа, я не шпионка. Я дочь принца де ла Тремуйля де Тальмона, и я никогда не была республиканкой! Я даже пыталась помочь королеве бежать. И теперь я хочу встретиться с моим отцом, с человеком, который вместе с вами сражается за Бога и короля.
Еще не договорив, я поняла, что мне не верят. У меня не было доказательств. Ах, вот бы сюда кольцо с прядью волос Марии Антуанетты! Или хотя бы ее письмо. Но у меня ничего не было, и кольцо забрали бандиты виконта де Маргаделя. А Шаретт, яростно размахивая кулаками, кричал:
– Это шпионка, господа! Я дают вам слово! Кому вы верите – ей или мне, генерал-лейтенанту королевских войск?
Я зажмурилась. Ни в одном из вождей повстанцев я не видела сочувствия. Поднялся ужасный шум. Те, кто были одеты по-крестьянски, без долгих разговоров сразу предлагали меня расстрелять. Другие склонялись к тому, чтобы вернуть меня Шаретту, – ведь это он первый меня разоблачил…
– Что здесь происходит? – раздался среди шума очень громкий твердый голос.
Я машинально обернулась и увидела…
Я увидела маркиза де Лескюра! Господи Иисусе! Сначала я не поверила собственным глазам. Потом мне захотелось броситься ему на шею.
– Мадам?! – пораженно произнес он.
Я сбивчиво стала объяснять ему ситуацию. Он все понял с первых двух слов и с яростью уставился на Шаретта.
– Ах, так это вы, милостивый государь, утверждаете, что эта дама – республиканская шпионка?
Он говорил так твердо, так решительно, он казался мне таким благородным и надежным защитником, что я вцепилась в его рукав, дав себе слово ни в коем случае его не отпускать.
– Господа, я бы простил Шаретту его ошибку, если бы он искренне заблуждался. Но это оговор, господа. Граф нарочно пытался опорочить принцессу де Тальмон, и ему не должно быть места среди аристократов! Я клянусь всеми святыми, что эта женщина – не шпионка. Она действительно пришла к своему отцу, и я не вижу в этом ничего преступного. Более того, мы, как аристократы, должны помогать ей. Мадам де Тальмон еще задолго до начала нашей священной войны была доверенным лицом королевы, она рисковала жизнью ради нашего правого дела, и мне очень стыдно, что вы выказали ей недоверие!
Я видела, очень ясно видела, что Лескюру генералы верят охотнее, чем Шаретту. У маркиза, наверное, была более чистая репутация. Он раскланялся со своими слушателями и, повернувшись к Шаретту, на глазах у всех швырнул свою перчатку ему в лицо.
– Получите, сударь! Если у вас хватит смелости потребовать сдачи, я всегда буду к вашим услугам.
С этими словами он взял меня за руку и повел по коридору.
Я шла за ним очень покорно, ошеломленная всем происшедшим и не в силах высказать ту благодарность, которую чувствовала к нему. Я до сих пор еще не верила, что все кончилось. Капли дождя упали на мои волосы, скатились на щеку. Я нетерпеливо смахнула их.
– Что с вами, мадам? – спросил он мягко.
Ах, зачем его голос звучал так доброжелательно! Со мной очень давно никто так не обращался. Не выдержав, я уткнулась лицом ему в грудь и расплакалась. От его шершавого мундира, пахнущего конской сбруей и порохом, исходил еще какой-то запах. Может быть, аромат благородства?
– Вы не понимаете, что вы для меня сделали. Я была на волосок от смерти. Вы один захотели меня спасти, только вы один.
– Я сделал то, что когда-то сделали вы, мадам. Разве я могу забыть тюрьму Ла Форс и ту цену, которую вы заплатили за бутылку спирта?
Я замерла в его объятиях. Он крепче привлек меня к себе, ласково погладил влажные волосы.
– Откуда вы узнали об этом, маркиз?
– Но ведь я не слепой. Я проклинал себя, что из-за меня вы так унизились. Впрочем, разве можно вас унизить? Вы выше самой Марии Стюарт. Вы святая.
– О нет, я просто женщина.
Он вытирал слезы, катившиеся по моим щекам. Я, наверно, неважно выглядела в ту минуту, но не страдала от этого. Я чувствовала, что этот мужчина питает ко мне нежные чувства, какой бы я ни была.
– Тогда, в доме Тристана Отшельника, мне надо было взять вас с собой, мадам. Что с вами случилось, как вы оказались у этого мерзкого Шаретта?
Я всхлипнула.
– Послушайте, маркиз, я еще не готова все вам рассказать. Да и вспоминать мне не хочется. Я так счастлива, что нахожусь рядом с вами.
– Судьба все время сводит нас, мадам. Это хорошо, не так ли?
– Хорошо, но не называйте меня мадам. Помните, в Ла Форс вы называли меня Сюзанной? Это звучит гораздо лучше. А как зовут вас?
– Меня называют маркиз де Лескюр.
– Вы хотите сказать, что у вас нет имени?
Он улыбнулся.
– Луи-Мари, Сюзанна.
– Будем знакомы, Луи-Мари. Надеюсь, вы отвезете меня к отцу? Ни за что не поверю, что вам не известно, где он находится.
Лескюр взял меня за руку и повел к лошадям.
– Мы поедем к вашему отцу вместе, Сюзанна. Я буду сопровождать вас, пока не передам в его руки. Никогда не прощу себе, что тогда оставил вас одну.
Да, мое положение изменилось, я это сразу почувствовала. Вандеец помог мне вскочить в седло, а затем заботливо накинул на плечи легкий плащ, защищающий от дождя. Было странно видеть чью-то заботу. Я давно привыкла заботиться о себе сама. А теперь даже Мьетта, осознав, что я приобрела новый статус, протянула мне несколько своих шпилек, чтобы я могла собрать распустившиеся волосы.
– Куда мы едем? – осведомилась я. – И почему отца не оказалось на совете?
– Он рассорился со всеми, Сюзанна, и отныне будет действовать в одиночку. Впрочем, как и я. Вам известно, что мы с вашим отцом почти соседи по войне? Наши области находятся совсем рядом. Только сейчас принц де Тальмон отправился не в Шато-Гонтье и не в Иль-и-Вилэн.
– А куда же?
– В Англию. Он отплывает из Ла-Рошели за оружием. Если мы пришпорим лошадей, то, может быть, нагоним его в Баньярском лесу.
Только когда мы оставили Фонтенэ-ле-Конт и я, оглянувшись, увидела, что нас сопровождает большой вооруженный отряд, я, наконец, уверовала в то, что выскользнула из рук графа де Шаретта.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ
1
Пока мы мчались на лошадях по дороге, а потом через лес, я, разумеется, ничего не могла рассказать Лескюру о том, что со мной произошло. Впрочем, я еще не была готова к этому. Меня охватило странное упоение, вызванное тем, что я стала свободна. Каким сплошным кошмаром были те дни у Шаретта. И, подумать только, я сама разыскивала его, сама шла в ловушку. Никогда в жизни больше не допущу подобной глупости. Я буду доверять только нескольким людям – Рене Клавьеру, отцу, Маргарите и… и, пожалуй, Луи-Мари де Лескюру.
Интересно, он все еще женат? Не знаю, почему мне хотелось это узнать. Хотелось, и все. Может быть, потому что я уже несколько раз слышала в его голосе отнюдь не братские нотки. Но, возможно, я ошибалась. Мужчины такие странные, я никогда не научусь понимать их, хоть сколько их у меня будет. К тому же есть на свете Рене Клавьер, сильный белокурый красавец с серыми глазами и насмешливой улыбкой в уголках губ. Его лицо я помнила очень ясно. Помнила, как неожиданно и безоглядно возникло у меня в душе горячее и нежное чувство. Но уже давно все было разбито. Он в тюрьме, я – в Вандее. До любви ли сейчас?
Я научилась разом выбрасывать из головы подобные мысли. Вокруг свежей майской зеленью благоухали травы, дурманяще неистовствовала весна. Как же мне хотелось быть счастливой!.. Я подставила лицо легкому ветру. Ночной мрак не казался мне страшным или Таинственным. Я же была с другом, с маркизом де Лескюром.
Когда начал заниматься рассвет, мы миновали Баньярский лес, где был небольшой лагерь Лескюра, но не обнаружили даже следов моего отца.
– Зачем так тщательно скрываться? – удрученно спросила я, когда мы остановились на несколько минут отдохнуть. – Синих нигде нет на добрых двадцать лье в округе.
– Кто знает? Миссия вашего отца очень важна. Ею могли заинтересоваться республиканские шпионы, и когда ваш отец вернулся бы из Англии с грузом оружия, его поджидали бы на берегу синие. Но я даю вам слово, что мы нагоним его. Мне кое-что известно об его маршруте.
Свой отряд Лескюр оставил в лагере. И снова дорога летела под копытами, ветер свистел в ушах, что-то победно выкрикивал сзади Брике.
Я понятия не имела, куда мы направляемся, а только послушно следовала за своим проводником. К полудню мне стало казаться, что меня исхлестали кнутами, – настолько утомительной была скачка. Я почти перестала чувствовать свое тело и умоляла Лескюра передохнуть. Несмотря на то, что я хорошо сидела в седле, мне было далеко до солдатской выносливости.
Мы остановились в три часа пополудни в небольшой таверне «Под знаком креста» – название довольно странное для революционных времен. Там нам подали обед из капустного супа с салом, жареной рыбы со специями и сливочным маслом, яблочного пирога и салата. По совету маркиза я снова переоделась в мужскую одежду – голубую рубашку, темные штаны с широким поясом и высокие сапоги. К моему удивлению, на новой одежде была пришита трехцветная республиканская кокарда.
– Мы въезжаем в край, где господствует Республика, – пояснил маркиз.
– Будем возле Ла-Рошели, там преобладают синие, лучше, если мы спрячем на время свои роялистские отличия.
Мне позволили отдохнуть ровно полчаса. После этого, нахлобучив на голову широкополую шляпу, я снова вскочила в седло и понеслась вслед за маркизом по неровной дороге.
К вечеру в воздухе запахло йодом и водорослями, и Брике, приподнявшись в стременах, изумленно закричал:
– Море!
Я тоже видела серо-голубую кромку моря или, вернее, океана. Мы скакали теперь среди песков и кустов тамариска. Еще несколько минут – и мы на самом берегу. Дорога вилась среди береговых скал, по краям ее торчали солончаковые растения. Мы следовали по изрезанной линии побережья с множеством бухт и затонов, зубчатых выступов и остроконечных мысов. Пищали птицы в зарослях тростника. Приподнявшись в седле, я увидела дамбу Ришелье, обросшую ракушками, полуразбитую ударами волн, а вдалеке на фоне неба выступали ажурные колокольни и руины полуснесенных укреплений, разрушенных Ришелье в 1628 году.
– Видите те острова? Это Олерон и Ре. Нам надо туда. Мы проскакали мимо мест, где добывали соль.
Мощный вал разбивался о подножие стен могучей Ла-Рошели, но мы не заезжали туда. Скоро должен был начаться прилив, но еще можно было видеть россыпи огромных камней, покрытых водорослями, и норки с чистой водой, где прятались крабы. После того как мы миновали деревню Жуве, побережье стало совсем безлюдным.
– Можно узнать, что вы намереваетесь делать? – крикнула я.
– Сначала доехать до деревни Ла-Паллис. Там мы бросим лошадей и сядем в лодку.
Из этих слов я могла сделать вывод, что нам придется плыть, и нельзя сказать, что мне это понравилось. До сих пор, по прошествии нескольких лет, я помнила морскую болезнь, терзавшую меня на пути в Вест-Индию и обратно.
– Мы отправимся на остров Ре, – словно угадав мои мысли, сказал маркиз, – это недалеко, всего два часа на лодке.
Он осадил свою лошадь и соскочил на землю. Последовав его примеру, я заметила на пустынном берегу маленький рыбацкий домик. В окне мигал небольшой огонек. Ветер был сильный, и волны яростно хлестали о берег.
Я пошла вслед за маркизом, оставив лошадей на попечение Брике.
Лескюр громко стучал по оконному стеклу:
– Бужардон! Эй, Бужардон!
Дверь отворилась, и на пороге выросла мощная фигура шести футов росту с фонарем в руке.
– Ну?
– Нам нужно на остров Ре, Бужардон.
Незнакомец пристально вглядывался в лицо маркиза. У Бужардона был огромный орлиный нос, грязные черные волосы, падающие на глаза, загорелая выдубленная кожа пирата.
– Да неужто это вы, святой Лескюр? Э-э, я узнаю вас. Он пропустил нас в дом.
– Вы наверняка умираете с голоду. Эй, девочка, пошарь-ка в печке, там должно что-то быть! – обратился он ко мне.
Я вправду была голодна, и охотно заглянула в печку. Там был котелок с вареными земляными грушами – я, Брике и Мьетта сразу же принялись за это незнакомое лакомство. Маркиз от еды отказался.
– Не хотелось бы выходить в море в такую погоду! – произнес Бужардон. – Может, вы обождете до завтра?
Маркиз тихо ответил, что ждать мы не можем, так как должны непременно догнать на Ре принца де Тальмона.
– Он был здесь утром, – сказал Бужардон. – Да, если вы гонитесь за ним, вам надо бы поспешить. Только вот что мне не нравится. После его отъезда вокруг моего дома рыщут синие.
– Давно ли они были в последний раз? – спросил маркиз.
– Часа три назад. Того гляди, снова появятся. Советую вам не прятать далеко свои пистолеты…
Сам Бужардон снял со стены ружье, кряхтя, зарядил его и, распахнув дверь, осторожно выглянул из избушки. Ветер ворвался в домик, отчаянно заплясало пламя маленькой лампы.
– Ну, идемте, что ли. Вроде никого вокруг нет.
Мы успели дойти только до песчаной дюны, как рыбак настороженно остановился и прислушался. Мне тоже показалось, что я слышу ржание лошадей, но ветер был так силен, что я не была уверена, не галлюцинации ли это.
– Чертовы пески, они позволяют синим приблизиться к самому нашему носу, а мы ничего не заметим! – произнес Бужардон, добавляя к своей речи весьма непристойную брань.
Пески, ветер и темнота действительно лишали нас любой возможности что-то рассмотреть. В то же время над морем взошла луна, и ее желтый свет лился прямо на нас.
– Синие! – взревел Бужардон. – Я слышу, как позванивают уздечки! Ну-ка, к лодке, живо!
Я схватила Мьетту за руку и стремглав помчалась к берегу, где была привязана лодка. Ноги по колено тонули в зыбучем песке, ветер затруднял путь, от шума волн звенело в ушах. Я заблаговременно отвязала лодку и крепко сжимала теперь веревку в руках, пока там, за дюной, разыгрывалась весьма неблагоприятная для нас сцена.
– Именем Республики приказываем вам остановиться!
Вместо ответа Бужардон и Лескюр без долгих разговоров пальнули по всадникам из пистолетов.
– Ах ты, Бужардон, роялистский ублюдок! Сейчас ты получишь нашу республиканскую сливу!
Громыхнуло три или четыре выстрела со стороны синих, и в короткой вспышке, осветившей берег, я увидела худую фигурку Брике; отчаянно бегущего к нам. Дыхание у меня перехватило. Где, черт побери, до сих пор бродил этот сорванец?
Эта мысль вихрем пронеслась в моей голове. В следующее мгновение, когда небо рассекла молния, я увидела, что Брике ничком лежит на песке.
– Пресвятая дева, он, кажется, убит!
Разъяренно вырвавшись из рук Мьетты, пытавшейся меня удержать, я, не помня себя, бросилась по песку к мальчишке. Милый, насмешливый Брике, ведь это я вовлекла его в авантюру!.. Две или три пули просвистели в непосредственной близости от меня; испугавшись, я упала на песок и уже ползком достигла Брике. Обхватив обеими руками его голову, я попыталась его приподнять. Он не лежал бесчувственно. Его веки дрогнули, и он взглянул на меня.
– Брике, ради всего святого, скажи, куда тебя ранили?
Он со стоном схватился рукой за бок. Пуля попала чуть-чуть выше бедра, и я не знала, задета кость или нет.
– Послушай меня, Брике. Обхватишь меня руками за шею, и все, больше от тебя ничего не требуется. Я дотяну тебя до лодки.
– Мадам, я не умру?
– Что за чепуху ты говоришь! Конечно нет!
Он сделал все так, как я сказала, и даже пытался помогать мне здоровой ногой, хотя и постанывал при каждом движении. Передвигаясь с Брике со скоростью черепахи, я лихорадочно поглядывала в ту сторону, где шел бой. Как я теперь сообразила, синих было трое. Двоих Лескюр с Бужардоном ранили или убили, третий что было силы скакал прочь.
– Успокойся, мой милый, вот увидишь, все будет хорошо.
Я на мгновение оставила Брике и, стоя на коленях, яростно замахала рукой, облепленной песком:
– Сюда! Сюда!
Через минуту мужчины были рядом. Быстро выяснив, в чем дело, они подхватили Брике на руки и побежали к лодке.
– Быстрее, черт побери! – командовал Бужардон. – Через пять минут тут будет целый отряд республиканцев!
Он не выглядел удрученным, скорее, радостным и возбужденным. Почему Бужардон помогает нам? Неужели из-за такой преданности белому делу? В том, что он связан с повстанцами и, возможно, помогает выгружать во Франции английское оружие, я не сомневалась.
– Боже, но ведь на море такой шторм! – вскричала испуганная Мьетта.
– Замолчи, женщина! До острова Ре рукой подать.
Лодка угрожающе закачалась, когда в нее уселось столько народу, и зачерпнула одним бортом воду. Лескюр схватил весла. Я держала на коленях Брике, которому сильная качка доставляла немало страданий. Еще миг – и мы были в двадцати шагах от берега.
Боже, как качает! Меня то и дело обдавали холодные брызги. Волны захлестывали лодку, от соленой воды волосы у меня неприятно слиплись. Мьетта, вооружившись ковшиком, вычерпывала воду, оказавшуюся на дне. Я машинально подумала, что от нее всегда есть толк.
Раздались выстрелы. Я увидела на берегу человек двадцать синих и по достоинству оценила ту поспешность, с которой мы вышли в море.
– Они все еще могут перестрелять нас, – сквозь зубы процедил Лескюр.
– Ну-ка, женщины! Всем лечь на дно и затаиться!
– Мы спасемся, мадам? – прошептал Брике.
– Ну разумеется, мой мальчик, спасемся!
И тут произошло нечто непредвиденное. Бужардон поднялся и, кряхтя, выпрямился во весь свой огромный рост. Лунный свет лился с неба прямо на него, и Бужардон был такой мишенью для пуль, о какой синие и мечтать не могли.
– Вы сошли с ума! – прошептала я, дергая его за рукав.
Он отмахнулся от меня, и над волнующимся морем загремел его мощный голос:
– Ах вы, республиканские сволочи, видите, какой я? Никола Гюстав Бужардон. Вы думаете, я боюсь ваших ружей, ваших пуль, ваших трибуналов? Да я чихать хотел на ваш Конвент, а вас, там, на берегу, я ненавижу. Я привез во Францию тысячи английских ружей, вот я каков! Я – белый! Да, паршивые граждане республиканцы, убившие христианнейшего короля! Вот вам привет от настоящего француза! Слава Марии Антуанетте! Слава Людовику XVII! За Бога и ко…
Пуля прервала его речь. Умолкнув, словно онемев от удивления, Бужардон взмахнул могучими руками и упал за борт. Тело его тотчас поглотили волны.
Наша лодка, сильно качнувшаяся от его падения и подхваченная попутной волной, в одно мгновение оказалась далеко от того места, где упал Бужардон, и неслась все дальше и дальше. Я заметила, что пули уже не достигают нас и бесцельно падают в воду. Вскоре не стало видно даже вспышек ружей на берегу.
– Старина Бужардон… – произнес маркиз.
– Вот уж глупо кончил, – сказала Мьетта.
Да, конечно, подумала я. Поступок совершенно бессмысленный. Но все же, все же он выглядел настоящим героем, этот Никола Гюстав Бужардон, баскский рыбак из Ла-Паллис. И как ошеломлены мы были его порывом!
Я велела Мьетте снять нижнюю юбку и разорвать ее на узкие полоски. Так мы и перебинтовали Брике. Рана, по всей видимости, не была тяжелой, но он потерял много крови и поэтому забылся тяжелым сном. Я укрыла его кожаной курткой Лескюра, чтобы мальчику не очень досаждали соленые брызги. Сами мы были мокрыми с головы до ног уже через десять минут после выхода в море.
– Только бы за нами не выслали погоню, – сказал маркиз, – и не перехватили бы нас суда береговой охраны.
– Нет, – сказала Мьетта.
– Я бывала в этих местах. Такие лодочки, как наша, никогда не задерживают. Мы же похожи на простых бедных рыбаков.
Она была права. Дважды неподалеку от нас маячили очертания кораблей, но никто и не подумал нас останавливать. На кораблях наверняка все спали. Спустя два часа мы благополучно прибыли в Сен-Мартен, столицу острова Ре, и причалили к небольшой бухточке.
Мы с Мьеттой перетащили Брике на мотки канатов, сваленные среди понтонов, и упали рядом с ним, переводя дыхание. Я исчерпала почти все свои силы. Кожа была, кажется, насквозь пропитана солью, губы обветрились, на мокрые, истрепанные ветром волосы налип песок.
– Надеюсь, нам уже никуда не придется ехать и плыть? – прошептала я, когда маркиз, управившись с лодкой, подошел к нам.
– Успокойтесь, мы уже на месте.
Он протянул руку, помогая подняться. Я насилу встала на ноги.
– А что делать с мальчиком? Я не могу оставить его здесь.
– Но и тащить за собой тоже не можете. Послушайте, Сюзанна, – сказал он, наклоняясь ко мне, – ваш отец пробудет на острове до утра; на рассвете принца и его людей заберет голландский бриг. Сейчас ваш отец находится в гостинице, принадлежащей верному человеку. Я знаю, как найти его. Если мы оставим вашу служанку и мальчика здесь, то не позже чем через полчаса его заберет какой-нибудь верный принцу человек. Вы понимаете?
– Но, может быть, Брике нужна неотложная помощь, – сказала я.
– Мы все равно не можем ее оказать. К тому же мальчишка спит, и кровотечение у него остановилось.
Я повернулась к Мьетте и чеканным тоном произнесла:
– Ты головой отвечаешь за Брике, подруга. Понятно? Никаких приключений, заигрываний с матросами и воровства – ничего, на что ты способна! И ни на шаг не отходи от мальчика… Мы пришлем за вами человека.
Маркиз взял меня за руку так же твердо, как я перед этим приказывала Мьетте, повел вдоль гавани, умело обходя бесчисленные якорные цепи, сети, тюки и пустые бочки.
Десять минут спустя мы подошли к гостинице, название которой, выцветшее и полустертое, невозможно было разобрать ночью. Громкий лай собаки остановил нас, когда Лескюр осторожно дернул калитку.
– Не из трибунала ли вы, гражданин? – громко крикнул хозяин.
К моему удивлению, Лескюр незамедлительно воскликнул в ответ:
– Из самого наблюдательного комитета Революции, гражданин трактирщик!
Я поняла, что это, вероятно, пароль. Пароль, внешне очень революционный и республиканский, ведь Ла-Рошель и ее окрестности, включая и остров Ре, находятся под властью Конвента.
Хозяин гостиницы, услышав ответ Лескюра, преобразился на глазах. Отбросив в сторону ружье, он с распростертыми объятиями пошел навстречу маркизу.
– Святой Боже, господин де Лескюр, вы ли это? И неужели с недобрыми известиями?
– Нет, известия добрые, и принц им будет очень рад.
Он осторожно подтолкнул меня вперед.
– Что же вы стоите, Сюзанна? Разве вы не видите?
Я видела на крыльце человека, с виду очень настороженного, с пистолетом в руке, на которого то и дело оглядывался хозяин гостиницы. Это был мой отец.
И я тотчас забыла все, что нас разделяло, – долгие годы непонимания, холодности, равнодушия и даже откровенной ненависти, что тоже случалось. Это был человек, связанный со мной самыми близкими родственными узами, давший мне все то, что я имела, – происхождение, богатство, жизнь в Версале; человек, который даже из-за границы постоянно пытался заботиться обо мне и разыскивал меня, сейчас, вероятно, считая погибшей. Нас так много связывало… Я молча обняла его и приняла объятие, вздрагивая от беззвучных рыданий.
Это был мой отец, и он сразу узнал меня.
И тогда я прошептала в перерыве между двумя всхлипами:
– Прикажите послать человека в бухту. Там Мьетта и раненый мальчик, Брике… Их нужно непременно забрать.
2
Прошло немало времени, пока мы оба успокоились. Тихо потрескивал фитиль в масляной лампе, заливавшей комнату тусклым желтоватым светом. Я пила горячее вино, чтобы отогреться, и рассказывала отцу о том, что произошло со мной за последние два года, – ведь именно столько времени мы не виделись. Рассказывала, разумеется, основательно смягчая или вовсе умалчивая о некоторых моментах, поведать о которых было слишком унизительно.
Внешне отец не обнаруживал сильных признаков волнения. Внимательно слушая, он расхаживал по комнате – по-прежнему высокий, сильный и уверенный в себе. Его, казалось, ничто не могло сокрушить; со времени нашего последнего свидания в Вене он нисколько не изменился. Сейчас он был без камзола, в шелковой рубашке, голубом пикейном жилете, светлых штанах и высоких охотничьих сапогах. Словом, ничто в его облике не выдавало предводителя роялистских мятежников. Таким же он был в Версале. Он и вел себя по-прежнему – без сентиментальности, без надрыва и крайнего волнения, которое могла вызвать наша встреча. Правда, когда он снял парик, я увидела, что его волосы, раньше белокурые, как и у меня, стали совсем серебряными.
– Вот и все, – сказала я. – Таким образом я здесь оказалась. Отныне господин де Лескюр – мой самый близкий друг.
– И мой тоже.
Он присел к столу, порывисто взял мои руки в свои.
– Знаете ли вы, что еще в сентябре прошлого года я вас похоронил? Что в Вене в соборе Сан-Стефано уже дважды служились по вас заупокойные мессы?
Я смотрела на него изумленно.
– Ну да, я понимаю, что от меня не было никаких известий, но все же…, зачем же мессы?
– А я вам сейчас расскажу.
Он произнес это так многозначительно, что я насторожилась.
– Слушайте, Сюзанна, вам это будет любопытно. Газеты в Вене сразу сообщили о кровавых сентябрьских убийствах 1792 года. Писали, что в Париже перебиты все аристократы, а ведь я знал, что вы в Париже! По-моему, незачем объяснять, что я тогда чувствовал. Никто не мог мне дать точных сведений о вашей судьбе, даже те новые эмигранты, что прибывали в Австрию. И тогда мне стало известно, что в Амстердам с какой-то миссией приезжает адмирал Франсуа де Колонн. Это было в начале октября прошлого года.
– И что же?
– А то, что я имел все основания полагать, что ему, как вашему бывшему мужу, кое-что известно о вас, и я, смирив свою аристократическую гордость, отправился из Вены в Амстердам, разыскал там адмирала и принялся расспрашивать о вас. Он взглянул на меня весьма недружелюбно и сказал. Знаете, что он сказал? Что вы убиты в первый же день избиений, убиты в тюрьме Ла Форс, что он сам видел, как вас убивали!
С криком ярости я вскочила на ноги, кулаки сжались. Если бы в этот миг передо мной оказался Франсуа, я бы, наверное, сама убила его.
– Надо же, какая подлость! – воскликнула я вне себя.
– Да, кто бы мог подумать, – произнес отец.
– Разве можно было ожидать подлости от герцога де Кабри? Или от Шаретта? Ну, что касается этого мерзавца, то он еще заплатит мне за свои происки!
Выпитое вино бросилось мне в голову, я насилу смогла успокоиться.
– Да, от адмирала многого можно было ожидать, но такого! Или он всерьез считает всех, кто изменил его Революции, погибшими?
– Это все к счастью, Сюзанна. Кого при жизни дважды отпевали в церкви, тот может уже ничего не бояться. Вы будете жить долго, моя дорогая.
– Но все-таки, все-таки. Неужели я была женой этого человека?
– Теперь вы можете забыть об этом.
– Почему?
Он наклонился ко мне и произнес приглушенным голосом:
– Теперь вы среди аристократов, а они, да будет вам известно, не знают о том, что вы во второй раз были замужем. Я молчал об этом, даже когда меня пытались расспрашивать. В Австрии, в Турине, в Англии – везде, где находятся французские эмигранты, вы пользуетесь незапятнанной репутацией, вас считают вдовой принца д'Энена, а это, поверьте, весьма почетно.
– О да, теперь я отдаю должное вашей предусмотрительности, – весело сказала я.
– Только зачем все это? Во время Революции не имеет значения, была ли я замужем или нет. В любом случае меня ждет гильотина.
– Я переправлю вас за границу.
– За границу?
Я пораженно смотрела на отца. Неужели он не понял? Я разыскивала его вовсе не для того, чтобы нынче же утром убежать в Англию.
– Отец, я, разумеется, очень хочу оказаться в безопасности, но сейчас об этом не может быть и речи.
– Позвольте же узнать почему? – нахмурившись, спросил он, – это снова ваше итальянское упрямство?
– Нет. Это снова мой сын. Мой Жанно, который нынче находится в Сент-Элуа и ради которого я и предприняла это путешествие.
Странное впечатление произвели эти мои слова. Принц не рассердился, не выказал даже раздражения. Он посмотрел на меня задумчиво и очень внимательно.
– Ах, этот мальчик…
Я вся внутренне напряглась. Мы коснулись вопроса, который всегда будил во мне враждебность к отцу. Ведь это он пытался забрать у меня сына. Всякий раз, когда я вспоминала об этом, то невольно чувствовала гнев.
– Я никогда не видел его. Только раз, когда он был в пеленках, во время того прискорбного случая на Мартинике.
Ах, он называет это прискорбным случаем! Я сдерживалась, но глаза мои метали молнии.
– Вы, кажется, назвали его Жанно. Да?
– Да.
– Сколько ему сейчас?
– Без двух месяцев шесть.
– Гм…
Он что-то задумал, это точно. Я насторожилась.
– Отец, вы поможете мне добраться до Сент-Элуа? – резко спросила я.
– Сегодня в шесть утра я отплываю в Англию и вернусь только через неделю.
– Да, но… вы можете взять меня на корабль и высадить, например, в Лорьяне, это же по пути в Англию!
– Я не стану заходить в Лорьян, как не стану делать ничего такого, что поставило бы под сомнение успех моей очень важной миссии.
– Значит, вы отказываетесь помочь мне? Вы поступаете так же, как Шаретт!
– Нет, – задумчиво сказал он, – я помогу вам, но сделаю это иначе, чем вы предлагаете.
– Как?
– Я отправлюсь вместе с вами в Сент-Элуа, когда вернусь из Англии. В конце концов, я имею право увидеть… гм, своего внука. И свое родовое имение, где не был пять лет.
У него была, без сомнения, какая-то тайная мысль. И откуда взялось это неожиданное желание видеть своего внука? Он никогда не называл его так. Более того, даже когда мы жили в Париже, а Жанно обитал на перекрестке улиц Кок-Эрон и Платриер, когда Революция еще не началась, отец не изъявлял желания даже издали посмотреть на него.
– Вы обещаете мне? – спросила я тревожно.
– Клянусь честью рода де Тальмонов, Сюзанна.
Он поднялся, надел перевязь, прицепил шпагу и, наклонившись, взял со стула свой синий дорожный камзол.
– Мне пора. За окнами уже светает.
Он обнял меня и поцеловал – очень сдержанно, по своему обыкновению.
– Будьте уверены, моя дорогая, здесь, у мэтра Моно, вы в полной безопасности.
– Но будете ли в безопасности вы по дороге в Англию? – спросила я с волнением.
– Меня повезет голландский бриг, и в кармане у меня документы на имя чиновника французского посольства в Амстердаме. Здешние провинциальные власти никогда не смогут распознать фальшивку.
– Вы едете за оружием? – проговорила я.
– Да. За большой партией ружей, сабель, пуль и пороха. Но вам лучше не думать об этом, моя дорогая.
Он еще раз поцеловал меня и, резко повернувшись на каблуках, вышел. Я услышала его твердые шаги на лестнице.
Спустя несколько минут в дверь постучал хозяин гостиницы.
– Желаете ли вы чего-нибудь, мадам д'Энен?
Он уже, по-видимому, все знал обо мне, ибо называл меня именем Эмманюэля.
– Да, мэтр Моно. Горячую ванну, чистое платье и постель.
Сказав это, я вслед за Моно спустилась вниз, где лежал раненый Брике, чтобы проверить, хорошо ли его устроили и достаточно ли за ним ухаживают.
3
Мьетта хотела помочь мне причесаться, но я отказалась от ее услуг. В самом деле, чтобы просто уложить на голове локоны, я уже не нуждалась в помощи. После ванны волосы у меня были чистые, блестящие и шелковистые. Впервые за долгое время я разглядывала себя в большом зеркале. От долгого пребывания на воздухе кожа приобрела медовый оттенок, четче проступила тонкая лепка скул, черные глаза стали ярче, волосы выгорели и сделались пронзительно-белокурыми. Я слегка прикрыла их белой кружевной наколкой – такой же, как и отделка на моем новом платье из тафты абрикосового оттенка. Я чувствовала себя отдохнувшей и почти счастливой.
– Ты хочешь уйти или остаться у меня? – спросила я у Мьетты.
– Хочу остаться.
Я не ожидала такого ответа. Удивленная, я взглянула на нее.
– Но ты же будешь скучать. Ты привыкла к приключениям, к войне, к вольному ветру, наконец.
– Это все потому, что жизнь была плоха. Разве я не достойна лучшего? У себя в деревне я прислуживала в трактире знатным дамам. Правда, это было еще при короле.
– Но мне не нужны твои услуги. Последние два года я жила так, что научилась делать все сама – одеваться, мыть полы, стирать белье, плести кружева…
– Но у вас же есть дети. Правда?
– Да, и ты сможешь присматривать за ними?
– Конечно.
Она подумала о чем-то и сказала, блеснув серыми глазами.
– Ведь вы уедете в Англию, мадам. А я давно мечтала побывать в Англии.
Мьетта приоткрыла дверь и уже на пороге добавила:
– А еще вы обещали мне изумрудное ожерелье, не забывайте.
Я задумчиво посмотрела ей вслед. Особого доверия Мьетта у меня не вызывала. Изумрудное ожерелье. Да у меня самой пока нет ни одного украшения. И все же обещание, данное Мьетте, надо как-то сдержать. Может быть, попросить отца, когда он вернется из Англии?
Стоит ли допускать Мьетту к моим детям? У меня уже был горький опыт, связанный с Валери де ла Вен. Но вполне возможно, что мне понадобится чья-то помощь, ведь детей – трое. А Маргарита уже стара – по моим подсчетам, ей вот-вот исполнится шестьдесят. К тому же Мьетта за все то время, что я ее знаю, оставалась искренней роялисткой и так же, как и я, ненавидела Революцию.
Я выглянула в окно, заметила во дворе маркиза де Лескюра и быстро подняла раму:
– Луи-Мари, добрый вечер!
Он махнул мне рукой, приглашая спуститься вниз.
– Разве вы уже уезжаете?
– Да. Но я не хотел уезжать, не попрощавшись с вами. Я поспешно сбежала по лестнице вниз и остановилась на крыльце гостиницы. Чувство грусти возникло в груди. Мне не хотелось расставаться с маркизом.
– Приветствую вас, – сказал он, приподнимая шляпу, – Кажется, Сюзанна де Тальмон снова превратилась в принцессу.
– Снова?
– Ну, вчера вас было не отличить от Брике.
Я слегка смутилась, вспомнив, каким жалким был вчера мой вид. Но нынче я была уверена в себе.
– Вы сегодня не слишком любезны, господин де Лескюр.
– Может быть.
Он не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен вдаль, туда, где синело море.
– Может быть, это от разлуки с вами.
У меня перехватило дыхание.
– А вы… вы уверены, что должны уехать?
– Увы, уверен. У меня под началом трехтысячный отряд, и он ждет моих распоряжений.
Да, увы. Вокруг маленького острова Ре полыхает пламя Вандеи, да и вообще вся Франция объята огнем Революции. Наступит ли когда-нибудь этому конец, придут ли времена мира и спокойствия? Я мысленно послала проклятие всем войнам на свете. И почему мне выпало жить именно в такое время?
– Вы не забудете меня, Сюзанна?
– Нет! – сказала я взволнованно.
– Ведь мы друзья, правда?
– Я люблю вас.
Теперь он смотрел прямо на меня, и синие глаза его пылали. Я открыла рот, чтобы попытаться возразить или разубедить его, но он остановил меня.
– Молчите, ради Бога! Я ничего от вас не требую. Думаете, я не понимаю, как вам трудно? Я бы хотел защитить вас от всего этого безумного мира. Но я могу только одно – вверить вас вашему отцу.
Столько искренности и отчаяния звучало в его голосе, что я вздрогнула и протянула ему руки и по его горячему прикосновению поняла, что он говорит правду. Осторожным и вместе с тем властным движением он привлек меня к себе, и я поняла, что он хочет поцеловать меня на прощанье.
На какой-то миг я замерла в нерешительности, но потом вдруг очень ясно осознала, что буду ненавидеть саму себя, если не позволю ему этого. Полуоткрытыми губами я встретила этот теплый, безумный, почти душащий меня поцелуй. Ошеломленная, я уже через несколько секунд была свободна и только слышала удаляющийся цокот копыт по деревянной мостовой.
Таково было это прощание.
Я отправилась к Брике, проверила, нет ли у него жара. Он чувствовал себя совсем неплохо, и приглашенный врач сделал все, чтобы ранение не дало осложнений.
– Я бы охотно поужинал, мадам, – заявил мне Брике, как только я присела у его постели.
– Вообще-то я уже ужинал, но снова проголодался, поэтому хочу поужинать.
– Это кажется мне чрезвычайно разумным, – сказала я с улыбкой, обрадованная, что Брике обрел присущий ему аппетит.
Только на следующий день я смогла окончательно успокоиться из-за отъезда Лескюра. Время текло так размеренно и спокойно, что не располагало к экзальтации чувств. Заведение мэтра Моно, хотя и называлось гостиницей, но на самом деле служило пристанищем роялистов, и обыкновенных путешественников сюда пускали редко. Поэтому в доме всегда было тихо, и ничто не мешало Брике поправляться. Бедренная кость у него не была задета, и мне даже казалось, что мальчик сможет следовать за мной, когда придет время.
Неделя заканчивалась, а отец немного запаздывал. Я ждала его возвращения 2 июня к вечеру, но ожидания были напрасны. Чуть позже пришло известие, что у порта Сен-Назер, окруженного английской эскадрой, произошел бой между англичанами и французами. Может быть, это задержало принца? И не был ли он, не дай Бог, захвачен в этой стычке?
Ночью 4 июня отец возвратился на остров Ре. Причиной его опоздания был сильный шторм в районе Сен-Жиль-де-Ви, заставивший небольшое суденышко задержаться в гавани. Но теперь все было в порядке, и миссия, которую выполнял мой отец, блестяще завершилась.
Спустя сутки мы с отцом, а также сопровождавшие меня Брике и Мьетта были на борту торгового шлюпа «Дриада». Как мне было известно, «Дриада» фактически подчинялась Высшему военному совету королевской католической армии, хотя и поднимала на флагштоке трехцветное полотнище Революции.
4
Пэмпонский лес шумел так приветливо, словно и вправду был рад встретить меня после столь долгого отсутствия. Вверху, пронизывая густую листву деревьев, весело смеялось солнце, свежий бретонский ветер развевал волосы. Сколько же я здесь не была? И много ли времени прошло с тех пор, когда шестнадцатилетняя Сюзанна верхом на белой Стреле мчалась на свидания с голубоглазым виконтом де Крессэ?
Здесь все было так, как раньше, – шепот листвы, воркование голубей, цветение мелких синих фиалок, запах белых цветов жимолости. На опушках и в кустах прятались куропатки, стрекотали пересмешники, облюбовавшие для себя сырые бретонские леса. И хотя мы были уже далеко от Лорьяна и совсем близко к Сент-Элуа, я все еще чувствовала в воздухе запах морской соли.
Отец что-то рассказывал мне о роялистском восстании в Бордо и Марселе, о санкюлотских беспорядках в Париже, приведших к падению Жиронды и воцарению Робеспьера. Узнала я и о том, что Высший военный совет избрал главнокомандующим фанатичного католика Кателино, но меня сейчас это мало волновало. То ли дело – лес, бретонский воздух, изумрудный цвет свежей травы и пологий холм, за которым скрывается Сент-Элуа. Осталось только выехать из леса и проехать деревню Сент-Уан…
Отец вдруг осадил коня; так же поступили люди из его охраны. Я остановилась, не понимая причину этой задержки.
– Вы чувствуете запах, принц? В воздухе пахнет паленым. У меня зашлось сердце.
– Матерь Божья, отец, только бы не Сент-Элуа! Только бы его не сожгли!
Принц посмотрел на меня очень сурово.
– Успокойтесь. Речь идет вовсе не о Сент-Элуа.
– А о чем же?
– О деревне, которая совсем рядом с нами.
Я непонимающе смотрела на принца.
– Но вы же говорили, что этот край принадлежит Луи XVII, что тут господствуют шуаны.[4]
– Шуаны? Они владеют лесами и появляются ночью. А кроме них тут десятки полуразбитых синих отрядов. Ну-ка, пришпорьте лошадей!
По команде отца все всадники галопом понеслись в ту сторону, где сквозь редкие деревья уже белела дорога. Я видела, что небо на западе окрасилось в опалово-огненный цвет, как при закате. В воздухе носился запах горящего дерева.
Минуту спустя, оказавшись на дороге, я увидела деревню Сент-Уан, объятую пламенем. Раньше деревенские дома располагались полукругом среди необозримых пахотных земель. Вид этих полей кольнул меня в самое сердце. Там, где прежде ветер перекатывал волны колосьев, разрослись сорняки.
Огонь, видимо, легко перебирался с одной соломенной крыши на другую, достигнув, таким образом, церковной колокольни. Обгоревшая, она теперь торчала, как обглоданный костяк. Пламя полыхало в церкви. Рядом толпились несчастные жители деревни, едва успевшие вынести свой жалкий скарб; отчаянно вопили женщины. Ветер нес золу и пепел прямо нам в лицо.
– Кто же это сделал? – спросила я среди общего молчания. Отец ничего не ответил. Лицо его не выражало ни гнева, ни боли. Он выглядел как обычно; пожалуй, был чуть бледнее.
– Эта деревня была на нашей стороне, – сказал он позже.
Мы снова двинулись в путь. Теперь я уже не рвалась так радостно вперед. Что ожидает меня? Может быть, вместо родного гнезда я увижу такое же пепелище? Над этим краем пронеслось столько гроз, что вряд ли что-то могло уцелеть.
– Зачем нужно было сжигать Сент-Уан, отец?
– А зачем было убивать короля, издеваться над королевой, губить Францию и ее законы?
Щека у принца судорожно дернулась.
– Синие жгут все фермы и деревни, если те нарушают декрет и не делают в лесу завалы.
– А зачем завалы?
– Чтобы шуаны не завели себе лошадей и ходили пешком. С некоторым страхом я ожидала встречи с Сент-Элуа. Перед глазами у меня всплывали самые ужасные картины разгрома… Лошадь медленно поднималась на вершину холма. И когда я взглянула вниз, в долину, предчувствие не обмануло меня.
Сент-Элуа больше не существовало. Краснокирпичный замок под золотой черепицей отныне стал фантомом и жил только в моем воображении. Мне пришлось взглянуть в глаза реальности. От замка осталась толстая стена ограды – ей было шесть веков, ее нельзя было взять одним пожаром. Раньше эта стена была белоснежная, теперь – черная, словно обожженная. Местами в ней зияли дыры и провалы, словно от взрывов. Парк тоже был выжжен, и не скоро вновь зазеленеют почерневшие стволы, называвшиеся раньше деревьями. Красный кирпич замка остался только на фундаменте, да и там спекся в черную массу. Уже не существовало чудесных изогнутых лестниц, мягких ковров, длинной галереи портретов предков, роскошной гостиной, серебряной столовой. Над пепелищем гордо возносилась единственная уцелевшая башня – та, где раньше была библиотека.
Но мой сын? Маргарита? Шарло, Аврора?
Забыв обо всем, я пустила лошадь в самый бешеный аллюр, какой только можно представить. Ветер свистел у меня в ушах. С безумной скоростью, рискуя разбиться, я спустилась с холма, оставив позади всю кавалькаду; стремглав промчалась мимо полуразрушенных древних укреплений и внезапно, натянув поводья, остановилась как вкопанная, едва не вылетев из седла. Я увидела мальчишку, со всех ног убегающего от меня. Эти черные волосы, и глаза, как васильки во ржи.
В одну секунду я оказалась на земле. Невозможно описать, как бешено билось у меня сердце. Я сначала побежала следом за мальчиком, но юбки путались у меня в ногах, и тогда, остановившись, я закричала что было силы:
– Жанно-о!
Он остановился и оглянулся. В эту минуту целый мир уместился для меня в этих глазах. Ноги сами понесли меня к сыну, я не бежала, а летела, не касаясь земли, потеряв в траве свои туфли. Жанно был совсем рядом. Я упала на колени, жадно, полубезумно обняла, помня, однако, о том, чтобы не испугать его.
– Мама, я так скучал по тебе!
Он сказал это так, словно в том, что я вернулась, для него не было ничего удивительного. А я. Весь смысл жизни, основа мироздания были для меня сейчас в этом детском дыхании, блеске глаз и волосах, в которых запутались соломинки.
5
– Мама, не плачь.
– Но я же не плачу, мой ангел.
Руками он вытирал слезы, струившиеся у меня по щекам.
– Это счастливые слезы, не бойся.
Я лихорадочно оглядывала Жанно, трогала, ощупывала, отмечая все произошедшие с ним изменения. Боже, какой же он худенький! А эти сдвинутые крохотные брови – он так не делал, когда я уезжала! И, кажется, он выглядит старше своих лет. Слишком серьезен.
– Ты не голоден, моя радость?
– Нет, я завтракал.
– И что же ты завтракал?
– Я ел яйцо и вареную брюкву.
– Матерь Божья! – только и смогла я произнести.
Мой Жанно ест вареную брюкву! Немудрено, что он такой худой.
– Я привезла много еды. Мы сейчас снова будем завтракать.
Я оглянулась назад. Отец и его люди ехали очень медленно, словно давали нам время наговориться.
– Те люди не тронут нас, мама?
– Нет. Это наши друзья. Дай-ка мне руку, Жанно! Да-да, вот так, и веди меня в дом.
Рука у ребенка была холодной. С болью в сердце я разглядывала Жанно – босой, пятки совсем загрубели. Что это на нем за рубашка, из парусины, что ли? А штаны едва держатся на разноцветной шлейке, да и короткие такие, что видно загорелые икры. Жанно внимательно посмотрел на меня, и я вовремя опомнилась. Нельзя, чтобы он понял, как мне грустно видеть его таким.
– Мама, тебя так долго не было. Жильда уже ставила по тебе свечку. А Маргарита ее за это страшно бранила. Они все время ссорятся, мама, и мне с ними скучно. С Авророй было веселее.
– Ну а где же она сейчас? – спросила я настороженно.
– Ее увезли какие-то черные женщины.
– Черные женщины? Но кто же это?
– Не знаю. У них были такие длинные черные платья и белые большущие чепчики. Я не хотел, чтобы Аврору забирали. Аврора тоже плакала и упиралась. Но черные женщины все равно посадили ее в повозку и увезли.
Я терялась в догадках. Жанно явно больше ничего не мог прибавить к своему объяснению. Кто мог увезти Аврору? И не были ли это монахини?
– Когда сожгли наш дом, Жанно? Скажи, если ты помнишь.
– Еще как помню, мама. Тогда шел дождь, и мы не поехали в церковь. Потом дождь перестал. Мы уже ложились спать, и Аврора обещала почитать мне сказку. Но тут вбежала Жильда. Она была очень испугана, и я тоже испугался. Мы побежали следом за ней. Я видел, как во дворе какие-то люди били Маргариту по щекам. Меня взял на руки Жак. Мы долго-долго бежали по полю, а потом упали в грязь и всю ночь лежали. Сент-Элуа был весь красный, как головешки, которые жгут на Рождество, только побольше; и я очень боялся.
Он посмотрел на меня и закончил:
– А потом мы стали жить в башне, и вся еда куда-то делась.
Я сжимала зубы от бешенства. Будь прокляты люди, научившие Жанно говорить «я очень боялся»! Страшно подумать, какой у него затравленный вид. И все мои старания сделать так, чтобы Революция проходила для него незаметно, были напрасны.
Мы остановились, так как топот лошадей отцовского отряда был уже совсем близко. Мальчик обхватил мои колени, полуспрятав лицо среди складок юбки, и, кажется, был встревожен.
– Эти люди – наши друзья, они ничего плохого не сделают, милый.
Отец внимательно смотрел на Жанно, и брови у него были чуть нахмурены. Он явно выбрал не самое удачное время для знакомства с внуком: худенький взъерошенный Жанно выглядел сейчас не лучшим образом. Но я все равно гордилась сыном, может быть, впервые разглядев, какие четкие у него черты лица, – даже в этом упрямом подбородке и не по-детски серьезном взгляде можно было узнать маленького аристократа.
Отец спешился, подошел к нам, и я почувствовала, как пальцы Жанно крепче впились в мою юбку.
– Мой мальчик, этот человек – наш…
Я запнулась, не зная, как представить сыну отца. Принц властным жестом остановил меня.
– Я – ваш дед, молодой человек.
Жанно бросил на меня пытливый взгляд.
– Это правда, мама?
– Да, моя радость. Это твой дед.
– Но у меня не было никакого деда.
Принц сделал еще шаг вперед и произнес очень холодным удивленным тоном:
– Можно ли узнать, милостивый государь, почему вы стоите как девчонка, вцепившись в юбку матери?
– О… – попыталась вмешаться я, – он вовсе не…
Но Жанно, опередив меня, отпустил мою юбку и встал очень прямо – такой трогательно маленький и худенький, что у меня сжалось сердце.
– Вот так-то лучше, так совсем по-солдатски. Вы ведь хотите стать солдатом, Жан?
– Хочу, но все называют меня не Жан, а Жанно.
– Жанно – это не имя для настоящего мужчины, это имя для сопляков.
Мой сын был еще явно не в состоянии оценить подобное утверждение. Он растерянно посмотрел на меня и произнес:
– Мне нравится имя Жанно, но вы, сударь, можете называть меня Жан, мне это тоже нравится. Мама, – обратился он ко мне, – если уж тут мой дед, может быть, здесь есть и мой папа?
– Ваш отец погиб, – прежде чем я успела что-либо произнести, сказал принц.
– Погиб?
– Да. Он сражался за Бога и короля.
– Это совсем плохо, – крайне разочарованно сказал Жанно.
– А я еще хвастался перед Шарло, что мой отец непременно приедет.
– Жан, – проговорил принц, – если уж вы заявили мне, что хотите стать солдатом, то вот вам первое задание: бегите в дом, молодой человек, и известите всех о нашем приезде.
Жанно радостно улыбнулся, поглядев на меня, и со всех ног бросился к полусожженному замку. У меня чуть сердце не выскочило из груди, едва я осознала, что мальчик снова отдаляется от меня. Бессознательно я рванулась вслед за ним, но отец решительно удержал меня.
– Успокойтесь, Сюзанна! Мальчик получил возможность что-то сделать, зачем же лишать его этой возможности? Он будет вдвойне рад, если справится с делом без вашей опеки.
– Какая опека! – воскликнула я раздраженно. – Я не видела сына пятнадцать месяцев!
– Это еще не повод, чтобы ходить за ним повсюду. Он не болен и не немощен; напротив, в нем очень много энергии, которую не нужно сдерживать. Может быть, Сюзанна, я не сведущ в воспитании девочек, но я прекрасно знаю, как следует воспитывать аристократов и солдат.
– Я не хочу, чтобы Жанно стал солдатом.
– А чего же вы хотите? – произнес отец и презрительно добавил: – Надеюсь, вы не предложите единственному наследнику нашего рода стать чиновником или инженером?
– Наследнику? – задыхаясь, переспросила я. – Кто здесь говорит о наследнике? И кто осмеливается упрекать меня в неправильном воспитании сына? Уж не тот ли человек, который как-то сказал о моем ребенке – «будь он проклят»?
Ответом на эти слова был суровый холодный взгляд. Не сказав ни слова, принц пришпорил лошадь и поскакал к замку.
Не выдержав, я пробормотала сквозь зубы ругательства. Этот человек не способен измениться! Во время недавнего разговора у меня появилось странное ощущение, что я перенеслась лет на тринадцать в прошлое и снова выслушиваю менторские наставления отца. Только на этот раз вместо меня стоит Жанно. Опять то же отсутствие ласки, нежности, любви. Хотя, вполне возможно – и этого я не могла отрицать, – мальчикам нужна частица и такого сурового, холодного воспитания.
Я не стала садиться в седло и дошла до замка пешком. Меня снова охватила ярость: кто только мог сотворить такое кощунство с прекрасным замком? Кому так мешали старые слуги и дети, что нужно было лишить их жилища?
– Матерь Божья, пресвятая и пречистая!
Я узнала этот возглас Маргариты. Она бежала мне навстречу – грузная, располневшая, в старой юбке и шали, наброшенной на плечи, в большом сером чепце, прикрывавшем седые волосы. Ее лицо… Господи Иисусе, это милое, доброе, румяное лицо!
Теперь уже я оказалась на месте Жанно, а Маргарита – на месте матери. Я была всего лишь маленькой девочкой, вернувшейся домой и нуждающейся в поддержке. Маргарита всегда мне поможет. Слезы хлынули у меня из глаз, заструились по щекам, как горох, когда я, дрожа и всхлипывая, упала в объятия Маргариты.
Объятия такие теплые, радушные и надежные.
6
Обед длился долго. Мне казалось, что мы захватили с собой вполне достаточное количество еды, но теперь я поняла, что колбас, копченостей, сушеной рыбы, шоколада и вина явно не хватает. Да и как могло хватить, ведь все обитатели Сент-Элуа уже давно питались брюквой, салатом, бобами и картофелем, хотя отнюдь не были вегетарианцами.
Я успокоилась только тогда, когда Жанно и Шарло заявили, что больше не в состоянии съесть ни крошки, но не могла удержаться от искушения налить им по стаканчику вина, разбавленного водой. Я знала, так они лучше уснут. Они казались мне такими истощенными, что нуждались, по моему мнению, только в двух вещах – еде и сне.
Я пока еще не очень расспрашивала, погрузившись в радостную атмосферу встречи и зная, что впереди у меня – целая ночь, в течение которой Маргарита расскажет мне обо всем. О том, что тут дела плохи, я и так знала. Достаточно было посчитать, кто остался в Сент-Элуа из той когорты слуг, что жили здесь раньше, – только старая Жильда, Маргарита и Жак, полуразбитый ревматизмом. Юная Франсина Котро давно уже улизнула из замка с каким-то ухажером. Даже Паулино я не видела среди присутствующих, хотя на его верность рассчитывала больше всего.
Я уложила мальчиков спать на втором этаже, в библиотеке, где был заранее растоплен камин, и сидела рядом с ними до тех пор, пока они не устали слушать мои сказки и не заснули. Тусклый огонек свечи падал на лица детей. Они были поразительно похожи – любой бы решил, что они родные братья. Шарло был такой же худой, как и мой сын, и, несмотря на свои девять лет, ростом не очень-то перещеголял Жанно. Ему необходимо лучше питаться. И, судя по возрасту, следует отправить его в коллеж. Только о каком коллеже может идти речь во время Революции?
– Что за девицу вы сюда привезли, мадам? – прошипела Маргарита, едва мы с ней уединились в укромном уголке башни.
– Мьетта очень мне помогла. Она неплохая девушка, поверь.
– Верю, верю! У мадемуазель Валери лицо было как у святой. А у этой рожа воистину плутовская.
– Оставим это, пожалуйста, – сказала я умоляюще. – Я не могу ее сейчас прогнать, правда, не могу.
Маргарита явно была слегка обижена, словно бы появление Мьетты уменьшало значение ее роли в нашей семье. Она смотрела на меня с укоризной, и я, не выдержав, рассмеялась.
– Успокойся! Ты по-прежнему на первом месте, Маргарита. Я даже уверена, что эта девушка не задержится надолго. Такой уж у нее характер; она любит приключения.
– Было бы хорошо, если бы она убралась.
– Она уберется. Скажи-ка лучше, что здесь все-таки произошло?
Я наконец-то задала вопрос, который мучил меня больше всего. Из рассказов Жанно мало что можно было понять.
– Кто сжег Сент-Элуа? Кто напал на вас?
– Синие, – отрезала Маргарита, побагровев. – Синие, будь они прокляты! И все это случилось из-за Франсины! Вот уж мерзкая девка!
– Франсина? Но что же она могла натворить?
– А ничего, – насмешливо сказала она. – Франсина привела сюда человек десять из леса, и мы, как самые последние болваны, дали им приют. Вы же знаете, милочка, что отец этой самой Франсины – сам Жан Шуан. Вот они и нагрянули к нам в дом. А утром явились республиканцы; их было человек тридцать, целый отряд.
– Когда это произошло?
Маргарита решительно смахнула слезы с ресниц.
– В феврале. Так вот, эти самые шуаны затеяли стрельбу. Синие их, конечно, быстро одолели и ворвались в замок. Одному Богу известно, как нам удалось вывести детей через черный ход. Замок пылал целую ночь, и нам еще повезло, что потом начался дождь. Он-то и погасил пожар…
– Паулино был еще здесь? – спросила я. Она махнула рукой.
– Где там! Паулино еще год назад уехал в Нант. Знаете, сейчас наступило равенство, и на службе уже не смотрят, какая у тебя кожа.
– Что он делает в Нанте?
– Кажется, он стал адвокатом. Ах да, постойте! – Маргарита хлопнула себя по лбу. – Он оставил вам письмо. Оно сохранилось, там, в библиотеке…
Она поднялась по лестнице в библиотеку и вернулась, держа в руках небольшой лист бумаги. Я быстро развернула письмо:
«Мадам!
Уходя от Вас, я рискую навлечь на себя Ваш гнев, но, увы, следы Ваши затерялись. Мне предложено выгодное место в Нанте. Будьте уверены, что, как только Вам понадобится моя помощь, я буду к Вашим услугам».
– Мне не нужна его помощь, – проговорила я, откладывая письмо.
Конечно, я отлично понимала его. У него своя жизнь, он молод, полон сил, умен и образован. Сейчас он может достичь многого. И он хорошо служил мне, пока был управляющим.
– А Аврора? Что с Авророй? Жанно говорит, что ее забрали какие-то «черные женщины», причем насильно.
– Еще бы не насильно! – разгневанно воскликнула Маргарита. – Где уж ребенку понять, как ему будет лучше!
– Куда вы отдали ее, отвечай поскорее.
Маргарита взглянула на меня исподлобья.
– В монастырь Сен-Марле-Блан, что в Понтиви. Это хорошее место. Заведение для девочек, да еще и бесплатное. Лучше уж Авроре быть в монастыре, чем прозябать здесь и питаться картошкой… А в обители святые сестры заботятся о своих воспитанницах и делают из них отличных монахинь.
– Маргарита, ты, никак, помешалась!
Я смотрела на нее со смесью гнева и удивления.
– Воспитывать из Авроры монахиню?
Я не могла себе этого представить. Аврора, с ее белой кожей и фиалково-синими глазами, создана для того, чтобы вызывать восхищение, а не обрекать себя на затворничество.
– Да я и не думала, что она станет монахиней, – сказала Маргарита. – К тому же сейчас это считается опасным занятием, и монастыри повсюду закрывают революционные власти… Но надо же было как-то содержать Аврору.
– Я завтра же отправлюсь в Понтиви, – сказала я решительно, – и заберу Аврору у этих святых сестер. Боже правый, как там, должно быть, тоскливо! Кроме того, отныне я сама буду содержать своих детей, и мне не понадобится чужая помощь. В Понтиви я куплю одежду для мальчиков. Ведь страшно посмотреть, во что они одеты…
– Я благодарила Бога, что есть хоть такая одежда. После пожара у ребят ничего не осталось. Крестьяне из деревни дали немного холста, и я сшила мальчикам рубашки и штаны.
– А обуви не нашлось? Жанно ходит босиком, а ведь земля здесь сырая.
– Из обуви есть только сабо, но они такие тяжелые, что он не хочет их носить.
Да, подумала я, мне очень повезло, что я встретила отца. У него есть все в этом краю – власть, тысячи верных людей, деньги, связи. Я могу не ломать себе голову над тем, где взять еду и одежду. Но я не могу не сознавать того, как зыбко его положение. Пока что мятежники одерживают победу за победой, и отец в этой борьбе – герой и вождь. Но если удача вернется к Конвенту, он будет только особо опасным контрреволюционером, которого надлежит по закону расстрелять в двадцать четыре часа без всякого суда.
– Мадам, – осторожно шепнула Маргарита, – я так полагаю, теперь мы тут долго не задержимся?
– Нет. Мы отправимся в Шато-Гонтье, там у отца лагерь…
– Ах, да я не о том! Принц ведь поможет вам перебраться из этой чудовищной страны в Англию или Вену?
Я смотрела на нее, не зная, что ответить. Англия? Вена? Но… как же быть тогда с тем человеком, что остался в Париже? Без него мне не хотелось никуда уезжать.
Рене Клавьер находился в тюрьме. Неужели я могу бросить его там? Вот что заставило меня молчать и не отвечать на вопрос Маргариты.
7
Городок Понтиви, стоящий на реке Блавё, вот уже несколько дней находился в руках шуанов, но вообще-то за последние несколько месяцев власть здесь менялась с молниеносной быстротой. Республиканцы, белые, потом бандиты и снова белые… Жители Понтиви настолько привыкли к, смене флагов над городской ратушей, что легко переходили от обращений «сударь» и «мадам» к «гражданину» и «гражданке», и наоборот.
Хозяин лавки, в которую я зашла, тоже называл меня мадам. Я купила для Жанно и Шарло по куртке, по два костюма, по дюжине рубашек и носовых платков и по две пары башмаков, а также несколько платьев для Авроры. Когда я оплатила всю эту кучу вещей золотыми монетами, лавочник вне себя от восторга называл меня «ваше сиятельство».
Забрать Аврору из обители Сен-Марле-Блан было делом легким. Если бы даже монахини не отпускали ее, она бы, пожалуй, согласилась на побег. Честно говоря, я даже не сразу узнала ее. Она выросла за время моего отсутствия; кроме того, детское очарование исчезло, сменившись подростковой угловатостью и нескладностью. Аврора была худая и неуклюжая, словно стыдящаяся происходящих в ней изменений. Я вспомнила себя в таком же возрасте: одежда тогда сидела на мне как на вешалке, я не знала, как себя вести и куда деть руки. Пройдет года два или три, и Аврора превратится в чудесную девушку, надо только пережить этот переломный период.
Она едва не задушила меня, бросившись мне на шею, и даже расплакалась от радости, не переставая повторять, как ей было плохо в монастыре и как она не любит Маргариту за то, что ее отдали сюда. Девочка действительно всю свою жизнь провела или среди бретонских лесов, или в Париже; темные каменные своды были для нее слишком тягостны.
– Я ведь никогда больше не вернусь сюда, правда? – то и дело спрашивала она, пока мы ехали домой.
– Никогда, моя радость, я обещаю тебе!
Два или три раза она осторожно спросила меня о Жорже, но что я могла ей ответить? Почти полтора года я ничего о нем не знала. Именно тогда, когда у меня было конфисковано все имущество, Жорж д'Энен, младший лейтенант артиллерии, был отправлен на австрийский фронт. Он сражался под трехцветными знаменами Революции. С тех пор прошло столько кровопролитных битв с Австрией, что я, право, не была уверена, что он жив.
– Неужели ты не забыла Жоржа, Аврора?
Она посмотрела на меня с укоризной.
– Забыть его? Но ведь я люблю его, мама!
– Ты говоришь глупости, ты ребенок. Тебе нужно вырасти, а уж потом задумываться об этом.
Я уж молчала о том, что, насколько мне известно, Жорж не обращал на маленькую Аврору ни малейшего внимания, и если он еще жив, то, пожалуй, женится еще до того, как она вырастет. Ему ведь уже сейчас девятнадцать.
– Ты, как и все, ничего не понимаешь, – угрюмо заявила Аврора.
– И не хочу понимать, честное слово. Ты можешь любить Жоржа сколько тебе угодно, но я не хочу, чтобы ты принимала это так близко к сердцу да еще переживала при этом.
Два дня спустя мы оставили Сент-Элуа. Уезжать из замка не захотела только старая Жильда, вся жизнь которой прошла в этом месте, и кучер Жак, который вбил себе в голову, что его присутствие будет только мешать мне.
– Моя работа – возить принцессу по улицам Парижа! – заявил он. – Ну а коли вам сейчас нельзя ездить по Парижу в открытую, так я вам ни к чему. Бог даст, все изменится; снова наступит человеческая жизнь – будут король с королевой, и Версаль, и принцы с герцогами. Вот тогда я вам пригожусь еще. Вы ведь вспомните о старом Жаке, правда?
Разумеется, я обещала ему это, хотя надежды на то, что «снова будут король с королевой», было очень мало.
Мы направлялись в департамент Иль-и-Вилэн, в замок Шато-Гонтье, одно из наших поместий, где располагался штаб принца де Тальмона, которого республиканцы провозгласили «Капетом разбойников, владыкой Мана и всей Нормандии». Это, конечно, было преувеличением, но в прилегающем к Шато-Гонтье Пертрском лесу прятались шесть тысяч человек, преданных моему отцу. Этот край, как и прежде, принадлежал ему.
Принц ехал впереди, и в седле рядом с ним гордо восседал малыш Жанно в шляпе, украшенной белой лентой – символом роялизма. Он был чрезвычайно рад тому, что впервые едет верхом, в одном седле со своим дедом, которому так беспрекословно подчиняются два десятка вооруженных людей, окружающих нас. Дед охотно объяснял ему устройство пистолета, разрешал трогать свою саблю и даже подарил маленький, легко умещающийся на ладони кинжал.
Я с тревогой следила за их отношениями, весьма окрашенными темой войны. Меня это настораживало. Раньше я даже не думала, что между моим малышом, так привыкшим к нежности и ласке, и холодным высокомерным дедом может быть что-то общее. И вдруг они подружились. Ну, может быть, это не совсем верное слово, но во всяком случае они откосились друг к другу с большим уважением.
Жанно совершенно не был похож ни на меня, ни на принца. Внешне он пошел в род де Крессэ. Но нрав? Я с изумлением начинала замечать, что, пожалуй, нравом он будет настоящий де Тальмон. По-видимому, отец сразу понял это. И я ясно видела, что с того времени, как принц познакомился и сблизился с Жанно, я явно ухожу на второй план, то есть имею какое-то значение для принца только как мать этого ребенка.
– Вы решили забрать у меня Жанно? – ревниво спросила я, когда мы ночью сидели у костра. – Он проводит с вами столько же времени, сколько и со мной, а ведь он знаком с вами всего несколько дней!
Отец усмехнулся.
– Успокойтесь… Я только хотел убедиться, что в этом ребенке течет наша кровь, что он наш, а не принадлежит тому дрянному племени виконтов…
– И вы убедились?
– Вполне. Вы бы видели, какой он вспыльчивый, какой у него горячий нрав! Он – точная копия моего отца, его прадеда Жоффруа.
Я озадаченно умолкла. Мне никогда не казалось, что Жанно вспыльчив. Но ведь я сама видела, как он зашелся гневным криком, когда один из солдат отца попытался отобрать у него пистолет, опасаясь, что он может выстрелить. Но Жанно мой, только мой!
– Вы не имеете права воспитывать из него солдата. Я не хочу, чтобы он когда-нибудь ушел на войну и его там убили!
– Вы волнуетесь совершенно не о том.
– А о чем волнуетесь вы?
– О том, что этот ребенок – незаконнорожденный… Какую фамилию он будет носить, когда вырастет?
Я устало покачала головой.
– Какая разница! Дворянские приставки теперь стали указывать не на аристократизм, а на гильотину.
– Ах, Боже мой! – воскликнул отец раздраженно. – Да неужели вы полагаете, что эта суматоха будет продолжаться вечно? Придет твердая власть, и тогда станет очень важно, какая у Жана фамилия.
– Мне это безразлично. Сейчас нужно думать не об этом.
– Думайте о чем угодно, на то вы и женщина. Я подумаю о будущем своего внука.
– И чего же вы хотите?
– Чтобы он носил нашу фамилию, чтобы король присвоил ему имя де ла Тремуйлей де Тальмонов.
– Король! О каком короле вы говорите?
– Если нет короля, то есть регент, граф Прованский.
– Ну да! Король в Тампле, а регент в Кобленце или Митаве! Нечего сказать, это близко!
– Предоставьте это мне, – жестко сказал отец.
Блики костра освещали его лицо. Я опустила голову. Все разговоры о фамилии казались мне неуместными и бессмысленными. Ну конечно, если мы окажемся в Вене… Только я еще ничего твердо не решила.
– Послушайте, – сказала я тихо, – если вы так уж горите желанием дать Жанно громкое имя, я знаю…
Некоторое время я задумчиво смотрела, как пляшут в ночной темноте красные языки пламени. Лес казался странно притихшим, неслышно было даже бормотания солдат; верхушки огромных сосен выделялись на фоне черного неба почти ажурным темно-лиловым кружевом. Нельзя было заметить ни одной звезды, и только сполохи костра освещали опушку. Поразмыслив, я продолжала:
– Я знаю, как вам облегчить эту задачу.
– Что же именно вы знаете?
– Я знаю, как сделать графа д'Артуа мягким как воск. Давно, еще в Турине, он обещал мне позаботиться о Жанно… Если напомнить ему об этом, он заставит регента, графа Прованского, выдать вам необходимую бумагу.
– Почему же граф д'Артуа станет хлопотать за нас?
Голос отца прозвучал настороженно. Если бы такая мелочь, как ложь, еще могла бы меня смутить, я бы неминуемо ощутила стыд. Ведь я солгала графу д'Артуа. Боже, как давно это было – словно в другой жизни.
– Принц уверен, что Жанно – его сын. Я много раз твердила ему об этом, и он поверил. Если вы ненавязчиво намекнете на это обстоятельство, Жанно без промедления получит титул принца и имя нашего рода.
– Это правда?
– Что?
– Что граф д'Артуа – отец Жана.
– Разумеется, нет. Вы же знаете, что Анри де Крессэ…
Я не закончила, да и отец не слушал меня. Казалось, он глубоко задумался. Что он ответит мне? Возможно, будет возмущен, как истинный аристократ, узнав, что его дочь опустилась до откровенной лжи? Нет, для отца это было бы слишком. Он никогда не вел себя как Ланселот или Персифаль; у него слишком много для этого здравого смысла.
– Кто еще знает имя настоящего отца Жана?
– Почти никто. Вы, Маргарита и я…
– Не продаст ли ваша горничная эту тайну?
Я тихо рассмеялась.
– Маргарита служит нашему семейству тридцать лет, а для меня она стала матерью. Ее не касается даже тень подозрения.
– Стало быть, вы сделали правильно. Я тысячу раз предпочту ложь, чем отцовство Анри де Крессэ. Спасибо вам за то, что откровенно признались. Это поможет мне вернуть Жану титул… А сам Жан – ему бы тоже не мешало быть уверенным, что принц крови – его отец. Не рассказывайте ему ничего о виконте.
Уставшая, я завернулась в бурнус; под головой у меня было седло. Таковы лесные ночевки… Я уже привыкла к ним. Лето выдалось теплее, мягкое, было почти приятно спать на воздухе. Если бы еще меньше досаждали комары… Широко открытыми глазами я смотрела в бездонное темное небо. Впервые за много месяцев я пребывала в спокойствии; мне не нужно было никуда бежать, ни от кого скрываться. Все предосторожности принимались за меня, я не знала никаких забот. Именно поэтому во мне возникало чувство благодарности к отцу…
И еще я вспоминала Рене. Его лицо всплывало перед глазами как бы сквозь туман, я лучше помнила его бархатный голос, его иронию и насмешливые искры, плясавшие в глазах. А еще, то томное, сладострастное желание, разливавшееся по телу, когда он прикасался ко мне. Каким он должен быть хорошим любовником, а я так и не узнала этого… Мы вели себя как дети, я кокетничала, выжидала, сама не зная чего… Бред сладостных воспоминаний рассеивался, я снова была буквально раздавлена отчаянием. Мы впустую потеряли шесть месяцев, без конца выясняли отношения… А теперь Рене в тюрьме; меня столько раз насиловали и унижали. Даже если нам суждено снова встретиться, он не простит мне этого. Хотя видит Бог, я ни в чем не виновата.
Чтобы отвлечься от мрачных мыслей и не расплакаться, я тихо поднялась, подошла к детям, мирно спавшим на соломенных тюфяках. Жанно, как всегда, сбросил с себя одеяло, одну руку своевольно откинул в сторону, прямо на лицо Авроры. Я осторожно склонилась над ним, мягко прикоснулась губами ко лбу.
– Мой маленький принц, – прошептала я. – Спи! И расти побыстрее. Мне так хочется, чтобы ты стал взрослым и сильным.
Он не слышал моих слов и тихо дышал во сне. Я еще раз поцеловала его, поймав себя на мысли, что принц, пожалуй, был прав, и Жанно лучше пока ничего не знать о своем настоящем отце.
8
Замок Шато-Гонтье был нашим родовым, но заброшенным поместьем. Возведенный почти одновременно с Сент-Элуа в XII веке во времена Филиппа-Августа, он тем не менее никогда не подвергался перестройкам и до сих пор хранил на себе печать средневековья. Это был большой, мощный замок, прислонившийся к стофутовой скале над речкой и вздымавший свои башни над вековыми дубами, окружавшими его. Крепостная стена несколько обветшала и, уже начавшая разрушаться, скрывала квадратный замковый двор, часовню, казарму, построенную некогда для лучников, амбары и конюшни. Все это было в полном порядке, но казалось таким древним, что невольно увлекало воображение в минувшие столетия.
Везде здесь можно было наткнуться на вещи, помнившие еще средневековье. Здесь не было напоминаний о помпезных эпохах барокко и кокетливых временах рококо. Длинные каменные коридоры освещались дымными ржавыми факелами, голоса под готическими сводами часовни звучали до жуткости гулко… Не было ковров, светильников с мягким светом', изящных зеркал и прочих милых атрибутов, создающих уют; окна тут были узкие, Как витражи в церквах, и тщательно закрытые коваными решетками. Камины топились вовсю, но постель оставалась холодной, а солнце нехотя проникало в слишком большие комнаты. В сундуках, таких тяжелых и окованных железом, хранились роскошная одежда времени Луи XII и даже фолианты, отпечатанные еще при Гутенберге, а сквозняк заставлял бряцать старинные мечи и шлемы, забытые на стенах. Здесь я впервые столкнулась с живыми отголосками истории.
Я бы не удивилась, встретив в мрачной галерее призрак легендарной Эрмелины д'Аркур, второй жены Готье де ла Тремуйля, убитого в 1356 году в битве при Пуатье, когда он пытался освободить захваченного в плен короля Иоанна. Эрмелина д'Аркур с мечом в руке целых три месяца защищала свой замок от англичан, пока одна из английских стрел не поразила ее. Она была моей прабабкой в каком-то там колене. А была еще прелестная Агнеса де Монфор, также жена одного из Тремуйлей, которая больше всего любила строить заговоры. Она предоставила замок Шато-Гонтье в распоряжение принцессы Конде, когда та в 1650 году бежала из Парижа от гнева Анны Австрийской. Потом была целая цепь приключений, побег вместе с любовником под знамена герцога де Бофора и таинственная смерть в одном из походов. Эта принцесса так любила Шато-Гонтье… И Эрмелина, и Агнеса ходили по этим коридорам, спали в той же огромной крепкой кровати, что и я. Они жили во времена достаточно суровые и жестокие, были подвержены влиянию пламенных страстей и любили жизнь с таким пылом, что не задумывались о смерти. Я могла гордиться своими предками; они – и женщины, и мужчины – превыше всего ценили честь и страсть. Возможно, если бы они увидели меня сейчас, то сочли бы лишь бледным своим подобием. Куда XVIII веку до подвигов и преступлений средневековья…
В часовне до сих пор хранилась ветхая книга с записями церковных церемоний. Я могла прочесть, как рождались, умирали и венчались мои предки на протяжении нескольких столетий.
Здесь так много ценного, памятного, дорогого, того, чем можно восхищаться, что следовало оценить и запомнить. Мой род рос и мужал вместе с Францией, и редкое семейство могло похвалиться такой славной историей. Ей-богу, я не могла понять, почему сейчас это все вменяется нам в преступление. Нынче почему-то в цене были люди, помнившие только своего деда и бабку, да и то смутно. Честное слово, Франция впала в безумие, в странный умственный паралич. Только Богу известно, к чему это приведет.
За речушкой, обвивавшей замок серебристой лентой, начинался огромный Пертрский лес. Там скрывался отряд из шести тысяч человек, преданных моему отцу. Эти люди вырыли себе для жилья норы, возвели под землей целые города, полные лабиринтов и ловушек. В одну из таких нор, оборудованную под штаб и командный пост, вел из замка подземный ход. Словом, был путь на случай поражения или отступления. Но пока что, ни о чем таком речи не было.
Отец постоянно был в отлучке. Словно вылитый из железа, он целыми днями был в седле; в жару и проливной дождь он носился по Иль-и-Вилэну, не зная ни усталости, ни груза прожитых лет; обретя в этой войне новую молодость. Как я поняла, смысл его жизни сейчас состоял в борьбе против Революции, и в своей ненависти к ней он был готов действовать так же жестоко, как это делали противники. Обе стороны ожесточились, круг замкнулся, и не было видно конца кровопролитию.
Мятежники торжествовали: победа следовала за победой, и мой отъезд в Англию все время откладывался. Кто знает, как обернутся события? Может быть, восстанет вся Франция, подобно Вандее, Анжу, Пуату и Бретани, может быть, к мятежным Бордо, Лиону и Тулону присоединятся другие города, и история повернет вспять, а Революция закончится? По правде говоря, я не верила в это. Но все вокруг именно на это и надеялись. Я не высказывала своих сомнений вслух. Мне не хотелось уезжать в Англию. Я сознавала опасность, грозившую мне здесь, но я помнила о Рене и не могла уехать, так ничего и не сделав для него.
– Я снова отправляюсь в Англию, – сообщил мне отец в конце июня, – и в Хартвел-Хауз у меня будет встреча с графом д'Артуа. Я привезу Жану его родовое имя и титул, будьте уверены.
– А я, я снова останусь одна?
Принц мягко сжал мою руку.
– Нет. Вы не будете одна.
Заметив мое недоумение, он добавил, сдержанно улыбаясь:
– На днях сюда приедет наш друг маркиз де Лескюр. Его отряд по соседству с моим, вы же знаете. А еще с ним будет женщина, наша связная. Она поедет со мной в Англию.
Лескюр… Он снова будет рядом со мной. Отец знал, какое имя может меня успокоить. И он позвал именно того человека, который был мне нужен.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ГРАФИНЯ ДЕ КРИЗАНЖ
1
Был чудесный вечер, вернее, тот предвечерний час, когда сумерки еще не сгустились, а солнце из золотого становится пурпурным. Золотисто-карие тени ложились на землю, а небо было еще светлым и голубым, как краски ляпис-лазури.
От нечего делать я вышивала шелком напрестольный покров, то и дело поглядывая в окно. Чем не принять меня за сестру Анну из старой сказки о Синей Бороде? Словно услышав мои мысли, на дороге, вьющейся вдоль речной излуки, показались несколько всадников. Они скакали галопом, я видела, как ветер развевает белые ленты у них на шляпах.
– Мой отец в замке, Маргарита?
– Конечно. Сегодня он ждет каких-то гостей.
– Ну так ступай скажи ему, что они едут.
Маргарита медленно отправилась исполнять приказание.
Хотя, пожалуй, отец еще раньше, чем я, узнал о приближении всадников. К тому же он должен был послать предупреждения наблюдательным постам, иначе гостям вряд ли удалось бы проникнуть так близко к Шато-Гонтье. Здесь за каждым кустом, каждой изгородью, в каждом овраге Бокажа таился роялистский мятежник.
Всадники проскакали мост, повернули к замку, и я уже без труда пересчитала их: девять человек, и один из них, несомненно, маркиз де Лескюр. Сейчас они уже въезжали во двор. Сама не знаю, почему я подошла к зеркалу. Наряд на мне был простой – яблочно-зеленый лиф, темный корсаж и голубая юбка, – но кокетливый: он прекрасно подчеркивал тонкую линию талии и соблазнительно облегал грудь. Почему, услышав о появлении Лескюра, я всегда прихорашиваюсь?
Они, наверно, уже поднялись в гостиную, мрачную и прохладную, как средневековый зал. Разыскав Пьера Голье по прозвищу Большой Пьер, правую руку отца, я приказала принести в гостиную как можно больше свечей и позаботиться о хорошем ужине. Пьер был с виду не слишком умным, неповоротливым, но можно не сомневаться, что в этом он проявит толк.
Я полагала, что моя встреча с Лескюром будет сердечной, как всякая встреча со старым и надежным другом, но на пороге гостиной остановилась в нерешительности. Он был не один, с ним была дама. Высокая стройная женщина в большой черной шляпе и красном платье, отделанном черным бархатом. Кто она ему? Я постеснялась при ней проявлять свои чувства. Может, она его жена… Поэтому в ответ на его поклон я лишь сделала легкий реверанс.
Дама подошла поближе. Светлые завитки волос цвета спелой пшеницы падали из-под черной шляпы, прозрачные голубые глаза, не большие, а раскосые, русалочьи, окинули меня внимательным взглядом. Она была уже не первой молодости, ей, наверное, не меньше сорока, но она оставалась такой стройной, легкой и грациозной, с таким изяществом носила платье, что невольная мелкая ревность кольнула меня в самое сердце.
– Моя кузина, графиня де Кризанж, – кратко представил ее Лескюр.
Я прикоснулась пальцами к ее дружественно протянутой руке – тонкой, затянутой в черную перчатку. Что-то знакомое почудилось мне в ее имени. Флора де Кризанж – уж не о ней ли сплетничали юные аристократки в монастыре святой Екатерины? Любовные похождения, интриги, похищения, дуэли – чем только не прославилось ее имя… А теперь она стала роялистским агентом. Да только она ли это? Мало ли Кризанжей на свете.
– Прошу вас, Фло, садитесь, вы устали.
Раз Лескюр называет ее Фло, стало быть, это та самая Флора де Кризанж, блиставшая в парижском свете и неожиданно уехавшая в провинцию в году эдак 1786-м.
– Благодарю, но я бы охотнее отдохнула и переоделась в своей комнате, если только наша прелестная хозяйка предоставит мне ее, – мелодичным голосом произнесла графиня.
– Маргарита проводит вас. И вас, маркиз, – ведь вы тоже нуждаетесь в отдыхе.
Одежда Лескюра после долгой скачки была в пыли и грязи, и я видела, что он устал. Хотя, надо сказать, его поведение удивляло меня. Он держался очень холодно и официально. Должно быть, эта графиня для него не только кузина, и я вела себя совершенно правильно, не проявляя своих нежных чувств.
– Господа, – очень вежливо сказала я вслух, – ужи в Шато-Гонтье обычно бывает в девять вечера. Мы будем рады видеть вас в столовой замка.
Выходя, графиня еще раз улыбнулась мне. Конечно, она его любовница! И она понятия не имеет, что еще месяц назад этот самый Лескюр признавался в любви мне, а не ей.
– Это та самая связная, с которой вы отправляетесь в Лондон? – шепотом спросила я, обращаясь к отцу.
– Да. Она несколько месяцев собирала сведения в Париже, она доверенный человек графа д'Артуа.
Поистине, эта женщина была связана со всеми, кто когда-либо любил меня. Я невольно заинтересовалась.
– Почему она так мрачно одета? Черное с красным – это цвета дьявола…
– Она всегда так одевается. Может быть, она носит траур по своему мужу, – задумчиво произнес отец. – Его казнили десять месяцев назад. Впрочем, это наверняка не так; они не питали друг к другу особой любви. У них все время происходили скандалы…
– Из-за чего?
– Из-за адюльтера. Эта графиня на редкость пылкая женщина. Ее муж служил на Корсике, а она в Париже делала что хотела. Она изменяла ему даже с буржуа. Кажется, лет восемь назад она так любила Рене Клавьера, что даже помышляла о разводе. Представляете? Любить этого буржуазного выскочку… Вот почему у меня нет к ней полного доверия.
Глазами, полными ужаса, я смотрела на отца.
– А он?
– Что – «он»?
– Он, Рене Клавьер, любил ее?
– Безумно. Можно даже сказать, она научила его любви. Ей ведь уже не так мало лет, она старше его лет на пять. Было время, когда она одна в Париже принимала его, не обращая внимания на мнение аристократии.
Отец немного помолчал и спросил:
– А почему, собственно, это вас так задевает?
Меня «задевает»! Да я была просто ошеломлена. Я слегка ревновала ее к Лескюру, но, то был лишь булавочный укол по сравнению с тем, что я почувствовала теперь. Какой кошмар!.. Зачем она сюда приехала? Я не смогу с ней даже разговаривать!
Жизнь в Версале научила меня оценивать возможности женщины с первого взгляда. Графиня де Кризанж показалась мне необыкновенной и особенной. Это не была Тереза Кабарьюс или Луиза Конта, которых когда-то содержал Клавьер. Даже в свои сорок лет она хороша. Эта кошачья грация, томный взгляд по-восточному узких глаз, безукоризненная фигура. Можно было себе представить, какова она была в молодости!
Это моя соперница, красивая и умная, ловкая и опытная настолько, что я, несмотря на свои почти юные годы, не взялась бы с ней тягаться.
И тогда у меня промелькнула спасительная мысль, что, может быть, их связь уже в прошлом. Рене никогда не вспоминал о графине, как, например, о некой квартеронке Глории. Стало быть, она не занимала его мыслей.
Или, черт побери, занимала их настолько, что он не решался говорить о ней со мной?
2
К ужину Флора де Кризанж явилась в безупречном совершенно черном платье, схваченном чуть выше талии античными камеями. Ослепительно белый кружевной воротник подсвечивал лицо снизу и молодил ее. Она знала секреты версальских кокеток, знала, как показать себя в наилучшем свете, и прекрасно этим пользовалась.
Я едва могла говорить с ней и лишь благодаря воспитанной в монастыре сдержанности удерживалась от того, чтобы не разглядывать ее слишком откровенно. Меня задевало все – ее внешность, одежда, манеры, голос, и чем больше я наблюдала, тем усиливалось мое огорчение. Она была неуязвима для критических стрел. Если сравнивать женщин с цветами, то графиня была розой, а я чувствовала себя полевым цветком.
– Сюзанна сегодня рассеянна, – извиняющимся тоном сказал отец, когда я в очередной раз ответила невпопад. – Ей слишком многое пришлось пережить, она еще не совсем оправилась. Графиня, видели ли вы моего внука?
По приказу отца был разыскан Жанно – нарядный, одетый в шитую золотом военную форму дореволюционных времен. Графиня обошлась с ним чрезвычайно ласково, мальчик даже обнял ее, хотя обычно не был расположен к таким нежностям, и это было для меня новым уколом в сердце.
– Юный наследник, маленький принц де Тальмон, – звучал, как сквозь туман, голос отца, который внуком гордился гораздо больше, чем мною в детстве.
Не выдержав, я поднялась из-за стола, и, следуя законам этикета, мужчины тоже встали. Я знаком остановила их.
– Ради Бога, простите меня. Я дурно себя чувствую.
Раздраженная, я вышла в прохладную галерею, прижалась лбом к холодным прутьям кованой решетки на узком окне. Теперь, когда рядом не было этой великолепной графини, я почувствовала себя лучше и спокойнее. Как хорошо, что завтра на рассвете она уезжает вместе с отцом в Лондон!
Жанно разыскал меня, изо всех сил потянул за руку.
– Мама, мама, почему ты ушла? Я ласково привлекла его к себе.
– Малыш, не обнимай больше эту женщину, пожалуйста. Ты делаешь мне больно.
– Почему? Она такая красивая и добрая. От нее пахнет гвоздикой, как когда-то в саду… ну, помнишь, еще тогда, когда мы жили в Париже. Я зарывал под грядками гвоздики патроны от дяди Франсуа.
– Да, помню.
– Я не люблю, когда ты такая. Ты хочешь плакать, да?
– Нет, что ты.
– Я боюсь, когда ты плачешь. Но та дама в черном платье все-таки добрая.
– Мой дорогой, она не была бы такой доброй, если бы знала чуть побольше обо мне.
– Правда?
– Я так думаю.
– Хорошо. – Он поцеловал меня в щеку. – Она и вправду не такая уж красивая. Ты красивее, да!
Он вырвался из моих объятий, побежал по галерее, оглашая ее громкими криками, – ему нравилось эхо. Потом остановился и весело крикнул мне:
– А если дед еще позовет меня к ней, я ни за что не пойду! А я уже успела пожалеть, что ввязала ребенка в это дело.
До самой ночи я просидела у открытого окна западной башни, ссылаясь на то, что у меня мигрень и я нуждаюсь в свежем воздухе. Он и вправду меня успокоил. Я долго думала, размышляла и наконец нашла, что мой первый ревнивый порыв был крайне глуп.
Без сомнения, графиня де Кризанж красива и обаятельна. Но ей сорок лет, а мне двадцать три, и это кое-что значит. Кроме того, мои опасения были совершенно напрасны. Я так привязалась к Клавьеру, что любой намек на его какие-либо серьезные увлечения меня уязвляет. И красота графини еще не доказательство того, что он до сих пор влюблен в эту женщину. Он никогда не говорил о ней, я даже не слышала никаких сплетен и пересудов, к тому же, в то время, когда я не любила Клавьера, а скорее ненавидела, он никогда не появлялся с графиней в обществе. Так что вполне возможно, что их связь порвана еще много лет назад, когда очаровательная Флора де Кризанж уехала в провинцию.
Не мог же Рене мне лгать!
В конце концов, я тоже не из пеленок попала к нему в объятия. Я дважды была замужем, дважды переживала сильную страсть – с графом д'Артуа и с адмиралом. Но сейчас все это меня ничуть не волнует. Воспоминание о графе вызывает у меня лишь легкую улыбку, о Франсуа – гнев. И мне было бы странно, если бы Рене ревновал меня к ним.
Так почему же я ревную? Честное слово, мои предчувствия совершенно беспочвенны.
Успокаивая саму себя, я взяла со столика свечу, намереваясь возвратиться к себе в спальню: вечер был очень свеж и прохладен. За ужином я почти ничего не ела, и теперь мне хотелось спуститься в кухню, чтобы перекусить. Странно, конечно, что от размышлений у меня не пропал аппетит, но раз уж мне хочется есть, то…
Звуки громкого спора привлекли мое внимание. Я замерла на лестнице, ведущей в хозяйственные помещения. Свеча тихо мерцала у меня в руке, горячий воск капал на пальцы. Я внезапно поняла, что нахожусь рядом с комнатой, отведенной графине де Кризанж, и голоса доносятся именно оттуда.
– Не прикасайтесь ко мне! – вскричал женский голос.
– Я думал, вам стало дурно и вы падаете в обморок.
– Падаю в обморок? Я? Я? Когда мне больно, я не падаю в обморок, как какая-нибудь слабовольная дурочка!
Любовь и ревность взыграли во мне с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Аристократические правила благородства предписывали мне тут же удалиться и не подслушивать. Но графиня?.. И маркиз? Они разговаривали о чем-то важном, рядом, в двух шагах от меня, мне надо было лишь стоять на месте, чтобы все слышать! Я не способна была уйти. Пусть я поступаю низко, пусть… честно говоря, мне наплевать на это, я не чувствую никакого стыда.
– Кузина, вы меня удивляете, – услышала я голос маркиза де Лескюра. – Мне казалось, дело идет на лад, и за ужином вы вели себя превосходно. А теперь у вас снова расстроились нервы. Вы готовы поставить под сомнение успех вашей миссии!
– Нет, – низким голосом возразила Флора де Кризанж. – Вы ошибаетесь. Королева в Тампле, я сделаю все, чтобы помочь ей. Но сейчас у меня нет сердца, Лескюр, оно осталось в Париже, и я становлюсь безжалостной.
Они замолчали. Кажется, маркиз наливал ей стакан воды, а она, вероятно, пила, чтобы успокоиться. Я бесшумно подошла поближе, чтобы лучше слышать.
– Вы что, так влюблены в этого негодяя? – спросил маркиз после долгой паузы. – Вы просто смешите меня.
– Не смейте называть его негодяем! Он передал мне целый пакет сведений об этих революционных подонках-политиках, о пороховых складах и заседаниях Комитета общественной безопасности. Для нашего дела он сделал очень много, любой король возвел бы его в герцоги!
– Вы несете чушь, кузина. Вам самой отлично известно, что он сделал это не за так; за эти услуги Англия позволяет его судам проходить сквозь блокаду…
– Сейчас ему это ни к чему. Он в тюрьме, его хотят казнить, а я сижу здесь с вами и слушаю, как вы называете его негодяем!
У меня сжалось сердце, я едва не выронила свечу из рук. Человек, который сидит в тюрьме, вращается среди политиков и прорывает кольцо английской блокады, – о ком же шла речь, как не о Клавьере!
Внезапно Флора заговорила быстро, страстно, горячо:
– Вы не представляете, Лескюр, что я перенесла! Как я страдала! Я вставала на рассвете, одевалась в простое платье и до поздней ночи стояла у Люксембургской тюрьмы в ожидании, что увижу его в окне или он сделает мне какие-то знаки. Это случалось так редко! За четыре месяца я видела его всего три раза, и все мельком. Мне мало удалось узнать… Эти мерзавцы арестовали его из-за его богатства, они требуют у него назвать счета в лондонском и женевском банках и за это обещают ему жизнь, но ведь это все ложь! Они сразу отрубят ему голову, если узнают. Для него единственное спасение теперь – молчать и тянуть время… А когда Рене перевели в Консьержери и я лишилась возможности видеть его хоть изредка, я готова была отравиться. Ей Богу, я не шучу. Но он переслал мне письмо, он не хочет, чтобы я умирала.
– Фло, Фло, успокойтесь, ваше поведение меня пугает.
– Вас пугает! – мрачно повторила графиня.
– Знали бы вы, что у меня на душе!.. Ах, Лескюр, вы хороший друг, но вы ничего не понимаете.
– Правда? – иронически переспросил маркиз.
– Вы понятия не имеете, каков этот мужчина. В своей жизни я не встречала никого, кто был бы похож на него. И это не преувеличение. Знаете, как я с ним познакомилась?
– Ну, вероятно, в какой-то бакалейной лавке.
– Да нет же, не смейте смеяться! Восемнадцать лет назад у меня был любовник, герцог дю Трамбле, который изменил мне с какой-то юной аптекаршей, совершеннейшей дурочкой. Я была молода и очень красива, я решила выследить его и порвать с ним. Мне нужен был повод. И вот однажды, приехав в тот аптекарский дом, где у герцога происходили свидания, я увидела…
– Кажется, я читал подобное в каком-то романе.
– Я говорю правду. Я увидела, как моего драгоценного герцога без всякого почтения к его титулу отчаянно тузит и бьет какой-то юноша – высокий, сильный, лет семнадцати. Да еще и блондин… Вы представляете? Оказывается, он тоже был увлечен глупенькой аптекаршей и не желал делить ее даже с герцогом.
– Моя милая Фло, и как же вы поступили?
– Я подождала, пока юный блондин хорошенько поколотит герцога, а потом, когда явилась полиция, взяла его е свою карету. Не скрою, меня разбирал смех. Юноша выглядел в этой драке намного лучше, чем мой герцог… Мальчишка назвал себя Рене Клавьером и хвастливо сообщил, что однажды уже сидел под арестом за ножевую драку с одним из своих одноклассников-аристократов. Подобное безрассудство меня удивило. В мальчишке чувствовалась какая-то необузданность, непредсказуемость… Кроме того, он был так хорош, этот юный дьявол, и так силен, что у меня при взгляде на его руки возникла шальная мысль, что в его объятиях я почувствую себя совсем недурно… Я стала его учительницей, кузен.
– Заставив позабыть об аптекарше?
– О-о, в два счета! Я была куда более привлекательна. А он все схватывал на лету… К сожалению, потом случилась та катастрофа, и мы расстались на долгие годы. Но мой мальчик вернулся ко мне. Муж заставил меня уехать в провинцию, но мы все равно виделись. А последний год был просто годом счастья. Мы почти не расставались…
У меня перед глазами словно вспыхнула молния. Не расставались! Последний год? Да что же она такое городит?
Не в силах слушать дальше и чувствуя, как разом рассыпается на мелкие кусочки все то, чем я раньше жила, я бросилась вверх по лестнице, подальше от этого низкого страстного голоса, принадлежащего женщине, которая знала Клавьера почти всю жизнь, в то время как я стала узнавать его лишь несколько месяцев назад. Задыхаясь и вытянув руки вперед, как слепая, я почти на ощупь разыскала дверь своей комнаты. Было темно, я ничего не могла разглядеть. В ночном мраке смутно белел полог кровати. Я упала на холодные покрывала, зарылась лицом в подушку и замерла, ощущая, как лед подступает к сердцу. Сейчас я была слишком оглуплена услышанным, чтобы что-то понять и обдумать.
Какое-то время я пролежала неподвижно, ничего не видя и не слыша, без единой мысли в голове. Мало-помалу ко мне возвращались чувства. Я слышала, как тихо потрескивает фитиль в старом-престаром светильнике. Потом сквозь тишину в моих ушах снова прозвучал бархатный голос Флоры де Кризанж, ее дразнящий смех, и я окончательно осознала все услышанное, до малейшей подробности. Боль на мгновение исчезла, и я могла задуматься.
Нужно достать то письмо, которое Рене якобы переслал ей из Люксембургской тюрьмы; нужно непременно его достать и прочесть. Что он ей писал? Был ли его тон таким же, как в разговорах со мной? Как он называл ее, что вспоминал, и правда ли то, что с этой негодной женщиной он встречался целый год, не говоря мне ни слова?
От ярости я до боли прикусила кожу ладони зубами. Меня захлестнуло страшное чувство отчаяния и гнева, такое мощное, что я не могла с ним совладать. Его посадили в тюрьму, он через лакея запретил мне вести какие-либо хлопоты за него, он даже мысли не допускал, что я волнуюсь из-за него! А Флора де Кризанж знала о нем все до подробностей, часами стояла у его тюрьмы, он писал ей письма и даже отговаривал ее от самоубийства! Не было ли это доказательством его любви и страсти?
Он лжец, как и все мужчины, лжец и предатель! Я, я даже помыслить не могла, когда он так настойчиво ухаживал за мной, что он встречается с другой женщиной! Как для Анри, как для Франсуа я была для него лишь желанной целью, которую он хотел заполучить. Никто не любил меня ради меня самой, и Рене не исключение. Ну и прекрасно… я обойдусь без такого рода любви. Когда-то, расставшись с Франсуа, я уже давала себе такое обещание. Но в мою жизнь вошел Рене Клавьер, мне показалось, что я воскресла и снова обрела надежду. А он только забавлялся этим, и вся игра шла не всерьез.
Я была глупа, и снова наказана за это. Надо быть удивительной дурой, чтобы поверить Клавьеру, поверить настолько, что самой в него влюбиться. Для меня даже стала безразлична разница в нашем происхождении, я предпочла обо всем забыть, я доверяла ему, как никому другому.
И я все равно люблю его.
Даже сейчас воспоминание о тех редких встречах заставляло таять лед в груди, и невольная чувственная теплота разливалась по телу. Голос Рене всегда звучал так искренне… Никто никогда не проявлял обо мне большей заботы. И он ничего от меня не требовал. Он ждал, пока я приду в себя и обрету спокойствие. Нет, такое поведение не может быть лживым, иначе ничто на свете не достойно моего доверия.
Значит, лгала Флора де Кризанж?
О, эта женщина! Я ненавидела ее уже за то, что она так хорошо много лет знала Рене, в то время как для меня он оставался загадкой. Ему было семнадцать, когда они познакомились. А ей? Двадцать два? Да она старуха для него! И, однако, эта старуха так хорошо разбирается во всех обстоятельствах его судьбы. Она упоминала даже о какой-то катастрофе. Я понятия не имела, что это означает.
Надо во что бы то ни стало заполучить письмо Рене, пусть даже для этого мне придется обыскать комнату графини де Кризанж…
Я долго сидела в темноте, слушая, как шелестят под ветром кроны вековых дубов, и самые противоречивые мысли теснились у меня в голове. Я то вспыхивала от гнева, то успокаивалась, отчаяние и ревность терзали меня одновременно. И несмотря на то, что я чувствовала, я не могла избавиться от мысли, что Рене все-таки частично предал меня, лгал мне, и в порыве ревности я склонна была полагать, что подобный поступок заслуживает наказания или мести – это уж как посмотреть.
3
С тех пор как на западе Франции вспыхнул мятеж, триста тысяч восставших против Республики крестьян не знали поражений. Эта темная, неорганизованная, дикая масса людей, знающая лишь серп и вилы, одерживала победу за победой и гнала прочь синие отряды регулярной армии, била парижские батальоны санкюлотов и брала город за городом. У вандейцев не было ни артиллерии, ни оружия, ни даже лошадей, и тем не менее над такими важными пунктами, как Шоле, Фонтенэ-ле-Конт и Шантене, уже несколько месяцев развевалось белое королевское знамя. Высший военный совет католической армии провозгласил сына Марии Антуанетты, семилетнего дофина Шарля Луи, Людовиком XVII, королем Франции.
9 июня сорок тысяч вандейцев после ожесточенного штурма овладели Сомюром, где располагался республиканский штаб, и обратили в бегство республиканских генералов Росена, Парена и Россиньоля. Через несколько дней пал Анже, столица герцогства. Республиканцу Вестерману удалось на время выбить вандейцев из Шатийона, но через несколько дней этот город снова оказался в руках белых, а полупьяный сонный Вестерман едва успел спастись бегством.
Но в начале июля эта лавина побед была остановлена.
Белые дошли до Нанта и взяли его в кольцо, надеясь на то, что за время осады англичане подоспеют на помощь. Англия обманула эти ожидания, а защита Нанта оказалась неожиданно толковой. Штурм вандейцев был отбит после двухнедельной осады, белые понесли тяжелые потери. Был смертельно ранен главнокомандующий армией Кателино, убит знаменитый предводитель Гастон, бывший парикмахер. Командование принял аристократ, принц д'Эльбе.
Англичане пытались высадиться в Мандрене, но республиканцы несколькими решительными боями предотвратили эту попытку.
Все эти неприятные известия встревожили отца. Он ехал в Англию сердитый, раздосадованный и готовый высказать кучу упреков его королевскому высочеству графу д'Артуа. Графиня де Кризанж, которая должна была передать принцу множество секретных сведений из Парижа, была, напротив, в самом лучшем настроении и ласково улыбалась, выезжая за ворота. Ни один иезуит не мог бы лучше скрывать свои истинные чувства.
Я стояла в одиночестве посреди большого двора, похожего на каменный колодец, а вокруг меня в беспрерывной суете бегали люди: оборванные вандейцы, крестьяне, то воюющие за Бога и короля, то возвращающиеся на свои поля и, как в давние времена, просящие у сеньора денег. Я толком не знала, кто здесь кто. Людей было много, вероятно, они нужны для охраны Шато-Гонтье. Хотя как удалось бы синим проникнуть так глубоко в Иль-и-Вилэн? В любом случае, этими незнакомцами командовал Большой Пьер, а я знала, что на него можно положиться.
– Вот мы и снова одни, мадам, – услышала я знакомый мужской голос.
Он принадлежал маркизу де Лескюру. Я удивленно пожала плечами. Со времени своего приезда в Шато-Гонтье маркиз впервые заговорил со мной по-человечески.
– Кажется, мы договаривались, что будем называть друг друга по имени.
– Да. Я все время забываю, простите.
Я почти физически почувствовала, как обрушилась та невидимая стена, что нас разделяла. Я дружески протянула ему руки, и он порывисто, горячо сжал их в своих. Его движение никак нельзя было назвать только дружеским. Оно даже согрело меня. Приятно все-таки иногда ощутить, что кто-то тебя любит.
– Ваша кузина… – начала я нерешительно.
– Что?
– Она вправду ваша кузина? А то, знаете, в Версале всех друзей называли кузенами и кузинами.
Он рассмеялся.
– Она моя знакомая. Не кузина, но дальняя родственница. В конце концов, все аристократы, наверное, родственники между собой.
– Она великолепная женщина, – сказала я задумчиво. Лескюр еще сильнее сжал мои руки.
– Правда? Я не нахожу в ней ничего привлекательного, она слишком жесткая, совсем как мужчина.
Я знала, что это неправда и что графиня, когда нужно, может быть сама нежность и сама благовоспитанность, но все-таки… все-таки от того, что Лескюр не очень восторженно отозвался о ней, я ощутила странное облегчение.
– Она хороший агент? – спросила я недоверчиво.
Облачко пробежало по лицу маркиза, синие глаза помрачнели. Наверно, решила я, он боится, что она слишком нервна и своей невыдержанностью многое может испортить. Но чего теперь можно бояться? Графиня поехала в Англию, там она встретит только друзей. Это в Париже ее нрав мог сыграть с ней дурную шутку.
– Сюзанна, оставим Фло в покое. За те две недели, что я руководил ее продвижением, я ужасно устал. Она просто невыносима. Я только и делал, что успокаивал ее.
Он произнес это так искренне, с таким раздражением в голосе, что я простила ему его невежливость. Конечно, аристократ не должен так отзываться о женщине… Но тут речь идет об этой негодной Флоре де Кризанж. Она посмела украсть у меня Рене!
– Поговорим о нас? – неожиданно предложила я.
– Охотно.
Мы снова говорили как друзья, словно того поцелуя на пороге гостиницы на острове Ре вовсе не существовало. Мы с Лескюром поднялись по лестнице, опустились на старинную скамейку у окна. Он все так же сжимал мою руку в своей.
– Итак, отец попросил вас последить за моей безопасностью. Не так ли, Луи Мари?
– Разумеется.
– И вы все время будете жить в Шато-Гонтье?
– Нет.
– Что значит это «нет»?
– То, что я вынужден буду уезжать. Я, кстати, уеду уже сегодня и вернусь только завтра к вечеру. Вы же знаете, сколько у меня людей. Их нельзя бросать надолго.
– И я буду здесь одна? – вскричала я в ужасе.
– Я расставлю, где надо, часовых, наведу здесь порядок и только тогда уеду. Вам ничто не угрожает.
Он взглянул на меня и добавил:
– В конце концов, это одиночество еще не самое страшное из того, что вам довелось пережить.
– Да, это правда! – рассерженно воскликнула я. – Я ко всему привыкла. Странно только, что свою так называемую кузину, это Флору де Кризанж, вы опекали целых две недели, а со мной не в силах провести и нескольких часов!
– Флора – наш агент, – извиняющимся тоном сказал Лескюр. – Долг обязывал меня сопровождать ее.
– Ваш долг! – повторила я с горечью. – Все всегда говорят мне о долге и этим оправдывают то, что бросают меня без всякого сожаления. Прекрасно, господин де Лескюр, ступайте, исполняйте свой долг… По-видимому, те слова, которые я имела честь услышать от вас на острове Ре, ни к чему вас не обязывают.
Только когда эти слова сорвались с моих губ, я поняла, что коснулась самой пронзительной и сокровенной струны в наших отношениях. Раньше мы делали вид, что ее не существовало. Но я вспомнила о ней, и вся искусственность нашего поведения разом разрушилась.
– Почему вы называете меня «господин де Лескюр»? – тихо произнес он.
Рассерженная, я молчала. Как же мне его называть? Я так надеялась на него, так боялась остаться одна в этом мрачном замке, а он заявляет мне, что какие-то люди нужны ему больше, чем я. Разве это дружба?
– Сюзанна, вы ошибаетесь. Я не бросаю вас, я позабочусь о вашей безопасности…
– Да я вовсе не об этом говорю! Мне нужны не ваши часовые, а ваше общество! Луи Мари, как вы можете не понимать этого?
Мой голос прозвучал и укором, и мольбой одновременно. Я и сама не заметила, как сильно мои пальцы сжимают его руку. Так не хочется, чтобы он уезжал… Я больше всего на свете боялась снова ощутить то странное отчаяние одиночества, которое с лихвой испытала, бродя по улицам Парижа и плутая в бесчисленных закоулках провинциальных дорог.
– Вы говорите правду?
Казалось, его руки сами собой легли на мои плечи, медленно и ласково скользнули к шее, коснулись щек… Он осторожно потянул меня к себе.
И тут всякой сдержанности пришел конец. Я буквально упала ему на грудь, он сжал меня в объятиях страстно, неудержимо; он даже невольно причинил мне боль, и я едва слышно вскрикнула. Все утонуло в его бешеном, долго сдерживаемом желании. Я точно отключилась на мгновение от реальности и собственного сознания, ощущая только этот неистовый, жестокий поцелуй, жадно терзающий мои губы, – поцелуй, в котором не было ни тени нежности, а только жажда давно возбужденного мужчины, первобытная грубость, не прикрытая никакими манерами или аристократизмом. Мои губы поневоле разжались; его рот был так настойчив и властен, что мне оставалось только беспрекословно повиноваться. Это была та самая властность, которая на первые несколько мгновений растворяет женское естество, топит его в мужской силе, заставляя почувствовать то превосходство, которое всегда имеет победитель над побежденной.
И тут где-то внутри меня снова возникла боль. Тоска по страсти нежной и ласковой, как летний ветер… Но прежде чем я успела запротестовать, Лескюр сам отстранился.
– О, – только и смогла выдохнуть я.
Мне прекрасно было видно, как он охвачен желанием, как борются в нем аристократическое благородство и страсть. Я инстинктивно поняла, что сейчас больше всего на свете ему, пожалуй, хочется овладеть мною, пусть даже изнасиловать, но только овладеть, и испытала безотчетный страх, мне на миг захотелось бежать куда глаза глядят. Но разве был в мире человек, в ком благородство было так же сильно развито, как в маркизе де Лескюре?
– Я, наверное, веду себя, как последний ублюдок, да?
Мой страх пропал, я даже готова была улыбнуться. Боже мой, Лескюр, конечно же, следуя законам старинной рыцарской чести, вообразил невесть что: и то, что злоупотребил доверием моего отца, что поступил непорядочно, неверно истолковав мои слова, а сама я, разумеется, не имела в виду ничего такого…
– Это зависит от того, как вы ко мне относитесь, – произнесла я, улыбаясь.
Его взгляд снова помрачнел. Ах, я вела себя неправильно: не стоит дразнить его улыбками и кокетничать.
– Я люблю вас, – почти рассерженно бросил он, отворачиваясь. – Но вы так красивы и женственны, что иногда нет никакой возможности сдерживаться. Быть с вами и не желать вас – это невозможно.
– Боже мой! Стоит ли так волноваться из-за одного поцелуя?
Он резко поднялся, словно хотел избежать моего прикосновения.
– Вы и себя, и меня подвергаете опасности, Сюзанна. Я мужчина, вы женщина, и меня неудержимо влечет к вам. Вы понимаете это? Я ведь только мужчина. Не солдат, не железный воин за дело короля и аристократии. И мне останется только пустить пулю в лоб, если я в один прекрасный день потеряю рассудок настолько, что оскорблю человека, который доверил мне свою дочь.
– Оскорбите моего отца? Но как?
– Решившись на то, от чего я только что удержался.
Я почувствовала, как с каждой минутой становлюсь все глупее. Пресвятая дева, впервые в моей жизни мужчина делает из этого трагедию!
– Что же вы мне предлагаете? – спросила я совершенно растерянно. – По-видимому, вы, как честный человек, господин де Лескюр, укажете мне не только на опасность, но и на то, как избежать ее?
– Я бы хотел жениться на вас.
У меня зазвенело в ушах. Он предложил мне выход самый честный и самый достойный… но какой странный и неподходящий! И почему он придает этому столько значения? Если бы я не любила Рене, я бы не задумывалась так долго и не заставила бы Лескюра так страдать, ибо он первый после Рене мужчина, вызывающий во мне хоть что-то похожее на страсть. Для меня существовала лишь одна преграда – Клавьер. Если бы не он, я бы составила счастье Лескюра. Но вовсе не через замужество! Для счастья не так уж нужен брак.
– Луи Мари, – сказала я наконец, выражаясь как можно более уклончиво, – вы же знаете очень хорошо, что я не свободна.
– Вы? Я не хотел напоминать вам об этом, но ваш муж убит четыре года назад!
– Я была замужем еще раз.
– Но ведь вы разведены и…
– Луи Мари! – сказала я решительно. – Все, что вы предлагаете, совершенно неприемлемо. Во-первых, мой развод ничего не значит, он означает только разрыв гражданского брака. Мы с Франсуа по всем законам венчались в церкви, а Франсуа еще жив, хотя, видит Бог, иной раз я очень желала ему смерти. Во-вторых, я не хочу выходить замуж.
– Почему?
Когда-то уже было такое… С Гийомом Брюном. Какие они оба странные. Ну как можно объяснить, почему я не хочу выходить замуж? Почему? Просто не хочу. Не вижу в этом необходимости. Не хочу создавать семью. И, конечно же, люблю Рене.
Вслух я сказала совсем иное.
– Послушайте, какое имеет значение, почему? Ведь я все равно не свободна. Уже этого достаточно, чтобы вы поняли, что я не могу принять ваше предложение.
– И все-таки, почему вы не хотите? Не можете – это я понял. Но не хотите?
– Луи Мари, вы очень хороший человек. Мы друзья. Мы многое пережили вместе…
Я умолкла, осознав, как беспомощно и бледно звучат мои слова по сравнению с тем, что он чувствует ко мне.
– Друзья! – насмешливо повторил он.
– Разве вы не помогали мне как друг?
– Как друг! Да я люблю вас, я влюблен, как школьник. Если бы вы знали, какая это мука, черт побери, – любить женщину, а вести себя с ней всего лишь как друг!
Его лицо было искажено, словно от мучительной боли. Он скрипнул зубами, с усилием отвернулся, и вдруг резко, порывисто повернулся ко мне, сжал мои руки в своих:
– Черт побери, я сошел с ума. Я веду себя как последняя скотина. Вы вытащили меня с того света, благодаря вам я остался жив, вы так унизились из-за той проклятой бутылки спирта…
– О, пожалуйста, не надо об этом!
– Хорошо. Но как я мог забыть? У меня хватило низости упрекать вас, и за что! За то, что вы так волнуете меня.
– Я никогда не делала этого намеренно.
– Я знаю. Тем гнуснее мои упреки.
Он был так искренне огорчен, что это меня тронуло. Ласково прикасаясь пальцами к его светло-русым волосам, венчавшим голову, склоненную над моими коленями, я произнесла:
– Мой друг, вы ни в чем не виноваты и ничем мне не обязаны. Я спасла вас, но вы тоже сделали для меня немало.
– Забудьте все, что я говорил, – твердил он, не слыша моих слов. – Если бы вы сейчас были оскорблены моим поведением и указали бы мне на дверь, я счел бы это вполне справедливым. Но вы слишком добры, чтобы…
– И я не укажу вам на дверь.
Голос, раздавшийся со двора, напомнил, что лошади уже оседланы и господину де Лескюру надо поторопиться. Я мягко отстранила его. Сейчас это был ребенок, с которым я могла делать все, что захочу. Я впервые видела его таким. Я знала Лескюра бесстрашным, благородным офицером, в одиночку защищавшим от огромной толпы Марию Антуанетту и мужественно отстаивающим каждую пядь двора Тюильри.
– Итак, вы все-таки уезжаете?
Он тряхнул головой, словно приходя в себя и недоумевая по поводу того, что только что происходило. Взгляд синих глаз Лескюра прояснился, он посмотрел на меня почти спокойно.
– Уезжаю ли я?
Маркиз уже был у лестницы и вот-вот должен был скрыться от моих глаз. Но он вернулся, некоторое время молча стоял, словно обдумывая мой вопрос.
– Да, я уезжаю. Но я не поеду далеко, как намеревался.
– Когда вы вернетесь?
– Через несколько часов, уже к вечеру.
4
Я достала большой железный ключ и, оглядываясь, как воровка, вставила его в замочную скважину. Старинный замок натужно заскрипел, но поддался очень легко, и через мгновение я уже переступила порог комнаты. Выглянув еще раз в коридор, я крепко захлопнула за собой дверь и перевела дыхание.
Запах женских духов – вот чем встретила меня комната, в которой одну-единственную ночь перед отъездом в Англию провела графиня де Кризанж. Я снова ощутила себя преступницей, особой весьма невысоких моральных убеждений. Ну и что? Разве я виновата, что эта женщина сама проболталась о письме?
Надо действовать, и как можно скорее. Графиня оставила здесь кое-какие вещи, намереваясь забрать их после возвращения из Англии; среди вещей был саквояж, такой, где обычно хранят бумаги. Я распахнула дверцу шкафа – саквояж был там.
Прежде чем начать свой гнусный обыск, я дрожащими руками зажгла свечу. В комнате было почти темно. Огонек пламени тускло осветил комнату. Я поставила свечу на камин. И тут мне в глаза бросился клочок бумаги, смутно белеющий среди головешек в камине. Я присела и осторожно вытащила его. Какая-то часть бумаги, полусожженная, сразу рассыпалась у меня в руках, а ту часть, что уцелела, я поднесла к свече, чтобы лучше видеть.
И тут у меня на глазах произошло чудо. На чистом, неисписанном листе ясно проступили четкие буквы. Пораженная, я смогла прочесть лишь несколько фраз: «Вы едете к своему дяде и не забудьте встретиться с нашим общим другом Подсолнухом. Выясните, сколько морских птиц обитает у западных берегов. Не мешало бы также узнать, как долго наши враги будут запрещать нам видеться и обмениваться подарками…»
Текст стал меркнуть, но я еще успела заметить в самом углу три буквы – К.О.Б.
Знакомство с Батцем меня научило, что существуют на свете некие симпатические чернила. Вероятно, это тот самый случай. Но все остальное было для меня непонятно. Какой-то глупый текст: Подсолнух, морские птицы… Наверное, это шифровка. Но что означает это К.О.Б.?
Впрочем, тут нечему удивляться. Графиня де Кризанж – роялистская шпионка, агент графа д'Артуа. Она собирает сведения в Париже, ездит за инструкциями за границу. Даже Клавьер ей что-то рассказывал…
Черт побери, подумала я, у меня есть куда более важное дело, а я тут размышляю о каких-то шифровках! Я бросила в сторону найденное письмо, тем более, что там больше ничего нельзя было разобрать, и принялась перебирать бумаги в саквояже. Меня поразило обилие любовных писем – и новых, и десятилетней давности – словно бы графиня решила поставить рекорд в любвеобильности. Я даже нашла знакомые имена – Водрейль, Куаньи. Не говоря уже о Мирабо и Дантоне! Да она просто шлюха, эта графиня де Кризанж! И как только она осмеливается утверждать, что любит Рене до безумия? Он самый ревнивый мужчина в мире, он не стал бы терпеть такое количество соперников. Если я, например, искренне люблю его, я ни разу не изменила ему по своей воле. Как знать, может быть, то письмо из тюрьмы не существует, и графиня все выдумала и наврала…
И тут ледяной холод сжал мое сердце. Еще не понимая слов, не зная содержания, я узнала почерк, – небрежный, размашистый, такой, каков был и нрав Клавьера. Таким же образом он составлял деловые бумаги и мои векселя. Уж тут-то я не ошиблась…
«Милый друг, не стоит так отчаиваться. Мне жаль, что случай, произошедший со мной, причинил вам так много боли. Наверное, не в моих силах избавить вас от страданий, но я знаю, каких слов вы от меня ждете, и я говорю: я люблю вас и хочу, чтобы вы жили. Вспомните прежние времена, и это послужит вам утешением.
Мы с вами родственные души, Фло? Я думаю, это так. Подобных нам прожигателей жизни нет на белом свете, и я полагаю, что если вы осуществите свое намерение, мир будет просто безутешен. Живите, ведь вы – единственная в своем роде.
С любовью и нежностью – по-прежнему ваш Рене».
Глаза мне заволокло туманом. Это просто кошмар… «С любовью и нежностью»! «По-прежнему ваш»! «Я люблю вас»! Оказывается, эта проклятая Фло для него – единственная и неповторимая! Право, он мог бы проявить большее разнообразие и не говорить всем женщинам одно и то же!
Задыхаясь от горя, я брезгливо положила письмо, машинально поставила саквояж на место, забыв навести в нем порядок. Я забыла даже снова запереть дверь на ключ… Слезы стояли у меня в горле, но я не плакала. Стыд и оскорбленное самолюбие жгли душу, спазмы сжимали горло. Какое унижение… Он забавлялся со мной, он нагло врал мне, он появлялся у меня раз в несколько месяцев и утешался е этой отвратительной Фло, будь она проклята!
– Я была глупа! – крикнула я в темноту коридора.
Но мне и кричать нельзя было… Я должна думать об этом молча, чтобы никто не догадался о моем унижении. Но все-таки, почему я вела себя так глупо? Голос разума все время подсказывал мне, что я должна быть начеку, держаться настороже и не доверять словам Клавьера. Но я тщеславно полагала, что обладаю женской интуицией, которая чувствует лучше, чем разум. Неужели опыт никогда не научит меня, что я воспринимаю мужчин не такими, каковы они на самом деле?
– Буржуа, спекулянт, выскочка, подлый торгаш! – в ярости прошептала я, ломая пальцы. – Грязный развратник! Лгун, обманщик, лицемер!
Я вернулась к себе, сама разделась и распустила волосы на ночь, но делала это машинально, как бы вслепую. Целый шквал безумных мыслей оглушал меня, я вспоминала то, что было, и поражалась, как в одном мужчине может быть столько лжи и лицемерия… Какая насмешка над моей глупостью! Впрочем, сказал же мне как-то Клавьер, что он вовсе не благороден? Мне следовало бы помнить об этом всегда!
– Променять меня на старуху, которой сорок лет! – твердила я, в своем женском отчаянии отрицая все прелести и достоинства Флоры де Кризанж. – На эту интриганку и шлюху! Уж лучше бы она отравилась… Сам дьявол принес ее сюда!
Мой гнев дошел до такой степени, что я не способна была сидеть в своей спальне, я просто задыхалась. Где-то на лестнице раздались быстрые шаги и звяканье шпор. Наверное, Лескюр вернулся… Он же обещал вернуться к вечеру.
И тут дикая, совершенно невероятная мысль возникла у меня в голове. Несколько секунд я еще раздумывала, пытаясь сопротивляться той гневной мстительности, что завладела мною. Но сопротивление было напрасно. Я не могла сейчас рассуждать трезво. Бывают такие минуты, когда разум полностью умолкает, а живут только эмоции…
Поспешно набросив на себя шаль, полураздетая, с волосами, беспорядочно рассыпавшимися по плечам, я выбежала на лестницу. Холодные каменные ступени показались мне просто ледяными, ведь я стояла босиком. Не долго думая, я спустилась по лестнице, пробежала по галерее и замерла на пороге комнаты маркиза. Потом подняла руку и тихо постучала.
– Вы?
Лескюр пораженно смотрел на меня. Должно быть, мое появление производило странное впечатление. Сам он уже собирался ложиться спать, ворот его рубашки был полурасстегнут.
– Что с вами, Сюзанна? Что случилось?
– Вы…вы нужны мне, – прошептала я. – Можно мне войти?
Он молча и удивленно пропустил меня и тихо прикрыл за собой дверь. Чтобы скрыть мучительный румянец на лице, я дунула на свечу, и мрак воцарился в комнате.
– Что произошло?
Слезы дрожали у меня на ресницах. В темноте я подошла к Лескюру, порывисто обвила руками его шею, крепко прижалась щекой к его груди.
– Вы говорили, что любите меня, Луи Мари. Ну так любите меня. О, пожалуйста, любите меня, и как можно сильнее!
Если бы в эту минуту он начал говорить о чести и порядочности и невозможности злоупотреблять доверием моего отца, я бы, наверное, умерла на месте. Но он ничего не сказал. Его объятия были сильны и жадны как раз настолько, чтобы заглушить муки ревности и заставить умолкнуть на время все укоры совести.
Я лишь откидывалась назад под его ласками и поцелуями, и слезы струились по моим щекам. Мне так хотелось забыться… Этот человек любил меня – любил без лжи, лицемерия, предательства, искренне и преданно; и его руки, казалось, понимали меня. Он не был ни груб, ни эгоистичен в своих ласках. Он желал меня, но еще больше он хотел меня утешить. И он овладел мною так тихо и нежно, что большего и желать было нельзя.
– Вы не уйдете? – прошептал он.
Я грустно улыбнулась сквозь слезы.
– Уйду? Но куда? Куда же мне идти, как не к вам?
Наши губы снова встретились в поцелуе, руки сомкнулись в объятии. Впервые мужчина обращался со мной так бережно и осторожно.
– Не плачьте, моя дорогая. Я люблю вас.
Я чувствовала к нему благодарность. Он был рядом, он спасал меня от ревнивых страданий и одиночества, заглушал жгучую боль в душе. Может быть, в те минуты я любила его больше всего на свете.
5
Это были странные отношения, – возможно, из-за своей кристальной честности и чистоты. Их не омрачала ни одна темная мысль, ни одно подозрение. Луи Мари любил меня так нежно, любил ради меня самой, что в его любви я черпала успокоение и жизненную уверенность. Он стал живым доказательством того, что все-таки есть мужчины, способные испытывать ко мне высокую чистую страсть, а не грубое вожделение или желание позабавиться.
Но любила ли я его? Я чувствовала к нему нежную дружбу, гораздо более глубокую, чем в случае с Гийомом Брюном. Но у меня не кружилась голова в его присутствии, и физическое влечение играло очень малую роль для меня. Пожалуй, я нуждалась в мягкости и ласке. Мужчины так редко могут дарить их. Таким образом, я ни за что на свете не могла бы сказать, что не люблю Луи Мари, и в то же время не ощущала того самозабвенного исступленного пыла, сопровождавшего мои былые увлечения.
Теперь я вспомнила, что он был женат, и узнала кое-что о его жене. С мадам де Лескюр, той самой женщиной, о которой в 1789 году он просил позаботиться Марию Антуанетту, он расстался официально совсем недавно, хотя отношения между ними уже давно были испорчены. Впрочем, его развод был надлежащим образом оформлен, и брак расторгнут аристократическим судом, стало быть, Лескюр мог жениться снова. Мадам де Лескюр воспользовалась своей свободой первая и, кажется, уже вышла замуж за юного предводителя вандейцев, знаменитого Анри де Ларошжаклена. Эта женщина прославилась тем, что пускала свою лошадь в галоп по телам республиканцев – и убитых, и раненых.
Но о браке мы больше не говорили. Тем более, что обстановка все усложнялась, не предвещая ничего доброго, и восставшие провинции, сжатые со всех сторон синими отрядами, начинали задыхаться.
Национальный Конвент решил круто взяться за дело и пресечь, потопить в крови роялистское восстание. После того, как из рядов Конвента были изгнаны жирондисты, а Комитет общественного спасения возглавлен Робеспьером, Революция взяла курс на беспощадный террор и кровопролитие. Во всех концах Франции полыхала гражданская война. В июне против Республики восстали крупнейшие города – Марсель и Бордо, в июле к ним присоединились Лион и Тулон. Восстание было долгим, ожесточенным. Почти ни одна провинция не желала повиноваться Конвенту беспрекословно. В самом Париже было неспокойно: санкюлоты, привыкшие к выступлениям, устраивали «мыльные» бунты и требовали казни спекулянтов и скупщиков. Конвент охотно принял соответствующие декреты.
Кроме внутренних противоречий, была еще и внешняя война. Вся Европа шла против Республики. Вступление Англии в коалицию усилило мощь союзников. 12 июля французами был оставлен город Конде, 23 июля пал Майнц, пятью днями позже герцог Йоркский захватил Валансьенн. Дорога на Париж была почти открыта.
С начала августа активно заработал робеспьеровский Комитет общественного спасения, которому Конвент предоставил почти неограниченные полномочия. Так долго разрабатываемая Конституция была принята и отложена в сторону – до лучших времен.
Поскольку Майнц был сдан, с восточного фронта в Вандею была переброшена 15-тысячная армия и целая куча генералов – Клебер, Вестерман, Гоншон, Даникан, Канкло. Многие из них были решительны и талантливы. А декрет, принятый Конвентом 1 августа, ошеломил всех своей жестокостью. Он одобрял суровые репрессии против вандейцев, предписывал жечь леса, беспощадно разрушать все жилища, отбирать урожай и скот, а мятежников, взятых с оружием в руках, убивать без суда. Кроме того, Конвент решил предать суду королеву Марию Антуанетту и перевести ее из Тампля в тюрьму смертников – Консьержери.
Отцу, возвращавшемуся из Англии, пришлось нелегко. Дважды ему и его людям пришлось прорываться сквозь окружение, одна пуля ранила его в плечо, другая пробила колено, и он вряд ли смог бы когда-либо ходить так, как раньше. Превозмогая боль, он скакал в седле, ездил по окрестностям, ни на миг не прекращая своей деятельности, но выглядел постаревшим лет на десять. Он не слушал ни уговоров, ни просьб, словно дал клятву ни за что не выйти живым из этой войны.
Из Англии он привез мне обещанный документ, подписанный графом Прованским.
– Граф д'Артуа действительно помог нам, – сказал отец. – Он много расспрашивал о вас и все удивлялся, почему вы все еще во Франции. Он почти приказал мне отправить вас за границу. И я сделаю это. Нужно только дождаться документов…
Но война снова смешала все наши планы.
За какие-то несколько дней Вандея была разбита. Мощный натиск республиканских войск заставил роялистских повстанцев уйти из Ансени, Нанта, Монтегю, Туара, Нуармутье, Шолле. Вандейцы были выбиты из Мортани и Партене, Классона и Шатийона; республиканский генерал Шамбон разбил их у Сомюра. Были потеряны Сабль, Шато-д'О, Пон-де-Се, Фонтснэ, Порник, Дуэ, а отходя из Сент-Илера, вандейцы даже потеряли знамя.
Только два месяца я прожила спокойно. Синие под начальством немца Вестермана прорвали защитные ряды белых между Долем и Ренном и вторглись в сердце Иль-и-Вилэна.
20 августа 1793 года они обошли Пертрский лес и начали осаду Шато-Гонтье.
6
– Как мне надоел этот шум, – ангельским голосом сказала Флора де Кризанж. – Это ужасно утомительно, не правда ли?
Слушая эти слова, можно было подумать, что мы находимся в какой-то светской гостиной, где слишком много гостей, Я бросила на графиню неприязненный взгляд, но ничего не ответила. Да и вообще, за то время, что мы были заточены в западной башне Шато-Гонтье, я едва перемолвилась с ней несколькими словами.
Вот уже три дня замок был взят в плотное кольцо; республиканский лагерь обложил его со всех сторон. Из тактических соображений отец приказал мне с детьми укрыться в верхнем зале западной башни. Башня эта напоминала правильный каменный колодец, разделенный двумя перекрытиями на три этажа. Каждый этаж представлял собой зал с узкими окнами-бойницами и мощной колонной посредине, поддерживающей потолок. Этажи соединялись крутыми лестницами, высеченными прямо в пятнадцатифутовой стене башни.
Артиллерия пока не использовалась ни с одной стороны, и только потому, что ни у кого не было пушек. Зато пальба слышалась непрерывно. Этажи замка были завалены соломой и бочками смолы для того, чтобы устроить пожар, если синим удастся проникнуть внутрь. Но положение было тяжелым: Шато-Гонтье защищали девяносто человек, а синих было три тысячи.
– Мадам Сюзанна, можно я на минутку выйду отсюда в библиотеку? – спросил Шарло.
– Право, мой мальчик, я не знаю. Принц де Тальмон советовал нам не выходить. Может, лучше позвать Брике, и он принесет тебе то, что ты хочешь?
– Он не умеет читать. Он не поймет, что мне нужно.
Брике уже давно оправился от своей раны и, конечно же, не желал сидеть в темной мрачной башне. Его малиновая куртка так и мелькала то на мосту, то на смотровой вышке.
– У вас прелестный ребенок, принцесса, – любезно заметила графиня де Кризанж. – Ваш отец говорил мне, что вашему сыну даровано право носить родовое имя, не так ли?
– Да, – не скрывая гордости, сказала я. – Сам регент подписал эту грамоту.
Аврора и Жанно, обнявшись, спали на тюфяке, постеленном прямо на каменный пол. Носиться с кроватями было некогда. Один только Шарло не хотел спать и не мучился от скуки, просматривая картинки и читая какие-то книги, взятые из библиотеки.
– Я уже прочитал эти сказки. Что мне теперь делать?
– Пожалуй, придется подождать принца. Он скажет, что нам делать.
Отца я видела редко. Поврежденное колено причиняло ему много страданий, но он не отдыхал ни минуты. Он ел и спал, кажется, ровно столько, чтобы не свалиться от усталости, он командовал своим отрядом из девяноста человек; как все, носил бревна для укреплений, кипятил смолу, шутил с крестьянами как с равными, и все же оставался сеньором, высокородным, простым, изящным, жестоким. Упаси Бог было ослушаться его. Он говорил: «Если половина из вас взбунтуется, я прикажу другой половине расстрелять бунтовщиков и стану защищать крепость с горсткой оставшихся людей». Груз прожитых лет совершенно не давил на него. 21 августа ему исполнилось пятьдесят пять лет, но никто не осмелился напомнить ему об этом.
– Вы бы поспали, мадам, – ласково сказала Маргарита. – Ведь и в прошлую ночь вы даже не прилегли.
– Ничего. Я не могу спать, когда так стреляют.
Флора де Кризанж услышала мои слова.
– И я не могу спать, принцесса! Может, поговорим с вами по душам? Приятная беседа заставляет время идти незаметно.
– Незаметно! – ворчливо повторила Маргарита. – Неизвестно еще, что нам принесет утро. Надо было уносить ноги в Вену… Не верю я, что вашему отцу удастся устоять. Это с такой-то горсткой людей!
– Маргарита, – сказала я, – Карл XII с сотней драгун выстоял в Бендерах против четырех тысяч турок.
Отказаться от разговора с графиней не было никакой возможности, тем более что она уже придвинула свой стул ко мне. Оставалось только радоваться, что благодаря сумеркам не видно гримасы у меня на лице.
– Вы так грустны, моя дорогая. Неужели я до такой степени вам не нравлюсь?
Ее голос прозвучал почти огорченно. Я бросила на графиню удивленный взгляд.
– Да Бог с вами! С чего вы взяли, мадам?
– Вы избегаете меня.
– Нет, уверяю вас, – сказала я холодно.
– Очень рада слышать об этом. Значит, это отсутствие моего кузена так на вас действует?
Я промолчала, досадуя, что она догадалась о наших отношениях. С тех пор как в Шато-Гонтье вернулся отец, Лескюр уехал и больше не появлялся. Я не видела его тринадцать дней. А у этой графини, очевидно, очень наметанный глаз, раз она поняла то, о чем даже отец не подозревает.
Наступило вынужденное молчание. Сумерки сгущались, и выстрелы затихали. Слышно было, как противники начинают обмениваться обычными для такой ситуации любезностями.
– Эй, вы, белые сволочи, сдавайтесь! Это говорю я, революционный комиссар, Вестерман!
– Ты Сатана, а не комиссар, и мы изжарим тебя живьем, если поймаем!
Мне стало не по себе от пристального взгляда графини.
– Какие у вас глаза? – неожиданно спросила она. – Черные?
– Да, – сказала я изумленно.
– А, я так и знала!
Все эти замечания заставляли меня недоумевать.
– Откуда же вы это знали? – спросила я почти враждебно. – У меня необычный цвет глаз, блондинки обычно синеглазые.
– Не обращайте внимания. Я иногда сама не знаю, что говорю.
Я насторожилась еще больше. Как она сказала это: «А, я так и знала!» Кажется, это вырвалось у нее невольно, она даже пожалела о своей несдержанности. Может быть, она что-то подозревает? Или видела меня когда-нибудь с Клавьером?
Если это так, то пусть успокоится. Между мной и Клавьером все кончено, я никогда не прощу ему этой двойной игры, стрельбы на два фронта. Эта Флора де Кризанж может забирать его себе и любить его, сколько заблагорассудится.
– Смотрите-ка, – проговорила графиня, – это, кажется, ваше?
Она протянула мне на ладони крошечную серебряную булавку с жемчужной головкой. Я взглянула повнимательнее.
– Да, это моя булавка, – сказала я удивленно, – я закалывала ею шейную косынку… Но где вы нашли ее?
– У окна в галерее, – кротко отвечала графиня.
Я взяла булавку, машинально поместила ее туда, где она должна быть… И тут внутри у меня все похолодело. Я ясно вспомнила, что булавка эта пропала у меня как раз после того, как я перерывала бумаги в комнате графини. Да, именно тогда я обнаружила ее отсутствие. Но не знала, куда она делась… Стало быть, я обронила ее у графини?
Я бросила на Флору безумный взгляд. Она лжет! Она нашла булавку у себя в комнате, в шкафу или возле камина, но не признается, что ей известно о моем посещении! А я, как последняя дура, призналась, что булавка принадлежит мне.
Щеки у меня запылали от стыда и гнева. Я кусала губы, сожалея, что не могу убежать от графини в самый далекий угол Шато-Гонтье. Она смеется надо мной и вправе презирать меня! Ах, не говорил ли мне голос совести удержаться от того низкого обыска?!
– Видите, как хорошо, что я вам ее вернула, – так же любезно продолжала Флора. – Сейчас, во время войны, все эти шпильки и булавки стали ужасной редкостью. В Париже их уже выпиливают из дерева.
– Благодарю вас, – прошептала я одними губами.
Интуиция глухо говорила мне, что, хотя голос графини звучит мягко, на самом деле она следит за мной очень пристально и враждебно, с насмешкой и яростью, словно пытаясь до конца что-то выяснить.
Сама война пришла мне на помощь. Мощный грохот потряс башню, казалось, задрожали даже стены, много раз иссеченные ядрами – каменными в четырнадцатом и чугунными в восемнадцатом столетии. От страха я вжалась в кресло, зажав уши пальцами и не понимая, что происходит.
Проснулись Жанно и Аврора. Я бросилась к ним, обняла, уговаривая их не плакать и уверяя, что ничего страшного не случилось. По правде говоря, я сама не знала, что это был за взрыв. Испуганный Шарло прижался лицом к моему плечу, и я тоже привлекла его к себе, пытаясь успокоить.
– Мы все умрем, как мой папа во время войны? – пролепетал Жанно.
– Ты говоришь глупости. Мы не умрем. Видишь, грохот уже утих?
– И твой дедушка о нас позаботится, – трезво рассудила Аврора. Ей было уже одиннадцать, и она считала своим долгом помогать мне, утешая малышей. – Не хнычь, трусишка! Ты же сам говорил, что ты солдат.
– Хорошо бы узнать, что случилось, – проворчала Маргарита.
Я с горечью думала, какое ужасное получается детство у этих детей. Когда мне было шесть лет, я жила в нищете, но все же вокруг меня не свистели ядра и не гремели выстрелы. А эти малыши чуть ли не с пеленок приучаются к войне.
Дверь со скрипом распахнулась, и на пороге выросла мощная фигура Большого Пьера с факелом в руках. Мрачно и глухо прозвучал его голос:
– Синим удалось подвести мину под башню. Взрыв проломил стену нижнего этажа, и теперь нам придется оставить замок, чтобы собраться для защиты башни.
7
Все три этажа были превращены в поле предполагаемого боя. Восемьдесят три человека, составлявшие отряд моего отца, пользуясь передышкой, которую принесла темнота, занимались укреплением и подготовкой башни к сражению. Мы молча сидели в углу на соломе, наблюдая, как носятся по каменным залам фигуры мятежных крестьян, освещенные вспышками дымных факелов. От копоти и жары было трудно дышать.
Всеми работами руководил сам принц.
Быстро забаррикадировали два нижних этажа, обезопасили входы, устроили в нишах бойницы, заложили двери брусьями, вбив их в пол деревянным молотком. Лишь подходы к винтовым лестницам, соединяющим все ярусы башни, пришлось оставить свободными для удобства передвижения.
– Мадам, – сказала Мьетта, наклоняясь надо мной, – принц зовет вас к себе. Поторопитесь, пока еще библиотека свободна.
Я встала, ощущая, как от недоброго предчувствия у меня сжимается сердце.
– Его сиятельство просит, чтобы вы привели с собой сына. Я молча взяла за руку Жанно и направилась к выходу. На пороге библиотеки я остановилась в нерешительности.
Жанно, сонный и слегка испуганный, прижался щекой к моей руке.
– Мама, зачем нас позвал дед? – прошептал он, глядя на меня огромными синими глазами, которые в полумраке казались почти темными.
Отец, тяжело опираясь на трость, жег в камине бумаги. Услышав голос Жанно, он обернулся, и я поразилась – настолько мрачным и серьезным было его лицо.
– Сюзанна, посмотрите сюда.
Тяжело хромая – раненое колено никак не хотело заживать, – он подошел к книжным полкам.
– Смотрите внимательно.
Под его руками одна из полок повернулась вокруг своей оси, открывая моему взгляду железную дверцу какого-то шкафа, плотно пригнанную к стене.
– Что это?
Отец открыл дверцу, показал мне тяжелую кованую шкатулку, в которой было полно бумаг.
– Здесь документы и грамота, дающие право Жанно носить имя де ла Тремуйлей и признающие его законным наследником. Что бы ни случилось, как бы ни повернулись события, вы вернетесь сюда когда-нибудь и отдадите Жану то, что ему принадлежит. Сюзанна, вы обещаете?
– О да, конечно!
Я невольно почувствовала облегчение.
– Значит, – спросила я с надеждой, – вы позвали меня только затем, чтобы показать тайник?
– Нет.
Меня снова бросило в дрожь. Я почему-то была уверена, что этот разговор причинит мне боль. Инстинктивно пытаясь защититься от этой боли, я бы предпочла ни о чем не говорить.
– Дорогая моя, пришло время, когда нам надо расстаться.
Его голос прозвучал как-то странно – мягко, почти ласково. Я знала отца тринадцать лет, но он ни разу не говорил со мной таким тоном.
– Расстаться? – переспросила я, пытаясь скрыть невольный ужас, чтобы не испугать Жанно.
– Да. Полагаю, уже через час вас не будет в Шато-Гонтье. Я позвал вас, чтобы поговорить в последний раз.
– В последний раз?!
Глазами, полными страха, я смотрела на отца, и в моем взгляде были десятки вопросов. Почему я уйду из Шато-Гонтье? Как? Куда? Почему через час? И почему, наконец, этот разговор – последний?
Отец говорил медленно и тихо, четко произнося каждое слово, но ничего не подчеркивая, как и подобает аристократу:
– Я не хочу вас пугать, дорогая моя, но и не могу скрывать от вас правду. Вы всегда проявляли мужество, и вы сможете правильно понять меня. Сюзанна, я долго и честно сражался за Бога и короля. Пришло время умереть за них.
– Но почему? – прошептала я пересохшими губами.
– Мина проделала брешь в стене. Но даже не это главная причина. Шато-Гонтье с самого начала осады был обречен, мина только ускорила эту кончину.
– Кончину Шато-Гонтье. Но вы?! Вы можете уйти. Совершенно необязательно оставаться здесь, если все потеряно…
– Я не брошу этот замок. Я не отдам ни одной пяди этой крепости даром. И все мои люди последуют моему примеру.
– Я не понимаю вас. Выйдя из окружения, вы сможете снова собрать тысячи крестьян и снова продолжать борьбу…
– Нет. Это возможно лишь в том случае, если мы отстоим Шато-Гонтье. Но такого быть не может. Стало быть, если говорить честно, то, по всей видимости, выхода отсюда нет.
У меня больше не было слов. Когда голос отца звучал так спокойно и вместе с тем непреклонно, можно было не утруждать себя уговорами. Ничто не заставит его изменить решение. Иногда он становился человеком, сделанным из железа.
– Неужели вы будете так безрассудны? – прошептала я. Это единственное, что я смогла сказать.
– Послушайте меня, Сюзанна.
Он тяжело опустился в кресло. Раненое плечо и поврежденное колено доставляли ему немало страданий. Когда-то белокурые волосы стали совершенно серебряными, на потемневшем от пороха и дыма лице четче выступили морщины. Но одежда отца была почти безупречна. Помнится, в таком же наряде он сидел в своем кабинете в Париже и просматривал военные депеши…
Сердце у меня сжалось так, что больно стало дышать. Пожалуй, от страха и боли я была на грани истерики. Мне хотелось закричать от ужаса. Как он может говорить так просто о своей гибели?! Это просто кошмар!
– Вашей служанке я уже отдал те платья, которые вы наденете. Вы переоденетесь крестьянками – так легче будет уйти. Пойдете в Онский лес, и Большой Пьер проводит вас. Там, в подземном поселке Рю-де-Бо вы будете ждать Лескюра.
– Лескюра? – переспросила я почти тупо.
– Да. Он не попал в кружение, у него отряд из девяти тысяч человек. И он сумеет позаботиться о вас вместо меня.
Меня словно хлестнули кнутом. Вцепившись в руку отца, я почти закричала, захлебываясь от волнения:
– Но почему, почему вы так упрямы и безжалостны?! Я ваша дочь. Ради Бога, не отталкивайте меня, не бросайте одну! Живите хотя бы для своего внука, если я вам безразлична… Ради чего вы хотите умереть – ради химеры, дела, давно проигранного?
– Ради Марии Антуанетты, которая томится в тюрьме и подвергается издевательствам со стороны взбесившихся палачей; ради Франции, чьи традиции и культура втаптываются в грязь; ради нашего сословия, которое имеет понятие о чести и благородстве, наконец, ради вас самой и ваших детей.
Чуть помолчав, он закончил более тихо и спокойно:
– Вы мне не безразличны. Я люблю вас. И именно поэтому я должен бороться до конца.
– Вы уверены, что поступаете правильно?
– Исполнять свой долг – это всегда правильно, Сюзанна. Давайте хорошо осознаем то, что каждый из нас должен сделать, и смиримся с этим.
– Вы осознали то, что должны погибнуть. А я?
Слезы дрожали на ресницах, я насилу сдерживала рыдания, подступавшие к горлу.
– Да что же я должна осознать?
Не пытаясь меня утешить и зная, что это вряд ли возможно, отец мягко взял меня за руку.
– Дорогая моя, вы – единственная опора для вашего ребенка, а он – единственный наследник де Тальмонов. Ваша задача – любить его и воспитать как настоящего аристократа, так, чтобы мне не было за него стыдно.
– О! – только и смогла прошептать я сквозь слезы.
В моей голове не укладывалось, как можно в такую минуту думать о каких-то наследниках и родах. Это безумие! Я могла жить только нынешней, реальной минутой…
– Я. люблю Жанно больше жизни, вы знаете, отец. Не стоит даже говорить об этом…
– Стало быть, мы оба достойно выполним свою задачу.
Он с трудом поднялся, давая понять, что на разговор со мной у него больше нет времени, и подошел к Жанно.
– Жан, мне угодно поговорить с вами.
Спазмы не давали мне говорить, и я лишь молча, созерцала и слушала весь этот разговор. Жанно встал, обеспокоенно поглядывая то на меня, то на принца.
– Мы с мамой должны будем уйти, да, сударь?
– Да. Хорошо, что вы это поняли, Жан. Вам только шесть лет, но мне кажется, вы запомните то, что я скажу вам.
– Да, сударь, – с готовностью произнес Жанно, слушая все это не по-детски серьезно.
– Жан, знаете ли вы о том, что вы – принц?
– Да. Мама всегда говорит мне об этом.
– Слушайтесь ее, Жан. Ваша мать – настоящая аристократка, она подаст вам хороший пример. И все же она женщина, а женщинам обычно прощается многое из того, за что мужчина навек был бы покрыт позором. На вас, когда вы вырастете, будет лежать куда большая ответственность, чем на вашей матери. Женщинам позволяются слабости, мужчинам – никогда, а принцам в особенности. Знаете ли вы, что такое быть принцем?
– Ну, это воевать… воевать за короля. Как вы, сударь.
– Правильно. Помните, что сам титул принца еще не добавляет вам достоинства. Вы не заслужили его, а получили по наследству. И свою истинную ценность этот титул приобретет лишь тогда, когда вы его оправдаете и докажете свое право на него. Доказательством могут быть ваша смелость и мужество, Жан. Для вас должен быть только один государь – король и только один закон – аристократическая честь. Длинная вереница предков будет следить за вами… Я уверен, что вы оправдаете их ожидания.
– Я стану солдатом, сударь, – сказал Жанно.
– Хорошо. Вы поняли мои слова верно. Значит, мне больше нечего сказать вам.
Он расстегнул рубашку на груди, снял крест на золотой цепочке и повесил его на шею Жанно.
– Эта реликвия – ваша по праву, Жан. Я полагал, что она уйдет в могилу вместе со мной, ибо не мог передать ее вашей матери. Знаете, у женщин бывают разные платья, и Сюзанна не стала бы носить ее постоянно. А вы, я полагаю, станете.
– Отец, отец, зачем вы это делаете? Вы еще живы, этот крест пока принадлежит вам! – воскликнула я сквозь слезы.
– Потрудитесь проследить, чтобы он никогда не снимал его, – отвечал отец, сурово глядя на меня. – Эту реликвию носили все мужчины нашего рода, начиная с Жоржа де ла Тремуйля.
Он поцеловал Жанно в лоб, сдержанно, почти сухо обнял меня. О, я знала, что у отца, как и у меня, внутри все кипит от отчаяния. Но он не хотел, чтобы Жанно это видел.
– Моя дорогая, мы вряд ли еще увидимся, – тихо произнес отец. – Патронов у нас мало, а когда закончится порох, начнется рукопашная, поэтому у нас нет шансов выйти отсюда победителями. Таким образом, я стою на пороге смерти. Простите мне, если я когда-либо причинил вам зло.
– О Боже! – вскричала я, чувствуя, как истерические рыдания подступают к горлу.
– Ну, ступайте. Вам нужно торопиться, а я уже сказал все, что хотел.
Он легко подтолкнул нас к выходу.
Держа за руку Жанно, я вышла в полутемный коридор, освещенный факелами, и в это мгновение почти физически ощутила, как рвется последняя нить, связывавшая меня с прошлым.
– Мы увидим еще когда-нибудь деда, мама? – спросил Жанно.
Я взглянула на малыша полными слез глазами.
– Конечно, мой ангел. Как же может быть иначе?
И мальчик поверил моим словам, как верил всегда.
8
Почти бегом мы спустились по лестнице, очутившись, таким образом, на первом этаже башни. Я отпустила руку Жанно и, шагнув вперед, попыталась на ощупь вставить ключ в замок. Железная дверь была толстая, пятнадцатидюймовая.
– Да посвети же мне, Мьетта, не стой как колода!
Мне некогда было думать о церемониях, я говорила почти грубо. Девушка медленно, явно не торопясь, подошла поближе и нехотя поднесла свечу к замку. Я быстро вставила ключ; дверь поддалась легче, чем можно было ожидать. Обернувшись, я позвала остальных, и уже было ступила на каменную лестницу, как Большой Пьер вежливо, но непреклонно оттеснил меня.
– Простите, ваше сиятельство, первым пойду я.
Он взял у Мьетты свечку и спустился вниз. Я видела только колеблющееся пламя свечи где-то внизу. Испугавшись за детей, я крикнула:
– Остановитесь, Пьер, надо подождать остальных!
Огонек свечи послушно замер.
– Давайте я помогу вам, Жанно, будьте хорошим мальчиком, дайте мне руку, – услышала я ласковый голос Флоры де Кризанж.
Мой сын сердито вырвался.
– Я и сам могу спуститься, пустите меня!
– Но ведь ты еще совсем малыш, вдруг ты оступишься и упадешь? – уговаривала его графиня.
– Я вовсе не малыш, и дед всегда говорил, что я уже взрослый мальчик. А он ведь знает больше, чем вы!
Я почувствовала в голосе сына возмущение и гнев. Разговор прервался, и я услышала торопливые шаги.
– Жанно! – крикнула я.
– Я здесь, мама.
Голос сына звучал совсем близко, я уже отчетливо видела его белую рубашку. Он почти бежал.
– Осторожнее, Жанно! – крикнула я, чувствуя одновременно страх и гордость.
Теплые руки сына обхватили меня за шею, я крепко обняла его, облегченно вздыхая.
Флора де Кризанж любезно пояснила:
– Я говорила ему, чтобы он дал мне руку. Он у вас очень упрямый мальчик!
– Да, он может позаботиться о себе, – ответила я сдержанно. – Благодарю вас, мадам.
Высоко надо мной раздался звонкий голос Брике:
– Все, ваше сиятельство! Можно идти, я закрыл дверь.
– А где Маргарита, дети? Они вошли?
– Вошли, – проворчала горничная. – Шарло и Аврора со мной.
– И я тоже здесь, хоть вы про меня и не спрашиваете, – недовольно заметила Мьетта.
Я пошла вперед, не обращая внимания на ее недовольство. Жанно, еще недавно отвергнувший помощь графини де Кризанж, теперь послушно взялся рукой за пояс моего платья. Я была одета как бретонка: белый лиф, бумазейная юбка, суконный черный корсаж, на ногах – грубые кожаные башмаки.
Подземный ход из замка, скрывавшийся за железной дверью, выводил в естественную глубокую расщелину, которая одним концом упиралась в овраг, а другим – в опушку леса. Потайной выход даже не надо было замаскировывать, расщелина заросла такой непроницаемо густой зеленью и колючим кустарником, что незаметно проскользнуть в лес не составляло никакого труда.
Свежий воздух ошеломил нас. Мы так долго были в душной дымной атмосфере, пропахшей смолой и порохом, что глоток лесного воздуха заставил нас на мгновение остановиться. Было новолуние. Узкий серп луны неярким светом освещал лесную опушку. За деревьями замка не было видно, но частые приглушенные звуки выстрелов доносились и сюда. Шато-Гонтье сражался…
Я тряхнула головой, пытаясь прогнать тягостное чувство, вызванное воспоминанием о разговоре с отцом.
– Мне страшно, – прошептала Аврора.
Я привлекла ее к себе, погладила волосы.
– Успокойся. Мы уже в безопасности.
– Они нас не догонят?
– Нет.
– Но этот лес – он такой ужасный. Я никогда не бывала ночью в лесу.
– Бывала, – заверила я ее, вспомнив ее прошлое. – И, кроме того, с нами Пьер. Ну, скажи на милость, кто может напасть на нас, если с нами такой охранник?
Брике, как призрак, возник из темноты.
– Идемте, ваше сиятельство. Остальные уже далеко.
Я оглянулась, не отстал ли Шарло. Он смирно шел рядом с Маргаритой. Вот поистине ребенок, от которого никогда не бывает неприятностей… Он никогда не жалуется и не шалит, он даже разговаривает мало. Всегда о чем-то размышляет. Наверняка он станет ученым или аббатом.
– Хоть бы спели что-нибудь! – в сердцах сказала Маргарита.
– В ушах звенит от тишины.
– Петь нельзя, нас могут услышать.
– Э-э, какие еще дураки, кроме нас, бродят ночью по зарослям!
Аврора, словно чтобы преодолеть страх, едва слышно запела древнюю песню на бретонском наречии:
От пены влажный берег мой морской, И синевы озер с их гладью тихой, Очаг мой дымный, дом родимый мой, И поле с медоносною гречихой…Жанно, не зная слов, попытался присоединиться, и тогда Пьер грозно прикрикнул:
– Молчите, если не хотите попасть в руки синих!
Сам он шел молча, угрюмый и вооруженный до зубов.
– Почему вы так преданы принцу и так ненавидите синих? – спросила графиня де Кризанж.
Он ответил, по своему обыкновению, мрачно и глухо:
– Синие пришли на нашу землю, чтобы жечь посевы и отбирать скот. Они убили наших священников, они заставили женщин и детей босиком убегать в лес, когда еще пела зимняя малиновка. В Динане республика гильотинировала моих отца и мать и мою сестру Марту, а было ей всего шестнадцать лет. Наша война – это честная война; мы должны защищаться.
Пока мы пробирались через кустарник, я до крови поцарапала руки о колючки и изодрала крестьянскую юбку.
Целую ночь мы шли и шли через Пертрский лес, то пробираясь сквозь заросли, то освещенные серебристым светом луны, лившимся на опушки. Из Шато-Гонтье мы захватили только корзину с провизией – хлеб, вино и сыр. Да еще немного вареного риса. У Флоры де Кризанж был пистолет, а у меня в потайном кармане – тысяча ливров бумажными ассигнациями.
На рассвете, когда небо стало немного светлеть, дети совершенно выбились из сил. Тогда Большой Пьер указал в ту сторону, где лес был не такой густой и деревья росли как будто реже.
– Там – конец Пертра. До утра мы еще успеем пройти деревню и войти в Онский лес.
Онский лес! Эти слова словно прибавили всем сил. Этот лес был конечным пунктом нашего путешествия. Там, в поселке мятежников Рю-де-Бо, рано или поздно должен появиться Лескюр и взять нас с собой, чтобы увезти в безопасное место, – например, за Луару, где синие нас не достанут.
Деревня, вернее, хутор Сент-Уэн-Туа был в нынешнее утро ничейным. Позавчера тут были республиканцы, сожгли два дома и гильотинировали нескольких жителей – так получилось, что через хутор провозили гильотину. Зачитав приказ комиссара Конвента Ребеля об объявлении некоторых мятежников вне закона, синий отряд двинулся дальше, вероятно, к Витре, где были сосредоточены значительные силы белых.
Все это я узнала от пожилой крестьянки, продавшей мне немного молока для детей. Хотя в целом настроение жителей здесь было вполне роялистским, мы опасались оставаться тут дольше, чем на несколько минут. Наш странный отряд, предводительствуемый Большим Пьером, в котором любой бы угадал вандейца, привлекал внимание. Мы двинулись дальше не задерживаясь.
Только к полудню, когда солнце стояло в зените, и жара даже в лесу стала невыносимой, мы добрели до Рю-де-Бо. Это была обыкновенная опушка, заросшая по краям можжевельником и кустами малины. Но Большой Пьер с серьезным видом подошел к подножию старого мощного дуба, сильно потянул торчавшую из земли корягу, и, к нашему удивлению, коряга потянула за собой целую плиту, замаскированную слоем дерна. Никто бы не смог догадаться, что под корягой – нора. Я знала об этих вандейских штучках, но на деле все было придумано так ловко, что оставалось лишь изумляться.
– Они очень сообразительны, эти крестьяне! – заметила графиня де Кризанж с улыбкой.
Даже сейчас, в простом крестьянском платье, она не потеряла привлекательности, а грубая ткань, казалось, лишь подчеркивала достоинства ее сложения. За все время пути она не жаловалась и мало разговаривала. Было похоже, что она сосредоточенно думает над чем-то важным и неприятным, иногда в ее взгляде на меня очень отчетливо мелькала враждебность, и тогда мне становилось почти страшно. Я бы хотела поскорее расстаться с этой женщиной.
– За Бога и короля! – прокричал Большой Пьер, наклоняясь над норой.
В темной дыре показалась настороженная физиономия крестьянина, коротконосого и курчавого.
– Белые? – спросил он на бретонском наречии.
– Да. Мы пришли с миром. Примите нас.
– Вы от нашего сеньора Шато-Гонтье?
– Конечно, – сказала я. – Я его дочь.
– Честь имею кланяться вам, ваше сиятельство.
Первым нырнул в дыру Большой Пьер, чтобы убедиться, что там все в порядке и нет никакого подвоха. Из темноты донесся его голос, сообщающий, что все спокойно, и тогда одного за другим мы спустили туда детей. За ними скользнула Мьетта, потом я и графиня де Кризанж. Маргарите спуск доставил больше всего неудобств. Последним вошел Брике, крайне заинтересованный подобным убежищем, но явно не желающий провести под землей слишком много времени.
Рю-де-Бо, почему-то носивший громкое название поселка, был обыкновенной землянкой, огромной и прохладной. Узкий прорытый в земляной толще коридор уводил неведомо куда – наверное, это было придумано на случай бегства. В закрытом пространстве не было никакой мебели, и люди спали на грубых тюфяках, набитых соломой и положенных прямо на неровный пол. Воздух проникал сюда сквозь невидимые отверстия, но свечи зажигались лишь для того, чтобы не заблудиться впотьмах. Здесь было довольно просторно, хотя, кроме нас, тут пребывало еще человек двадцать. Это были крестьяне, бежавшие из деревень: тринадцать мужчин и несколько женщин. Некоторые из них кормили грудью младенцев. Вид у всех был изможденный, но мужчины держались уверенно. У них было много оружия и пороха; они поджидали в засаде малочисленные синие отряды и безжалостно расправлялись с ними. На счету их побед была перехваченная телега с гильотиной, которую везли в Доль, и четверо ее охранников, несколько республиканских курьеров, перевозивших депеши, и семь человек синих солдат, оставшихся в живых после боя с вандейским начальником Куртилье Батардом и намеревавшихся соединиться с гарнизоном Шатонефа.
Старуха-крестьянка с растрепанными седыми волосами, небрежно прикрытыми грязным чепцом, помогла мне уложить детей на тюфяки. Мальчики, выбившиеся из сил, сразу уснули, а любопытная Аврора продолжала оглядываться по сторонам. Полагая, что мы должны поделиться с людьми, приютившими нас, своими съестными запасами, я рядом с их провизией поставила и нашу корзину. Из еды тут была только ключевая вода, много лука и хлеба, который приходилось рубить на куски топором.
– Через два часа господин маркиз де Лескюр должен быть здесь, – сообщил Большой Пьер.
Уставшая, я прилегла на тюфяк, чувствуя, что мне немного не по себе от присутствия Флоры де Кризанж. Она все время наблюдала за мной, словно хотела что-то выяснить. Мне это совсем не нравилось. Я закрыла глаза и повернулась к ней спиной.
Сон сам пришел ко мне, хотя я и была порядком встревожена. Голова Шарло лежала на плече Авроры, голова Авроры на плече Жанно, а уж Жанно мирно спал на моем плече. Осторожно и нежно гладя его волосы, я подумала о том, что отдала бы все на свете, лишь бы этот ребенок оказался в безопасности. С этой мыслью и с надеждой, что Лескюр скоро появится, я и уснула.
Наступила ночь, а маркиза все не было. В землянке было прохладно и неуютно, а на поверхности тоскливо выли волки – их вой был слышен даже здесь. Это показалось мне недобрым знаком.
– Когда же мы выберемся из этого ада, Господи, царица небесная! – шептала Маргарита, то и дело крестясь.
– Такая ночевка не для моего ревматизма…
Когда забрезжил рассвет, предвещая жаркий и душный августовский день, я стала тревожиться. Оставаться здесь, в землянке, слишком долго было опасно. Край мог быть наводнен синими, и в этом случае нам очень трудно будет продвигаться на юг, к Луаре. Да еще без поддержки Лескюра… Если он так долго не появляется, вероятно, с ним что-то случилось. Что-то его задержало. Иначе бы он уже был здесь; ведь я знала, что он любит меня.
– Хочу есть! – заявила Аврора.
– И я, – подхватил Шарло.
– И я, – сказал Жанно.
Я велела Мьетте накормить детей. Самой мне есть не хотелось. Кроме того, в Рю-де-Бо мы провели почти сутки, и этот подземный мрак ужасно надоел мне. Это нездоровое место, нельзя находиться подолгу в такой темноте и сырости…
– Известно ли вам, где сейчас Лескюр? – спросила я, не выдержав.
Большой Пьер степенно ответил:
– Да уж совсем рядом, наверное, не дальше Эрэзри. Это в двух лье отсюда, а если идти по тайным тропкам, то и ближе.
– Почему же он задерживается?
– Всякие вещи бывают на войне. Я слыхал, в Эрэзри послали гарнизон Лонг-Фэ, так, может быть, эти синие сволочи напали на господина маркиза. Но из этого ничего плохого выйти не может – он разобьет их в два счета.
Большой Пьер говорил по-французски, а не на своем наречии, и я все легко понимала.
– Послушайте, – воскликнула я, охваченная внезапным желанием, – почему бы нам не отправиться в лес Эрэзри и не разыскать Лескюра? Пароль вам известен, место тоже. Мы могли бы оставить детей здесь, в Рю-де-Бо.
– Принц этого не приказывал, – отвечал вандеец.
– Обстоятельства изменились. Принц полагал, что Лескюр появится через два часа после нашего прихода. Мы должны сами искать его. Нам нельзя сидеть здесь, не зная даже, что происходит у нас над головой. Там, на поверхности, может быть, уже все изменилось!
– Я согласна с вами, – вмешалась Флора де Кризанж. – Большой Пьер, вы должны повиноваться дочери вашего сеньора.
Похоже было, что к ее мнению вандеец прислушался охотнее: возможно, потому, что она была старше меня, он считал ее более умной и опытной, чем я. Он неохотно поднялся с земляного пола.
– Мы пойдем с вами, – поспешно сказала графиня, тоже поднимаясь.
Я сама не понимала, как она все это так обернула, чтобы увязаться вместе с нами. Теперь уж не было никакой возможности убедить ее остаться. Кроме того, хотя мне не хотелось находиться рядом с графиней, я еще больше не хотела оставлять ее со своими детьми.
– Идите за мной и не разговаривайте, – приказал вандеец.
Мы выбрались из подземного ада на землю, почти ослепленные алым огнем рассвета. Несмотря на соседство Флоры, я ощущала необыкновенный прилив сил и была готова в поисках Лескюра пройти двадцать лье без передышки.
9
Оглушительно стрекотали сойки, изредка раздавалась гнусавая, но звонкая трель горихвостки. Хотя было около десяти часов утра, воздух становился даже здесь, в лесу, невыносимо душен. Лето 1793 года выдалось как никогда сухим и жарким. Обычно влажные, бретонские леса готовы были вспыхнуть пожарами, болота и озера наполовину пересохли.
Деревья становились все реже, уже была видна просека, залитая слепящим солнечным светом. От ходьбы по лесным зарослям юбка на мне была вся изорвана и запылена. По моим представлениям, мы были уже совсем близко к цели.
– Т-с-с! – вдруг прошипел Большой Пьер, со странным видом прижимая палец к губам.
Я видела, как он вытянул из-за пояса пистолет.
Слух у бретонца всегда тоньше, чем у парижанина. Большой Пьер заподозрил что-то тогда, когда мы еще ни о чем не догадывались. Он сделал повелительный знак рукой, и мы спрятались за его широкую спину. Потом стали продвигаться вперед осторожно, гуськом, один за другим. Бретонец ступал бесшумно, под его ногами не треснула ни одна ветка. Наготове он держал пистолет.
– Вероятно, это синие стоят лагерем, – проговорил он с ненавистью.
Его взгляд был устремлен далеко за просеку, туда, откуда донесся едва слышный шорох. Я только теперь поняла, что вызвало его подозрение. Птицы! Раньше они пели, а теперь умолкли, как бывало всегда, когда поблизости располагался большой отряд людей. А еще, вероятно, Пьер ощутил запах дыма от костра. Или просто, как оборотень, на расстоянии чуял человеческий запах.
Он снова сделал нам знак, призывая уйти в сторону, спрятаться на дне оврага, заросшего колючим орешником. Я повиновалась этому первая, полагая, что Пьеру лучше знать, что делать. Ветки орешника оцарапали мне руки. И тут прозвучал громкий звук, спутать который я не могла ни с чем.
Прозвучал выстрел.
Я в ужасе обернулась. Флора де Кризанж стояла на краю оврага, в ее поднятой руке дымился пистолет. В десяти шагах от нее лицом вниз лежал Большой Пьер, раскинув огромные руки в стороны. Пуля попала ему прямо в затылок.
Непонимающими глазами я смотрела то на него, то на графиню. Сомнений быть не могло. Это она застрелила его. Кроме нее некому. Но зачем?
– Что вы сделали? – прошептала я. Мне казалось, что я сплю и мне снится какой-то нелепый кошмар.
Графиня повернула ко мне лицо, и меня поразило его бесстрастное спокойствие.
– Так нам будет легче объясняться, – произнесла она, и улыбка тронула ее губы.
Я молчала. Гибель Пьера, такая нелепая, так поразила меня, что я лишилась дара речи.
– Мы ведь знаем друг друга лучше, чем признавались, не правда ли, дитя мое? – певуче спросила она.
Потрясенная, я молча смотрела на нее.
– Пришло время открыть карты. Мы ведь соперницы, дорогая, и больше не нужно этого скрывать. Бедняга бретонец только помешал бы нашему разговору.
Она говорила так спокойно, почти благожелательно, что я пришла в ужас. Она только что убила человека и вела себя после этого так бесстрастно!
– Милая принцесса, вы попытались украсть у меня моего любовника, а я не люблю, когда меня обворовывают.
Сдавленным голосом я заставила себя произнести:
– Я не знаю, о чем вы говорите.
– Вы лжете. Все наши отношения постоянно были лживы. Вы проведали кое-что обо мне и рылись в моих бумагах, ну а я все силы приложила для того, чтобы выяснить ваши намерения.
Опустив руку с пистолетом, Флора ласково продолжала:
– Сначала мне показалось, будто кто-то проведал, что я одинаково исправно работаю и на белых, и на синих. Но никто меня не разоблачил, никто не арестовал меня, стало быть, дело было не в политике. Тогда я поняла, что речь идет о любви. Знаете, как только я вас увидела, у меня екнуло сердце. Я много слышала о белокурой аристократке, которая делит со мной Клавьера, я не знала только ее имени… Он слишком хорошо это скрывал. Ну а потом вы сами себя выдали. Вы даже имели глупость потерять свою булавку в моем шкафу.
Она со смехом добавила:
– Великолепная черноглазая блондинка!.. Она оказалась куда глупее, чем можно было ожидать.
И, не продолжая больше, она выхватила из кармана белый платок и замахала им в воздухе, отчаянно крича:
– Сюда! Сюда! Граждане республиканцы, сюда!
Я молча смотрела на нее. Что она делает? Должно быть, это ревность свела ее с ума. Она не понимает, что творит!
– Остановитесь, вы обезумели! – воскликнула я в отчаянии. – Вы зовете сюда наших врагов, они и вас арестуют!
– Не беспокойтесь за меня, – любезно ответила Флора. – Как же вы, однако, глупы! Вы даже не поняли того, что я вам сказала.
Я действительно тогда не поняла. Я была слишком ошеломлена, чтобы что-то воспринимать. Я осознавала только то, что Пьер убит, а графиня – убийца.
– Вы хотите выдать меня синим? – прошептала я.
– Вы очень догадливы. Я выдам вас, да еще скажу, чья вы дочь. Они свяжут вас и выставят на глазах у вашего отца, и тогда он живо сдаст Шато-Гонтье.
Отвернувшись от меня, она еще отчаяннее закричала, пытаясь, чтобы ее услышали и с такого расстояния:
– Во имя Республики! Граждане, сюда!
Я в ужасе закрыла лицо руками. Эта подлая графиня еще и предательница. О, если бы у меня был пистолет!..
Но пистолета не было, и я ничего не могла поделать. Драться я не умела, да и графиня, пожалуй, застрелила бы меня прежде, чем я смогла бы к ней прикоснуться. Мне оставалось только ждать и слушать ее крики, призывающие сюда врагов.
И тут словно горячая волна нахлынула на меня. Волна безумной, неосознанной радости… Каким-то чудом мой слух уловил едва различимые звуки песни. Это был роялистский гимн. «Да здравствует Генрих IV!» Республиканцы никогда бы не стали петь ничего подобного…
– Это вовсе не синие! – пронзительно закричала я. – Это наши, белые, это отряд маркиза де Лескюра!
Я готова была рассмеяться безумным смехом, настолько нелепым становился теперь поступок графини. Она называла меня глупой, а сама сделала такое, что выглядела сейчас глупее меня. Убить Большого Пьера, а потом звать сюда белых!
Голос Флоры осекся. Графиня резко повернулась ко мне. Куда только девалось ее спокойствие.
– Ах, вот как! – выкрикнула она с яростью.
Лицо ее исказилось. Мне казалось, она вот-вот зашипит, как разъяренная кобра, и я в страхе отступила на два шага назад.
– Вы думаете, вы победили меня? Меня, Флору де Кризанж! Ничего, мы поквитаемся с вами иначе.
Глядя на меня так пристально, словно хотела испепелить меня взглядом, Флора подняла пистолет. Рука у нее слегка вздрагивала от волнения и тяжести пистолета, но я ясно видела, что она целится мне в лицо. Она хочет меня изуродовать!
– В чем же моя вина? – прошептала я в ужасе, чувствуя, как ледяной страх схватывает все тело.
– В том, что Клавьер слишком увлекся прелестной белокурой аристократкой. Надо вылечить его от этой болезни.
Ее палец коснулся курка, а в глазах была такая ненависть и решимость, что поколебать их ничто было не в силах. Она все так же целилась мне в лицо, стремясь из какой-то женской мстительности не только убить меня, но и изуродовать.
И тогда, ничего не сознавая, но повинуясь первобытному инстинкту самосохранения, я бросилась чуть влево, в заросли орешника.
Прогремел выстрел.
ГЛАВА ПЯТАЯ РАЗГРОМ
1
С невероятным трудом я открыла глаза. Веки казались тяжелыми, как камень. Лицо незнакомого мужчины, курносого и бородатого, склонилось надо мной. Он крепко сжимал мое запястье, словно слушал пульс.
– Эге, моя красавица! Наконец-то вы очнулись!
Вынырнув из беспамятства, как из смертельного сна, я ничего не помнила. Сильная боль пронзала грудь при дыхании, и я, не выдержав, застонала.
– Придется потерпеть, голубушка! Не так уж легко вы отделались.
– Я… я жива? – прошептала я через силу.
От этих произнесенных слов мне стало так больно, что я до крови прикусила губу. Я уже начала понимать, что я ранена. Сильная плотная повязка была наложена на грудь.
– Вам нельзя разговаривать. При таком ранении лучше все время молчать. А уж насчет того, живы ли вы, можете не сомневаться. Теперь уж вы не умрете. Пуля пробила вам грудь и вышла через лопатку. Надо сказать, вы потеряли много крови. Но теперь лихорадка прошла, и вы очнулись. Недели через две вы, пожалуй, сможете ходить.
Я мрачно, нахмурив брови, вспомнила, что же со мной произошло. Лес, Флора де Кризанж… Это она стреляла в меня, негодяйка!
– Сейчас, моя красавица, я позову к вам Лескюра. Он велел сразу известить, как только вы придете в себя.
Лескюр! Я была удивлена. Так, значит, это он обо мне позаботился? Я уже стала понимать, что нахожусь в лагере белых. Постелью мне служили носилки, а сверху я была укрыта одеялом – вероятно, меня била лихорадка. Но как долго я оставалась без сознания?
Я увидела маркиза. Взволнованный и встревоженный, он вошел в палатку, бросился ко мне, обеспокоенно склонился надо мной. Я сделала усилие и улыбнулась ему. Было так приятно сознавать, что кто-то о тебе беспокоится.
– Любовь моя, я был в отчаянии. Вы не приходили в сознание четыре дня. Но этот Тюрпен – настоящий волшебник. Он поставит вас на ноги.
– Дети, – произнесла я одними губами.
– О, мы нашли их благодаря этому вашему мальчишке, Брике. Он увязался за вами, когда вы отправились искать меня. Он видел, как эта фурия убила Пьера и пыталась убить вас. С его помощью мы обнаружили вас, а потом я послал своих людей в Рю-де-Бо за детьми. Не бойтесь, с ними все в порядке. Просто им лучше не видать вас в таком состоянии.
Я молчала, глядя на него. Луи Мари нежно гладил мои волосы, и я подумала, что нет человека роднее и ближе для меня, чем он.
– Вы поправитесь, и довольно скоро. Тюрпен сказал, что останется только шрам величиной с булавочную головку.
Я вспомнила ту минуту, когда Флора де Кризанж с перекошенным от злобы лицом направила на меня дуло пистолета. Она хотела изуродовать мне лицо… Я снова ощутила ужас и едва удержалась от стона.
– Отец? – прошептала я вопросительно.
Лескюр опустил голову, его рука, гладившая мои волосы, замерла. Я поняла, что он не хочет меня расстраивать, но в то же время не в силах мне солгать.
– Его… его взяли в плен.
Это было почти то же, как если бы отец был убит. Плен для моего отца! Республиканцы ни за что не выпустят его из рук. Они называли его «Капетом Разбойников, владыкой Мана и всей Нормандии». И они не упустят случая отправить его на гильотину. Даже без суда… По декрету Конвента всякий мятежник должен быть казнен сразу после выяснения личности.
Ах, Боже мой! Ну почему вокруг творится сплошной кошмар?!
– Они увезли его в Ренн, но вряд ли им удалось добраться до места. По пути в Ренн идут непрерывные бои. Мы сейчас в Реннском лесу – слышите гул?
Я слышала какой-то отдаленный шум и потрескивание.
– Там идет бой. Пюизэ разобьет их, у него перевес. А мы переместимся в сторону Майенна, там положение совсем плохо.
Сейчас я меньше всего способна была что-либо воспринимать в расстановке сил белых и синих.
– Была целая лавина наших поражений. Теперь она немного остановлена.
Я знаком остановила его, показывая, что хочу узнать кое-что иное. Он замолчал, внимательно глядя на меня.
– Флора, – произнесли мои губы.
Лескюр нахмурился.
– К сожалению, нам не удалось ее задержать. Она бежала. Если бы не это, она давно была бы расстреляна за свое преступление.
Меня словно оглушили. До сих пор я даже мысли не допускала, что эта гарпия смогла убежать. Как? Куда? Она же не знает бретонских лесов. Впрочем, зато она знает пароли и той, и другой стороны… Ее всюду будут принимать за свою. И мне снова будет угрожать опасность! Она так ненавидит меня, что ее месть как дамоклов меч будет постоянно висеть надо мной!
– Она бежала?!
Забыв о запрещении Тюрпена, я почти выкрикнула эти слова, резко приподнявшись на локте.
– Успокойтесь! – встревожено воскликнул Лескюр, удерживая меня. – Вам нельзя говорить так громко…
Я вспомнила об этом слишком поздно. От восклицания и резкого движения, словно раскаленная игла пронзила грудь. Кусая губы до крови, я упала навзничь. И тут к боли в груди добавился мучительный, невыносимый спазм внизу живота. Это было слишком для меня одной.
– О, – прошептала я, – о Боже, что это?
Я была готова снова лишиться чувств. Боль в груди утихла, зато странные спазмы следовали один за другим, то усиливаясь, то затихая. Я невольно прижала руки к животу, не понимая, что со мной происходит.
Лескюр выскочил из палатки. Я слышала, как он отчаянно зовет Тюрпена на помощь.
Боли стали глуше, но не прекратились. Теперь их можно было терпеть, и мой ужас понемногу проходил. И внезапно что-то обжигающе-горячее заструилось по моим ногам.
Тюрпен вбежал в палатку и, увидев меня, корчившуюся от боли и прижимающую руки к животу, склонился надо мной и без церемоний задрал юбку. Кровь с частицами чего-то студенистого струилась по внутренней стороне бедер, достигая уже щиколоток.
– Да это выкидыш! – потрясенно воскликнул Тюрпен.
Мой стон был тому подтверждением. Подсознательно, еще не решившись признаться себе, я уже догадалась, что это за страшная болезнь. Выкидыш… А я даже не успела понять, что беременна.
– Это выкидыш, господин маркиз! – беспечно объяснял Тюрпен Лескюру, стоявшему в входе в палатку. Руки врача ни на минуту не прекращали оказывать мне помощь. – Вот уж эти женщины – для них и войны будто не существует! Простой выкидыш, ничего страшного… А наша красавица такое лицо сделала, будто невесть что случилось. И беременность-то была небольшая – месяца полтора, никак не больше.
– Выкидыш? – почти тупо переспросил Лескюр.
Он взглянул на меня, и его глаза встретились с моими, полными боли и страдания. Он отвел взгляд и, словно устыдившись своего присутствия, вышел – почти выбежал – из палатки.
– Я… я даже не знала об этом, – прошептала я, обращаясь к себе самой.
Было так много дел и беспокойств, что я не могла следить за тем, что происходит внутри меня. Может, так и лучше. Я не успела встревожиться, не успела полюбить этого ребенка. Меня не донимала мысль о том, что же с ним будет в период той катастрофы, в которую попала Франция.
Этот выкидыш был еще одним доказательством того, что никакая жизнь уже не желает задерживаться в моем теле. После случая с Луи Франсуа Лассон предупреждал меня об этом. Надо было бы, конечно, осведомиться об этом у Тюрпена. Но мне было слишком трудно сейчас говорить. Да и что он может знать, этот костоправ? Природа и без его указаний оградила меня от материнства. Наверное, мне уже не удастся выносить ни одного ребенка. Подумать только, сколько женщин мечтают об этом… О возможности развлекаться, не задумываясь.
– Не беспокойтесь! – разглагольствовал Тюрпен. – Вы молодая, здоровая. Да и ребенок в такое время ни к чему. О вас сам Господь Бог позаботился.
Я молча лежала и думала, что уж если мне и благодарить Господа Бога за что-то, то только за то, что у меня есть Жанно.
2
Когда отряд Лескюра принимал участие в боях, меня вместе с обозом, в котором были жены и дети мятежников, оставляли в лесной чаще. Если бой был на равнине, мы прятались в густую высокую рожь. Летом 1793 года деревни были сожжены, крестьяне ушли сражаться на стороне белых, и не осталось рук, чтобы убирать урожай. Зерно осыпалось на землю.
За те дни, что мы были осаждены в замке Шато-Гонтье, а также за то время, когда я была больна, произошло очень много событий. 21 августа герцог Йоркский, отсоединившись от сил коалиции, начал осаду Дюнкерка. А два дня спустя Конвент принял декрет о массовом ополчении. В нем говорилось: «С этой минуты и до той поры, когда неприятель будет изгнан за пределы Республики, все французы находятся в состоянии мобилизации для службы в армии. Молодые люди пойдут сражаться; женатые будут ковать оружие и доставлять продовольствие; женщины будут изготовлять палатки, шить одежду и работать в лазаретах; дети будут щипать корпию из старого белья; стариков будут выносить на общественные площади, чтобы они подогревали мужество бойцов, проповедовали ненависть к королям и единство Республики». Этот декрет при первом своем применении поставил под ружье 450 тысяч человек.
Республику по-прежнему раздирали внутренние противоречия. Если 25 августа восставший Марсель сдался войскам республиканского генерала Карто, то восставший Тулон предался в руки англо-испанского флота. Мятежный Лион, второй город Франции, вот уже почти месяц тщетно осаждался революционными войсками. Обороной Лиона руководил граф Луи де Преси. Вандейцы, битые к северу от Луары, к югу от этой реки продолжали угрожать мощной Ла Рошели, а в водах Джерси для их поддержки бросил якорь английский флот адмирала Крэга.
В Париже был гильотинирован генерал де Кюстин – в прошлом маркиз, аристократ, поддержавший Революцию. Республика казнила его только за то, что он не был удачлив.
Я поправлялась быстро. Время было таким бурным, что нельзя было позволять себе роскошь болеть подолгу. На десятый день после ранения появились явные признаки того, что рана затягивается. Тюрпен утверждал, что останется лишь маленький розовый шрам под правой грудью и под лопаткой, но благодаря умелым притираниям можно избавиться и от этого. Вскоре этот лекарь-самоучка позволил мне подняться с носилок, и по Бретани я колесила в телеге.
Я понятия не имела, что буду делать, когда поправлюсь окончательно. Положение инсургентов было крайне неопределенно. Они то терпели поражение за поражением, то одерживали победу. Отступление за Луару по этой причине откладывалось. Кроме того, посланные в Вандею и Бретань республиканские «адские колонны» вели себя как подлинные посланцы ада: убивали крестьян, жгли деревни, уводили скот – так что от подобной жестокости даже самые мирные жители проникались ненавистью и отчаянием и вливались в ряды повстанцев, увеличивая их силы.
Лескюр проведывал меня часто, но его посещения не продолжались больше пяти минут. Пропахший порохом, почерневший от дыма, он оправдывался тем, что положение слишком тяжкое и что он все время должен быть начеку. Это, конечно, правда, но я знала и другую причину возникшего между нами легкого отчуждения. Этот выкидыш… Несомненно, Лескюр считает себя виновником моих страданий, хотя в разговорах я старательно избегала касаться этой темы.
Командир из Лескюра был отличный… Он не обладал твердостью и жесткостью моего отца, но во всех ситуациях действовал мужественно и решительно. Он покорял своим благородством, смелостью и самоотверженностью. Недаром бретонцы называли его «святой Лескюр». Между ними и их командиром не существовало того ясно ощутимого расстояния, на котором, например, держал своих подчиненных мой отец. Но даже одетый в крестьянское платье – так одевались все командиры восставших, – Лескюр оставался аристократом. Голубоглазым идеалистом… Даже в ту бойню, которая царила в Бретани, он пытался привнести элементы рыцарского благородства.
Напрасные надежды… Он и не замечал, что его солдаты воюют больше за своих быков и лошадей, чем за Бога и короля.
Когда боль перестала терзать меня, а движения и разговор вслух уже не доставляли мучений, я стала долго думать о том, как я живу и что со мной произошло. Больше пяти месяцев я скитаюсь по вандейским и бретонским дорогам… Целая эпоха великого мятежа прошла перед моими глазами. Я потеряла отца и Клавьера, приобрела Лескюра, наконец, в меня стреляла Флора де Кризанж. Право, всем этим можно гордиться… Но что же мне делать дальше?
У всех этих пяти месяцев был только один положительный итог – то, что я нашла своих детей. Все остальное обстояло еще хуже, чем тогда, когда я только намеревалась уехать из Парижа. Тогда у меня был Рене.
Теперь я была опустошена и обессилена. Мне казалось, я уже ни на что не способна. Этот поединок с Революцией явно затянулся. Я уже не могла сопротивляться. Мне нужна была поддержка… И как раз в это время Рене ушел из моей жизни.
Я долго и мучительно размышляла над этим, трясясь в бретонской телеге. Странно, но этот выстрел Флоры уничтожил ту ненависть, которую я к ней питала. Может быть, я поняла почти инстинктивно, что подобную женщину Рене не может любить. А может быть, Флора показала мне, как следует бороться за себя – отчаянно, до самого конца. Возможно, я и вправду слишком легко отказалась от Рене.
В моей жизни не было опыта борьбы с соперницами. Борьба за чье-либо внимание и благосклонность казалась мне унизительной. Я всегда предпочла бы уйти в сторону, считая ниже своего достоинства соперничать с кем-либо. Кроме того, для борьбы нужна ненависть, а ненавидеть я не умела. Любить – да, но ненависть в моей душе всегда была преходяща. Видя жестокости и кровопролитие Революции, наблюдая казнь короля, я действительно ненавидела республиканцев. Но ненависть лишь вспыхивала во мне, подобно пламени, и никогда не была долгой.
В душе оставалась лишь неприязнь. Ненависть – слишком сильное и жгучее чувство для меня. Мне не свойственно подолгу ненавидеть кого-то, страстно желать кому-то смерти, самой замышлять убийство. Вот почему поступок Флоры так потряс и ошеломил меня.
Какую цель она преследовала – добиться любви Рене или просто отомстить мне? Мало-помалу ее поведение становилось мне понятным. Разумеется, это была месть. Рене не может любить демона в обличье женщины, а если он любит ее, стало быть, он не тот Рене, которого люблю я.
Все это до того ясно представилось мне, что я вздохнула с облегчением. Я разрешила эту дилемму… Я использовала свой любимый способ – анализ. В прошлом, когда я поняла, что Анри – трус, я стала к нему равнодушна, ибо не могла любить труса. И потом, когда мне стало ясно, что Франсуа – не мужественный и смелый адмирал, а просто дубина и тюфяк в мужском обличье, вся моя любовь пропала. Теперь оставалось только выяснить, существует ли тот Рене, которого я люблю, в реальности, или же это только мои романтические выдумки.
Но ведь для этого надо вернуться в Париж…
– Вы все время молчите и о чем-то думаете, – тихо произнес Лескюр. – Ваши мысли далеко отсюда. Даже когда вы смотрите в мою сторону, я понимаю, что меня вы не видите.
Некоторое время я непонимающе смотрела на него. Потом его слова дошли до моего сознания, и мне стало совестно. Он такой добрый, так беспокоится обо мне. О, почему я не ценю этого сейчас, пока он еще со мной?
– Луи Мари, это жизнь…
– Я знаю. Эта жизнь слишком сложна для всех нас.
Я молча смотрела на Лескюра, потом грустно ему улыбнулась. Меня не покидала мысль, что нам не долго быть вместе. Мы все обречены… И впереди – ничего хорошего, сплошные страдания.
– Пожалуй, это хорошо, что нашему ребенку не суждено было родиться.
Его слова не показались мне жестокими. Нынче, во время войны, они были лишь констатацией факта. Сейчас нам самим невыносимо жить, куда уж еще производить на свет детей.
– Вы по-прежнему не хотите?
– Чего?
– Стать моей женой.
Я прижала его руку к своей щеке. От пальцев Лескюра пахло порохом и конской сбруей. И в моей голове снова возникла мысль, что уже недолго я буду ощущать такой покой в его присутствии.
– Луи Мари, я уже ваша жена. Настолько, насколько это возможно сейчас. Чего вы от меня не получаете, что получали бы от жены?
– Я не о том. Я бы хотел оградить вас от бесчестья. Я не хочу слышать, как каждый будет называть вас моей любовницей, обыкновенной «походной девкой». Ведь вы сокровище, Сюзанна, вас не должна касаться даже тень людского осуждения.
Я тяжело вздохнула, крайне растроганная этими словами. Никто не любит меня так, как он. Он полагает, что мнение окружающих еще что-то значит для меня…
– Мой друг, мне безразлично, что станут говорить обо мне. Не время задумываться над этим.
– Но все вокруг полагают, что это я не хочу жениться на вас, и я чувствую себя от этого последним мерзавцем!
Мне вдруг стало страшно, я приподнялась на локте.
– О, дорогой мой, не любите меня слишком сильно! Мне будет так больно… так больно, когда я потеряю вашу любовь. Я не привыкла к такому обожанию.
– Не любить вас слишком сильно?
Он целовал мои пальцы, и голос его звучал искренне, страстно, проникновенно. Это была та ступень чувства, когда даже самые выспренные слова кажутся не смешными, а высокими, когда даже патетические речи способны тронуть сердце своей свежестью и искренностью.
– Не любить вас, Сюзанна! О, любовь моя, вы не знаете, чего от меня требуете. Сейчас война, пожары, кровь, – если бы не вы, мне бы впору сойти с ума. Да вы еще не знаете, что я чувствую к вам. Вы мне дороже всего – короля, аристократии, Франции; даже нашим правым делом я бы пожертвовал ради вас… Однако я знаю, что вы этого не потребуете. Вы самая бескорыстная и чистая женщина из всех, кого я знал; вы ничего не позволяете сделать для себя. Я впервые столкнулся с такой чистой, с такой светлой душой, как у вас. Когда я с вами, я прихожу в ужас от того, чем занимаюсь каждый день, я чувствую себя недостойным вас. И я ничего не могу для вас сделать. Вы даже имени моего не принимаете… И вы еще требуете, чтобы я любил вас меньше?
Слезы дрожали у меня на ресницах. Ласково и порывисто гладя волосы Луи Мари, я задыхалась от волнения и горя. Он идеализировал меня, вознес на такой пьедестал, что это меня потрясло. Никогда мне уже не встретить мужчины более любящего, честного и благородного, чем Лескюр. Что я буду делать, когда потеряю его? О Боже… что?
3
– Сидите тихо, не то я вас отшлепаю!
Я крикнула это так грозно, что дети притихли. Другими словами, пожалуй, невозможно было заставить их замолчать и перестать баловаться. Мы находились в каком-то овраге, заросшем колючим кустарником; вокруг нас в таком же положении были десятка четыре женщин с детьми. Овраг был окружен телегами, плотно приставленными одна к другой, и весь этот женский лагерь охраняло пятеро часовых-бретонцев.
Стрельба слышалась совсем близко от нас. Лескюр устроил вдоль проезжей дороги засаду, чтобы неожиданно напасть на отряд синих численностью в пятьсот человек. Белых было больше, и все предвещало им победу. Никто из женщин, оставленных в тылу, особенно не волновался.
Ворчали только, что снова Лескюр наберет уйму пленных, с которыми нужно возиться и которых нужно кормить.
– Вот, например, его светлость маркиз де Пюизэ никаких пленных не держит, он их расстреливает!
Я осторожно присела на траву. Прошло двадцать пять дней с того злосчастного выстрела, я уже давно была на ногах, но рана еще иногда побаливала, особенно когда я уставала. А сегодня день действительно выдался тяжелым. Но только мне удалось присесть, как Жанно полез в кусты и, набрав целую горсть ягод, явно собирался их съесть.
– Мьетта, ну что ты стоишь? Забери у него эти проклятые ягоды, они грязные, пыльные, а тут повсюду дизентерия!
Сердито блеснув серыми глазами, Мьетта поднялась и довольно грубо вытащила ребенка из кустов. Жанно пнул ее ногой. Я видела это, но не считала нужным вмешиваться.
– Меня еще и бьют за мои услуги! – вскричала Мьетта.
– Тебе надо быть повоспитанней. Ты сама нанялась ко мне, я тебя не принуждала.
– Ах, конечно! Вы обещали мне изумрудное ожерелье. И где оно сейчас, это ваше обещание?
Я отвернулась от нее, не испытывая желания обсуждать подобные глупости. Думать об ожерелье в такое время! Вообще-то, Мьетта была крайне ненадежной спутницей. Она только и смотрела, как бы что украсть, и ее вещевой мешок был набит крадеными вещами. Убеждений и моральных устоев у нее не было почти никаких. Зло она помнила долго.
– В кого мы превратились! – качая головой, сетовала Маргарита. – Франция сошла с ума, вот это я понимаю. Где ж это видно, чтобы благородная дама с детьми вынуждена была таскаться по лесам и дорогам, как какая-нибудь маркитантка… Надо сказать, такое положение мне совсем непонятно. Кто сейчас у власти? Всякие варвары да разбойники с большой дороги. Раньше такого не было. В шестнадцать лет я нанялась к принцессе в горничные…
– К какой принцессе? – переспросила я задумчиво.
– К бабушке вашей, к принцессе Даниэль. Уж у нее-то я научилась, что такое быть хорошей горничной. Я была из деревни, из Пикардии, и даже читать не умела…
– Ты знала мою бабку?
– Я служила ей десять месяцев, покуда она не умерла в 1750 году.
Заняться было нечем, и я невольно заинтересовалась. Принцесса Даниэль – а ее называли только так, и никак иначе – всегда привлекала мое внимание. Говорили, что я похожа на нее. Даже жаль, что я ее не видела.
– И какая же она была?
– Она была первая дама. Тридцать лет в Версале – это кое-что значит… Она же из рода де ла Белинэ, герцогов д'Аврэ, а мать ее была из де Сен-Мерри…
– Я это знаю.
– Так вот эти д'Аврэ были ужасно знатны, но вконец обеднели. Отца госпожи убили в Испании, а мать ее король выслал в провинцию. Мадемуазель д'Аврэ в пятнадцать лет вышла замуж за графа де Рошешуа, а было ему пятьдесят три года.
– В то время это было довольно обычным делом…
– Да уж. Муж ее скончался через два месяца после венчания, а госпожа стала сразу богата. Она жила в Версале и долго не хотела выходить снова замуж. А от первого брака у нее осталась дочь, Анна Элоиза…
– Что?
Я пораженно смотрела на Маргариту.
– Ну да, Анна Элоиза, она родилась уже после смерти графа де Рошешуа…
– Уж не хочешь ли ты сказать, что у меня есть знатные родственники?!
Я впервые слышала подобное. Эта Анна Элоиза приходилась сестрой моему отцу, а мне – теткой…
– Да ведь она не из рода де ла Тремуйлей, мадам. Она урожденная де Рошешуа, и ей сейчас уже не меньше восьмидесяти. А может быть, она давно умерла.
– Ну, что ты знаешь о ней, рассказывай!
– Что я знаю? Да это ужасно скандальная история, моя милочка.
– Я хочу услышать ее. Побыстрее, пожалуйста!
Маргарита давно уже не пользовалась таким вниманием с моей стороны и, похоже, была польщена.
– Ваша бабка, Даниэль, долго не желала выходить замуж снова. Она двадцать лет оставалась вдовой и развлекалась в Версале. А за это время мадемуазель Анна Элоиза выросла, и ее руки стали добиваться многие знатные кавалеры… Среди них был и его сиятельство Жоффруа де ла Тремуйль.
– Ты хочешь сказать, что мой дед сватался к Анне Элоизе? – переспросила я, не веря своим ушам.
– Точно так, мадам, сватался и явился к госпоже просить руки ее дочери. Но как только он увидел вашу бабушку, то сразу пожелал жениться не на дочери, а на матери. Вот как иногда все оборачивается! Его сиятельство принц был завидной партией. К тому же он и Даниэль были одного возраста: им обоим было по тридцать восемь. Принц так ее очаровал, что она приняла его предложение.
– Презрев интересы собственной дочери?
– Конечно. Анна Элоиза отправилась в монастырь. Она была, разумеется, оскорблена, как и полагается всякой порядочной девушке. А Даниэль обвенчалась с принцем. Через два года родился ваш отец и…
– А что стало с Анной Элоизой?
– Ее руки попросил герцог де Сен-Мегрен. Она всю жизнь прожила в его поместье, и я слышала, Бог послал ей одиннадцать детей. С матерью она не желала знаться. Так что даже ежели мадемуазель Анна Элоиза – ну а теперь, стало быть, герцогиня де Сен-Мегрен – и родня вам, то она вряд ли питает добрые чувства к де ла Тремуйлям. Уж слишком небрежно обошелся с нею ваш дед.
– И все-таки, все-таки…
В Версале случилось много скандальных вещей, но услышать о таком… Мать стала поперек дороги своей дочери. Эта принцесса Даниэль, вероятно, была весьма, крутой и жесткой женщиной, раз решилась на такое.
Я вспомнила портрет, висевший в Сент-Элуа. С полотна надменно взирала изящная дама; шелковая наколка покрывала ее золотистые и мягкие, как шелк, волосы, огромные серые глаза были холодны, как лед… Ее красота была необыкновенной, а высокомерие переходило все границы. Недаром ее называли принцесса Даниэль. Она была настоящей аристократкой.
Маргарита, сделав большие глаза, прошептала:
– В малолетство Луи XV сам регент, герцог Орлеанский, бегал за ней послушно, как собачонка, а когда король вырос, он тоже был без ума от нее, и если она уступила потом место герцогине де Шатору, так только по своей доброй воле. Вот какова была эта женщина! Теперь уж такие перевелись… А как я гордилась, что служу у нее!
Я мягко сжала теплую руку Маргариты, испытывая большое желание прижаться к ней щекой. Эта женщина, такая верная и преданная, была словно из той, прошлой жизни, когда не было рек крови и бессмысленного братоубийства, когда галантные мужчины были благородны и храбры, а дамы красивы, легкомысленны и изящны… Таков был старый порядок. Он рухнул в небытие, он никогда не вернется.
Я готова была снова и снова расспрашивать Маргариту и о принцессе Даниэль, и о многодетной неведомой герцогине де Сен-Мегрен, которая приходилась мне родной теткой, но громкий топот прервал ход моих мыслей. Кто-то напролом мчался через лесную чащу, прорываясь сквозь заросли и не обращая внимания на колючие хлесткие ветки. Раздался громкий звук рога, протяжный и резкий.
– Победа! – звучно заорал всадник по-бретонски, и нескрываемая радость слышалась в его голосе. – Победа! Синие отброшены от горы Пелерины, мы взяли две сотни пленных!
Он остановил лошадь, неведомо откуда тут взявшуюся – мятежники обычно ходили пешком, – снял шляпу и, мгновенно утратив веселость, фанатически-страстно перекрестился.
– Помолимся, братья мои, за жизнь господина нашего его светлость маркиза де Лескюра. Он храбро сражался за Бога, веру и короля.
– Что?
В наступившей почтительной тишине – все крестьяне принялись послушно молиться, преклонив колени, – мой возглас прозвучал очень громко. Дрожа, замирая от недоброго предчувствия, я поднялась с травы. Почему он говорит о Лескюре в прошедшем времени?
– Что случилось с его светлостью?
Еще не услышав ответ, я сердцем поняла, что случилось самое худшее. То, что я и ожидала… То, что предчувствовала.
– Его светлость маркиз храбро сражался. Он привел нас к победе, – серьезно продолжал бретонец на своем наречии. – Теперь он ранен.
– Ранен?
– Три пули пробили ему легкое.
Слишком потрясенная, чтобы сразу ощутить жгучую боль от этого известия, я беспомощно оглянулась и увидела Тюрпена. Лекарь-самоучка виновато развел руками.
– Такова Божья воля, мадам. И при ранении одной пулей воздух попадает в плевру, и легкое опадает. А уж о трех пулях и говорить нечего…
– Он жив? – воскликнула я.
– Да. Он жив. Он приказал нам двигаться в сторону Лаваля.
Маргарита своевременно подошла, чтобы поддержать меня под локоть. Я попыталась быстро справиться с головокружением. Известие было слишком ошеломляющим, чтобы я успела ощутить жгучую боль в душе. Лескюр смертельно ранен… Наверное, мне следовало бы кричать от отчаяния и заливаться слезами. Вместо этого я высвободилась из рук Маргариты и молча пошла за обозом.
– Тюрпен, вы уверены, что ничего нельзя сделать?
– Увы, мадам, я не Бог…
Я шла вперед, глядя перед собой невидящим взглядом. Лицо было бледно, как мел, губы плотно сжаты, а в черных глазах не было слез. Когда я в последний раз плакала? Кажется, тогда, когда Лескюр освободил меня от графа де Шаретта. А теперь, когда Луи Мари умирал, я не способна была проливать слезы.
У меня внутри будто все замерло, заледенело. Кровь невыносимо стучала в висках, выстукивая единственную мысль: «Я снова осталась одна». Снова нет человека, на которого я могла бы опереться. Уже не будет теплых искренних разговоров, нежных слов, руки маркиза, перебиравшей мои волосы. Уже ничего не будет… И я должна смириться с этим?
– Мадам, мадам, все ли с вами в порядке? – встревоженно спросила Маргарита, заглядывая мне в лицо.
– Что?
Я смотрела на нее непонимающим взглядом.
– Может, вам лучше сесть в повозку?
– Я думаю, – воскликнула я с внезапным гневом, – что все вы можете оставить меня в покое!
Я не желала никого видеть, не хотела ни с кем разговаривать. Какая разница, все ли со мной в порядке! Если бы я умерла, это было бы для меня самым лучшим выходом. О, теперь я понимала Марию Антуанетту, которая говорила то же самое четыре года назад.
Через полчаса я нашла маркиза. Его несли на носилках двое бретонцев. Он лежал с закрытыми глазами, в лице не было ни кровинки. Оно даже приобрело тот восковой оттенок, какой бывает у мертвых. В отчаянии я бросилась к нему. Бретонцы, наверняка зная о наших отношениях, мне не препятствовали. Я взяла его за руку, она была такая горячая, что почти обожгла меня.
Он открыл глаза и, увидев меня, подался вперед. В его глазах, пылающих от лихорадки, я не прочла ни радости, ни удивления. Только гнев.
– Вы?
– Да, я, – произнесла я, сдерживая рыдания.
Теперь, когда я увидела его, весь лед в моей душе растаял. Слезы были готовы сорваться с ресниц.
– Что вы тут делаете? – крикнул он разъяренно. – Уходите!
Я пораженно смотрела на него, ничего не понимая. Он дышал тяжело, с хрипом, а от громких слов страшно закашлялся, откашливая ярко-красную вспененную кровь. Внутри у меня все похолодело от страха. Я оглянулась, взглядом разыскивая Тюрпена.
– Мне не нужен врач, – с трудом прохрипел маркиз. – И вы тоже… Уходите! Я не позволю вам видеть, как я умираю.
– Луи Мари, – попыталась объяснить я, – поймите, что мой долг – это…
– Ваш долг – избавить себя от лишних страданий. Уходите!
– Но я…
– Уходите, не то я прикажу вас увести!
Он был способен это сделать. Его намерение было слишком решительно. Он не хочет, чтобы я видела его в таком состоянии… И все же мне было очень больно от того, что он прогоняет меня.
Тогда его пальцы слегка шевельнулись, и он с трудом протянул мне руку. Я порывисто подала свою. Его пальцы на мгновение сплелись с моими и сразу же их выпустили. Лескюр упал на спину, струя крови потекла у него по подбородку.
– Вам скажут, когда я умру. Ступайте! Я люблю вас…
Задыхаясь от боли и отчаяния, я побежала прочь, в конец обоза. Мне скажут, когда он умрет… Боже, как жестока жизнь! Как жестока! Как безжалостно она расправляется со всеми, кто любит меня! А он… он даже не позволил мне быть рядом с ним.
Сидя на телегах, бретонки все так же вязали шарфы, баюкали детей и напевали какие-то странные бретонские баллады. Поскрипывая, мерно вертелись колеса, перемалывая сентябрьскую грязь. За телегами гнали пленных республиканцев, босых и связанных.
4
На рассвете 21 сентября 1793 года Лаваль открыл свои ворота мятежникам.
Было тихое утро; лучи солнца, словно даря последние приветы лета, пронизывали золотую листву. Город утопал в подрумяненных осенью кронах деревьев, в меди буков и пурпуре каштанов. И жители Лаваля, казалось, даже не задумывались, какое страшное преступление совершили: вопреки декрету Конвента предоставили убежище бретонским мятежникам. Наказанием за это было бы полное исчезновение города с лица земли.
Среди бретонцев поднялся необыкновенно сильный ропот по поводу пленных. Силы белых слишком малы, чтобы гнать и стеречь две сотни республиканцев; кроме того, их еще надо кормить, а хлеба едва хватает самим бретонцам. Все другие командиры, например Шаретт и Стоффле, без всякой жалости расправляются с пленными, и правильно делают: нечего щадить эту синюю сволочь! Надо отомстить за королеву, томящуюся в тюрьме, за маленького ребенка-короля, заключенного в Тампль. А мученическая смерть Людовика XVI – она разве не требует отмщения? И, наконец, сам господин маркиз де Лескюр погибает от пуль синих! Последнее обстоятельство усиливало всеобщую ярость. Мятежники были растеряны потерей командира, растеряны и взбешены: подобное преступление требовало наказания… Они роптали, уже дошло до того, что все были готовы прикончить пленных, и притом зверски. Например, насыпать пороха им в рот и взорвать…
Каким-то чудом Лескюр, еще живой, пришел в сознание, словно почувствовал, что его отряд намеревается запятнать себя бесчестьем. Нечеловеческим усилием воли приподнявшись на носилках, он хрипло заговорил, и звук его голоса мгновенно заставил крестьян благоговейно умолкнуть.
– Кто здесь готовит казни? Ты, Налей-Жбан? Или ты, Крадись-по-Земле? – пылающие глаза Лескюра остановились то на одном, то на другом помощнике. – Может быть, вы решили стать палачами? Наше дело – не месть, а война. Бог на небе отомстит за наши жертвы, нашу королеву и нашего короля. Не берите на себя роль судей, будьте только воинами. Синие в Париже поставили гильотину – они варвары, у них нет веры. Но ведь у нас есть наша религия, и мы не станем дикарями…
Бретонцы сурово молчали. Они были до мозга костей преданы маркизу, кроме того, они были суеверны и считали, что голосом умирающего вождя говорит сам Господь. Задыхающийся, с трудом произносящий слова, хрипящий от ран Лескюр с кровью на губах был в их глазах мучеником за веру и короля.
Маркиз не удовольствовался этим. Чтобы быть до конца уверенным, что и после его смерти пленных не расстреляют, он заставил бретонцев стать на колени и на святом распятии поклясться в этом. Словно какая-то нечеловеческая сила поддерживала жизнь в этом человеке: Тюрпен был уверен, что Лескюр умрет еще вчера, а он до сих пор жил. Когда клятва была произнесена, маркиз упал на носилки, сжимая зубы от боли. Его унесли в дом. За носилками шествовал аббат Коффен, призванный для исповеди и последнего причастия.
Фанатичные грубые бретонцы откровенно плакали. Никто не понимал, что теперь надо делать. Командир погибал, все были разобщены.
Плас-Нетт, помощник маркиза, позаботился о том, чтобы мы и в Лавале хорошо устроились. Нас поселили в доме какого-то республиканца, недавно повешенного; семья его делась неизвестно куда. Здесь было несколько комнат, довольно хорошо обставленных. Я уложила измученных детей спать. Было немного не по себе от того, что приходится пользоваться чужим имуществом, да еще и имуществом врага. Мы, конечно, ничего не возьмем, но все-таки…
Я думала, что не смогу уснуть, зная, как Лескюр страдает, но мало-помалу усталость взяла свое. Я забылась в тяжелом сне на несколько часов. В конце концов, я еще не совсем оправилась от раны и нуждалась в отдыхе.
Когда я проснулась, был уже вечер. Дети сидели за столом и ели рисовую похлебку, наспех сваренную Маргаритой. Я слышала голос Мьетты, сердитый и раздраженный:
– Почему мы сидим в этом городе? Эти бретонцы теперь без маркиза ничего не смыслят. Лаваль никем не охраняется. И они еще называют это убежищем! Они даже не знают, что творится в округе. А я слышала, что целая армия Клебера движется сюда… То-то мы попляшем, если синие нападут!
Я вынуждена была признать, что она говорит правду. Никакого командования в отряде больше не существовало, каждый делал, что хотел. Пожалуй, лучше было бы спрятаться в лесу, а не в Лавале. Но Лескюр, кажется, полагал, что Клебер разбит у Туфу.
Дверь распахнулась, и на пороге показался Брике. Его лицо сейчас было такое же, как и его малиновая куртка.
– Что произошло? – спросила я.
– Все кончено, ваше сиятельство. Он умер, умер!
– Лескюр умер?
– Да. Он передал вам вот это…
Брике явно стал честным малым, раз не присвоил то, что было передано мне. Я осторожно взяла у него вещь, отданную Лескюром. Это было кольцо тонкой работы с великолепным огромным сапфиром. Он передал мне его на память…
Я долго сидела за столом, уставившись в одну точку и перебирая в руках кольцо. Все было кончено, Луи Мари прожил больше, чем это возможно при таком ранении, но это была лишь отсрочка неизбежного. Судьба не стала ко мне милосерднее. Напротив, она поступила еще безжалостней и коварней: она подарила мне надежду, а потом вдребезги разбила ее.
– Да полно вам, голубушка! – воскликнула встревоженная Маргарита. – Вы меня не на шутку пугаете. Эдак и с ума сойти можно! Не сидите вы молча. Выпейте-ка чаю…
Я порывисто поднялась и, задыхаясь от горя, бросилась в смежную комнату, крепко захлопнув за собой дверь. Мне надо побыть одной. Надо все осмыслить…
Я плакала целую ночь – плакала, как ребенок, с детским отчаянием. Плакала от того, что Лескюр погиб и что я осталась одна. Я не знала, что теперь буду делать. Отряд распался, да и у меня не было сил бродить по Бретани. Надо что-то придумать. О Боже… что?
5
Синие ворвались в Лаваль неожиданно, одним стремительным ударом кавалерии опрокинув малочисленные защитные ряды белых.
– Бей и руби роялистских ублюдков!
– Покажем им санкюлотскую руку!
Это была опытная армия, вероятно, состоявшая из солдат Революции, переброшенных с восточного фронта. У них была сильная артиллерия, которую можно было бы использовать и против более укрепленного города, чем Лаваль.
Были прохладные сентябрьские сумерки. Я выбежала на крыльцо, встревоженная непрекращающейся стрельбой на улицах. И увидела Брике, перелезающего через забор; он мчался ко мне, отчаянно размахивая руками.
– Что случилось? – крикнула я.
– Синие, мадам! Скорее собирайтесь, надо уносить ноги!
– А где же отряд?
– Не знаю. Там такая неразбериха… Каждый бежит куда глаза глядят.
Я опрометью вернулась в дом.
– Маргарита, собирай вещи! Аврора, одевайся побыстрее! Ты уже взрослая, нечего ждать помощи! И ты, Шарло, тоже.
Я бросилась к Жанно – он был самый маленький, лихорадочно натянула на него крестьянскую парусиновую куртку, завязала шлейку на штанах. Боже, какая бедность…
– Обувайся в сабо, Жанно! Мы убегаем отсюда.
Маргарита быстро собрала в платок горшок с недоеденным вчера рисом и овощами, поставила флягу с сидром и завязала все это в узел. Я машинально проверила, на месте ли зашитое в кожаный мешочек кольцо. Я хотела сохранить эту память о Луи Мари, но мне по опыту было известно, что, когда бродишь по революционной Франции и скрываешься, драгоценность рано или поздно у тебя отбирают. А так, зашитое в мешочек, кольцо сойдет за ладанку или святые мощи.
– Я готова, мадам, – сообщила Маргарита.
– Быстро, быстро выходите!
Я полагала, что мы спустимся через садовую калитку к тихой лавальской улице, а там пойдем спокойным шагом, как обыкновенные беженцы. Сейчас их было полно в Бретани. Ведь у меня на лице не написано, что я аристократка и была в отряде Лескюра. В своем крестьянском платье я легко сойду за простую бретонку. О Маргарите можно сказать, что она моя мать, а Мьетта – сестра. Правда, у нас нет никаких документов…
Я не успела обдумать эту мысль. Дети, стуча тяжелыми деревянными башмаками, побежали вслед за Брике, он должен был провести их к калитке. Поддерживая под руку Маргариту и помогая ей нести узел, я тоже вышла из дома.
– Но где же Мьетта?
Оглядываясь, я остановилась, полагая, что она поспешит за нами. Ничего подобного… Ее вообще не было видно. Куда она пропала? Я решила вернуться в дом, проклиная эту уроженку Вандеи на чем свет стоит.
– Куда вы? – воскликнула Маргарита. Я повелительным жестом приказала ей идти вперед.
– Ступай туда, к детям! Вы подождете меня на улице. Я разыщу эту дурочку и вернусь к вам…
Чертыхаясь, я вбежала в дом, громко выкрикивая имя Мьетты. Никто не отзывался. Я проверила все комнаты, но никого не обнаружила. Может быть, она решила оставить нас? Это было бы к лучшему.
Я услышала какой-то грохот на чердаке. Ну понятно – она там! Снова что-то разыскивает. Это надо же, какая беспечность в такую минуту! С лихорадочной поспешностью, рискуя сорваться вниз, я принялась взбираться по лестнице на чердак.
В носу у меня защекотало от пыли. Я увидела Мьетту, перебиравшую какие-то вещи. Она явно взломала старый сундук и теперь искала, чем бы поживиться.
– Ты что, не слышала, что происходит? – крикнула я в бешенстве.
Она блеснула серыми глазами и, засунув в мешок то, что ей приглянулось, поднялась.
– Слышала! А что, прикажете уйти отсюда без ничего?
– Это не твое добро, ты не смеешь его трогать!
– Расскажите это своей маме! Если оно не мое, то и ничье. Зачем ему даром-то пропадать?
– Ты намерена уходить? – спросила я в крайней ярости. Следом за мной она спустилась по лестнице. Я направилась к выходу, в мыслях дав себе слово как можно скорее расстаться с этой девицей. Будь она неладна! И вообще, какого дьявола я за ней возвращалась?
Шум раздался на крыльце, и дверь распахнулась. Солдаты с окровавленными саблями ворвались в дом. Я узнала синих, и мороз пробежал у меня по коже. Как давно я не видела их вот так, в двух шагах от себя…
Разгоряченный бойней, солдат замахнулся на меня саблей. Это была своего рода инерция, невозможность остановиться. Я отпрянула в сторону и схватила его за рукав.
– Мы же женщины! Неужели вы убиваете женщин?!
Он непонимающе уставился на меня. Мало-помалу взор его прояснился. Я знала, что с этими людьми можно говорить. Это солдаты, а не санкюлоты, у них есть какой-то кодекс солдатской чести. Хотя, может быть, это только иллюзии…
– Опусти саблю, Морис! – вмешался другой синий. – Это бабы, с ними надо иначе разбираться. Что вы тут делаете?
– Мы тут живем, – сказала я первое, что пришло в голову.
Один из синих ступил вперед. Он был потный, грязный, небритый, весь заляпанный кровью, и смотрел на меня с ненавистью.
– Эге, живете! Врешь ты все. Я здешний, я жил в Лавале. Это дом гражданина Дену, честного патриота. Куда вы его дели?
– Ясно! – заявил Морис. – Это обыкновенные мародерки.
– Вовсе нет, – запротестовала я, – мы…
– Ла Жасент, лампу сюда! Мы их обыщем!
Приказание было исполнено в одну секунду. Грязные руки ощупали – причем довольствуясь не только обыском – меня с ног до головы, так, что я почувствовала себя выставленной на продажу рабыней. У меня ничего не нашли, зато, когда очередь дошла до Мьетты, из ее мешка так и посыпались всякие безделушки: какая-то старая табакерка, позолоченный амур, показавшийся, видимо, ей чем-то ценным, саше и коробка пудры… А потом связка дешевых медных колец.
– Мародерка, сволочь!
Добавив к этому непечатную брань, Морис не долго думая отвесил Мьетте оплеуху.
– Что здесь происходит?
В дом вошел военный в форме капитана, и солдаты отдали ему честь.
– Мы задержали мародерок, гражданин капитан.
– Нет, – возразила я яростно, – вы задержали только ее, а не меня! У меня вы ничего не нашли.
– Так-то оно так, – сказал Морис, почесав затылок. – Она говорит правду, гражданин капитан, у нее все чисто, ничего краденого.
И тут вмешалась Мьетта. Вне себя от страха, она затараторила быстро и бессвязно:
– Не верьте ей, не верьте, гражданин капитан! Раз она со мной была, стало быть, она моя сообщница. Это она меня подговорила украсть чужое… В этом я хоть на святом распятии присягну. Я девушка добрая, по глупости согласилась. Это она во всем виновата, а теперь отпирается!
– Молчать! – грубо приказал капитан. – Вы обе достаточно подозрительны. Нет у меня времени с вами разбираться. Ла Жасент!
– Я здесь, мой капитан!
– Отведи этих девок и запри в сарае. Позже, когда дел поубавится, мы с ними разберемся. Может, они шпионки. Это еще надо проверить.
Я была готова выцарапать Мьетте глаза, вцепиться в волосы, убить ее на месте. Никогда еще у меня не появлялось столь непреодолимого кровожадного чувства, желания зарезать, задушить, застрелить. Бросив на Мьетту взгляд, не предвещавший ей ничего хорошего, я пошла вперед, решив быть послушной, чтобы меня не связали. В конце концов, правда останется правдой: у меня не нашли ничего краденого. Доказательств, что я шпионила, также нет. Они не могут задержать меня надолго…
Во дворе к капитану бросилась, заливаясь слезами, Маргарита.
– Отпустите ее, гражданин, Христом Богом вас прошу! Ну, какая из нее преступница? Вы только взгляните на нее! Это же просто ангел. Она в жизни никому зла не делала… Заберите только эту стерву, Мьетту, она во всем виновата…
– Уберите эту старую ведьму! – приказал капитан. – Я смотрю, тут у них целое гнездо! Все эти вопли мне страх как надоели…
Ла Жасент с ружьем наперевес провел нас по улице к казармам. Мы пересекли широкий двор, миновали конюшни и кордегардию. Солдат втолкнул нас в сарай и запер дверь.
6
Дрожа от бешенства, я села на связку прелой соломы. Надо успокоиться, надо поскорее успокоиться, твердила я себе, иначе я наделаю глупостей. Но рядом сидела Мьетта, и это изрядно мешало трезвому размышлению.
– Какая же ты дрянь и сволочь, – сказала я, не скрывая ярости, клокотавшей в голосе. – Сукина дочь! Воровка ты дерьмовая, тебя мало повесить за то, что ты сделала!
Меня душила злость. Из-за этой стервы я вернулась в дом – вернулась, чтобы быть арестованной. А она еще и оговорила меня перед капитаном!
– Вы меня своей бранью не донимайте, – огрызнулась она. – Вы что, думали, я одна захочу тут сидеть? В компании оно веселее.
Внутри у меня все похолодело. Она ввязала меня в это дело, чтобы ей было веселее! А у меня там дети. Что они будут делать одни в этом захваченном синими городе? Господи, да ведь им даже переночевать негде.
На миг мне показалось, что я не смогу дальше жить, если не убью эту девку. Существование нас двоих в этом сарае совершенно невозможно. И такая холодная, тяжелая ярость завладела мной, что, не в силах больше сдерживаться, я рывком поднялась с соломы, разъяренно бросилась к Мьетте и, прежде чем она успела опомниться, кулаком ударила ее по лицу.
Вскрикнув, она попыталась увернуться, но я, с какой-то дикой интуитивной мстительностью угадав ее движение, бросилась за ней и снова ударила по лицу. В меня словно дьявол вселился, я не способна была контролировать себя. Я видела, как у нее из носа побежала кровь – по щеке, по шее, прямо на лиф, но ярость моя не уменьшилась. В эту минуту я действительно готова была убить эту дрянь.
– Ну что, мерзавка, теперь тебе весело? Подожди, сейчас будет еще веселее, – яростным шепотом пообещала я, чувствуя, как мною все сильнее овладевает бешенство. Я находилась в состоянии какого-то невероятного аффекта.
Угадав, что я вне себя, и, видимо, испугавшись выражения моего лица, Мьетта вырвалась и, не переставая вопить, отбежала к двери.
– Что я такое вам сделала, не пойму! – прокричала она мне. – Если уж на то пошло, то обижаться я должна! Да, я! Где, интересно, то изумрудное колье, что вы мне пообещали за мои услуги?! Где оно?
– Что?
Я не верила своим ушам. Она еще и обвиняет меня после того, что натворила! Лицо у меня стало совсем белым. Прикусив губу, я медленно пошла к ней.
– Ну, погоди, дрянь, сейчас я тебе покажу изумрудное колье. И колье, и еще кое-что…
В ответ Мьетта истошно завизжала, прижимаясь к двери.
– Не подходите ко мне! Не подходите, а не то я позову солдат и расскажу им, кто вы такая на самом деле!
– Попробуй только. Отправишься на гильотину вместе со мной, ты, невинный голубок!
Не слушая меня, Мьетта визжала не переставая, как свинья на бойне:
– Эй, сюда! Сюда! Скорее, на помощь!
– Замолчишь ты или нет?! – Я схватила ее за платье и попыталась оттянуть от двери. Ткань треснула и поползла с плеча.
– Ой, убивают! – раздался новый вопль Мьетты.
Солдаты во дворе, разумеется, ее услышали. Задребезжал открываемый замок, и дверь распахнулась. Поток лучей заходящего солнца хлынул в темные внутренности сарая.
– Ба, да наши суки, кажется, сцепились!
Этими словами нас приветствовал один из четверых, заглянувших в сарай. Их вид не предвещал ни мне, ни Мьетте ничего хорошего, но она этого словно не понимала.
– Граждане! Спасите меня! – кричала она так же громко, как торговка на базаре. – Эта сумасшедшая убьет меня.
– Заткнись, шлюха! – не слишком любезно оборвал ее один из солдат. Мьетта послушно умолкла. – Ну, что здесь происходит?
– Да и так ясно, Жосслен, что тут спрашивать, – самоуверенно и хрипло ответил полупьяный синий, стоявший ближе ко мне. Его мундир был расстегнут, и сквозь дыру в грязной рубашке проглядывала грудь, поросшая черными волосами. – Подрались бабы.
– Поглядите-ка на эту красотку! – добавил усатый солдат, пальцем указывая на Мьетту.
Она действительно выглядела весьма жалко: под глазом синяк, лицо в крови, платье на плече изодрано и тоже испачкано кровью.
– Из-за чего драка вышла, девки? – спросил тот, кого называли Жоссленом.
– Да уж не знаю, гражданин, – вновь затараторила Мьетта, воспользовавшись тем, что ей позволено было открыть рот. – Я ее не трогала, сидела себе тихо-мирно. Может, ей в голову что-то стукнуло, а может, она просто больная, сумасшедшая от рождения. Если бы вы не пришли, она бы меня убила.
– А ты что скажешь? – обратился Жосслен ко мне.
От него несло потом и перегаром, и я брезгливо отвернулась.
– О, да это еще штучка с характером!
Грязными пальцами он схватил меня за подбородок и насильно повернул мое лицо в свою сторону:
– Не смей отворачиваться, белая дрянь, когда с тобой разговаривает солдат революционной армии!
Глазами, полными ненависти и отвращения, я смотрела на этого грязного потного субъекта, именующего себя солдатом революционной армии, и ничего не отвечала. Самым унизительным для меня сейчас было бы разговаривать с этим сбродом.
– Молчишь? Ну молчи. После ужина мы навестим тебя, научим быть поразговорчивее.
Он с силой оттолкнул меня и направился к выходу.
– Пошли, ребята! Придем после ужина, развлечемся.
– До вечера, бабы, – бросил блондин и последовал за Жоссленом.
– А я, как же я? – закричала Мьетта.
Жосслен обернулся и грубо приказал:
– Возьмите эту стерву, ребята. Заприте в соседнем сарае.
7
…Темнело. Сквозь щели в двери уже не пробивался солнечный свет. Воздух становился прохладнее – как-никак, шел уже сентябрь… Забившись в самый угол, сидя на охапке прелой соломы, я наблюдала, как угасает день. Влажный сумеречный воздух казался голубым, со двора ветер доносил запахи подгоревшей каши.
Внутренне я вся была напряжена. Усталость и страх давно бы сломили меня, если бы не этот странный внутренний стержень, заставлявший меня высоко держать голову. Я не могла ни уснуть, ни забыться. Я слишком хорошо помнила слова того негодяя, его обещание вернуться после ужина, и слишком хорошо знала, что грязная солдатня вернее всего исполняет именно эти обещания.
Когда они приходили, они уже были пьяны. Можно представить, до какой кондиции они довели себя сейчас. Я уже раскаивалась, что так неистово набросилась на Мьетту, довела ее до ужаса. Она, конечно, большая мерзавка, но лучше бы она молчала и не поднимала крик. Тогда солдаты, может быть, оставили бы нас в покое.
Силы у меня были на пределе. Больше всего на свете мне хотелось уткнуться лицом в колени и расплакаться – громко, отчаянно, чтобы ощутить облегчение. Разве можно все время подавлять и скрывать тревогу и ужас, терзающие меня? От этого можно сойти с ума, помешаться!
Шум раздался возле двери, скрипнул замок. Словно какая-то пружина подбросила меня – так быстро я вскочила на ноги, лихорадочным взглядом следя за дверью.
– Вижу, ты дожидалась нас, шлюха!
На пороге стояли Жосслен и двое солдат, которые раньше явились на крики Мьетты. Не было только четвертого, совсем молодого юноши, – уж не знаю, почему; может быть, ему было стыдно. Вид у всех троих был отвратительный: мундиры нараспашку, рубашки грязные, ремни полураспущены… И этот противный запах пота, дешевого вина и давно не мытого тела!
– Что вам надо? – процедила я сквозь зубы, не скрывая своего отвращения.
– Чтобы ты стала чуть-чуть полюбезнее, стерва!
В несколько шагов Жосслен преодолел разделявшее нас пространство и, схватив горячими руками меня за плечи, рванул к себе так неистово, что у меня на мгновение потемнело в глазах. Невыносимо противные губы прилипли к моему рту, отвратительные грязные руки шарили по телу. Дурнота прихлынула к моему горлу, меня вот-вот должно было стошнить. Нет ничего на свете, что было бы хуже этого, ничего… От ужаса, гнева и брезгливости у меня помутился рассудок, а этот кошмар все не кончался, и тяжелые запахи пота и табака душили меня. Изо всех сил я вцепилась ногтями в эту мерзкую физиономию, прижимавшуюся ко мне все сильнее. Я слышала смех солдат и почти физически ощущала, как мои ногти оставляют на коже этого негодяя кровавые борозды. Он резко оттолкнул меня, лицо его было перекошено от бешенства.
– Мерзкий индюк, мужик, деревенщина! – закричала я так пронзительно, что у меня самой зазвенело в ушах.
– Ах, вот ты как, сука?!
Мне было ясно, что мне придется поплатиться за то, что я – посмела сделать. Я оказалась еще и виновата. Ко мне приставали, и теперь я сука только потому, что защищалась!
– Мы тебе сейчас устроим!
Он осыпал меня такими грязными нецензурными ругательствами, каких я даже раньше не слыхивала.
– Похоже, тебя только трое и могут урезонить! Эй, Поль, Жан Луи! Давайте сюда, будем действовать по очереди!
Я забилась в самый угол, но за мной никто не пошел, никто не попытался удержать, на меня попросту не обращали внимания. Все трое прекрасно понимали, что я убежать не могу, что я всегда буду под рукой.
– Ну, идите же! Поможете мне. Эта дрянь способна кому угодно глаза выцарапать.
Поль и Жан Луи, потоптавшись, поспешили на его зов. Меня словно окатила ледяная волна. Я прекрасно понимала, что со мной будет; ненависть, отвращение и ужас охватили меня.
Все это было как в кошмарном сне. Страх так парализовал меня, что я даже не способна была сопротивляться. Железные пальцы обхватили мои запястья, опрокинули на солому, прижали к земле; потом те же руки обхватили мои лодыжки и, как я ни старалась держать колени вместе, легко разомкнули мои ноги. Я оказалась в положении распятого, пригвожденного к земле грязными руками солдатни. Я не слышала уже ни хохота, ни сальных насмешек, я чувствовала только, как эти мерзавцы, путаясь в застежках, срывают с меня одежду, добираясь до нижнего белья. От ужаса спазмы сжали мне горло; меня стошнило, и я на миг потеряла сознание.
Увесистая пощечина привела меня в чувство. Я видела, как Жосслен, склонившись надо мной, самым бесстыдным жестом расстегивает свои кюлоты. Его мерзкая морда рыжего кабана показалась мне в это мгновение воплощением всего безобразия самого Сатаны.
– Что здесь происходит, черт бы вас побрал?!
Как в тумане, я увидела вошедшего в сарай незнакомого мне синего. Это был здоровенный парень, косая сажень в плечах, и кулаки у него были такие, что, казалось, ими он может оглушить быка.
– На карауле никого нет, в кордегардии тоже! Вы что, все продались белым? Я пошлю вас на гауптвахту, ублюдки!
Руки, державшие меня, разжались. Потрясенная, я лишь машинально оправила платье, не веря, что еще живу. Этот здоровяк, вероятно, был унтер-офицером и командовал мерзавцами, которые хотели меня изнасиловать. О, наверное, есть Бог на свете, если он пришел сюда.
– Валяйте, сержант, ругайте нас, – хрипло ответил Жосслен, подымаясь. – Да только вы прервали чудесную забаву. Желаете присоединиться? У этой девчонки все на месте, и кожа прямо как лепесток.
– Проваливай отсюда на пост! – обрушился на него сержант. – Убирайтесь все, иначе я напишу на вас рапорт капитану!
Солдаты побрели к выходу. Было видно, что ничего, кроме ненависти, они сейчас к сержанту не испытывают. Обернувшись, Жосслен хрипло и едко произнес:
– Когда закончите, сержант, уж потрудитесь нас позвать!
– Ты договоришься когда-нибудь до трибунала, идиот! Ко мне вернулись чувства и способность соображать.
Этот сержант так неистово орал на своих подчиненных, называл их ублюдками и осыпал такой бранью, что каждое его ругательство действовало на меня словно бальзам. У меня самой на языке вертелось столько ругательств, что я насилу сдерживалась, – не потому что боялась обидеть своих мучителей, а потому что горло мне до сих пор сжимали спазмы. Адский кошмар закончился; нужно было время, чтобы в это поверить.
Я, кажется, даже не сразу заметила, как склонился надо мной сержант. Он посветил мне в лицо фонарем, а потом, поставив фонарь на землю, схватил за плечи и сильно встряхнул.
– Эй, красотка! Пора прийти в себя. Здесь не пансионат, а армия, тут не принято падать в обморок.
– Я не в обмороке, – произнесла я почти резко. – И, пожалуйста, не хватайте меня за плечи!
Его лицо, освещенное тусклым светом фонаря, было бы красивым, если бы он как следует побрился. Он был жгучий брюнет с такой смуглой кожей и черными глазами, какие во Франции бывают только у уроженцев Юга. У меня почему-то екнуло сердце. Сержант говорил с акцентом; но из-за волнения я не могла разобрать, что именно это за акцент. Кто он – гасконец? Беарнец? Может быть, он из Прованса или Лангедока? Впрочем, какая разница! Я определенно схожу с ума, если меня интересуют такие вещи.
– Э-э, да ты недотрога! Предупреждаю, здесь это мало кому понравится, да и мне в том числе.
Эта фраза меня насторожила. Где-то в подсознании у меня уже возникло убеждение, что я зря считала этого здоровяка благородным ангелом-спасителем.
– Не будь такой ледышкой, детка. В твоем положении это ни к чему. Ты же видишь, желающих поразвлечься с тобой тут пруд пруди. Если бы ты так не хмурилась, они бы тоже вели себя более любезно.
– Что вам нужно? – прямо и враждебно спросила я.
– Да того же самого, что и им, черт побери!
Расширенными от гнева и жестокого разочарования глазами я в упор смотрела на сержанта. Как об этом сказала бы Маргарита? Из огня да в полымя! Я снова подумала об его акценте и снова одернула себя за такие нелепые мысли.
– Похоже, крошка, до тебя мои слова еще не дошли. Послушай-ка…
Он попытался взять меня за руку, но я вырвала ее с такой брезгливостью, что он нахмурился.
– Да ты настоящий дракон, да? Свирепая, как дикая кошка! Не мудрено, что мои ребята так разъярились, ты кого угодно выведешь из себя.
Оцепенение прошло, и я почувствовала, как во мне горячей волной поднимается ярость. Нет, какой негодяй… И еще минуту назад я испытывала к этому подонку почти благодарность!
– Послушай, красавица. – Сержант, казалось, изменил тон и заговорил мягче. – Я вовсе не таков, как они, так что не гляди на меня так зло. Я тебе кое-что предложу взамен.
– Взамен? – переспросила я. – Взамен за что?
– Черт побери, за веселую ночку, разумеется!
Кровь отхлынула у меня от лица.
– Проваливай отсюда, ты, индюк! Если ты останешься и посмеешь меня тронуть, я разукрашу тебе физиономию так, что и через три месяца не заживет!
В бешенстве я уже хотела угрожающе показать ему свои ногти, но он только расхохотался в ответ, и я принуждена была умолкнуть.
– Ты девица с перцем, это я вижу. Не беспокойся. Если ты меня прогонишь, я просто позову сюда тех ребят. Позову всех троих. Зачем мне мешать их забаве? Они хорошие солдаты, надо же им когда-то отдохнуть.
Я прокусила губу почти до крови. До меня наконец дошло, что выхода у меня нет. Он видел, что я все поняла, и снова заговорил почти ласково, правда, с некоторым оттенком насмешливости:
– Ну послушай же меня. Я пятую неделю ни одной женщины не видел. Per Bacco![5] Ты этого понять не можешь. Ну, так вот, если ты будешь вести себя хорошо, я обещаю тебе держать тех парней на расстоянии. Они к тебе больше и не приблизятся. Как тебе нравятся мои условия? По-моему, раз уж ты такая добродетельная, лучше согласиться на одного сержанта, чем на нескольких солдат.
Он ввернул в свою речь итальянское ругательство, и сердце у меня снова екнуло. Потом я осознала, что он говорил и что предлагал. Надо крикнуть ему, что он мерзавец, что я никогда не пойду на такое, что не соглашусь на его гнусные условия… Но я молчала, слишком хорошо зная, что произойдет в случае моего отказа. Жосслен со своей свитой еще был там, во дворе.
– Ну, что так долго молчишь, красотка?
От бессильного гнева я сжала зубы. В горле у меня стоял комок, щеки горели. Не глядя на сержанта, я молча кивнула.
– Да только уговор, не кривляться и не строить из себя мученицу. Я этого терпеть не могу. И я не собираюсь тебя насиловать…
– Что тебе нужно?! – не выдержав, крикнула я.
Меня захлестнуло яростное возмущение. Он что, предполагает, что я буду изощряться, чтобы ублажить его? Да у меня внутри все переворачивается от отвращения!
– Только не надо дергаться и скрежетать зубами, красотка! Все, что от тебя требуется, – это позволить мне сделать свое дело. Мне показалось, ты согласна?
Мое молчание было ему ответом. Сержант потянулся ко мне, медленно опрокидывая на солому, а я даже не имела права на сопротивление. Мы заключили сделку… Черт возьми, какая мерзость! Содрогаясь от отвращения, я чувствовала его прикосновения к моей коже. Он пытался не проявлять грубости и не причинять мне боли, но именно это было для меня всего невыносимее. Лучше бы все кончилось побыстрее, и я осталась одна.
А вдруг он меня обманет? Подобные ему негодяи способны на что угодно. Мне тоже следует быть похитрее… Я спокойно лежала, ожидая, пока он возбудится до такой степени, когда торговаться ему труднее всего. Я помнила слова легкомысленной Изабеллы де Шатенуа, облетевшие весь Версаль: «Мужчины смягчаются тогда, когда твердеют». Я подождала, пока его руки от моей груди скользнут к бедрам, поднимут юбку, добираясь до того, что ему нужно больше всего… Именно в этот момент я с силой его оттолкнула.
– Эй, не так быстро! Мы еще не все обсудили.
Когда он наваливался на меня, по прикосновению его напряженной мужской плоти я поняла, что он полностью готов, и выбрала подходящую минуту. Удивленный и рассерженный, он взглянул на меня.
– Что еще такое?
– Поклянись мне в том, что ты обещал.
Я полагала, он из деревни, стало быть, суеверен и не сможет нарушить клятву, – если, конечно, она будет достаточно сильной. Наши глаза встретились. Что-то смутно-знакомое уловила я в его черных глазах… Господи, неужели мы уже встречались? Нет, такого не может быть. И все же я убеждалась, что в облике сержанта есть что-то близкое мне. А этот акцент? Он до ужаса мне знаком!
– В чем я должен поклясться?
– В том, что не позволишь своим солдатам приставать ко мне.
Не колеблясь ни секунды, он решительно произнес:
– Клянусь землей, на которой я родился, клянусь могилой моей матери, клянусь честью моих предков, я сделаю так, как обещал.
Что он сказал? Мне показалось, что я слышу что-то знакомое-знакомое, но полузабытое, стершееся за много лет… Он поклялся землей, могилой матери и честью предков. Да это же самая обычная тосканская клятва! Так клялись там, в моей деревне на берегу Лигурийского моря! Недаром мне и акцент этого сержанта показался знакомым. Неужели он мой земляк?
Его рука коснулась моих плеч.
– Надеюсь, это все?
Я открыла рот, чтобы ответить, но со двора донесся шум, и кто-то громко крикнул:
– Эй, Риджи! Привезли мятежников, где разместить?
Сержант недовольно поднялся, распахнул дверь и грубо крикнул в ответ:
– Обратитесь к Жосслену, он все устроит. Не приставайте ко мне больше, черт побери!
Я почувствовала, что глупею. Уж не послышалось ли мне? Какую фамилию я слышала, – Риджи? Именно Риджи? Он вернулся, снова оказался рядом.
– Это тебя называли Риджи? – спросила я почти тупо.
– Меня, – недовольно и поспешно подтвердил он, явно раздраженный. – Уж не поторопиться ли нам? Хватит пустой болтовни, я хочу поскорее получить свое. Ну, давай! Надеюсь, нам больше никто не помешает.
Прикусив губу, я молча смотрела на него. Конечно, это Розарио. Сомнений быть не может. От Джакомо я знала, что он служил в республиканской армии, был ранен, лежал в госпитале, получил чин сержанта. Розарио Риджи, мой старший брат, негодяй и подонок, готовый изнасиловать собственную сестру.
– Что ты сидишь, словно мертвая?
Неудержимая волна возмущения поднялась в груди. Как же так могло случиться? Мне всю жизнь будет стыдно за его поведение, за то, что мой брат – такой гнусный тип.
– Ты Розарио Риджи? – еще раз спросила я.
– Я! Я! Черт возьми! Мы можем продолжить?
Я отшатнулась от него, лицо у меня было искажено гневом. Не в силах сдержать себя, я подняла руку и ударила его по лицу. Это была увесистая оплеуха – все, на что я была способна.
– Мы продолжим! – задыхаясь, злобно пообещала я. – Мы непременно продолжим, да только ты забыл поздороваться, любезный братец!
Щеки у меня пылали от стыда. В кого он превратился? В обыкновенного преступника, для которого война – промысел, грабеж и насилие. Целые орды таких негодяев бродят нынче по Франции. И мой брат – один из них! Он даже командует ими!
– Мерзавец, подлец, ублюдок! – твердила я, сжимая кулаки. – Развратная рожа! Тебя бы следовало повесить за то, что ты стал таким дерьмом! Я в жизни не встречала никого гнуснее тебя!
Во мне бушевал гнев. Сержант смотрел на меня, и ярость, вызванная моей пощечиной, постепенно сменялась на его лице недоумением.
– Какой я тебе братец?
– Черт побери, это верно. Какой ты мне брат? Ты сам Сатана!
Словно не слыша моих слов, он тихо и неуверенно произнес:
– Ритта?
Тяжело дыша от злости, я молчала. Теперь я знала, что не ошиблась. Этому субъекту на вид двадцать пять или двадцать шесть лет – как раз столько, сколько должно быть Розарио. Он мой брат. И именно он заставил меня испытать такое сильное унижение. Пользуясь моим безвыходным положением и своей властью, он вынудил меня так унизиться. Конечно, он не знал, что он мой брат. Но это ничего не меняло, это лишь доказывало, что он чудовище по натуре, что он с любой женщиной готов поступить таким образом.
– Ритта? Правда?
– Не произноси моего имени, мне это противно! – вскричала я, дрожа от гнева.
– Так ты моя сестра?! – пораженно произнес он.
У нас обоих не было слов. Каждый невольно вспомнил, когда мы расстались. Это было тринадцать лет назад, в Сент-Элуа. Отец не пожелал содержать моих братьев – он назвал их тогда «племенем Риджи». Наверное, Розарио уехал с Джакомо в Париж. Кто его сделал таким негодяем? Я вспомнила все, что случилось накануне, и возмутилась снова.
Он попытался взять меня за руку, но я поспешно вырвалась.
– Нет-нет… Не прикасайся ко мне.
– Это верно. Мы стали чужими.
«Он мой брат». Я знала, что это правда, и не верила. Этот могучий молодой парень, сидевший рядом, казался мне совсем чужим мужчиной. Я помнила Розарио ленивым толстым мальчишкой. Теперь он не был толстым, но прежнюю медлительность в движениях можно было заметить. И ходит он все так же, вразвалку…
– Нет, это надо же! – повторила я. – Что ты мне предлагал! На твоем месте я бы умерла со стыда.
– Не болтай чепухи. С какой стати мне умирать? Между нами ничего не было. Да я и не знал, что ты моя сестра.
– А крест, крест на шее у тебя есть, мерзавец? Внутри у меня все переворачивалось.
Я уже видела, что все слова тут напрасны. Он не понимал, так сказать, глубины своего падения.
– Послушай! Ты же совсем не знаешь меня. Я пять недель ни к одной женщине даже близко не подходил. Может, кто-то и может так, а я не могу. Для меня это много значит. Таким уж я уродился. Здесь – армия, тут женщин негусто. И разве я один такой? Так все поступают. Здесь действуют законы войны. Я даже лучше, чем другие. Я не позволяю, чтобы все на одну набрасывались. Но совсем без женщин я не могу.
– Ты… ты даже не понимаешь, что ты говоришь. Ты чудовище! Тебе бы следовало ходить к шлюхам, а вместо этого ты шантажируешь арестованных, которым и без того не сладко! Только последний подонок может так поступать…
Я уткнулась лицом в колени, уговаривая себя успокоиться. Как-никак, а он мой брат. Мы одной крови. Это обязывает меня относиться к нему помягче… но, черт побери, как?
– У меня есть крест на шее, дорогая сестренка! И не делай из меня преступника. Я не убийца. Не я развязал эту войну. Я нормальный парень. В Париже у меня есть невеста, Лаура, и уж она-то никак не может пожаловаться, что я ее обидел!
– Боже мой! – произнесла я, не слушая его. – Это просто кошмар… У меня такие милые братья – Антонио, Джакомо. Они поддерживали меня, защищали… А для тебя нет ничего выше твоих удовольствий, ты живешь, как животное, и мне стыдно за тебя!
– Черт побери, хватит!
Разъяренный, он схватил меня за плечи.
– Хватит. Ей Богу, меня еще никто с грязью не смешивал, и тебе я тоже этого не позволю. Давай не будем говорить о моих удовольствиях. Я ведь тоже многое знаю. Мы много лет были бедны, Стефания выбивалась из сил, чтобы вырастить меня и обучить ремеслу. Разве ты понимаешь что-нибудь в жизни? Я читал в газетах о твоих успехах. «Принц де Тальмон представил свою дочь их величествам»! «Мадемуазель де Тальмон стала украшением бала в „Опера!"»! «Статс-дама королевы приобрела ожерелье стоимостью в восемьсот тысяч ливров»! – с горечью повторил он фразы из газет. – А мы даже не знали, какие они, эти тысячи.
– Я понятия не имела, где вы. Десятки возможностей сообщить мне о себе, но вы не делали этого. И теперь я же виновата!
– Я не виню тебя. У каждого своя жизнь. Я просто хочу, чтобы ты почувствовала, что не за одним Розарио числятся грешки.
Я замолчала. Он поставил меня в тупик.
– Ритта, – вдруг сказал он. – Не слушай меня. Я знаю, что виноват.
У меня отлегло от сердца. Я взглянула на брата повнимательнее, и что-то шевельнулось у меня в груди. Какое-то теплое чувство, правда, пока еще слабое… Мы сидели вместе на соломе, как раньше, в детстве. У меня перед глазами снова возник тихий старый домик в тени цветущих кизиловых деревьев, в обрамлении пышных лоз винограда и рдеющих ягод белладонны. Какое аквамариново-синее небо было над ним… Сердце у меня защемило. Я тяжело вздохнула. И внезапно все произошедшее представилось мне иначе, повернулось своей привлекательной стороной. В последнее время я только теряла близких мне людей: сначала отец, потом Лескюр. Эта встреча – подарок судьбы… Я нашла Розарио, когда больше всего нуждаюсь в поддержке. Ради этого стоит забыть все остальные обстоятельства встречи…
– Как ты оказался здесь? – спросила я вдруг.
– После ранения меня отправили на Восточный фронт, – неторопливо, словно нехотя произнес Розарио. – Когда австрийцы Кобурга осадили и взяли Майнц, попал вместе с гарнизоном в плен. С нас взяли слово не воевать против коалиции и отпустили. А уж Конвент перебросил нас в Вандею.
– Ты не очень удивился, увидев меня здесь.
– Я знал от Джакомо, что ты объявилась. Стефания расписала мне все в лучшем виде – и твое нахальство, и какого-то усатого мужика, который тебя содержит…
Я невольно фыркнула. Надо же, Стефания поверила всему, что я ей наговорила.
– Я был недавно в Париже, в отпуске. У меня там живет невеста…
Упоминание о ней почти полностью разрядило напряженность. Я попыталась улыбнуться.
– У тебя невеста, Розарио?
Брата забавляло мое удивление.
– А что здесь странного? Она из наших, итальянка. Правда, не тосканка, а из Венеции. Лаура Антонелли… Красивая девчонка, прямо как Луиза Конта.
Я нечаянно прикоснулась к его руке. Он осторожно сжал мои пальцы.
– Ты простишь меня, правда? Война любого сделает негодяем.
– Давай забудем об этом.
Розарио смотрел на меня внимательно и слегка обеспокоенно. О, теперь я узнавала его глаза – черные, с чуть синеватыми белками, и его лицо – выразительное, смуглое, с высокими скулами – непременным признаком всякого из семейства Риджи…
– Я буду Каином, если не спасу тебя Ритта.
– Разве меня не должны отпустить? Я; ни в чем не замешана.
– Это не имеет значения. Ты попалась и все этим объясняется, С тобой даже никто не станет разбираться. Через два дня сюда прибудет гильотина. Она решит все затруднения.
Расширенными от ужаса глазами я смотрела на него.
– Меня хотят гильотинировать?
– Тут с сотню таких, как ты, наберется.
Он продолжал говорить тихо и внятно:
– Я выведу тебя. Ты не останешься здесь. Я найду способ.
– А ты? Ты сам?
– Я стану дезертиром. Это давно совпадает с моими планами. Войне не видно конца, а я не намерен всю жизнь быть солдатом.
Со двора доносились какие-то крики, команды, суета. Я думала о том, что ради меня Розарио пойдет на большую жертву. Из сержанта он превратится в изгоя, разыскиваемого полицейскими агентами Республики. Но разве я могла отказаться от этой жертвы? Меня должны были гильотинировать.
– Когда? – тихо спросила я.
– Завтра ночью.
– Почему? – волнуясь, сказала я. – Почему завтра?
Он словно колебался: говорить мне или нет?
– Ну! – поторопила я.
– Видишь ли… это известие будет тяжелым для тебя.
– Что именно? О Боже, не тяни! Поскорее, пожалуйста!
– Твоего отца привезли в Лаваль. Завтра утром соберется военно-полевой суд.
Мурашки пробежали у меня по спине. Отец в Лавале! Он жив. И его должны судить… Мне стало больно, так невыносимо больно, что я прикусила губу, чтобы подавить возглас отчаяния.
– Твой отец – важная фигура, Ритта. Сюда нагнали для его охраны столько солдат, что нам лучше переждать и никуда не двигаться. Завтра к вечеру это столпотворение рассосется…
– Завтра? – снова спросила я. – Когда казнят отца?!
8
Едва забрезжил рассвет, солдаты стали подниматься. Обливали друг друга из ведер водой, гогоча во все горло и отпуская шуточки, раскуривали трубки и поглощали скудные солдатские пайки. Как я поняла, это был пехотный отряд. Синие непрерывно мурлыкали себе под нос какие-то песни – то «Марсельезу», то куплеты из «Карманьолы»:
Я санкюлот, и я люблю Плясать на горе королю. Привет марсельцам от меня — Они моя родня. Так спляшем карманьолу! Слышишь гром? Слышишь гром? Так спляшем карманьолу! Пушки бьют за бугром.За ночь я не сомкнула глаз, хотя иногда мне до ужаса хотелось забыться, потерять сознание или умереть, лишь бы отключиться от кошмара, увидеть который мне еще предстояло. Я все буду видеть… Они убьют отца у меня на глазах.
Странное дело: всю свою жизнь я нисколько не страдала от того, что отца нет рядом со мной. Когда я училась в монастыре, то за шесть лет видела его всего два раза. Потом, до моего первого замужества, мы хотя и жили в одном доме, встречались редко: всегда получалось так, что отец на службе, а я у королевы. Ну а после случая с Жанно я вообще не желала с ним видеться. И вот теперь, совершенно внезапно, в душе возникла жгучая боль от того, что я так плохо знала его, что мы так скверно использовали те годы, что были нам отпущены.
Надо сказать, что отец мне попался необычный. Я могла точно посчитать, сколько раз за всю жизнь он меня поцеловал. Он распоряжался мною, делал все что хотел: он причинил мне так много горя, как никто другой.
Но… было что-то такое, что заставляло меня сейчас глубоко страдать. Я смутно понимала, что это. Узы крови? Зов родства?
Привычка? Возможно, все это вместе. Отец все-таки любил меня. Может быть, его любовь выражалась странно и не в открытую. И теперь катастрофа разъединила нас, обрекла на разлуку. Обрекла отца на смерть, а меня на то, что я все это увижу.
Он был настоящим аристократом, подлинным принцем, и этого у него не отнимешь. В Версале его называли Баярдом, рыцарем без страха и упрека. Свою честь он нес высоко, как священную орифламму,[6] и он ни в чем не нарушил своего долга, подавал пример другим… Жанно явно будет гордиться дедом. Но мне-то, мне нисколько не было легче от этого.
Мы были такие разные, между нами все время возникали размолвки. Оба были упрямы и не понимали друг друга. И все-таки за это лето мы сблизились. Отец стал мне дорог. И сегодня я могла сказать… что люблю его.
Да, я люблю его. Впервые осознав это, я почувствовала горечь. Почему я поняла это так поздно? Почему он не позволял мне этого понять?
– Взвод, строй-ся!
Эта громкая команда ошеломила меня. Как, уже? Уже начинается? Вцепившись руками в холодные перекладины двери, я замерла у широкой щели. Губы у меня дрожали, руки стали совершенно ледяными. Великий. Боже, неужели это все-таки произойдет?
Мимо сарая бежали солдаты, выстраиваясь в два ряда. Во двор вынесли стол, накрытый алым сукном, и пять стульев. Разумеется, это для членов военной комиссии, для этих мерзавцев!
Вышли офицеры и медленно зашагали к столу под громкий бой барабанов. Один из них был тот самый капитан, приказавший посадить меня в сарай. Остальных я никогда не видела. Хотя, впрочем… Гневная мысль пронзила меня: в одном из судей я узнала Альбера, нашего бывшего лакея, служившего в отеле де ла Тремуйль. Теперь он был в форме лейтенанта. Надо думать, лакей не упустит случая отомстить своему хозяину… От отвращения хотелось плюнуть. Я плюнула, и мне стало как будто немного легче.
Капитан вскинул голову и, глядя прямо перед собой, крикнул:
– Введите арестованного.
Дверь кордегардии распахнулась. Задыхаясь от боли, я почти прикипела к двери. Сердце у меня отчаянно колотилось. Я увидела отца и была вынуждена зажать себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть.
Его окружили жандармы, но шел он сам, без чьей-либо помощи. Руки у него были связаны за спиной, но осанка оставалась поистине по-королевски величественной, и голову он держал высоко, как и подобает аристократу. Целый месяц его возили по Бретани, но, видно, ни одна рука не посмела прикоснуться к нему. Одним взглядом он был способен пригвоздить противника к месту.
Принц шел через двор, не глядя ни на кого из присутствующих. Он сильно хромал – дважды раненное колено так и не зажило, – но держался прямо. Совершенно серебряные волосы были так же связаны сзади лентой, как и тогда, когда я видела его в последний раз. Его лицо… о Боже, я больше не увижу его лица, этого безукоризненного аристократического профиля, имеющего несомненное сходство с профилями римских цезарей… Я заметила морщины на его высоком лбу, пронзительный властный взгляд по-прежнему зорких глаз… Ведь я люблю его! Господи ты, Боже мой, почему именно сейчас, когда я поняла это, ты отнимаешь его у меня?!
Я на мгновение закрыла глаза, чтобы запомнить его таким: гордым, сильным, в белой рубашке, кюлотах и высоких армейских сапогах, в портупее, с которой эти мерзавцы сорвали шпагу…
Голос капитана нарушил мои мысли.
– Сабли наголо! – скомандовал он.
Жандармы обнажили сабли. Так делалось всегда, когда подсудимому угрожала смертная казнь.
Принц стоял перед своими судьями – бывшими конюхами, лакеями, мясниками, – и взгляд его был предельно холоден.
– Ваше имя? – спросил капитан, гнусавя так, как это умеют только простолюдины.
Принц ответил:
– Филипп Антуан де ла Тремуйль, принц де Тальмон, герцог де Тарент, сеньор Шато-Гонтье и пэр Франции.
Это прозвучало очень спокойно, с хорошо ощутимым холодом в голосе. Невозможно было не почувствовать расстояния, отделявшего такого вельможу от его судей.
– Кто вы такой?
– Генерал королевской армии.
– Человека, который называл себя королем, больше не существует.
– Короли существуют всегда, пока есть люди, которые в это верят.
Наступило молчание. Писец быстро записывал все эти слова в протокол.
– Сколько вам лет? – осведомился капитан.
– Пятьдесят пять.
– Вам известен декрет Конвента, по которому вас будут судить?
– Я не признаю за учреждением, которое вы именуете Конвентом, права издавать какие-либо декреты.
Капитан откашлялся. Ему было словно не по себе. Отвечая, подсудимый смотрел как бы мимо него, ни разу не взглянув на главу военно-полевого суда.
– Вы сознаете, что безжалостно убивали честных патриотов и подняли кровавый мятеж против Республики?
– Я убивал злодеев, поднявших руку на короля, а что касается Республики, то именно ее провозглашение было преступным и мятежным.
– Вы жестоко расправлялись с доблестными солдатами Республики. Вы расстреливали даже женщин! Вы превратили Ман в сплошное кровавое побоище. Наконец, доказано, что вы замышляли покушения на лучших революционных военачальников и подсылали к ним убийц. Вы признаете это?
– Сударь, – насмешливо сказал отец, – у нас с вами война. Воображать, что на войне врат старается доставить вам удовольствие, – значит исходить из ложных соображений.
– Мушбеф, – обратился капитан к писцу, – запиши: подсудимый сознается в своей измене.
– Измене? – надменно переспросил принц. – Позвольте же узнать, господа граждане, кому это я изменил?
Это самое «господа граждане» прозвучало так колко, что судьи побагровели. Отцу, наверно, было все равно, что они думают. Он знал, что так или иначе его ждет смерть. Страшная уверенность!
– Вы изменили Республике и предали нацию.
– Разумеется, – холодно ответил принц. – Я не желал жить в грязи, подобно вам.
– Что вы имеете в виду?
– Я отнюдь не желаю обидеть вас словами, сударь, но то, что мы зовем грязью, вы называете нацией.
– Мушбеф, – снова сказал капитан, – запиши: подсудимый оскорбляет суд, нацию и Республику.
Обращаясь к принцу, он продолжил:
– Вы творили преступления, равных которым нет в летописях народов. Вы желали вновь вернуть Францию в рабство, восстановить власть тирана, а себе ценой трупов патриотов вернуть звание принца.
Я презрительно усмехнулась: он даже не знал, что принц – это не звание, а титул.
– У меня не было необходимости возвращать себе титул принца, ибо я им всегда оставался.
Сердце у меня в груди стучало оглушительно гулко. Я задыхалась от невыносимой боли предстоящей утраты и в то же время… и в то же время ощущала страстную горячую гордость. Как он держится! Наверняка у всех этих мерзавцев внутри все переворачивается. Ведь внутри они – рабы, а отец сеньор. Они это прекрасно чувствуют, хотя не подают вида.
– Вы подаете нам пример фанатичного, чудовищного роялизма. Вы хотели залить кровью Республику.
– Именно так. Я хотел уничтожить революционеров и восстановить короля на законном престоле. Что ж, мне это не удалось. Вы сможете продолжать растить этого гомункулуса – Республику, отплясывать на развалинах и уничтожать церкви. Но как бы вы ни изощрялись, религия всегда останется религией, и того обстоятельства, что монархия пятнадцать веков освящала нашу историю, вам не зачеркнуть, как не зачеркнуть и того, что старое дворянство, даже обезглавленное, все равно выше вас. Но вы этого уже не поймете.
– Да прикажите же ему замолчать! – не выдержав, крикнул один из офицеров. – Гражданин капитан! Запретите злодею злоумышлять против Республики прямо в революционном суде!
Отец взглянул на него и сразу же узнал Альбера, нашего бывшего привратника.
– А, господин лакей! – насмешливо приветствовал он его. – Вас, возможно, повысили в чине, назначили палачом? Примите мое искреннее восхищение.
Капитан сделал знак рукой, показывая, что сейчас зачитает приговор. Бумага была составлена явно заранее, весь этот суд был неизвестно для чего устроен.
– Обвиняемый Тремуйль, дело слушанием закончено. Именем Республики военно-полевой суд приговаривает вас к смертной казни.
Капитан взглянул на принца и добавил:
– Вы будете расстреляны сейчас же, без всяких отсрочек. Вам предоставляется последнее слово. Что вы имеете нам сказать?
– Вам? – высокомерно переспросил отец. – Вы слишком мелки, сударь, чтобы принц обращался лично к вам.
– В таком случае, – вскипев, крикнул капитан, – вы будете расстреляны немедленно!
– Прекрасно! – насмешливо сказал отец. – Проволочек и так было слишком много. Я бы действовал намного быстрее.
Решительно, ему все было нипочем. По крайней мере, он не выказывал никаких внешних признаков растерянности или печали. Я увидела, как выстраиваются солдаты для расстрела, и глаза мне заволокло красным туманом, а горло сжали спазмы. У меня не было больше сил созерцать все это. В отчаянии я упала на землю и яростно кусала пальцы, чтобы не закричать.
О, как мне сейчас хотелось именно этого – крика, хотя бы вопля, лишь бы наступило облегчение. Когда боль и горе переполняют душу, буквально душат человека, ему необходимо хоть в чем-то излить их – излить физически, чтобы от этого полегчало; а если такой возможности нет, ты находишься просто на грани помешательства.
Этот человек, такой мужественный и смелый, суровый и непреклонный, он был еще полон сил и отваги, он мог бы еще многие годы быть рядом со мной, а события повернулись так, что я больше никогда его не увижу! Эти подонки, революционеры, лишившие меня всего, заставившие перенести такое, что и во сне не приснится, – они теперь расстреливают моего отца. Боль утраты была так невыносима, что я не могла не стонать, словно пребывала в беспамятстве. Проклятия срывались с моих губ. Я то вспоминала, что было раньше, и плакала над этим, то чувствовала безграничную ярость, готовую, казалось, испепелить палачей.
И тогда со двора в последний раз донесся этот звучный, холодный, высокомерный голос:
– Я умираю за Бога, короля и своего внука. Да здравствует Людовик XVI!
Эти слова словно обожгли мое воспаленное сознание. Он вспомнил о Жанно – ребенке, который, в сущности, объединил нас обоих. Я лихорадочно ломала пальцы, пытаясь понять, что он имел в виду, говоря, что умирает «за своего внука». Была ли это просто громкая фраза или отец действительно любил моего сына и на него возлагал все свои надежды?
Эти мысли не позволили мне вовремя зажать уши. Я услышала залп, такой оглушительный, словно разом грянули сто ружей. У меня в голове будто вспыхнула молния. Прижавшись щекой к земле, я испытывала невыносимое желание умереть или исчезнуть. Если бы эта самая земля взяла меня к себе… Я ничего уже не могла чувствовать и понимать. Рыдания, сжимавшие мне горло, были такими бурными, что я едва могла дышать. Слезы сплошной пеленой застилали мне глаза. И когда через секунду это состояние стало совсем жгучим и болезненным, а тело вздрагивало от лихорадочной дрожи, у меня мелькнула мысль, что я, наверное, все-таки умираю.
В ту же секунду спасительное беспамятство пришло мне на помощь. Я потеряла сознание, на удивление легко преодолев грань между ясностью памяти и черной зияющей пропастью забытья.
9
Розарио осторожно приподнял меня с земли, легко ударил ладонью по щекам. Очнулась я уже давно, но только это прикосновение возвратило меня к жизни и сознанию полностью.
– Эй, малышка, что это с тобой? Ты меня испугала.
Он помог мне сесть поудобнее, подложив под спину связку соломы. Безо всякого выражения я обвела глазами сарай. Сквозь щели дневной свет уже не пробивался.
– Уже вечер?
– Да. Ты, кажется, часов десять была словно мертвая. Я несколько раз заходил, да только раньше не мог остаться здесь надолго. А теперь часовые расставлены, солдаты спать ушли.
Я вспомнила все, что было, и тихое отчаяние снова охватило меня. Слезы задрожали на ресницах, потом заструились по щекам, и я не могла сдержать рыданий.
– Слушай, хватит убиваться. Разве тебе самой захотелось сойти в могилу? Я принес тебе поесть.
Я отрицательно покачала головой, упрямо отказываясь от еды, но Розарио был еще упрямее меня. Не обращая внимания на мои слезы, он поднес к моим губам жестяной стакан. Я сделала несколько глотков и сплюнула.
– Дура ты, Ритта! Это же чистая водка. Она придает силы. Ну-ка, пей сама!
Морщась, я выпила, глотая и водку, и слезы. Розарио вложил мне в руку краюху черствого хлеба, соленый сыр и очищенную луковицу.
– Ешь! Это мой паек, но тебе сейчас он больше нужен.
С усилием я ела, не замечая никакого вкуса этой еды. Розарио внимательно наблюдал за мной, потом решительно произнес:
– Убираться нужно сегодня ночью. Завтра в Лаваль привезут гильотину. Конвент принял такой закон, что тебе в любом случае будет конец.
Он достал из-за пазухи смятую бумагу.
– Возьми, завтра, как выберемся отсюда, прочитаешь.
– Что это? – спросила я безразлично.
– Это новый закон, «закон о подозрительных».
Для меня сейчас все это не имело значения. Мне даже уходить не хотелось. Я была такая измученная и обессиленная, что жить или умереть – это было для меня все равно. От перенесенной боли все чувства и ощущения притупились.
– У меня есть для нас документы. И как славно получилось – один пропуск для мужчины, другой для женщины.
– Где ты их украл? – спросила я равнодушно.
– Ну и глупая же у тебя голова! Я не украл. Когда идет война, вокруг полно трупов. Зачем трупу пропуск? Я взял документы у убитых.
Это скверно, подумала я. Это очень скверно. Но мне сейчас все равно.
– А для других? – спросила я тупо.
– Каких других?
– Для моих детей и горничной.
– Сколько у тебя детей?
– Трое, – сказала я тихо.
Розарио уставился на меня с гневом и удивлением.
– Трое детей! Надо быть последней дурой, чтобы заводить столько детей в такое время!
– Без детей я не уйду! – крикнула я резко.
Брат поспешно зажал мне рот рукой.
– Т-с-с! Если будешь так орать, то и с детьми не уйдешь. Будь потише. Все вокруг думают, что мы тут вдвоем не лясы точим, а развлекаемся.
– Пожалуйста, – сказала я задыхаясь, – пожалуйста, не говори мне больше пошлостей. Ты и так показал себя во всей красе.
– Ладно! – сказал Розарио смеясь. – Только не вспоминай об этом всю жизнь.
Пока еще оставалось что-то натянутое в наших отношениях. Былая дружба не возродилась, а тринадцать лет разлуки сделали нас чужими. Пожалуй, Розарио спасает меня из чувства долга, потому, что сознает, что я – его сестра, и не хочет прослыть Каином, а не из чувства любви ко мне. Пожалуй, будь я сейчас не так убита горем, я бы стала восстанавливать родственные отношения. Но я была слишком измучена для этого.
– Розарио, – прошептала я так тихо, что он вынужден был наклониться, чтобы услышать меня, – он… он убит?
– Он расстрелян.
Ледяная игла кольнула меня в самое сердце.
– Где же его… тело?
Брат пожал плечами, Я видела, что он не понимает меня, что ему принц де Тальмон безразличен, как и любой другой человек. Но разве не безумно было бы требовать от Розарио большего? Я тяжело вздохнула, вытирая слезы.
– Я не знаю, Ритта. Тела расстрелянных куда-то увозят, чтобы роялисты не могли найти каких-то их вещей или чего-то из одежды и не сделали бы из этого святыни или культа.
– Но куда их увозят? – с болью спросила я.
– Я не знаю. Это военная тайна. Если бы у меня был чин повыше… Но я ведь только сержант. Да и им скоро перестану быть.
Я все поняла и опустила голову. Трудно будет смириться с тем, что я даже не буду знать, где могила отца. Его прах должен был покоиться в фамильном склепе принцев де ла Тремуйлей, среди многочисленных знаменитых предков, которыми отец так гордился. Революция все нарушила, в том числе и похоронную традицию. Любой бы сказал: сейчас не до этого…
– Я приду ближе к полуночи, Ритта. Будь готова. У нас мало времени.
Он вышел. Заскрежетал ключ в тяжелом ржавом замке.
Я лежала на соломе, невидящим взглядом уставившись в потолок. Лескюр убит, отец расстрелян. Почему же я до сих пор жива? По какому капризу провидение мучит меня, терзает, проводит через все мыслимые страдания, не оставляя ничего, кроме жизни?! Какая чудовищная игра судьбы! Зачем мне жить, если нет даже надежды?
Я тоскливо подумала о том, что, хоть Розарио и предлагает мне побег, я понятия не имею, куда мы отправимся. Мне не хотелось никуда идти… Англия, австрийская граница – все мне было одинаково безразлично. События последних дней меня обескровили, довели до душевного истощения. Я потеряла стойкость. Я не способна была противостоять никаким трудностям, не чувствовала сил ни на что. Я стала старухой, мне сейчас сто лет…
И в такое время у меня в памяти все время всплывал последний разговор с отцом в библиотеке Шато-Гонтье, когда кровавые отблески пламени в камине плясали по стенам. Отец жег бумаги… Меня назойливо преследовала мысль об обещаниях, которыми мы обменялись. Что это было? Сейчас я с трудом это вспомнила.
Я собрала все остатки силы воли, которая у меня еще сохранилась. Нужно вспомнить… И тут словно озарение нахлынуло на меня. Я услышала голос отца, такой спокойный и ласковый: «Дорогая моя, вы – единственная опора для вашего ребенка, а он – единственный наследник де Тальмонов. Ваша задача – любить его и воспитать, как настоящего аристократа, так чтобы мне не было за него стыдно».
О боже, Жанно! Меня словно пронзил ледяной холод. Где сейчас мой сын? Я не думала о нем совершенно – какой кошмар! Я понятия не имела, куда отправилась Маргарита с детьми после того, как меня арестовали. Оставалось только надеяться, что она бродит где-то неподалеку… Слава Богу, у них есть хотя бы еда.
Я лихорадочно вскочила и подбежала к двери. Апатию словно рукой сняло; я теперь молила Бога, чтобы наступила полночь и Розарио поскорее появился. Целые сутки я пребывала в неизвестности относительно того, что произошло с ребенком.
И мне даже хотелось умереть. Какая глупость!
10
В полночь Розарио, прогремев ключами, широко распахнул дверь сарая и громко скомандовал:
– Обвиняемая! К капитану!
Я молча вышла, понимая, что это сказано лишь для видимости. Брат провел меня через двор к воротам. Нас остановили часовые.
– Кто идет?!
– Ребята, неужели вы меня не узнали? Я сержант Риджи.
– И куда ты идешь?
– К капитану. Он приказал привести эту девицу – то ли для допроса, то ли еще для чего…
Никаких подозрений у караула не возникло. Один из часовых даже любезно указал Розарио дорогу:
– Ступай вот так, через дворы! Половину дороги срежешь.
Мы, разумеется, пошли так, как нам было сказано, но, дойдя до конца улицы, Розарио нырнул в подворотню, и я моментально последовала за ним. И тут словно призрак вырос перед нами – тощий, высокий, со всклокоченными волосами.
– Брике? – проговорила я пораженно.
– Я тоже удивлен, ваше сиятельство. Не думали мы, что вам так скоро удастся выбраться. А что это за верзила рядом с вами?
– Это мой брат, – объяснила я кратко. – Его зовут Розарио.
– Для кого Розарио, – сердито заметил брат, – а для кого гражданин Риджи.
– Гражданин? – переспросил Брике. – Значит, ваше сиятельство, мы теперь в дружбе с республиканцами?
Мне ужасно не нравилось, что он все время величает меня «ваше сиятельство», – в нынешнем положении это звучало как насмешка, к тому же мне очень наскучили его расспросы, но я помнила, сколько сделал для меня Брике, и поэтому сдержала свое раздражение. Я лишь приказала ему замолчать и отвести нас к Маргарите.
– Они спят на дровяном складе, ваше сиятельство. Там, правда, холодно, но зато дождь не беспокоит. А знали бы вы, что творится в городе: синие учредили какую-то военную комиссию, и она расстреливает всех подряд, не разбираясь…
На складе мы разыскали Маргариту. Она дала сторожу тридцать пять су, и он, полагая, что старуха и трое малолетних детей вряд ли представляют собой контрреволюцию и, таким образом, обвинение в измене ему не грозит, пустил их туда ночевать. Был конец сентября, ночи стали холоднее. Дети так легко могут простудиться…
Из-за холода они и не спали вовсе. Я порывисто обняла всех троих, осыпала поцелуями три детские головки. Было радостно от того, что мы снова вместе. И в то же время новые заботы обступили меня: дети были одеты легко, даже слишком легко. Пока еще сентябрь, это можно терпеть, но скоро начнутся бесконечные дожди и повеет промозглый холодный ветер. Надо купить им одежду. Но на что? Я прекрасно знала, что той тысячи бумажных ливров хватит разве что на пару башмаков. К тому же некоторые из ассигнаций были с изображением короля, и их теперь, кажется, не везде принимают…
– Какое безумие! – твердил Розарио. – Иметь такую кучу детей!
– Послушай! – прервала я его. – Все очень хорошо складывается. На какие имена выписаны твои документы?
– На имя супругов Фромантен.
– Вот и прекрасно! Я буду женой, ты – мужем. Детей мы назовем нашими детьми, Маргариту – моей матерью… У старой женщины никто не станет требовать пропуск.
– Кто знает. Ты слышала, 5 сентября объявлен террор? Ты много месяцев жила среди белых, ты ничего не понимаешь в том, что происходит в Париже. Все, у кого нет свидетельства о благонадежности, подлежат заключению в тюрьму.
– Но Маргарите почти шестьдесят лет! Неужели ты думаешь, что отсутствие свидетельства можно поставить ей в упрек?
– Не знаю.
Я подумала о том, что у Брике тоже нет никакого свидетельства. Но ведь ему еще не исполнилось шестнадцати! Он почти ребенок. И выглядит куда моложе своих лет…
– Достаточно! – скомандовал Розарио. – От того, что мы здесь разговариваем, свидетельство нам на голову не упадет. Ну-ка, детская когорта, поднимайся! Нам нужно выйти из города сегодня ночью. Никто не знает, что случится завтра.
Я сняла свою шаль и закутала в нее Аврору, которая была одета легче, чем все остальные. Жанно взял меня за одну руку, Шарло за другую. И мы отправились в дорогу, сами не понимая еще, куда лежит наш путь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ МАРИЯ АНТУАНЕТТА
1
Трясясь в крестьянской телеге, я наконец-то достала отпечатанную бумагу, отданную мне Розарио, и осторожно расправила ее на коленях. Я давно знала, что еще 5 сентября 1793 года Конвент поставил террор «в порядок дня». Теперь передо мной лежал так называемый Декрет о подозрительных, одно из первых следствий развязанного Революцией и узаконенного террора.
«Французская Республика, единая и неделимая. Немедленно по опубликовании данного декрета все подозрительные лица, находящиеся на свободе на территории Республики, подлежат аресту.
Считаются подозрительными:
1. Те, кто своим поведением, своими связями, своими рассуждениями или писаниями выказали себя сторонниками тирании, федерализма или врагами свободы;
2. Те, кто не сможет представить в предписанной законом от 21 сего марта форме удостоверение о своих средствах к существованию и выполнении своих гражданских обязанностей;
3. Те, кому было отказано в удостоверении о благонадежности;
4. Общественные должностные лица, устраненные или смещенные со своих должностей Национальным Конвентом или его комиссарами и не восстановленные в своих правах, особенно те, кто был смещен или должен был быть смещен на основании закона от 14 сего августа;
5. Те из бывших дворян, считая мужей, жен, отцов, матерей, сыновей или дочерей и агентов-эмигрантов, кто не проявлял своего постоянного влечения к революции…»
Порыв холодного ветра вырвал у меня бумагу, она полетела по воздуху, и я не стала ее догонять. Мне и так все было ясно. Я была виновата практически по всем пунктам. Я подпадала под любую из этих статей… Оставалось лишь надеяться, что я теперь не я, а некая Жюльетта Фромантен, жена оружейника из Алансона. Правда, я сознавала, что наши подложные документы не выдержат никакой мало-мальски придирчивой проверки. Они были лишь прикрытием на тот случай, если нас остановит какой-нибудь полуграмотный патруль.
Сумерки сгущались, начал накрапывать дождь. На одной из развилок крестьянин остановил лошадь.
– Ну, все! – сказал он на местном наречии. – Слезайте.
Это было равносильно приказу. Розарио помог мне стащить с телеги полусонных малышей. Маргарита, которой уже два пальца свело ревматизмом, едва передвигала ноги. Скрепя сердце я отсчитала крестьянину двести ливров. До чего дошло обесценивание денег – за поездку в телеге приходится отдавать две сотни. А что происходит в Париже? Там, пожалуй, извозчики запросто кричат: «С вас шесть тысяч ливров, гражданин!»
– Скажите, где нам можно было бы заночевать?
Крестьянин махнул рукой в сторону перелеска:
– Ступайте туда. Там мельница папаши Бретвиля.
– И он нас примет?
– Этого я не знаю.
Он хлестнул лошадей, и старая телега тронулась, удаляясь в холодный осенний туман. Я растерянно посмотрела на Розарио, безмолвно спрашивая, что нам теперь делать. Он мягко привлек меня к себе, погладил голову. Казалось, уныние неспособно его коснуться. Через минуту он уже посадил себе на плечи самого младшего, Жанно, и решительно двинулся вглубь леса.
– Пойдемте! До деревни слишком далеко. Может быть, этот самый папаша Бретвиль и примет нас.
Я подумала, что если только все так и будет, следует прежде всего купить у мельника какой-нибудь сюртук для Розарио, даже если для этого придется отдать все оставшиеся восемьсот ливров. Розарио в своем мундире сержанта, пусть даже с оторванными знаками отличия, вызывал подозрения. Дезертиров повсюду ищут. Брата схватит первый же патруль…
Мы были в окрестностях Мортани, где вовсю свирепствовала революционная полиция. Наше путешествие продолжалось уже шесть дней. Приходилось выбирать самые пустынные дороги; самые необжитые уголки, то дрожать в оврагах, то бежать без остановки. За эти дни мы почти не спали. Я совершенно выбилась из сил. Надо попроситься на ночлег. Надо, даже если это грозит нам большой опасностью…
Был хмурый осенний вечер. Свинцовые тучи на небе все сгущались, дождь мелкими брызгами летел в лицо. Было не очень холодно, но сыро: земля, пожелтевшая листва, мох – все было мокрым. Тяжелые мутные капли падали с влажных холодных ветвей.
– Скоро ли у нас будет дом, как и у всех людей? – сердито воскликнула усталая, промокшая Аврора.
Я считала своим долгом в зародыше истребить этот элемент паники.
– Не смей говорить со мной таким тоном. Вовсе не все люди, мадемуазель, сейчас имеют дом. И уж, конечно, не тебе, такой большой девице, ныть и капризничать. Взгляни на Шарло – он не меньше тебя устал, но идет молча.
– Он всегда идет молча.
Я приказала ей прикусить язык и не донимать меня своими жалобами, хотя сама Отлично сознавала их справедливость. Но что поделаешь – слова Авроры лишь усиливали мое беспокойство. Все эти события сделали меня очень нервной и несдержанной.
– Я чувствую дым в воздухе! – важно объявил Брике, пользовавшийся репутацией самого лучшего в нашей компании следопыта. – Этот папаша Бретвиль, должно быть, обосновался где-то поблизости.
Еще несколько минут – и мы увидели дымок, поднимающийся в небо. Монотонно шумела вода. Ясно, что мельница близко…
Это была даже не мельница, а крошечный хутор, обнесенный высоким деревянным забором. Я несколько раз дернула веревку звонка, привешенного у ворот, а Розарио, не церемонясь, кулаком заколотил в дверь.
Показалась юная девушка в белом чепце и, не открывая полностью дверь, окинула нас испытующим взглядом.
– Кто вы такие?
– Мы из Алансона, – бесстыдно солгала я. – Дилижанс, в котором мы ехали, сломался прямо посреди дороги. Мы хотели бы получить у вас ночлег.
– А кто поручится нам, что вы не воры и не из тех, кто реквизирует зерно для Республики?
Я невольно улыбнулась: настолько нелепо было заподозрить в нас реквизиторов.
– Мадемуазель, – сказала я, – вы можете посмотреть наши документы. Наша фамилия – Фромантен, а этот человек – мой муж. Мы едем в Париж.
– Я спрошу у отца.
Она оставила нас за дверью, а сама скрылась. Я взглянула на Розарио. Он весьма выразительно постучал пальцем по своему лбу.
– Ты вконец рехнулась. Ты забыла, где находишься. Сейчас никто уже не говорит «мадемуазель». Надо говорить «гражданка».
– Ты сам рехнулся! – воскликнула я, разозлившись. – Эта девушка опасается реквизиторов. Значит, ей эта Революция – как кость в горле…
Я не успела договорить. Вместо девушки показался усатый мужчина лет пятидесяти, краснощекий, дородный и суровый. Я даже оробела, полагая, что он слышал мои последние слова.
– Проходите, – сказал он мрачно.
Через широкий двор мы прошли в дом, такой же пустынный, как и все остальное.
– Вы будете ужинать? – осведомилась девушка в белом чепчике.
Мы не заставили ее повторять вопрос дважды. Честно говоря, подобное гостеприимство меня удивило. Я рассчитывала только на ночлег в каком-нибудь амбаре и не думала даже, что нас пустят в дом. А здесь даже предлагают ужинать…
– Это моя дочь, Мюзетта, – сообщил мельник.
Больше он ничего не добавил и ни о чем не спросил. Ожидая ужина, он молча сидел за столом, положив перед собой большие загорелые руки – кожа на них была почти коричневая. Мы с Розарио переглянулись: нам обоим это напомнило руки старой Нунчи.
Ужин был небогатый, но сытный: жареная рыба, вареный рис, чай и много вкусного варенья из ревеня. Я взглянула на малышей: они ели все это жадно, не соблюдая никаких правил этикета. Впрочем, Жанно, например, и не знал этих правил. Некогда было его учить…
– Сударь, – начала я, твердо решив придерживаться старой манеры в обращениях, – мы не знаем, как благодарить нас. По правде сказать, у нас было мало надежды найти такой гостеприимный кров. Денег у нас мало, но мы заплатим вам…
– Деньги бумажные?
– Увы, да.
– У меня их полный сундук, и никакого толку. Оставьте их себе.
– Но, сударь, чем же тогда…
– Разве у вас в семье всем верховодит женщина? – резко спросил мельник.
Я запнулась, чувствуя, что краснею. Возможно, папаша Бретвиль, приютивший нас, был человеком старых взглядов, даже слишком старых. И молчание Розарио, который считался моим мужем, выглядело странно.
– Я говорю только тогда, – заявил брат, – когда дело касается важных вопросов.
– Воля ваша, – буркнул папаша Бретвиль.
Я не решилась дальше продолжать разговор о нашей благодарности за гостеприимство, ибо не знала, что предложить.
– Я постелю детям у очага, – сказала Мюзетта. – А эта пожилая женщина – ваша мать?
– Да.
– Ей тоже лучше будет спать у огня. А вы с мужем пойдете в комнату, там, на втором этаже.
– А мой брат? – спросила я, имея в виду Брике.
– Ему будет хорошо на кухне.
Папаша Бретвиль поднялся и, несмотря на то что было не больше восьми вечера, задул лампу. Все освещение состояло теперь из тускло горевшей плошки.
– Пора спать, – распорядился он.
Я уложила детей. Измученные и озябшие, они разомлели от потока теплого воздуха, шедшего от очага. Мальчики уснули мгновенно. Жанно, по своему обыкновению, деспотично разбросал руки: одну – на плечо Авроре, другую – на лицо Шарло. Щеки у сына раскраснелись, уголки губ едва заметно дергались во сне. Я осторожно поцеловала его. Какой прелестный ребенок… Надо поскорее найти какое-нибудь жилище. Все эти странствия невыносимы для детей.
Нам отвели, казалось, одну из лучших комнат в доме: просторную, хорошо обставленную, с тяжелой деревянной кроватью, на которой с успехом разместилось бы пятеро человек. Белье было чистое и выглаженное. На комоде я увидела оставленный Мюзеттой таз с теплой водой.
Пока Розарио курил вместе с хозяином на крыльце, я поспешно вымылась. Все это гостеприимство было чрезвычайно милым… именно чрезвычайно. Я не понимала, чем мы его заслужили, и во мне уже начинало пробуждаться беспокойство. Странно, все это крайне странно. А может быть, я просто стала слишком подозрительна и перестала верить в добрые чувства совершенно чужих людей?
Я вспомнила, что крестьянин, который вез нас в телеге, на мой вопрос о том, примет ли нас папаша Бретвиль, ответил: «Этого я не знаю». Стало быть, мельник вовсе не слыл в округе человеком добрым и гостеприимным. Как же объяснить то, что произошло сегодня с нами в его доме?
Пытаясь заглушить сомнения, я скользнула под одеяло. Впервые за много дней мне выпало счастье провести ночь в обыкновенной, но ставшей такой недоступной кровати. Где я только не ночевала – в телеге, в кустах, палатках, дуплах, под деревьями, даже в сарае… Когда пришел Розарио, я крепко прижалась к нему, очень желая, чтобы он меня успокоил.
За эти шесть дней мы несколько попривыкли друг к другу, я узнала брата получше и почти избавилась от мысли, что Розарио – просто чужой мужчина, а не мой брат. Теперь даже лежать рядом в постели не казалось мне неловким, В конце концов, он такой большой, сильный и неунывающий. У кого же мне еще искать защиты?
– Ловко мы его провели, а, сестренка? – осведомился он, улыбаясь. – Старик и вправду поверил, что мы муж и жена.
– Угу. Мне даже влетело за то, что я взяла себе слишком много воли.
– А мне нравятся такие женщины. Я не люблю тихих и запуганных. Что с них толку! Вот моя Лаура…
– Расскажи мне о своей невесте.
Он стал что-то рассказывать о своей черноглазой Лауре Антонелли, такой красивой и веселой девчонке, но из соседней комнаты долетели звуки чьих-то голосов, и я совсем невежливо зажала Розарио рот рукой.
– Т-с-с! Слышишь?
Из-за стенной перегородки донеслось что-то похожее на жалобный плач Мюзетты.
– Отец, неужели вы думаете, что они появятся уже завтра?
– Молчи! Слезами делу не поможешь. И не уговаривай меня – я все равно отсюда не двинусь…
Это было единственное, что я разобрала. Папаша Бретвиль сбавил голос на несколько тонов, и мне осталось лишь разочарованно вздохнуть.
– Послушай, Розарио… тебе не кажется…
– Что?
– Тебе не кажется все это странным?
Брат, по-видимому, не разделял моего мнения. Я села на постели, желая объяснить ему как можно доходчивее.
– Ну, этот папаша Бретвиль, его мельница, наконец! Ты заметил, здесь нет ни одного работника! Нет даже батраков или служанок! Только старик и его дочь. И потом, они ждут кого-то завтра, и они боятся этого посещения…
Розарио полусонно смотрел на меня.
– Ты просто устала, малышка. Тебе все это мерещится.
– По-моему, я сказала тебе то, что ты и сам видел!
– Какая разница? Нам нет дела до того, кого ждет мельник. Завтра утром мы уберемся отсюда…
– А дальше?
Я решила задать этот вопрос. Ответ на него оставался невыясненным. Мы шли на север, но куда именно? Розарио ничего еще не сказал мне о своих планах.
– Скажи, пожалуйста, куда ты намереваешься идти?
– В Париж. Это для начала.
– В Париж! – повторила я пораженно. – Вероятно, для того, чтобы поскорее расстаться с жизнью.
– Вовсе нет, – сонно возразил брат, явно превозмогая сильное желание поскорее от меня отвязаться. – Мы должны повидаться с Джакомо и этой его сварливой женой – Стефанией. А еще я заберу из Парижа Лауру. Мы с ней помолвлены.
– Черт побери, я уже десять раз это слышала. Да как ты не можешь понять, что Париж для дезертира и аристократки – это все равно что пасть Ваала. Это как у Данте: «Оставь надежду, всяк сюда входящий»…
– Я не знаю никакой пасти и никакого Данте. Я иду в Париж, чтобы забрать свою невесту.
– Ты хорошо доказывал ей свою верность! – язвительно заметила я.
Розарио не прислушивался ко мне.
– А потом мы дадим деру к границе, и не к австрийской, а к бельгийской, – пробормотал он. – Спокойной ночи.
Будущее теперь прояснилось, но от этого не стало менее опасным. Какой ужас, мы идем в Париж. Нет, этот солдафон положительно безумен. Сунуться в столицу с заведомо подложными документами, зная, что нас разыскивают, что нам грозит гильотина…
Впрочем, мне не оставалось ничего другого, кроме как потушить свечу и, следуя примеру Розарио, поскорее уснуть.
2
Проснулась я от громкого шума, заранее зная, что это явились те самые незнакомцы, которых Мюзетта с таким ужасом ждала.
– Ну, что ты теперь скажешь?! – яростно воскликнула я, обращаясь к брату. – Это пришли за нами, без сомнения!
Розарио с самым безмятежным видом натягивал на себя рубашку. Его легкомыслие меня поразило. Я чувствовала сильное желание схватить его за шиворот и потрясти, как трясут оливковое дерево.
– Это не за нами, Ритта. Успокойся. Мельник еще вчера ждал этих посетителей.
Я заметила, что громкий стук в ворота то усиливается, то вовсе затихает, словно нежданные гости пребывают в нерешительности относительно того, ломать или не ломать дверь.
– Даже если это не за нами, они все равно нас заберут! Мы все попадем в тюрьму, я в этом уверена.
– Какое нам дело до них, черт побери?! Приди в себя. Эти люди даже не знают, что мы здесь…
Кажется, папаша Бретвиль все-таки распахнул ворота.
Я услышала голоса во дворе – голоса, по интонации которых легко было догадаться, что принадлежат они гвардейцам. Я выглянула в окно.
Это были наглые, самоуверенные люди, скверно вооруженные, но явно считающие себя хозяевами душ и судеб. Их начальник гневно ходил вокруг мельника и что-то выкрикивал. Папаша Бретвиль казался красным, как кумач, кулаки его были сжаты, он все время повторял в ответ одни и те же слова:
– Я – хозяин своего хлеба. Я отдам его только тогда, когда захочу.
Эти слова разъяснили мне все. Очевидно, эта незваная команда была реквизиционным отрядом, созданным для того, чтобы отбирать у крестьян хлеб. Это теперь вошло в привычку. Забирали обычно все до последнего зерна, не оставляя даже на посев.
– С тебя причитается сорок буассо хлеба, гражданин. Так постановила Республика.
– Республики нет дела до моего хлеба.
– Мы арестуем тебя, если ты посмеешь противиться!
Мельник побагровел. Казалось, он близок к апоплексическому удару. Самые откровенные ненависть и возмущение читались на его лице: я трудился не покладая рук, я не спал ночей, чтобы заработать все то, что имею, а теперь вы, дрянная голытьба, являетесь забирать плоды моего труда в пользу какой-то Республики?!
Он сумел взять себя в руки. Сухим жестом он пригласил реквизиторов в дом, для того, дескать, чтобы выпить по стаканчику вина и поговорить более мирно. Реквизиторы охотно согласились: это было похоже на переговоры о крупной взятке.
Но папаша Бретвиль, оставив гостей внизу, поспешно поднялся по лестнице на второй этаж. Я слышала, как с плачем припала к его груди Мюзетта, а мельник быстрым отрывистым шепотом говорил ей:
– Беги, беги поскорее к тетке. Не то и тебя уведут. Беги и не смей возвращаться сюда… А когда будешь бежать через деревню, кричи во всю мочь, что я продаю весь хлеб ниже максимума. Пускай все крестьянки придут сюда. Я все отдам им задаром… Это мой хлеб, что хочу, то с ним и делаю.
Мюзетта ринулась по лестнице вниз. Папаша Бретвиль грузными шагами подошел к нашей двери, резко распахнул ее. Мы с Розарио молча смотрели на мельника, не представляя себе, что нам делать.
– Можем ли мы как-то… – начала я.
– Можете.
Удивленная, я смотрела на него.
– Так с кем мне разговаривать? – неторопливо спросил мельник. – Кто глава в вашей семье – жена или муж?
– Это все равно, – сказала я торопливо. – Вы можете говорить с нами обоими.
– Да, теперь и в семье все пошло вверх ногами…
Я ждала, что же он скажет. Мельник так хорошо обошелся с нами. Пожалуй, в его доме мы впервые за шесть дней почувствовали себя людьми. Мы в долгу перед ним.
– Вы идете в Париж, не так ли, сударыня?
Папаша Бретвиль, видимо, решил все же говорить со мной, и я согласно кивнула, ибо не было возможности отказаться от того, что мы утверждали вчера.
– У меня есть дочь в Париже, Каролина. Она живет на улице де ла Гарп, номер 25. Меня, наверное, заберут в тюрьму, и Мюзетта, бедняжка, останется совсем одна. А ей ведь только шестнадцать. Каролина намного старше. Пусть она приедет сюда. Скажите, что у нас несчастье, и сестра в ней нуждается. И еще скажите… я прощаю ее.
– Прощаете? – переспросила я.
– Ага. Я, было, проклял ее. Почти проклял. Она спуталась с одним аристократом, знатным прохвостом, у которого и в мыслях не было жениться на ней. Да он уже был женат. Каролина опозорила семью до того, что нам невмоготу было остаться на прежнем месте. Мы переехали сюда, под Мортань. От всего этого моя жена и померла. А Каролина сбежала в Париж. Я ничего о ней не знаю, только адрес… Так вы обещаете?
– Обещаю.
Папаша Бретвиль молча снял со стены распятие.
– Ну-ка поклянитесь.
Не понимая причины его недоверия, я все-таки поклялась. Что мне стоит посетить мадемуазель Каролину, если Розарио все равно тащит меня в Париж?
– Улица де ла Гарп, двадцать пять, не забудьте!
– Да-да, я помню.
Помолчав, мельник добавил:
– За вашу услугу я дам вам и вашим детям теплую одежду и башмаки. И… три луидора золотом, чтобы вы могли сесть в дилижанс и поскорее известить Каролину.
– О, – проговорила я, – большое спасибо, но…
– Не надо мне никаких «но». После этих «но» всегда говорят какую-нибудь глупость. Хватит болтать. Одевайтесь скорее. На чердаке есть лестница, пусть ваш муж спустит ее из окна. Вы выберетесь из дома незаметно.
С помощью Маргариты я быстро одевала мальчиков в теплые куртки, башмаки и кюлоты. Нашлись даже картузы и два шарфа. Вся одежда была старая-старая и, наверно, еще с начала века… Для Авроры нашлось нечто более новое: плащ с бретонским капюшоном и платок. Я даже не смела верить в удачу.
– Давайте быстрее! – командовал Розарио. – Уже восемь утра, нам давно пора убираться.
Я получила обещанные три луидора золотом и спустилась по лестнице вслед за своим мнимым мужем. Утро было прохладное, но солнечное, дождя не ожидалось. Казалось, сама погода благоприятствовала нам. Я с удвоенной энергией принялась помогать спуститься Маргарите.
Несмотря на то, что мы оказались по другую сторону усадьбы папаши Бретвиля, я все же услышала звонкие голоса множества женщин, успевших прибежать на зов Мюзетты и моментально расхватавших хлеб по дешевке. От обещанных Республике сорока буассо ничего не осталось, и папаша Бретвиль мог злорадно хохотать. Реквизиторы могли теперь браниться и бесноваться, но забирать было нечего, а стрелять в крестьянок они не смели.
Уже спокойным шагом мы миновали выгон и перешли речку по узкому бревенчатому мостику.
3
В середине октября 1793 года я снова оказалась в Париже.
Угрюмо и неприветливо встретил меня этот город. Помрачневшим, посуровевшим, скучным и аскетичным – вот каким он мне показался. Был уже вечер, и улицы Парижа словно вымерли. Приближался час появления патрулей, и жители, вероятно, не испытывали желания попадаться им на глаза.
– Ваше сиятельство, – внезапно сказал Брике, когда мы остановились на углу улицы Круа-де-Рети-Шан. – Я, пожалуй, теперь с вами расстанусь.
Я молча смотрела на него, мало что понимая. Его присутствие стало само собой разумеющимся, чем-то весьма обычным.
– Что ты хочешь делать, Брике?
– Приключения наши кончились, ваше сиятельство. Париж для меня – все равно что дом. Здесь я не пропаду. Мне скоро будет шестнадцать. Я, наверное, запишусь в армию.
– Ты решил стать республиканцем?
– Мне до этого нет дела. Что республиканцы, что аристократы… Я при всякой власти сумею устроиться.
Находя, что ход его мыслей весьма трезв, я протянула ему несколько бумажных ассигнаций.
– Возьми. Так тебе будет легче на первых порах.
Он взял деньги. Я порывисто привлекла подростка к себе, поцеловала в лоб, и он впервые не сопротивлялся этому.
– Храни тебя пресвятая дева, Брике. Ты сделал мне много добра.
Он кивнул.
– Вы добрая женщина, ваше сиятельство. Может, если старые времена вернутся, я вам еще пригожусь. Вы знаете, где меня вернее всего можно найти.
– Где же? – спросила я в недоумении.
– В тюрьме, само собой. Я от этого никогда не вылечусь.
Шмыгнув носом, он зашагал прочь, и его треуголка быстро растаяла в сумерках.
– Это к лучшему, – сказал Розарио. – Теперь нас меньше.
В действительности нас стало совсем мало: я, брат и Аврора. Маргариту с мальчиками мы уговорили остаться в одной из деревень, Сен-Мор-де-Фоссе, совсем недалеко от Парижа. Сколько усилий я приложила, чтобы уговорить крестьянку приютить их. Та наотрез отказывалась, считая нас очень подозрительными особами. И тогда я решилась на последний шаг. Я достала из кожаного мешочка кольцо с великолепным огромным сапфиром и показала его крестьянке. Глаза у нее блеснули. Меня мучил стыд от того, что я вынуждена расстаться с подарком Луи Мари. Последним подарком. Но другого выхода не было. На мгновение задержав кольцо в своей ладони, я отдала его крестьянке. Она согласилась содержать детей и Маргариту в течение какого-то времени.
– Но девчонку все равно забирайте, – заявила она, имея в виду Аврору.
– Она уже такая большая. И ест, наверное, за двоих. Нет, мне такая обуза не подойдет…
Аврора пошла с нами в Париж. Розарио успокоил меня, говоря, что мы выдадим ее за нашу дочь. Но как? Мне было двадцать три года, я не могла иметь одиннадцатилетнюю дочь. Мой возраст и возраст Авроры любому покажется подозрительным.
Мы искали ночлег. Неизвестно было, на какое время нам придется задержаться в Париже – на неделю или чуть дольше, пока Розарио управится со своими делами, а я повидаюсь с Каролиной Бретвиль. Настроение у меня было мрачное, я чувствовала откровенный страх за свою жизнь. Париж теперь стал царством террора, здесь повсюду рыскают члены народных комитетов, призванных выявлять «подозрительных» и заключать их в тюрьмы. А из тюрем сейчас была только одна дорога – на эшафот. Других наказаний давно уже не существовало – если не юридически, то фактически.
С содроганием я пересекла площадь Карусель, оглядываясь то на свой бывший чудесный дом, то на дворец Тюильри. Во дворце теперь заседал Национальный Конвент и назывался он нынче Дворцом равенства. Лихорадка переименований охватила Париж; было наделано немало подобных глупостей. Появились какие-то странные улицы Воздержания, Справедливости, Строгости, Трезвости, Нелицеприятия…
По улице Веррери, сохранившей, слава Богу, свое прежнее название, мы подошли к Сене и через мосты Мари и Турель перешли на другой берег. Набережная Сен-Бернар была пустынна. Как я поняла, Розарио был истый парижанин и знал, куда нас ведет. К Зоологическому саду, что ли? Пройдя улицу Фоссе-Сен-Виктор, мы действительно повернули туда, и я решила задать вопрос.
– Ты идешь так уверенно. Значит ли это, что ты знаешь, где мы будем ночевать?
– Примерно знаю. Один солдат в нашем полку говорил мне о пансионе гражданина Белланже. Он живет на улице Сен-Жак.
Мы были уже близко, когда Розарио забежал в какой-то кабачок, чтобы подробнее узнать о гражданине Белланже, который сдает квартиры. Мы с Авророй остались ждать на улице. Это было старинное предместье Сен-Жак, предместье, стоявшее на бывших каменоломнях. Здесь жили ремесленники. Сам воздух был пропитан кожевенными, оружейными, лудильными запахами.
В сумерках белело какое-то объявление, приклеенное к стене одного из домов. Заинтересованная, я подошла, чтобы прочесть, и увидела следующее: «Семейство, которое здесь живет, сдало Республике всю причитающуюся норму селитры на погибель королям и тиранам».
Я фыркнула, неприятно удивленная. Какая глупость… Как изменились парижане под влиянием Революции: все словно стремятся выставить свою личную жизнь напоказ, слить ее с жизнью Республики, лишь бы доказать, что в ней нет ничего контрреволюционного. Как ужасно жить в такой обстановке, когда нет права на что-то тайное, интимное, когда каждый с самого рождения обязан служить только Республике и исповедовать только принципы республиканизма. Все отклонения от этого вменяются в преступление.
Я подошла к двери кабака, где висело еще какое-то объявление. И тут словно земля разверзлась у меня под ногами.
«Французская Республика, единая и неделимая.
Мы, Коммуна Парижа, приказываем:
Сюзанну де ла Тремуйль, бывшую аристократку, куртизанку, именующую себя принцессой, участвовавшую в попытке освобождения Луи Капета и его семьи из Тампля и замешанную в других многочисленных заговорах против Республики и ее единства, объявить врагом народа. Голова ее оценена. Преступления ее столь бессчисленны, что не поддаются описанию.
Приметы заговорщицы: возраст – 23–25 лет, рост 5 футов 6 дюймов. Волосы длинные светлые, глаза черные, нос тонкий прямой, кожа чистая. Доставивший ее мертвой или живой получит 10 тысяч ливров. Названная сумма выплачивается не в ассигнатах, а в золоте. Один из патрульных отрядов отрядить на поимку злоумышленницы. Предлагаем секциям и всем добрым патриотам оказывать нам всяческое содействие. Дано в Париже 18 вандемьера II года Республики.
Подписано гражданами: Жан Никола Паш, мэр Парижа, Анаксагор Шометт, прокурор Коммуны, Жак Эбер, заместитель прокурора».
Я перечитала все это несколько раз, дабы убедиться, что все это мне не приснилось. Да, несомненно, это касается меня. Но, черт побери, почему? Как это могло произойти?!
Вернувшись, Розарио застал меня в полуобморочном состоянии. Полным немого ужаса жестом я указала ему на объявление. В моей голове не укладывалось, что на меня объявлен розыск. Кому я понадобилась? По какому делу? Кто, наконец, кроме Батца, мог знать, что я участвовала в попытке освобождения Марии Антуанетты? Из этой бумаги было ясно только то, что Коммуна считает меня серьезным врагом.
– Пойдем отсюда. Быстрее, быстрее! – Розарио, грубо схватив меня за локоть, зашагал прочь. Я вынуждена была последовать за ним, спотыкаясь.
– Розарио, это сам Батц на меня донес! – твердила я шепотом, словно произносила заклятие. – Сам Батц, без сомнения. Он, вероятно, схвачен и рассказал о своих делах. Больше некому…
Говоря это, я совсем забыла подумать о том, что Батц не из тех слабаков, которые рассказывают политической полиции о своих заговорах. Да и был ли смысл в том, чтобы выдать меня? Безусловно, тут действовал кто-то другой… И вдруг иная мысль пронзила меня.
– О Боже, они до меня доберутся. Какой кошмар! Им даже известны мои приметы… Розарио, это ты виновен в том, что я появилась в Париже. Какая глупость с моей стороны! Я немедленно должна уехать отсюда, и мы должны отправиться к границе…
– Ага! Без Лауры и без денег?!
Внезапно остановившись, он грубо схватил меня за плечи, словно пытался привести в чувство.
– Успокойся! Ты сейчас похожа на истеричку. Ну, где твое мужество?
– Розарио! – взмолилась я. – Они знают мои приметы!
– Чепуха! В Париже тысячи молодых блондинок. У каждой хорошенькой женщины чистая кожа и прямой нос. Никакие это не приметы.
– Но они даже назначили цену за мою голову!
– Так делают всегда. Я видел сотню таких объявлений. Люди уже не обращают на них внимания. Кроме того, разве ты забыла, что ты теперь Жюльетта Фромантен?
Я вспомнила, что обо мне было написано: бывшая аристократка, куртизанка… Они просто безумны! Какая я куртизанка? И, подумать только, мои бесчисленные преступления даже «не поддаются описанию»! Я невольно ощутила ярость.
– Меня тоже ищут, – как бы, между прочим, заметил брат.
Я взглянула на него, пытаясь осмыслить сказанное. Это правда, его тоже разыскивают как дезертира. А я и не подумала об этом. Я стала закоренелой эгоисткой. Право, мне должно быть стыдно.
Припав лицом к его плечу, я тихо прошептала:
– Прости, пожалуйста. Прости меня. Я совсем забыла. Мы будем спасаться вместе, правда?
Он молча погладил меня по щеке и улыбнулся.
– У меня неплохая сестра, черт побери.
– У меня отличный брат, – проговорила я в тон ему.
– Пойдемте уже! – вмешалась Аврора. – Я хочу спать и если мы не доберемся до кровати, я, наверное, упаду.
– Мы уже пришли, слабачка.
Аврора в ответ только фыркнула. Она была явно недовольна тем, что ее разлучили с мальчиками и вовлекли во взрослые авантюры. Париж ей не очень нравился. Возможно, она уже вполне понимала опасность, угрожавшую нам.
«Когда будет время, – устало подумала я, – я успокою ее. Но сейчас у меня нет сил. Я слишком измучена. Мне надо отдохнуть».
Пансион гражданина Белланже был старинным каменным домом в пять этажей, построенным, вероятно, еще во времена Генриха IV, – по крайне мере, об этом можно было судить по сохранившемуся фонтану во дворе. Это был обычный парижский дом, где живут не слишком состоятельные люди, многократно переделанный, подправленный, перестроенный. Рядом были мясная, винная и хлебная лавки – словом, все удобства. Правда, слегка чувствовался запах ям с нечистотами, но к этому можно было привыкнуть.
Гражданин Белланже оказался видным сильным мужчиной лет сорока, широкоплечим мощным брюнетом, нисколько, впрочем, не грузным и не дородным. В его крепкой фигуре чувствовалась сила молодой буржуазной крови, а во всем его облике – ярком, внушительном, весьма соблазнительном для пресыщенных женщин – было что-то глубоко плебейское. Я не любила в мужчинах грубоватости, и гражданин Белланже не пришелся мне по вкусу. У него были роскошные черные усы, которыми он явно гордился, и заросшая волосатая грудь – то, что он наверняка считал признаком мужественности, и то, что мне никогда не нравилось. Тем не менее, полагая, что женщине легче будет на него повлиять, я взяла переговоры на себя.
– Нам нужно что-нибудь дешевое, гражданин, дешевое, но удобное. Мы не стесним вас надолго. Мы будем здесь всего несколько дней…
Прежде чем ответить, он поднес лампу чуть ли не к моему лицу, и я с досадой поняла, что его крайне заинтересовала моя внешность.
– У меня есть такая комната, – медленно сказал он, – на пятом этаже, под самым чердаком. А кто этот гражданин? Тот, что с вами?
– Я ее муж, – заявил Розарио даже несколько угрожающе. – И с нами еще наша дочь.
– Вот как! – с недовольством произнес Белланже. – Прекрасно! Надо сказать, ваша жена выглядит очень молодо. Вы женаты на прелестной особе, примите мои поздравления.
– Благодарю, – так же сурово отвечал Розарио. – И все-таки, если оставить то, что дела не касается: сколько вы с нас возьмете?
Взгляд гражданина Белланже остановился на мне с нескрываемым восхищением. Не отрывая от меня глаз, он громко позвал:
– Камилла!
Появилась гражданка Белланже, пышногрудая и пышнобедрая брюнетка, так же крепко сбитая, как и ее супруг. Сняв с гвоздя ключ, она вопросительно взглянула на мужа.
– Камилла, отведи гражданина Фромантена и его дочь в их комнату.
– А моя жена? – спросил Розарио.
– Мне надо с ней кое-что обсудить.
Я незаметно кивнула брату, чтобы он не беспокоился за меня. Гражданка Белланже повела его и Аврору наверх. Какое-то время я слушала, как скрипят под их ногами ступеньки лестницы, а потом ясным взглядом посмотрела на хозяина квартиры.
– Что вы хотели сказать мне, гражданин Белланже?
– Только то, гражданка, что вы можете не торопиться с оплатой. Заплатите позже, когда будете выезжать. Я ведь вижу, что вы небогаты. У вас и вещей с собой нет, ничего…
Он был наблюдателен, этот буржуа. Я снова ощутила досаду. Честно говоря, куда лучше было бы ему заплатить сразу. В его снисходительности и сострадании я ясно чувствовала желание кое-что заполучить. И как опытная женщина, я видела, что он смотрит на меня не совсем так, как, согласно евангельским заповедям, мужчина должен смотреть на прекрасную половину человечества. Но как я могла отказаться от предложенной им отсрочки?
– Вы очень добры, гражданин. Благодарю вас. И все-таки, почему вы не сказали об этом моему мужу лично?
– Он бы меня не так понял, – с улыбкой заметил он.
Взяв со стола лампу, Белланже знаком дал понять, что проводит меня.
– Скажете ли вы мне свое имя, гражданка?
– Меня зовут Жюльетта.
– Прекрасное имя, – пробормотал он, и я знала, что он сказал бы именно так, какое бы имя я ему ни назвала.
Гражданин Белланже, поднимаясь по лестнице, пропустил меня вперед, и я сознавала, что это не случайность. Он хочет либо поглазеть на мои ноги, когда я приподнимаю юбку, либо… Словом, черт бы побрал этого буржуа!
Добравшись, наконец, до нашей квартиры и чертыхаясь в душе, я поспешно пробормотала:
– Благодарю вас, гражданин, теперь в ваших услугах я не нуждаюсь.
– Меня зовут Феликс, – тихо проговорил он, почти прикоснувшись губами к моему уху.
Я торопливо скользнула за дверь, проклиная его, на чем свет стоит. Только ухаживаний со стороны хозяина пансиона мне и не хватало. Я ненавидела мужчин, которые не понимают того, что они неприятны. Подобные Белланже типы безнадежны, им ничего не объяснишь и от них не отвяжешься. Они невыносимы. Ну почему это случилось именно сейчас?!
– Он положил на тебя глаз, – со своим обычным легкомыслием заметил Розарио. – Ну, это красавец! Совсем не то, что его пансион.
– Черт бы побрал и его, и этот пансион, – заявила я, с яростью срывая с себя одежду. – Повсюду сплошные напасти: то меня разыскивают, то донимают какие-то мужики… Какое несчастливое время!
– Не бойся. Ты всегда можешь сослаться на меня. Ты же замужняя женщина, черт возьми! И я, кажется, вел себя как крайне свирепый муж.
– Этого самодовольного мужика ничто не остановит…
Я села на постели, вспоминая то, что сегодня случилось. Я даже завидовала Розарио: он обо всем судил с такой поразительной легкостью, все переносил шутя… Какое счастье, что я его встретила. Он защитит меня даже от Белланже…
– Надо же, его зовут Феликс! Подумаешь! Какой болван!
4
Старинная улица Сен-Жак была совсем рядом с мелкой речушкой Бьеврой, впадающей в Сену, и из окна нашей комнатки я видела, как тускло поблескивают ее холодные воды. Внизу была заполненная людьми улица; все они спешили по своим делам. Обитатели этого квартала принадлежали преимущественно к среднему классу общества, не к тому, который обогатился благодаря Революций, а к тому, который обеднел. Почти все они, чтобы поддерживать свое ремесленное заведение, вынуждены были заниматься контрабандой, и поэтому постоянно пребывали под угрозой ареста.
Не было еще и шести часов утра, Розарио и Аврора спали. Я тихо оделась, нашла деньги, которые у нас еще оставались, и, осторожно прикрыв за собой дверь, спустилась по лестнице. Надо было купить хоть чего-нибудь поесть, дома у нас была лишь пинта дешевого вина и каштаны – самая обычная еда в нынешнее время. Сейчас даже появилась поговорка: «Питаясь одними каштанами, и сам станешь каштановым».
Лестница вся была в чадном дыму. Гражданка Белланже, казалось, не имела иного дымохода, чем дверь, и все пары ее плиты душили жильцов.
– Куда это вы так рано, Жюльетта?
До меня не сразу дошло, что вопрос адресован мне. Я поспешно обернулась. Гражданин Белланже, еще не полностью одетый, с одной намыленной для бритья щекой и в одном носке, как всегда, уделил мне свое внимание.
– В лавку, за продуктами, гражданин Белланже.
Я поспешила выйти, зная, что если разговор будет долгим, между четой Белланже неминуемо вспыхнет скандал. Гражданка Белланже полагала, что ее муж одаривает своей любовью всех красивых жилиц, по крайней мере, она очень подозревала его в этом и оглашала пансион бурными ссорами и не менее бурными примирениями.
Я шла по улице Сен-Жак к Малому мосту, где было несколько хлебных лавок, и, придя туда, сразу заняла очередь, конец которой до ужаса далек от двери. Положение с продовольствием в Париже было кошмарным. Ежедневно в город привозили 400 мешков муки вместо полагающихся 1500. Цены взвинтились так, что 29 сентября 1793 года Конвент должен был принять закон о всеобщем максимуме. Он устанавливал предельные цены на свежее мясо, хлеб, солонину, свиное сало, масло, рыбу, уксус, сидр, пиво, дрова, древесный и каменный уголь, сальные свечи, соль, мыло, сахар… Эта мера помогла лишь на первые несколько дней. Потом продукты по твердым предельным ценам просто исчезли. Господство захватил черный рынок; лавочники нарочно стали прятать продовольствие, чтобы продать его более выгодно, подороже, в обход закона. В связи с гражданской войной из Вандеи и Нормандии, исконных мясных провинций, прекратился ввоз скота. А еще надо было кормить громадную полумиллионную армию.
У булочных так часто вспыхивали драки, что Коммуна вынуждена была выставлять у них гвардейские посты. Ни один крестьянин уже не вез в Париж на продажу яйца и масло, так как это было невыгодно, а молоком в деревнях поили скот. Единственное, что исправно работало в Париже в эти дни, – это гильотина; все остальное пребывало в беспорядке и анархии.
Я стояла, сонно прислонившись к каменной стене дома, ожидая, когда лавка откроется. Мало-помалу Париж просыпался, утренний туман на улицах рассеивался. Появлялись женщины с тележками, торговки разными мелочами. На каждой площади теперь стоял помост для вербовки добровольцев, каждый парк и общественный сад был превращен в плац, где обучали волонтеров. Повсюду были устроены кузницы для оружия.
Женщины, стоявшие в очереди, устав сетовать на трудности жизни, угрюмо молчали; мужчины, которых тут было меньшинство, рассуждали о политике и войне. Из этих разговоров можно было узнать все новости. Были упомянуты все последние декреты Конвента: об обязательном ношении кокарды гражданами обоего пола, об аресте оставшихся депутатов-жирондистов, о запрещении ввоза английских товаров и о том, что, по речи Сен-Жюста, правительство было провозглашено революционным «вплоть до заключения мира». 9 октября был казнен депутат Горса, и перед казнью он якобы сказал: «Как досадно умирать! Чертовски хотелось бы досмотреть продолжение». Дела на фронте шли неплохо для Республики. Еще в начале сентября генерал Ушар одержал победу при Ондскоте, преследовал врага, но у Менена, боясь окружения, отступил, за что был арестован и казнен. Генералы Республики должны только побеждать… Журдан занял освободившееся место, принял пост, имеющий мрачную славу (этой армией командовали изменивший Республике Дюмурье, казненный Дампьер, казненные Кюстин и Ушар). 6 октября был освобожден Мобеж, а через три дня сдался восставший против Республики Лион. Семьдесят дней длилась его осада. Узнав о победе, Конвент принял чудовищный декрет о полном разрушении города и о том, что совокупность оставшихся домов, принадлежащих патриотам, получит название «Освобожденной коммуны». «Лион воевал против свободы, Лиона больше нет». Жуткие расправы, сравнимые разве что со зверствами варваров, ожидали его жителей.
Тюрьмы были переполнены; поговаривали, что «закон о подозрительных» увеличил число заключенных до ста тысяч. Против этого никто особо не возражал. Напротив, те, кто стояли в очереди, раздраженно требовали усиления террора, казни аристократов и священников, «организаторов голода». Несмотря на то, что четыре года Революции, митингов, выступлений, петиций и неразберихи изрядно всех утомили, простые люди пока в одном оставались едины: в своей вере во всесилие «святой гильотины», в ее возможности разрешить все проблемы, вплоть до продовольственных. Совсем недавно в ряды подозрительных были включены и следующие категории граждан:
1. Те, кто в народных собраниях мешает коварными речами, шумными криками и ропотом проявлению народной энергии;
2. Те, кто, будучи более осторожными, говорят загадочно о бедствиях Республики, сожалеют о судьбе народа и всегда готовы распространять дурные вести с притворной печалью;
3. Те, кто, смотря по обстоятельствам, менял свое поведение и язык, кто, умалчивая о преступлениях роялистов и федералистов, с жаром распространяется о легких ошибках патриотов и, чтобы казаться республиканцем, выказывает суровость и строгость, которые исчезают немедленно, как только дело коснется какого-нибудь умеренного или аристократа;
4. Те, кто сожалеет об откупщиках и алчных торговцах;
5. Те, кто, не совершив ничего против свободы, не сделал ничего и для нее.
Таким образом, любое слово могло теперь считаться преступным. Ложные апостолы свободы – Робеспьер, Сен-Жюст, Шометт, да и Дантон – вооружали отца против сына, сеяли раздоры, топили все в крови, превращали Францию в одну огромную Бастилию и рассчитывали, что таким образом их революция завоюет мир. Они проклинали фанатизм и тиранию Старого порядка, и вменяли в вину человеку его происхождение, не считая, что воскрешают этот самый фанатизм. Да в тюрьму заключались уже не только аристократы – их было не так много, чтобы удовлетворить аппетиты якобинцев, но и те, кто имел несчастье не понравиться комиссару секции, полицейскому шпику, конторскому служащему, секретарю казначейства, швейцару Конвента, любовнице какого-нибудь чиновника. На улицах распевались веселые куплеты о перманентной (постоянно действующей) гильотине:
Депутат наш Гильотин знает медицину И слабительным затем предписал машину — Очистить Францию скорей От подозрительных людей… Гильотина, веселей, Эй, на гильотину! Промашки только не давай, Работать не переставай, Машина, эй, живее!И – странное дело – мнения самых заядлых поклонников террора коренным образом изменились, едва они сами попадали в тюрьму. Один священник, Жак Ру, целое лето бунтовал народ, призывая без разбору казнить контрреволюционеров и скупщиков; когда же он имел несчастье навлечь на себя гнев Робеспьера и оказался в тюрьме, то стал страстными памфлетами призывать к милосердию, Дантон – устроитель сентябрьских убийств и отец Революционного трибунала, – ощущая, как политическое руководство ускользает из его рук, явно чувствовал себя неуютно из-за развязанного им же террора, – вероятно, предвидел, что испытает его прелести на себе.
Безумие продолжалось и усиливалось. Конвент был такого высокого мнения о своей Республике, что день ее провозглашения объявил началом летосчисления. Таким образом, Франция жила уже не в 1793 году, как все обыкновенные люди, а во II году Республики. Старый календарь был признан оскверненным предрассудками и ложью, исходящими от трона и церкви. Бездарный поэт Фабр д'Эглантин придумал новые названия месяцам, и Конвент утвердил их. Вместо обычных сентября, октября, декабря появились вандемер, брюмер, фример, нивоз, плювиоз, причем все было так перепутано, что каждую дату приходилось переводить на нормальный язык, считая на пальцах. Иногда у меня мелькала мысль, что я нахожусь в сумасшедшем доме.
Воскресенья были уничтожены, недели превратились в декады, а выходной день назвали декади… Могилы и мавзолеи королей в Сен-Дени были разрушены. Повсюду стояли какие-то статуи – Природы, Разума, Справедливости, у мостов возвышались вырезанные из дерева колоссы, повергающие в прах Федерализм и Коалицию, что выглядело весьма глупо.
Париж стал и кровавым, и безумным. И над всеми этими реками крови и дурманом массового помешательства царствовал зловещий Комитет общественного спасения – более вездесущий, чем иезуитский орден, более могущественный, чем Конвент. Из триумвиров Революции остался лишь Робеспьер; Марат был убит роялисткой, Дантон то ли прятался, то ли отдыхал за городом. Робеспьер, этот бледный тщедушный человек с зеленым взглядом за стеклами очков, с откинутой назад и вдавленной в плечи головой, с пронзительным и злобным голосом, забирал в свои сухие холодные руки все больше и больше власти.
Стоя за хлебом, я очень замерзла. Женщины, чтобы согреться, пританцовывали на месте и рассказывали друг другу сплетни: в Провансе по небу пронеслась огненная звезда, в Лионне по лесам бегает какое-то дикое чудовище с львиной гривой, а в Сен-Клу женщина родила ребенка о двух головах, и все это не к добру. В очереди я заметила молодую женщину с ребенком; бледная, худая, изможденная, она насилу держала его на руках и, казалось, вот-вот упадет. Она стояла далеко за мной, и было похоже, что ей хлеба не хватит.
Так и случилось. Я после трехчасового ожидания получила свой фунт дрянного черного хлеба, а как раз перед молодой матерью булочник запер дверь. Очередь зароптала. Женщина отошла, глаза ее вспыхнули каким-то зловещим блеском. Я не торопилась уходить, держа хлеб в руках. Мне было жаль ее, и я уже подумывала, не поделиться ли мне с ней. В конце концов, грудных детей у меня нет, а Розарио сильный, он что-нибудь заработает. Я уже отломила половину от своего фунта, как женщина заговорила – очень громко, хрипло и яростно:
– Когда-то хлеб был у всех, и король никому не мешал. Когда-то мыло стоило 12 су, а нынче оно стоит сорок. Да здравствует Республика! Сахар стоил сорок су, а сегодня 4 ливра… Да здравствует Республика!
Злобная ирония и отчаяние звучали в ее голосе. Она сплюнула и побрела прочь, спотыкаясь. Я поняла, что лучше держаться от нее подальше. Женщина не успела пройти и десяти туазов, как гвардеец, охранявший булочную, нагнал ее. Она, вероятно, была арестована. Не выразив никакого возмущения, она в немом отчаянии последовала за гвардейцем.
Очередь безмолвствовала. Только одна женщина, осматривая свой фунт хлеба, пробормотала:
– Когда хлеб было трудно достать и он был дорог, то его хотя бы есть можно было. А сейчас он дешевый и такой отвратительный, что от него заболевают…
В тот хлеб, что я купила, наверняка добавили золы. Я зашагала прочь, больше не задерживаясь.
На мясном рынке я видела, как сбилась в кучу громадная рвущаяся к лоткам толпа; тысячи людей теснились в узких проходах, в страшной давке не щадя никого, даже беременных женщин. Мне было слишком страшно идти туда. Такое испытание по силам разве что Розарио.
Я купила у мальчишки «Бюллетень Революционного трибунала» со списками осужденных и не увидела ни одного знакомого имени. Хоть от этой боли я была избавлена.
Зато следующее сообщение заставило меня вздрогнуть. Там говорилось, что дикий зверь, называвшийся раньше королевой и проглотивший большую часть Республики, скоро будет казнен.
И тогда я вспомнила, что завтра 14 октября – начало процесса Марии Антуанетты.
5
Было еще темно, когда я пришла на остров Ситэ, к Дворцу правосудия. Так, по крайней мере, он назывался раньше.
Тут уже собрались какие-то люди. Среди них были женщины, так называемые вязальницы, горластые, жестокие и тупые, главным желанием которых было присутствовать на всяком процессе и с бранью провожать всякую жертву на эшафот. Были и торговки, которые, надеясь на то, что соберется много зрителей, хотели быстрее сбыть свой товар. Все они сидели – кто на земле, кто на ступенях, и я тихо присела рядом с ними.
В скромно, даже бедно одетой женщине трудно было узнать принцессу и «бывшую куртизанку». Это было по силам лишь тем, кто знал меня раньше. На мне был белый льняной чепчик, скрывающий волосы, истрепанная юбка, черный корсаж и нечто вроде кофты. Я не дошла еще до облика нищей, но одета была хуже, чем даже жительницы Сент-Антуанского предместья.
Медленно тянулось время. Словоохотливые кумушки, принимая меня за свою, несколько раз пытались заговорить со мной, но я отвечала односложно или отмалчивалась. Они сочли меня высокомерной и отвернулись. Их беседа состояла из бесконечных сетований на трудности жизни. Достать хлеб стало трудной задачей, а длинные очереди выматывают все силы. Грядет зима, и цена на дрова будет невыносимой. Нет почти никаких продуктов; мясники, ублюдки, нарочно не продают мясо по максимуму, а прячут его. Все они – агенты Питта и роялисты, В лавках нет самого необходимого – мыла, свечей. Разумеется, это результат заговора аристократов. Надо скорее покончить с этим, иначе многие не переживут эту зиму…
И все-таки это не был обычный, свободный разговор простых женщин. Я улавливала нотки настороженного отношения друг к другу. Казалось, они выбирают слова, будто боятся, что их кто-то в чем-то обвинит. Каждая словно подозревала в собеседнице потенциальную доносчицу. Впрочем, чему я удивляюсь? За донос нынче платят сто су, на эти деньги можно купить десять фунтов хлеба, а это не шутка в нынешние времена. Женщины опасались быть до конца искренними. Я чувствовала, что если бы не эта боязнь, многие из них сказали бы так: при короле все могли жить и всюду был хлеб, а при Республике мы страдаем от голода.
Наступило утро. Без четверти восемь жандармы открыли дверь, и женщины хлынули в зал заседаний. За время ожидания все изрядно продрогли: как-никак, была середина октября. Сдерживая внутреннюю дрожь, я прошла по широкой лестнице, охраняемой жандармами. И тут ринувшаяся вперед толпа буквально подхватила меня, потащила к залу и, достигнув трибуны, отхлынула. Я оказалась в первом ряду, испуганная, толкаемая со всех сторон. Это был единственный сидячий ряд, и я поскорее села, чтобы меня не согнали. Остальные места были стоячие, а зал наполнился до предела. Почти сразу стало душно. В Чрезвычайном трибунале было четыре секции, параллельно разбиравших дела, но сегодня все внимание было приковано к этой секции. Как же, слушалось дело Марии Антуанетты, бывшей королевы Франции, или, как ее иначе называли, вдовы Капет.
Многие женщины казались постоянными посетительницами этого места. Доставая из кошелок вязание, они деловито обменивались впечатлениями. Никто не сомневался в том, каким будет приговор. Не сегодня-завтра Австриячка непременно чихнет головой в корзину…
Подавленная, я встревоженно оглядывалась по сторонам. На возвышении – своеобразной эстраде – стоял застланный зеленым сукном стол и три кресла для судей, а также место для председателя. Я видела трехцветное революционное знамя и огромную «Декларацию прав человека и гражданина», первая статья которой гласила, что «все люди созданы равными». Какое уж тут равенство… Меня, например, только за мое происхождение могут гильотинировать. В зале Трибунала было несколько бюстов. Гипсовых Маратов, Лепелетье, Брутов и Шалье теперь развелось видимо-невидимо. Им поклонялись более страстно, чем раньше святым. Я невольно вспомнила Шарлотту Корде д'Армон. 13 июля 1793 года она пробралась к Марату и вонзила нож в сердце чудовища, которому врач и раньше был вынужден пускать кровь всякий раз, как тот в истерике начинал требовать «трехсот тысяч голов аристократов». Шарлотта Корде, аристократка и роялистка из Кана, была казнена несколько дней спустя. В этом же Трибунале ее спросили: «Неужели вы думаете, что убили всех Маратов?» Она ответила: «Раз умер этот, другим будет страшно».
Судебный пристав возгласил:
– Суд идет!
Все поднялись. В зал Трибунала вошли судьи, одетые в такие же, как и при старом режиме, мантии, но с яркими сине-красно-белыми лентами на груди. Занял свое место секретарь. Появились присяжные: башмачник, ювелир, пирожник, музыкант, бывший священник, столяр, лимонадщик, даже бывший маркиз д'Антоннель – самый презренный из всего этого сброда… Я увидела государственного обвинителя Фукье-Тенвиля, имя которого заслужит самую зловещую славу и на совести которого будет больше всего крови. Это был мужчина могучего телосложения, с массивным тупым лицом, рябой, с фиолетовыми губами и свинцом во взгляде. А председательствовал на суде Эрман, земляк Робеспьера и такой же негодяй, как и он.
Я невольно взглянула на место для подсудимых, даже не кресло, а голые доски… Королева не заслужила даже стула. Людовика XVI, по крайней мере, судил Конвент, а Мария Антуанетта оказалась лишь очередной жертвой Трибунала.
В эту минуту вошла королева. Часы пробили восемь утра.
Ледяной холод разлился по моему телу; вся кровь отхлынула от лица и прихлынула к сердцу. Я даже не подумала о том, чтобы ниже надвинуть на лицо чепец. Впрочем, в этом не было нужды… Королева не смотрела ни на кого в зале. Ее взгляд был пуст и холоден. Мороз пробежал у меня по коже.
Семьдесят дней пребывания в Консьержери сделали Марию Антуанетту старой и больной женщиной. Ее белый чепец покрывал совершенно седые волосы, покрасневшие глаза свидетельствовали о перенесенных страданиях, бледные губы были плотно сжаты. Тридцативосьмилетняя женщина выглядела теперь шестидесятилетней. А я смотрела на нее и с невыносимой болью вспоминала первую красавицу Франции, очаровательную, ослепительную, грациозную, как сама любовь, легкомысленную блондинку с глазами такими голубыми и сверкающими, как два драгоценных сапфира, великолепную королеву, настоящую женщину, один звук голоса которой чаровал всех мужчин. Я вспоминала королеву в чудесном платье из синего шелка и серебристой парчи, прелестную и добрую, как ангел, легкомысленную и расточающую улыбки графу де Ферзену… Увы, любящий ее граф был теперь далеко. И весь былой блеск прекрасной королевы теперь вменяется ей в преступление.
Но как жестоки должны быть люди, чтобы поступить так с женщиной! Как жестоки! Они напали на Марию Антуанетту, угрожали смертью ей и ее детям, а теперь судят ее за то, что она посмела защищаться.
Тусклым голосом Фукье-Тенвиль монотонно зачитывал обвинительный акт. Королева почти не слушала его. Она знала все эти обвинения. Ни разу, даже когда читали самое ужасное, она не подняла головы, и только ее пальцы равнодушно, словно на клавесине, играли что-то на подлокотнике. Я заметила, что две траурные ленты спущены с ее белого чепца. Мария Антуанетта хотела предстать перед судом вдовой Людовика XVI, французского короля.
– После проверки доказательств, переданных общественным обвинителем, было установлено, что, подобно Мессалине, Брунгильде, Фредегонде и Екатерине Медичи, называвшими себя когда-то королевами Франции и чьи позорные имена никогда не сотрет история, Мария Антуанетта, вдова Людовика Капета, стала бичом и вампиром французского народа сразу, как только появилась во Франции.
Я слушала это безумие, удивлялась, до какой степени может дойти людская глупость, ненависть и бесстыдство. Да ведь Мессалина никогда не называла себя королевой Франции, Мессалина из другой истории, из Древнего Рима… А во времена Брунгильды и Фредегонды во Франции еще не было королевства… Какие невежи и тупицы составляли этот акт. Стоило ли удивляться тому, что инкриминировалось королеве потом: дескать, Мария Антуанетта поддерживала политические связи с человеком, которого звали «королем Богемии и Венгрии», передавала миллионы императору, принимала участие в «оргии» фландрского полка, разожгла гражданскую войну, убивала патриотов, выдала иноземцам военные планы. И в довершение было сказано:
– Она была такой развращенной и преступной, что, посмеявшись над всеми человеческими и естественными законами, не побоялась предаться разврату со своим сыном Луи Шарлем Капетом, – даже подумав или сказав об этом, мы уже содрогаемся от ужаса.
Если кто и содрогнулся от ужаса, то это я. Мне захотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не присутствовать на этом гнусном сборище, не слышать этих мерзких речей. Что он сказал, этот подонок? Что он посмел сказать?! Была ли мера низости этих людей? У меня перехватило дыхание. Уж не ослышалась ли я? Королеву обвинили в кровосмешении с собственным сыном, тем мальчиком, которого она так любила, при болезни которого становилась сама не своя, с мальчиком, которому было всего восемь лет!
Облик самой Марии Антуанетты вернул мне спокойствие. Она была такой ледяной в своем презрении к происходящему, что ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Вздох вырвался у меня из груди. Я страстно хотела надеяться, что королева этого не слышала. Увы, я и сама понимала, что это лишь иллюзорная надежда…
– Ваше имя, возраст и профессия.
Это был формальный вопрос. Все и так знали, кого судят. Королева назвала себя очень спокойно и сдержанно:
– Мария Антуанетта, родом из Австрийской Лотарингии, тридцать восемь лет, вдова короля Франции.
Фукье-Тенвиль, словно стараясь соблюсти все формальности, спросил, где она жила в момент ареста. Мария Антуанетта, не выказывая иронии, ответила:
– Я не была арестована, за мной пришли в Национальное собрание, чтобы отправить меня в Тампль.
Настороженная, я прислушивалась к звуку голоса королевы. Казалось, никто не может быть спокойнее, чем она. Ее поведение отличалось от поведения моего отца в подобную минуту: она не проявляла ни гнева, ни высокомерия, только спокойствие и равнодушие. Глядя на нее, невольно можно было подумать, что для этой женщины все давно уже кончено, она смирилась со своей судьбой раньше, чем кто-либо, чем даже я, ибо мне было трудно воспринять мысль о том, что королева будет казнена. В этом была вопиющая несправедливость, которая невольно заставляла протестовать…
– До Революции вы имели политические сношения с королем Богемии и Венгрии, а эти сношения были противны интересам Франции, осыпавшей вас всякими благами.
– Король Богемии – мой брат, – решительно произнесла королева, – я поддерживала с ним только дружеские, но отнюдь не политические сношения; если бы я поддерживала политические сношения, то они велись бы в интересах Франции, к которой я принадлежала благодаря семье моего мужа.
– Не довольствуясь невероятным расточением финансов Франции, плодов народного пота, на ваши удовольствия и ваши интриги, вы, по соглашению с бесчестными министрами, переправили императору миллионы, чтобы помочь ему действовать против народа, который вас кормил.
– Никогда. Я знаю, что это обвинение часто пускается против меня, но я слишком любила своего супруга, чтобы расточать деньги своей страны, мой же брат не нуждался в деньгах Франции, к тому же, в силу тех же принципов, которые связывали меня с Францией, я не дала бы ему денег.
Фукье-Тенвиль задавал вопросы с тем неестественным бумажным пафосом, который так распространился за время Республики и к которому мне, выросшей в атмосфере насмешливости рококо, было трудно привыкнуть. Мария Антуанетта, вероятно, тоже находила тон нелепым – если только ее еще могли занимать такие мысли.
– Со времени Революции вы ни на одно мгновение не переставали устраивать махинации с иностранными державами по отношению к нашим внутренним делам и против свободы, даже тогда, когда мы имели только видимость этой свободы, которую, безусловно, желает иметь французский народ.
Королева опровергла это обвинение так же твердо, как и предыдущие:
– Начиная с революции, я сама прекратила всякую заграничную корреспонденцию и никогда не вмешивалась во внутренние дела.
На вопрос, не пользовалась ли она тайными агентами для переписки с иностранными державами и не был ли Делессар этим главным агентом, она ответила:
– Нет, никогда в жизни.
Я знала, что это неправда. Фукье-Тенвиль подталкивал Марию Антуанетту к тому, чтобы она назвала имена своих сторонников, признала руководство Делессара заграничной агентурой. В таком случае ей надо было бы назвать и меня, ведь я тоже ездила в Невшатель, Мантую и Вену для того, чтобы передать письма и встретиться с императором Леопольдом… Но королева ни слова не сказала об этом, а у ее судей не было никаких доказательств. Если бы они были честны, то принуждены бы были признать, что улики отсутствуют и королева невиновна. Но так бывает в цивилизованных государствах, где торжествует юстиция. Здесь все это не имело значения. Королеву приговорят только за то, что она королева.
Разъяренный тем, что ему не удается запугать королеву своими громкими фразами, Фукье-Тенвиль обрушился на нее с еще более высокопарной сентенцией:
– Это вы научили Луи Капета искусству того глубокого притворства, с каким он слишком долго обманывал добрый французский народ, который и не предполагал, что преступность и коварство могут быть доведены до такой степени.
На эту пустую фразу Мария Антуанетта спокойно ответила:
– Да, народ был обманут, жестоко обманут. Но только не моим мужем и не мною.
– Кто же тогда обманул народ?
– Те, кто был заинтересован в этом. А у нас не было никакой необходимости обманывать его.
Этот двусмысленный ответ раздразнил прокурора, он пошел напрямик:
– Кто же это те, которые, по вашему мнению, были заинтересованы в том, чтобы обманывать народ?
Мария Антуанетта поняла, что ее хотят спровоцировать на прямой враждебный ответ и этим возбудить ненависть публики к королеве. Она осторожно и сдержанно ответила:
– Этого я не знаю. Я была заинтересована в просвещении народа, а не в том, чтобы его обманывать.
После этой стычки допрос снова вернулся к фактам. Марию Антуанетту спрашивали об обстоятельствах бегства в Варенн. Она отвечала осторожно и не выдала ни одного из своих тайных друзей, которых обвинитель хотел бы втянуть в процесс, не: называла ни одного имени. Тогда Фукье-Тенвиль произнес еще одно нелепое обвинение:
– Вы никогда ни на миг не оставляли попыток погубить Францию. Вы любой ценой стремились властвовать и по трупам патриотов взойти на трон.
И тогда впервые королева ответила надменно и резко:
– Да будет вам известно, ни мне, ни моему мужу не было необходимости бороться за трон, ибо мы там уже властвовали по праву и ничего, кроме добра, Франции не желали.
Долго и монотонно тянулся этот допрос; прокурор пытался запутать королеву или заставить ее противоречить самой себе, Мария Антуанетта держала осторожную, но крепкую оборону, хотя одному Богу известно, каких душевных усилий ей это стоило. Она никогда не увлекалась казуистикой и всегда была прямой и открытой женщиной. Все эти подвохи и юридическая паутина смертельно утомили ее; она бледнела все больше, – единственная женщина против целой когорты обвинителей, искушенных в фабриковании дел лучше, чем иезуиты.
– Чьей победы вы желали в военных кампаниях Республики?
– Превыше всего я желала добра Франции.
– Вы считаете, что для счастья народа нужен король?
– Такого один человек решить не может.
– Вы, безусловно, жалеете, что ваш сын утратил трон, на который мог бы взойти, если бы народ не разбил его, наконец узнав о своих правах?
– Я ни о чем бы не жалела для сына, если бы это было добром для его страны.
Его страны… Мария Антуанетта даже сейчас не отреклась от самого святого – права своего сына на корону. После этого ответа длинный допрос быстро прекратился. У королевы спросили, есть ли у нее адвокат. Мария Антуанетта ответила, что не знает ни одного адвоката, и согласилась, чтобы ей официально назначили защитника. В душе всем было ясно: все равно, дадут ли ей друга или врага, – во Франции нет такого храбреца, который бы серьезно взялся защищать королеву. Ибо кто скажет хотя бы слово в ее защиту, тот с адвокатского места мгновенно окажется на скамье подсудимых.
После этого выступили сорок свидетелей, которые, согласно присяге, клялись говорить «без ненависти и страха правду, всю правду и только правду». Процесс готовился впопыхах, и наспех собранные свидетели говорили без всякого порядка, все, что только взбредет в голову, выдумывали нелепицы, которые даже унизительно было бы опровергать. Свидетели говорили то о событиях 6 октября в Версале, то о 10 августа в Париже, о преступлениях до и после Революции. Смехотворность некоторых обвинений не имела границ: например, Мийо, одна из горничных, слышала, как в 1788 году герцог де Куаньи сказал кому-то, будто королева переслала своему брату двести миллионов. «Кто-то слышал», «кто-то кому-то сказал»… Но еще более бессмысленным было утверждение, что Мария Антуанетта якобы носила два пистолета, чтобы застрелить герцога Орлеанского. Двое свидетелей под присягой заявили, что видели переводы королевы к брату, но сами эти документы представить не могли, так же было и с вымышленными письмами, в которых Мария Антуанетта якобы призывала швейцарскую гвардию взяться за оружие. Не могли представить ни одного обрывка бумаги, на котором было бы что-то написано рукой Марии Антуанетты. Даже в запечатанном пакете, где были ее вещи, отобранные в Тампле, не нашли ничего подозрительного. Пряди волос ее мужа и детей, миниатюрные портреты принцессы де Ламбаль и подруги детских лет ландграфини Гессен-Дармштадтской, записная книжка, в которой были только фамилии ее врачей и прачки, – ни одна мелочь не годилась для обвинения. Тогда Фукье-Тенвиль решил извлечь из мрака забвения старую историю с ожерельем королевы, случившуюся в 1786 году благодаря интриганке и мошеннице Ламотт.
– Разве не в Малом Трианоне вы впервые увидели госпожу де Ламотт?
– Я никогда ее не видела.
– Разве она не стала вашей жертвой в истории с колье?
– Она не могла стать моей жертвой, потому что я не знала ее.
– Итак, вы настаиваете, что были незнакомы с ней?
– Я ни на чем не настаиваю. Я вам говорила и буду говорить только правду.
Эта длинная вереница совершенно нелепых свидетельств против королевы утомляла и публику в зале, и саму Марию Антуанетту. Заседание тянулось уже много часов, и ни разу председателю не удалось возбудить зал против королевы, вызвать враждебный ропот или сорвать патриотические аплодисменты. Суд тянулся как медленный, тяжелый поток. Видимо, решив разрушить это впечатление, на трибуну выступил Жак Рене Эбер.
Я видела и раньше этого «ультра», этого вождя «бешеных». Нижний театральный кассир, замешанный в воровстве и женатый на бывшей монахине, циничный и беспринципный, он издавал газету «Папаша Дюшен», стиль которой точно копировал жаргон самых грязных парижских притонов. Его вульгарность превосходила все мыслимое; никто, казалось, не может быть более революционен, чем он. И, однако, Эбер ужинал у Батца. Я не сомневалась, что он продался барону, что он работает на него так же, как и половина других главарей Революции.
Он громко и решительно зачитал документ – свидетельство того, что Мария Антуанетта и сестра казненного короля принцесса Элизабет предавались кровосмешению со своим сыном и племянником, развращали его и творили с ним самые немыслимые мерзости. Повернувшись к публике, он показал всем подпись маленького принца – кривые, неуклюжие буквы «Луи Шарль, дофин» – свидетельство того, что ребенок сам выдвинул это обвинение против своей матери.
– Вся Франция знает о том, что Австриячка была одержима дьяволом сладострастия. Эта вавилонская архиблудница и лесбиянка привыкла в своем Трианоне каждый день выматывать нескольких мужчин и женщин. Естественно, когда такую волчицу заперли в Тампле и никто не мог уже удовлетворить ее адское любовное бешенство, эта мерзкая развратная фурия набросилась на собственного беззащитного и невинного ребенка…
Кровь громко стучала у меня в висках. Им недостаточно судить Марию Антуанетту и казнить ее, они еще хотят запятнать ее неслыханным позором. В зале послышалось недоверчивое движение. Памфлеты и раньше обвиняли королеву во всех бесстыдствах, какие только возможны, но ведь то памфлеты, а тут сидит королева – бледная, измученная женщина с таким холодным и спокойным лицом, что его безразличного выражения не изменила даже наглая ложь Эбера. Никто не закричал, никто не высказывал вслух своего отвращения. Я сидела, бледная и потрясенная, молча ожидая, что же будет дальше.
Эбер, несколько сбитый с толку молчанием зала, продолжал:
– Взгляните – ребенок сам признал это… К преступным ласкам прибегали не для удовольствия, а из политических интересов, имея намерение физически ослабить ребенка. Вдова Капет надеялась, что ее сын когда-то взойдет на трон, и тогда благодаря своим плутням она получит право вертеть им, как вертела своим мужем.
Услышав подобные речи, слушатели почти испуганно молчали. Мария Антуанетта ничего не сказала и презрительно смотрела мимо Эбера. Словно этот болван говорил по-китайски, она сидела уверенно, спокойно и безразлично. Даже председатель суда сделал вид, что не слышал этого обвинения: слишком гнетущее впечатление произвело оно на всех присутствующих, особенно на женщин. Но среди присяжных нашелся один недоумок, он поднялся и заявил:
– Гражданин председатель суда, прошу обратить внимание, что подсудимая ничего не сказала по поводу свидетельства гражданина Эбера о том, что она вытворяла с сыном.
Мария Антуанетта подняла голову. Впервые за много часов судебного разбирательства глаза ее сверкнули – гневно, яростно, гордо, и в этом их блеске я узнала былую королеву, наследницу Рудольфа Габсбургского и жену Бурбона. Невыразимое негодование звучало в ее голосе, когда она говорила, – негодование и презрение.
– Если я не отвечаю, то только потому, что сама природа не позволяет отвечать на подобные обвинения, обращенные к матери. Я обращаюсь ко всем матерям, которые, вероятно, сидят в зале.
Ропот пробежал среди публики – ропот против Эбера, а не против королевы. Председатель молчал, любопытный присяжный потупил глаза, – всех поразил полный боли и гнева голос оскорбленной женщины. Эбер, не слишком гордый своим поступком, отправился на свое место. Все, а может быть, и он тоже, почувствовали, что в самый тяжелый для королевы час его обвинения стали ее моральным триумфом.
Я едва сдерживала рыдания, подступившие к горлу. Мне было неизвестно, каким образом принц подписал чудовищное обвинение против матери; во всяком случае, я всегда знала, что он был капризным и деспотичным ребенком, да и заставить восьмилетнего малыша сказать то, что от него хотят услышать, – очень просто. Но не в этом было дело. Я чувствовала стыд – за то, что слушала все это, находилась в этом сборище выродков, стала свидетельницей этих мерзких издевательств над королевой. Я с ужасом ощущала, что, может быть, сейчас расплачусь. Вот это бы было вправду ужасно; мне тогда одна дорога – в тюрьму… Никто не имеет права публично выражать сочувствие к вдове Капет.
Чья-то рука властно легла мне на плечо. Я вздрогнула, оборачиваясь. Это был Розарио. Пробившись через толпу ко мне, он теперь не скрывал своего гнева и досады. Господи, как он смог найти меня? Я ускользнула из дома еще до рассвета.
До боли сжимая мне руку, он явно заставлял меня подняться, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним вон из зала.
6
– Ты сошла с ума! Мы с Лореттой разыскиваем тебя по всему Парижу! Когда я спасал тебя от гильотины, я не думал, что ты сама будешь искать смерти. Тебя ищут, за тебя назначена награда, а ты сама приходишь в Трибунал. Ну, есть ли у тебя голова, Ритта?
Я молча глотала слезы. Розарио говорил яростным шепотом, не решаясь повышать голос, и просто тащил меня к выходу.
– И что тебе тут надо? Вдову Капет все равно казнят. Ты должна думать о себе. Хорошо, что Лора вспомнила, что сегодня начало процесса, а то бы я понятия не имел, где тебя искать.
– Лора? – тупо спросила я. – Какая еще Лора?
– Моя невеста, пора бы запомнить. Она ждет во дворе. Он взглянул на меня, прикоснулся рукой к моему лбу.
– Да у тебя жар! Ты больна.
– Нет, – проговорила я. – Со мной всегда так бывает… когда я переживаю.
– Пойдем, я покажу тебе Лору.
Мадемуазель Антонелли ждала нас на лестнице Дворца правосудия.
– Бонжур! – весело сказала она мне и продолжила по-итальянски: – Розарио рассказал обо мне, правда? Я – Лаура, прачка с площади Восстания.
Она была совсем не такая, как я представляла. Розарио был такой большой, сильный, и его невесту я представляла под стать ему. Маленькая, хорошо сложенная, изящная, одетая бедно, но кокетливо, Лаура словно сошла с картины Тициана. У нее было милое, умное, живое лицо с чуть вздернутым носом, белая кожа, лукавые карие глаза. Нарядный чепчик она явно сшила сама, и он покрывал пышную копну темно-рыжих кудрей. Оттенок ее волос тоже был тициановский – рыжий, отливающий и темным золотом, и медью. Лаура выглядела такой типичной венецианкой, что иного и представить было нельзя.
– Вы давно в Париже? – спросила я по-итальянски. В конце концов, должна же я была что-то спросить.
Она расхохоталась.
– Давно? Да я родилась здесь!
– И когда же вы родились?
– Мне девятнадцать лет. Мои родители приехали сюда из Венеции. Так и не научилась говорить по-французски. Я вообще ни одного языка порядком не знаю. Пожалуй, мне легче говорить по-итальянски.
Она говорила на венецианском диалекте, но я хорошо ее понимала. Выслушав все это, я вежливо сказала:
– Я рада, мадемуазель, что вы с Розарио собираетесь пожениться.
Она подхватила и меня, и моего брата под руки и защебетала на своем просторечном итальянском:
– Еще бы! Знали бы вы, как я рада. Ведь я думала, этот мерзавец уже никогда не вернется ко мне. В армию зашился, дурень эдакий! Вообще-то он хороший парень, он мне нравится. Но когда ни вестей не приходит, ни писем – это не каждой девушке придется по вкусу.
– Он не писал вам? – машинально спросила я.
– Ни слова! Я как увидела его, то сперва надавала пощечин, чтоб знал на будущее, как себя вести. А потом мы помирились. Правда, Розарио?
Он кивнул. Я не знала, как поддерживать этот разговор. Рассказал ли ей брат о том, что он дезертир и мы собираемся уехать? Знает ли она, кто я и кем была раньше? Можно ли ей доверять? В конце концов, я была очень расстроена только что увиденным, и веселость мадемуазель Антонелли казалась мне несколько неуместной.
– Я обожаю Розарио, мадам! – горячо и искренне воскликнула она, впервые назвав меня так. – Мы поженимся как можно скорее. Через месяц я получу пенсию от Коммуны, появятся деньги. А уж после этого мы сразу уедем.
Ага, она получает пособие от Республики. Это скверно. И она знает, что нам нужно уехать. Я нерешительно взглянула на брата.
– Лоретте можно доверять, она все знает, – сказал он. – Моя малышка – отличная девчонка. Иначе бы я не женился на ней.
– Вы католичка? – почему-то спросила я.
– А как же! – важно воскликнула Лаура. – Я верю в Господа Бога и часто читаю требник.
Она была невежественна, эта юная венецианка, но так мила и прелестна в своем невежестве и буржуазном практицизме. Она мне нравилась.
– Мы с Розарио идем сейчас на танцы, – объявила Лаура.
– На танцы?
Я не могла себе представить, что в Париже, есть еще танцевальные залы. Да кто сейчас веселится? Недавно Робеспьер обрушился на актрис и танцовщиц, сказав, что они так же преступны, как и принцессы, потому что обольщают патриотов ласками и шампанским; следовательно, развлечения были под негласным запретом.
– Да, – сказал Розарио. – На улице Веррери есть танцевальный зал. Мы отдохнем немного.
– А королеву казнят уже завтра, – сказала я горько.
– Да что нам за дело до королевы? – воскликнула Лаура. – Мы и не видели ее никогда.
Я видела, что они хотят после долгой разлуки остаться одни. Розарио бросал на невесту откровенно страстные взгляды. Я поторопилась распрощаться. Возможно, брат был прав. Зря я ходила во Дворец правосудия. Мне достаточно иных неприятностей… Мария Антуанетта – моя подруга и королева. Но я, увы, ничем не могу ей помочь. Я в любую минуту рискую окапаться на ее месте.
Я вернулась домой, наспех приготовила скудный ужин для Авроры, немного поболтала с ней, выслушала, что она рассказывает о своей новой подруге Розе, с которой познакомилась во дворе, и о том, что дядя Белланже подарил ей пачку вафель с кремом. Последнее сообщение мне не понравилось, но я ничего не сказала. Аврора и так мало видит хорошего, зачем еще лишать ее вафель.
Я разговаривала с девочкой, но мысли мои были далеко. Я вдруг представила себе, что на том самом месте, где я видела Марию Антуанетту, окажется Рене Клавьер, и председатель суда равнодушно зачитает обвинительный приговор. Без всяких проволочек Трибунал приговорит Рене к гильотине. Ему остригут волосы и разрежут ворот, чтобы ничто не помешало лезвию ножа. И в телеге повезут на площадь Революции, чтобы передать в руки палача Сансона… Мороз пробежал у меня по коже. Я могу никогда-никогда не увидеть Рене. У меня его вольны отнять.
Бледная и испуганная, я лихорадочно размышляла. Сегодняшнее знакомство с Трибуналом убедило меня, что от него нет спасения. Там фабрикуют обвинения, выдумывают заговоры, измышляют самые нелепые преступления. Что же говорить о тех случаях, когда подсудимый действительно в чем-то замешан?
Рене Клавьера арестовали потому, что его падения добивались политическая и финансовая верхушки Революции. Политики желали обогатить казну, конфисковав его миллионы, и финансисты хотели физически устранить конкурента. Он был жертвой интриг – грязных, темных, таинственных, о которых мне ничего не было известно. Истинная подоплека дела была скрыта обычными обвинениями: шпионаж, диверсии, заговоры, роялизм и федерализм… Кроме того, Рене был связан с Батцем и Флорой де Кризанж, а это позволяло придать делу политический оттенок.
Но его не могли казнить, не заставив выдать ключ к его счетам в женевском и лондонском банках, где лежали громадные суммы денег. Пока он держит эти счета в секрете, он жив. Но нельзя исключать, что к нему применяют всевозможные способы воздействия с целью заставить раскрыть секрет. Возможно, вплоть до пытки…
Я содрогнулась. За окном уже были сумерки, внизу гражданка Белланже готовила ужин и по своему обыкновению душила жильцов чадом. Октябрьский дождь брызгами стучал по стеклу и стекал вниз, сливаясь в мутные струйки. Отблески городских огней плясали по стенам.
И я внезапно поняла, что не могу уехать из Парижа, даже не попытавшись помочь человеку, которого люблю.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ФЕЛИКС БЕЛЛАНЖЕ, ПАТРИОТ И РЕСПУБЛИКАНЕЦ
1
Еще не рассвело, а я уже сидела, склонившись над кружевом. В Париже нам надо было на что-то жить. Розарио получал временную работу – то каменщиком, то помощником оружейника или кузнеца, то чистил сапоги на площади, но все это было от случая к случаю и приносило мало денег. Кроме того, он, как нормальный жених, знающий приличия, дарил мадемуазель Антонелли то колечко, то ленты, то цветы, а все это в нынешние времена стоило ужасно дорого. Поэтому я отправилась к своей старой знакомой, мадам Тессье – она теперь называлась гражданкой Тессье, галантерейщицей. Она сразу узнала меня и дала заказы. Я купила нитки, пряжу, крючок и спицы. Вот уже который день принцесса де ла Тремуйль вязала для состоятельных буржуазок и жен разбогатевших дельцов всевозможные «блонды» и «шантийи».
За это платили шестьдесят су в день.
– Послушай, Ритта, ты не могла бы сегодня вечером куда-нибудь уйти и увести Аврору?
Я удивленно взглянула на брата.
– Уйти? Куда же я уйду?
– Ну, допустим, к Джакомо. Он приютит вас на эту ночь. А мне очень надо побыть ближе к Лоре.
– Ты не знаешь, какие у меня отношения со Стефанией! – рассерженно сказала я.
Я вообще старалась встречаться с ней пореже. Прийти туда на целую ночь – это значит обречь себя на беспрерывные разговоры о «бездельницах, которые, только оказавшись в бедности, вспоминают о своей родне».
– Ты уйдешь?
– Ты очень осложняешь мне жизнь, Розарио! – сказала я раздраженно. – Разумеется, я уйду.
Для меня не было секретом, что, хотя брак Розарио и Лауры все время откладывается по причине недостатка денег, они не утруждают себя ожиданием и давно уже предаются радостям супружества. Как я поняла, это у них началось задолго до того, как Розарио ушел в армию. А Лора вообще демонстрировала раскованность и полную свободу от предрассудков, достойную разве что Версаля. Я всегда думала, что буржуазки в этом отношении более добродетельны, чем аристократки. Но Лора убедительно доказала, что бывает и наоборот.
– Ты любишь ее? – невольно вырвалось у меня.
– Я хочу на ней жениться.
– Я спросила тебя о любви. Он взглянул на меня, усмехаясь.
– Ей-богу, ты говоришь как по писаному. Черт побери! Лора – единственная девчонка, на которой я хочу жениться. А это много значит.
Я замолчала, зная, что в лексиконе Розарио нет слов о любви.
Чтобы отблагодарить меня за согласие оставить их одних в комнате, брат отправился в лавку за хлебом. Покупка хлеба уже давно превратилась в мучение, и я облегченно вздохнула, поняв, что сегодня освобождена от этой обязанности. Ко мне вернулось упорство, и я с новой силой склонилась над кружевом. Это была очень тонкая, филигранная и утомительная работа, любой узелок мог все испортить… Я рассчитывала закончить эту вещь из кружев, а потом отправиться к Жану Батисту Коффиналю, бывшему врачу, судье Революционного трибунала.
Почти месяц я обивала пороги тюрем, пытаясь хоть что-то узнать о судьбе и процессе Рене Клавьера. Все было тщетно. Я даже не смогла выяснить, в какой тюрьме он находится, хотя часами простаивала возле Ла Форс, Люксембурга, Аббатства и Сен-Лазара. Я разговаривала с родственниками заключенных, расспрашивала, несколько раз отважилась даже зайти в наблюдательный комитет секции, арестовавшей Клавьера, – эта секция ведала арестами и составляла списки «подозрительных».
Меня не узнали и не разоблачили, а просто попросили уйти. Кроме того, расспросы были опасны еще и потому, что отец Рене, старик Клавьер, бывший министр финансов, видный жирондист, тоже находился в тюрьме, и, когда я принималась расспрашивать, все почему-то думали, что я сочувствую жирондисту, и посматривали на меня с подозрением.
– Вам бы отправиться к Коффиналю, к судье, – сказала мне одна женщина, надеявшаяся в окнах Люксембургской тюрьмы увидеть хоть силуэт своего арестованного сына. – Он может помочь, если вы очень попросите.
Она шепотом назвала мне домашний адрес судьи.
– Его еще надо уговорить, – предупредила она многозначительно.
– Я должна буду с ним спать? – прямо спросила я.
– Может быть. Если вы хотите спасти своего друга… Спасти! Я горько усмехнулась. Вряд ли мне это удастся.
Я хотела бы узнать, где Рене находится и что ему грозит. Во всяком случае, адрес у меня был. В полдень я отправлюсь к гражданину Коффиналю, но, честно говоря, пока не представляю, как буду себя вести.
А после этого надо будет зайти на рынок и навестить Жанно и Шарло в Сен-Мор-де-Фоссе. Им было там хорошо, я в этом убедилась. Мне не хватало присутствия сына, но я не могла не признать, что в Париже мы жили хуже и беднее, чем он в деревне. Крестьянка, показавшаяся мне такой скаредной и сварливой, оказалась не такой уж плохой, и Маргарита, которая сама была родом из пикардийской деревни, даже с ней подружилась. Там у детей были хлеб, молоко и масло, – что здесь удавалось достать лишь с большим трудом.
– Научи меня, – сказала Аврора, наблюдавшая за моими руками.
Я показала ей несколько движений, она старательно пыталась запомнить.
– Это не так легко, – сказала она наконец. – А ты все очень быстро делаешь, даже в глазах мельтешит.
– Еще бы. Я училась этому шесть лет в монастыре. Знала бы ты, как мне это не нравилось.
– А меня монахини в Понтави учили разве что мыть полы и чистить кастрюли.
Я улыбнулась. Аврора уже совсем взрослая. Она не убегает, как прежде, куда-нибудь играть, а честно пытается научиться вязать кружева. Пальцы у нее двигались пока медленно и неловко, тонкая нить все время выскальзывала и связывалась в узлы. Я терпеливо показывала снова и снова. Может быть, Аврора когда-нибудь сумеет стать помощницей.
– Вот было бы хорошо, если бы у меня было платье с такими кружевами, – произнесла она, вздыхая.
Я вздохнула в свою очередь.
– Радость моя, ты была бы в нем очень красива.
– Да. Как те девочки. Ну, из соседнего особняка.
В соседнем особняке жили дочери нувориша, разбогатевшего на спекуляциях. Я почему-то вспомнила, как еще в Тоскане с завистью следила из-за кустов за дочерями графа Лодовико дель Катти. Меня и на десять шагов к ним не подпускали.
– Я знаю, мама, ты не виновата. Ты стараешься. И все так сразу на нас навалилось. Я не люблю Революцию. Это она выгнала нас из дома.
Я внимательно взглянула на девочку. Фиалковые глаза ее затуманились, она очень серьезно смотрела на меня. Она все понимает. Она перестала быть ребенком гораздо раньше, чем я это заметила. Я обняла ее, прижала ее голову к груди.
– Ты помнишь наш дом?
– Да. Ты уезжала в Версаль и приходила поцеловать нас на ночь. На тебе было голубое платье, такое душистое, шуршащее. Я помню, как оно шелестело. И бриллианты в ушах… От тебя пахло розмарином. А еще я помню твой день рождения, когда ты подарила мне нитку жемчуга и клетку с канарейкой. Мы так хорошо жили тогда.
Спохватившись, она горячо добавила:
– Но ты и сейчас красивая. Ты правда очень красивая. Ни одна женщина не может быть красивее тебя.
Я невольно улыбнулась, зная, что она говорит искренне.
2
Слегка подобрав подол длинной потрепанной юбки темно-коричневого цвета, я быстро спускалась по узкой грязной лестнице. Скоро полдень. Если я хочу застать Коффиналя дома за обедом, необходимо поторопиться. Хоть бы удалось узнать что-то о Рене… Судья наверняка что-то знает. Но захочет ли он сказать мне хоть что-нибудь? Это еще вопрос.
– Добрый день, гражданка!
Я вздрогнула от неожиданности и раздражения. Снова этот Белланже! Скрестив ноги и опираясь на перила, он со странной улыбкой смотрел на меня.
– А, это вы, гражданин Белланже, – сказала я, почти не скрывая досады. – Позвольте мне пройти, я очень спешу.
– Куда это ты спешишь, Жюльетта?
От этого «ты» меня передернуло. Наверное, я никогда не привыкну к тому, что каждый голодранец может мне тыкать. А от этого Белланже так много зависит. Мы же ему почти ничего не платили.
– Так куда ты идешь, гражданка?
Похоже, он и не думал пропускать меня. Я почувствовала, что щеки у меня начинают пылать. Господи, как мне хотелось высказать в лицо этому субъекту все, что я думаю о нем и о других самодовольных болванах, подобных ему. Но я напомнила себе, кто я сейчас. Сдержавшись, я попыталась ответить как можно более миролюбиво, чтобы пресечь все остальные попытки заигрывания.
– Я просто хочу пройтись или сходить на рынок. Сегодня праздник, мне кажется?
– Верно! – подхватил он, хватая меня за руку. – Может, проведем его вдвоем?
Я раздраженно высвободила свою руку. Белланже был мне ужасно противен своей мещанской манерой заигрывания, своим обращением со мной, как с глупой разбитной крестьянкой. Он явно воображал, что выглядит неотразимо. И еще, как на грех, дом почти пуст, Розарио куда-то ушел. Страха я не чувствовала, но перспектива остаться один на один с Белланже настраивала на тревожный лад.
– Что вы имеете в виду? – спросила я враждебно и сухо.
– Не будь такой ледышкой. Ты же с виду просто персик. Мало у какой женщины…
– Вы забываете, гражданин Белланже, – прервала я его. – Я замужем, моя дочь осталась наверху. Она может услышать.
Внутри у меня все кипело, но я приказывала себе сохранять спокойствие. Хотя, видит Бог, я могу и не сдержаться. Я уже столько раз одергивала Белланже, пресекала его ухаживания – такие же неуклюжие и нелепые, как и он сам. Но он ничего не понимал. К тому же явно думал, что из-за того, что мы не платим за комнату, я уступлю.
– Я, кажется, уже говорил тебе, что меня зовут Феликс.
– Мне, собственно, безразлично, как вас зовут! – произнесла я запальчиво. – Мой муж сейчас придет, уходите.
– Твой муж! Ха! Да ты что, ничего не знаешь? Вот святая простота!
Снова схватив за руку, он тянул меня к себе.
– Эй! – сказала я угрожающе. – Предупреждаю вас, сейчас вернется мой муж! Отпустите меня.
Он дышал тяжело, взволнованно, и мне стоило большого труда отпихивать его от себя.
– Что касается твоего мужа, гражданка Фромантен, то я прекрасно знаю, как он развлекается, когда тебя нет. Он водит сюда девку. Рыжую такую, аппетитную. Слышала бы ты, что они вытворяют вдвоем!
Не особенно вслушиваясь в его слова, я изо всех сил толкнула Белланже, рискуя вместе с ним покатиться по ступенькам. Теряя равновесие, он отпустил меня. Воспользовавшись этим, я побежала вверх по лестнице, чертыхаясь в душе. Я ведь собиралась идти к судье, а вместо этого возвращаюсь домой.
Пробормотав проклятие, Белланже ринулся следом за мной. Я думала, как бы скорей добежать до комнаты и закрыться на ключ. Розарио вот-вот должен вернуться из лавки, он разберется с этим негодяем. Белланже схватил меня за край юбки, я споткнулась, больно ударившись о ступеньку, и, не удержавшись, упала на колено. Тяжело дыша, Белланже потянул меня к себе.
– Ты что, не слышала, что я тебе сказал? Твой драгоценный супруг крутит шашни у тебя за спиной, а ты готова хранить ему верность!
Разъяренная, я не понимала, о чем идет речь. О Лауре?
– Мне плевать на то, что вы говорите! – крикнула я. – Немедленно оставьте меня, не то я позову на помощь!
Я могла, конечно, кокетством, улыбкой или неопределенным обещанием смягчить этот конфликт, просто дать Белланже надежду или намекнуть, что мы сможем встретиться в другой раз, – словом, я могла слукавить. Но мне казалось это слишком унизительным. Кроме того, назойливость этого человека так меня раздражала, что я не желала сдерживаться.
– Кого ты позовешь на помощь? Кого? Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Да ты же сама потом будешь довольна! Я, в конце концов, не урод. Я куплю тебе платье, сережки, шляпку. Ты будешь одета как картинка…
Дыша тяжело и прерывисто, он шептал мне эти слова прямо в лицо, не давая мне возможности отстраниться. Я почувствовала, как та струна, что удерживала меня в рамках, разом лопнула. Я больше не могла это терпеть.
– Платье?! – повторила я в бешенстве. – Черт побери, это дешево! Слишком дешево, чтобы я согласилась спать с таким дерьмом, как ты!
В ярости он бросился на меня, сгреб в охапку, сжал так, что я задохнулась от боли, и, припав к моим губам, прямо-таки впился в них. У меня дурнота подкатила к горлу. Задыхаясь от боли, отвращения и гнева, я пыталась освободиться, выскользнуть, избавиться от этих противных объятий, но борьба с Белланже сулила не больше успеха, чем борьба с медведем. Изловчившись, я укусила его за нижнюю губу, с омерзением почувствовав на языке солоноватый привкус крови. Вскрикнув, Белланже отшатнулся с перекошенным от гнева лицом, его огромный кулак поднялся для удара. Я успела немного отпрянуть, но удар пришелся по виску и свалил меня. Я не сразу пришла в себя. В голове шумело. Я едва различала голос Белланже.
– Ах ты стерва! А я-то к тебе по-хорошему. Даже свидетельство о благонадежности не спросил, потому что знал, что нет его у вас. Чертовы подозрительные! Ведь одно мое слово – и вы со своим муженьком чихнете головами в корзину.
Цепляясь руками за стену, я медленно поднялась, еще не полностью оправившись.
– Да ведь только за то, что ты говоришь мне «вы», я могу на тебя донести, – продолжал Белланже. – Конвент запретил выкать, выкают теперь только аристократы…
С невыразимой ненавистью я взглянула на Белланже, чувствуя, что сейчас взорвусь от возмущения.
– Ты, ублюдок! – крикнула я так пронзительно, что у самой зазвенело в ушах. – Подонок, сволочь, дерьмо! Убирайся с дороги!
Может быть, его испугало выражение моего лица. А может быть, он, как всякий трус, побоялся заходить слишком далеко. Вероятно, поначалу он не рассчитывал встретить сопротивление. Он привык считать себя красавцем. Так или иначе, но он посторонился. Бросив на него полный ненависти взгляд, я сошла вниз.
У самой двери я почувствовала, что мне физически необходимо обернуться.
– Скотина! – крикнула я в пролет лестницы. – Грязная свинья! Дубина! Идиот!
Я стукнула дверью так сильно, как только смогла. И во дворе нос к носу столкнулась с Розарио.
Он молча рассматривал мое лицо, и я невольно поднесла руку к виску. В голове до сих пор слегка шумело от удара.
– Кто это сделал? – глухо и спокойно спросил Розарио.
От сдерживаемой ярости, звучавшей в его голосе, мне стало не по себе.
– Белланже, этот подонок, – произнесла я с ненавистью. И тут же поспешно добавила: – Но, Розарио, все уже кончилось, ты должен…
Не дослушав меня, он зашагал к дому. Я бросилась вслед, догнала, схватила за руку.
– Нет, Розарио, только не сейчас, пожалуйста!
Остановившись, он обернулся ко мне:
– А когда же? Этот мерзавец посмел ударить мою сестру. Ты думаешь, я проглочу такое?
– А ты думаешь, мне будет легче, если тебя заберут в тюрьму? Все и так достаточно плохо.
– Он угрожал нам тюрьмой?
Я опустила голову.
– Да. Свидетельство о благонадежности и этот чертов декрет об обращении на «ты», я совсем забыла о нем…
– Тем более с нашим хозяином надо разобраться. Жди меня там, у фонтана.
– Но, Розарио…
– Слушай, что тебе говорят! – гневно крикнул он. – Черт побери! Я скоро вернусь.
Хлопнула входная дверь, и я осталась одна у дома. Честно говоря, от всего этого мне было тошно. Розарио устроит драку, гражданка Белланже, чего доброго, пригласит полицию, чтобы унять потасовку. Розарио был очень высокий и сильный, но ведь и Белланже не малыш… Кроме того, этот мерзавец наверняка донесет на нас в наблюдательный комитет секции – донесет уже за одно мое сопротивление, а поступок брата все усугубит. Разумеется, Белланже помчится в комитет и там, демонстрируя свои синяки, заявит о нападении роялистов на доброго честного патриота. Нам надо съезжать с этой квартиры, и как можно скорее.
От волнения и тревоги меня до костей пробирал холод. А может, не от волнения, а от плохой одежды. Поплотнее запахнув на себе теплую шаль, я сжала зубы, уговаривая себя успокоиться. Холодный осенний ветер продувал насквозь, одета я была явно не по погоде. У меня даже чепца не было, и я ходила простоволосая. Но об этом ли надо думать сейчас?
До меня донеслась грязная брань, крики. А потом словно что-то тяжелое грохнулось оземь. Напряженно прислушиваясь, я замерла. Мне показалось, я слышу проклятия и стоны. Не раздумывая, я бросилась к дому.
Розарио, прихрамывая, вышел из двери и остановил меня.
– Боже, что с тобой? – воскликнула я в ужасе.
– Да что со мной может быть? Все в порядке.
Один глаз у него заплыл, скула была рассечена, губы разбиты.
– Целы ли у тебя зубы, по крайней мере?
– Целы, – буркнул он, направляясь к фонтану.
Я подала ему носовой платок. Он смочил его в воде и приложил к глазу. Потом повернулся ко мне и даже подмигнул. Он никогда не терял своего легкомыслия, этот Розарио.
– Что это был за шум, Розарио? Кто там стонал?
– Белланже, кто же еще.
Словно решившись, он с некоторым смущением произнес:
– Знаешь ли, этот ублюдок случайно упал в пролет лестницы. Кажется, он сломал себе ногу.
Я побледнела. Только этого нам и не хватало! Схватив брата за руку, я гневно крикнула:
– Так чего же ты ждешь? Пока нас не заберут? Бери Аврору и уходим.
Розарио очень выразительно постучал пальцем по лбу.
– Как уходим? Куда? На улицу? Так ведь нам даже одеться не во что. Надо найти новое жилье.
– И долго ли продлятся поиски? – спросила я тоскливо.
– Да я спрошу у приятелей, где можно поселиться. Дня через два мы переедем на новое место.
Он высморкался в мой платок и отдал его мне. Я молча размышляла. С какими приятелями знается Розарио? В нынешнее время иметь приятелей – непростительная неосторожность.
– Но Белланже. Он ведь приведет сюда комиссаров секции. Брат ухмыльнулся.
– Как приведет? В ближайшее время он будет занят только собой, уж ты поверь. Он и с места не может сдвинуться. Ему не до доносов.
Я упрямо покачала головой.
– Одно другому не мешает.
– Ты слишком подозрительна. У него явно сломана нога. На некоторое время я нас обезопасил… Ну, ступай в комнату. Запритесь там с Авророй и ждите меня, я скоро вернусь.
Я вспомнила, что собиралась к гражданину Коффиналю, судье Революционного трибунала. В конце концов, если Розарио полагает, что пока нам ничего не грозит, а Белланже так плох, почему бы не исполнить свое намерение? Мне нужно узнать хоть что-нибудь о Рене.
– Я тоже иду в город, Розарио.
– Куда?
– На рынок, – слукавила я.
Розарио все равно ничего не знал о Рене Клавьере. Да если бы и знал, то мое решение пойти к Коффиналю счел бы безумием.
Мы вышли на улицу Сен-Жак вместе. Я опиралась на руку Розарио, чувствуя, какая она сильная и надежная, и, как я ни старалась настроиться на пессимистический лад, тревога моя все таяла, и я понемногу успокаивалась.
3
Было холодно. Свинцово-черные тучи нависали над городом. Стало накрапывать. Зябко поеживаясь, я плотнее запахнула шаль. Для полного счастья мне не хватало только дождя… Сегодня, вероятно, мой черный день. Приставания Белланже, его драка с Розарио, угроза ареста, и, наконец, дождь. Я искоса поглядела на брата, шедшего рядом. Кажется, утреннее происшествие лишь изрядно позабавило его, и только. Он ничуть не волнуется. Честно говоря, сейчас мне хотелось побыть одной, но Розарио заявил, что берется меня проводить. Возражать было бессмысленно. Не могла же я ему сказать, что наврала насчет рынка, что на самом деле мне нужно на улицу Сен-Жермен-д'Оксерруа, в дом судьи Коффиналя. Не перемолвившись ни словом, мы с братом прошли по Малому мосту и свернули на улицу Сен-Бартелеми.
У одной из винных лавок нам невольно пришлось остановиться. Улицу заполнила большая толпа. Накрапывал дождь, но зеваки явно не обращали внимания на скверную погоду. Я увидела пьяного санкюлота, взобравшегося верхом на осла, покрытого вместо попоны фиолетовой епископской сутаной. Под хвостом у осла болталась книга с золотым тиснением – требник ими Библия, по всей вероятности. Сжимая в руке просфору, санкюлот протянул испуганному лавочнику драгоценную чашу – украденную из церкви чашу для причастия. Лавочник поспешно наполнил ее вином; санкюлот, захлебываясь, выпил его, желая, наверное, довести себя до полной кондиции, а потом, хохоча, сунул ее в морду ослу. Тот отмахнулся, выбив мордой чашу из рук недоумка. Сверкнув золотом, сосуд покатился в пыль. Не долго думая, санкюлот швырнул на землю просфору, протянул грязные руки к небу и, покачиваясь на осле, стал выкрикивать бессвязные фразы из разных молитв, добавляя в конце каждой нецензурную брань. Толпа хохотала. Набожные старухи тайком крестились и спешили поскорее уйти.
Процессия патриотов-дехристианистов поплелась вверх по улице Сен-Бартелеми…
– Ну как? – проговорила я, глядя на Розарио.
Эти люди всегда вызывали у меня омерзение, я свыклась с этим чувством. Только что увиденная сценка не была чем-то новым, необычным. Давно уже уничтожены воскресенья, дни особых богослужений, праздники святых. Комиссары Конвента грабили в департаментах церкви и целые ящики награбленного приносили во Дворец равенства. Церковная утварь отправлялась на чеканку монет. Повсюду звучали требования заменить Бога священников Богом санкюлотов и ввести культ Разума, Свободы или Иисуса в красном колпаке. А совсем недавно сам епископ Парижа Гобель вместе с другими священниками явились в Конвент и публично отреклись от сана, а вместо митры нацепили красные колпаки. Именно сегодня в Соборе Парижской Богоматери устраивалось «богослужение». На алтаре богиня Свободы, певичка из Оперы, пела гимн в честь Разума. Его, видимо, представляли здесь Конвент и Коммуна в полном составе.
Церкви в Париже были закрыты и разграблены. Вчера я сама видела, как снимались колокола с монастыря святого Бенуа. А как же колокола нынче тоже нужны Республике, из них будут отлиты пушки. Пылали костры на улицах – там сжигались книги и священные реликвии, бережно хранившиеся в течение столетий. Была брошена в огонь рубашка святого Людовика, взломана и сожжена рака святой Женевьевы. В Сен-Дени добрые патриоты разрывали могилы и грабили их. Коммуна постановила что всякий, кто потребует возобновления богослужений, будет арестован как подозрительный.
Я никогда не была особо религиозной. В Версале в Бога не верил никто, соблюдались лишь внешние признаки веры – мессы, причастия. Но мне бы и в голову никогда не пришло запрещать кому-либо верить или молиться. Видимо, во Франции стали очень своеобразно понимать Разум, раз все преходящее объявляется царством Свободы.
– Не думай об этом, – пробормотал Розарио, выводя меня из толпы зевак.
Мы шли по мосту Менье. Нас опередили две бедно одетые женщины средних лет. Ветер донес обрывок их разговора.
– Пока дойдешь до церкви святого Евстахия, башмаки прохудятся.
– Да, но зато по случаю праздника там бесплатно угощают колбасой и вином. Мои дети уже забыли, что это такое.
Я невольно усмехнулась. Поистине Революция осчастливила всех.
На улице Бетизи мы с Розарио расстались. Брат отправился искать жилье и свернул в ближайший переулок. Я облегченно вздохнула. Если бы Розарио решил проводить меня еще немного, мне, пожалуй, пришлось бы отказаться от идеи навестить сегодня Коффиналя.
Длинная улица Сен-Жермен-л'Оксерруа простиралась передо мной. Увидев на грязной облупленной стене одного из домов цифру семь, я взяла молоток и постучалась. Ниже цифры корявым почерком было выведено: «На погибель тиранам в этом доме сдали полагающуюся порцию селитры». Черт побери, очень приятно было об этом узнать.
Дверь мне открыла неопрятная старуха в порванном на рукаве платье и грязном плиссированном чепце с революционной кокардой.
– Тебе кого? – не слишком любезно осведомилась она.
– Я хочу видеть гражданина Коффиналя.
– Первый этаж, вторая комната налево, – проговорила старуха, явно потеряв ко мне всякий интерес. Просителей, подобных мне, здесь, вероятно, было много.
Набравшись смелости, я подошла к указанной двери и громко постучала.
– Кого это еще черти несут?!
Я громко и решительно постучала снова.
Послышались тяжелые шаги, и дверь распахнулась. На пороге стоял грузный, большой мужчина в какой-то поношенной кацавейке, панталонах и спущенных чулках; лицо его было некрасивым и отталкивающим, волосы заплетены в старомодную косицу. Не то чтобы он был урод, но в его внешности было что-то отвратительное: толстый мясистый нос, толстые губы, брови, сросшиеся на переносице… Если внешность говорит о характере, то Коффиналь вряд ли захочет мне помочь.
– Ну, входи, что ли, – бросил он, внимательно рассматривая меня серыми мутными глазами.
«Нет, это слишком кошмарно, – подумала я в ужасе. – Я ни за что не стану спать с этим дубиной…»
И все-таки я вошла. В небольшой комнате был тяжелый запах. На столе, заваленном бумагами, стояла початая бутылка вина. На старом кресле прохудилась обивка. Голые мрачные стены, бюст Бенжамена Франклина на подоконнике, незастланная узкая кровать в углу, занавески грязно-горчичного цвета, скомканные изорванные бумаги на полу, – неприкрытая бедность, пыль и запустение. Этот Коффиналь – большой неряха. Пожалуй, комната, предоставленная нам Белланже, выглядела привлекательней.
– Что тебе от меня надо? – без предисловий начал Коффиналь, обращаясь ко мне грубо, небрежно и резко.
– Я… я бы хотела узнать о судьбе одного человека.
Судья смотрел на меня внимательно и слегка насмешливо, нисколько не пытаясь помочь мне изложить суть дела. Я заговорила снова.
– Этот человек, он уже давно арестован, с прошлого февраля… Я до сих пор не смогла выяснить, в чем же его вина и что ему грозит. Я даже не знаю, в какой тюрьме он находится.
Коффиналь молчал, и мои слова казались мне самой наивными и беспомощными. Тяжело вздохнув, я преодолела робость и отвращение, охватившие меня.
– Мне сказали, что вы… что ты, – мысленно выругав себя, тут же поправилась я, – что ты сможешь помочь мне, гражданин судья.
Заметив мою оплошность, он как-то криво улыбнулся, но ничего не сказал.
От этой его улыбки мне стало не по себе. Молчание затягивалось, и я не знала, что прибавить к уже сказанному. Не сводя с меня глаз, Коффиналь все так же молча опустился в кресло. Мне сесть было не предложено, и я осталась стоять. Тишина становилась нестерпимой, пауза затягивалась. Я попросту не понимала, чего еще ожидает от меня этот странный человек, и в мыслях проклинала его на чем свет стоит.
– Так что же, это все? – наконец заговорил он.
– Да, – сдавлено отвечала я.
– Тебя направили по адресу. Я могу помочь тебе.
Помолчав, он добавил:
– Ну, а могу и не помочь. Все будет зависеть только от тебя. От твоего поведения… Иногда я могу сделать так, чтобы справедливость восторжествовала.
Он говорил очень равнодушно и смотрел на меня тусклыми глазами. Я поняла, что его уже давно не трогают ни слезы, ни мольбы, ни чужое горе. Вероятно, он каждый день видел у себя дома десятки отчаявшихся, убитых горем женщин, приходивших просить за своих мужей, сыновей, братьев. Его ощущения притупились, чужая боль не производила никакого впечатления.
– Как фамилия арестованного?
– Клавьер. Рене Клавьер, – сказала я поспешно.
Брови Коффиналя поползли вверх.
– Клавьер? Сынок того самого собаки-жирондиста, спекулянт и мошенник? Это важная птица, ты это понимаешь, гражданка?
Коффиналь бросил на меня такой взгляд, что мне стало тошно. Если я выберусь из этого дома подобру-поздорову, можно будет считать, что мне необычайно повезло…
– А кем ты сама приходишься этому врагу народа? Ты родственница? Тут была уже целая дюжина его родственниц.
Я почувствовала, как у меня по спине пробежали мурашки. Он считал меня любовницей Рене, без сомнения, и полагал, что это позволяет относиться ко мне как к уличной девке.
– Нет, – сказала я почти резко. – Я просто знакомая.
– Знакомая! – ухмыльнулся судья. – Ну, твое счастье!
Пристальным тяжелым взглядом он окинул меня с ног до головы.
– Пожалуй, я помогу тебе. Раздевайся.
Пораженная, я смотрела на него. Что он себе позволяет?
Даже граф д'Артуа не смел со мной так разговаривать. Впрочем, о чем я думаю?.. Тут не может быть никакого сравнения, об этом свирепом недоумке нельзя даже подумать как о мужчине. Мгновение спустя я опомнилась, понимая, что нахожусь во власти прежних представлений. Нынче Коффиналь – царь и Бог. От него зависит, узнаю ли я что-нибудь о Рене…
Заметив мой гнев и растерянность, он грубо и нетерпеливо прикрикнул:
– Ну, что стоишь, раздевайся! Здесь не занимаются благотворительностью. За все надо платить. Полчаса удовольствий, и ты получишь желаемые сведения, хотя, надо сказать, это не спасет твоего дружка от гильотины.
Сама не зная, что делаю, я машинально сбросила шаль. Ступая тяжело и грузно, Коффиналь приблизился ко мне; я увидела слипшиеся пряди волос у него на лбу. Мгновенно у меня в голове проснулась мысль, что совершаю глупость. Руки Коффиналя обхватили меня за талию и, рванув меня к себе, он жадно припал губами к моей шее. Дрожа от отвращения, я буквально вырвалась из его рук. Это было чисто физическое движение; как я ни хотела пересилить себя, не могла не отшатнуться. Мое тело, мое достоинство, я сама слишком ценны, чтобы принадлежать этому субъекту. Но как быть с Рене?..
Некоторое время Коффиналь молчал. Его злобный взгляд свидетельствовал, как сильно его задело мое слишком явно выраженное отвращение. Этот ублюдок был глубоко оскорблен моим поступком. Когда же он наконец заговорил, его голос был вкрадчив и тих, но это встревожило меня еще больше. Уж лучше бы он кричал.
– Захотелось поломаться, крошка? Никто не собирается тебя принуждать. Ты пришла сюда совершенно добровольно, и мне кажется, ты знала, чем тебе придется заплатить за информацию. Денег же у тебя нет, правда?
Отхлебнув из стоявшей на столе бутылки, он продолжил хриплым злым голосом:
– Такие, как ты, ходят ко мне десятками; и все, черт побери, просят за преступников. Только успевай выбирать. Ты, может быть, чуть лучше других, но это еще не оплачивает той огромной услуги, которую я могу тебе оказать.
Выслушав все это, я еще больше убедилась в том, что мне не следует соглашаться. Бывают вещи, которые выше моих сил. Коффиналь прав только в одном: меня предупреждали, чем придется расплачиваться за его услуги. Честно говоря, я втайне надеялась, что он окажется не таким отвратительным, грубым и циничным. И ошиблась. Не стоит идти на такое ради каких-то сведений, пусть даже это сведения о Рене. Ему не станет ни капли легче, если я юс раздобуду, тем более такой ценой. Решившись, я почувствовала себя гораздо уверенней. Исчезли все сомнения.
Я медленно подняла упавшую шаль.
– Нет, мне это не подходит, гражданин судья.
Он побагровел и закусил губу. Вероятно, он уже был настроен на удовольствия и полагал, что мне не из чего выбирать.
– Ты шутки со мной вздумала шутить? Да ты же, стерва, вылитая аристократка, – ты посмела явиться в мой дом!
Схватив бутылку, он указал мне ею на дверь.
– Ну-ка, проваливай отсюда! И попробуй только еще раз появиться здесь. Смотри-ка, за такие шутки ты поплатишься собственной головой.
Я ушла. Этот недоумок способен бросить в меня бутылкой, а устраивать скандал и привлекать к себе внимание я была не расположена. На улице я с облегчением вдохнула холодный воздух. Мне всерьез показалось, что я из какой-то вонючей, затхлой дыры выбралась наконец на свет.
Было безумием приходить сюда. Я ничего не узнала о Клавьере, но чувствовала себя легче, чем если бы узнала что-то такой ценой. Никто не заставит меня унизиться. Видит Бог, единственное, что я еще сохранила, – это достоинство.
Обойдя большую лужу, я завернула за угол. Нужно было еще зайти на рынок, купить чего-то тс ужину, а дорогой поразмышлять над тем, что мне делать дальше относительно Рене.
4
Из лабиринта мелких улочек я вышла на широкую красивую улицу Сент-Оноре и, поливаемая мелким надоедливым дождем, пошла дальше, по направлению к Пале-Роялю – ныне Пале-Эгалите.[7]
По этой улице везли в телеге осужденных. Это был обычный путь для осужденных на казнь. Гильотина стояла на площади Революции – бывшей площади Людовика XV. Свою смерть на эшафоте за последние десять дней нашла Манон Ролан, королева Жиронды, патетически воскликнув в последнюю минуту: «О, Свобода, сколько преступлений совершается во имя твое!» Эта женщина приложила свою руку к тому, чтобы ниспровергнуть Старый порядок, а в Новом получила в награду смертный приговор. Был казнен герцог Филипп Орлеанский, взявший себе новое имя – Эгалите и голосовавший в Конвенте за казнь своего кузена Людовика XVI. Он ненадолго пережил своего родственника. Два дня назад была обезглавлена Жанна Дюбарри, прелестная, еще молодая женщина. Ее преступление состояло в том, что она явилась предметом последней страсти давно скончавшегося Луи XV.
Нынче на телеге я увидела старика лет семидесяти – худого, долговязого, высохшего. Это был талантливый ученый, астроном, академик, герой 1789 года, революционер и первый мэр Парижа. Это он стоял у начала Революции. Я узнала его, Сильвен Байн. Мелкая дрожь пробегала по его телу.
– Ты дрожишь, Байн! – крикнул ему кто-то из толпы.
– Это от холода, друг мой, – невозмутимо ответил тот.
«О чем он думал, когда этот кошмар еще только начинался?» – мелькнула у меня мысль.
Я пошла дальше, прижимая к груди драгоценный кусок мыла, четверть фунта масла с непонятными добавками и несколько яиц. Каким-то чудом мне удалось купить это на Центральном рынке – вернее, первой выхватить продукты из рук крестьянина, пока его не растерзали изголодавшиеся женщины. Я была почти счастлива, получив это. Можно будет прибавить к неизменным каштанам еще кое-что.
Сама не зная зачем, я повернула к галереям Пале-Рояля. Там все так же наряжали в сутаны ослов и потешались над религией, сжигали книги и объявляли о пробуждении французов от сна вековых предрассудков, не замечая, что в своем неистовом отрицании демонстрируют уже даже не предрассудки, а фанатизм. Проституток в Пале-Рояле стало меньше – их преследовала революционная полиция. Мэр Парижа питал патологическую ненависть к несчастным уличным нимфам. Но я все же заметила одну из них – в трехцветной кокарде на довольно кокетливом плиссированном чепчике, в подоткнутой с одной стороны юбке и легкой шали, наброшенной на плечи. Она дрожала от холода. Какой-то мужчина поспешно отсчитывал ей деньги.
Не знаю, что заставило меня насторожиться и пойти за этой женщиной. Это трогательное простодушное личико с невероятным для такого занятия выражением невинности, тонкий, чуть вздернутый нос, выбившиеся из-под чепчика русые кудри… Она шла, плотнее запахивая шаль и спотыкаясь. Не сознавая, что делаю, я произнесла:
– Дениза!
Это была Дениза, одна из моих горничных, лучше всех умевшая крахмалить нижнее белье, Дениза, вышедшая замуж за нашего лакея Арсена Эрбо и получившая от меня в качестве свадебного подарка две тысячи ливров ренты. Ей было столько же лет, сколько и мне. Она одевала меня к первому балу, она была нужна мне больше, чем все остальные служанки. Когда мой дом был секвестрирован Коммуной, а я стала бедна, я отказалась от услуг Денизы и ее мужа.
– Что еще такое? – произнесла она удивленно, явно не узнавая меня.
Заученным движением она сунула полученные деньги за корсаж и покачивающейся походкой подошла ко мне. Я успела пожалеть о своем поступке. Что чувствует ко мне эта женщина? Ей ничего не стоит крикнуть на весь Пале-Рояль мое имя! Но ведь так невыносимо было бы не узнать ее, пройти мимо.
– Пресвятая и пречистая! – прошептала она. – Да неужели это вы, мадам?
Выглядела она почти жалко, хотя одета была, как и все представительницы этой профессии, даже кокетливо. Я вспомнила, что и сама выгляжу не лучше: вероятно, почти как нищая.
– Как же это так случилось, что вы не уехали, мадам?
Это давно забытое «мадам» разбередило зажившую рану, напомнило те времена, когда у меня был прекрасный дом на площади Карусель, достаток и спокойствие. Я невесело усмехнулась.
– Слишком долгая история, Дениза, я не успею ее рассказать.
– А я слышала о том, что вас разыскивают, – простодушно призналась она. – Я даже видела, что за вас обещают десять тысяч ливров золотом, но я думала, что вы давно за границей.
Ей, голодной и опустившейся, десять тысяч были бы весьма кстати. Но даже мысль о том, чтобы выдать меня, не посетила Денизу. Что-то перевернулось у меня в душе. Ступив шаг вперед, я порывисто привлекла ее к себе, обняла и поцеловала, задыхаясь от непролитых слез, подступивших к горлу.
Она взглянула на меня, и я ясно прочитала в ее глазах и радость, и отчаяние. Чуть не плача, Дениза заговорила быстро и поспешно, словно считала нужным в чем-то оправдаться передо мной:
– Арсена забрали в армию, вот уже три месяца о нем ничего не слышно. Вероятно, его убили на войне. А у меня две дочери, самой младшей, Аполлине, всего полгода. Чем я могу их кормить, если у меня даже молока нет? Пособие от Республики я получаю только на словах… Вы же знаете, я всегда была доброй католичкой, я никогда бы не пошла на такое, если бы… Вы не осуждаете меня?
– Боже мой, о чем вы говорите?! – прошептала я.
Она всхлипнула и совсем по-детски смахнула слезы с ресниц.
– Работы нигде не найти. Кому сейчас нужны служанки? Все нынче прячут свое богатство. А у меня иного ремесла нет. Не думайте, что мне легко. Нынче Коммуна преследует всех бедных девушек. Вчера арестовали Лулу и Аманду, я с ними была знакома…
Да, девицы из Пале-Рояля были неважные патриотки. Нынешние порядки сделали их жизнь слишком тягостной, и они не скрывали своей ностальгии по старым временам, когда аристократы щедро им платили и обращались с ними галантно-снисходительно. Уличных нимф то и дело арестовывали то за скрытый роялизм, то за развращение патриотов, и это, разумеется, не могло им нравиться.
С лихорадочной поспешностью я порылась в кармане и сунула Денизе все, что у меня было, – три ливра четыре су. Она вспыхнула.
– Нет-нет, мадам, не надо! Я не возьму. Я взрослая, я сумею заработать…
– О, пожалуйста, – прошептала я. – Хотя бы ради ваших дочерей, Дениза! Вы купите им молока.
Я зажала монеты у нее в ладони, чувствуя, как ослабло ее сопротивление.
– Я верну вам, мадам, – проговорила она шепотом.
– Нет, мне ничего не нужно. Во имя нашего знакомства, Дениза, не возвращайте мне долг.
Я не могла назвать наши былые отношения дружбой и сказала «знакомство». Возможно, я слишком поздно научилась ценить друзей. А может быть, Революция просто нас уравняла. Раньше дружба между принцессой и служанкой была невозможна. А сейчас несчастье сделало нас просто женщинами.
– На эти деньги я отправлю письмо генералу Дюгомье, чтобы он сообщил мне что-то о муже, – сказала Дениза. – Спасибо вам, мадам. Сейчас у всех трудные времена…
Я вздохнула, сознавая, что мне надо спешить домой.
– Вы уходите? – спросила она.
– Да. Меня ждут… Простите меня, Дениза.
Мгновение она внимательно смотрела на меня, словно не решаясь высказаться, а потом, решившись, подалась ко мне и горячо прошептала:
– Ради Бога, мадам, не делайте больше так ни с кем, как со мной! Если увидите кого-то из своей бывшей прислуги, проходите мимо да старайтесь, чтобы они вас не заметили. Будьте осторожны, мадам. Десять тысяч – это огромный соблазн. И не все из ваших служанок и лакеев – святые. Держитесь от них подальше и ни с кем не заговаривайте… Вы даже не знаете, как это опасно.
Я благодарно пожала ей руку, сознавая, что Дениза права. Я буду более осторожна.
Я ушла, чувствуя, что эта встреча взволновала меня до того, что я вряд ли усну нынешней ночью.
5
Сняв передник, я села к столу. По нынешним понятиям, ужин был просто превосходный: вдобавок к всегдашним давно надоевшим каштанам я поджарила на масле яичницу. А затем, увидев, как жадно смотрит на еду не евшая толком с утра Аврора, решила дополнить роскошный ужин ломтиками маисового хлеба, намазанными тонким слоем масла.
– Разве сегодня праздник, мама?
Аврора, наблюдая за всем этим, явно была поражена.
– Конечно. А ты разве не знала? – ответил за меня Розарио.
– Нет. А какой?
– Завтра мы уходим из этого дома. Я нашел нам новую квартиру.
Я внимательно взглянула на брата.
– Это правда, Розарио? Тебе действительно удалось так скоро…
Он не разбавлял вино водой, как я того требовала, а сразу пил из стакана – стало быть, у него были причины для этого.
– Да. Все возможно, если знаешь нужных людей. Мы будем жить на улице Аббасьяль, я уже договорился с хозяином. Завтра утром квартира освободится.
– Скорее бы, – проговорила я шепотом.
Честно говоря, я не представляла себе, что это за улица такая – Аббасьяль и в каком квартале она находится. В сущности, это не имеет значения. Только бы побыстрее убраться из пансиона четы Белланже. Было нечто, что меня настораживало. Я полагала, что гражданка Белланже немедленно явится и выставит нас на улицу уже сегодня вечером. Но ничего подобного не произошло. Когда я шла по лестнице, она даже не осыпала меня проклятиями. Она меня вообще не заметила… Впрочем, к чему волноваться? Завтра на рассвете нас уже здесь не будет.
Некоторое время мы молча ели, не глядя друг на друга. Розарио закончил первым и, проявляя явное нетерпение, подошел к окну. Я поняла смысл этого движения: с минуты на минуту должна появиться Лора.
Закончив есть, я поторопила Аврору:
– Скорее, девочка. Нам пора идти.
Она подняла голову от тарелки.
– Идти? Но куда? Уже так поздно! Я хочу спать, а не идти!
– Сегодня мы переночуем у дяди Джакомо.
– Но почему? – жалобно спросила Аврора. – На улице почти темно! Почему мы должны уходить, объясни!
Я стояла, не зная, что бы такое выдумать. Аврора отложила вилку и обиженно поджала губы.
– Сначала вы говорите о каком-то празднике, который вовсе не праздник, и радуетесь, что нам завтра переезжать…
– А разве ты не рада? – спросила я, убирая со стола посуду.
– Нет, – отрезала Аврора. – Мне здесь было неплохо. И дядя Белланже подарил мне вафли с кремом. Почему мы должны уехать?
– Потому, что добрый дядя Белланже решил донести на нас в полицию, – сердито сказал Розарио, стоя у окна. – Ступай, поблагодари его на прощанье!
Аврора повернулась ко мне.
– Это правда, мама?
– Да, Аврора, – сказала я как можно спокойнее. – Если мы завтра не уйдем отсюда, нас всех арестуют.
– Из-за того, что Розарио избил Белланже?
– Нет. Розарио избил его, потому что Белланже ударил меня.
Аврора замолчала. Я не говорила ей всего и ничего подробно не объясняла, но подозревала, что она понимает гораздо больше, чем я, возможно, догадываюсь.
– Вам пора уходить, – не слишком любезно напомнил брат. Пока Аврора доедала ужин, я успела обуться. У кого-то в комнате часы очень громко пробили шесть вечера. На улице уже темнело. Как все-таки некстати Розарио вздумал встретиться с Лаурой…
Завязывая на голове Авроры косынку, я подала ей потертый плащ с капюшоном – подарок папаши Бретвиля. Аврора одевалась неохотно, то и дело посматривая на меня.
– Мы больше сюда не вернемся? – спросила она.
Я вопросительно взглянула на Розарио. Он качал головой.
– Нет. Не вернемся. Зачем нам лишний риск? Вы отправитесь прямо на новую квартиру. А в случае опасности мне будет нетрудно ускользнуть одному.
Несносная Аврора не преминула полюбопытствовать:
– А почему ты не идешь с нами?
– Видишь ли, малышка, я жду гостей.
– Знаю! – заявила она. – Лоретту! И это почти каждый день…
– Хватит разглагольствовать, – прервала я ее. – Уже темнеет, а нам еще идти Бог знает куда. И надень, пожалуйста, капюшон.
– Ну, это уже слишком! – возмутилась Аврора. – И косынку, и капюшон.
– Розарио, – сдерживаясь, сказала я, – взгляни, не идет ли дождь?
Я очень устала за сегодняшний день, и капризничанье Авроры немного меня раздражало. Неужели будет лучше, если она простудится?
– Дождя нет, – весело сказал Розарио. – Но пасмурно. Я думаю, что…
Лицо его исказилось.
– О, черт! – воскликнул он, отшатнувшись от окна.
Насторожившись, я смотрела на него, не догадываясь, что было причиной его возгласа. Обернувшись, Розарио сделал нам быстрый непонятный знак, словно показывал на чердак.
– Что случилось? – проговорила я настороженно.
– Сюда идет полиция.
У меня опустились руки. Одно это слово способно было парализовать меня. Ничего на свете я так не боялась, как революционных патрулей и парижской полиции. Она преследовала меня даже в страшных снах.
– Ну, черт побери! Я же сказал вам! Поднимайтесь на чердак!
Выскочив на лестничную площадку, он с лихорадочной поспешностью принялся устанавливать лестницу.
– Но что будет с тобой? – прошептала я.
– У нас нет времени на разговоры, Ритта. Через минуту они будут здесь. Я заметил их у винной лавки.
Он подтолкнул Аврору в спину. Как во сне, я видела, что девочка взбирается по лестнице. Вскоре в отверстии чердака показалось ее бледное недовольное личико.
– Поднимайся, Ритта, черт возьми! Я уберу за тобой лестницу.
– Разве я могу бросить тебя?
Превозмогая охвативший меня панический страх, я проговорила:
– Ты же мой брат. Я никуда не пойду без тебя. Может, в конце концов, полиция вовсе не к нам…
Розарио криво усмехнулся.
– Не будь дурой, – жестко оборвал он меня. – Они за мной пришли, и ты это знаешь. Эх, жаль, что я этому Белланже шею не сломал… Ну, что ты стоишь, как столб? Тысяча чертей! Мне только уговаривать тебя не хватало!
Внизу уже хлопнула дверь. У меня сжалось сердце. Схватив Розарио за руку и не обращая внимания на то, что он пытается вытолкнуть меня из комнаты, я отчаянно зашептала:
– Поднимаемся вместе! Втащим за собой лестницу! Ведь они не знают, что мы дома!
Он покачал головой.
– Толстуха Белланже видела, как я возвращался. Они станут искать меня, полезут на чердак.
– Ну и пусть! Зато мы будем вместе!
– Отлично! Ну и чушь ты порешь, дорогая! Неужели ты думаешь, что мне будет легче, если тебя с твоей девчонкой заберут вместе со мной!
Он снова подтолкнул меня. Не находя больше доводов и понимая, что он не даст себя уговорить, я взобралась по лестнице. На самом верху я остановилась, чтобы еще раз взглянуть на брата. Горло у меня сжимали спазмы – и от страха, и от боли одновременно.
– Предупредишь Лору! – шепотом приказал Розарио. – Ясно?
Я кивнула, поднимаясь на ноги. В ту же секунду Розарио убрал лестницу. Я увидела, как аккуратно он прикрыл дверь, и слышала веселый романс, который он насвистывал.
На чердаке было темно и пыльно. Аврора зажимала себе нос, чтобы не чихать. Небольшое слуховое окно, выходящее на задний двор, было чуть приоткрыто. Я поежилась. Холодно здесь было, как на улице.
– Вот подлец этот Белланже, я ему в рожу плюну! – прошептала Аврора, прижимаясь ко мне.
Я обняла ее, машинально отметив, какие слова появились в ее лексиконе: наверняка вследствие общения с соседскими девчонками. Я тут же отогнала эти до нелепости несвоевременные мысли. Тревога и страх так завладели мной, что я боялась дышать. Отсюда, где мы сидели, можно было видеть полицейского пристава с гвардейцами. Пристав постучал в нашу дверь. Вне себя от ужаса, я закрыла лицо руками.
– Именем Республики, откройте!
Розарио не спешил. Да и вообще он всегда ходил неторопливо, чуть вразвалку.
– Кто это?
– Открывай, полиция!
Прижимая к себе Аврору, я медленно и бесшумно стала отползать от отверстия.
– Гражданин Фромантен? – спросил пристав.
– Да, это я.
– Твои жена и дочь?
– Они уехали в Алансон, к моей матери.
– Назови адрес.
Розарио медленно произнес какой-то несуществующий адрес в Алансоне; пристав выслушал все это, но ничего больше не сказал. Я видела, что позади гвардейцев к косяку прислонилась грузная гражданка Белланже, и у меня больше не было ни малейших сомнений: это она донесла на нас, по своей воле или но воле супруга – это не важно. Но донесла именно она. Следует это запомнить…
– Покажи свидетельство о благонадежности!
– Оно у нашего хозяина, – невозмутимо отвечал брат. – Тут находится гражданка Белланже, она все об этом знает.
– Ничего не знаю! – гневно заявила гражданка Белланже. – Да мы и в глаза не видели его свидетельства! Гражданин жандарм, ты только взгляни на него: сразу ясно, что он подозрительный!
Розарио, как ни в чем не бывало, стоял на своем и лишь слегка усмехнулся.
– Как же это ты не видела нашего свидетельства, гражданка? Не говори так опрометчиво. Мы отдали его твоему супругу сразу же, едва приехали. Да и не могли же вы принять нас без свидетельства! Вас тогда следовало бы арестовать за укрывательство подозрительных. Ведь в законе ясно сказано…
– Ты нам голову не морочь, – грубо прервал брата пристав. – Не хватало еще, чтоб такие, как ты, нам законы трактовали. Что скажешь, гражданка? – обратился он к хозяйке. – Видела ты свидетельство Фромантена или нет?
– Не помню, – с усилием проговорила она. – Может быть, мне его и показывали. Но я его сразу им отдала, сразу!
– Темнишь ты что-то, гражданка! Смотри, мы и тобой, и твоим мужем займемся. Устроили тут притон для подозрительных! – разгневанно произнес жандарм. – Ну-ка, гражданин, собирайся! Ты арестован.
– Прекрасно. Может, позволите узнать за что?
– За то, что ты подозрительный.
– И это все?
– Да. Таков порядок.
Я была так поглощена происходившим в комнате, что не сразу услышала легкий стук каблуков по каменным ступеням лестницы. Жандармы сразу обратили на это внимание. Пристав махнул рукой, и двое его помощников тут же выбежали на лестничную площадку. Я осторожно выглянула в отверстие.
– Так ты говоришь, твои жена и дочь в Алансоне? – едко и злорадно спросил пристав.
Розарио молча пожал плечами. Держался он уверенно и спокойно – до тех пор, пока не донеслись те звуки легких шагов. В его тревожном взгляде, брошенном вслед вышедшим жандармам, ясно читалось напряжение. В ту же минуту на пятый этаж поднялась Лаура и оказалась в объятиях жандармов. Увидев Розарио, она замерла, не сопротивляясь, словно была поражена произошедшим. Розарио вздрогнул. Я видела, как судорожно сжались в кулаки его руки.
– Почему меня держат? – осведомилась Лаура на своем плохом французском.
– Как я полагаю, передо мной гражданка Жюльетта Фромантен? – растягивая слова, осведомился пристав.
Камилла Белланже поспешила вмешаться.
– Нет, гражданин. Это его любовница. Она часто сюда приходит…
Будто угадав, что эта толстуха – виновница всего происходящего, Лаура повернула к ней живое энергичное лицо и вылила на хозяйку целый поток брани – она назвала ее толстой сукой, стервой, гадюкой, вшивой кобалой – словом, она высказала все, что есть в лексиконе прачек, и говорила бы дальше, если бы жандарм не прервал ее громовым окриком:
– Молчать!
Замолчав, Лаура принялась так вырываться из рук жандармов, что пристав знаком велел им отпустить девушку.
– Как тебя зовут? – сурово осведомился он.
– Лора меня зовут. Лора Антонелли.
– А кем ты приходишься этому гражданину?
Пристав весьма небрежно кивнул в сторону Розарио.
– Я – его подруга, – дрожа от негодования, произнесла Лаура. – Мы часто встречаемся.
Пристав был явно разочарован.
– Ты свободна, гражданка Антонелли. Но в следующий раз не вздумай так ругаться, не то я арестую тебя!
Лаура взглянула на Розарио и ступила шаг вперед.
– А что будет с гражданином Фромантеном? – спросила она почти угрожающе.
– Он арестован.
Эти слова явно привели Лауру в ярость, но, запнувшись, она сдержала себя и заговорила спокойно, вкрадчиво и угрожающе одновременно:
– Арестован? Но почему? Не могу взять в толк. Он такой хороший, добрый. Он никому не сделал зла и всегда любил Республику. Это, должно быть, ошибка?
– Выйди, гражданка, – раздраженно прервал ее пристав. – Радуйся лучше, что тебя отпускают, и не мешай нам осуществлять правосудие.
Но Лауру было уже не остановить.
– За что ты арестовываешь его, ты, постная рожа? Рогоносец! Кто тебя научил арестовывать добрых людей?
– Лоретта! – взмолился Розарио. – Уходи отсюда, пока тебя отпускают! И ради Бога, ни слова больше!
– Ни слова?! Да кто же им скажет правду, как не я? Подбоченившись, она повернулась к приставу, который явно опешил от такого напора.
– Отпусти этого гражданина немедленно, вшивый ты пес! Да как ты смеешь трогать бедных и невинных людей? Чем он виновен, ну-ка скажи?
– Выведите отсюда эту дуру! – в бешенстве заорал пристав. – Ее место в сумасшедшем доме!
Грубо схватив Лауру за руки, солдаты поволокли ее к двери. Она сопротивлялась, пытаясь освободиться, а потом изловчившись, укусила одного из них за палец. Он вскрикнул, отдергивая руку, и Лаура в одно мгновение оказалась на свободе. Чепец упал с ее головы, чудесные рыжие волосы рассыпались по плечам, милое живое лицо пылало гневом. Повернувшись лицом к жандарму, она в каком-то исступлении, хрипло и яростно выкрикнула:
– Да здравствует король! Да здравствует король!
6
Стало очень тихо. Казалось, в этой тишине еще слышны отзвуки звонкого голоса Лоры. Пораженные, жандармы смотрели на нее. Все слышали эти роковые слова, но не все могли сразу в это поверить.
Пристав злорадно крякнул, заложив руки за спину:
– Ну что ж! – сказал он. – Гражданка Антонелли, ты арестована за измену Республике и роялизм.
Я пораженно замерла в своем укрытии. Они арестуют ее! Да неужели им не ясно, что она крикнула «Да здравствует король!» лишь из простого протеста, из несогласия с тем, что происходит, из детского желания сделать все наперекор, а вовсе не из симпатий к королю, которого она даже не видела никогда! А Лаура? Она-то разве не понимала, что ее ждет после подобного высказывания?! По понятиям нынешних блюстителей законности, она совершила страшное преступление, достаточным наказанием за которое может быть только смерть.
– Сволочи! – разъяренно крикнул Розарио, отчаянно пытаясь вырваться из рук жандармов. – Банда мерзавцев – и вы, и ваш Конвент!
– Мы это запомним, – пообещал жандарм. – Уведите арестованных! А за квартирой мы установим наблюдение… Мы подкараулим его жену и дочь! Рано или поздно они вернутся из Алансона, если вообще туда ездили…
Я видела, как жандармы повели вниз Розарио и Лауру. Они шли спокойно, не сопротивляясь, и рука маленькой венецианки лежала в руке брата. Их шаги постепенно затихали, а потом хлопнула входная дверь. Этот звук острой болью отозвался у меня в сердце.
Толстому, дородному приставу вовсе не хотелось взбираться по лестнице и лезть на чердак. Он махнул рукой.
– Эй, гражданка! Принеси-ка мне винца. Я буду целую ночь твоих жильцов караулить…
Нам с Авророй назад дороги не было, это я поняла. Пристав удобно расположился в кресле, с трудом стащил с ног сапоги. Я стала бесшумно отползать от отверстия. Следует как можно скорее убраться из этого проклятого дома… Я готова была спрыгнуть с пятого этажа, лишь бы не попасть в руки полиции.
В конце концов, я нужна Розарио. Я приложу все силы, чтобы его спасти…
Осторожно, задерживая дыхание, я пошире распахнула слуховое окно и знаком подозвала Аврору. Чердак выходил во внутренний двор, так что с улицы нас не могли заметить. Я быстро оценила обстановку. Аврора, слышавшая о намерениях жандарма, все понимала с полуслова и не разговаривала, изредка зажимая нос, чтобы не чихнуть. Я еще раз выглянула в окно, призывая на помощь все свое мужество.
Мое намерение, да еще принимая во внимание пятый этаж, было крайне опасным и рискованным. У нас не было опыта подобных трюков… Но, с другой стороны, мы никак не можем сидеть здесь и дожидаться, пока жандармы доберутся до нас.
Был только один выход – через чердак.
С трудом протиснувшись сквозь узкое окно, я нащупала ногами карниз. Шел мелкий осенний дождь. Небо было темное, без единой звездочки, и лишь на мгновение сквозь мрак проглядывала луна и снова пряталась за тучами. Я с дрожью подумала, что это нам на руку… Поддерживая Аврору, я помогла ей выбраться, и мы с огромной осторожностью, но без особого труда перебрались на крышу соседнего дома, стараясь, разумеется, не смотреть вниз. Спасибо Генриху IV – в его царствование застройка велась так тесно, что крыши домов зачастую соприкасались…
Ноги скользили и разъезжались на мокрой от дождя черепице, холодные брызги летели мне в лицо. С трудом удерживаясь на покатой крыше, я свободной рукой поддерживала Аврору. Пару раз нога девочки соскальзывала, и тогда мне приходилось напрягать все свои силы, чтобы удержать ее. Добравшись наконец до карниза, я приказала Авроре остаться на крыше, а сама осторожно заглянула в окно – в некоторых домах хозяева сдавали и чердак. Убедившись, что там никого нет, я с силой потянула раму к себе, но окно, видимо, было заперто изнутри. Тогда, схватившись одной рукой за крышу, я стащила с ноги башмак и что есть силы ударила им по стеклу.
С чердака мы спустились на лестницу, и сошли вниз, несколько удивив попавшихся навстречу жильцов.
Через четверть часа, держа за руку спотыкающуюся от усталости Аврору, я свернула на улицу Сен-Женевьев. Я чувствовала себя убитой, обескровленной, комок горьких слез и отчаяния подступал к горлу. Впервые за несколько месяцев я вновь осталась одна. Я не знала, что делать, с чего начать. Как помочь брату? Как спасти его? К кому обратиться? Сжимая зубы, я заставляла себя не всхлипывать. Если я поддамся истерике и страху, я не смогу думать трезво… и не смогу помочь Розарио.
– Куда мы идем, мама? – спросила Аврора.
– К дяде Джакомо, – проговорила я через силу.
Я прибавила шагу, вспомнив о патрулях, которые уже, вероятно, вышли на дежурство. Проклятый Белланже… Он лишил меня брата. А Революция, а эта проклятая Республика? Как бы я хотела отомстить, причинить им такой вред, какой только можно! Но, Боже мой, как сначала сделать так, чтобы вызволить Розарио из тюрьмы?!
Уже не сдерживая слез, катившихся по щекам, я постучала в знакомую дверь. Открыла мне Жоржетта, моя двенадцатилетняя племянница, и не совсем любезно взглянула на меня.
– Кто там, доченька? – раздался голос Стефании.
– Это тетя Ритта, мама! – недовольно отозвалась Жоржетта, отходя в сторонку, чтобы я могла пройти.
Из кухни показался Джакомо, всегда чувствовавший, что пришла сестра, и явно желавший предотвратить возможную перепалку.
– О Боже, Ритта, что случилось?
– Розарио арестован, – прошептала я в отчаянии.
И в изнеможении опираясь на косяк, я поняла, что уже не в силах сдержать горьких слез, хлынувших из глаз.
Часть 2 ДЕНЬ СВЯТОЙ ВЕРОНИКИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БРИТВА В ДЕЙСТВИИ
1
Я обулась, наспех набросила на плечи старый плащ Стефании и уже открыла дверь, чтобы выйти. Флери, моя племянница, выглянула из кухни.
– Вы снова уходите, тетя?
– Да.
– И не возьмете с собой Ренцо? Он мне все время мешает.
– Я не могу его взять. Это не то место, где надо бывать детям.
Флери, поджав губы, исчезла. Я поспешно поцеловала Ренцо, самого маленького в этой семье, и вышла на улицу.
Полтора месяца я жила в доме своего брата – с тех пор как арестовали Розарио. Полтора месяца эти превратились в сплошной кошмар. То, что со мной случилось, отлучило меня от сдержанности и терпимости, и между мной и Стефанией всё время происходили стычки. Джакомо смягчал эти ссоры, но его почти никогда не было дома. Он брался за любую работу, научился даже, несмотря на свою слепоту, писать письма набожным женщинам, дежурившим у церквей. Но это приносило мало денег, чаще они платили ему крынкой молока или фунтом хлеба, и Стефания тоже была вынуждена искать заработок. Она мыла полы в чужих домах, стирала и гладила тюки чужого белья, таскала вязанки дров. Все это давало тридцать или сорок су в день. Жили они крайне бедно, часто сидели голодные. Мне мои кружева приносили чуть больше денег. Я платила им два су в день за квартиру, но мне надо было содержать Аврору и посылать деньги в Сен-Мор-де-Фоссе, где жили Маргарита с мальчиками. Я почти не спала. Утром я шла в Трибунал, холодея при мысли, что там заслушивается дело Розарио, а после обеда до самой полуночи вязала кружева. Я стала бледной, худой, как отощавшая кошка, и глаза у меня казались голодными и затравленными. По крайней мере, именно это я видела, мельком заглядывая утром в зеркало.
Я перешла по Малому мосту на левый берег Сены и быстро пошла, почти побежала по улице между церквами Сен-Северен и Сен-Жюльен-ле-Повр. Они уже давно были превращены в склады.
Было 22 декабря 1793 года, преддверие Рождества. Сейчас, впрочем, мало кто об этом заикался. Католическая традиция была еще очень сильна, и вполне вероятно, что Рождество будут праздновать многие, но втайне. Никто не хочет прослыть фанатиком или контрреволюционером, А вот я любила Рождество и ничуть не считала его фанатичным, а скорее светлым и радостным праздником.
Я вспомнила, какой радостью дышал Париж в канун Рождества раньше, при Старом порядке. Поражало обилие музыкантов на улицах. Мальчики и девочки посылали друг другу куплеты рождественских песен, пели их на улицах. Влюбленные юноши сочиняли серенады для своих девушек. Хозяйки пекли к сочельнику необыкновенно вкусные пироги, которые потом продавались на шутливых аукционах. Многочисленные торговцы торговали сантонами – фигурками из дерева, фарфора или глины, представляющими различные сцены о легенде рождения Христа, свечами, елочными украшениями, мешочками с зернами рождественской пшеницы – пшеницы святой Барбы. Зерна следовало еще 4 декабря залить водой в блюдцах и потом по росткам судить об урожае. Все шутили, смеялись, улыбались, пели песни и танцевали… Теперь на это наложили запрет. Робеспьер не любит развлекаться, стало быть, любое развлечение – преступление. Об этом не говорили, но так думали.
Теперь была совсем другая ситуация. У Коллежа де Франс (давно закрытого, ибо Революция упразднила университеты) я увидела бедно одетую старуху лет семидесяти, толкавшую перед собой тележку с товаром, ранее считавшимся обычным, – ладанками, иконками, крестиками, заключенными в ларчики мощами. Вероятно, эта торговля приносила ей мало дохода. Старуха была остановлена патрулем во главе с большим, важным, исполненным сознания собственного величия комиссаром.
Ее принялись допрашивать, пытаясь узнать, кто подстрекал ее к такому занятию.
– Сынок, вот уже сорок лет, как я торгую этим товаром, – твердила она в ответ на все вопросы, задаваемые ей комиссаром.
Ничего от нее не добившись, он велел отвести ее в тюрьму.
Я поспешила уйти, чтобы никто не заметил презрения у меня на лице.
От отеля Клюни до тюрьмы было недалеко. Розарио сидел в Люксембурге, бывшем дворце графа Прованского. Теперь это было в моде – все прекрасные здания переоборудовать под тюрьмы. Дворцовый сад, где раньше гуляли счастливые мамы с детьми и влюбленные парочки, теперь превратился в место ожидания для убитых горем жен, матерей, сестер. Бывало, я просиживала там на скамейке по нескольку часов, ожидая, когда в слуховом окне покажется Розарио. Я даже брала с собой кружева, чтобы не терять времени даром.
Но сегодня мне не нужно было ждать. Я постучала молотком в обитую железом дверь. Показался гражданин Прюнель, тюремный привратник, который уже успел меня запомнить.
– Снова принесли передачу! – произнес он, глядя на меня с явным сочувствием. – Не знаю даже, где вы деньги берете, милая гражданка.
Вероятно, по моему виду можно было подумать, что я сама голодаю. Да и одежда у меня – как у нищей… Чего стоит только этот старый-старый потрепанный чепец, сшитый, наверное, еще в середине века.
– Умоляю вас, передайте гражданину Фромантену, – проговорила я, поспешно протягивая привратнику узелок. – Скажите, что я люблю его… что я сделаю все, чтобы спасти его.
Прюнель тяжело вздохнул, принимая узелок. Подобные слова он слышал сто раз в день. И прекрасно знал, что спасти кого-то из тюрьмы – вещь абсолютно невозможная…
Я сжала зубы, заклиная себя не думать об этом, не вспоминать о бесконечных вереницах телег, ежедневно везущих на гильотину осужденных. Я должна думать только о хорошем. Я должна верить. Если не я, то кто же поверит?!
– Что в этом узле?
– Бутылка вина, сушеный рис и грелка – ничего запретного…
Я незаметно вложила в руку Прюнеля три су – для уверенности, что добрый привратник не откажет мне и в будущем. Дверь захлопнулась. Я пошла прочь от Люксембургской тюрьмы, сама не зная, что буду делать. Розарио просил меня помочь Лауре, но в этом деле я была бессильна. Ее заключили в женскую тюрьму Маделонетт, где не было слуховых окон и где нельзя было обмениваться знаками.
Куда я шла? Я не отдавала себе в этом отчета. Каждый визит к Прюнелю повергал меня в отчаяние, от которого не так-то легко было оправиться. Я насилу сдерживала слезы. Чувствуя, что теряю мужество, я готова была грозить небу кулаками. Почему, черт возьми, я родилась в такое время? Почему не уехала в Вену? Почему, наконец, в нынешнее безумие впала именно Франция?!
Я остановилась, опираясь рукой о стену одного из домов и приказывая себе успокоиться. Я не могу привлекать к себе внимание, это слишком большая неосторожность. Мне ни за что нельзя попасть в тюрьму. Я хочу жить. И я должна жить, чтобы защищать Жанно. Он мой сын. Ради него я должна все это вытерпеть и не сорваться…
Мальчишка сунул мне в руки какие-то газеты. Я машинально отдала ему несколько денье и пошла дальше, читая на ходу. Первой газетой оказался «Вье корделье». Сквозь слезы я видела эти ровные строчки – они словно воссоздавали ту атмосферу, в которой жила я в последние месяцы:
«…Все возбуждало подозрительность тирана… Если гражданин был популярен – он являлся соперником государя и мог бы вызвать междоусобную войну. Стало быть, он подозрителен. Если он, напротив, избегал популярности, – его уединенная жизнь обращала на себя внимание, вызывала к нему уважение – он подозрителен. Был ли гражданин богат – возникала опасность, как бы он не совратил народ своими щедротами; он подозрителен… был ли гражданин беден – нет никого предприимчивее неимущего! Подозрительный…»
Это были отрывки из «Анналов» Тацита, я узнала их. Но как подходили он к тому страшному «Закону о подозрительных», благодаря которому за решетку были брошены сотни тысяч людей! Я лихорадочно перевернула газету, там было имя автора статьи – Камилл Демулен.
И дальше:
«Откройте тюрьмы для тех 200 тысяч граждан, которых вы зовете подозрительными, так как закон не знает подозрительных, а лишь преступников»…
«Вы хотите уничтожить всех врагов при помощи гильотины? Но было ли когда-нибудь большее безумие? Можете ли вы возвести на эшафот хоть одного человека без того, чтобы вашими врагами не стало десять человек его родственников и друзей?»
Не сошла ли я с ума, если я вижу такое? Камилл Демулен – друг Дантона. Но кто позволил ему выпустить в нынешнее время подобную крамолу? Он призывает к милосердию… И это среди всеобщего сумасшедшего вопля: «Крови, крови, крови!»?
С какой язвительностью иронизировал он над чудовищными революционными законами, как умело поддел самого Робеспьера с его навязчивой идеей «добродетельного террора»… Неужели это значит, что в Революции подул иной ветер? Что, наконец, безумие закончится и настанут спокойные времена? Что прекратятся бессмысленные преследования?
Я тут же остановила себя, призывая не воображать слишком многого, чтобы потом не разочаровываться. Но уже на набережной у Бурбонского дворца я столкнулась с большой толпой женщин. Все, как одна, в трехцветных кокардах, они шли, весело распевая «Марсельезу» и размахивая какими-то бумагами.
– Куда это они? – спросила я у зевак.
– Возвращаются из Конвента, – охотно объяснили мне. – Они требовали освобождения своих мужей… В ответ Конвент учредил Комитет справедливости! Уж он-то займется пересмотром приказов об аресте…
– Нашли что делать – щадить роялистов! – вмешалась стройная, с виду хорошенькая, но бедная женщина. – Зачем нужны все эти аристократы? Они морят нас голодом! Этих злодеев надо не щадить, а живо отправлять на гильотину!
Мне ужасно хотелось плюнуть ей в лицо. Или ударить. Или оскорбить. Ведь Розарио – не аристократ, и он вовсе не причастен к тому, что с продуктами нынче туго! А я, хотя и аристократка, отнюдь не занималась организацией голода. У власти уже второй год стоит Конвент, а эти глупые люди все еще обвиняют в своих бедах аристократов и короля.
Я отошла от греха подальше, чтобы сдержаться. Честно говоря, я не сразу поверила в появление Комитета справедливости и пересмотр приказов об аресте. Но новость мгновенно разнеслась по всему Парижу. Я слышала, как обсуждали ее люди, как многие облегченно вздыхали, узнав об этом… Потом появились первые печатные листки. И тогда я поняла – это правда. Впервые в кровавом террористическом тупике появился хоть намек на какой-то выход, прекращение этого зловещего сумасшествия…
От внезапно нахлынувшей надежды мне едва ли не стало дурно. Кажется, подули иные ветры. Дантон и его приверженцы иступили в борьбу против террора. Я, конечно, знала, что именно Дантон учредил Трибунал, но теперь он боролся против пего и требовал открытия тюрем. О, Дантон – это трибун, это глыба; он единственный, чья воля еще может поколебать волю этого злобного выкормыша Революции Робеспьера. Я была знакома с Дантоном; я знала, что, несмотря на свои речи и взгляды, и остается человеком, что у него есть и сердце, и душа, чем не могут похвалиться другие революционеры. Только бы он победил! Я была готова молиться за это.
Мне нужно было что-то предпринять. Нельзя упустить такой момент, нужно начинать действовать. Вполне возможно, что наступит передышка и двери тюрем распахнутся, и уж тогда-то Розарио одним из первых должен оказаться на свободе…
Я зашла в ближайшее почтовое отделение и потребовала перья, чернила и бумагу. Потом за два су купила конверт. Марки мне не нужны были, я сама отнесу письмо адресату… Я собиралась адресовать свое послание зловещему Фукье-Тенвилю, прокурору Революционного трибунала. В его компетенции было направлять или не направлять дело в суд.
Раньше я боялась писать, да и понимала, что вряд ли поможет. Но сейчас положение изменилось! Сам Демулен призывает к милосердию, сам Конвент постановил создать Комитет справедливости! Почему бы Фукье-Тенвилю не отправить дело Розарио в этот Комитет?
Дрожащими пальцами – Боже, как давно я не писала! – я торопливо выводила на бумаге:
«Гражданину государственному обвинителю.
Гражданин!
Мать семейства обращается к Вам, она взывает к Вашему милосердию, Вашей гуманности.
Жена Этьена Фромантена, оружейника из Алансона, сидящего в течение 2 месяцев в тюрьме Люксембург, умоляет о Вашем сострадании, дабы Вам было угодно ознакомиться с делом, из-за которого он попал на Ваш суд.
Гражданин Фромантен виновен лишь в том, что не имел свидетельства о благонадежности, но причина этого заключается только в простом недоразумении. В Париже он жил лишь двадцать дней и, разумеется, за столь короткий срок не успел убедить Коммуну в своей полной благонадежности.
Гражданин Фромантен имеет только свое занятие для собственного пропитания и для поддержания существования своей жены и ребенка, у которых нет больше хлеба. Он сам лишился всего и подавлен отчаянием.
Фромантен никогда не был дурным гражданином. Его жизнь всегда была безупречна и ни у кого не вызывала подозрений. Если же он и сделал какую-либо ошибку, то уже достаточно сильным наказанием для него являются два месяца тюрьмы. Благоволите, гражданин, вернуть его к работе; это значит дать ему жизнь и подарить Республике полезного работника».
Я писала так, как должна писать «истинная патриотка и республиканка». Поставив точку в прошении, я запечатала письмо.
– Где живет Фукье-Тенвиль, вы не знаете? – спросила я.
Почтмейстер окинул меня хмурым взглядом.
– На площади Революции, гражданка.
Там, где стоит гильотина! Это известие заставило меня вздрогнуть. Какой скверный знак… Я всегда старалась обходить эту площадь десятой дорогой; я боялась и двуногой химеры, пожравшей столько жизней, и чудовищной статуи Свободы, равнодушно взирающей на то, что совершается ее именем. Но судьба брата слишком дорога мне, чтобы я обращала внимание на собственные суеверия. Я выскочила из почты и буквально бегом отправилась на площадь Революции.
По пути мне встречались различные группы женщин, кричавших: «Пусть царство террора уступит место царству любви!» – и подобные возгласы придавали мне сил. Поистине, наметился перелом. Раньше об этом нельзя было и рта раскрыть. А нынче о милосердии кричит множество людей…
Дверь мне открыла хмурая женщина – очевидно, служанка.
– Гражданина прокурора нет дома, и принимает он только во Дворце правосудия, – сказала она резко.
– Но у меня к нему письмо. Можно его передать?
Служанка как-то криво улыбнулась и указала пальцем в сторону:
– Видите тот ящик? Это как раз для прошений. Бросайте туда вашу бумажку. Вечером гражданин прокурор вернется и все сразу прочтет. Даже ее поведение не смогло уменьшить моей надежды. Я бросила письмо в ящик и впервые за много дней была уверена, что оно не останется без внимания.
2
Гильотина, стоявшая на площади Революции, сегодняшней порции не получала, но под эшафотом псы лизали кровь, щедро оросившую землю вчера. Вокруг помоста стоял конвой конных жандармов. Музыкант заунывно выводил «Марсельезу» на шарманке, а старый бродячий актер демонстрировал детям и взрослым говорящего попугая, сидящего на разноцветном обруче, и смешных кукольных плясунов – разных Пьеро, Арлекинов и Скарамушей. Торговка звонким голосом приглашала граждан и гражданок отведать горячих нантерских пирожков по восемь су за штуку.
Это было дорого. Но я так устала, бегая по Парижу, и так проголодалась…
– Нантерские пирожки! Кому нантерских пирожков?
Я еще раз покосилась на эшафот – кто знает, может быть, мне суждено взойти туда… Так с какой стати мне жалеть восьми су?
– Один, – коротко бросила я, протягивая деньги.
Торговка, принимая монеты, подняла голову. Темная косынка, покрывавшая ее голову, не скрывала волнистых прядей черных густых волос, так отличающихся от мягкого светлого тона кожи лица. Полуоткрытый ворот накидки многих заставил бы полюбоваться безупречной линией гибкой шеи. Из-под упавших на лицо темных кудрей на меня сверкнули огромные жгучие черные глаза с прекраснейшими длинными ресницами…
Это были глаза маркизы де Шатенуа.
Мы обе застыли – она с деньгами, я с пирожком в руке.
– Изабелла? – прошептала я так тихо, что никто, кроме нас, не смог бы услышать.
Как ни в чем не бывало, она громко повторила:
– Нантерские пирожки! Кому нантерских пирожков?!
А потом быстро захлопнула лоток и покатила тележку прочь с площади, глазами дав мне знак следовать за ней.
Лишь в начале улицы Риволи мы решились остановиться. Я снова взглянула на Изабеллу.
– Неужели это вы?
Она похудела, осунулась, побледнела, кожа на руках стала более темной, а в этой грубой скверной одежде она ничем не напоминала ту изящную грациозную маркизу, что была украшением Версаля, хотя я видела, что фигуру она сохранила такой же безупречной, как и прежде. И все-таки я с трудом узнавала ее. То же самое она могла сказать и обо мне. На кого была похожа я в своем старом плаще и страшном чепце с чужой головы, с бледным лицом и затравленными испуганными глазами?
– Нам обеим нечего стыдиться, – вдруг весело произнесла она. – И все-таки нам стыдно, правда?
В этом тоне я узнала Изабеллу. И мне тоже стало радостно.
– Боже правый, мне так хорошо, что я вас встретила…
Наши пальцы сами собой сплелись в пожатии. Отбросив всякую осторожность, мы порывисто обнялись и поцеловались – так, как бывало, делали, встречаясь в зеркальной галерее Версаля.
– Так вы… торгуете пирожками? – проговорила я, запинаясь.
– А вы?
– А я вяжу кружева.
– И сколько это дает?
– Шестьдесят су в день.
– Вот как! Я имею на восемь су больше.
Разговор прервался. Мы молча глядели друг на друга. Почему-то только теперь мне наглядно стало ясно, что случилось с аристократией. Действительно, Париж был полон графинь, маркиз, баронесс, торгующих зеленью и пирожками, мастерящих наряды для буржуазок, разносящих хлеб по квартирам. Но разве это бесчестило нас хоть чуть-чуть? Мы умели и в нищете оставаться аристократками. Аристократия – это каста, которую бедность не может унизить. Мы все равно особенные. Мы на голову выше того сброда, что творит Революцию и ныне является хозяином. Даже обезглавленные, мы все равно выше. Так говорил отец. И я знала, что это правда.
– Почему вы не уехали? – прошептала я.
– Это амурная история, будь она проклята.
– А ваш… ваш муж?
– Жером? Я не видела его четыре года. Он давно в эмиграции, вы же знаете. Нет, я пока не вдова, уж в этом-то я уверена. Жерому семьдесят, но он наверняка доживет до ста.
Она взяла меня за руку.
– Пойдемте ко мне. Нам надо поговорить. Работа на сегодня отменяется.
– Где вы живете?
– На Королевской улице, у церкви Ла Мадлен. Эта встреча с вами так меня взволновала, что я бросилась бежать в другую сторону.
Мы вместе толкнули тележку. Изабелла достала из своего лотка три пирожка и щедро протянула их мне.
– Ешьте! Я же вижу, Сюзанна, что вы голодны.
– Вы сами их печете?
Она рассмеялась.
– Да что вы! Для этого нужно иметь свою пекарню, да еще столько хлопот с мукой, дрожжами… Я работаю у некоей гражданки Мутон: помогаю печь, а потом продаю… Она платит мне жалованье. У нее я и живу.
– И вам ничего не будет за то, что вы не все продали?
– Такое случилось впервые. Ради вас, моя дорогая, я готова пожертвовать сегодняшним заработком.
Она рассмеялась. Голос Изабеллы звучал так же мелодично и звонко, как и раньше, в иные времена. Нет, нрав ее нисколько не изменился. Наверняка, несмотря на бедность, она окружена целым сонмом любовников. А что – изящная прелестная молодая женщина, черноглазая брюнетка, которой еще нет тридцати…
Мы поднялись в ее комнату. Изабелла жила даже не на самом верхнем этаже, а в крошечной мансарде на чердаке, куда надо" было взбираться по лестнице. Потолок явно протекал и был перегорожен деревянными перекладинами. Здесь можно было только лежать или сидеть; встать в полный рост не было никакой возможности.
– Настоящий сундук, правда? Ящик, а не жилище. Но, моя дорогая, я уже привыкла.
Она заварила чай, и мы пили его с нантерскими пирожками. Я впервые за много дней присутствовала на таком пиршестве и сожалела, что со мной нет Авроры. За чаем мы беспрерывно болтали, наперебой расспрашивали друг друга о том, что с нами произошло. Изабелла рассказала мне, что уезжала в Англию и даже поселилась в Лондоне на Пикадилли-сквер. Но один французский аристократ, с которым она состояла в любовной связи, уговорил ее съездить с ним во Францию. Он ехал на родину с каким-то заданием английской разведки и имел фиктивные документы. В первые же дни пребывания в Париже его узнал какой-то мясник, которому тот раньше, при Старом порядке, дал хорошего пинка за жульничество. Любовника Изабеллы отвели в тюрьму и два месяца назад казнили. Возвратиться она не могла, и деньги у нее отсутствовали. Впрочем, как и свидетельство о благонадежности.
– Вы живете без свидетельства до сих пор? – спросила я.
– Да Сюзанна. Я уверена, что и вы тоже.
– Это верно.
– Эти мерзавцы, кажется, хотят устроить нам еще один сюрприз. Я слышала, введут хлебные карточки, и право на них будет иметь только тот, у кого есть свидетельство. Половина Парижа будет голодать.
– Вам при вашей профессии это не грозит, Изабелла… Мы обе вздохнули. Мне было приятно найти человека, с которым можно говорить совершенно откровенно, женщину, которая думает так же, как я, и которую можно не называть гражданкой. Я внимательно оглядела ее крохотную комнатку. Большую часть площади занимала железная кровать, еще одна кровать, раскладная, была прислонена к стенке. Здесь была печка, слуховое окно под самым потолком, большая тумбочка и этажерка, а также несколько железных жардиньерок. Еще стол, уставленный посудой, и кресло. Словом, в комнатке негде было повернуться. И поэтому, когда Изабелла внезапно спросила, не захочу ли я жить вместе с ней, я была очень удивлена.
– Мы очень стесним вас, Изабелла.
– Кто это – «мы»?
– Я и Аврора.
– Тесноту можно вытерпеть. Вы же сказали, что живете у родственников. Жены старших братьев всегда необыкновенно сварливы.
Она сжала мою руку.
– Вы мне очень поможете. Я плачу за эту каморку десять су в день, это крайне накладно. Если бы вы переехали, Сюзанна, мы бы поделили эту сумму надвое.
Поразмыслив, Изабелла добавила:
– Я устрою вас к гражданке Мутон. Торговать пирожками – это куда легче, чем вязать кружева. По крайней мере, зрение у вас подольше сохранится. Ну, послушайтесь меня, Сюзанна! Разве я давала вам когда-либо плохие советы?
Я невольно вспомнила о Валери де ла Вен, которую рекомендовала мне Изабелла. Я до сих пор не знала, сделала ли она это умышленно или по неведению. Но, в конце концов, лишь это обстоятельство слегка омрачало мое отношение к Изабелле. Его можно отбросить. И я согласилась.
– Вы правы, жить у брата мне ужасно надоело.
– Когда вы переедете?
– Да хоть сегодня.
Некоторое время она пристально смотрела на меня, внимательно и сочувственно изучала мое лицо.
– Что с вами, Сюзанна? Вы не беременны?
– А почему вы подумали об этом? – спросила я улыбаясь.
– Если нет, то вы очень устали. На вас лица нет. Вам нужно отдохнуть. А потом влюбиться в кого-нибудь. Взгляните на меня! Я бедна, но выгляжу, словно персик.
Она нежно поцеловала меня в лоб.
– Я помню вас необыкновенной красавицей, дорогая. Я даже завидовала вам. Но у меня больше оптимизма. Постарайтесь перенять его у меня. И вы снова расцветете.
– Я рада, что мы встретились, – прошептала я ей на ухо.
– Я тоже. Может быть, вместе нам удастся выжить.
Мы обнялись, облегченно вздыхая. И из-за плеча Изабеллы я впервые заметила висевшего над дверью картонного смешного Скарамуша – его стоило только дернуть за веревочку, чтобы он весело засмеялся.
3
К вечеру следующего дня мы с Авророй на тележке перевезли свой жалкий скарб на Королевскую улицу. Я попрощалась с Джакомо и обрадовала своим переездом Стефанию. Чтобы оставить о себе более приятные воспоминания, я отдала ей половину своих сбережений – тридцать су, и принесла малышу Ренцо – единственному из детей Стефании, кто относился ко мне с нежностью, – несколько сладких нантерских пирожков. Джакомо на словах сожалел о моем отъезде, но было видно, что он рад, что в семье больше не будет ссор и перепалок.
Я навестила своих мальчиков в Сен-Мор-де-Фоссе и тоже отнесла им пирожки. Жанно был здоров и скучал по мне, уговаривая меня не уходить или взять его с собой. У меня сердце обливалось кровью, когда я слушала это. Но я заставляла себя мыслить трезво. Я должна буду работать, чтобы иметь деньги. Носиться с малышами мне будет некогда, а Аврора еще не обладает достаточной серьезностью, чтобы поручить ей эти заботы. Кроме того, в комнате Изабеллы негде будет поместить ребят. Они не так малы: Жанно – шесть лет, Шарло – уже девять, сдерживая слезы, я попросила Жанно подождать еще немного. Только одно обстоятельство успокаивало меня: то, что рядом с ним находилась Маргарита.
Приближались сочельник и Рождество, и работы у гражданки Мутон было хоть отбавляй. По рекомендации Изабеллы меня охотно приняли в пекарню. Так как праздники были не за горами, булочница развернула кипучую деятельность; нужно было приготовить сотни пирожков и сдобных бриошей. Эти вещи стоили дорого и не расхватывались покупателями, но в канун Рождества спрос даже на дорогую продукцию увеличивался. Кроме того, гражданка Мутон поставляла свои изделия в дома богачей и даже в буфет Конвента.
Поднявшись спозаранку, мы в огромных чанах месили тесто и раскатывали на столах то, что было приготовлено с вечера, жарко растапливали огромную печь и готовили сдобу. Я впервые занималась этим, меня поражали сами масштабы работы. Кроме нас с Изабеллой, здесь было еще пять женщин, не считая самой гражданки Мутон. Когда руки у них уставали, они мыли ноги, закатывали юбки до самых бедер и запросто месили тесто ногами.
В окна еще не заглядывал рассвет, а в пекарне уже кипела работа. Было жарко, как в аду, все обливались потом. Я сбросила с себя всю одежду, кроме нижней юбки и лифа, и как можно плотнее собрала на затылке золотистые волосы, чтобы не очень досаждала духота. Сладкий запах мака, айвы, варенья и сдобы дурманил голову.
И все-таки это занятие понравилось мне куда больше, чем вязание кружев. Гражданка Эмильенна Мутон была начисто лишена той дешевой спеси, которую я подмечала в других слишком быстро разбогатевших буржуазках, и если когда и прикрикивала на своих работниц, то почти по-дружески. Трудилась же она наравне со всеми. Тут же, в пекарне, работала и ее дочь – незаконнорожденная девица, уверявшая, что ее отцом был аристократ-подлец, сбежавший в Англию, и считавшая себя поэтому жертвой тирании.
В девять утра все уже было готово. Несмотря на гонения, которым подвергалась религия, во время рождественской мессы парижане толпами заполнили церкви; улицы были полны людей, по старинке радовавшихся празднику. Коммуна строжайше запретила гражданке Мутон в Рождество открывать лавку, поэтому работницы вынуждены были сами отправиться в город для продажи товара.
Мы с Изабеллой получили по разноцветной круглой коробке, доверху заполненной «утехами» – свежим сдобным печеньем. Вообще-то это были обычные для Старого порядка облатки, но нынче католические названия были не в моде, и печенье стало называться «утехами». Вооружившись трещотками для привлечения ребятишек, мы двинулись к церкви Ла Мадлен.
День был морозный, солнечный; легкая пороша покрывала землю. Аврора шла впереди нас, потрясая трещотками, и мы, вероятно, производили много шума. Коробки наши быстро пустели; каждой матери хотелось в праздник купить ребенку какое-нибудь лакомство. Вернувшись в пекарню за новой порцией «утех», мы отправились продавать их в парк Монсо.
Отсюда мы уже не спешили возвращаться в пекарню. Здесь было шумно и весело, словно никто и не помнил о гильотине и революции. Нарядно одетые дамы прогуливалась с одетыми по моде Старого порядка кавалерами, девочки играли в серсо, выступал актер с кукольным театром. Распродав свой товар и досыта наевшись «утех», мы зашли в «Лилльскую красавицу» – нечто вроде бистро, и заказали кофе для всех, лимонад для Авроры и по стакану розового божоле для себя.
– Мне нравится, – сказала я, чувствуя себя слегка опьяневшей от вина.
– Что нравится?
– Эта работа. Знаете, я думала, мне будет стыдно торговать, а это нисколько не стыдно. Особенно когда в компании. И тратиться на еду почти не нужно. Если находишься рядом с печеньем, то всегда будешь сыт…
Изабелла покачала головой.
– Не обольщайтесь, дорогая. Так может быть не всегда. Нет ничего более неустойчивого, чем нынешнее время. В любой момент Конвент может запретить выпекать бриоши или сладости – муки ведь и на хлеб не всегда хватает… Эта Республика все превратила в беспорядок, никто не может быть уверен в том, что будет завтра.
Я приложила палец к губам, призывая ее к осторожности. Кроме того, мне не хотелось говорить о плохом. Даже то, что пир в «Лилльской красавице» обойдется нам в целых два ливра, не могло меня сейчас встревожить. Я хотела хоть на миг сбросить с себя этот противный груз тяжелых забот.
– Нам почти не дали отметить это Рождество, – сказала Изабелла.
– Мы можем отпраздновать его сегодня. Почему бы нет?
Мы рассмеялись. Вино нас обеих привело в приподнятое настроение. Жизнь продолжается, думали мы обе, даже несмотря на революцию и казни.
– Надо уходить, – прошептала Изабелла. – Едва начнет смеркаться, появятся патрули. Не дай Бог попасться им на глаза.
– Но до вечера еще далеко, – вмешалась Аврора.
– До нашего дома тоже не близко, мадемуазель.
Мы вышли из «Лилльской красавицы» и не слишком уверенно зашагали по Вдовьей аллее. Я думала о том, что все не так уж плохо складывается. Я получила хорошую работу, жилье п не самый низкий заработок, я, наконец, нашла подругу. Наверняка на днях Розарио выпустят из Люксембурга. Террору видно приходит конец. Комитет справедливости занялся пересмотром дел, Камилл Демулен выпустил новый номер своего «Вье корделье», где страстно выступал против утвердившегося облика Свободы, непременно залитой кровью…
– Эй, гражданка!
Этот резкий, требовательный оклик заставил нас остановиться. Я оглянулась. На аллее стоял важный, солидный комиссар в роскошной трехцветной перевязи и указывал пальцем именно на меня. Сердце у меня ушло в пятки.
– Да-да, именно ты, гражданка! Не будешь ли ты любезна подойти ко мне?
Я поняла, что погибла. Он непременно спросит у меня свидетельство. Очевидно, я чем-то показалась ему подозрительной. Перехватив настороженный взгляд Изабеллы, я пошла на зов – ибо, как можно было отказать комиссару? – той поступью, какой идут на казнь.
Комиссар сделал нечто, совершенно для меня неожиданное и непонятное: он приподнял шляпу и поклонился.
– Я – Доминик Порри, гражданка, комиссар народного общества секции Социального контракта.
– Очень приятно, – пробормотала я, смутно понимая, что он говорит.
– У меня здесь коляска, – произнес он, прижимая шляпу к груди. – Конечно, нанятая коляска. Ты мне очень нравишься, гражданка. Могу ли я подвезти тебя?
Расширенными от изумления глазами я взглянула на него.
– Да, – сказал он смущенно, – почему бы мне не помочь настоящей труженице, да к тому же такой красавице! Ты согласна, гражданка?
Больше всего на свете мне хотелось послать этого комиссара к черту и отвязаться от него. Но мне удалось быстро понять, в чем дело, и переменить тактику.
– Меня зовут Жюльетта Фромантен, – сказала я, ласково улыбаясь. – Но я не одна, гражданин Порри. Со мной дочь и подруга.
– А, дочь! – повторил он слегка огорченно. – А муж?
– Он убит еще под Вальми, гражданин.
Комиссар прикоснулся к своей трехцветной перевязи, словно желая этим выразить мне свое сочувствие.
– Я подвезу всех вас, гражданка!
Я видела, что он робок по натуре и, вероятно, принимая меня за свою, исполнен самых честных намерений. От него будет нетрудно отвязаться. Я решительно махнула рукой Авроре и Изабелле.
– Где вы живете? – спросил комиссар.
– У церкви Ла Мадлен, – сказала я, и не думая даже называть ему наш настоящий адрес.
Гражданин Доминик Порри довез нас в нанятой коляске до самой церкви, еще и купил мне пакетик сладкой айвы. Единственное, на что он решился, – это мимолетно дотронуться до моей руки. Вел он себя в высшей степени безупречно и развлекал нас беседой о том, что по воскресеньям ездит в Лоншан к своей матери и там, в тех чудесных местах, на природе, отдыхает.
– Вы позволите пригласить вас на прогулку в это воскресенье? – спросил он, помогая нам выйти из коляски.
Я видела, что ответа он ждет именно от меня, и, улыбаясь, воскликнула:
– Конечно, гражданин Порри! Если ты зайдешь за нами в воскресенье утром…
– Я зайду! – пообещал он, радостно пожимая мне руку. – Ты просто прелесть, Жюльетта!
Сам он был нерешителен и скучен, – так, достаточно серенький мужчина, и, если бы он не был комиссаром, мне бы и в голову не пришло терпеть его так долго.
Давясь от смеха, мы поднялись на второй этаж одного из домов и терпеливо подождали, пока коляска гражданина Порри уедет.
– Надо же, – разочарованно произнесла Изабелла. – До чего эти буржуа неинтересны… Абсолютно никакого блеска, не правда ли?
Повернувшись ко мне, она лукаво добавила:
– Вы делаете успехи, дорогая! Вы хорошеете на глазах. Если и дальше так пойдет, на вас обратят внимание все комиссары Парижа…
Взявшись за руки, мы спустились вниз. На улице уже смеркалось. Хотя комиссар и довез нас почти до дома, надо было поспешить, чтобы не встретиться с каким-нибудь патрулем.
Едва оказавшись в комнате на Королевской улице, Аврора устало прилегла на раскладную кровать, а вскоре и уснула. Загадочно улыбаясь, Изабелла достала из шкафчика бутылку вина и остатки пирога с телятиной.
– Но мы уже пили сегодня!
– Ну и что? Рождество для нас прошло в трудах. Нам надо наверстывать упущенное.
Мы отгородились от Авроры ширмой, чтобы не потревожить девочку, и устроили пир прямо на разобранной кровати; другого места просто не было. Крепкое, свежее вино из заветной бутылки Изабеллы было почти таким же хорошим, как в погребах моего отца, – оно огнем пробежало по телу, обволокло сладким дурманом сознание. Все вокруг стало казаться более ярким, красивым… Мы окончательно опьянели. Глядя в черные глаза Изабеллы и слушая ее болтовню, я почему-то думала, что удивительно похожу на ту монастырскую воспитанницу, которая по ночам тайком забиралась в постель Мари Анж де Попли, чтобы послушать ее россказни о театре.
Я качнула головой. И придет же такое! Я слишком много выпила, раз уж мне вспомнился монастырь…
– Видите, Сюзанна, как благотворно действует на вас мое общество? Стоило вам два дня хорошо поесть и побыть на свежем воздухе, как на вас бросаются даже такие важные особы, как комиссары секции. – Она весело рассмеялась. – Я говорю правду. Вы прелестны, моя милая.
Очевидно, мы обе, в прозрачных рубашках и с распущенными по плечам волосами, были прелестны, но что-то в голосе Изабеллы меня удивило. Я подняла голову. Качнувшись, как опьяневшая, она вдруг подалась ко мне, ее губы коснулись моего виска. Вроде бы ничего особенного не произошло – она просто поцеловала меня, но этот поцелуй был полон такой горячей нежности, что я вздрогнула. Улыбаясь, она наклонилась снова и коснулась губами моих губ. На этот раз я поняла – в ее поцелуе нет ничего дружеского…
– Изабелла! – прошептала я, скорее удивленная, чем шокированная. – Это что… то самое? Это школа Версаля?
– Да вы просто невинный голубок, моя дорогая!
Рассмеявшись, она упала на подушки, закинув руки за голову, и какое-то время лукаво глядела на меня.
– Не бойтесь. Я тоже не охотница до таких наслаждений.
– Но вы… вы знали их? Я слышала, это было… Мадам де Ламбаль, например…
– Я знала все, что было в Версале. Все! Слышите? А это очень много. Подобные ласки, они… слишком нежны. Они как десерт… Но мы сейчас даже не обедаем, к чему нам сладкое?
– А почему же вы не обедаете? Вы, Изабелла!
– Наши мужчины растаяли в воздухе. Какой уж тут обед!
Лежа в постели, с разметавшимися по подушке черными как смоль волосами, она воплощала собой самый совершенный тип версальского очарования: прекрасное лицо, изящное, гибкое тело, сияющие черные глаза… Изабелла знаком пригласила меня к себе, я легла рядом, положив голову ей на плечо. Честно говоря, я легко соглашалась с ее превосходством. В конце концов, она на пять лет старше. Я всегда чувствовала к ней симпатию.
– Я любила наших мужчин, аристократов. Они были сама изысканность, остроумие, непредсказуемость. Стоило лишь выйти в свет, чтобы сразу отыскать себе партнера… А нынче? Все эти новые хозяева жизни мне смешны. Стоит только послушать, какие речи они произносят! Этот бумажный пафос, эта смехотворная напыщенность…
– Они все злы, я знаю, Изабелла! Я имела возможность испытать это на себе. Ни одна женщина из тех, что знали Версаль, не может не чувствовать к ним презрения. Да и они не любят женщин.
Она проговорила быстро и насмешливо:
– Знаете ли, дорогая, хоть мужская сила и не является непременным признаком порядочности и добродушия, ее отсутствие абсолютно всегда превращает мужчину в злобного недоумка. Взгляните на нынешних монстров – они все таковы. Робеспьер, Сен-Жюст – все импотенты…
– Сен-Жюст? – переспросила я. – Такой красавец?
– Он импотент в душе. Я называю так тех мужчин, которые не способны к любви, любовной изобретательности, дерзости, самозабвению. Все они скучны и целомудренны, как пуритане. Они, может быть, и хотели бы развратничать, да им этого не дано. Речь ведь не идет о механическом совокуплении. Любовь – это сложное искусство, вы же знаете, дорогая, для него недостаточно одних лишь мужских достоинств, для нее нужны ум и душа. Все они – скверные любовники, и их так много, что это настоящее бедствие!
– Да ну? – осведомилась я заинтересованно.
– Разумеется. Каким любовником может быть мужчина, который по-настоящему не любит женщин? И они даже не подозревают, насколько невежественны, они даже понятия об этом не имеют!
– Но у многих из них есть жены.
– Они просто предпочитают иметь хоть плохого любовника, чем совсем никакого, лежат и молча страдают.
Она говорила о вещах, которые меня интересовали, но мы обе достаточно выпили, и нас невольно клонило ко сну.
– Ну, а вы? – проговорила я полусонно.
– Аристократы растаяли в воздухе, буржуа – сплошные импотенты в душе, ну а вы? С кем же вы проводите ночи, Изабелла? В кого влюблены сейчас?
– Я нашла одного такого, – почти мечтательно произнесла она.
– Нашли?
– Это сокровище, а не мужчина. Если бы вы только знали… Сжимая мою руку, Изабелла пробормотала:
– Это кладезь любовной фантазии. У меня еще никогда не было такого невероятного любовника… Пожалуй, он превосходит даже графа д'Артуа, по крайней мере, по степени разнообразия. Он долго служил в Индии. Знали бы вы, какие сногсшибательные приемы он вынес оттуда… Когда я с ним, мне кажется, что я попадаю в стремительный кипящий поток…
– Он аристократ? – спросила я, уже засыпая.
– Да. Герцог…
– И он в Париже?
– В подполье. Впрочем, как и все мы…
Сон неумолимо овладевал нами. Я уже не в силах была поддерживать беседу. Обнявшись, мы уснули, мысленно решив поговорить об этом невероятном мужчине чуть позже, утром.
4
После работы в пекарне, в десять часов утра мы, как обычно, отправились продавать пирожки. Был хмурый, холодный понедельник. Когда на церкви Сен-Жермен-де-Пре пробило двенадцать дня, я решила, что пора вспомнить о Розарио, и попросила Изабеллу отпустить меня на час или полтора, для того чтобы я могла отнести кое-что брату в Люксембург.
Изабелла пораженно взглянула на меня.
– Вы даже не заикались о том, что у вас кто-то в тюрьме!
– Но ведь мы встретились всего четыре дня назад.
Я вкратце рассказала ей, в чем дело. Изабелла слушала внимательно и обеспокоенно, ни разу меня не прервав, было видно, что она встревожена.
– Не волнуйтесь, – успокоила я ее. – Я уверена, что все закончится освобождением моего брата. Может быть, сегодня я в последний раз отнесу ему передачу.
– Почему вы так думаете?
– Потому что я услышала, что «умеренные» начали кампанию за прекращение террора, и написала письмо Фукье-Тенвилю.
Реакция на мои слова была совсем не такой, как я ожидала. Изабелла потрясенно смотрела на меня, в ее глазах стоял такой ужас, что это меня не на шутку встревожило.
– Письмо? Вы написали письмо?!
– Да. Я просила освободить брата и…
– Просили Фукье-Тенвиля?!
У меня мороз пробежал по коже. Почему в ее голосе звучит такой ужас, словно я сделала что-то страшное?
– Боже мой, Изабелла, вы меня просто пугаете. Либо объяснитесь сразу, либо…
– Я вовсе не желаю вас пугать, но если вы действительно написали письмо этому чудовищу, то ваш брат уже мертв!
Схватив меня за руку, она воскликнула:
– Вам следовало молчать, затаиться, делать так, чтобы о вашем брате забыли и не вспоминали никогда! Только это могло его спасти. Но вы написали письмо, вы хлопотали! Нет ничего страшнее этого. Святой Боже, да ведь всем в Париже известно, что Фукье-Тенвиль первыми приговаривает тех, за кого у него хлопочут…
Тяжело дыша, я вырвала свою руку.
– Этого не может быть! Скажите, что это неправда, Изабелла!
– Увы, моя дорогая, я говорю правду. Сами того не желая, вы погубили своего брата.
У меня зазвенело в ушах. Не дослушав, я бросилась бежать прочь. Какое-то время меня еще преследовала мысль, что все это неправда, это слишком кошмарно, чтобы быть правдой. Я не могла погубить Розарио… Да я просто не смогу жить, если это так!
Обезумев от отчаяния, я бежала по улице, сама не сознавая, что делаю, и натыкаясь на встречных прохожих. Холодный ветер леденил мне лицо, я попадала в грязь и лужи и не замечала этого. Кровь туго стучала в висках, я ничего не ощущала и не слышала, кроме собственного горя. Если бы все услышанное мною оказалось неправдой! Но, Боже мой, разве в этой стране сбывается что-нибудь хорошее?!
За каких-то десять минут я примчалась к Люксембургской тюрьме, пробежала по саду, обращая на себя внимание даже всегдашних посетителей этого печального места. Задыхаясь от волнения и спешки, я громко постучала в железную дверь. Привратник, гражданин Прюнель, открыл мне быстрее, чем обычно.
– Мой брат! – взмолилась я, совершенно забывая, что Розарио считается моим мужем. – Его фамилия Фромантен…
Удивленный, Прюнель удрученно развел руками.
– Вы опоздали, гражданка. Еще вчера, хоть вчера был и праздник, его да еще нескольких человек увезли в Консьержери.
– Консьержери!.. – повторила я с ужасом.
У меня опустились руки, а внутри все похолодело от отчаяния. Консьержери – это была тюрьма смертников, туда увозили для того, чтобы отправить в Трибунал. А Трибунал – это значит гильотина.
Пошатнувшись, я была вынуждена опереться на руку Прюнеля, чтобы не упасть. Добрый старик участливо поддержал меня.
– Таковы времена!.. – сокрушенно твердил он. – Таковы времена, дочка! Никто не может чувствовать себя в безопасности. Я-то уж вижу. В тюрьмах в десять раз больше невиновных, чем виновных…
Не дослушав, я медленно остановилась и пошла прочь. Я не способна была сейчас воспринимать чье-либо сочувствие, я даже не нуждалась в нем. Консьержери… Само это слово звучало как эпитафия. Как конец всему. Из Консьержери не бывает выхода. Оттуда есть лишь одна дорога – на эшафот. О Боже! Ты не сделаешь так, чтобы это случилось с Розарио! Ты не имеешь права! Ты не должен!
Я сжала зубы, чтобы не закричать от горя. Мне еще необходимо мужество. Я должна добраться до этого проклятого Консьержери. Я не знала, что я сделаю. Я даже знала, что ничего не могу. Но стоять и просто ждать я была не в состоянии. Да и сколько ждать? Чего?
Выбежав на середину улицу, я остановила какой-то ободранный кабриолет. У меня не было времени бродить по Парижу пешком.
– Набережная Люнет! – произнесла я адрес, будучи не в силах назвать это слово – Консьержери.
Копыта быстро зацокали по мостовой. Сжав виски руками, я с отчаянием подумала: а нужен ли мне этот Консьержери? Если Розарио еще там, это большое счастье, но меня к нему не пустят. Я должна поехать во Дворец правосудия, в Трибунал, и узнать, не было ли еще суда… и жив ли еще мой брат.
Извозчик остановил лошадь у моста Шанж.
– Ну, плати деньги, гражданка!
Лишь наполовину уяснив его слова, я подала ему все, что было у меня в кармане, и спрыгнула на землю.
– Черт возьми, голубушка, да тут только двадцать су! Я не люблю шуток! Ты должна мне двадцать ливров, гражданка!
Не вслушиваясь в эти возгласы, я уже было отошла от кабриолета. Я не допускала даже мысли, что кто-то посмеет задержать меня в такую минуту. Но извозчик бросился следом за мной, больно схватил за локоть.
– Плати сейчас же, не то живо в полицию отведу!
Я резко обернулась, в упор взглянув на извозчика сузившимися от ярости глазами. Лицо у меня было искажено неистовым гневом и болью. Высвободив свою руку, я крикнула хрипло и яростно:
– Если ты хоть на секунду задержишь меня, я убью тебя, ты, выродок!
Он явно опешил и был ошеломлен и моим лицом, и словами. Бормоча под нос проклятия, я зашагала по мосту Шанж на остров Ситэ.
Какое-то время я была в полубессознательном состоянии и шла, натыкаясь на прохожих. Громкие голоса во Дворце правосудия привели меня в чувство. Спотыкаясь, я обошла один за другим все четыре зала, где заседала секция Революционного трибунала. Заглядывая туда, я не видела ничего, кроме рокового кресла, предназначенного для подсудимых. Но одна из секций заседание на сегодня уже закончила. В остальных судили за измену Республике какого-то военного, служанку, крикнувшую «Да здравствует король!», и приезжего испанца, которого сочли шпионом. Одно было абсолютно точно – Розарио я не видела. Нельзя сказать, что это меня успокоило. От щемящей, болезненной тревоги у меня засосало под ложечкой. Я снова вышла на лестницу, чтобы вдохнуть холодного воздуха.
Какой-то драгун стоял на ступенях и курил трубку. Покачиваясь, я подошла к нему.
– Как мне узнать, кого сегодня осудили? – спросила я, не задумываясь, что он может и не знать ответа.
Драгун небрежно ткнул пальцем в сторону.
– Вон там! Ступай туда.
Я увидела свежевывешенные списки осужденных. На них еще даже чернила не высохли. Мой взгляд сразу отыскал букву «Ф», но строчки плясали у меня перед глазами и я никак не могла разобрать написанное. И вдруг мне стало ясно: между фамилиями какой-то Жюльенны Фонфреди и Жосефа Фуре стоит то самое имя – «Этьен Фромантен, роялист, английский шпион и фальшивомонетчик, составивший заговор во имя восстановления тирании и монархии».
Это был он. Мой брат. Розарио Риджи.
Глаза мне заволокло красным туманом. Медленно повернувшись и ничего не видя перед собой, я стала спускаться по лестнице. Оставалось надеяться только на чудо. Но ведь чудес не бывает… В особенности со мной и моими близкими. И это я убила Розарио. Я написала письмо прокурору. Если бы не это, Розарио был бы жив.
В самом конце лестницы я споткнулась и упала на землю. Пожалуй, я не стала бы подниматься. Но какая-то женщина подбежала ко мне и поддержала.
– Эй, что это с тобой, бедняжка?
– Его осудили, – прошептала я с таким отчаянием, что самой себе сделала еще больнее. – Его казнят!
– Кто он тебе?
– Брат. И это я его погубила.
– Что ты зря чепуху болтаешь! Когда губят, так не убиваются. Это Фукье его погубил, а не ты.
Она помогла мне подняться, отряхнула мне юбку.
– Что мне теперь делать? – прошептала я через силу. – Ведь теперь даже апелляции не существует!
Женщина, очевидно, не знала, что такое апелляция. Она шепотом заговорила о другом:
– Если твоего брата осудили, значит, отвели в Консьержери. Назад, стало быть. Телеги придут только вечером. Ну, может, чуть-чуть раньше. Иди, жди его там. Ведь хочешь же ты его в последний раз увидеть!
Я молча качала головой, не понимая, что она говорит. Все, что происходит, – это слишком для меня одной. Я, вероятно, сойду с ума.
– Если пойдешь, опасайся «вязальщиц». Это такие стервы, которые вечно у тюрьмы дежурят. Увидят, что ты плачешь, – могут даже избить.
Я оставила ее, даже не поблагодарив. Только пройдя десяток шагов, я осознала, что она мне говорила. Да, я должна увидеть Розарио… Но только, Боже мой, сделай так, чтобы он меня не увидел!
Телеги уже стояли у ступенек – два деревянных возка, на которых возят либо дрова, либо падаль. Лошади конвоя обгладывали кору с деревьев, а сами жандармы курили, дожидаясь, пока будет приказано отправляться в ежедневный, привычный путь. Они каждый день сопровождали телеги с осужденными на площадь Революции – бывшую площадь Луи XV.
– Глядите, палач!
– Верно! Это сам Сансон.
– Вот уж у кого нынче больше всего работы…
Я вздрогнула. Эти возгласы вырвали меня из того горестного оцепенения, в котором я находилась. Блуждающими глазами я обвела толпу и увидела идущего сквозь ряды женщин огромного, коренастого мужчину с подручными. Это был парижский палач Сансон. Он отрубил голову королю, он казнил Марию Антуанетту. А сейчас, вероятно, сам потерял счет своим жертвам.
Пораженная, я снова и снова приглядывалась к толпе, прислушивалась к речам, которые звучали. Меня потрясло то, как не похоже было мое настроение на настроение остальных присутствующих. Здесь болтали, смеялись, произносили патриотические речи и говорили о политике. Торговки продавали духи, пудру, пирожки. Одна женщина бойко торговала песенками, любовными романами, сонниками и патриотической литературой… А некоторые вслух издевались над теми, кого осудил сегодня Трибунал.
Хоть я и была в отчаянии, все это вызывало у меня приступ гнева. Я ненавидела толпу, чернь, называемую ныне народом. Ей лишь бы кровь, лишь бы расправы. Испокон веков она творила все самое мерзкое и презренное, что было в истории. Когда судили Иисуса, толпа вопила: «Распни! Распни!» А потом столетиями поклонялась ему. Впрочем, сейчас так же легко его низвергла. Народ любил жирондистов, и по воле того же народа их обезглавили. Ему было все равно, кого убивать… И я внезапно поняла: террор никогда не уступит место любви. Толпе нужна кровь, чтобы утолить жажду. И только когда этой крови станет так много, что это вызовет тошноту и отвращение, когда кровавые испарения станут душить толпу, – только тогда террор прекратится и Революция закончится. Оставив в качестве апофеоза целые груды отрубленных голов.
Стали выводить осужденных. Первой вышла женщина лет сорока, одетая бедно и неопрятно. Это была служанка, виновная в том, что при виде осужденных воскликнула: «Ах, несчастные!» Вышел неприсягнувший священник, который якобы утверждал, что для блага Франции нужен король, а Конвент и его свита поедают больше, чем старый режим. Вышла юная девушка, почти ребенок, белокурая и хорошенькая, приговоренная к смерти за то, что, не имея денег, торговала собой и совращала патриотов.
«Вязальщицы», жестокие и тупые, потешались над приговоренными.
– Верно делают, что не дают им спуску!
– Меньше будет в Париже заразы!
– Не сиди так прямо, ты, шлюха! Вот как чихнешь головой-то в корзину, спеси сразу поубавится!
Меня била лихорадочная дрожь. Я всматривалась в лицо каждого, кого выводили и усаживали на роковые телеги. Офицер, стекольщик, аристократ, снова офицер… Волосы у всех были очень коротко острижены, вороты рубашек отрезаны.
Я увидела Розарио.
Он был в одной рубашке, разорванной на груди и со связанными сзади руками. Кровь отхлынула от моего лица, а сердце пропустило один удар.
– Каков красавчик! – воскликнула одна из «вязальщиц». – Ясное дело, хлыщ!
– Отъявленный мерзавец! Шпионил в пользу Питта и печатал фальшивые деньги!
Как безумная, пробиралась я через враждебную толпу, и каждый злобный едкий возглас, как игла, пронзал мне сердце. Я сама не понимала, что делаю. Как смерти, я боялась того, что Розарио может меня заметить, что мой вид причинит ему дополнительную боль. Да и как я смогу взглянуть ему в глаза? Это я погубила его. Мне никогда не найти оправдания тому злосчастному, кошмарному поступку. Я, вероятно, тоже умру сегодня вечером… По крайней мере, такая острая боль пронизывала мне грудь, что я через силу дышала и едва не теряла сознание.
Ни священника, ни причастия осужденным перед смертью не полагалось. Розарио уже сидел в телеге, равнодушно глядя по сторонам; лицо его было бледно и задумчиво, он, казалось, не слышал даже душераздирающих воплей, которые испускала служанка, виновная в излишнем милосердии и теперь напрасно умолявшая о нем. Сидящая рядом с Розарио проститутка держалась прямо и важно, с наивной гордостью вскинув юную красивую головку; я видела, как брат перемолвился с ней несколькими словами.
Толпа отхлынула, едва не повалив меня. Жандармы вскочили на лошадей и окружили телеги. В одну из них влез громадный палач Сансон. Раздался приказ, и телеги тронулись, сопровождаемые некоторыми присяжными Трибунала и судьями.
Я пошла следом – не потому, что знала, зачем иду, а потому, что не идти не могла. Непреодолимая сила влекла меня туда, где был Розарио; если ему суждено взойти на Голгофу, то я обречена стать его Марией Магдалиной. Кающейся… Правда, ни криков, ни слез у меня не было, я шла, как автомат, упрямо и полубезумно. Все у меня внутри окаменело от боли и отчаяния. Если бы кто-то сейчас сильно толкнул, я бы упала на мостовую и больше не поднялась бы.
– Смерть им! Смерть им! – вопили «вязальщицы».
Сеялся мелкий холодный дождь, бил в лицо, неприятно колол глаза. Телеги ехали медленно, но я все равно отставала, едва находя в себе силы передвигать ноги. Иногда мне казалось, что это я иду на казнь. Я встряхивала головой, пытаясь опомниться, вырваться из этого странного оцепенения. Тогда мне вспоминалось прошлое. Я встретила Розарио совсем недавно, но успела полюбить его – за жизнелюбие, оптимизм, смелость и непобедимое легкомыслие, с которым легче переносить все эти кошмары. Он был такой веселый, страстный, неунывающий. Он был мне опорой. И он погибнет. Так, как все, кто окружает меня. Должно быть, я приношу несчастье…
Страшное отчаяние снова захлестнуло меня, я ощутила горе с такой силой, что не могла не вскрикнуть, и остановилась, пошатываясь и прижимая руку к груди. Мы уже были в конце улице Сент-Оноре. Телеги на мгновение остановились, и какой-то весельчак, обмакнув метлу в чан с красной краской, кропил их водой.
Процессия повернула направо, на площадь Революции, и я увидела чудовищную статую Свободы. А рядом – эшафот и ужасную двуногую химеру – гильотину.
Жандармы окружили ее. Я стояла примерно в двадцати туазах оттуда, но видела, как сбегаются к эшафоту голодные псы, жадно предчувствуя щедрую порцию крови. Торговки ни на миг не прекращали своего занятия. Казни давно утратили необычность, торжественность. Они происходили каждый день, превратились в ритуал, нечто совершенно обыденное, само собой разумеющееся. Палач хотел поскорее закончить свою работу. Едва телеги остановились, я видела, как юную уличную нимфу поторопили взойти на эшафот.
Ее белокурая хорошенькая головка, окруженная еще нимбом детства, быстро исчезла под ножом. Служанка, сидевшая в телеге, разразилась ужасными воплями. Помощники палача схватили ее и потащили к эшафоту, тем временем как Сан-сон показывал отрубленную голову проститутки собравшейся толпе.
– Быстрее, быстрее, еще быстрее! – весело кричал один из присяжных.
Какой-то патриот бойко затянул:
Гильотина, не зевай, Работать не переставай! Эй, на гильотину!В груди у меня словно что-то оборвалось. Я видела, как сошел с телеги Розарио. Руки его были связаны сзади, и это подчеркивало природную силу его широких плеч. Он был молодой, сильный мужчина, «отменный», как сказала бы Маргарита, виновный только в том, что защищал свою сестру. Палач, показав голову служанки народу, швырнул ее в корзину. Кровь потоками струилась сквозь доски эшафота, и псы жадно лизали ее. Тела гильотинированных бросали на телегу, чтобы отвезти на кладбище, сбросить в общую яму и засыпать гашеной известью. Именно так была погребена и Мария Антуанетта…
Точно молния вспыхнула у меня в голове, ярко-красный туман застил глаза. Я увидела Розарио там, у того места, увидела, что его голова почти исчезла под страшным треугольником. На миг и слух, и дар речи, и зрение покинули меня, я словно заледенела. Потом приветственные крики толпы пробудили меня. Пелена упала с моих глаз, и, как в кошмарном сне, я увидела Сансона, показывающего голову Розарио народу…
Кровь заливала эшафот. Кровь была на палаче, гильотине, жандармах, кровь алела на лбу каждого из присутствующих, как каиново пятно. Голова Розарио полетела в корзину.
Раздался громкий, полубезумный крик, отчаянный вопль, вмещающий и боль, и гнев одновременно. Все оглянулись. Пошатнувшись, я оперлась рукой на чей-то локоть. И только потом поняла, что это был мой крик.
– Видно, родственница! – произнес кто-то в толпе.
Мужчина, поддержавший меня, вполголоса проговорил:
– Уходите поскорее отсюда, несчастная. Здесь все кишит агентами Комитета. Уходите, если вам хочется жить!
Я пошла. Толпа расступалась передо мной, словно каждый боялся, что его заподозрят в том, что он со мной знаком. В сущности, мне сейчас было все равно, остановят меня или нет… С тем криком выплеснулась вся боль и ушло оцепенение. Я очень страдала от того, что случилось, но внезапно поняла, что что-то иное мучит меня. Что-то несделанное, незавершенное, то, что я не имею права не сделать… Но что?
Розарио больше нет. Я шла, сознавая это и бесцельно глядя перед собой. Взгляд у меня был блуждающий, лицо даже под дождем пылало, единственная слеза прокатилась по щеке. Кто-то толкнул меня, кто-то выругал за невнимание и обозвал пьяной. Я чувствовала, что вся горю. Что же я должна сделать?
У одного из домов сознание у меня прояснилось. Розарио казнен. Кто виновен в его смерти? Кто заслуживает самого беспощадного наказания, самой ужасной мести? Это имя всплыло у меня в памяти, вызвав такой приступ ярости, что я на миг задохнулась.
– Белланже! – выдохнула я.
А скорее всего мои губы сами собой сказали это. Человек, равного которому по подлости я не встречала, мерзавец и негодяй, посадивший Розарио в тюрьму только за то, что тот осмелился вступиться за свою сестру. Да имеет ли он право жить на свете после того, как причинил ему и мне такое горе? Он убийца. Он виноват во всем…
– Он должен заплатить, – хрипло и яростно прошептала я.
Я не знала, что сделаю и как. Я лишь пришла к окончательному решению. Я не позволю Белланже жить, если Розарио мертв. Я не верну этим брата, но я восстановлю справедливость. Я сама не смогу жить, если не сделаю этого. Смерть Розарио станет мне вечным укором, но жизнь Белланже навсегда отберет у меня спокойствие. Я испытывала невыносимую муку, сознавая, что этот ублюдок еще живет со своей толстухой женой, пьет чай и похотливо пристает к своим жилицам… Я положу этому конец. Существование нас двоих на этом свете совершенно невозможно.
Теперь я бежала по улице, попадая ногой в лужи, спотыкаясь, сгорая от лихорадочной ярости и время от времени тупо повторяя:
– Он должен заплатить. И он заплатит.
5
Я плохо сознавала, куда иду, и ноги сами привели меня к дому на Королевской улице, где жили мы с Изабеллой. Задыхаясь, сжимая виски пальцами, я поднялась по шаткой лестнице, ведущей в мансарду, и у самой двери замерла. Чего я хочу? Что я здесь делаю? Я сделала усилие, пытаясь понять это. Должно быть, мне нужна Изабелла. Да, именно она… У нее есть связи среди заговорщиков, она поможет достать какое-нибудь оружие. А если нет, то я придумаю что-нибудь сама, я ограблю оружейную лавку, но Белланже заплатит за свой поступок. Мне не будет жизни, если я не убью его. У меня мелькнула мысль, что так, наверное, думал и Антонио в случае с Антеноре Сантони, но потом рассудок снова замолчал, и глаза заволокло кровавым туманом. Толкнув дверь, я без сил прислонилась к стене, чувствуя, как от слабости подгибаются ноги. Комната кружилась у меня перед глазами, во рту было сухо и солоно.
Тихий мужской смех привел меня в чувство. Блуждающим взглядом я обвела мансарду. Головокружение прекратилось, но только спустя минуту я поняла, что в комнате Изабелла не одна. Вероятно, с ней ее любовник. Это действительно было так: когда взор у меня прояснился, я увидела на простынях два сплетенных тела, волосы Изабеллы, рассыпавшиеся по подушке, и мужскую руку, нежно ласкающую их. Они оба были так увлечены, что даже не заметили моего прихода. Хотя я наделала шуму больше, чем медведь в орешнике.
Я не почувствовала даже самого слабого укора совести за то, что вижу их в столь откровенной позе. Их одежда была беспорядочно свалена в единственном нашем кресле, мужские сапоги стояли тут же. Я готова была повернуться и уйти, но увидела, как что-то блеснуло в этом ворохе одежды.
Это была рукоятка дорогого, инкрустированного перламутром испанского пистолета.
Мне не надо было даже думать, я инстинктивно поняла, что сейчас сделаю. Секунда – и внушительных размеров тяжелый пистолет оказался в моей ладони. В его рукоять была вделана изящная серебряная пластина, на которой тонкими буквами было выгравировано:
Александру дю Шатлэ от Анабеллы де Круазье.
Изабелла застонала от удовольствия, но даже это не привлекло моего внимания. Я забыла и о ней, и о надписи. Не задумываясь, я вышла из комнаты, чувствуя такое исступление, что сейчас меня не остановил бы никто.
У входной двери я задержалась, сунула пистолет за пояс юбки, плотно запахнула шаль и выскочила на улицу под надоедливый моросящий дождь, собиравшийся, казалось, идти вечно.
6
Долгое время я бродила по городу, с трудом удерживаясь от желания свести с Белланже счеты немедленно. Но, в каком болезненном состоянии я ни была, я все же понимала, что для моего намерения нужна была темнота, иначе добрые патриоты, сбежавшись на выстрел, легко поймают меня и отправят вслед за братом. Но у меня есть Жанно… Нет, я должна сохранять благоразумие, пусть даже для этого нужно будет приложить нечеловеческие усилия.
Время текло крайне медленно. Мне казалось, я уже целую вечность брожу по бесконечным улицам этого страшного города, охваченного безумием и страхом. Погода была мерзкая, дождь то прекращался, то начинался вновь, налетал холодный ветер с Сены, вздымая колоколом мою юбку. Я звенела зубами от холода, а пистолет мертвой сталью впивался в тело. Можно было зайти погреться в какую-нибудь лавку, но я в каком-то исступлении шла все дальше и дальше, не обращая внимания ни на усталость, ни на холод и чувствуя, как пылает у меня лицо. Подсознательно я надеялась этим хоть немного унять терзавшую меня боль. Я старалась не думать о Розарио, но ничего не получалось, слишком свежа была рана… Когда стало смеркаться и где-то вдали часы пробили шесть, я в отчаянии подумала: «Пять часов назад Розарио был еще жив», – и сердце снова сжалось от жгучей боли. Мне вспомнились крики толпы, вопли «вязальщиц» и окровавленные руки палача, показывающего пароду голову брата. Мне стало жутко. Должно быть, я нигде не избавлюсь от этого кошмара, он будет сниться мне по ночам…
Даже после казни отца мне не было так плохо, как теперь. Тогда мы с братом нашли друг друга. Мне было на кого опереться, кому довериться. А теперь я была одна. Революция уничтожила всех, кто хоть немного заботился обо мне. И снова ненависть всколыхнулась у меня в душе – ненависть, требующая утоления, немедленного и кровавого. Я не способна была соображать.
Окна домов светились мягким ласковым светом. Кое-где уже садились ужинать, если было чем, конечно. Улицы совсем опустели, стало темно, так как в целях экономии фонари теперь зажигались только в центре города. Редкие прохожие стремились поскорее миновать неосвещенные участки дороги, явно опасаясь грабителей. Я тупо подумала, что мне сейчас на это наплевать. Я больше боялась республиканских патрулей. У меня нет свидетельства о благонадежности, меня сразу заберут в тюрьму… А ведь я еще должна сделать свое дело. Поэтому я шла тихо, у самых стен домов, прислушиваясь к малейшему звуку, ярость и отчаяние придали мне хитрости и коварства и словно обострили слух.
На исходе был седьмой час вечера, когда я тенью скользнула в открытые ворота внутреннего дворика дома Белланже. Ни один человек не встретился мне по дороге. Тихо пройдя мимо фонтана, я приблизилась к дому и, прижавшись к стене, осторожно заглянула в освещенное окно кухни.
Гражданка Белланже поджаривала омлет.
Достав из-под шали пистолет, я проверила, не отсырел ли порох, и, поглядывая на склонившуюся над сковородкой хозяйку, впервые задумалась о том, что собираюсь сделать. Я пыталась размышлять трезво и рассудочно, но мысли у меня путались, как это всегда бывает в состоянии аффекта. Проникнуть в дом? Это легко, но если мне, предположим, удастся застрелить Белланже, то на выстрел прибежит его жена, сбегутся жильцы и задержат меня. Этого никак нельзя допустить… Но что же, в таком случае, делать?
Лихорадочно соображая, я наблюдала за хлопотавшей над ужином хозяйкой. Она вдруг повернула голову и что-то сказала. Ее собеседник находился вне поля моего зрения, но сердце у меня в груди застучало оглушительно гулко. Я ни на миг не отрывала глаз от мокрого запотевшего окна.
Толстуха вновь вернулась к своему омлету, и моя рука судорожно сжавшая пистолет, опустилась. Дрожь пробегала по телу, нервы были напряжены так, что временами я была на грани обморока и совершенно отчетливо сознавала, что долго так не выдержу. Мне надо забыться. Но…
Проковылявшего через кухню Белланже я заметила раньше, чем его собственная супруга. Едва увидев мелькнувшую в окне тень на костылях, я ощутила, как сильно кровь прихлынула к моему лицу. Я подняла пистолет. Ужасная слабость разлилась по телу, я держала оружие двумя руками и все равно ощущала страшную тяжесть. Палец лихорадочно дрожал на спусковом крючке. В голове снова вспыхнула картина казни, кровь, струившаяся сквозь доски эшафота, и словно тысяча молний, сверкнув разом, погасили мое сознание.
Я спустила курок.
Еще ничего не видя и не понимая, я машинально перезарядила пистолет и продолжала стоять все в той же напряженной позе, вытянув вперед руки, сжимающие оружие. Я вся горела.
И я увидела, как, освещенный лампой с тремя горевшими в ней свечами, Белланже дернулся, выпустил костыль и стал медленно оседать на пол. Стекло зазвенело и пошло трещинами. Я даже не осознала, как ужасно громко прозвучал выстрел в вечерней холодной тишине. Я не понимала, куда попала. Но Белланже упал. Значит, он был ранен… Все эти несложные выводы невероятно туго доходили до моего сознания. Я перестала думать. И в то же мгновение ощутила, как снова плывет по телу ненависть и ярость.
Эта туша, распростертая сейчас на полу, не была для меня человеком. Это было существо, причинившее мне ужасный вред, существо, которое я была обязана уничтожить, чтоб оно не укусило других. Отвращение прихлынуло к горлу.
Я выстрелила снова.
Лопнуло, вдребезги разбившись, стекло. Кровь окрасила лоб Белланже. Его жена, в страхе смотревшая на упавшего мужа, издала полный ужаса вопль. На мгновение его глаза встретились с моими глазами.
Я зашаталась. Дрожь сотрясла меня, пальцы разжались, пистолет грохнулся оземь. Только Богу известно, как я не упала вместе с ним. Ужас случившегося только теперь дошел до меня. Я бросилась бежать куда глаза глядят и, завернув за угол, услышала сзади хлопанье дверей и крики:
– Держите убийцу!
Не оглядываясь, я бежала по Малому мосту, и страх подгонял меня. Я не знала, что это за страх и чего именно я боюсь. Это был слепой, безотчетный ужас перед тем, что я совершила и что теперь мне угрожало. Иногда сознание у меня туманилось так, что мне казалось, что я схожу с ума.
Меня никто не преследовал. Возможно, они потеряли мой след. Напряжение, поддерживающее меня в течение дня, мало-помалу спадало, и я ощущала страшное бессилие. Снова пошел дождь, но даже ледяные капли, стекавшие по моему лицу, не могли остудить лихорадочно горевшие щеки. Я с трудом узнавала знакомые очертания улиц и время от времени вынуждена была останавливаться, чтобы, прислонясь к стене дома, подождать, когда перестанет шататься у меня под ногами земля и прекратят свое бешеное кружение дома вокруг. В ушах у меня шумело, и тысячами маленьких молоточков стучала в висках кровь. С невероятным трудом я заставляла себя идти. До меня уже стало доходить, что у меня горячка. Видимо, я больна.
«Я убила Белланже», – тупо подумала я. Да, я убила его собственными руками, но не чувствовала ни облегчения, ни радости, а только усталость и страшную слабость.
Когда я, наконец, дотащилась домой, было уже совсем поздно. Почти ползком поднявшись по лестнице, я распахнула дверь, тяжело опираясь на косяк. Я увидела два силуэта – мужской и женский, – четко выделявшиеся на фоне окна.
Женский силуэт бросился ко мне, и я узнала Изабеллу.
– Сюзанна, ради всего святого! Где вы были?
Хорошо, что она поддержала меня. Силы покинули меня, я была готова упасть на пол.
– Александр, помогите мне! Она теряет сознание.
Какие-то сильные руки подхватили меня, перенесли на постель. Я смутно понимала, кто это. Я запомнила лишь запах – едва уловимый аромат нарда и сигар.
– Только этого нам не хватало! – раздраженно произнес мужской голос. – Изабелла, ваша подруга пьяна.
– Нет. Она не пьяна. Я же говорила вам, ее брат…
Мужчина опустился на табурет рядом с кроватью.
– Мадам де ла Тремуйль! – сказал он резко и требовательно. – Это вы взяли мой пистолет?
Я пошевелила губами, но не произнесла ни звука, и поэтому слабо кивнула, хотя смутно понимала, о чем он спрашивает. Его пистолет? Но разве он его? И если это так, то кто же он?
– Я была права, – проговорила Изабелла. – Не беспокойтесь, Александр.
– И где же он теперь, сударыня?
– Что? – прошептала я.
– Мой пистолет, где он? Ведь при вас его нет.
Заметив, что я впадаю в забытье, мужчина энергично встряхнул меня за плечи:
– Где мой пистолет, извольте отвечать, сударыня!
– Да вы с ума сошли! – прошептала Изабелла. – У бедной женщины горячка. У вас нет сердца. Не будьте так мелочны! Какое теперь имеет значение ваш пистолет?
– Какое значение? Черт побери, моя дорогая! Пистолет был с монограммой. Там ясно написано: «Александру дю Шатлэ…»
– От кого? – спросила Изабелла.
– Не важно от кого. Важно то, что если эта вещь окажется в руках полиции, под угрозой буду не только я, но и все дело.
Уяснив, наконец, чего от меня хотят, я пыталась ответить.
– Кажется… кажется, я убила Белланже. А пистолет… Не знаю. Может быть, я обронила его там.
Я не видела лица напряженно слушавшего меня человека, чувствовала лишь его руки, сжимающие мои плечи, и мне это не нравилось. Я едва слышно застонала. Он разжал руки – то ли из жалости ко мне, то ли из-за того, что он узнал, что я совершила.
– Где же это случилось, мадам? – продолжал допрашивать меня незнакомец. – Где вы совершили свой подвиг?
Закрывая глаза, я прошептала адрес, надеясь, что теперь от меня, наконец, отстанут.
– Она потеряла пистолет, – откуда-то издалека, будто через слой ваты, донесся голос незнакомца. – И она совсем больна. Пожалуй, никак нельзя заподозрить, что она сделала это нарочно.
– Вы отправитесь на улицу Сен-Жак, Александр? – спросила Изабелла.
– Немедленно.
– Но ведь это очень опасно, вас могут узнать.
– Будет гораздо опаснее, если пистолет найду не я, а другие.
Он поцеловал Изабеллу.
– Прощайте, мадам. Мне жаль, что наша встреча так скомкана.
– Увижу ли я вас еще, по крайней мере?
– Я сообщу вам.
Хлопнула дверь. Я снова открыла глаза, пытаясь прийти в себя. Но комната внезапно закачалась, стала расплываться, перед глазами вспыхнули огненные круги, и, потеряв сознание, я провалилась в черную бездну горячечного забытья.
ГЛАВА ВТОРАЯ ГРАЖДАНКА КАРОЛИНА БРЕТВИЛЬ
1
Поправлялась я не так быстро, как следовало. Аптекарь, приглашенный Изабеллой, сказал, что это сильное нервное потрясение вызвало у меня жар и лихорадку и что если я успокоюсь, пройдет и болезнь. Изабелла поняла это и меня не тревожила.
На рассвете она уходила в пекарню, оставляя меня на попечение Авроры. Я давно уже была в сознании и больше не бредила, но под вечер у меня снова начинался жар, а от тяжелых мыслей невыносимо болела голова. Я была бы рада ни о чем не думать. Но Аврора убегала играть с соседскими девочками, а я, отпустив ее, лежала, уставившись в потолок, и только и делала, что думала.
Что я сделала? Я застрелила Белланже. Правда, я не знала, застрелила ли насмерть, но мне казалось, что он убит. По крайней мере, я тогда все силы собрала для того, чтобы сделать это. Стало быть, я уже трижды убийца. Но если безансонский гвардеец и герцог де Кабри сами заставили меня защищаться, то теперь речь шла о мести.
Жалела ли я о содеянном? Я знала лишь то, что сейчас такого бы не повторила. Но дело было сделано, и я не видела причин для раскаяния. Во время болезни мне часто вспоминался отец, всплывал в памяти последний разговор с ним. Республика убила моего отца. Человека, который был мне так нужен… Сейчас думать об этом было так же больно, как раньше… Республика расправилась с Розарио. В моем воображении мерзкий образ квартирохозяина разрастался до невероятных размеров, превращаясь в собирательный образ врага. А враги так преследовали меня, что рано или поздно я должна была не сдержаться. Видит Бог, я не святая. Я не умею все время прощать. Может быть, это мой грех. Но иначе я не могу.
Честно говоря, меня больше тревожило то, какую массу неприятностей я доставила любовнику Изабеллы. Как его имя? Увы, я даже не запомнила. Вероятно, он уехал из Парижа. Во всяком случае, у Изабеллы он не показывался, а я еще была слишком слаба, чтобы расспрашивать подругу.
А как глупо было с моей стороны поверить в политику «умиротворения и прекращения террора»… Она продолжалась всего шесть дней. Камилл Демулен, осмелившийся требовать открытия тюрем, был исключен из клуба якобинцев. Комитет справедливости, призванный пересматривать постановления об аресте, был с молниеносной быстротой упразднен. А самый главный человек в Республике Максимильен Робеспьер выступил в защиту самого беспощадного террора. Его слово решило все. Репрессии вспыхнули с новой силой.
В Лионе, который нес теперь кару за свой мятеж против священной Свободы, конца не было казням и расстрелам. Кровь реками текла в канавах площади Терро, Рона несла обезглавленные трупы. Приговоренных комиссары Конвента Фуше и Колло д'Эрбуа заставляли рыть себе могилы, а солдат поучали, как следует правильно устраивать бойню. Колло, вырвав у гвардейца ружье, сам стрелял по узникам: «Вот как должен стрелять республиканец!»
В Тулоне, отвоеванном у англичан молодым генералом Бонапартом, практиковались массовые расстрелы из пушек, а комиссар Барер клятвенно повторял: «Тулон будет срыт весь! Его имя впредь – Пор-де-ла-Монтань![8]»
В Нанте комиссар Каррье грузил связанных священников на баржи и приказывал выбивать у них дно. Наблюдая, как судно погружается в воду, он весело повторял: «Приговор был исполнен вертикально!» Он же устраивал расправы в долине Сен-Мов, где женщины с грудными младенцами партиями по 500 человек подвергались беспощадному расстрелу. Когда баржей для потопления стало мало, ими решили не жертвовать. Было гораздо проще сталкивать узников в воду со связанными руками, а затем поливать свинцом все пространство реки. Жестокость не обходилась без глумления. Женщин раздевали донага, бросали в воду их детей, утверждая: «Это волчата, из них вырастут волки!» Иногда женщин и мужчин связывали вместе, называя это «республиканской свадьбой».
Тела неслись к морю волнами Луары, стаи ворон затемняли реку, волки бродили по песчаным отмелям… Каррье, созерцая это, восклицал: «Какой революционный поток!»
Они все были маньяками, помешанными. Как-то иначе их поступки объяснить невозможно. О чем, как не о маниакальном психозе, свидетельствует поведение депутата Лебона в Аррасе, по приказу которого матери должны были смотреть на казнь своих детей, а сам он, обмакивая свою шпагу в кровь, текущую с гильотины, говорил: «Как мне это нравится!» Подобных людей нужно было держать в сумасшедшем доме, а вместо этого они сидели в правительстве и совершали революцию.
В Республике было 44 тысячи тюрем. Вся Франция превратилась в один огромный застенок.
Как-то вечером Изабелла вернулась в особенно дурном расположении духа.
– Введены хлебные карточки, – сообщила она мрачно.
Мы обе знали, что это означает. У нас не будет больше гарантированной порции хлеба по 3 су за фунт. Карточки полагаются тем, у кого есть свидетельство о благонадежности. Нам придется доставать хлеб на черном рынке по бешеной цене.
На следующее утро я, несмотря на протесты Изабеллы, пошла вместе с ней в пекарню. Жить на ее деньги дальше было невозможно. Гражданка Мутон встретила нас хмуро. Благополучие ее торговли было поставлено под угрозу. Она специализировалась на выпечке сдобы и сладостей, а Коммуна в один момент запретила выпекать пирожные и бриоши. Запрет был строжайшим, наказание – тюрьма. Теперь полагалось выпекать лишь так называемый «хлеб равенства» из смеси пшеничной муки с ячменем, овсом или кукурузой, да еще и продавать это по низкой принудительной цене, не окупавшей затрат. Булочница объявила нам, что отныне мы будем получать по сорок су в день.
Мы переглянулись.
– Таковы дела, красавицы! – заявила гражданка Мутон. – Если вам что-то не нравится, попробуйте найти себе другое место.
Это было так же трудно, как достать звезду с неба.
Новый 1794 год принес нам сплошные неприятности. В первой декаде января ударили морозы, и Сена покрылась льдом. В результате подвоз угля прекратился, а если какой-то барже и удавалось достичь Парижа, то в гавани в очереди на нее дежурили по пять-шесть часов. Лесорубы были снаряжены в Булонский, Венсенский и Верьерский леса и в Сен-Клу, но сажень дров стоила целых четыреста су, и мы при нашем заработке не могли себе этого позволить. В то же время холода были такие, что без отопления мы бы замерзли. Поэтому, как-то вечером, мы с Изабеллой распилили во дворе стол и кресло на дрова. Не мы одни придумали такой выход. Многие парижане жгли свои кровати, этажерки, столы. Разумеется, полученные дрова приходилось использовать очень экономно. Мы топили только дважды в день: утром – чтобы согреть завтрак и чай, и вечером – чтобы не умереть от холода.
До самого дна замерзли городские бассейны и водоемы, водовозам приходилось ездить за водой в отдаленные места реки, и подвоз воды резко вздорожал. Теперь за него следовало отдать целых 20 су. Таких денег у нас не было. По очереди мы с Изабеллой сами таскали ведра с водой и молились, чтобы поскорее настала оттепель. Иногда мы скалывали лед с замерзших фонтанов, а затем оттаивали его, чтобы иметь воду.
С продовольствием становилось все хуже и хуже. К картофелю и овощам было не подступиться. Одна морковка на рынке стоила 4 су, кочан капусты – 12–15 су. Сушеных овощей, риса, чечевицы, бобов вообще не было – все поглотили военные склады. Все мясо уходило к богачам, которые много платили, беднякам оставались последки, к которым принудительно добавлялись кости. Фунт этого мяса стоил 18–25 су, но купить его было невозможно. У мясных лавок очереди собирались с полуночи и выстраивались вдоль веревки. Шутники иногда перерезали ее, начинались ссоры, драки, потасовки, а тем временем дюжие молодцы выносили из лавок без всякой очереди целые туши.
Все продукты были нормированы – сахар, растительное масло, соль, молоко. Но у нас ни на что не было карточек. Мы ходили на рынок, где все стоило еще дороже, несмотря на «максимум». Питались мы крайне скудно и, наверное, голодали бы, если бы не работа в пекарне гражданки Мутон. Как я ни старалась, я не могла сэкономить ни одного су для Маргариты и мальчиков. Работа и походы за водой забирали все мое время, я никак не могла вырваться в Сен-Мор-де-Фоссе, чтобы повидаться с сыном. Кроме того, я была слишком слаба, чтобы идти туда пешком.
Я подумывала о том, чтобы снова взяться за кружева и вязать их по ночам, для приработка. Но сначала было нужно скопить деньги на материал и нитки, а это мне никак не удавалось.
Однажды, идя по Скобяной набережной и прижимая к груди драгоценный фунт костей, из которых предполагалось сварить бульон, я была остановлена процессией конных жандармов. Это были уже знакомые мне телеги с приговоренными. Они двигались по Новому мосту по направлению к площади Революции.
– Гляди-ка, все генералы!
– Ошаро, Брюнэ, Ламарльер – все они изменники!
Когда процессия приблизилась, я с внутренней дрожью оглядела осужденных, всех поголовно шпионов Питта и заговорщиков. Все они сидели, вяло уронив голову на грудь, без отчаяния, но и без мужества. Телега как раз огибала меня, когда профиль одного из приговоренных показался мне знакомым.
Это был Франсуа. Адмирал де Колонн, мой муж, гражданский брак с которым давно уже был разорван, но церковный еще связывал меня с ним. Я не поверила своим глазам. Франсуа – он с самых первых дней революции был так предан ей, что даже предал меня. Какова его вина? За что он будет казнен?
Испытывая какое-то тягостное чувство, я последовала за телегой. Этот мужчина причинил мне много боли и горя. Он даже коварно уверил моего отца, что я убита в тюрьме Ла Форс. Но все же нас в прошлом что-то связывало. С каким-то непонятным упрямством я была влюблена в Франсуа, я ждала от него ребенка, я ссорилась и мирилась с ним, а иногда была даже счастлива. Теперь его везли на гильотину, а рядом с ним не было никого. Даже его матери.
– В чем он виновен? – машинально спросила я у «вязальщицы».
– Кто? Вот тот, брюнет?
– Да.
– Проиграл бой англичанам, подонок! Туда ему и дорога!
Проиграл бой. Разумеется, офицеры Республики должны только побеждать. У меня засосало под ложечкой. Видит Бог, я не любила Франсуа и испытывала к нему неприязнь, но мне меньше всего хотелось, чтобы он был казнен. И как странно снова осознать, что он мой муж. Перед Богом, по крайней мере. Никогда не думала, что так легко стану вдовой.
Я дошла до самой площади Революции и видела казнь всех приговоренных. Видела, как взошел на эшафот Франсуа и как палач Сансон показывал его голову толпе. Меня охватила тоска. Тяжело дыша, я побежала прочь, спрашивая себя, зачем мне нужно было идти на площадь.
– Я снова стала вдовой, – сообщила я Изабелле.
– Не грустите! – заявила она. – Он заслуживал этого.
«Да, – подумала я. – О чем он думал тогда, когда начинал все это?»
– Мне немного жаль, – проговорила я тихо.
– По крайней мере, умер он с достоинством? – спросила Изабелла.
Я нерешительно качнула головой.
– Имел он мужество умереть или нет? Чаще всего эти революционеры горазды посылать на гильотину других, а когда дело доходит до них самих…
– Не знаю, – проговорила я. – Мне показалось, он ничего не чувствовал. Вероятно, он умер еще до того, как его обезглавили.
Я сидела, подавленная произошедшим. Как все это странно. Сама революция освободила меня от мужа. И я никогда уже не выйду замуж.
– Изабелла, а ваш… ваш любовник?
– Что?
– Я причинила ему столько неприятностей. Он уехал?
Она тяжело вздохнула. Я поняла, что потеря этого мужчины действительно для нее большая беда.
– Он еще не уехал, но уедет. Я не виню вас, Сюзанна, я знаю, в каком вы были тогда состоянии. Но Александру теперь придется туго. Именно его разыскивают за убийство. Он уедет, даже не успев закончить своих дел.
– Мне очень жаль, – прошептала я.
– Мне тоже.
Через силу улыбнувшись, она добавила:
– А знаете, он просил передать вам его восхищение.
– Восхищение?
– Да. Ваш поступок пришелся ему по душе. Если бы только не эта монограмма… Там очень ясно было выгравировано его имя: Александр дю Шатлэ.
– Вы выбрали себе в любовники представителя одного из самых знатных семейств, – произнесла я со слабой улыбкой.
– Пожалуйста, простите меня, Изабелла.
– Ничего. Я все понимаю. Но до любви ли сейчас? Я каждую минуту чувствую, как кольцо вокруг нас все сужается.
Был хмурый зимний вечер, комнату все сильнее заполнял холод. Мы сидели в полумраке, и в голове у нас были одни и те же мрачные мысли. Круг сужается. Я тоже чувствовала это. Нам наверняка не миновать тюрьмы и площади Революции.
Не знаю, почему мне вдруг вспомнился мельник папаша Бретвиль. Я поклялась ему на распятии, но до сих пор не исполнила своего обещания и не разыскала его дочь… Если уж дороге, по которой мы идем, действительно суждено привести нас в тюрьму и на гильотину, то будет лучше, если я выполню все свои обещания.
Какой сюрприз меня ожидал – этого я даже не предвидела.
2
Сияло солнце. Старые каштаны, посаженные вдоль улицы де Ла Гарп, были серебряными от инея. Несмотря на легкий мороз, погода казалась мне превосходной. Забежавшая вперед Аврора стукнула каблуком башмака по тонкому льду, покрывавшему большую лужу, и, глядя на выступившую воду, со смехом отскочила.
Я улыбнулась. В свои одиннадцать лет Аврора оставалась ребенком и, хотя и старалась иногда походить на взрослую девушку, ее поступки зачастую были по-детски шаловливы и безрассудны. Впрочем, что тут удивительного? И у меня впервые за долгое время на душе было легко и спокойно. Мне было беспричинно весело, и, слушая шедшую рядом Изабеллу, пересказывавшую мне последние издевательские сплетни о Конвенте и Робеспьере, я часто до слез хохотала над тем, что в нормальном состоянии не вызвало бы у меня даже улыбки.
Было воскресенье, день святого Антония – по-старому, конечно. Выходной мы решили провести вместе, отдыхая и развлекаясь, разумеется, после того, как я выполню обещание, данное папаше Бретвилю.
Это следовало бы сделать раньше, но у меня просто не было времени даже подумать об этом. Едва оправившись от болезни, я вернулась в пекарню, а по вечерам у меня уже не было сил идти куда-либо. Вспомнив, как старик дал мне три луидора, чтобы мы могли сесть в дилижанс и побыстрее известить о случившемся его дочь, я почувствовала, что краснею. Папаша Бретвиль сидит в тюрьме в полной уверенности, что Каролина присматривает за сестрой. А между тем по прошествии стольких дней она еще даже не знает о постигшем ее горе, о том, что ее семье нужна помощь.
– Э-э, Сюзанна, мы пришли. – Изабелла придержала меня за локоть, когда я в задумчивости хотела пройти мимо нужного дома. – Улица де Ла Гарп, двадцать пять. Мы подождем вас. Надеюсь, вы не станете болтать с этой Каролиной целый день?
Я вошла в дом. Внутри царил полумрак, пахло тушеной бараниной и горячей сдобой – мне стало плохо от этих запахов. Маленькая старушка в башмаках на босу ногу, выглянувшая из кухни с ножом в руке, вопросительно посмотрела на меня.
– Я бы хотела повидаться с гражданкой Каролиной Бретвиль. Вы не подскажете, где ее можно найти?
Я умышленно избегала обращения на «ты». По опыту мне было известно, что пожилые люди более любезны с теми, кто придерживается старой манеры в обращениях.
– Откуда же мне знать, где бродит эта шлюха! – с неприкрытой неприязнью бросила старуха. – Может, в Пале-Рояль, а может, в своем театре. Здесь она не показывается уже которую неделю. Еще когда мальчонка был, то хоть иногда забегала, а как отдала его чужим людям, то и наведываться забыла. Дрянь она! Потаскуха и дрянь! Даже сына не пожалела. И вам, гражданка, грешно с такой женщиной водиться.
Я слушала все это, мало что понимая.
– Вы говорили, что Каролину можно найти в театре. Она что, актриса?
Старуха скорчила презрительную гримасу, которая отнюдь ее не украсила.
– Да так, актрисенка! Подай-принеси. Показывается изредка на сцене, но главных ролей ей не дают. Да и как дать, когда она говорить не может, только сипит!
Не слишком вежливо прервав болтливую старуху, я попыталась направить разговор в нужное мне русло:
– Не знаете ли вы, в каком театре работает Каролина?
– Да мне ли этого не знать! В Народном, в том, что недавно закрывали. Всех актеров похватали да в тюрьму отправили, а она, стало быть, выкрутилась.
Она потянула носом воздух и опрометью бросилась на кухню.
– Прощайте, голубушка! У меня мясо горит.
Недоумевая, я даже не попрощавшись вышла на улицу.
После душного полумрака солнечный свет морозного ясного утра показался мне особенно ярким.
– Мама, мама, мы теперь идем на площадь Революции смотреть Скарамуша? – весело крикнула подбежавшая Аврора.
Мне стало тошно при одной мысли о том, что я пойду на эту страшную площадь, но я сдержала себя. Аврора раскраснелась и выглядела такой счастливой.
– Ну, так мы идем или нет? – настойчиво повторила Аврора.
– Пойдем, но чуть позже. Зайдем сначала в театр, хорошо? Изабелла настороженно посмотрела на меня.
– Что-то случилось?
– Нет. Но Каролину нельзя застать дома. Она, оказывается, актриса. Мне наговорили о ней кучу не очень лестных вещей.
Изабелла, жившая в последние дни постоянным предчувствием несчастья, облегченно вздохнула.
– Дорогая моя, я не совсем понимаю мотивы, заставляющие нас разыскивать эту особу по всему городу.
– Но вы пойдете со мной, Изабелла, не так ли?
– Так.
– Ага! – вмешалась Аврора, беря меня за руку. – А после мы непременно пойдем смотреть Скарамуша, правда?
Первое, что мы услышала, войдя в «Комеди Франсез», а ныне Народный театр, – это тихое женское пение и звуки виолончели, доносившиеся откуда-то из глубины здания. И растерянно оглянулась по сторонам. В этом месте я не бывала уже несколько лет, да и вообще я знала здесь только зал.
Из бокового коридора выбежал мужчина, наряженный в римскую тогу. Мы уставились на него во все глаза. Не обращая на нас внимания, он направился к широкой мраморной лестнице.
– Гражданин! – окликнула я его. – Постойте, гражданин! Мужчина обернулся и недовольно посмотрел на меня.
– Скажите мне, где я могу найти Каролину Бретвиль? У меня к ней срочное дело.
Незнакомец произнес очень быстро, почти скороговоркой:
– Она в гримерной. Третий этаж, вторая комната налево, поднимитесь туда черным ходом.
Повернувшись к нам спиной, актер побежал по лестнице вверх.
– Эй, а где находится этот черный ход? – крикнула ему вдогонку Изабелла.
– Прямо по коридору, потом направо. Сами увидите.
Поднявшись по узкой, давно неметенной лестнице, мы вошли в длинный коридор с низким потолком и грязными серыми стенами. Здесь ужасно пахло дешевыми духами.
Я настойчиво постучала в указанную актером дверь и, не дожидаясь ответа, толкнула ее. Передо мной открылась маленькая, тесная комнатка.
Рыжеволосая женщина, сидевшая перед зеркалом с кисточкой для помады в руке, недовольно повернула голову в нашу сторону. Она вовсе не была красива, черты ее лица казались грубыми, как у крестьянки. Румянец на щеках был явно фальшивый. Она была моего возраста, но годы уже оставили на ее лице след в виде мелких морщинок у накрашенных глаз.
У нее был посетитель – мужчина в красном фригийском колпаке и распахнутой на груди карманьоле. Небрежно раскинувшись в глубоком кресле, он не обращал на нас внимания, полагая, вероятно, что мы – восторженные поклонницы таланта гражданки Бретвиль.
– Мне нужно поговорить с вами, – обратилась я к женщине, прерывая затянувшуюся паузу.
– Ну, – ответила она оборачиваясь.
На какой-то миг ее лицо исказила странная гримаса, в глазах сверкнула искра удивления и злости. Я вздрогнула. Может, мы уже где-то встречались? В том, как она меня разглядывала, было что-то подозрительное.
– Я должна передать тебе поручение отца. Он…
– Как, этого мерзавца еще не гильотинировали? – перебила меня Каролина.
Она вскочила с места и, подойдя к мужчине, схватила его за плечо.
– Нет, Жак, ты только послушай. Негодяй смеет обращаться ко мне с поручением, и это после того, что он сделал со мной!
Мужчина, которого назвали Жаком, молча пожал плечами и уставился в потолок, дав понять Каролине, что это его нисколько не интересует.
Я, признаться, уже не надеялась, что Каролина выполнит просьбу отца и позаботится о своей сестре. Видимо, отношения между ними были хуже, чем я представляла. Но, в конце концов, какое мне до этого дело.
– Он простил вас, Каролина, – как можно мягче сказала я, надеясь, что отец все-таки что-то еще значит для этой девицы, несмотря на ту неприязнь, которую она к нему выказала.
– Простил! Ах, простил! – вскричала Каролина. – Это надо же! Подлец, какой подлец!
В ярости выкрикивая ругательства, она не заметила, как впилась ногтями в голое плечо своего Жака. Вскрикнув, он сильно ударил ее по руке и, чертыхаясь, пересел на подоконник. Каролина и не думала оставлять своего приятеля в покое. Наклонившись, она принялась что-то шептать ему на ухо.
– Да ну? – сказал он, выслушав ее.
Сдвинув колпак набок, он в упор уставился на меня, ежеминутно ухмыляясь. Изабелла дернула меня за руку.
– Что это еще за спектакль, Сюзанна? – прошептала она.
Сжав зубы, я перевела взгляд на Каролину. Я ничего не понимала, и мне с каждой секундой все больше хотелось прекратить этот визит и убраться отсюда.
– Твой отец в тюрьме. Он просит тебя приехать позаботиться о нем. Это все, что я хотела тебе сказать.
Повернувшись, я направилась к двери. Каролина подалась вперед, схватила меня за руку.
– При чем здесь мой отец, принцесса, речь ведь шла о твоем папаше!
Я остановилась. Мне показалось, что я окончательно потеряла всякое понимание этого разговора. А эта Каролина – она что, сошла с ума?
– Какое же, по-вашему, отношение может иметь мой отец к этому делу? – спросила я как можно спокойнее.
Ситуация становилась все более нелепой. Интересно, что она выкинет, эта Каролина? И тут, оглянувшись на Изабеллу, я увидела, что лицо ее стало белым, как мел. Должно быть, что-то случилось. «Принцесса… Принцесса!» – эхом раздался в моих ушах голос Каролины. Кровь отхлынула от моих щек. Она назвала меня принцессой, я это сама слышала. Но это невозможно! Откуда ей знать, кто я! Может быть, она просто так это сболтнула?
– Почему ты называешь меня принцессой, гражданка? – Мой голос, к моему собственному удивлению, прозвучал ровно.
Каролина расхохоталась – прямо загоготала, подумала я.
– И как это ваше сиятельство не сломали язык, произнося слово «гражданка»!
Рука Авроры напряглась в моей ладони.
– Пойдем отсюда, мама! Эта тетка сумасшедшая!
– Тетка?! – взревела Каролина. – Какая я тебе тетка, дрянь! Это ваша дочь, принцесса де ла Тремуйль? Вряд ли, она слишком большая для вас, вы ведь моего возраста, правда? Впрочем, дочь она вам или не дочь, это не важно. Она привязана к вам. Никак нельзя разлучить такие любящие сердца! Не беспокойтесь, в тюрьме вас устроят вместе!
Ее хриплый резкий голос звучал с такой ненавистью, что мне стало не по себе. Мы наверняка уже встречались с этой фурией. Нельзя испытывать такую ненависть к незнакомому человеку. Но… но я никак не могла понять, кто передо мной.
– За что же ты так ненавидишь меня?
– А ты не помнишь меня, принцесса? Конечно, где уж тебе запомнить всех бедных девушек, которых опозорил твой отец!
Я молча глядела на нее. Даже догадки не возникло у меня в голове.
– Ты это правильно подметила – я ненавижу тебя, всю твою семейку. Ненавижу за то, что твой отец сделал со мной. Он воспользовался мной и бросил, дал какую-то жалкую подачку, хотел после всего позора выдать меня замуж за вонючего фермера! А я тогда уже отвыкла от фермеров. Да если бы не ты, мой сын получил бы все – и имя и деньги… Я знаю, он признал бы моего ребенка, если бы у него не было тебя!
Она продолжала говорить, взмахивая рукой и откидывая назад голову, словно произносила монолог о бесчинствах тиранов. Я уже не слушала ее. Я поняла. И вспомнила.
Вспомнила Сент-Элуа, утопающий в зелени парка, и молоденькую бретоночку, стыдливо выпархивающую из спальни моего отца. За то лето она насобирала столько золотых монет, что, по бретонскому обычаю, сделала из них ожерелье. Золото она и тогда любила… Но неужели оно ослепило ее настолько, что заставило поверить, будто отец признал бы ее сына своим?!
Черт побери, да разве можно было бы даже представить моего отца с этой рыжей вульгарной бабой?!
– Я видела объявление о твоем розыске. За тебя мне отвалят десять тысяч ливров, и они пойдут на воспитание моего сына добрым патриотом. К сожалению, в нем течет и гнилая кровь вашего папочки. Он тоже жертва тирании, но при хорошем воспитании может вырасти достойным гражданином Республики!
Я рывком распахнула дверь, желая поскорее оставить Каролину Бретвиль наедине с ее страданиями.
– Ну уж нет, на этот раз тебе не уйти, принцесса! Да скорее подо мной земля провалится! Эй, граждане! Сюда! Держите принцессу де ла Тремуйль!
Ее сожитель, доселе молча наблюдавший за происходящим, рванулся ко мне, схватил за плечи, грубо втаскивая назад в комнату. Изабелла же оказалась позади него, ее черные глаза сверкнули бешеным блеском. Молниеносным движением схватив с комода тяжелую гипсовую статуэтку, она обрушила ее на голову санкюлота.
– Скорее! – крикнула она нам с Авророй. – У нас мало времени.
В лихорадочной спешке, путаясь в многочисленных коридорах, мы добрались до главного выхода и выбежали на площадь перед «Комеди Франсез». Там мы перешли на шаг. Еще немного и, смешавшись с толпой, мы будем в безопасности.
– Держите их, держите опасную заговорщицу, принцессу де ла Тремуйль, ее дочь и сообщницу! Держите роялисток! Только что они пытались убить верного сына Республики. Не дайте им уйти!
Я оглянулась. Полуголая, Каролина бежала за нами и отчаянно кричала, вкладывая в крик всю мощь своих легких. Она указывала на нас пальцем, и люди вокруг стали останавливаться.
Кто-то схватил меня за шаль, потянул за руку. Я рванулась, отчаянно пытаясь освободиться, но подсознательно понимая, что все уже кончено. Меня потянули назад, вцепились в волосы. Всюду слышались ругательства и угрозы. Что-то пыталась говорить Изабелла, но ее заставили замолчать. В довершение всего какой-то идиот в припадке патриотического усердия ударил меня в грудь.
Бежать было некуда. Вокруг нас сомкнулась толпа.
3
Под конвоем бдительных патриотов и зевак нас отвели в секцию Пале-Рояль, получившую новое название Бютт-де-Мулен. Там, в народном комитете, какой-то чахоточный чиновник принялся нас допрашивать. Гражданка Бретвиль, чтобы не дать мне солгать, снова громко назвала мое имя, а когда я стала протестовать, на мои протесты никто не обратил внимания. Изабелла, к моему удивлению, назвала свое настоящее имя.
– В Люксембургскую тюрьму, – скомандовал чиновник. – Но послушайте, – начала я, – может, вы отпустите девочку? Она еще ребенок.
Аврора стояла, прижавшись ко мне, и я, честно говоря, чувствовала, что ей не хочется уходить и оставаться одной. Но я слишком хорошо понимала, что нам грозит, чтобы согласиться с ее мнением.
– Ей уже есть двенадцать? – осведомился чиновник.
– Нет, только одиннадцать.
– Это все равно. Она будет отвечать, как взрослая.
– Но ей еще нет двенадцати! – вскричала я в отчаянии.
– Таков порядок. Тащите этих преступниц в Люксембург! А гражданка Каролина Бретвиль получила свои честно заработанные сто су за донос.
В Люксембургской тюрьме привратник отказался принять нас, заявив, что у него больше нет мест, и посоветовал отправиться в тюрьму Шантийи. Гвардейцы повели нас туда. В этой тюрьме еще были свободные места. Нас ввели в канцелярию за стеклянной перегородкой, усадили на ободранную деревянную скамью и оставили дожидаться канцеляриста, который должен был занести наши имена в реестр.
Шантийи совсем недавно еще был прелестным дворцом, принадлежавшим принцу Конде, и я с острой болью в груди вспомнила, как однажды приезжала сюда на бал и балет Доберваля. Меня охватило такое отчаяние, что я порывисто повернулась к Изабелле, сразу оказавшись в ее объятиях, и замерла, вздрагивая от безудержных рыданий.
– Это конец! – прошептала я сквозь слезы. – Я знаю, нам отсюда не выйти.
Она молчала, гладя мои плечи, не произнося ни слова в утешение. Да разве можно было сейчас утешиться?
– Они забрали даже Аврору, этого ребенка!
Я взглянула на девочку. Она сидела испуганная, сжавшаяся, но не плакала. Впрочем, что она понимает! И какое счастье для нее, что она не осознает полностью того, что случилось. Вытерев ладонью слезы, я привлекла ее к себе, горячо и страстно обняла. Она одна осталась у меня… Вероятно, я больше уже не буду иметь радости повидать Жанно.
– Помните, моя милая Сюзанна, – медленно проговорила Изабелла, – главное – это чтобы о нас забыли. Нынче так много узников, что в их массе очень легко затеряться. Только это может быть нашим спасением.
Явившийся канцелярист сразу развернул журнал со списками заключенных и прочел протокол, составленный чиновником секции Бютт-де-Мулен.
– Гражданки Тремуйль, Шатенуа – так?
Я кивнула, ибо уже не видела смысла отрицать свое имя. На это все равно никто не обратил бы внимания.
– Как фамилия этой девицы, именуемой Авророй?
– Такая же, как у меня, – проговорила я.
Что я еще могла придумать? Я ведь тоже не знала, какова фамилия у Авроры.
Теперь мне было слегка стыдно за то, что я плакала и что канцелярист может об этом догадаться. Нельзя показывать им свои слезы, никогда и ни по какому поводу… Если у меня отобрали все, отберут даже жизнь, я по крайней мере должна остаться аристократкой. Стоит брать пример с Изабеллы. Она была бледна, но холодна и спокойна. Можно было даже сказать, что она окаменела. Даже голос ее звучал без всякого выражения.
– Уведите их!
Нас отвели в какое-то совершенно ужасное подземелье, холодное и жуткое, где мы, чтобы не спать на полу, загаженном испражнениями, получили по клочку соломы. В первые минуты кошмарные невыносимые запахи так нахлынули на меня, что я стала задыхаться. Прошло немало времени, пока мы привыкли к такой вони. Повсюду копошились насекомые. А ведь я знала, что наверху есть совсем другие камеры, более чистые и светлые. Здесь совсем не было света, и даже нельзя будет определить, день или ночь на дворе.
– Я хочу есть, – прошептала Аврора.
Я не могла ответить на это иначе, кроме как обняв ее.
– У нас заведутся и вши, и блохи, – продолжала она, – если мы будем сидеть здесь.
– Дорогая моя, видит Бог, ты здесь не по моей воле.
Кроме нас, тут было еще несколько заключенных – две женщины-воровки и фальшивомонетчик. Таким образом, нас посадили с уголовниками. Они сразу поняли, что мы «политические», то есть те люди, все преступление которых заключается в мыслях, словах или происхождении, и не вступали с нами в разговоры – то ли из равнодушия, то ли из боязни, что им припишут сочувствие к нам и ужесточат наказание.
Очень медленно шло время; несколько раз от зловонной атмосферы, царившей в подземелье, я была на грани обморока. Но еще больнее было представлять, что вверху, над нами, – шумная оживленная улица, полная хорошеньких торговок духами и пудрой. Вечером или ночью – этого нельзя было понять – нам принесли еду: чечевичную жидкую похлебку и соленую рыбу. Еще не имея тюремного опыта, мы наелись этой дряни, а потом мучились от страшной жажды, которую нечем было утолить.
Прошел день, или два, или три – определить это в полнейшей темноте было невозможно. Мы либо спали, и сон этот был очень похож на обморок, либо просто сидели, уставившись во мрак, изредка разговаривали. Всем нам было ясно, что в этой камере мы превратимся в животных. Без воды, без мыла, в ужасной грязи… Я тогда еще была новичком и не знала, как сделать так, чтобы нас перевели в другое место. Достаточно было платить тюремщику су в день, чтобы он сделал это. Но мы о том, что это возможно, даже понятия не имели и не пытались улучшить свое положение. Я вспомнила слова Изабеллы: делать так, чтобы о нас забыли, – и горько усмехнулась. Пожалуй, лучше быть гильотинированной, чем всю жизнь просидеть в этом жутком месте… Я чувствовала, что терпения у меня ненадолго хватит. Иногда желание увидеть простой дневной свет становилось столь невыносимым, что хотелось либо закричать, либо повеситься. Не было сил сидеть здесь и сознавать, в какую грязь мы погружаемся.
Но однажды дверь темницы распахнулась, и вошедший тюремщик громко произнес:
– Гражданка Тремуйль, к следователю!
Я машинально поднялась, не понимая полностью, в чем дело, но сознавая, что на какое-то время выйду отсюда.
– Надеюсь, вас сюда уже не вернут, – прошептала Изабелла.
Я не ответила. В руках у тюремщика был фонарь, и я пошла на свет фонаря, как загипнотизированная.
Уже в коридоре я поняла, что сейчас вечер.
– Какое сегодня число? – спросила я у тюремщика.
– Двадцать четвертое нивоза, – мрачно буркнул он, нарочно выразившись так для того, чтобы я не поняла.
Но я не была полной невеждой в этих новых республиканских календарях и летосчислениях. Загибая пальцы, я стала высчитывать, и у меня приблизительно вышло, что нынче 18 января. Да, вероятно, это так. Три дня прошло со времени нашего ареста. Три ужасных дня я провела в этом зловонном подземелье.
Покачиваясь, я пошла за тюремщиком. Голова у меня немного кружилась: воздух в коридоре казался слишком свежим и чистым по сравнению с тем, каким я дышала в камере. Чтобы поторопить меня, тюремщик все время оборачивался и махал рукой, звеня ключами.
– Гражданка Сюзанна Тремуйль! – объявил он, приоткрывая дверь.
Это была та самая канцелярия, отделенная от остального помещения стеклянной перегородкой, только теперь за столом сидел не канцелярист, а человек в поношенном сюртуке и трехцветной республиканской перевязи, с волосами, по-спартански просто остриженными в кружок.
– Прошу садиться, – сказал он мне довольно вежливо.
Я села. Следователь не произнес больше ни слова, пока тюремщик не ушел.
– Моя фамилия Фруадюр, гражданка. Мне поручено разобраться в вашем деле.
Я устало пожала плечами. Честно говоря, я не думала, что нынче власти обременяют себя ведением дел. Но, может быть, мой случай кажется им особо важным. Несомненно, он будет спрашивать меня о Батце… Я еще не решила, как себя поведу. Я была слишком измотана, чтобы решать. И лишь мельком отметила, что следователь обращается ко мне на «вы», вопреки декрету Конвента.
– Расскажите мне все, гражданка. Все по порядку.
– Что именно?
– Историю вашего ареста.
Тихо, бесцветным голосом я пересказала ему скандал, случившийся в Народном театре, и назвала имя Каролины Бретвиль. Фруадюр слушал, не прерывая, но ничего не записывал; мне даже на миг показалось, что он верит мне. Или, что еще удивительнее, сочувствует. Впрочем, это, вероятно, мои иллюзии. В сущности, мне было безразлично, как он относится к моим словам.
– И вы утверждаете, гражданка, что не знакомы с Каролиной Бретвиль?
– Я вчера увидела ее впервые.
– Но она клянется, что вы – дочь того человека, который ее соблазнил, дочь аристократа. Вы действительно Сюзанна де ла Тремуйль?
– Да, – сказала я, не видя смысла отрицать это.
– Ваш отец действительно имел какие-либо отношения с гражданкой Бретвиль?
Я сжала губы. Меньше всего мне хотелось, чтобы какие-то люди лезли в жизнь нашей семьи, касались того, чего им не следовало касаться.
– Мне ничего не известно об этом, – произнесла я сухо.
– Бретвиль утверждает, что у нее есть ребенок и…
– Повторяю, мне ничего об этом не известно, – сказала я резко.
Фруадюр откинулся на спинку кресла, сжимая в руке перо.
– Напомню вам, гражданка, что осветить данные обстоятельства – в ваших же интересах.
– Сударь, – прервала я его, – не всегда должно руководствоваться собственными интересами.
Чего он хотел? Чтобы я рассказала ему об отце, о том, как эта девица служила у нас в Сент-Элуа и пользовалась благосклонностью принца – благосклонностью, которая, впрочем, не давала ей никаких надежд, а тем более прав? Если уж на то пошло, то это даже меня не касалось, а следователя тем более. Я бы скорее умерла, чем стала говорить об этом.
Фруадюр уже не смотрел на меня. Склонившись над бумагами, он что-то торопливо вычеркивал, замарывал, ставил кляксы, словно хотел какую-то надпись сделать навеки непрочитываемой. Я равнодушно глядела на него. Мне хотелось лишь подольше побыть в канцелярии, относительно чистой и светлой. Остальное меня не волновало.
– Я обрадую вас, гражданка, – сказал он, поднимая голову.
– Да? – спросила я без всякого выражения.
– Я отпущу вас на свободу.
Я не сразу поняла смысл услышанного. Но мало-помалу я осознавала эти слова, и искра заинтересованности вспыхнула у меня в глазах. Я взглянула на Фруадюра внимательнее и настороженнее. Надо было быть начеку. Может быть, это лопушка?
– Вы меня отпустите? – произнесла я медленно.
– Сию же минуту. Возьмите бумагу!
Я взяла бумагу, которую он мне протягивал. Меня охватило некоторое замешательство. Как понять то, что происходит?
– Ступайте! Вы свободны.
Я взглянула на бумагу, которую только что получила, – это было временное свидетельство о благонадежности, выписанное на двадцать дней и заверенное нужными подписями. Вероятно, Фруадюр имеет у себя уже подписанные пустые бланки.
– Я свободна?
– Совершенно.
– Но… как же это понять?
Он почесал пером у себя за ухом и усмехнулся.
– Я убедился, гражданка, что за вами нет никакой вины. Ведь происхождение не может вменяться в преступление, не так ли?
Все это было так, но… Я еще раз настороженно взглянула на следователя. Неужели он такой честный и порядочный? Нет, что-то тут не так.
– Если вы считаете, что я невиновна, то так же невиновны и мои спутницы, арестованные только за то, что были рядом со мной.
– О, – произнес Фруадюр, – возможно, это и так, но чтобы убедиться в этом, я должен сначала допросить их.
– Когда же вы это сделаете? – осведомилась я.
– Может быть, завтра, а может быть, через неделю. У меня полно работы, – произнес следователь, меняясь в лице.
– Но в Шантийи со мной была посажена маленькая девочка, ей всего одиннадцать лет! Умоляю вас, отпустите ее со мной.
– Я очень занят, – сухо прервал он меня, и тон у него был ледяной.
Я задумалась. Несомненно, что-то тут не так. Тут кроется какой-то подвох, интрига. Меня просто хотят выпихнуть на улицу! Но зачем? Этого я не понимала.
– Сударь, – сказала я медленно, – в таком случае, я прошу вас оставить меня в Шантийи до тех пор, пока вы не решите отпустить нас троих.
– Это невозможно.
– Но я не уйду без них! – вскричала я гневно.
– Если вы не уйдете, вас призовут к порядку и выведут.
– Силой?!
– Да, силой.
Он говорил решительно, но я почувствовала, что он чего-то боится. Возможно, того, что я устрою скандал? Безусловно, отпуская меня, он совершал преступление перед Республикой. Но как же, черт возьми, все это понять?
Нахмурив брови, я лихорадочно размышляла. Фруадюр наверняка не согласится вернуть меня в камеру, раз уж он так настаивает на моем освобождении. Вероятно, я снова оказываюсь в поле действия какого-то заговора. Но что же мне остается, кроме как плыть по течению? Я должна подчиняться. Возможно, на свободе положение прояснится и я смогу помочь Авроре и Изабелле.
– Умоляю вас, – проговорила я, – обещайте мне хотя бы перевести их в другое место.
– Что вы имеете в виду?
– Не оставляйте их в том ужасном подвале!
Фруадюр криво улыбнулся.
– Хорошо. Я поговорю с начальником тюрьмы, обещаю вам.
Я взяла бумагу и быстро пошла к выходу.
4
Итак, то, что я считала несбыточным чудом, сбылось: я оказалась на свободе. Выйдя за пределы Шантийи, я жадно вдохнула холодный январский воздух, наслаждаясь каждой клеточкой тела тем, что живу и могу дышать. Видит Бог, иногда возможность делать это приобретает необыкновенную ценность.
Правда, свобода эта была половинчатой. Изабелла и Аврора оставались в тюрьме. Фруадюр обещал их выпустить, но это его обещание показалось мне пустой фразой. Без сомнения, следователь на кого-то работает. Не может быть, чтобы он выпустил меня по собственному желанию, да еще и снабдил таким документом…
В тусклом свете фонаря я еще раз рассмотрела свидетельство. Впервые такая бумага была у меня в руках – бумага, дающая спокойствие, уверенность, защиту от ареста. Теперь мне наплевать даже на патрули. Они не посмеют задержать меня, увидев этот документ. Но, честно говоря, я ненавидела эту бумажку уже за то, что нуждалась в ней, за то, что лишь при ее наличии я имею право считаться человеком.
Мне бросилась в глаза знакомая подпись: Эро де Сешель. Это был друг Дантона, аристократ, переметнувшийся к революционерам, член Комитета общественного спасения. Я усмехнулась. Не сладко бы пришлось красавцу Эро, если бы кто-то узнал, что тот подписал свидетельство, выданное роялистке.
Услышав позади себя легкие шаги, я обернулась, поспешно пряча бумагу. Время было позднее, и у меня были все основания опасаться преступников или маньяков. Но я увидела рядом женщину. Стройная, высокая, она была одета по моде Старого порядка в пышное с фижмами платье, подбитый мехом короткий плащ. Я не могла разглядеть ее лица, но поняла, что она молода. Ну, может быть, ей лет тридцать.
– Мадам де ла Тремуйль? – раздался певучий голос.
Я не очень-то и удивилась. Внутренне я все время была напряжена, ожидая, что же произойдет. Я давно поняла, что мое освобождение не случайно.
– Вы угадали, – сказала я медленно.
– Мне было поручено встретить вас, принцесса.
Она говорила с ясно выраженным английским акцентом.
– Кто вы? – спросила я прямо.
– Леди Шарлотта Аткинс, к вашим услугам, принцесса.
Она протянула мне руку.
– Пойдемте, мадам. Нас ждет карета.
Я была как во сне, ощущая, как какая-то паутина сплетается вокруг меня. Больше всего на свете мне хотелось бы обрести ясность. Но я дала себе слово быть терпеливой, и я сдержу его.
Мы сели в карету, дама приказала кучеру трогать.
– Вы заговорщица? – осведомилась я прямо.
– Да, и причем профессиональная, – отвечала она со смехом. – Любовь к риску – это моя главная слабость.
Я никак не могла сказать того же о себе. Я не любила риск, интриги, заговоры и бесконечные опасности. Мне не нравилось строить ловушки или выбираться из них. Я хотела лишь одного: чтобы меня оставили в покое. Но, поразмыслив, я не стала объяснять это леди Шарлотте.
– Куда вы меня везете?
– В один хорошенький домик, где вы сможете прийти в себя, отдохнуть и успокоиться.
– Перед чем?
– Что вы сказали?
– Перед чем, говорю я вам, успокоиться?
Англичанка улыбнулась.
– Перед встречей со старым другом, разумеется!
– Вот как! – сказала я, мрачнея все больше. – Несомненно, это старый друг вызволил меня из Шантийи?
– Да, принцесса, уверяю вас. Он сделал бы это еще быстрее, но лишь вчера узнал о вашем аресте. Он ждал этого.
– Моего ареста?
– Да. Вы были нужны ему.
– Как мило с его стороны, – пробормотала я.
Услышав такое, можно было предположить, что и то объявление Коммуны о моем розыске с наградой в 10 тысяч ливров золотом – тоже дело рук «старого друга». Я была нужна ему! И он не имел другого способа обнаружить меня! Сжав зубы, я сказала себе, что догадываюсь, о ком идет речь. Только Батц способен на такое – человек, с которым я хочу встретиться меньше всего!
Скрывая гнев, я выглянула в окно. Мне не сразу удалось определить, где мы находимся. Темная маленькая карета англичанки мчалась по пустынным улицам с быстротой молнии. Чуть позже я поняла, что рядом протекает Сена, а мы, вероятно, оказались где-то возле того моста, где раньше был Нельский паром. Карета остановилась у одного из домов улицы Сент-Андре-дез-Ар. Теперь я окончательно узнала ее, одну из старинных улиц Парижа с древними домами под остроконечными крышами.
Англичанка отперла ключом дверь и пригласила меня:
– Входите, принцесса!
Мы оказались в помещении, больше похожем на контору. Мебель здесь была из черного дуба и такая странная, что я отнесла ее к XV веку. Я увидела над дверью звонок и табличку с надписью:
«Ганс Мюллер, часовщик из Швейцарии».
– Это наша конспиративная квартира, – пояснила леди Шарлотта. – Одна из многих. Здесь вы найдете все, что вам нужно, и вас никто не тронет.
– Но есть ли у этого дома хозяин?
– Вы же сами видите. Он принадлежит часовщику Мюллеру.
– Надеюсь, – сказала я, – я не покажусь вам слишком любопытной, если спрошу, что со мной намерены делать.
Леди Шарлотта, сняв шляпу, поправляла волосы перед зеркалом. Она не была красива, но держалась с врожденным изяществом. Я мрачно подумала, что наверняка у нее нет детей. Иначе бы она не вмешивалась во всякие авантюры.
– Увы, принцесса, я сама этого не знаю. Возможно, наш старый друг решил использовать вас в одной из ветвей заговора. Но мы с вами явно пойдем в разные стороны. Мне поручена левая ветвь, ну, а вам… – она улыбнулась, – вам, вероятно, правая.
Я не поняла ничего из этой речи, кроме слова «заговор».
– Вы возьмете на себя Дантона, принцесса! – воскликнула англичанка, снова надевая шляпу.
– Вы уходите? – спросила я.
– Да. Я оставлю вам ключ.
– И когда же явится этот наш общий друг? – спросила я едко.
– Он непредсказуем, принцесса. Ждите.
Она ушла. Я заперла за ней дверь на замок и остановилась в замешательстве. Что делать, если сюда постучится полиция? Я даже не смогу объяснить, почему нахожусь в этом доме.
«Вы возьмете на себя Дантона»… О, теперь я поняла, почему Аврора и Изабелла остались в тюрьме. Меня будут шантажировать этим, разумеется. И делать это будет Жан де Батц, таинственный и неуловимый заговорщик, за которым безуспешно гоняются все полицейские агенты Республики.
Я не желала сейчас думать об этом. Я хотела заняться собой. В буфете я нашла еще не остывший ужин: миска супа, половина жареного цыпленка, чашка взбитого яичного крема и бутылка с йонским вином. У меня все поплыло перед глазами. Пожалуй, уже полгода я не видела ничего подобного. Несмотря на свое неясное положение, я ужинала с огромным наслаждением. В конце концов, неизвестно, не в последний ли это раз.
У камина был огромный мешок с углем, и я щедро – не хватало мне еще жалеть добро Батца! – высыпала его содержимое в камин и развела жаркий огонь. В доме было прохладно, и я какое-то время согревалась, подставив руки к пламени. Мало-помалу огонь начал обжигать меня. Тогда я встала и отправилась на поиски посуды.
Мне удалось найти в кладовке лохань и кусок душистого мыла. С большим чувством, предвкушая удовольствие, я нагрела очень много воды и тщательно вымылась, не отказав себе в удовольствии немного понежиться в воде. Затем, завернувшись во взятую с постели простыню, я выстирала всю свою одежду и развесила ее сушиться прямо в доме.
Перед зеркалом я долго расчесывала чистые и мягкие золотистые волосы, пока они не стали искрить, едва я до них дотрагивалась. Я долго смотрела на свое отражение и оценивала его. От тепла и горячей ванны кожа приобрела розовый нежный оттенок и словно светилась изнутри. Длинные ресницы отбрасывали стрельчатую тень на щеки, в огромных черных глазах снова появилась та янтарная золотинка, которую кавалеры раньше называли золотым солнцем, спрятанным в глубине черных омутов. Нежные алые губы имели безукоризненную форму и соблазнительный изгиб, их выразительный рисунок нисколько не изменился. Немного помедлив, я сбросила с себя простыню. Волосы золотым водопадом заструились вдоль спины, изящная линия которой до сих пор была безупречна. Я похудела, тонкую талию можно было обхватить двумя пальцами, и бедра у меня стали чуть уже, но эта необыкновенная стройность ничуть не портила меня, наоборот, придавала фигуре изящество и грациозность. Я провела рукой по бедрам, коленям, щиколоткам, оценивая и проверяя. Кожа оставалась упругой, свежей и бархатистой. Я прикоснулась пальцами к груди, к соскам, убеждаясь, что они сохраняют прежнюю безупречную форму. В довершение всего я могла полюбоваться своими руками – мягкой линией локтя, покатыми плечами, изящными запястьями.
Я прикрылась простыней, собрала распущенные волосы, чувствуя в душе глубокое удовлетворение. Я молода и очень красива. Пожалуй, то, что я увидела, превзошло все мои ожидания, а ведь я старалась оценивать себя очень придирчиво. Вся беда в том, что у меня нет приличной одежды, нет косметики, которой можно подчеркнуть природную красоту, сделать ее более яркой. А если бы я могла это сделать, я, вероятно, выглядела бы столь же ослепительно, как во время своего первого бала в Версале.
Этой ночью я долго не могла уснуть. Мне почему-то все время вспоминалось прошлое: Версаль, Мария Антуанетта, балы и празднества… Я перебирала в памяти свои встречи с графом д'Артуа, от первой, в поместье Бель-Этуаль, до последней в Джардино Реале, в Турине. Улыбка трогала мои губы. Мне казалось, что с тех пор я не жила по-настоящему. Разве это жизнь? В моей нынешней судьбе нет никаких чувств, кроме страха.
Я думала об отце. Каким безупречным аристократом он был… Я никогда не ценила его по достоинству. Его величие стало для меня ясным лишь в тот прощальный вечер, в библиотеке Шато-Гонтье. Мне было больно. Любовь пришла ко мне слишком поздно. Ее сразу же заслонила боль. Отца больше нет… Я до сих пор содрогалась от горя.
А Рене Клавьер? К нему я чувствовала и гнев, и любовь одновременно. Как бы я хотела с ним встретиться. Увидеть его хотя бы еще раз, услышать его голос… Ощутить его прикосновения. Пожалуй, на данный момент это было высшее счастье, о котором я могла мечтать. Счастье небольшое, но несбыточное. Я даже не знаю, что случилось с Рене. Жив ли он.
Спать в чужом доме было странно и необычно. Но, погружаясь в мысли и воспоминания, я уже не вздрагивала от малейшего шума. Мало-помалу меня сморил сон. Я задремала, и во сне мне постоянно мерещился ужасный огромный Белланже, похожий на циклопа, размахивающего руками в поисках Одиссея.
Я много раз просыпалась, убеждалась, что это только сон, и снова засыпала, видя все тот же кошмар.
А в довершение мне приснилась Эстелла де ла Тремуйль, жена маршала Франции, павшего в битве при Азенкуре в 1415 году. В великолепном горностаевом плаще и платье из серебристой парчи, такая же прекрасная и гордая, как на портрете в Сент-Элуа, она подошла ко мне и почему-то сказала: «Что ты делаешь в этом городе, Сюзанна, в этой чужой постели? Ты же бретонка, дитя мое. Возвращайся в Бретань. Ты будешь счастлива там, как была счастлива я, встретив Артура де Ришмона, герцога Бретонского».
Я проснулась в холодном поту, не понимая, что бы это значило. Никогда раньше мне не являлись во сне мои предки. Но это была Эстелла де ла Тремуйль, это я хорошо поняла. Мне казалось, я до сих пор слышу ее чистый, холодный голос… Господи ты Боже мой, что за мистика!
Кто-то раздвигал шторы в соседней комнате. Задрожав, я села на постели. За окном был уже день, хмурый, холодный. Поспешно поднявшись, я сунула ноги в домашние туфли, закуталась в шелковый халат и вышла из спальни.
На фоне светлых занавесок ясно выделялся силуэт высокого, худощавого мужчины. Услышав мое приближение, он обернулся.
– Это вы, – мрачно констатировала я.
Да, это был Жан де Батц, как я и ожидала. После целого года скитаний мне суждено было встретиться с ним вновь. Я припомнила обстоятельства своего побега от этого человека: снотворное, брошенное в стакан Боэтиду, пачка украденных пропусков… Батц, вероятно, чувствует ко мне только ненависть. Но если он полагает, что сможет запугать меня, то он ошибается. Теперь я не боюсь тюрьмы. Мною овладела такая апатия, что я сама себе поражалась.
– Доброе утро, принцесса, – холодно и спокойно приветствовал меня барон.
Он отошел от окна и опустился в глубокое кресло, вытянув длинные скрещенные ноги. Батц нисколько не был похож на заговорщика, которому нужно прятаться, скрываться. Я тоже села, не ответив на его приветствие.
– Сейчас нам принесут по чашке кофе, принцесса.
Дверь отворилась. Вошел уже знакомый мне Руссель, секретарь барона, с подносом в руках. Я не отказала себе в удовольствии выпить кофе. Барон тоже взял чашку и сделал один глоток.
– Поговорим, – предложил он очень легко и просто.
5
– Поговорим, – снова предложил он.
Я молча поставила чашку на стол и внимательно взглянула на Батца. Никакого волнения я не чувствовала. Я предвидела и угрозы, и шантаж – все мои встречи с Батцем заканчивались именно этим.
– Как вы сами понимаете, принцесса, вы оказались на свободе вовсе не потому, что я проявил о вас дружескую заботу, – произнес Батц, отвечая на мой внимательный взгляд таким же пристальным взглядом своих черных, как ягоды терновника, глаз.
– В этом я никогда не сомневалась, господин барон. Уж кто-кто, а вы ничего не делаете без выгоды для себя.
– Для дела, сударыня. Лично мне ничего от вас не надо, уж вы поверьте.
Я молчала, опустив ресницы. Мне не хотелось спорить, я отлично знала, что от риторики дело не изменится.
– Нам предстоит обсудить кое-что очень важное, мадам.
– Вы желаете продолжать свои заговоры? – спросила я, вскидывая голову.
– Да.
Резко поднявшись, он прошелся по комнате, заложив руки за спину.
– Пришла пора избавить Францию от людей, заседающих нынче в Конвенте. Почва уже подготовлена… У меня есть план, вы понимаете это, принцесса?
– Еще бы! – ответила я почти враждебно. – Правда, мне отлично известно, что прежде вы действовали без особого успеха.
– Без успеха? По-вашему, навести ужас на полицию Республики, заставить всех агентов Комитета напрасно гоняться за призраком, а самому сидеть здесь, проникнуть в самую глубь революционного аппарата, знать всю его подноготную, – это, по-вашему, не добиться никакого успеха?!
Страстность его речи меня поразила, я невольно вздрогнула. Как он убежден в своей правоте! И он прав… Я сама желала ему успеха. Он действительно взбудоражил полицию, пустил ищеек по ложному следу, подкупил самых влиятельных чиновников Комитетов и Коммуны. Я понимала ту головокружительную ситуацию, когда на один вечер весь замок Тампль оказался в руках людей барона, в руках роялистов!
Но я знала, что и Батц далеко не всесилен. Он так и не смог спасти короля, несмотря на все свои безумно смелые выходки; потерпели неудачу многочисленные заговоры с целью похитить королеву, и Мария Антуанетта была обезглавлена. Дофин Шарль Луи до сих пор содержался в Тампле. Слова Батца были пока только словами; к тому же, напомнила я себе, лично мне его замыслы не сулят ничего хорошего, он просто использует меня, как использовал в прошлом. Ему наплевать на мою судьбу и судьбы моих детей, он играет ими, словно марионетками! Я нахмурилась, исчезло наваждение, вызванное речью Батца, а вместе с ним пропала и симпатия, которую я на минуту почувствовала к этому таинственному человеку.
Батц, не отрываясь, следил за сменой выражений на моем лице.
– Ну, и каков же ваш план уничтожения Конвента и свержения Республики? – спросила я вслух.
– Свержение изнутри, руками самих революционеров.
Он не обратил ни малейшего внимания на легкий оттенок иронии, прозвучавший в моих словах. Если он и был уязвлен этим, то виду не подал.
– Нам нужны казни и компрометации. Нам необходимо разжигать среди революционеров слепую ненависть друг к другу, разжигать вражду. Пусть они вцепятся друг в друга, пусть они грызутся как волки! Мы поймаем свою рыбку в этой воде.
Я молча слушала, чувствуя, как снова подпадаю под гипнотическое воздействие этого человека. Он был так страстен, так убежден, так неистов, он готов был положить все на алтарь роялизма.
– Да, нам нужны казни, много казней! Раз уж террор объявлен, пусть он раскрутится на всю катушку. Пусть казнят сотни человек в день, пусть Робеспьер утоляет жажду стаканами крови… Он хочет пить – пусть пьет!
– Но ведь она чудовищна, эта ваша тактика!
– Они, – произнес Батц, – сами выбрали ее. Они захотели крови. Так пусть же они утопятся в ней!
– Каким образом?
– Они люди фанатичные и жестокие. Они сами доведут террор до абсурда. Чтобы успокоить их нервы, нужно будет увеличивать порции. В конце концов, Конвент станет местом, залитым кровью, телеги, везущие смертников, будут вызывать ужас и отвращение, парижане будут приходить в ярость, узнав об открытии новых кладбищ! Конвент вызовет отвращение даже у третьего сословия – настолько он погрязнет в крови, лжи и преступлениях…
– Вы полагаете, это возможно?
– Вполне возможно. Я проник в самое сердце этого горнила, я буду разжигать там огонь безумия. Я буду призраком, нашептывающим одному революционеру скверные слова, якобы сказанные про него другим, я, как дух, буду витать над фракциями, убеждая их сговариваться друг против друга. Революционеры – народец мелкий и жестокий, принцесса, они физически не способны решать свои споры мирным путем. Их биография – цепь преступлений; они просто не знают иного выхода, кроме взаимных убийств.
Распалившись, он продолжал:
– Я доведу дело до того, что каждый будет подозревать в собеседнике врага, что каждый будет бояться доноса и одновременно доносить, бояться смерти и одновременно убивать. Их увлечет поток, который они сами вызвали к жизни; он поглотит их.
Его пафос уже не казался мне нелепым. Я внимала ему жадно, внимательно, словно предвидя, что его слова не лишены смысла. Он правильно угадал тенденции, задающие тон среди якобинцев. Они все ненавидят друг друга. Почему бы не довести это чувство до патологии?
– Мы стравим их между собой, и они сами перегрызут друг другу глотки! Революции будет положен конец, и Франция вновь станет королевством.
– А чего вы хотите от меня? – нетерпеливо произнесла я.
Я прервала барона на полуслове, и он не сразу опомнился, глядя на меня взглядом слепого. Потом тряхнул головой, откидывая назад смоляно-черные волосы:
– Вы поможете нам избавиться от Дантона, принцесса.
– От Дантона? Вы предлагаете мне сыграть роль Шарлотты Корде, бросившись на него с кинжалом?
– Нет, принцесса, моя фантазия не столь обширна.
Он снова сел, уже со спокойным видом взял со стола остывший кофе.
– Помните, сударыня, я употребил такое слово – «компрометация»? О, это всесильная вещь. Она способна вершить чудеса. С вашей помощью мы постараемся посильнее облить великого Дантона грязью.
– О его продажности и так сплетничают на всех перекрестках, а это ничуть ему не вредит.
– Мы предоставим реальные доказательства его продажности.
– Реальные?
– Реальными они покажутся Робеспьеру и его приятелю Сен-Жюсту.
Я пристально смотрела на барона, ожидая объяснений.
– Видите ли, принцесса, Робеспьер и его компания ненавидят Дантона. У меня есть сведения насчет того, что Робеспьер совсем не прочь, чтобы Дантон навсегда исчез с политического горизонта. Он, этот жалкий паяц, исписал целые тетрадки, изливая в них злобу на Дантона… Черт побери, – воскликнул Батц с внезапным гневом, – Франция действительно пала очень низко, раз допустила такого кровавого шута, как Робеспьер, к власти!
– Что вы мне предлагаете сделать? – перебила я его, полагая, что мне незачем созерцать все эти вспышки гнева.
– Вы очень по-деловому подходите к моему предложению. Мне это по душе…
Вытягивая длинные ноги и удобнее располагаясь в кресле, он заговорил громко, медленно и внятно:
– Вы отправитесь к Дантону домой, принцесса, поговорите с ним о всяких пустяках, попытаетесь отвлечь его внимание и за время пребывания в его доме улучите минутку и подбросите ему и стол кое-какие бумаги. После чего вы преспокойно выйдете на улицу, где мой человек под видом полицейского агента опознает вас. Вас арестуют и при обыске найдут крупную сумму денег, адресованную нашему подопечному, и письма, доказывающие связь Дантона с английской разведкой. Кое-что вы, разумеется, расскажете на допросе устно… От вас потребуется все актерское умение играть, сударыня.
– Вы что, полагаете, я соглашусь на это? – прервала я его, чувствуя, как мною овладевает возмущение.
– Да, принцесса, – пристально глядя мне в глаза, ответил Батц. – Полагаю, что согласитесь.
– Ну, да, конечно, – произнесла я, сжимая подлокотник кресла, – сейчас вы скажете, что, если я откажусь, Аврора и Изабелла де Шатенуа на днях переберутся в Консьержери и предстанут перед Трибуналом, не так ли?
Батц молчал.
Глядя на него, я пережила скверную минуту. Зачем я только затронула эту тему! Может, Батц ничего подобного и не думал, может, я сама подала ему эту идею! Внутри у меня все сжалось, и, не в силах больше выдерживать эту затянувшуюся паузу, я тихо и нерешительно спросила:
– Вы ведь не сделаете этого, правда? Аврора, она еще совсем ребенок, ей нет и двенадцати…
Голос у меня задрожал, и я замолчала. Нет смысла выказывать перед Батцем слабость, это нисколько не поможет.
Поднявшись, барон подошел к окну. За ночь подморозило, и стекло снаружи покрылось причудливой изморозью. Какой-то миг, разглядывая переливающиеся в лучах солнца кристаллы льда, Батц произнес – очень сухо и холодно:
– Вы, как я вижу, считаете меня чудовищем, принцесса. Сразу замечу, что ваше мнение для меня не имеет никакого значения. Чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, я даю вам слово дворянина, что, каким бы ни было ваше решение, я не причиню никакого вреда ни вам, ни вашим родным.
С его стороны это была какая-то новая тактика, какая-то уловка. Не понимая, что он замыслил, я внутренне растерялась.
– И… что же, – сказала я нерешительно, – если я не соглашусь на ваше предложение, смогу ли я свободно покинуть этот дом?
– Безусловно, если вы поклянетесь, что все, о чем мы здесь говорили, останется между нами.
Итак, я узнала все, что хотела. Сию же минуту я откажусь от невероятного предложения Батца и через полчаса меня здесь не будет. Это очень даже просто… Но я молчала.
Я уйду отсюда, и что дальше? Аврора и Изабелла останутся в тюрьме. Денег у меня нет, да и идти, кроме как к Джакомо, мне некуда. Но у брата семья, дети, а из-за меня их всех могут арестовать. При самом лучшем стечении обстоятельств я снова попаду в тюрьму дня через три-четыре, и уж тогда это будет верная смерть. Мне предъявят обычное обвинение – участие в роялистском заговоре… Так не лучше ли принять предложение Батца и хотя бы знать, что умираешь не за пустяк?
Революция задолжала мне. У меня был долгий счет – отец, Розарио, Лескюр… Их смерть была на совести Республики. А кто виновен в том, что Жанно растет как обыкновенный деревенский сорванец? Кто виновен в том, что казнь грозит Авроре, одиннадцатилетней девочке, повинной только в, том, что ее считают моей дочерью… Так стоит ли мне колебаться?
– Мне все-таки кажется, принцесса, что вы примете мое предложение, – заметил Батц, глядя на меня очень внимательно.
– Почему вы так думаете?
– А разве вам не хочется отомстить? Полноте, принцесса, в нас течет кровь де ла Тремуйлей, которые месть ценили превыше всего! Да и есть ли у вас выбор? Если вы сейчас уйдете, рано или поздно вас снова схватят. Нынче людей отправляют на гильотину и за куда меньшее прегрешение, чем происхождение. Готов поспорить, что в лучшем случае вам удастся пробыть на свободе неделю… У вас же на лице написано, что вы аристократка, и это видит каждый прохожий на улице.
Я вздрогнула. Батц будто прочел мои мысли. Если я хочу отомстить, то лучшего случая мне не представится. Я приняла решение… Революция приговорила меня к смерти, так пусть же мне будет за что умереть.
– Да, – кратко произнесла я сдавленным голосом.
– Каковы же ваши условия? – сразу же спросил барон.
У меня сжалось сердце – я вспомнила о Жанно, его глаза, его детский смех, его губы, касающиеся моей щеки… Мой мальчик, мой малыш – вот мое условие. Пусть мне придется погибнуть, но я заставлю Батца позаботиться о Жанно. Без этого сделка не состоится.
– Мой сын, – с трудом произнесла я. – Он находится в Сен-Мор-де-Фоссе, и я хотела бы увидеть его, прежде чем…
– Вас отвезут туда завтра же, принцесса.
Я немного помолчала, собираясь с мыслями.
– Это еще не все, барон, – решительно сказала я наконец. – Вы должны будете вывезти его из страны. Его и еще одного мальчика, Шарля де Крессэ, моего воспитанника.
– Да у вас целый пансион, принцесса!
Я нахмурилась.
– В данный момент, сударь, я меньше всего расположена выслушивать ваши насмешки.
– Это не насмешки. Я просто обращаю ваше внимание на то, что вывезти за границу двух мальчиков гораздо сложнее, чем одного.
– Меня это не интересует. Их двое, сударь.
– И какую же страну вы предпочитаете? Кому их отдать?
Я не задумывалась над ответом ни секунды. На всем белом свете остался только один человек, способный позаботиться о моем сыне и дать ему образование…
– Я хочу, чтобы вы отвезли мальчиков к моей мачехе, Сесилии де ла Тремуйль. Она состоит в свите графини д'Артуа и находится, видимо, либо в Англии, либо в Дюссельдорфе или Бланкенбурге.
Барон молча кивнул, выражая свое согласие. «Кошмар, – подумала я. – Это он потому так легко соглашается, что дает обещания смертнице».
– Теперь о моей дочери, барон. Она сейчас в тюрьме. Я хочу, чтобы ее освободили.
Батц сделал отрицательный жест.
– Я не волшебник, принцесса. Вы требуете от меня невыполнимого. На этом мои возможности заканчиваются.
– Но вы же смогли вызволить из тюрьмы меня!
– Это другое дело, – резко прервал меня Батц. – Все, что я могу обещать вам, – это то, что о вашей дочери забудут.
– Что это значит? – спросила я недоумевая.
– Ее имя исчезнет из списков. Это значит, что она не будет судима. Как только Робеспьер падет, она выйдет из тюрьмы, и я переправлю ее в Англию.
Я подавленно молчала. Мне было совершенно ясно, что влияние Батца достаточно велико, чтобы освободить из тюрьмы маленькую девочку. Он просто не желает делать этого, не желает тратить на это деньги, рисковать своими людьми. Аврора не представляла для него никакого интереса, в планы Батца она просто не вписывалась; я уже чувствовала, что своей настойчивостью вызываю его раздражение.
Я подавила и свой гневный порыв, желание подняться и уйти. На карту было поставлено слишком многое, чтобы я могла руководствоваться лишь чувствами. В конце концов, Батц обещал переправить девочку за границу, потом, когда тюрьмы откроются. Нынче главное для Авроры – остаться в живых. А это Батц гарантировал.
– Обещайте мне, – сказала я дрогнувшим голосом, – что, в какую бы тюрьму я ни попала, Аврору и маркизу де Шате-нуа переведут ко мне, что меня не разлучат с дочерью и подругой.
– Идет. Это вполне возможно. Что-нибудь еще?
Я сосредоточилась, собралась с мыслями. Кажется, я ничего не забыла… Вот разве что Изабелла. Она столько сделала для меня… Но ответ Батца был мне известен заранее. Я не смогла добиться от него даже обещания освободить Аврору, что уж тут говорить об Изабелле!
«Деньги!» – сверкнула у меня в голове мысль. За деньги можно занять лучшую камеру и койку, иметь еду с воли. Золотые ливры и в тюрьме имеют власть.
– Мне будут нужны деньги, сударь.
– Я уже все продумал. У меня есть способ передавать вам деньги прямо в тюрьму. Человеку, который будет их приносить, вы будете отдавать подробные описания допросов: как вел себя следователь, какие вопросы его интересовали, что вы отвечали… Мы еще поговорим об этом подробнее.
Он выжидающе глядел на меня. Я развела руками.
– Других условий у меня нет, господин барон. Если вы выполните обещания в отношении моих детей, можете считать, что ничего мне не должны.
Батц сделал шаг к двери, потом вернулся, предупредительно подняв палец:
– Чуть не забыл, сударыня. Свидетельство о благонадежности, выданное вам следователем, пусть остается у вас. Оно подписано Эро де Сешелем, другом Дантона. С ним вам не страшен ни один патруль.
Помолчав, он добавил:
– Пока не страшен.
Я кивнула. Мне все было ясно. При обыске это свидетельство у меня изымут, и оно послужит еще одной уликой против Дантона.
– Должен предупредить вас, принцесса, – продолжил Батц. – После того, как вы выполните свое задание и вновь окажетесь в тюрьме, я предоставлю событиям идти своим чередом.
– Что это значит, сударь?
– Я даже пытаться не буду вытащить вас оттуда или смягчить приговор. Не надейтесь на это. Вас приговорят к смерти. Вы должны быть готовы к этому.
Я подняла на Батца погасшие, усталые глаза.
– Я давно готова, барон, – произнесла я без всякого выражения. – Ничего нового вы мне не сообщили.
6
– Почему я должен ехать туда, мама? – недовольно спросил Жанно.
Мы сидели в доме мамаши Барберен – крестьянки из Сен-Мор-де-Фоссе – и, чтобы было теплее, тянулись к очагу. Хозяйку я не застала: как сказал Жанно, она еще утром отправилась в Бельвю навестить дочь, вышедшую замуж за тамошнего мельника. Маргарита возилась в хлеву, задавая корм свиньям. Мы с сыном были одни, я разговаривала с ним, ощущала его присутствие, прекрасно зная, что это, вероятно, в последний раз. Мне стоило больших усилий не разрыдаться, но малыш наверняка видел, какое подавленное у меня выражение лица.
– Почему, мама? Ответь! Я хочу знать!
Как я узнавала это «я хочу!!» – требовательное, безапелляционное, оно, вероятно, было свойственно всем представителям рода де ла Тремуйлей.
– Разве ты не хочешь увидеть Англию? – сказала я, стараясь избежать прямого ответа.
– Без тебя – не хочу, – отрезал Жанно хмурясь.
– Но, милый, я сейчас не могу поехать. С тобой будут Маргарита и Шарло – разве этого не достаточно?
– Без тебя я не поеду, – упрямо повторил сын.
Я растерялась. Порой моего мальчика было не узнать. Он вырос, похудел. Но главные изменения произошли у него внутри. Он больше не был моим малышом, моим маленьким шалунишкой. Умом я понимала, что так и должно быть; ему ведь уже скоро семь, не может же он вечно оставаться милым малюткой только потому, что мне этого хочется. Но сердцем я чувствовала, что сын отдаляется от меня. Становится самостоятельнее, упрямее, что ли. С ним уже труднее было договориться. Он по-прежнему очень любил меня, но мое слово уже не значило для него столько, сколько прежде. Вот уже полчаса я старалась внушить ему мысль о необходимости поехать в Англию, каждый раз натыкаясь на его упрямство и непонимание. Ну, разумеется, объяснить-то я ему все равно не могла.
Мои обещания приехать позже не действовали. В кого он стал таким несговорчивым? Это наверняка сказывается влияние деда. Конечно, можно было бы вовсе не затевать этот разговор, но мне не хотелось бы, чтобы в решающий момент Жанно что-нибудь выкинул. Удрал, например. Судя по всему, это было вполне в его духе. Для общего спокойствия необходимо было заручиться согласием Жанно.
– Сынок, послушай меня. Я понимаю, что тебе не хочется расставаться со мной. Поверь, мне тоже. Но человек не всегда может делать то, что хочет, чаще он должен делать то, чего требует от него долг. Помнишь, как говорил твой дедушка?
– Угу, – пробормотал Жанно неуверенно, и я поняла, что нашла нужный подход к мальчику.
– Ты дал ему слово, Жанно, что не будешь меня огорчать!
– А разве я тебя огорчил, мама?
– Почти огорчил. Ты все время капризничаешь, не желаешь ехать, хочешь, чтобы тебя уговаривали, прямо как маленький ребенок.
Мальчик смотрел на меня широко открытыми синими глазами.
«Ведь он и есть маленький, – подумала я с болью. – Маленький, очень маленький!» Я едва сдержалась, чтобы не обнять его, не поцеловать, не расплакаться тут прямо при нем.
– Я должен поехать в Англию, мама? – дрожащим голоском спросил Жанно, видимо, изо всех сил надеясь получить отрицательный ответ.
У меня сдавило горло, но я твердо произнесла:
– Да, сынок, должен. А я должна пока остаться в Париже. У каждого из нас свой долг, как видишь…
– Хорошо, мама, я поеду, – прошептал Жанно и отвернулся.
Я чувствовала, что он едва сдерживает слезы, и сердце у меня облилось кровью.
– Я обещаю тебе, что приеду сразу же, как только смогу! – воскликнула я горячо. – Ты знаешь, мое сокровище, что я люблю тебя больше всего на свете. Я бы рада была никогда с тобой не расставаться, ни на одну минуту.
Он поднял голову.
– Это правда? Ты не обманываешь меня?
– Разве я обманывала тебя хоть когда-нибудь, любовь моя?
Но спустя секунду я уже раскаивалась в том, что сказала только что. Сейчас-то он смирится, успокоится, но потом, потом его боль и обида станут еще сильнее. Он будет ждать меня, ведь я пообещала приехать! Но… но ведь не могу же я сказать ему правду. Это было бы еще более жестоко… Пусть уж лучше он ждет меня, так ему будет легче, да и мне тоже. Стараясь больше не думать об этом, я привлекла Жанно к себе, поцеловала, делая так, чтобы он не заметил, что в моих глазах стоят слезы.
Сердце у меня в этот миг просто разрывалось на части. Никогда еще – ни раньше, ни позже – не было в моей жизни такого момента, никогда мне не было так больно, как сейчас.
– А мой отец? – внезапно спросил Жанно. – Он тоже выполнял свой долг и поэтому погиб?
– Твой отец? – переспросила я пораженно.
Подсознательно я была готова к этому вопросу. Я даже ожидала его. Здесь для меня не было неясностей, все было обговорено еще с моим отцом: мы тогда условились, что для Жанно гораздо лучше быть сыном графа д'Артуа, чем отпрыском безызвестного виконта де Крессэ, дворянина из бретонской глухомани. «Надо же, – подумала я, – как давно это было. Так давно, что кажется уже неправдой».
– Расскажи, каким был мой папа!
– Не был, а есть, – решительно поправила я сына. – Твой отец вовсе не погиб, он жив!
– Жив?
На личике Жанно было написано такое искреннее изумление, что, кажется, объяви я ему о том, что в Англию он не уезжает, он не был бы удивлен больше, чем теперь.
– Но дед ведь мне говорил, что мой отец погиб!
– Он вынужден был так сказать, сынок.
– А почему?
Этот простодушный вопрос тронул меня до глубины души.
– Видишь ли, ангел мой, тогда мы не могли сказать тебе правду, ты был слишком мал и мог где-нибудь нечаянно обмолвиться. Это все потому, Жанно, что твой отец не обыкновенный человек, не такой, как все другие.
– А кто он такой?
– Граф д'Артуа, принц крови, родной брат казненного короля.
Я сама удивилась, как легко далось мне это признание. Мне не пришлось даже подбирать слова, все получилось как-то само собой. Видит Бог, иногда мне самой кажется, что Жанно – сын графа д'Артуа. Сейчас мальчик сидел такой задумчивый, такой серьезный.
– В Англии я встречусь с папой? – вдруг радостно спросил он.
– О да, наверное, – машинально ответила я, беспокоясь о другом. – Жанно, мне бы не хотелось, чтобы ты кому-нибудь рассказывал об отце, пока будешь во Франции. Это очень опасно. Сейчас нас, аристократов, преследуют, и если ты проговоришься, нам всем может быть очень плохо.
– Даже Маргарите и Шарло нельзя сказать, мама?
Жанно едва сидел на месте от желания поделиться с кем-нибудь своей тайной. Вряд ли он сможет молчать. Когда я поняла это, моя тревога усилилась.
– Жанно, ты должен обещать мне, что кроме Маргариты об этом никто не узнает, – сказала я строго. – От этого зависит жизнь всех нас, ты понимаешь?
Жанно слушал меня, раскрыв рот. Впервые я говорила ему, что от него зависят судьбы других людей. Он был уже достаточно взрослым, чтобы осознавать это.
– Честное слово, обещаю! – горячо произнес Жанно. – Я никому не скажу… Только Шарло, ладно?
В дом вошла Маргарита, держа в руках две чашки молока, накрытые толстыми ломтями пшеничного домашнего хлеба. Жанно вскочил со скамьи, тревожно ухватил за рукав:
– Маргарита, ты никого не видела во дворе?
– Что? – не поняла она.
– Там не было чужих? Нас никто не подслушивал?
– Пресвятая и пречистая! – воскликнула Маргарита. – Да кому это нужно?
– Мама рассказала мне одну очень важную тайну, – нахмурившись объяснил Жанно. – Ее никто не должен знать!
Во дворе хлопнула калитка.
– Я посмотрю, кто там! – Жанно, схватив куртку, бросился к двери.
Я с тревогой посмотрела ему вслед. Как же трудно ему будет сдержать слово! Вероятно, уже сегодня же вечером он под большим секретом поведает обо всем Шарло. Мне оставалось надеяться лишь на благоразумие последнего. По натуре он молчалив…
– Выпьете молока, мадам? – окликнула меня Маргарита.
– Я не голодна.
– Выпейте! Это вам на пользу пойдет. Вы вся словно светитесь…
Я взяла чашку из рук Маргариты. Молоко оказалось неожиданно вкусным. Теплое, парное, оно имело какой-то странный, полузабытый, но знакомый вкус… Нунча! Вот кто поил меня таким молоком!
– Что за тайну вы сказали малышу, мадам?
– Я сказала, – произнесла я с улыбкой, – что он сын графа д'Артуа.
С Маргаритой я об этом еще не говорила, мне было важно, как она к этому отнесется.
Она восприняла это как должное.
– Вот уж верно вы поступили, мадам. Нынешние времена не вечно будут длиться, а ребенку еще целая жизнь предстоит. Когда господа аристократы вернутся, вся эта голытьба полетит вверх тормашками. А как же! Надо, чтобы все было как положено… Виконт де Крессэ, пожалуй, и неплохой человек был, а все не такой завидный отец, как его высочество…
Слушая знакомый, чуть ворчливый голос Маргариты, я с трудом представляла себе, как выйду из этого дома, как снова вернусь в этот страшный Париж… И тем не менее за углом меня ожидала карета Батца, и скоро, очень скоро этому свиданию придет конец.
«Ничего не скажу Маргарите», – вдруг решила я. Незачем ей знать о том, что меня ожидает. Когда все будет кончено, сюда явится Батц, и это будет его задача – уговорить Маргариту уехать. Сейчас я была не в силах затевать столь тяжелый разговор. Мало того, что Маргарита не поймет и не согласится с причинами, толкающими меня на авантюру барона, она еще станет плакать и причитать, наделает шуму, расстроит и меня… Нет, я ничего не скажу. Может быть, это малодушие. Но у меня сейчас так мало сил.
Жанно вбежал в дом – раскрасневшийся, возбужденный.
– Мама, там пришла мамаша Барберен, она хочет тебя видеть!
За дверью раздался грохот, что-то со звоном упало на пол.
– Что такое? – спросила я недоуменно.
– Мамаша Барберен, я ведь тебе уже говорил!
Сильно хлопнув за собой дверью, в дом вошла пожилая крестьянка. Почти сразу же я поняла, что это хозяйка. Она медленно оглядывала нас, потом так же медленно принялась снимать огромный стрельчатый чепец с головы.
– Ах, это вы! – проговорила она медленно. – Давно уж я хотела поговорить с вами.
Она сняла чепец, подбоченилась и взглянула на меня в упор.
– Надеюсь, вы привезли деньги. Те, что вы оставили, уже давно вышли. Ваша мать, – продолжила мамаша Барберен, имея в виду Маргариту, – хотя бы по дому помогает, а от мальчишек никакого толку, только есть подавай.
Я стала лихорадочно перебирать содержимое сумочки, надеясь на чудо. «И как можно было забыть о деньгах! – подумала я ошеломленно. – Мне ведь ничего не стоило взять их у Батца». Как и должно было быть, чуда не произошло. Мучительно краснея, я передала хозяйке 11 ливров серебром да одну медную монету в 5 су. Мамаша Барберен медленно пересчитала деньги.
– Вы, верно, издеваетесь надо мной, милочка. Этих денег не хватит даже на уплату того, что вы мне уже задолжали… А вы ведь наверняка хотите оставить детей, не желаете их пока забирать!
Мне было очень неловко, более того, я чувствовала себя униженной. Уже не в первый раз я оказывалась в ситуации, выйти из которой с достоинством можно было только имея деньги. Без денег ты и не совсем человек. Те времена, когда Сюзанна де ла Тремуйль считала сами деньги чем-то маловажным, а разговор о них – пошлостью и признаком дурного вкуса, давно канули в Лету. Так можно относиться к деньгам, когда их у тебя целая куча.
– Простите, пожалуйста, – пробормотала я. – Мне очень неудобно, что так вышло. Обещаю, что деньги будут заплачены в самое ближайшее время…
Я почти заискивала. Нельзя было допустить, чтобы из-за неуплаты Маргарита и мальчики очутились на улице. Мне придется тогда везти их к Батцу. Что из этого выйдет, я могла только предполагать, а мне хотелось, чтобы будущность Жанно была твердой.
– Вам будет очень хорошо заплачено! – заверила я хозяйку, заметив, что она колеблется. – Кроме того, мои родные не будут обременять вас слишком долго, через месяц, самое большое – через два за ними приедут…
– Так и быть! – решилась крестьянка. – Подождать-то можно. Но никак не больше двух недель!
…Жанно провожал меня до кареты. Мы шли по деревенской улице, пожелтевшая прошлогодняя трава жалкими островками выглядывала по обе стороны дороги. Небо заволокло тучами. Ожидался то ли дождь, то ли снег.
Жанно был так восхищен тем, что я открыла ему, что даже не слишком опечалился нашей разлукой. Он был горд и преисполнен сознания собственной значимости. «Да уж, – подумала я с ревнивой горечью, – он уже не только мой. Ведь он никогда не видел графа д'Артуа и ничего о нем не знает, но как гордится!»
– Мама, можно тебя спросить?
– Да, мой мальчик, сколько тебе хочется!
– В Англии мы разыщем моего папу и будем жить все вместе? Ведь правда?
– Конечно же, сынок, – проговорила я с усилием. – Именно так мы и поступим.
7
Холодное зимнее солнце выглянуло на мгновение в просвет между тучами. Было 1 февраля 1794 года, канун Сретенья Господня, внесения Иисуса в храм и очищения Богоматери.
Я была уже почти у цели. Позади осталась неделя, проведенная мной в одном из тайных домов Батца, длительные беседы с бароном или с кем-то из его людей, которые даже имен своих не называли. Мне устраивали инсценированные допросы, задавали всевозможные вопросы, заставляя заучивать нужные ответы, говорили, как следует держаться перед следователями. Словом, я больше не принадлежала себе, моей судьбой распоряжался Батц. Все это время, честно говоря, я чувствовала себя даже менее свободной, чем в тюрьме, – там, по крайней мере, мне ни перед кем не нужно было играть. К тому же я уже давно не была такой одинокой, как в эту неделю. Батц держался со мной сухо и вежливо, не проявляя ко мне ни малейшего сочувствия. Да и жалость, проявленная им, была бы мне противна. Но мне не хватало Изабеллы, я мучилась от ее отсутствия и сознания того, что она в тюрьме. А ночами мне снились дети. Я вновь и вновь видела веселого, счастливого, беззаботного Жанно, видела его то так, то эдак, а чаще всего – в белой мохнатой козьей шубке, таким, каким он был в одну из зим, проведенных нами в Сент-Элуа. Во сне я играла с ним, разговаривала, целовала его. Просыпаться от таких снов было особенно трудно.
…Увидев на фасаде одного из домов цифру 24, я ускорила шаг. Вокруг было много людей, ведь по соседству находился Торговый двор. Улица была довольно чистая и привлекательная, но на меня это место навело тоску – в пяти минутах ходьбы отсюда находилась Люксембургская тюрьма, та, где сидел Розарио, та, куда скоро буду водворена я.
Поднявшись на второй этаж – Дантон занимал весь этаж в доме, – я осторожно постучала. Дверь открыла красивая белокурая девушка лет шестнадцати – я вначале приняла ее за одну из любовниц Дантона и только потом, вспомнила, что он женился. Итак, эта девчонка – его жена, Луиза Жели. Уже сейчас об этом браке ходили легенды. Рассказывали, что родители невесты, строгие католики, придерживающиеся монархических убеждений, поставили жениху почти невыполнимое условие: прежде чем они дадут согласие на брак, Дантон – революционер, якобинец Дантон! – должен исповедоваться, да еще непременно у неприсягнувшего священника. «Пустяки, – сказал Дантон. – Дайте только адрес»…
– Мне нужен гражданин Дантон, – произнесла я.
– Он в своем кабинете, – легкомысленно ответила супруга трибуна, принимая меня за обычную посетительницу.
Легкомысленно – потому, что после смерти Марата всем было известно, что среди посетительниц встречаются Шарлоты Корде.
Глядя на нее, такую юную, безмятежную, счастливую и даже глупенькую, я почувствовала, как что-то шевельнулось у меня в душе, что-то вроде угрызений совести. Правильно ли я поступаю? Мне не было жаль Дантона. Он пару раз оказывал мне некоторые небесплатные услуги, он даже знал меня. Но он все равно был революционер и якобинец, до недавнего времени союзник Робеспьера. Это Дантон более всех настаивал на создании Революционного трибунала. Я знала его слова: «Будем же грозными… Учредим трибунал, дабы меч закона висел над головой всех его врагов». Да, Дантон был мне почти ненавистен, но что сделали мне его родные? Его жена и дети? Впрочем, подумала я, из разговора с самим Дантоном все будет видно.
– К тебе пришли, Жорж! – нежным голоском предупредила мужа эта юная женщина.
Оторвавшись от бумаг, Дантон поднялся из-за стола, тряхнул головой, отбрасывая назад сальную нечесаную гриву волос. Он погрузнел, обрюзг. И он не узнавал меня. Огромный, массивный, в богатом аляповатом халате, домашних туфлях и фланелевом платке на шее, он стоял и смотрел на меня с холодным любопытством, как турецкий паша на новую рабыню, ожидая, когда я начну говорить.
– Итак, моя милая, что вам нужно? – наконец спросил он, не предлагая мне сесть.
А я в этот миг услышала, как нежно воркует за дверью Луиза, разговаривая с ребенком – видимо, сыном Дантона от первого брака.
Что-то сильно сжало мне сердце. Кровь горячей волной прилила к голове. Этот ребенок – он, наверное, такого же возраста, что и Жанно… Я поняла, что не смогу сделать то, ради чего пришла сюда. Внезапно я даже почувствовала облегчение. Почему бы мне не обратиться за помощью к Дантону? Я знала, что он питает слабость к аристократкам – даже не мужскую слабость, а какое-то сентиментальное сочувствие. И он обладает огромной властью, одного его слова будет достаточно, чтобы Изабелла с Авророй оказались на свободе. Они ведь не бог знает какие важные птицы. И пусть Батц катится к чертям вместе со всеми своими планами…
– Вы пришли просить за кого-то? – снова спросил Дантон.
Меня словно прорвало, поток слов подкатил к горлу.
– Я пришла умолять вас о помощи! Моя дочь и моя подруга брошены в тюрьму… Клянусь вам, они не замечены ни в чем противозаконном, а девочке так вообще только одиннадцать лет…
Лицо Дантона выразило досаду.
– Я где-то видел вас, не так ли?
– Нет, не думаю, – пробормотала я, уже разочарованная этим холодным тоном.
– У меня скверная память на лица. И все-таки… Вы, наверное, эмигрантка?
Еще минута – и он узнал бы меня. Я заговорила быстро и поспешно, еще надеясь на какое-то чудо:
– Сударь, я умоляю вас! У меня нет больше надежды.
– Да зачем вы явились в мой дом?! – взревел он вдруг так яростно, что я испугалась. – Хотите скомпрометировать меня? Сыграть на руку моим врагам? Неужели вы думаете, что я стану рисковать своим положением из-за какой-то девчонки и аристократки? Глупы же вы в таком случае! А я вовсе не Христос, чтобы страдать за других… Таких, как вы, сейчас отправляют на гильотину сотнями, и если бы я за всех них заступался…
Дверь распахнулась. Вошла Луиза.
– Жорж, милый, пришла Люсиль к ужину. Ты выйдешь? Я почти не слышала ее, оглушенная, почти убитая словами Дантона. Да, таких, как я, сейчас отправляют на гильотину сотнями, это верно. Он прав. Я знаю, что мне делать.
Проводив Дантона взглядом, я расстегнула новый, подбитый мехом плащ и аккуратно вытащила из потайного кармана тонкий сверток бумаг. Батц был уверен, что, если эти фальшивки попадут в руки Робеспьера, судьба Дантона будет предрешена. Оглядевшись вокруг, я как можно осторожнее приоткрыла ящик стола и быстро сунула сложенные листы в середину вороха бумаг, в полнейшем беспорядке сваленных туда. Вряд ли, подумала я с усмешкой, Дантон сумеет обнаружить их раньше, чем посланные сюда для обыска шпионы Робеспьера.
Потом я ушла, не требуя, чтобы меня провожали.
На улице меня уже поджидали. Полный лысеющий мужчина средних лет – явно человек Батца, поняла я – подмигнул мне, едва я взглянула в его сторону. На всякий случай я еще раз пощупала рукой полы плаща, в подкладке которого были зашиты письма, якобы изобличающие связь Дантона с английской разведкой. Еще одно письмо, а также тридцать тысяч ливров золотом находились в моей сумочке, вместе со свидетельством о благонадежности, подписанном Эро де Сешелем, другом Дантона.
– Держите, держите аристократку! – заорал наблюдавший за мной толстяк, едва заметив приближающийся патруль. – Держите роялистку!
Уж не знаю, был ли этот патруль в планах Батца, но появился он очень кстати. Я была спокойна, по крайней мере, внутренне, а внешне изо всех сил старалась разыграть испуг и замешательство.
Почти сразу же меня окружили случайные прохожие и зеваки.
– Предъяви-ка свидетельство, гражданка, – крикнул сержант, пробившись сквозь толпу. – Нам нужно знать, кто ты.
– Конечно, – полуиспуганно пробормотала я, дрожащими руками расстегивая сумочку.
Достав свидетельство, я, как и было задумано, уронила сумочку. Золото из свертка хлынуло на землю. Толпа отшатнулась, словно вид денег привел ее в состояние транса. Ошеломленный сержант дал знак солдатам.
– Ну-ка, всем разойтись! Это золото принадлежит Республике, мы передадим его в Трибунал!
– Она, видно, хотела кого-то подкупить! – раздался голос.
– И выходила из дома Дантона.
– Не выходила, а входила. Это она ему деньги несла…
– Чертова кукла! Эмигрантка, ясное дело! Протянутое мною свидетельство сержант даже не стал рассматривать.
– Теперь это не имеет никакого значения, – изрек он сурово. – Ты арестована.
Солдаты аккуратно собирали рассыпавшееся по брусчатке золото.
Я вздохнула. Слова сержанта не вызвали в моей душе никакого отклика, в тот момент мне было все равно, и хотелось только, чтобы все закончилось как можно скорее.
Ворота Люксембургской тюрьмы захлопнулись за мной через пять минут.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЛЮБОВЬ ПОД КРЫШЕЙ ЛА ФОРС
1
– Твое имя?
– Сюзанна де ла Тремуйль де Тальмон.
– Возраст?
– Двадцать три года.
– Профессия?
– Без профессии, – сказала я после короткого размышления.
Эта процедура водворения в тюрьму уже становилась для меня привычной. Канцелярист, внимательно приглядываясь ко мне, записывал мои приметы. Я равнодушно огляделась по сторонам. Люксембург показался мне и чище, и лучше Шантийи. Правда, я несколько сожалела, что попала сюда. Но ведь Батц обещал, что рано или поздно мы с Изабеллой и Авророй соединимся в одной тюрьме.
Мысленно я еще раз припомнила все, что должна буду говорить. Мне нужно было нагромоздить гору лжи, но я ни малейшего стыда не чувствовала. Это просто еще один способ мести. Я была уверена, что выйти живой на свободу мне не удастся, но, по крайней мере, я причиню вред республиканцам. Иногда я даже чувствовала что-то похожее на благодарность к Батцу – за то, что он дал мне такую возможность.
– Камера номер четырнадцать!
Тюремщик сзади меня загремел ключами.
Пока мы шли по коридору, я сразу приступила к тому, что мне нужно было больше всего. Тюремщик оказался сговорчивым, а деньги Батца пришлись очень кстати. Мы договорились о следующем: за су в день он устроит меня в чистую и светлую камеру, дополнительно за тридцать су достанет хороший тюфяк, за десять ливров в неделю будет приносить мне хлеб и молоко с рынка. За некоторую плату тюремщик согласился перевести ко мне Изабеллу и Аврору, если они здесь появятся, а также передавать письма, которые я напишу, по адресу. И разумеется, закрывать глаза на то, что у меня будут чернила и перья.
Он распахнул передо мной дверь камеры, и мы расстались в самых лучших отношениях.
Камера – а вернее большой каменный зал – была так заполнена заключенными, что на мое появление никто не обратил внимания.
Я спустилась по нескольким ступеням вниз, заняла одну из свободных кроватей. Она была узкая, железная, застланная казенным коричневым одеялом, но по сравнению с Шантийи показалась мне роскошной. Высоко надо мной было маленькое окно, наспех забранное решеткой. Я заметила, что многие кровати отделены друг от друга простынями, и решила чуть погодя поступить так же, чтобы иметь хоть немного одиночества.
В противоположном конце камеры пылал камин, но там, где сидела я, было немного прохладно. Холодом тянуло и от каменной стены. Я подумала, что, когда другие места освободятся, я займу кровать поближе к огню. И только потом поняла всю жестокость этой мысли.
– Сударыня, не сдадите ли вы деньги на дрова и уголь? – услышала я женский голос.
Вздрогнув, я подняла глаза. Ко мне обращалась миловидная девушка в белой кофточке и темной юбке, совсем еще юная, лет семнадцати.
– Что?
– Чтобы было отопление, мы собираем деньги на уголь. Можете ли вы сделать свой взнос?
Подумав, она добавила:
– Это, конечно, не обязательно. Но желательно.
– У меня есть деньги, мадемуазель.
Я протянула ей ливр.
– Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы топили пожарче.
Она опустила монету в специальный полотняный мешочек.
– Это моя обязанность, сударыня. Мне так приятно быть чем-то полезной.
– Можно ли узнать, кто вы? – спросила я улыбаясь.
– Дезире. Дезире де Курби. По крайней мере, до сегодняшнего вечера.
– Почему до сегодняшнего?
– В семь вечера я стану виконтессой д'Эрвильи.
Мало-помалу я понимала, в чем дело.
– Вы обвенчаетесь? Здесь?
– Да. Здесь есть священник.
Она весело произнесла:
– Если хотите, приходите на наш свадебный ужин.
– Вот как, будет и ужин?
– Да. Салат из капусты, пирог и вино.
Эта милая Дезире, казалось, абсолютно освоилась с тюрьмой. Ее даже не тревожила мысль о том, что поздно вечером явятся жандармы со своим всегдашним списком и что в камере станет меньше людей. Их повезут в Консьержери – преддверие гильотины…
– Вы давно здесь? – спросила я тихо.
– Пять месяцев.
– А господин д'Эрвильи, ваш жених?
– Только три.
– И в чем же вы обвиняетесь?
– Я – в том, что аристократка. А он защищал свою арестованную сестру.
У меня сжималось сердце, когда я смотрела на Дезире. Возможно, она слишком молода, чтобы сознавать весь ужас положения. Всю чудовищность происходящего.
– Здесь только аристократы, Дезире?
– Большинство. Вы придете?
– Да, – пообещала я.
– А как вас зовут? – поинтересовалась она.
– Принцесса де ла Тремуйль.
По лицу Дезире промелькнуло удивление. Она отошла от меня, но я видела, как она что-то прошептала на ухо другой женщине – видимо, обо мне. Что ж, теперь у меня не будет необходимости представляться каждому.
Рядом со мной какой-то толстяк читал Вольтера, время от времени гневно подчеркивая абзацы карандашом. Другой мой сосед, старик лет семидесяти, вежливо обратился ко мне, спрашивая, не помешает ли мне запах его трубки. Я сказала, что пет. Мы разговорились. Его имя было Луазроль, он был генерал-лейтенантом королевской армии и в Семилетней войне потерял ногу. Вместе с ним в тюрьме сидел его молодой сын.
– Вот он, видите? Спит, – с нежностью произнес старик. – Это все-таки лучше, чем просто ожидать вечера.
Приближение вечера все ожидали с жутким страхом. Придут жандармы со списком и увезут кого-то в Консьержери. Но кого? Этого никто не знал. Пожалуй, только я знала, что не меня.
Меня еще будут допрашивать, водить по комнатам. Мне еще предстоит выполнить свою задачу. И только тогда Фукье-Тенвиль вспомнит обо мне и внесет мое имя в список.
Мне стало тошно; отвратительно засосало под ложечкой. Почему я не попросила у Батца цианистого калия? Все лучше, чем гильотина. Хотя, как утверждает революционный медик Кабанис, при гильотинировании ощущается лишь «легкая свежесть» на шее.
Но, как ни странно, на некоторое время я уснула, натянув на себя одеяло. И снова мне приснилась Эстелла де ла Тремуйль, и снова она уговаривала меня вернуться в Бретань. Я не понимала, почему этот сон повторяется и какой в нем смысл. Уж сейчас-то, в тюрьме, я никуда не могла вернуться.
Проснулась я уже вечером. За полотняной занавеской с помощью других женщин прихорашивалась Дезире де Курби. Я услышала, как жалобно она сетует на то, что у нее нет даже подобия фаты, и вновь поразилась. Эта девушка явно не понимала, в каком ужасном положении находится. Но сколько наивного мужества было в этом непонимании.
Я оглядела свое нарядное платье и, внезапно, решившись, ровной полосой оборвала широкое белое кружево, обрамлявшее подол юбки. Юбка будет чуть короче, но это не беда. У меня в руках теперь была почти настоящая фата. Я подошла к занавеске.
– Кажется, я могу помочь вам, Дезире.
Она вскрикнула от радости и сразу же набросила кружево на волосы. Я помогла ей живописнее уложить его. У других женщин нашлись даже шпильки.
– Вы прелестно выглядите, – сказала я ласково.
Под руку со своим женихом, юношей лет двадцати, она шла к наспех сооруженному алтарю, гордая и счастливая. Отец Ансельм, неприсягнувший священник, был таким же узником, как и мы. Он обвенчал влюбленных по всем правилам. Я стояла и поражалась. Я никак не ожидала, что в тюрьме будут заведены такие правила.
За свадебным скудно сервированным столом все усаживались по правилам этикета, и кавалеры любезно уступали свои табуреты дамам. Ужин, состоящий из салата и пирога, тоже ели с соблюдением всех манер. Разговор был веселый и непринужденный; как я заметила, всякий избегал касаться таких тем, как Трибунал, казни, тюрьма. Если бы я закрыла глаза и слушала только беседу, мне бы показалось, что я нахожусь в светской гостиной в Версале.
Я быстро познакомилась со своими товарищами по несчастью. Давно уже мне не приходилось видеть сразу стольких аристократов вместе. Никто из них не опустился, не впал в отчаяние, многие даже сохраняли щегольский вид и, уж конечно, каждый день брились. Невзгоды сплотили нас, сблизили, и теперь даже незнакомые люди могли считать друг друга близкими товарищами, приятелями.
Теофиль де Лешасери, которого я мельком встречала в Версале, оказывал мне так много внимания, что это можно было принять за ухаживание. Я немного кокетничала с ним, в душе поражаясь, как у меня хватает сил на такие забавы, как флирт. В расточаемых любезностях, в вежливости и строго соблюдаемом этикете было что-то зловещее, жуткое, ужасное. Каждый хотел выглядеть беспечно, но каждый сознавал, что его ждет только смерть.
И вот самый страшный момент наступил. В десять часов вечера железная дверь камеры распахнулась, и на лестницу вступили судебные исполнители в сопровождении жандармов.
Дрожь пробежала у меня по спине, я поднялась. В руках у судейского был список, до ужаса длинный, не меньше чем на двадцать человек. Судейский откашлялся.
И прозвучало первое имя.
Тот, кого вызывали, обязан был выйти вперед, и его сразу же уводили за железную загородку, похожую на клетку. Мало-помалу она наполнялась жертвами, составляющими завтрашнюю порцию гильотины. То, что им предстояло еще пройти через Трибунал, ничего не меняло. Это была только формальность.
Вызванные быстро собирали вещи, прощались с друзьями. Очень быстро освобождались кровати.
«Я должна сохранять мужество, – промелькнула у меня отчаянная мысль. – Я должна привыкнуть к этой процедуре. Я буду наблюдать ее каждый день…»
– Дезире Курби!
У меня перехватило дыхание. Это было имя той самой милой девушки, новобрачной в фате из моего кружева, несколько часов назад обвенчанной отцом Ансельмом. И ее ждала гильотина?.. Могло ли быть что-то более несправедливое?
Бледная, но гордая, она ступила вперед, с выражением чрезвычайной важности на милом личике, и ее вид был столь трогателен, что даже равнодушный судейский взглянул на нее из-под очков.
– Меня зовут отныне Дезире д'Эрвильи, сударь, – дрожащим голосом произнесла она.
– Мне это безразлично, – изрек судейский.
Задыхаясь, она обернулась, протягивая мешочек, в котором били собранные на уголь деньги. Я машинально приняла его. Ее пальцы отчаянно сплелись с моими, словно она хотела найти последнюю защиту. Но Дезире быстро пришла в себя. Она отпустила мою руку и, послав прощальный поцелуй своему мужу, пошла в загородку.
И тут произошло непредвиденное. Ее муж, совсем еще юноша, шагнул вперед.
– Она моя жена, – сказал он, обращаясь к судейским. – Я пойду с ней. Разрешите мне это.
– Она твоя жена? – переспросил тюремщик.
– Да.
Судейские переглянулись.
– Одним больше – это ведь не страшно, правда? – произнес один из них.
– Мы разрешаем, – сказал другой.
И Жюль д'Эрвильи получил возможность соединиться со своей Дезире – теперь уже в вечности.
Чтение списка ознаменовалось еще одной неожиданностью. Было названо имя – Жан Луазроль, и я сразу вспомнила, что речь идет о моем соседе, потерявшем ногу в Семилетней войне. Но что-то в поведении старика меня поразило. Он метнул в сторону своего спящего на кровати сына взгляд, полный такого страдания, что я поняла: вызвали не отца, а именно сына.
Сын ничего не слышал. Он спал. И тогда старик бросился вперед, выкрикнув:
– Жан Ришар Луазроль – это я!
Многие поняли, что он солгал. Но никто не сказал ни слова, а судейским было невдомек. В Трибунале, разумеется, все выяснится, но на ошибку в крестном имени просто не обратят внимания. Им почти все равно, кого казнить.
Заключенных увели. Железная дверь захлопнулась.
Некоторое время оставшиеся узники приходили в себя. Нелегко было преодолеть ужас и отчаяние. Завтра такая же участь могла ожидать каждого. Я вернулась на свое место, зная, что долго не смогу успокоиться. Хорошо, что впереди ночь. У меня, по крайней мере, достаточно времени.
Чуть погодя я стала осознавать, что вокруг меня творится что-то неладное. Повсюду слышалась какая-то возня, стоны, шорох. Я огляделась. На многих постелях, под накинутыми сверху одеялами, можно было ясно различить движение. Это были пары, предающиеся любви. Благо, что из-за тесноты мужчин и женщин содержали вместе…
– Не пойдете ли вы со мной, мадам? – раздался голос.
Это был Теофиль де Лешасери. Он протягивал мне руку, уверенный в моем согласии, и лицо его имело страстное выражение. Почти звериное, подумала я. Потом меня охватило возмущение.
– Да с какой стати, позвольте спросить? Вы, должно быть, сошли с ума!
Но не успела я закончить, как одна из моих соседок быстро вскочила со своего места, бросилась вперед и ухватилась за руку Лешасери.
– Я пойду с вами, сударь, если вы хотите! – проговорила она громким шепотом.
Мельком взглянув на меня, он принял эту замену. Я молча посмотрела им вслед. Может быть, я не так поняла его слова? Мне казалось, он совершенно бесстыдно звал меня в свою постель.
Впрочем, я быстро убедилась, что все поняла правильно. Они удалились в самый дальний угол, и у меня не осталось сомнений относительно того, чем они там занимались. Все это показалось мне чрезвычайно странным. Должно быть, все женщины, сидящие в Люксембургской тюрьме, одержимы дьяволом сладострастия.
Час спустя моя соседка вернулась, принялась поправлять свою прическу.
– Вы меня простите? Я украла ваш шанс. Но мне показалось, вы были явно не в настроении.
Я непонимающе глядела на нее.
– О каком шансе вы говорите?
– Да все женщины здесь только и думают, как бы забеременеть!
Непонимание мое еще более усилилось.
– Почему же они так этого хотят?
– Чтобы спастись от гильотины, разумеется.
Мне это показалось глупым. И возмутительным. Беременность давала лишь отсрочку казни. Девять месяцев пройдут, а приговор останется. Хотя, может быть, в этом есть резон…
– Но идти на такое – это же унизительно! – вскричала я, возмутившись.
– Ну, как знаете. По-моему, лучше это, чем гильотина. Что касается меня, то я не хочу умирать. Я буду отдаваться каждому мужчине, который только захочет меня, но я выйду из этого ужасного места!
Последние слова она почти выкрикнула – с отчаянием и злостью. Я поняла, что спорить с ней – это пытаться отобрать у нее надежду. Она не хотела умирать. Это было вполне доступно моему пониманию.
Но до какой степени ужаса нужно было дойти, чтобы позволить отношениям между людьми так извратиться. Это тоже дело революции, подумала я. Она имеет все основания для гордости.
Первый день моего заключения в Люксембургской тюрьме подходил к концу.
2
Аврора и Изабелла оказались в Люксембургской тюрьме через три дня после того, как туда была заключена я. Три наши койки заняли один из свободных углов в камере; мы отгородились простынями и, таким образом, обеспечили себе некоторое уединение даже в этом месте.
Изабелла долго не могла взять в толк, что же все-таки со мной произошло, и ей трудно было поверить, что в Париже существует столь мощное и разветвленное роялистское подполье, возглавляемое бароном де Батцем.
– Как вы могли согласиться на такое, Сюзанна?
– Я хотела отомстить. Барон дал мне такой шанс.
Изабелла пожала плечами. Она была чужда мести. Презирать она умела, да, но дальше того ее негативные чувства не простирались. Впрочем, она не потеряла отца во время революции, у нее не казнили брата.
Аврора приехала из тюрьмы Шантийи бледная, похудевшая, вытянувшаяся, и щеки ее совершенно утратили былой детский румянец. Девочке нужны были овощи, фрукты. Но единственное, что смог достать для нас тюремщик, – это несколько унций фасоли и проросшего риса. Фасоль мы поделили между собой, а зеленые побеги риса съела Аврора.
Изабелла уже не сидела оцепеневшая, с каменным лицом, как тогда, в Шантийи, и всегдашняя жизнерадостность возвращалась к ней. В первый же вечер она приняла предложение одного из аристократов и пошла с ним в постель. Возвратилась она, правда, недовольная и назвала своего партнера «тупицей», но выразила желание продолжать подобные попытки.
– Должен же хоть один мужчина в этой камере оказаться не тюфяком, а опытным любовником!
– Вы что, хотите забеременеть? – спросила я, ибо не видела другого объяснения происходящему.
Черные глаза Изабеллы взглянули на меня изумленно; она расхохоталась, но в смехе ее звучала горечь.
– О, моя дорогая, неужели вы не поняли до сих пор? У меня не может быть детей, так что даже такой путь к спасению мне отрезан… Увы, Сюзанна… Двенадцать лет назад у меня был выкидыш, который избавил меня от всяких опасений иметь ребенка.
Я прикусила язык. Сама того не понимая, я причинила ей боль. Изабелла не показала этого, но достаточно было вслушаться в ее голос, чтобы понять, что ей больно. Ни за что на свете я не заговорю больше на эту тему.
Расчесывая свои густые темные волосы, Изабелла добавила:
– Надо же мне повеселиться перед смертью. И я все-таки найду в этой тюрьме человека, который не сопляк в любви, – пусть даже для этого мне надо будет перевернуть весь Люксембург…
Аврора слушала все это, открыв рот. Я подумала было, что она еще слишком мала, чтобы при ней обсуждать подобные вещи, но потом махнула рукой. Она и так все понимает. Будет лучше, если мы с Изабеллой будем вести себя естественно. Если мы станем шептаться и делать из этого тайну, это вызовет у Авроры нездоровый интерес и чрезмерно акцентирует внимание на отношениях между мужчиной и женщиной. Я вспомнила свои монастырские годы. Какие только небылицы не рассказывали мы друг другу, и все только потому, что ничего не знали наверное и некому было объяснить нам все это доверительно.
– Мама, ведь я не твоя дочь, правда? – спросила вдруг Аврора.
Я вздохнула, но сдержала себя и очень спокойно взглянула на девочку.
– Почему ты так думаешь, малышка?
– Потому что мне это понятно.
– Как это – «понятно»?
– Мне скоро будет двенадцать, а тебе двадцать три. Не могла же я родиться у тебя, когда тебе было одиннадцать! Я знаю, такие молоденькие девочки замуж не выходят.
Я глубоко вздохнула. Рано или поздно Аврора должна была понять. Может, это и к лучшему.
– Ты права, моя дорогая. Но ты все равно моя дочь. Я люблю тебя. Мне казалось, ты чувствуешь это.
– Да.
– Я рада. Разве тебе было когда-нибудь плохо со мной?
– Нет.
– У меня нет другой дочери, кроме тебя. И из-за того, что теперь ты все понимаешь, мы ведь не поссоримся, правда?
Аврора прижалась ко мне, я обняла ее, поцеловала. Ее пока не интересовало, как она попала ко мне и почему.
– У меня осталась только ты, Аврора.
– А Жанно?
– Жанно далеко, – прошептала я, чувствуя, как сжимается у меня сердце. – Теперь только ты со мной, мой ангел.
Мы долго сидели, обнявшись, слушая дыхание друг друга. Я любила эту девочку. Она была со мной уже почти восемь лет, я привыкла к ней. Она одна, вероятно, выйдет отсюда. Батц обещал это. Но что с ней станет на свободе, в голодном кровавом Париже? Я могла лишь думать об этом. Помочь ей не в моих силах.
Поздним вечером 5 февраля, вскоре после того, как была составлена новая партия заключенных для Трибунала, тюремщик позвал меня к выходу.
Я была готова. Я знала, что на допросы вызывают вечером либо ночью, поэтому и внешне, и внутренне готовилась к этому. Меня только удивляло, что целых пять дней меня не трогали. Но я все равно была аккуратно одета. Я даже сумела перед жалким осколком, зеркала красиво причесаться, а на тщательно уложенные золотистые волосы надела хорошенький кружевной чепчик, позаимствованный у Изабеллы, который легкими плиссированными воланами обрамлял изящный овал лица.
Я должна была выглядеть хорошо, на этом настаивал даже Батц. Но и самой мне хотелось того же. Странно, но все женщины, отправляющиеся в Трибунал или даже на эшафот прилагали все усилия к этому: тщательно расчесывали волосы, занимали у других вещи, чтобы выглядеть покрасивее. Да, странное желание, если учесть, что обезглавленные тела сваливаются в одну безымянную яму и засыпаются гашеной известью.
Я шла за тюремщиком. У самого выхода он связал мне руки веревкой и передал какому-то революционному комиссару. Комиссар знаком велел мне садиться в темную мрачную карету, на запятках которой стояли огромные жандармы, вооруженные саблями. Дверца захлопнулась, комиссар задернул черные занавески и дал знак отправляться.
– Куда меня везут? – осведомилась я.
– Мне запрещено говорить с тобой, – произнес комиссар.
Я разозлилась. Какая глупость не говорить этого сейчас, ведь я все равно пойму, куда меня привезли!
– Черт побери, уж это-то вы сказать можете?!
– Мне запрещено разговаривать с тобой! – грозно крикнул он, приподнявшись на кожаных подушках.
Я умолкла. Комиссар попался явно нервный, может быть, слегка сумасшедший. У меня пропало желание с ним ссориться.
Мы ехали долго. Из-за темноты, царившей в карете, и задернутых окон я не могла понять, куда лежит наш путь. Честно говоря, я вообще не ожидала, что меня куда-то повезут. Я полагала, следователь придет в тюрьму, как это бывает всегда. Но, видимо, моим делом заинтересовался кто-то более высокопоставленный. Впрочем, и об этом меня предупреждал Батц.
Лошади остановились. Я вышла из кареты, жандармы окружили меня со всех сторон. Эти предосторожности, явно переходящие меру необходимого, меня удивляли. Кроме того, мне достаточно было взгляда, чтобы понять, что я оказалась в святая святых революции. Это был двор Тюильри, и остановились мы возле павильона Флоры. Правда, теперь Тюильри назывался Дворцом равенства. Здесь заседал Конвент и Комитет общественного спасения, возглавляемый зловещим Робеспьером.
– Вперед! – скомандовал комиссар.
Мы поднялись по лестнице на второй этаж Дворца равенства, где раньше была спальня Марии Антуанетты. Тягостное впечатление вызвали у меня эти стены. В последний раз я была здесь во время яростного и кровопролитного штурма Тюильри, когда горстка аристократов сдерживала натиск двадцатитысячной толпы и потом была зверски расстерзана. Тогда тут был и маркиз де Лескюр.
В одной из приемных нас встретил секретарь без одной ноги. Комиссар развязал мне руки. Я стояла в недоумении, не понимая, куда меня привезли.
– Гражданин Сен-Жюст ждет, – произнес безногий секретарь.
Я тогда не знала еще, что совсем недавно под нажимом Робеспьера Конвент принял декрет об образовании Бюро общей полиции и что руководство Бюро осуществлял один из триумвиров – Сен-Жюст, сосредоточивший, таким образом, в своих руках всю систему политической полиции, сыска и террора.
Сейчас я оказалась в приемной именно Бюро общей полиции.
– Передаю тебе ее из рук в руки, – заявил комиссар.
Безногий распахнул передо мной дверь огромного кабинета. Я вошла, внутренне содрогаясь.
Имя человека, к которому меня привезли, любому могло внушить ужас. Я много слышала о его патологической жестокости, непреклонности, черствости. Его называли «архангелом смерти», «кровавым тигром». Это он говорил: «Надо думать, как наполнить врагами народа не тюрьмы, а гробы». Именно об этом он и думал. Долгое время проводя на фронте, он ставил перед генералами задачу: «Впереди – победа, сзади – расстрел». У сотен людей полетели головы лишь потому, что он считал это революционно целесообразным.
И именно этот человек сейчас стоял передо мной.
Но у меня в душе вместо испуга внезапно шевельнулось другое чувство: злорадство. Сен-Жюст ужасен, жесток, чудовищен. Он может убить меня. Но ему суждено попасться в коварную ловушку, расставленную Батцем, – ловушку, которая повлечет за собой крах революции, падение в пропасть Робеспьера и его своры. Робеспьер и Сен-Жюст ненавидят тех, кто мешает их власти, – Дантона с друзьями и Эбера с товарищами. Ненавидят и уничтожат их. Тогда под ними самими окажется пустота, и они рухнут в пропасть ими же развязанного фанатизма.
Я так упивалась этими мыслями, что даже забыла, куда пришла. Я сознавала лишь то, что мне надо любыми средствами разжечь у этого человека ненависть к Дантону и убедить его в виновности последнего. Я сделаю это… Пройдет год или два, и план Батца осуществится. Нынешнее безумие не может продолжаться слишком долго.
Сен-Жюст стоял за столом – стройный, неестественно прямой, в жестком накрахмаленном галстуке, подпиравшем шею, и безупречном костюме из верблюжьей шерсти. Он умел одеваться. Еще бы, ведь он – шевалье де Сен-Жюст де Ришбур, аристократ, хотя сейчас он всячески отрекается от этого.
– Старая знакомая, – прозвучал его холодный голос, который мне показался даже мертвым.
От этого человека веяло холодом. Он вел себя неестественно, как автомат. Я вспомнила колкую фразу дантониста Демулена: «Гражданин Сен-Жюст смотрит на свою голову как на краеугольный камень Республики и носит ее с таким благоговением, как святые дары». Не понимающий юмора Сен-Жюст возненавидел Демулена и пробормотал в ответ: «Я ношу свою голову как святые дары, а ты понесешь свою как святой Дени[9]».
Я вспомнила нашу далекую встречу семь лет назад. Тогда Сен-Жюст показался мне необыкновенно красивым. У него и сейчас были большие темно-синие глаза, но смотрели они тускло. Цвет лица был мертвенно-бледным, щеки чуть ввалились, безупречные черты заострились, губы стали тоньше. «Его иссушила собственная ненависть», – мелькнула у меня мысль.
– Садись, – сказал он мне резко, не прибавляя даже слова «гражданка». Видимо, для него я гражданкой не была.
Я села. Свет трех бронзовых канделябров падал на мое лицо и золотистые волосы. Я знала, что при свечах выгляжу особенно красиво, но, когда Сен-Жюст задержал на мне взгляд, я невольно вздрогнула.
Он заметил это.
– Да, у тебя есть все основания бояться, – заметил он холодно. – Ты уличена в страшном преступлении.
– Но я не боюсь.
Он молча смотрел на меня. Я чувствовала, что начинаю злиться. С какой стати мне разыгрывать перепуганную? Если уж я должна представиться заговорщицей и деятельной роялисткой, то такая женщина должна быть смелой и дерзкой. Она пересекла Ла-Манш, чтобы подкупить Дантона. Для этого нужно мужество. И она бы не стала теряться в присутствии Сен-Жюста. Да, именно так я и стану себя вести.
– Не боишься? Посмотрим.
Резкими движениями он доставал из ящика стола какие-то бумаги. Я узнала в них фальшивки, переданные мне Батцем. И сверток с огромной суммой денег. «Странно, – подумала я, – как их еще не растащили; должно быть, у такого монстра с этим обстоит сурово».
– Ты будешь отвечать на мои вопросы, сразу, без запинки. Советую не медлить и не запираться. Здесь, внизу, есть сырой подвал с крысами. Если я замечу, что ты лжешь, ты в мгновение ока окажешься там. Крысы могут отгрызть тебе пальцы. Ты ведь этого не хочешь, не правда ли?
Я не знала, что ответить: и «да», и «нет» прозвучали бы одинаково нелепо.
– Я готова рассказать, – сказала я тихо.
Он откинулся на спинку кресла, ни на миг не отрывая от меня глаз. Я только сейчас заметила, какие у него длинные белые пальцы. Пальцы инквизитора.
– Откуда ты приехала?
– Из Лондона.
– Как тебе удалось высадиться на земле Республики?
– Меня привез английский бриг в Сен-Мало.
– Как он назывался?
– «Бесстрашный».
– Кто помогал тебе в Сен-Мало?
– Английские агенты.
– Их адрес?
– Я не знаю. Они не живут там постоянно.
– Их имена?
– Фротте и Уильямс.
Все это были пока детские игры. Батц предвидел эти вопросы, а ответы я заучила, как инструкцию.
– Когда и как ты прибыла в Париж?
– Первого февраля, в дилижансе.
– Где ты остановилась?
– Нигде. Я сразу отправилась исполнять поручение.
– Преступление, хочешь ты сказать, – жестоко перебил он меня.
Я не возразила. Сен-Жюст смотрел на меня холодным змеиным взглядом.
– Ты впервые была у Дантона?
– Нет. Я ездила к нему летом, привозила деньги.
– Что он делал взамен?
– Обещал спасти королеву.
– Чем можно доказать его предательство?
Это был самый главный вопрос. Батц предупреждал меня.
– Должно быть, – сказала я очень спокойно, – в его бумагах можно найти подобные доказательства. Если произвести обыск.
Поток вопросов возобновился.
– Ты знаешь, что ты везла?
– Приблизительно. Деньги и письма.
– Содержание писем тебе известно?
– Нет. Я была только связной. Меня это не интересовало.
– Кто писал Дантону?
– Английское правительство. Уильям Питт, премьер-министр, руководил этим.
– Чего они хотели от него и что он обещал?
Я ответила неуверенно.
– По-моему, он обещал восстановить монархию, уничтожить Конвент и казнить Робеспьера. За это ему был обещан пост первого министра при малолетнем короле.
– Но Дантон всегда стоял за Орлеанов.
– Не знаю. Речь шла о маленьком короле.
– Как долго, по-твоему, Дантон предает Республику?
– С тех пор, как она была провозглашена. Все его действия были обусловлены подкупом со стороны Англии и Пруссии…
– У тебя нашли свидетельство о благонадежности, подписанное Эро де Сешелем. Он тоже работает на вас?
– Конечно. Он ведь дантонист. И скрытый роялист.
Чем дальше заходил допрос, тем увереннее я становилась.
Сен-Жюста, казалось, не интересовали мелкие подробности, на которых я могла бы попасться. Лицо его слегка оживилось. Он был рад потоку компромата, обрушившегося на Жоржа Дантона. Ему даже не важно было, правда ли это.
– Дантона никто не заставит быть честным в отношении Республики, – продолжала я громко, даже с некоторым воодушевлением. – Он ненавидит Робеспьера. Он называет его евнухом, идиотом, жалким интриганом, а тебя, Сен-Жюст, тебя он считает просто ничтожеством и прихвостнем, я сама слышала эти слова!
Мне было важно разжечь ненависть. Сен-Жюст, белый как мел – даже губы у него побелели, – вскочил с места, пальцы его сжались в кулаки.
– Замолчи! Не тебе повторять это, жалкая английская дрянь!
Он потерял свое хладнокровие, пусть на миг, но потерял.
– Ты спала с ним?
– С кем? – переспросила я недоумевая.
– С этим предателем! Отвечай!
Я возмутилась.
– Какое, собственно, это имеет отноше…
Он не дал мне договорить. Размахнувшись, он ударил меня по лицу. Я вскрикнула, хватаясь за щеку.
– Так ты спала с ним? За деньги, вероятно? И вы с ним вместе смеялись над нами?
«Над нами»? Он имел в виду, вероятно, себя и Робеспьера.
– А отчего бы нам и не посмеяться! – крикнула я дерзко, вызывающе. – Вы даете достаточно поводов для насмешек. Твой Робеспьер в свои тридцать пять лет не вызвал интереса ни у одной женщины; он потому и завидует Дантону, что сам бессилен. А ты… ты лишь бледное его подобие. Ты внушаешь ужас. Никакая женщина не захочет тебя, да и ты не способен хотеть. Ты отвратителен! А Дантон – мужчина хоть куда. Он живет полной жизнью, он знает любовь и наслаждение, а вы так никогда и не узнаете, что это такое!
Он сам спровоцировал меня на это. Я была в каком-то исступлении, я лгала, сама забыв о том, что я лгу. Инстинктивно чувствуя, что попадаю в самое больное место, я жалила, как могла. Мне нечего было терять.
Он закатил мне пощечину – одну, потом другую, но я все равно рассмеялась ему в лицо.
– Ты просто жалкий червяк! Ты даже ударить как следует не можешь! Ты не мужчина, а малокровная улитка! Посмотри-ка на себя повнимательнее!
«Я схожу с ума», – мелькнула у меня мысль. Я вырвалась из его рук.
– Ты, верно, утешаешь себя тем, что все твои силы забирает любовь к родине и революции, и потому тебя на другое не хватает. Видно, ты придумал это для своего успокоения. Но ты только себя обманываешь. Ты ни на что не способен, кроме как корпеть над бумагами и упиваться ненавистью; ты слизняк! Слизняк!
Я бросила ему это в лицо, задыхаясь от злорадства. Я играла, как настоящая актриса, и потому у меня получилось все это так хорошо, что я говорила то, что думала. Он остановился, опираясь на спинку стула; его прежде тусклые синие глаза снова засияли – так оживила их ненависть. Я в жизни не видела, чтобы кто-то смотрел на меня с такой ненавистью. Тем более что я вдруг с ужасом прочла в этом взгляде желание – зверское, жестокое, исступленное. Казалось, он готов разорвать меня на куски.
– Я запомнил тебя, – заговорил он хриплым клокочущим голосом. – Еще тогда, семь лет назад. Ты и тогда рада была унизить меня.
– Мерзавец! Я выпросила у отца твое освобождение!
– Ты рада была видеть мое унижение. Я убью тебя за это.
Он повторил это с каким-то восторгом:
– Я убью тебя. И даже не потому, что ты враг. Знай, что не потому! Я убью тебя потому, что ты – это ты. Что ты видела меня тогда, что…
– Не трудись перечислять! – прервала я его с горькой насмешливостью. – Если ты начнешь перечислять все свои низменные побуждения и гнусные мотивы, тебе не хватит ночи, жалкий Сен-Жюст, шевалье де Ришбур. Я давно готова умереть. Мне это уже не страшно. Ну-ка, поройся в своем грязном воображении, может, отыщешь что-нибудь пострашнее!
– Я уже нашел.
Мне стало немного жутко. Он смотрел на меня, как ненормальный, губы у него дергались.
– Что же ты нашел?
– Ты отдашься мне. Ты еще узнаешь, на что я способен! Я отравлю твои последние дни, я обесчещу тебя…
Он и сейчас не мог говорить без пафоса. Обесчещу! Надо же!
– Тебе прежде надо дорасти до моей чести. Такое чудовище, как ты, может со мной низко поступить, но унизить меня не сможет. Моя честь – она всегда со мной, а твои гнусные поступки касаются лишь твоей чести, Сен-Жюст де Ришбур!
Я нарочно называла его так, именем, от которого он всячески открещивался. Потом меня разобрал смех. Как, собственно, собирается он осуществить свое намерение «обесчестить» меня? Чем можно запугать меня сейчас, когда я даже смерти не боюсь?
Он почти успокоился, и взгляд его сделался ледяным. Горячая ненависть превратилась в ледяную. В этом человеке все было холодным, даже кровь. Рыбья кровь. Она не давала ему сил для длинных вспышек, горячих приступов гнева, которые характеризуют людей импульсивных и искренних, зато давала возможность подолгу таить ненависть и замышлять месть. Такую же мелочную, как и он сам.
– Ведь с тобой сидит некая Изабелла де Шатенуа, столь же злостная преступница, как и ты? – произнес он, заглядывая в какую-то бумагу. – В донесении говорится, что вы большие подруги и никогда не разлучаетесь.
Вздох облегчения вырвался у меня из груди. Подпольная сеть Батца действует. Имя Авроры не попало даже в сообщение, предназначенное самому Сен-Жюсту. Барон исполнил свое обещание. Об Авроре забудут.
Глядя на меня спокойно, очень спокойно, Сен-Жюст заговорил:
– Завтра ты будешь мягче и любезнее. Ты даже извинишься передо мной за свои оскорбления.
– Ха! – сказала я в ответ, не зная, как это понимать.
– И ты будешь моей без лишних разговоров. Я докажу тебе, что я не так уж неспособен, как ты воображала.
Я пожала плечами, не понимая, к чему он клонит.
– А если нет… Если завтра ты посмеешь ломаться, твоя подруга-преступница сразу отправится в Трибунал. И будет казнена, разумеется, – добавил он улыбаясь. – Уж об этом я позабочусь.
У меня все поплыло перед глазами. Так вот что придумал этот монстр! Он отыскал-таки мое уязвимое место. Он ввел в это дело Изабеллу!
– У тебя только одна ночь для размышлений, моя дорогая, – почти медоточиво произнес Сен-Жюст, явно упиваясь своей изобретательностью. И моим бессилием.
Он взял звонок со стола и позвонил. Появился тот самый секретарь-инвалид.
– Лежен, уведи арестованную.
– В тюрьму, гражданин представитель народа?
– В подвал.
И он снова сел к столу, деловито взявшись за бумаги.
Задыхаясь, я вышла из этого проклятого кабинета. Мне было дурно. Я знала лишь то, что передо мной предстал чудовищный выбор. И вся ответственность за него свалилась на мои плечи.
3
Оказавшись в своем новом месте заключения, я почти машинально подтащила стул к выступу у стены, села, где повыше, и молча посмотрела перед собой.
Я была не испугана, а ошеломлена. Мне даже не верилось, что все только что происшедшее мне не приснилось. Я словно бы встретила двух Сен-Жюстов. Первый был холодным, спокойным и непреклонным. Но потом этот первый мигом превратился в сопляка, мальчишку, который говорил фальцетом и с достойным насмешки пафосом клялся меня убить и обесчестить. Правда, был еще и третий Сен-Жюст: подлец и шантажист.
Как жаль, что он узнал об Изабелле, подумала я. Это единственное слабое место в моей броне, и он узнал об этом. Изабеллой я не могла пожертвовать, хотя прекрасно понимала, что рано или поздно, нам придется обеим отправиться в Трибунал. Но самой стать причиной ее осуждения, ускорить ее гибель я не могла. И так мне до сих пор снился Розарио.
Стало быть, я должна буду смириться? Меня сразу замутило, едва я подумала об этом. Нет ничего хуже, чем подчиниться мужчине, которого глубоко презираешь и к которому чувствуешь одно отвращение. Он действительно сможет отравить мне последние дни.
Да у него руки, наверное, холодные, как у мертвеца… Чего еще ждать от этой жестокой мумии!
Но иного выхода у меня нет.
Впрочем…
Если хорошо поразмыслить, то я тоже имею шанс подлить немного отравы в его жизнь. Я думала трезво, рассудочно. Сен-Жюст – жалок сам по себе, и его внешние холодность и автоматизм, его суровость, наводящая ужас, – это лишь защита, способ скрыть ощущение своей неполноценности. Я вспомнила его восторженные отзывы о греческих героях семь лет назад. Человек, который уверяет, что «после римлян мир опустел» и не находит себе никакого поприща, кроме кровавого, в современном мире, – неизбежно неполноценен. Вот почему он так ненавидит тех, кто видел его униженным, и так жаждет унизить всех остальных – для того, чтобы сделать их такими же неполноценными.
Его дружок как раз ему под стать. Я не знала Робеспьера, но была уверена, что они – точная копия друг друга. Сами ничего собой не представляя в интеллектуальном смысле, они жаждут заставить всех преклоняться перед их умом и проницательностью. Они развязали террор, чтобы уничтожить всех умных людей, к которым питают патологическую ненависть. Поистине, Франция очень низко пала, если позволила Робеспьеру и Сен-Жюсту управлять собой.
Ну, а я… Я – женщина, меня можно унизить особо изощренно. Можно усилить наслаждение от этого унижения, представив, что именно в его, Сен-Жюста, воле отправить меня на эшафот и что скоро это будет сделано и я окажусь в руках палача. Питаясь этими соображениями, можно нарисовать себе сколько угодно сладострастных и жестоких картин, как это свойственно мужчинам.
Но мне тоже кое-что известно о мужчинах, и я не невинная девица. Видит Бог, я все силы приложу, чтобы для этого монстра минута его торжества обернулась самым большим унижением. Этот идиот, очевидно, полагает, что, овладев мною, утвердит таким образом свою власть надо мной! И он еще узнает, что я думаю о его мужских достоинствах! Если я выкажу страх или растерянность, это усилит его агрессивность. Он любит, когда его боятся. Но я поведу себя совершенно иначе.
Я просидела здесь уже довольно долго и начала ощущать, что мне становится невыносимо холодно. На дворе еще была зима. Съежившись, я подумала, что со стороны Сен-Жюста отправить меня сюда было величайшей подлостью.
Задребезжал замок. Я оглянулась. На пороге возникла фигура Лежена, одноногого секретаря Сен-Жюста. Неужели меня снова вызывают на допрос? Впрочем, этого быть не может: должны же эти революционеры когда-нибудь спать. По моим подсчетам, сейчас было около полуночи.
– Я принес тебе кое-что, – проговорил секретарь, тяжело спускаясь по ступенькам. Его деревянная нога глухо постукивала по камням.
Удивленная, я смотрела на него. Он принес мне походное одеяло, кусок хлеба и фонарь, чтобы отгонять крыс.
– Я знаю, без одеяла здесь можно отдать Богу душу, – пояснил он хмуро.
– Это от вас или от Сен-Жюста? – спросила я.
Инвалид не ответил и снова поднялся к двери. О чем я спрашиваю! Разве мог такой слизняк, как Сен-Жюст, совершить хоть один человеческий поступок!
– Я благодарю вас! – крикнула я инвалиду, понимая, что он позаботился обо мне по собственному желанию.
Вокруг меня снова воцарился мрак. Правда, теперь он слегка разгонялся слабым светом фонаря. Его свечи хватит до утра. Я укуталась в одеяло, съела кусок хлеба и, подобрав под себя ноги, уснула.
Мне можно было спать – я уже все обдумала.
4
Меня разбудил ужасный холод и писк. Еще не совсем проснувшись, я почувствовала, как что-то противно-теплое скользнуло у меня на ноге. Это была крыса.
С возгласом ужаса я вскочила на ноги, перевернув фонарь, в котором догорала свеча. Сердце у меня колотилось. Лихорадочно оглядевшись, я с трудом сообразила, где нахожусь. Мне было немного дурно – то ли от голода, то ли от встречи с крысой.
Заскрежетал замок. Снова появился Лежен, благодаря которому я этой ночью не умерла от холода.
– Ах, так меня снова вызывают, – произнесла я, обнаружив, что голос у меня звучит неожиданно звонко.
– Уже восемь часов утра, – объявил инвалид.
– И что, ваш господин уже явился? – спросила я насмешливо, поднимаясь по ступенькам.
– Гражданин представитель народа мне не господин. Нынче господа за границей. А гражданин Сен-Жюст каждое утро в шесть утра ездит верхом. К восьми он уже занимается своими обязанностями.
– Ездит верхом!.. – повторила я саркастично.
Какой отвратительный человек был этот Сен-Жюст: сухой и манерный, жестокий и напыщенный, мстительный и смешной. Было даже как-то унизительно погибнуть благодаря его проискам. Меня утешала только мысль о том, что я помогаю увлечь этого мерзавца в могилу. Чем больше он и его соратники будут бесноваться и проливать крови, тем шире разверзнется перед ними бездна и тем скорее произойдет падение.
Когда я вошла и за мной захлопнулась дверь, Сен-Жюст уже сидел за служебным столом, производя впечатление чрезвычайно занятого государственного мужа. Он взглянул на меня, и глаза его сузились от ненависти.
– Итак, я жду, когда же вы будете меня бесчестить, – произнесла я насмешливо. Я чувствовала слишком большое отвращение к нему, чтобы бояться. Как жаль, что он не знает, что я помогаю привести его к краху. Было бы весьма приятно сообщить ему об этом.
– Мы продолжим допрос, – сказал он резко, поднимаясь из-за стола, – прямой, стройный, с неестественно прямо посаженной головой.
– Прекрасно.
Я села, ожидая, что же будет дальше. Я уже немного отошла от холода подземелья, и кровь прилила у меня к щекам, руки согрелись. Пожалуй, даже после такой ночи я имела в себе больше жизни, энергии и радости, чем этот бледный холодный представитель народа.
– Тебя подослал Батц? – внезапно спросил он.
У меня слегка зашумело в ушах. Я не готова была к такому вопросу. Откуда он знает?
– Английское правительство, от которого я приехала, не поддерживает никаких связей с бароном де Батцем, – произнесла я спокойно.
– Ага, так ты признаешь, что Батц – не вымышленное лицо?
Я чуть не фыркнула от смеха. Эти революционеры, оказывается, еще даже точно не уверены, что Батц – не фантом. И это в то время, когда почти все правительственные учреждения опутаны золотыми сетями барона!
– Конечно, признаю. Я много слышала о его заговорах. Но Англии невыгодно вести с ним дела, так как он не признает контрразведку и отказывается заниматься сбором информации.
– Что же он делает? – воскликнул Сен-Жюст, даже с некоторым безумием всматриваясь в мое лицо.
– Он сам вмешивается в ход событий, – произнесла я замогильным голосом.
– Точнее, черт побери!
– Точнее я не знаю.
– Я не верю тебе.
Я пожала плечами. Какое мне дело до его веры? Что он может мне сделать? Разве что казнить. Сен-Жюст едва ли не потирал руки.
– Придется оставить тебя в живых на время, – произнес он. – Я уверен, ты знаешь намного больше, чем признаешься. Мы еще найдем способ вытянуть из тебя сведения.
Я насмешливо смотрела на него. Пожалуйста, вытягивайте! Только дайте мне время придумать какие-нибудь небылицы о Батце. Я с удовольствием расскажу их вам.
– Чего ты от меня хочешь? – сказала я вслух. – Я же не резидент, можешь ты понять это, Сен-Жюст де Ришбур? Я связная. Я знаю мало и все понаслышке. Я была посвящена лишь в то, что касалось Дантона…
– Когда ты уехала в Англию?
– Сразу после того, как чернь разгромила Бастилию.
– А, так ты еще и эмигрантка!
Просматривая какие-то бумаги, он перечислял:
– Потом ты вернулась и служила Австриячке. Ты ездила в Вену к императору Леопольду, ты помогала Капету и его семье бежать, ты была потом в тюрьме Ла Форс и ускользнула от правосудия. Потом похожая на тебя женщина служила в кухне Тампля и была замешана в попытке выкрасть Австриячку с ее ребенком. Далее твои следы теряются – вероятно, ты была в Англии. Как видишь, нам все известно. И этого достаточно, чтобы гильотинировать тебя 10 раз. Что мы и сделаем.
Я холодно выслушала это сообщение. Его голос звучал ровно, но было видно, что ему нравится снова и снова внушать мне, что я умру на гильотине. Его руки потянулись ко мне, легли на мою шею, с каким-то сладострастным дрожанием слегка сжали ее. Пальцы у него были холодные, казалось, ко мне прикасается мертвец. Я пересилила себя, взглянула на Сен-Жюста холодно и безразлично:
– Ага, значит, мы начинаем исполнять свои клятвы? Ну, давай, давай! Хочу посмотреть, на что ты способен. Когда кончишь, скажи мне об этом.
С проклятием он отдернул руки. Мой насмешливый тон подействовал подобно ледяному душу, но разжег ненависть. Сен-Жюст был по натуре изверг, из породы тех насильников, которых возбуждает внушаемый ими страх и сознание того, что сейчас он принудит женщину подчиниться ему. Когда этого нет, у них почти пропадает способность к насилию.
– Да что же ты? – сказала я с вызовом и насмешкой. – Давай! Ты же обещал. Правда, я была уверена, что как мужчина – ты сопляк, это видно по тебе сразу. Но все же хотелось бы убедиться в этом.
И я с трудом подавила зевоту.
По его виду было ясно, что он совершенно озверел. Он не орал, не чертыхался, но лицо его стало белее стены, а зубы были крепко сжаты. Я безразлично скользнула по нему взглядом. Пусть делает, что хочет, я согласна на все, лишь бы не пострадала Изабелла. Пусть даже насилует меня. Если может. Если у него хватит на это сил.
Глядя на него с величайшим презрением, я произнесла:
– Ты даже внешне слизняк. Ты когда-нибудь смотрел в зеркало, как ты сложен? В тебе же нет ничего мужского.
Он рванулся ко мне, с неожиданной для него силой поднял меня со стула, остервенело встряхнул и так ударил по лицу, что у меня потемнело в глазах. Я не вскрикнула, но, закусив губу, с ненавистью посмотрела ему в глаза. Тогда он ударил меня еще и еще раз, а последний раз так грубо, что в кровь разбил мне губы.
Можно было подумать, что он принимает меня за мужчину. Схватив меня за плечи и обдавая запахом одеколона, он повалил меня на стол. Лицо его было безумно, как у сумасшедшего, сбежавшего из приюта для душевнобольных. Одной рукой он с невероятным неистовством сжимал мне горло, другой залез под мою юбку, путаясь в нижнем белье, проник внутрь так глубоко, грубо и оскорбительно, что мне стало тошно от гнева и отвращения. Его палец был холодный и костлявый, как у старухи, он нарочно действовал им так грубо, буквально разрывая меня, чтобы причинить мне боль. Меня обуяла ярость. Собравшись с силой, я плюнула ему в глаза, и вид этого ужасного лица со страшной гримасой, залепленного слюной и кровью, доставил мне некоторое облегчение.
В ответ он ударил меня так, что кровь хлынула из носа, и я на какое-то время потеряла сознание.
Когда я очнулась, он уже проник в меня, все так же сжимая меня за горло, и двигался так грубо, неловко и неистово, что я ощущала сильную боль. Впрочем, это не продолжалось долго. Уже через несколько секунд я ощутила судорогу этой мерзкой плоти, когда он выбрасывал в меня семя, и все было кончено. Он оставил меня, такой же злой и трясущийся, как и до этого.
– Ну, что, такой уж я неспособный, как ты думала? Я мог бы разукрасить тебя и получше!
Я поднялась, дрожа от невероятной ярости, которая туманила разум. Как бы я хотела, чтобы этот скот умер! Чтобы этот сукин сын провалился прямиком в ад! Но я ничего не могла сделать.
– Я никогда не встречала такого мерзкого мужчину, как ты! – выкрикнула я в бешенстве. – Да еще с такой противной, уродливой штукой! На твоем месте я бы не испробовала ее ни на одной женщине. Всех их будет просто тошнить от отвращения!
По выражению его лица я думала, что он снова изобьет меня. Но этого не случилось – может быть, поджимало время, а возможно, он уже исчерпал весь запас подлости, на какую был способен.
Сен-Жюст, хотя злость душила его, просто позвонил. Вошел Лежен. Инвалид сразу оценил то, что произошло, но скромно опустил глаза, не желая, видимо, чтобы его обвинили в излишней проницательности.
– Уведите заключенную, – приказал Сен-Жюст.
– В подвал? – осведомился Лежен.
– В Ла Форс. Я уже составил предписание.
Меня вывели из этого проклятого кабинета. Лицо у меня было разбито в кровь, одежда в беспорядке; на сердце лежал камень. Господи ты Боже мой, когда это все кончится?! О Сен-Жюсте и о том, что он сделал со мной, я даже не могла думать. Больше всего сейчас мне хотелось умереть. И узнать, за какую такую вину все эти ужасы и муки постигают именно меня!
Меня привезли на новое место заключения, в Ла Форс. На этот раз у меня не было сил договариваться с тюремщиком, я решила отложить это на потом. Камера была еще больше, чем в Люксембургской тюрьме, но я не стала знакомиться с узниками. Упав ничком на кровать, уткнувшись лицом в подушку, я залилась слезами. Мне было больно, так больно, что я с трудом дышала. Как мне хотелось, чтобы у меня была мама, которая любила бы меня и могла утешить. Такое желание появлялось у меня нечасто, раз или два в жизни, но, когда все-таки появлялось, это говорило о том, что я дошла до крайней степени отчаяния.
Какой женщине понравилось бы, что с ней обращаются по-зверски, насилуют и избивают. Да еще, как на грех, это случилось именно тогда, когда я могу забеременеть. От такого гнусного типа! При одной мысли об этом я задрожала от отвращения; мне бы легче было содрать с себя кожу, чем пережить такое.
Потом я подумала о Жанно. Как мучительно было сознавать, что я никогда больше не увижу его, не буду наблюдать, как он растет, каким станет юношей и мужчиной. Жизнь казалась мне бессмысленной, если исчезла надежда на это. Да и вообще следовало признать, что само мое рождение и моя жизнь были сплошной глупостью, и все это завело меня в тупик. Я не нашла своего места, меня раздавила эта страшная машина революции, как раздавила тысячи других женщин. Мне даже нечего было вспомнить. И счастлива я была едва ли несколько дней.
Я тихо и отчаянно рыдала в подушку, пока не прошла дрожь в теле и не наступило полное изнеможение. Обессилевшая, я забылась тяжелым сном, хотя слезы еще не высохли у меня на щеках.
5
Очнулась я только на следующее утро, да и то оттого, что кто-то осторожно прикоснулся к моему плечу. Это была Изабелла.
– Вас уже привезли в Ла Форс? – спросила я слабым голосом.
Она смотрела на меня с ужасом.
– Сюзанна, милая… что же это с вами?
Я вспомнила, что, приехав вчера в Ла Форс, не нашла в себе сил даже умыться, и теперь, вероятно, кровь запеклась у меня на лице.
– Ах, это… – проговорила я безучастно. – Я была словно без сознания. Сейчас я умоюсь.
В Ла Форс узникам разрешалось опускаться к фонтану, и с помощью Изабеллы я вышла в тюремный двор. Шел мелкий февральский дождь, а я была в одном платье, и мне стало холодно. Ледяной водой из фонтана я умыла лицо, потом осторожно взглянула в зеркало, протянутое Изабеллой. Вид у меня был не из лучших, но, к своему удивлению, синяков я не заметила.
– Кто это вас так? – проговорила Изабелла.
– Антуан де Сен-Жюст, шевалье де Ришбур, – отвечала я с сарказмом.
– Вас возили к этому извергу?!
Я кивнула.
– И… что же он?
– Он получил все, что хотел, – прямо сказала я. – Он изнасиловал меня.
Я не была намерена пускаться в подробности. Черные глаза Изабеллы смотрели на меня испытующе, потом она порывисто привлекла меня к себе, задохнувшись, сжала в объятиях.
– Боже мой, Боже мой! – прошептала она.
– Надо, чтобы Аврора не знала, Изабелла.
– Конечно. И никто не узнает.
Я осторожно высвободилась из ее объятий.
– Знаете, Изабелла… я ужасно хочу есть. Я не ела почти два дня.
Мне не хотелось выслушивать слова сочувствия и жаловаться на судьбу – это только усилило бы мою боль. Я предпочитала вычеркнуть из памяти то, что случилось, забыть и никогда не вспоминать. До тех пор, конечно, пока не отомщу. Но доживу ли я до этого?
Мне надо стать душевно гибкой, приспособиться. Если все воспринимать близко к сердцу, мучиться после каждого оскорбления, можно сойти с ума. Я должна выскользнуть из оков моральных страданий, иначе я сломаюсь. Я должна быть как растение посреди дороги, которое гордо выпрямляется каждый раз, как его примнут. Мне надо стать несгибаемой. Хотелось бы, по крайней мере…
У меня были деньги, и я быстро договорилась с новым тюремщиком. Он принес нам молока и белого хлеба с куском сыра бри, потом предоставил подушки, более плотно набитые соломой, и бумагу с чернилами. Есть мне хотелось ужасно. И по мере того, как все больше времени проходило с того часа, когда я решила заставить себя забыть о случившемся, жгучая боль унижения становилась глуше. Отставив выпитый стакан, я вздохнула.
– Мне здесь не нравится, – заявила Аврора, уписывая за обе щеки хлеб. От молока у нее остались белые «усы». – В Люксембурге я уже успела кое с кем познакомиться, а тут одни чужие.
– Чужие? – переспросила я.
– Да. Да и детей здесь нет, мне не с кем дружить.
– Боже мой, – прошептала я, – ты уже воспринимаешь тюрьмы просто как новое место жительства.
– Тебя больше не заберут, мама?
Я нежно поцеловала ее.
– Не знаю, маленькая. Не знаю.
Я не могла сказать ей правду, но не могла и солгать, ведь рано или поздно наступит последний момент. Нас увезут в Трибунал, а Аврора останется одна.
Прошло несколько дней, и тюрьма Ла Форс стала для нас такой же привычной, как и Люксембург. С Ла Форс у меня были связаны самые страшные воспоминания. Я была здесь уже в третий раз. Первый – после бегства королевской семьи в Варенн, в 1791 году. Тогда меня вызволил Клавьер и ограбила Валери. Второй – после падения королевской власти. Тогда я видела кровавые ужасы сентябрьских избиений в тюрьмах и сама спаслась благодаря лишь счастливой случайности. У меня до сих пор перед глазами возникал залитый кровью двор Ла Форс, груды трупов, безумная толпа, выматывающая внутренности из тела принцессы де Ламбаль и жадно вдыхающая кровавые испарения.
Теперь, в 1794 году, избиения перестали быть стихийными, но приобрели четкий, размеренный, быстрый характер благодаря орудию убийств – Трибуналу.
Я не знала, долго ли нам ждать отправки в это заведение. Сен-Жюст что-то говорил о том, что мне на время оставят жизнь. Возможно, они с Робеспьером нуждаются в каких-то свидетелях, чтобы сокрушить Дантона. Когда Дантон будет уничтожен, необходимость во мне исчезнет. Но, может быть, произвол Комитета дошел до такой степени, что свидетели ему не нужны. Тогда меня могут отправить на гильотину в любую минуту.
Я старалась не думать об этом. Целыми днями мы сидели в камере, перезнакомились со всеми ее обитателями, узнали, кого тут считают доносчиками и шпионами, внедренными сюда властями. Я гуляла во дворе, стирала белье, брала у заключенных книги и читала. Я старалась не брать ни любовных, ни галантных мелодрам, ни эротической поэзии версальского рококо – ничего, что могло бы напомнить о прошлом и причинить мне сильную боль. Я читала только невероятные приключения и описание путешествий капитана Кука… Аврора слушала, затаив дыхание и открыв рот. Изабелла по вечерам продолжала свои поиски хороших любовников и, кажется, небезуспешно.
Возвращаясь, она вела долгие разговоры на темы любви.
– Невероятно, но самым печальным фактом является то, что ни один мужчина из пятидесяти не имеет ни малейшего понятия об умении любить. Это настоящее бедствие! Я знала всяких мужчин, и так мало настоящих! Я знала таких, которым вообще было безразлично все, кроме их собственного удовольствия, – это самый худший и бесчувственный сорт. Я знала даже таких глупых мужчин, которые покидали меня как раз тогда, когда я только-только начинала испытывать удовольствие!
Я слушала эти рассуждения молча. У меня после случая с Сен-Жюстом возникло даже некоторое отвращение ко всему мужскому племени и его домогательствам.
– Год назад был любопытный случай, – говорила Изабелла. – Я была в Лондоне. На приеме у леди Говард меня познакомили с человеком, который показался мне восхитительным. Он был красив, умен, внимателен, – у меня начинала кружиться голова… Он так томно целовал мне руки, что к концу вечера я приняла решение о том, как проведу ночь. Он вызвался разыскать мою карету, и мы, конечно же, уехали вместе. Я с трудом могла дождаться, когда увижу все его остальные хитрости. Остальные! Как только за ним закрылась дверь спальни, он быстро разделся, набросился на меня и, три раза взяв, тут же отвалился и заснул. Ни одного слова не было сказано. Ни одного обольстительного движения – представляете, милая? Столько всяческих ухищрений для того, что я могла сделать гораздо лучше сама с собой… Очень немногие мужчины любят женщин.
Не обращая внимания на Аврору и нисколько не умаляя степени откровенности своих речей, она продолжала:
– Да, очень немногие… Они не считают нас друзьями, мы недостойны этого. Что может быть дружелюбнее, чем делить с кем-то постель? А тот, мой тупой любовник, – он не пришел, как друг, для откровенного и приятного обоим наслаждения. Никто не может обойтись со своим другом так презрительно. Друзья стараются сделать друг друга счастливыми… И конечно, больше, чем где-либо, это необходимо в постели… Но все это только слова. Неудивительно, что, когда женщине удается найти хорошего любовника, она лишь улыбается и благоразумно держит язык за зубами.
– Ну, вы не только улыбались, – проговорила я. – Вы сказали мне о своем герцоге… Герцоге дю Шатлэ.
– Сказала только вам. Я знала, что вы не станете мне соперницей. Разве что сам Александр обратил бы на вас внимание.
– Вы считаете меня настолько неопасной и неспособной?
– Нет. Я знаю, что вы из другой породы. Из той породы женщин, что гонятся за великой, светлой и вечной любовью.
– Уже не гонюсь, – прошептала я.
– Нет. Гонитесь. Мы с вами – два разных вида. Я для того, чтобы найти счастье, ворошу всю кучу, а вы выискиваете крупицы. Но, похоже, мы с вами обе не очень-то преуспели. Вот скажите на милость, Сюзанна, много ли раз за всю жизнь вы изведали настоящее счастье, истинную радость с мужчинами? С кем вы были счастливы и физически, и душевно?
Я долго молчала. Приходилось вспоминать все с самого начала. Роман с Анри де Крессэ, то, сколько воздушных замков я себе построила, и то, как неловко и грубо он дефлорировал меня, причинив и телесную, и душевную травму. Граф д'Артуа… Ну, это отдельный разговор. Потом были Франсуа и некоторые другие, с которыми я не была счастлива. С Гийомом Брюном я испытала наслаждение, но, скорее всего, то была лишь случайность, зависевшая только от моего собственного возбуждения, а сам он действовал торопливо и грубо. Лескюр… Он был добр ко мне, но все же эта связь не была яркой и испепеляющей. Я привязалась к нему, ибо рядом больше не было никого, кто бы защитил меня.
Оставался один граф д'Артуа – единственный, кого я могла вспомнить добрым словом. Мне даже не за что было его упрекнуть. После ночи с Анри в «Путеводной звезде» я была напугана и скованна, и я могла бы на всю жизнь остаться фригидной. Графу удалось преодолеть эту холодность. Он, может быть, не любил меня глубоко и преданно, но был неизменно нежен и внимателен ко мне. Мне было хорошо.
– Один раз, Изабелла, – прошептала я в порыве откровения. – С великолепным графом д'Артуа, первым версальским сердцеедом.
– Я так и знала. А наши с вами замужества? Ни вы, ни я не были по-настоящему замужем.
Это тоже была правда. Ни разу я не создала семьи, не жила для детей и мужа. Частично в этом была виновата революция, но лишь частично. Эмманюэль и Франсуа – разве они были готовы жить для меня? А ведь я была настроена подарить Франсуа всю свою жизнь без остатка.
– Александр меня покорил, – проговорила Изабелла. – Он любит женщин, он понимает их. Он мужчина с головы до ног, но он не агрессивен и никогда противно не торопится, как это делают многие. Он чудесен. Я даже не могу описать это словами… Он единственный мужчина, который заставил меня пожалеть о том, что я несвободна.
– Даже странно, Изабелла, что мы говорим об этом в тюрьме!
Мы замолчали. Аврора прижалась ко мне, положила голову на плечо, и я чувствовала, что она явно сожалеет, что наш разговор прервался.
– Тетя Изабелла, – внезапно произнесла она, – а правда ли то, что только аристократы – хорошие любовники?
Я онемела. В устах одиннадцатилетней девочки такой вопрос звучал кошмарно. Изабелла, нимало не смущаясь, ответила:
– Преимущественно это так, моя дорогая! Конечно, бывают исключения.
– А почему это так?
– Потому что аристократы образованны, у них есть мозги, образование и вкус, а это многое значит в любви! Без мозгов, мадемуазель, мужчина мало чего может достичь.
Воспитание Авроры уже давно и как-то само собой вышло из-под моего контроля. И я ничего не сказала в ответ на этот разговор искушенной аристократки с маленькой девочкой.
6
Прошла неделя после этой ужасной сцены с Сен-Жюстом, и физически я почти оправилась, когда по распоряжению коменданта Ла Форс мы были переведены в другую камеру – по причине перенаселенности той, в которой мы сидели прежде.
Ничего страшного это распоряжение в себе не таило. Мы легко познакомимся с обитателями новой камеры, а в остальном наше положение не изменится. Мы собрали свои пожитки и постели и пошли вслед за тюремщиком. Двери многих камер вдоль коридора были открыты – их запирали на ключ только вечером. Охрана тюрьмы была такой, что даже думать о побеге нельзя было, но внутри Ла Форс заключенные могли перемещаться почти беспрепятственно.
Было 13 февраля, день святого Эйложа.
Остановившись на пороге, я обвела новую камеру глазами. Она была чуть поменьше и, кажется, чуть теплее. Изабелла легко толкнула меня под локоть, и я пошла к отведенным нам железным койкам.
И вдруг дрожь волнения пробежала у меня по спине.
Я увидела одного человека. Он смотрел на меня; в его взгляде было глубочайшее изумление, радость и боль одновременно. Это были именно те серые глаза…
Глаза Рене Клавьера, моего нового сокамерника.
Трудно сказать, какую гамму чувств я испытала. Я пережила радость встречи, бурное облегчение от того, что он все-таки жив. И в то же мгновение я вспомнила дремучий бретонский лес, плавящуюся от жары землю и обезумевшую графиню де Кризанж, наставившую на меня пистолет.
Честно говоря, последнее воспоминание задело меня куда сильнее, чем все остальное, и к радости встречи сразу же примешались сотни невыясненных вопросов. Я даже забыла, что мы в тюрьме, что мы скоро умрем на гильотине, и поэтому сейчас не стоит тратить время на какие-то объяснения. В эту минуту я об этом не думала.
Да и вообще трудно было сказать, о чем именно я думаю. Я молча стояла и смотрела на Рене, ошеломленная до такой степени, что у меня пропали все слова.
– Да что же вы?.. – шепнула мне Изабелла.
Каким-то образом она всегда догадывалась, что произошло.
Узел и подушка выпали из моих рук, я сделала шаг вперед и тут же увидела, что Рене сдвинулся с места и пошел ко мне.
Он был совсем рядом. Я видела его глаза, отброшенные назад золотистые волосы точь-в-точь такого же оттенка, как и у меня. Он не улыбался и тоже пока еще ничего не сказал. Почти машинально я протянула ему руку; пальцы у меня трепетали. Мы коснулись друг друга, и только в этот миг я до конца убедилась, что это не сон.
– Я рада, – прошептала я, не задумываясь над тем, что говорю.
Потом до меня дошло, что я сказала глупость. Он мог подумать, что я рада тому, что он в тюрьме. А ведь это совсем не так. Я подняла глаза, чтобы поправиться, и, встретившись с его глазами, поняла, что делать этого не нужно.
Мы оба знали, что я имела в виду. Мы оба были в тюрьме, так чему же нам радоваться, как не встрече? Кроме того, хотя я и отдавала себе отчет в том, что было бы лучше, если бы Рене был на свободе, в подсознании жило тоскующее чувство, сильная нужда в том, чтобы он был здесь. Здесь, пусть даже в тюрьме. Он был нужен мне. Хотя бы на минуту.
Дальше я уже не сознавала точно, что именно и как произошло. Кажется, его руки скользнули вдоль моих локтей, легли на плечи, легко привлекли к себе. Я ощутила на губах поцелуй – быстрый, трепетный, почти мимолетный. Я стояла, замерев в объятиях Рене, и была не в силах отделить одно мгновение от другого. Может быть, он гладил мои волосы. Я чувствовала только удивительную теплоту и необыкновенное ощущение спокойствия, которого не знала уже несколько месяцев.
– Я люблю вас, – прошептал он порывисто, сжимая меня еще крепче, словно хотел соединиться со мной, вобрать в себя.
Я испытывала то же самое. Это был извечный порыв двух существ, мужчины и женщины, – соединиться, слиться друг с другом. Мы были до сих пор лишь двумя половинками, и только вместе могли ощутить поразительное чувство цельности, полноты. По крайней мере, только так я могла пояснить почти мистический порыв, охвативший нас в тот миг.
Мало-помалу потрясение спадало.
– Наконец-то! – прошептала я, сама не зная, что это означает. Во мне произошел какой-то перелом. Встретив Рене, я миновала самый ужасный период в моей жизни. По крайней мере, мне так казалось.
Он взял мое лицо в ладони, заглянул в глаза с таким чувством, что я, ослабев, едва устояла на ногах.
– Почему вы здесь? Как долго? За что? Что с вами было за эти месяцы?
– За год! – поправила я его улыбаясь. – О Рене, это просто невероятно!
– Что?
– То, что я так люблю вас! Что я еще способна на это!
Он увлек меня к своей койке, застланной куда лучшим одеялом, чем у других. Я лишь мельком отметила это. Клавьер и здесь остается Клавьером, первым банкиром, первым богачом Франции. Потом я снова потянулась к нему руками, чтобы убедиться, что все это наяву, а не во сне.
– Где я только не была! – продолжала я. Слов мне не хватало, и я помогала себе жестами. – Бретань, Париж, три тюрьмы… Мне было плохо без вас. Хотя иногда… иногда, надо признаться, я была очень на вас сердита. Вы виноваты в том, что так много скрывали от меня…
– Скрывал? – переспросил он, не особенно, впрочем, вслушиваясь в мои слова. Его теплые губы касались моих рук, запястий, пальцев; я почти таяла под этими прикосновениями.
– Вы скрывали очень многое, Рене, – прошептала я. – Если бы не это, я не обманулась бы так в отношении Флоры де Кризанж…
Словно электрический ток пробежал по его телу. Он выпустил мои руки и взглянул на меня. Впервые за эту встречу серьезно и настороженно.
– Что вы сказали, моя прелесть?
– Я назвала имя – Флора де Кризанж, могу еще добавить, что я встретилась с ней в Бретани и встреча эта не прошла для меня бесследно.
Во мне вдруг снова всколыхнулся гнев. Я вспомнила, в каком отчаянии читала письма, найденные в саквояже Флоры, как она потом пыталась меня убить. В сущности, из-за этого выстрела я потеряла ребенка. Мне внезапно стало так горько, что я резко отстранилась, испытывая сильное желание услышать объяснения.
– Да! – сказала я резко. – Вы писали ей письма, вы любили ее в то же время, что и меня, – все это так ясно, что не нуждается в подтверждениях, и если вы думаете это опровергать, то лучше не старайтесь. Кроме того, мне это не нужно. Хотите, я покажу вам, что оставила мне на память ваша Флора?
Резким движением я развязала на груди косынку, распустила шнуровку корсажа, порывисто спустила с плеча платье и сорочку и, слегка прикрывшись рукой, указала ему на крошечный розовый шрам под левой грудью.
– Вы могли бы предупредить меня, что ваши возлюбленные скоры на расправу. Я, по крайней мере, была бы начеку. И мне не пришлось бы целый месяц поправляться после этого выстрела…
– Она стреляла в вас? – спросил он с таким недоумением, что горечь моя еще больше усилилась.
Я осознала, что сижу полуобнаженная в большой многолюдной камере, и поспешила натянуть платье на плечи и зашнуровать корсаж. Рука Рене легла на мою руку и приостановила эти действия. Он смотрел на меня с нежностью и страстью – такой страстью, что у меня не осталось никаких сомнений насчет того, чего он от меня ждет.
– Мой ангел, – прошептал он таким пленительным бархатным голосом, – у нас так мало времени, неужели мы будем тратить его на выяснения?
– Но все-таки, Рене, я бы хо…
– Я не люблю ее. Она мне не нужна. Раньше все было иначе, не скрою. Но я всегда больше ценил то, что труднодоступно, то, что дорого стоит. Вы стоили мне семи лет ожидания, Сюзанна. Попытайтесь представить, как дорого я могу вас ценить.
– Но она, эта Флора, – она хотела застрелить меня именно из-за вас… И вы писали ей письма!
– У вас тоже были любовники. Разве не так?
– Да, но мои любовники не гонялись за вами с пистолетом!
– Забудьте вы об этой Флоре, будь она проклята! У нас так мало времени, а вы говорите только о ней!
Он сказал это с раздражением, словно на самом деле куда-то торопился. Рене снова завладел моими руками, привлек меня к себе: его губы коснулись моего уха, шеи, мягкого завитка волос. Я глубоко вздохнула, понимая, что под этими поцелуями – такими нежными-нежными и любящими – тает все мое ожесточение. Забывается прошлое.
– Я люблю вас. Вы самое восхитительное создание на свете, Сюзанна… Честно говоря, я ощутил ваше приближение еще до того, как вы вошли.
– Это просто галантная шутка, не правда ли?
– Нет, это правда, любовь моя, – проговорил он с нежностью, целуя меня.
Он умел целовать. Когда я ощущала его прикосновения, у меня появлялось поразительное чувство защищенности, и пресловутая женская тоска по сильному плечу мгновенно затихала. Мне уже было все равно, что мы в тюрьме… и что Аврора при желании легко может наблюдать за нами.
Мы поспешно рассказывали друг другу о том, что с нами произошло, но прошлое имело так мало значения, что мы мало в него углублялись.
– Но все-таки вы думали не только обо мне, – прошептала я, осмеливаясь этой горькой ноткой нарушить эту идиллию. – Вы ходили к Флоре де Кризанж и даже… даже говорили ей те же слова… Я знаю. Я догадываюсь, что…
– Прелесть моя, – прервал он меня со свойственной ему насмешливо-галантной бесцеремонностью, – а догадываетесь ли вы о том, что лишь сегодня, в этот день и этот час, в этом ужасном месте я впервые вижу вас… вижу так близко и в таком виде? Семь лет вы были для меня недоступны. Было время, когда я мог лишь мечтать о вас. И даже когда ситуация изменилась, вы по-прежнему требовали от меня лишь моральной поддержки, и я, на свою беду, отлично видел это.
Я не совсем уяснила его слова. Мягко коснувшись рукой моих губ, он приказал мне молчать, и я молчала, увидев, что на пего накатила столь необычная словесная волна.
– Семь лет, Сюзанна! Не удивляйтесь, что я так часто это повторяю. Этот срок врезался в мою память, вошел в мозг. Все это время я любил вас, безумно и тайно, как какой-нибудь неистовый Роланд, и по мне нельзя сказать, что я предпочитаю именно такой вид любви. Я пережил вместе с вами все стадии нашего отношения ко мне – от ненависти до презрения, нисколько, по моему мнению, не заслуженного. Не скрою, я наделал немало ошибок. Я тоже порой почти ненавидел вас, готов был послать к черту и вас, и вашу аристократическую гордость. Но любовь была сильнее, чем ненависть; я хотел, чтобы вы нуждались во мне, хотел предложить вам свою помощь, и больше года тому назад я, наконец, достиг своего.
– И… в чем же ваша главная мысль, друг мой?
– Выслушайте меня до конца, Сюзанна. Я хочу, чтобы между нами была полная ясность. Семь лет вы были для меня вызовом. Вы были женщиной – единственной, вероятно, женщиной, – которую я безумно желал и которая была для меня недосягаема. Я не мог вас ни купить, ни заполучить, и, черт побери, хорошо понимал это. Я знал за эти семь лет многих женщин, соблазнял и покупал их, я ходил в публичные дома, и за всем этим постоянно были вы – нежная, восхитительно надменная, золотоволосая, улыбающаяся. Я представлял вас. Я столько раз овладевал вами в своих мечтах, что они понемногу принимали вид настоящей пытки. А каково было хотя бы на секунду подумать, что вы не одна, что с вами этот ублюдочный адмирал или еще кто-то… Я обладаю слишком сильной фантазией, чтобы не задумываться над этим. И сейчас я говорю это, Сюзанна, лишь потому, что не знаю, победил ли я… и пришел ли конец этим семи годам.
Я была почти потрясена. Разумеется, я многое знала об особом складе мужского воображения, но… но я даже не подозревала, что в отношении Рене ко мне было так много чувственного… что оно едва ли не превалировало над остальным и двигало всеми его поступками. Конечно, это мне льстило. Но и слегка разочаровывало. Я бы все-таки хотела… хотела, чтобы он хоть немного ценил лично меня, а не только мою недоступность и то, что я – «нежная и золотоволосая». Я уже знала ущербность подобного отношения. Моя красота и обаяние, как бы дороги они мне ни были, – это еще не я сама. Во мне нужно хоть чуточку, хоть самую малость ценить ум и душу. Рене, увы, во всей своей тираде еще не сказал ни слова об этом.
Потом я вспомнила об его вопросе и спохватилась.
– Рене, Рене, какие могут быть сомнения? – Проговорила я горячо и поспешно. – Вы победили, я люблю вас. Можно ли усомниться в этом сейчас, когда мы в тюрьме и притворяться мне нет смысла?
Он до боли сжал мою руку, его серые глаза потемнели.
– Позвольте мне убедиться в своей победе, Сюзанна.
Теперь я поняла, чего он хочет. Он желает, так сказать, физической победы, и надо было отдать должное той деликатности, с какой он это желание высказал. Но у меня вдруг засосало под ложечкой. Я не могла до конца разобраться в своих чувствах, но, пожалуй… я бы предпочла, чтобы все происходило не так стремительно. Лишь полчаса прошло, как мы встретились.
А еще… Во мне еще не умерло то отвращение, которое вызвал своим поступком Сен-Жюст, и внутри еще не растопился лед, сковавший сердце. Это было нечто, с трудом поддававшееся преодолению.
– О Боже, Рене, – прошептала я в полнейшем смятении, – я… я даже не…
– Есть важная причина, Сюзанна?
Он отвел с моего лица волосы. Я подняла на него глаза и сразу же поняла: мне не следует так волноваться; надо лишь довериться ему, и он все поймет…
Его губы были совсем рядом с моим лицом. Наклонившись, он коснулся ими моего уха и заговорил шепотом, быстро и страстно:
– Любовь моя, у нас так мало времени. Я хочу вас. Разве это преступно – то, что я хочу, чтобы впервые за семь лет вы принадлежали мне всецело? Позвольте мне это. Подумайте о том, что уже через два часа меня увезут в Консьержери…
От этих ужасных слов я отшатнулась как ужаленная. У меня зашумело в ушах.
– Что? – прошептала я одними губами.
– Разве я не сказал вам? Завтра меня ждет Трибунал.
Словно гром раздался среди ясного неба. Пылающими глазами я вглядывалась в лицо Рене, не находя слов для ответа. «Вот так всегда… Хорошее никогда не длится долго. А когда дело касается меня, то не длится даже несколько часов».
– Трибунал! – повторила я в замешательстве.
Это слово убивало все. Меня не интересовало, как идут судебные дела Клавьера. Раз речь зашла о Трибунале, всему конец…
– Вас казнят? И вы так беспечны!
– Я рад, что судьба позволила мне увидеть вас перед судом. Я раньше не верил в Бога, но ваше появление – разве это не его знак?
Да, да все это было верно, но… Впервые за много дней я ощутила, как почва уходит у меня из-под ног. Словно пытаясь удержаться, я крепко сжала руку Клавьера.
– Рене, скажите мне, для вас это очень важно?
– Что, моя дорогая?
– Ваша победа.
– Ангел мой, если вы верите в то, как я люблю, вас, вы сами можете решить, насколько я нуждаюсь в вас… и хочу вас.
– Да, – прошептала я быстро и твердо.
– Это ваш ответ?
– Да, да, тысячу раз да! – Боже мой, разве могла бы я сказать «нет»!
Я почти выкрикнула эти слова. Для меня сейчас узники в камере и их любопытные взгляды не имели ровно никакого значения. Рене сегодня увезут в Трибунал. Я приказывала себе осознать это. Осознать, что меня саму скоро увезут туда же. И все же мне было невыносимо больно, и горе сжимало грудь. Лишь одно доставляло мне облегчение – то, что я исполню желание Рене. Плевала я на свои собственные ощущения, они сейчас не важны.
Да, не важны… То, что Рене нуждается во мне, – только это имеет значение.
– Пойдемте, – приказал он решительно и неторопливо.
Он взял меня за руку; я пошла вслед за ним, хотя не совсем понимала куда. Рене подошел к тюремщику и своим обычным жестом первого парижского финансиста протянул ему деньги.
– Мне нужна одиночная камера на время.
– Одну минуту, гражданин банкир, – довольно вежливо ответил тюремщик, оглядываясь по сторонам.
По мне он скользнул весьма странным взглядом, в котором при желании можно было усмотреть даже насмешку, и, хотя это немного задело меня, я была слишком поглощена другими чувствами, чтобы задумываться над таким пустяком.
Мы шли вслед за тюремщиком, Рене держал меня за руку сильно и твердо, как собственник. В моей голове возникали тысячи мыслей, и ни одну из них я не могла ясно осознать. Потом я решила, что для меня будет лучше, если я пока ни о чем не буду думать, а во всем положусь на Рене. Может быть, это в последний раз.
– На полчаса! – объявил тюремщик. – Скоро должен появиться комендант.
Он запер дверь и оставил нас вдвоем.
7
– У нас всего полчаса, – прошептала я в замешательстве.
Не знаю, как он, но я была явно смущена. Смятение охватило меня. Естественно, я не ожидала, что все произойдет так скоро и будет так скомкано. Никакого возбуждения я не испытывала, да и в моем нынешнем душевном состоянии это было, вероятно, невозможно. Множество самых нелепых мыслей приходило в голову. Пытаясь собраться, я оглядела камеру. Обыкновенная тюремная железная койка, табурет, стол и медный кувшин на нем…
– Сюзанна, – произнес Рене мое имя.
Я нерешительно подняла на него глаза. Он снял рубашку, я впервые видела его обнаженным по пояс и снова поняла, что никогда еще не имела дела с таким физически сильным мужчиной. Что до всего остального, то я чувствовала себя скованно, как невинная девица.
– Ах, да, – прошептала я, – я сейчас.
Поспешно, дрожащими пальцами я развязала пояс, стала расшнуровывать корсаж. Юбка скользнула к моим ногам, за ней последовали корсаж и лиф. Рене поднял все это с пола и бросил на койку. Потом вернулся ко мне. Я осталась лишь в нижней юбке и кружевной кофточке и сразу ощутила, как здесь прохладно.
Мне вдруг пришло в голову, что я должна объясниться.
– Знаете, Рене, мне очень жаль, но… я, наверное, не смогу полностью дать вам то, чего вы, вероятно, от меня ожидаете… Поймите, я… со мной столько всего приключилось, что от меня вряд ли можно требовать многого, и…
– Оставьте это, – прервал он меня.
Его руки коснулись моих плеч и быстрым движением сбросили кружевную кофточку. Очень ловко он отыскал шпильки в волосах и вынул их. Струящийся водопад золотистых кудрей окутал меня.
– Да вы знаете, что я впервые вижу вас такой? – прошептал он с восхищением, и у меня потеплело на душе. – Что впервые я могу верить – вы моя без остатка? Вы, вы такая прелестная… самая красивая женщина из всех, кого я знал.
Я не совсем верила ему, ибо сейчас-то он явно кривил душой, но, вполне возможно, не сознавал этого.
– Я представлял все это… вас, ваше тело, ваши восхитительные линии – вот так, как сейчас, без одежды… Но, Боже мой, дорогая, вы оказались еще прекраснее, чем я думал.
Он сделал шаг в сторону жалкого тюремного ложа, протягивая мне руку, и я, внезапно обретя в этом движении уверенность, грациозным жестом приняла эту руку, шагнула к койке и опустилась на нее. Волосы мои рассыпались по подушке, набитой соломой. Я взглянула на Рене. Но его не надо было звать даже взглядом.
Он оказался рядом со мной, такой сильный, могучий и уверенный; я ощутила его необыкновенную теплоту, его страсть и желание, и холод одиночной камеры для меня почти исчез. Рене быстро нашел застежку той единственной одежды, что еще на мне оставалась, и стащил с меня нижнюю юбку; я помогла ему движениями бедер. На какое-то мгновение он замер, глядя на меня, жадным взглядом изучая и любуясь; тогда, не выдержав, я подалась к нему, прижалась всем телом, сплетя свои руки с его руками. Мне хотелось, чтобы он поцеловал меня.
И он сделал это. Наши губы нашли друг друга, и тут уж я не могла поспеть за его страстью; он был куда возбужденнее, нетерпеливее, чем я, – мне ведь пока была нужна только ласка. Я сразу поняла, что он не в силах ждать, пока я достигну такой же степени возбуждения. Кроме того, у нас не было времени… да и мне хотелось позаботиться прежде всего о нем.
Я уже ощутила, насколько он крупнее меня. Честно говоря, мужчин с таким достоинством я еще не встречала. Он оказался на мне, опираясь на один локоть и лихорадочно, тяжело дыша, расстегивал кюлоты, а я, нежным движением притянув к себе его голову, широко распахнула ноги, чтобы ему легче было проникнуть в меня.
Ради справедливости надо сказать – он сделал это со всей осторожностью и сдержанностью, на какие был способен в эту минуту. Для меня было делом чести сдержать жалобный возглас, но слезы все равно сами собой полились из глаз – так сильно эта плоть разрывала мое лоно. Он был ужасно велик… Да и сама я нисколько не была подготовлена к происходящему.
Боль – это единственное, что я тогда ясно ощущала. Особенно когда он, понемногу забывая обо мне и повинуясь странному мужскому инстинкту, стал стремиться овладеть мною как можно сильнее, проникнуть как можно глубже. Я прижала руку ко рту, прикусила костяшки пальцев, чтобы не вскрикивать. По опыту я знала, что легкая боль может быть и приятна, и возбуждающа, но сейчас это было уже слишком. Из-за этого я даже перестала понимать, как все происходит, и когда он кончил, это было для меня неожиданностью. Я даже не смогла разыграть удовлетворение, чтобы успокоить его.
«Этот опыт был неудачен», – мелькнула у меня мысль. Но, в сущности, будет ли повторение? Его сегодня увезут в Трибунал.
Да. Уже сегодня.
А сейчас он целовал меня. Я была так поглощена собственными чувствами, что не сразу заметила это. Боль, такая сильная поначалу, быстро проходила, а он ласкал меня так нежно и благодарно, что я сама потянулась к нему. Слезы еще не высохли на моих щеках, и, прикасаясь к моему лицу, он ощутил их.
– Вы плачете? Да, я знаю, что был груб, я…
– Нет-нет, – поспешно сказала я, – вовсе нет. Просто… очень больно думать, что мы расстанемся и вас…
Я не могла произнести слово «казнят».
– Меня не казнят, – вдруг сказал он.
Задыхаясь от слез, я не сразу поняла смысл сказанного.
– Как это? – спросила я.
– Это просто очередной трюк якобинцев. Они полагают, что смогут запугать меня. Придумали новую моральную пытку – суд… Меня так просто не взять, Сюзанна.
– Но почему… почему же вы так уверены?
– Потому что им нужен не я, а мои деньги. Мои миллионы. Женевские, лондонские. И эти идиоты думают, что я отдам им то, во что вложено восемнадцать лет моей жизни… Да я лучше просижу здесь столько же лет, чем расстанусь с деньгами.
Он погладил меня по щеке.
– А тем более теперь… когда я встретил вас… И когда все-таки выиграл наше с вами пари… Ведь я победил, правда? Теперь вы моя. Вы, аристократка, такая гордая, надменная, о которой я раньше и мечтать не мог!
Он снова прикоснулся ко мне, его руки ласково погладили шелковистую кожу шеи, плеч, груди; остановившись на сосках, его пальцы затрепетали.
– Святой Боже, как вы прекрасны! Как желанны! И как я хотел бы вас снова!
– Сейчас явится тюремщик, – напомнила я. – Пожалуйста, помогите мне одеться, Рене.
Какое-то странное недоумение поселилось у меня в душе. И сразу возникли десятки вопросов. Итак, он уверен, что его не казнят. Разумеется, сообщение об этом вызвало у меня только радость. Но я никак не могла взять в толк, почему он заставил меня мучиться и переживать, если прекрасно знал, что даже после Трибунала останется жить? Почему именно этим он побудил меня согласиться на его предложение и прийти сюда, в эту одиночку? Зачем было меня обманывать? Неужели бы я нашла в себе силы отказать ему, даже если бы он признался, что не будет казнен? Я бы все равно согласилась. И незачем было здесь интриговать… Кроме того, если угрозы смерти не существовало, то, по-видимому, я заслуживала более нежного и бережного отношения, не такого грубого и эгоистичного, как несколько минут назад. Ведь Рене вовсе не готовился к смерти. Зачем же было убеждать меня в обратном?
Потом мне показалось, что я делаю из мухи слона. Возможно, то, что Рене не сказал мне все сразу, – это простое недоразумение. Может быть, он забыл или не успел…
Ну, а я? Я-то буду казнена! Почему он ни слова не сказал об этом?!
Я поспешно одевалась, чувствуя, что наше молчание становится натянутым. Рене, возможно, был уязвлен тем, что я отказала ему во втором разе. Я уже сама сожалела об этом, но изменять ничего не хотела. Во-первых, в этот раз мне было так больно.
И еще… еще мне уже переставало нравиться то, как он все время говорит о своей победе. О том, что выиграл пари. Да, конечно, это так. И все-таки… Эти постоянные упоминания могут навести на мысль, что добивался он меня из чисто спортивного интереса… И мне вдруг стало горько и одиноко.
Заскрежетал ключ в двери. Вошел тюремщик.
Я шагнула через порог, пронзенная очень горькой мыслью.
«Все было не так, как мне бы хотелось». Совсем не так.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ИЗАБЕЛЛА
1
Следователь, багровый от возмущения, рванулся из-за стола:
– Увести отсюда эту негодяйку! А ты… ты помни, что завтра же отправишься на гильотину!
– Я слышала это уже сто раз! – прокричала я в ответ так же возмущенно.
Тюремщик взял меня за локоть, и я была вынуждена выйти. Подобные сцены повторялись вот уже больше месяца. Раз двадцать меня вызывали к разным следователям, которые задавали мне один и тот же вопрос:
– Где сейчас барон де Батц? Скажи, и мы сохраним тебе жизнь!
Если бы я даже верила в искренность подобных обещаний, я бы все равно молчала и повторяла о Батце лишь самые общие сведения, известные каждому, кто хоть немного слышал о бароне. Тогда мне угрожали гильотиной, всяческими карами и пытками, хотя ни одну из этих угроз не привели в исполнение. Идиоты, они не понимали, что запугать меня можно лишь встречей с Сен-Жюстом.
Я вернулась в камеру, достала бумагу, перья и чернильницу, но долго не могла начать писать. Хоть подобные допросы повторялись часто, после них я все-таки нервничала. Понадобится время, чтобы преодолеть эту взвинченность. У меня даже пальцы, сжимающие перо, слегка дрожали. Но я пересилила себя и стала писать.
Батц просил, чтобы я подробно рассказывала ему о каждом допросе, поведении следователей, сведениях, которыми они больше всего интересуются. Я честно исполняла этот пункт нашего соглашения, но, признаться, все это мне уже надоело. Я была в тюрьме больше месяца, и необходимость этих регулярных письменных донесений становилась для меня все более и более сомнительной.
Но за эти донесения Батц через верного человека передавал мне деньги. Шмыгнув носом, я с удвоенной энергией заработала пером, не обращая внимания на то, что за мной пристально наблюдает Шарпантье – гнусный тип, местный тюремный доносчик, пытающийся таким образом спастись от гильотины. Деньги Батца были для меня очень важны. Они давали возможность достойно содержать себя, не опускаясь и не превращаясь в животное. Благодаря этим деньгам мы жили в неплохой камере, имели постельное белье, сносную пищу, гарантированный кусок мыла в неделю, возможность выходить гулять к решетке и стирать одежду. У нас были гребни, шпильки, иголки и нитки. Здесь, в Ла Форс, эти мелочи приобретали необыкновенную ценность. Ради них стоило раз в день настрочить сообщение Батцу.
Я писала, но мысли мои были направлены не на прошедший допрос, а на другое. В частности, на моего ребенка. Жанно я не видела… ох, даже сказать трудно, сколько дней! Возможно, мой сын уже в Англии. Я хотела надеяться на это. И в то же время невыносимо больно было сознавать, что он оказался так далеко. Конечно, я не хотела, чтобы он испытывал лишения и жил здесь, во Франции. Но при всей моей безграничной любви к нему, граничащей с самоотречением, в глубине души жила еще частичка материнского эгоизма, и она требовала, чтобы ребенок был не в Англии. По крайней мере, не так далеко от меня.
Я сжала виски пальцами. Голова у меня раскалывалась от боли, под ложечкой зашевелилась тошнота. С трудом я встала на ноги, сказав себе, что следует выйти во двор, подышать свежим воздухом. Был уже март – теплый, солнечный; можно идти прямо в платье. Спрятав исписанные листы за корсаж, я побрела к выходу.
У фонтана я напилась холодной, почти ледяной воды. Тошнота, кажется, слегка улеглась, и головная боль отпустила. Я села на скамейку у решетки. Узницы, такие же, как я, стирали белье. Здесь же бегали дети, посаженные в тюрьму вместе с матерями. Мягкое мартовское солнце сияло в голубом небе, и оставалось только сожалеть, что здесь, во дворе Ла Форс, нет ни одной зеленой травинки. Не видно даже почек на деревьях.
Весна девяносто четвертого. Для меня она была самой страшной в жизни. Повсюду лилась кровь, над всеми царствовал Робеспьер. Я как-то даже утратила нить происходящего, перестала следить за событиями – до того они были похожи и не несли никаких иных изменений, кроме как к худшему. Но, кроме политической, была еще, так сказать, естественная весна. И она меня даже сейчас радовала. Что-то пробуждалось в душе, тянулось ввысь, как тянется растение навстречу солнцу.
«А ведь у меня задержка», – подумала я.
Уже много дней я просыпалась по утрам, надеясь ощутить знакомую боль внизу живота. Но ничего не происходило. Последние месячные недомогания были в начале февраля, а сейчас вторая декада марта подходит к концу. Следовало ли из этого делать выводы?
Конечно, можно было, успокаивая себя, вспомнить, что я давно испытывала сомнения насчет того, что со мной по женской части все в порядке. Кроме того, задержки случались и раньше.
Но ведь именно сегодня я почувствовала тошноту. Легкую, но достаточно отчетливую.
Мурашки забегали у меня по спине. Если догадки правильны, то я даже не знаю, кто виновник? Этот вопрос поверг меня в ужас. Рене? Или, может быть, Сен-Жюст? Понять это не было никакой возможности. Оба они в равной степени могли быть виноваты.
И не было никакой моей вины в том, что я попала в такую ситуацию.
При одной мысли о том, что я, возможно, беременна от Сен-Жюста, мне представилось, что где-то внутри моего тела поселился страшный гигантский полип, отвратительный вампир, сосущий из меня кровь… От него надо избавиться… Если бы я могла, я бы выцарапала его из себя пальцами. Мне в голову приходили самые страшные мысли. Нет, ни за что на свете я не могу терпеть эту дрянь внутри себя… меня так и колотит от отвращения!
Я попыталась вспомнить, что ощущала в то время, когда ждала Жанно и Луи Франсуа, но потом поняла, что это бессмысленно. В таком нервном состоянии я все равно ничего не могла вспомнить. Да и какая от этого польза?
– Что же вы не присоединились к нам, Сюзанна? Мы с Авророй играли в мяч, а вы нас словно не замечаете!
Встрепанная, раскрасневшаяся, Изабелла села рядом, отбросила с лица влажные черные волосы. Аврора примостилась у нее на коленях. Я поневоле подумала, как контрастирую с этой веселой, полной жизни парочкой – я, со своим бледным лицом и трагическим выражением в глазах.
– Аврора, ступай еще поиграй, – сказала я медленно.
– Но я уже устала, мама!
– Ступайте, я прошу вас, мадемуазель! – повторила я даже резче, чем намеревалась. – Нам нужно поговорить без вас.
Ошеломленная Аврора ушла. Изабелла тоже была поражена.
– Вы сами на себя не похожи, моя милая! Как это вы себя ведете?
– Послушайте, Изабелла, – сказала я прерывистым голосом, – что бы вы мне посоветовали, если бы я забеременела?
Сначала она молчала. Потом удивленно отозвалась:
– А что, это так?
– Не знаю… Пока не знаю. Но это ужасно – то, что со мной происходит!
Очень сбивчиво я пересказала ей то, о чем думала недавно. Изабелла слушала внимательно, но лицо ее оставалось спокойным.
– И это все? – спросила она.
– Да.
– Я, признаться, не поняла, по какой причине вы так страдаете.
– Не поняли? Но, Боже мой, это же проще простого… Представьте, каково мне сознавать, что, возможно, я беременна от этого монстра, этого ничтожества и убийцы! Да один вид его вызывает у меня тошноту! Одна мысль о нем! Ну, вы же женщина, Изабелла, вы легко можете понять мои чувства! Я просто задыхаюсь от омерзения…
Горло у меня сжали спазмы. Изабелла погладила меня по плечу, но я чувствовала, что она не воспринимает моих объяснений.
– Сюзанна, вы сосредоточились на том омерзении, которое испытываете к этому негодяю, и совершенно упустили из виду другую сторону этого вопроса.
– Другую? Что же здесь может быть другое?
– То, что вам, вероятно, отсрочат исполнение приговора. У вас есть верных девять месяцев жизни, моя милая, – произнесла она внушительно и чуть сердито. – Подумайте об этом. Нынешнее безумие не может долго продолжаться. Вы получили шанс дожить до перелома.
– Но я не желаю доживать такой ценой!
– Надеюсь, у вас хватит ума не оттолкнуть этот шанс… его можно было бы назвать подарком небес!
– Ах, Изабелла, я противна сама себе! Мне тошно, когда я думаю об этом подарке!
– Думайте о другом. О Клавьере, наконец… Ведь он, насколько я поняла, в равной степени может быть отцом.
Да, вероятность была одинаковой. Но… что, если все-таки это Сен-Жюст? Нет, я вряд ли смогу жить в таком кошмаре…
– Здесь в одной из камер я заметила врача, бывшего медика графа Прованского, – бесцветным голосом продолжала Изабелла. – Он старый, знающий. Сходите к нему, пока его не казнили. Он разрешит ваши сомнения.
– И это все, что вы можете мне посоветовать? – спросила я пораженно.
– Ах, Сюзанна, ведь если говорить честно, вы отлично справитесь со всем и без моих советов…
Резко поднявшись, она зашагала прочь. Кусая губы, я не сразу поняла причину такого поведения. Только потом мне стало ясно, что она, видимо, была чем-то расстроена. О, не тем, конечно, что для меня забрезжил луч надежды в виде отсрочки на несколько месяцев, – я слишком хорошо знала Изабеллу, чтобы допустить возможность такой мысли. Просто она, вероятно, поняла, что перед лицом смерти остается одна.
Если только моя догадка правильна…
И как странно, что именно теперь, когда нет конца убийствам и кровавому сумасшествию, меня посетила мысль о том, что я, возможно, беременна. Мысль об этом была и поразительна, и ужасна. Уставившись глазами в серую стену тюрьмы, я долго думала, приложив руку к животу, словно пытаясь выяснить, правда ли то, о чем я догадываюсь. Разговор с Изабеллой меня смутил. Я уже не знала, что думать.
Я не хотела иметь ничего общего с Сен-Жюстом, особенно если этим общим может оказаться ребенок. Да что там говорить – я вообще не хотела сейчас детей. В нынешнее время они были страшной обузой, настоящими кандалами. Представляя, каково мне придется в будущем, я не могла испытывать никаких хороших чувств к моему непрошеному гостю. Даже если он постучится в мою дверь от Клавьера, это почти ничего не меняло…
Но это давало мне надежду. Давало дополнительных девять месяцев жизни, уверенность в том, что в течение этого времени я не буду казнена. Буду освобождена от страха перед гильотиной. А за девять месяцев многое может произойти… Батц утверждал, что Робеспьер падет еще до начала осени. Если я беременна, мне удастся дожить до этого срока.
Конечно, обещания Батца еще ничего не гарантировали. Но я была так молода. Мне, хотелось ухватиться за любую надежду, какой бы эфемерной она ни была. Я долго настраивала себя на то, что должна умереть, но это настроение мигом слетело с меня, едва я узнала, что ничего не должна и что есть возможность пожить еще немного. Пусть даже здесь, в Ла Форс, пусть даже не видя зелени и настоящего солнца. Но пожить. И еще раз увидеть Жанно…
Многие женщины готовы были сто раз унизиться, лишь бы получить такой шанс. А мне он, кажется, просто упал с неба. Так имею ли я право ненавидеть ту жизнь, что, возможно, поселилась во мне?
Я могу не испытывать к ней любви. Но ненавидеть?..
Эти мысли не давали мне покоя. Чувства и разум боролись во мне, и, несмотря на усталость, я не могла уснуть. Меня снова тошнило. Я вспомнила слова Изабеллы о враче, но не смогла заставить себя последовать этому совету. Лучше повременить. Может быть, завтра все станет ясно и окажется, что тошнота и задержка – лишь ложная тревога. По непонятной мне самой причине я хотела пока находиться в неведении.
Вечером я вышла к решетке, передала через агента барона свои исписанные листочки, а взамен получила сто ливров. Просунув сквозь толстые прутья испещренное рябинами лицо, агент едва слышно проговорил мне на ухо:
– Господин барон велел передать вам, что Дантон сегодня выступал в Конвенте с речью.
– И что же? – спросила я в недоумении.
– Он выступал в последний раз, мадам.
Было 19 марта 1794 года.
2
Ослепленный ненавистью и честолюбием, Робеспьер давно готовил падение своих бывших товарищей. Действовал он осторожно. В расчет принималась любая мелочь, слежке был подвергнут каждый шаг будущих врагов народа. На вершине власти людей оказалось слишком много; Робеспьеру хотелось, чтобы там был он один.
Пока обстоятельства для расправы еще не сложились, он копил компрометирующие материалы и в своих записках обливал противников грязью – глухо и тайно, как всегда. Лишь раз он выступил с прямой угрозой и с трибуны Якобинского клуба заклеймил группировки как «клики, сговаривающиеся подобно разбойникам в лесу».
Первую партию жертв составляли Жак Рене Эбер и его друзья-эберисты. Их еще называли «бешеными». В своей проповеди террора как спасительного средства они ухитрились перещеголять самого Неподкупного. Это и было поставлено им в вину.
Эбер и его друзья хотя и жили сами на широкую ногу, на словах защищали интересы самых бедных слоев населения Парижа, самых голодных и обозленных людей, люмпенов, готовых убивать кого угодно, самых отчаявшихся нищих. Было бы весьма опасно обезглавить Эбера, не бросив им подачку. И вот утром 26 февраля Сен-Жюст поднимается на трибуну. Звучат пресловутые «вантозские декреты».
Что же предлагает этот друг Робеспьера? Да просто с умом использовать имущество тех тысяч людей, что брошены в тюрьмы. Среди заключенных есть бедные и богатые. Бедных, конечно, больше, но богатых тоже немало. Можно даже не дожидаться, пока их осудят по закону, а лишь на основании того, что они арестованы, собрать вместе их состояния и конфисковать. «В обездоленных, – сообщил Сен-Жюст, – вся соль земли». И предложил раздать конфискованное имущество тем, кто больше всего в нем нуждается. Те люди, что в тюрьме, – они ведь все равно будут казнены, имущество им совершенно не понадобится.
Эбер, чувствуя, как горит у него под ногами земля, был охвачен паникой. Робеспьер предрешил его гибель, а барон де Батц, которому Эбер служил, не подавал признаков жизни. Впрочем, уже давно у Эбера появилась мысль, что барон решил им пожертвовать. Вероятно, так оно и было. Батц относился к Эберу, как к противному насекомому, иметь с которым дело омерзительно, но яд которого время от времени полезен. Эбер со всей «бешеной» компанией и газетой достаточно потрудился во славу роялизма: он так лаял и так гнусно бранился со страниц своего «Папаши Дюшена», что вызывал отвращение даже у представителей третьего сословия. Он должен был скомпрометировать революцию. И он сделал это.
Теперь Эбер не знал, откуда ждать помощи. В крайней растерянности он явился на собрание своих сторонников, в клуб кордельеров, и истерично требовал «ввергнуть в небытие» всех его, Эбера, врагов. Товарищи поддержали его. Каррье, палач Нанта, призвал «бешеных» к «святому восстанию». Это слово, вырвавшееся случайно, определило их участь.
В ночь с 13 на 14 марта 1794 года Робеспьер нанес удар. Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо – все известные террористы – были подняты со своих постелей и развезены по тюрьмам. Утром весть об аресте облетела весь Париж, но мало у кого вызвала огорчение.
Государственный обвинитель Фукье-Тенвиль, как всегда, создал из подсудимых «амальгаму» – то есть присоединил к ним настоящих преступников или людей, явно в чем-то замешанных. На одной скамье подсудимых оказались люди, увидевшие друг друга впервые, но обвиняемые в одном роялистском заговоре. К террористам пристегнули офицеров, воров, поставщиков, иностранных агентов и даже одного человека Батца – Дюбюиссона. Суд длился недолго.
24 марта 1794 года несколько телег с сидевшими в них осужденными двинулись к площади Революции. Эбер рыдал, обхватив голову руками, и выглядел жалко. Он и его сторонники были обезглавлены вечером того же дня.
Наступил черед Дантона.
Этот соперник был посильнее и повлиятельнее. Но он сам облегчил Робеспьеру задачу.
Обзаведясь молодой прелестной женой, Дантон долгое время и не вспоминал о политике. Чувствуя, что популярность его падает, а власть тает на глазах, он тем не менее не предпринимал никаких попыток, чтобы изменить положение. Он бездействовал и пребывал в апатии, видимо, питая надежды на то, что у Робеспьера – такого жалкого и трусливого, каким он его считал, – не хватит духу напасть. Когда казнили Эбера, он подсознательно ощутил, что погибшая клика повлечет за собой в могилу и его, Дантона. К нему приходили друзья, предупреждали об опасности, уговаривали бежать. «Куда я убегу? – спросил Дантон и грустно, и насмешливо. – Разве можно унести родину на подошвах своих башмаков?»
31 марта Дантон был арестован, а с ним и его ближайшие сподвижники – журналист Демулен, Фелиппо, Делакруа… В шесть утра они уже были в Люксембургской тюрьме. Сен-Жюст весьма гордо зачитал в Конвенте обвинительный декрет против Дантона – человека, которого даже не было в зале. Конвент, поначалу возмутившийся, мгновенно утратил смелость под ледяным взглядом Робеспьера. Депутаты подняли руки и проголосовали – иными словами, выдали потребованные головы.
2 апреля Дантона и его друзей перевели в тюрьму смертников – Консьержери. Демулен, переходя от надежды к отчаянию, писал послания своей жене Люсиль, орошая их слезами; Дантон без умолку бранился и каламбурил. «Если бы я знал, что таков будет итог, – восклицал он, – ни за что не ввязался бы в это дерьмо – революцию!» Голос его был слышен во всех соседних камерах. «Все равно один конец, – рычал он. – Бриссо[10] гильотинировал бы меня не хуже, чем Робеспьер… Если бы я мог оставить свои ноги Кутону,[11] а свою мужскую мощь (Дантон выразился сильнее) Робеспьеру, дело бы еще шло кое-как…». Он предвидел отношение санкюлотов к своему концу: «Зверье! Они будут кричать „Да здравствует Республика", когда меня повезут на гильотину…».
Я долго думала обо всем этом, но ясно понимала только одно: мне не было жаль ни ту, ни другую партию. Мне было известно, что я внесла какую-то одну сотую процента в дело гибели Дантона, но стыда я не чувствовала. Да, этот человек оказывал мне кое-какие услуги. Но я слишком хорошо помнила его слова, произнесенные в дни сентябрьских убийств, – в те самые дни, когда я была на волосок от смерти в тюрьме Ла Форс. Он сказал, когда обеспокоенные чиновники доложили ему о происходящем: «Да плевал я на ваших заключенных! Пусть их убивают, сколько угодно, мне до этого нет дела! Оставьте меня в покое!» Эти слова будто каленым железом прошлись по моему сердцу. И всякий раз, когда какое-то подобие сострадания закрадывалось мне в душу, в голове сразу возникал вопрос: «А что они думали тогда, когда все это только начиналось?».
Они получали по заслугам. Это был жребий, который они сами выбрали. Их не за что было жалеть.
Все они были казнены в один день, 5 апреля 1794 года.
– Народ, тебя обманывают! – кричал Демулен, стоя в телеге. – Убивают твоих лучших защитников!
Дантон пытался урезонить друга:
– Успокойся и оставь эту подлую сволочь!
Когда телеги смертников проезжали по улице Сент-Оноре, Дантон посмотрел на закрытые ставни дома Дюпле, где жил Неподкупный, и громовым голосом крикнул:
– Робеспьер, я жду тебя! Ты скоро последуешь за мной!..
Робеспьер и Сен-Жюст могли праздновать победу. Сверкающая вершина власти открывалась перед ними. Не было больше ни сопротивления, ни противников, ни иных мнений. Сен-Жюст во всеуслышание объявил, что жерминальские казни отрубили обе руки у иностранного заговора, возглавляемого бароном де Батцем.
А между тем приговоренный к смерти Дантон оказался куда прозорливее в своей последней фразе, брошенной Робеспьеру. Неподкупный полагал, что обезвредил Батца, лишил барона его щупальцев… На самом деле он лишь попался на крючок, пошел по дороге, начертанной бароном, хотя сам не понимал этого.
План Батца оправдывал себя. Робеспьер избавился и от противников, и от поддержки. Почва под ним качалась, положение становилось зыбким, внизу была только пропасть. Удерживаться на вершине он мог теперь лишь благодаря страху, который внушал. Правда, сам по себе Робеспьер был слишком труслив и жалок, чтобы этот страх нельзя было побороть.
Но сколько он еще продержится, угрожая всем гильотиной? Этого тогда никто не знал.
Я обратилась, наконец, к старику доктору, лечившему раньше многих членов королевской семьи. Честно говоря, особых сомнений у меня уже не было. Но услышать мнение врача тоже казалось нелишним.
– Поздравляю вас, сударыня, – глядя на меня из-под очков, сказал мне Дебюро. – Ваши догадки абсолютно обоснованы.
– Так я беременна!.. – произнесла я полуутвердительно, не зная, как и относиться к этому сообщению, которое даже новостью для меня не было.
– Да, сударыня. Еще раз поздравляю вас. Поверьте, я не поздравлял так и не радовался даже за Марию Антуанетту, когда имел честь сообщить ей, что она ждет наследника престола.
Эти слова хлестнули меня, как удар кнута. Я сжала зубы. Зачем он говорит так? Сейчас нет уже ни престола, ни наследника, ни самой Марии Антуанетты…
– Ах, господин Дебюро, к чему вы только заговорили об этом!
– Видите ли, дитя мое, мне ведь больше нечего сказать вам.
Старый, аккуратный доктор Дебюро осторожно снял очки и внимательно посмотрел на меня подслеповатыми глазами.
– Мое ремесло обязывает меня дать вам кое-какие советы. Не ешьте соли, чтоб не было отеков, не носите высоких каблуков, гуляйте на свежем воздухе, радуйтесь, улыбайтесь, удовлетворяйте по возможности все свои прихоти и смотрите только на то, что кажется вам прекрасным… Но можете ли вы выполнить хоть один из этих советов, дитя мое? Ведь мы в тюрьме. Здесь вы не сможете даже радоваться.
– Вы правы, – прошептала я через силу. – Спасибо вам, господин Дебюро.
– И вот еще что, милочка. Держитесь подальше от мужчин. Я удивленно взглянула на доктора. Понизив голос, Дебюро продолжил:
– Этот ребенок – ваш шанс на жизнь, дитя мое. А у вас большая вероятность выкидыша. Сейчас весна… За зиму тело успевает изголодаться по зелени и фруктам. Так что вы очень хрупки сейчас. От вас и так потребуется максимум усилий, чтобы выдержать эту беременность. Я почти предрекаю преждевременные роды… А пока – остерегайтесь и мужчин, и близости с ними! Этому совету вы можете последовать.
Я часто теперь не спала по ночам, прислушиваясь к происходящему во мне и размышляя. Итак, я беременна. Более того, уже два месяца беременна. У меня есть в запасе двести с лишним дней жизни…
На какое-то время меня перестал занимать вопрос о том, кто отец. Это не имело нынче никакого значения. Важна была только моя жизнь. Я хотела жить и для Жанно, и для себя. И разве то, что я получила шанс на спасение, даже не мечтая об этом, – не знак свыше?
Дебюро сказал: преждевременные роды… Если это будет так, дни подаренной мне жизни сократятся и шансы дожить до гибели Робеспьера уменьшатся. А если будет выкидыш, я и вовсе лишусь этих шансов. Этого нельзя допустить. Я буду беречься, буду спать по ночам, буду долго гулять по дворе Ла Форс.
И буду очень стараться отгонять от себя мрачные мысли.
3
Я склонилась над сточным желобом, по которому стекала грязная вода из фонтана, и меня вырвало. Снова нет никакой пользы от того, что я завтракала. Хоть и не ешь вовсе – все напрасно… Я стала худая и бледная, словно меня с креста сняли; этот ребенок высасывал из меня все, вплоть до мозга костей. И рос так быстро, что уже теперь, на четвертом месяце, было явно заметно, что я беременна.
На тюремную еду я едва могла смотреть. Единственное, что не вызывало у меня отвращения, – это были вода, молоко и белый хлеб. Иногда я заставляла себя поесть вареного риса. Остальные тюремные блюда – бобы, сельдь, горох, чечевичная похлебка – повергали меня в ужас. Тошнота так мучила меня, что я много раз в день выбегала в тюремный двор. А еще я испытывала страшную тягу ко множеству вкусных вещей, чаще, увы, лишь воображаемых. Сплошные огорчения подстерегали меня: теряя остатки мужества, я вот уже который день ходила как в воду опущенная.
Изабелла, поддерживая меня под локоть, довела меня до скамьи.
– Возьмите, – сказала она, протягивая мне сверток.
Я развернула его. В нем было несколько горстей свежей душистой земляники. У меня все поплыло перед глазами…
– Пресвятая Дева, откуда это?
– Подарок от одного мужчины.
– Вам?
– Разумеется, мне. Ешьте. Вы должны это съесть.
– Изабелла, – взмолилась я, – в таком случае вы возьмете мою порцию супа!
Она ничего не ответила. Я стала есть, каждой клеточкой тела ощущая наслаждение от этой еды. Я никогда раньше не предполагала, что может быть такой божественный вкус. Я вообще ничего раньше не ценила по достоинству… За это, вероятно, и получила по заслугам сейчас.
– Сюзанна, – сурово приказала Изабелла, – не смейте больше то, что я даю вам, отдавать Авроре.
– Но она же маленькая. Она еще растет.
– Пусть растет. Вам сейчас ягоды нужнее, чем ей. Вы должны думать о себе и своем ребенке.
Изабелла говорила со мной строго и сурово, прямо как мать.
Никто не заботился обо мне больше, чем она. Само ее присутствие облегчало мне жизнь.
Начало июня выдалось необыкновенно жарким, казалось, под полуденным солнцем плавятся булыжники тюремного двора. Мы сидели в тени стены, но это мало помогало. На лбу у меня выступила испарина. Я доела землянику, вытерла лоб тыльной стороной ладони и тяжело вздохнула.
Почти четыре месяца я была в тюрьме Ла Форс. За последнее время она изменилась. В мае, когда все процессы по заговорам было приказано проводить в Париже, число заключенных удвоилось, возникли ужасный беспорядок и теснота. Теперь аристократам с трудом удавалось держаться вместе. В камерах появились десятки крестьян, рабочих, коммерсантов, и многие из них даже не парижане. Теперь тут можно было встретить уроженцев всех уголков Франции. Со всех концов страны «заговорщиков» тащили в Париж.
Я уже не успевала со всеми знакомиться. Тот состав заключенных, который я застала, появившись в Ла Форсе, успел полностью измениться. Мои старые знакомые почти все были казнены, а те, кто остался, со дня на день ожидали вызова в Трибунал. Мы были как раз в их числе. Нас с Изабеллой относили к той категории узников, которые «засиделись». Четвертый месяц в тюрьме всегда был переломным. Считалось, что нас вот-вот казнят, но если, паче чаяния, этого не произойдет, то, вероятно, это означает, что о нас «забыли». Это было бы спасением.
Казнили людей знаменитых, образованных – философа Мальзерба, химика Лавуазье, писателей Шамфора и Кондорсе… А людей неизвестных, простых, казненных за невзначай вырвавшееся слово или даже за еще более мелкую провинность, было уже не счесть. Уже давно никого не судили по отдельности. Заключенных объединяли в большие группы, и Трибунал решал их судьбу одним махом.
Месяц флореаль, давший такую обильную кровавую жатву, остался позади. Сейчас был июнь – жаркий, душный, невыносимый. Духота ощущалась даже вечером. Я приложила руку к животу, осторожно потрогала, пытаясь нащупать головку, но у меня ничего не получилось.
– Он так быстро растет, – прошептала я.
– Вы хорошо себя чувствуете? Нет никаких кровотечений или болей?
– Нет, все в порядке, – сказала я улыбнувшись. – Похоже, Изабелла, вы были бы лучшей матерью для этого ребенка…
Она внимательно смотрела на меня, ее глаза, и так черные, потемнели еще больше.
– Вы можете обещать мне одну вещь, Сюзанна?
– Я готова пообещать вам все, что захотите, – проговорила я горячо. – Изабелла, я так обязана вам. Никто не сделал для меня больше, чем вы, и самое большое мое желание…
– Обещайте, если у вас родится девочка, вы назовете ее моим именем – Изабеллой.
– Если родится девочка? – переспросила я.
Доселе я не задумывалась, кто у меня родится и как я его назову. Я попыталась вспомнить, как обстояло дело с Жанно. Ему я сразу выбрала имя. И тогда я была уверена, что родится сын – сильный мальчик, который вырастет и будет меня защищать. А нынче такой уверенности не было. Мне даже было все равно, кто родится. Я, хотя и перестала задумываться над тем, кто отец, нежных чувств к ребенку не испытывала. Это была лишь моя зацепка за жизнь, отсрочка казни…
– Я назову ее Изабеллой, обещаю вам.
Просьба моей подруги звучала грустно. Она словно заранее смирилась с тем, что погибнет. И у меня, увы, сейчас совсем не было душевных сил, чтобы ее разубеждать. Ведь и мое будущее тоже было неопределенным.
К нам подошла Аврора. «Боже, – подумала я в ужасе, – как же она похудела. За что на нее-то свалилась эта участь?» В последнее время я не слишком много внимания обращала на девочку. Я следила, чтобы она умывалась по утрам, причесывала ее, заставляла вовремя есть, но уже давно не разговаривала с ней, так, как это часто бывало прежде.
– У вас снова какие-то секреты, или я тоже могу с вами посидеть? – спросила она сердито.
– Я уже ухожу, – отвечала Изабелла. – Не буду вам мешать.
Аврора села рядом. Я привлекла ее к себе, она обиженно взглянула на меня фиалковыми глазами, но ничего не сказала и не отстранилась. «Ах, какие у нее глаза», – подумала я. Она будет красавицей. Это сейчас она худая, у нее тонкие руки, плоская грудь, и платье сидит на ней как на вешалке, но я умела оценить пока еще скрытые в ней задатки и увидеть ее такой, какой она станет года через три. Сейчас ей почти двенадцать. В пятнадцать она станет просто «мадемуазель Кружит Голова».
– У меня снова будет брат? – спросила она все еще хмуро. Я ожидала этого вопроса.
– Да. А почему ты говоришь «снова»?
– Потому что я помню, как мы были тогда, на острове… Ты тогда исчезла на много дней.
– Теперь я не исчезну, дорогая. Но мне кажется, что ты недовольна. Это так?
– Да нет, я вовсе не недовольна… Знаешь, у меня тоже есть от тебя секрет.
Внезапно повеселев, она подняла на меня глаза, улыбнулась до трогательности простодушно:
– Мама, из меня течет кровь. Уже второй раз течет. Я стала взрослой, да?
До меня не сразу дошло, что она хочет этим сказать. Потом я поняла, в чем дело, и вздох облегчения вырвался у меня из груди.
– Ах, я поначалу даже испугалась… Радость моя, почему же ты не сказала мне об этом сразу? Тебе, вероятно, было страшно!
– Ничуть не было. Разве я маленькая, чтобы бояться таких пустяков? Мне давно известно, что это со всеми женщинами происходит…
Да, Изабелла многое сделала для того, чтобы Аврора могла сейчас поважничать, притворяясь во всем сведущей и взрослой. Я долго сидела с девочкой, мы разговаривали, и прежнее взаимопонимание легко вернулось к нам. Аврора засыпала меня вопросами.
– Так как раз поэтому у женщин бывают дети?
– Да, отчасти как раз поэтому.
– И у меня будут?
– Конечно, дорогая. Ты вырастешь и выйдешь замуж…
– А правда ли то, что и без мужа бывают дети?
– Правда. Но, милая, уверяю тебя, это не всегда так же хорошо, как с мужем.
Только поздно вечером мы вернулись в душную, пропахшую потными телами камеру. В углу какой-то новоприбывший рассказывал о последних новостях и событиях, происшедших в Париже. Я стала настороженно прислушиваться.
Оказывается, еще 20 мая некий Адмира задумал убить Робеспьера. Он кругами ходил возле его дома, но не дождался его и решил удовлетвориться коллегой Робеспьера по Комитету – Колло д'Эрбуа. У выхода из Тюильри Адмира дважды стрелял в него, но пистолет дал осечку. Здоровый, могучий, хорошо тренированный Колло легко обезоружил нападающего.
Три дня спустя в дом Робеспьера постучалась юная девушка по имени Сесилия Рено. Узнав, что Неподкупного нет дома, она стала возмущаться так громко, что это вызвало подозрение. Ее задержали и подвергли обыску. И хотя перочинными ножичками, найденными при ней, нельзя было даже серьезно ранить взрослого мужчину, Сесилия Рено была обвинена в покушении на Робеспьера. Она была, разумеется, арестована; вместе с ней в тюрьму отправились все ее родственники вплоть до троюродных братьев, которых разыскали на фронтах.
«Как странно, – подумала я вяло, – когда всякие Адмира идут убивать Робеспьера, то вместо него встречают Колло… А когда стреляют, пистолет дает осечку… Как странно и как это жаль». Робеспьеру, видимо, снятся лавры Марата, убитого роялисткой. Если бы он еще и повторил его судьбу…
– Ну, теперь начнется шумиха! – продолжал рассказчик. – Жди теперь усиления террора. Новые тюрьмы станут строить – в старых уж всех не уместить…
Я затаила дыхание от боли и страха. Эти слова будто ножом полоснули меня по самому сердцу.
4
В камере был обыск. Такие набеги тюремщиков происходили примерно раз в месяц, и все заранее об этом знали. Узники прятали вещи, которыми дорожили, в давно приготовленных тайниках, вывешивали за окно, зарывали в золу камина. Изъятию подлежали, прежде всего, острые предметы – вилки, бритвы, ножи, а также чернила, бумага и спиртные напитки.
На этот раз ищейки явились со сторожевыми собаками, и сидеть в камере, пока продолжался обыск, не было никакой возможности. Да у меня и не было ничего, за что я могла бы бояться. Чернила мне снова принесет тот самый тюремщик, что сейчас помогает делать обыск. Я села на солнышке, развернула книгу, позаимствованную у одного из заключенных. Это был какой-то мистический роман, и назывался он «Монахиня в сорочке». Я пыталась читать, но чей-то голос раздался рядом со мной:
– Не помешаю?
Я подняла глаза и улыбнулась.
– Нет, совсем нет, виконт. Я всегда рада поговорить с вами.
Арман де Сомбрейль сел рядом, вытянул длинные скрещенные ноги. Это был молодой человек, красивый, умный и насмешливый. Его отец, старый герцог де Сомбрейль, был недавно казнен, его старший брат служил в Англии графу д'Артуа – словом, это был юноша из очень роялистской семьи.
– Как вам нравится переполох, учиненный у нас в камере? – спросил он.
– Я привыкла к этому, виконт. Мне кажется, что осталось очень мало из того, чем революция еще могла бы меня удивить.
Брови его поползли вверх.
– Да? Вас не удивляет даже сегодняшнее празднество? Это очередное проявление сумасшествия, не более. Нет, – саркастично протянул он, – такого уже, пожалуй, никогда не будет… Робеспьер объявляет себя мессией, новым папой римским – подумайте, как несчастливы наши предки, мадам, ведь они пропустили такое событие!
Сегодня было 8 июня, так называемый праздник Верховного существа, странным образом совпавший с христианским праздником Троицы. Некоторое время назад Конвент принял декрет, предложенный Робеспьером и устанавливавший новую систему государственных праздников. Верховное существо – это был новый Бог…
Естественно, ведь католицизм был уничтожен, а поклонение Разуму – гильотинировано. Надо было придумать какую-нибудь новую религию. Робеспьер желал бы, как в древности, стать первосвященником и пророком. Нынче он изображал себя Магометом, учреждающим новое верование.
В Париже царствовали голод и страх, но Париж украшался. Тысячи каменщиков трудились над созданием амфитеатра против Дворца равенства. В жилых кварталах подправляли облупившуюся краску домов, закрывали большими щитами то, что могло нарушить величественную картину. На Марсовом поле выстроили огромную гору с храмами и гротами, увенчанную мощным дубом и колонной; здесь восседали депутаты Конвента во время торжественного парада. Мелодия гимна в честь Верховного существа разучивалась очень организованно. Школьников гоняли в Музыкальный институт, взрослым приказывали собираться по секциям.
День праздника выдался теплым, солнечным. Дворец равенства – бывший Тюильри – был пышно украшен; повсюду вились гирлянды зеленых веток и колыхались знамена. Робеспьер ради такого случая облачился в голубой фрак с трехцветной перевязью и держал в руках букет цветов и колосьев.
На праздник он явился с опозданием и произнес речь, которая состояла из восторженных восклицаний и прерывалась рукоплесканиями. Под аплодисменты Неподкупный спустился к небольшому искусственному озеру, в центре которого высился макет семи зол. Взяв у служителя факел, Робеспьер поджег мрачную фигуру Атеизма и Анархии. Покров вспыхнул, картон загорелся, испуская удушливую вонь, а рабочие с высоких лестниц должны были растаскивать пылающие куски макета. Согласно плану, сожженные чудовища должны были открыть вид на статую Мудрости, находившуюся под ними; она действительно открылась, но оказалась закопченной и осыпанной клочьями покрова, да и вообще выглядела весьма глупо.
– Потемнела твоя мудрость, Робеспьер! – крикнул кто-то…
Грянул гимн. Манифестанты закончили построение, и ряды тронулись.
Робеспьер, как председатель Конвента, шел отдельно, шагов на двадцать впереди остальных, и находился в центре всеобщего внимания. К ногам его бросали цветы. Женщины протягивали к нему своих малышей. Со всех сторон слышались восторженные восклицания:
– Да здравствует Неподкупный! Да здравствует Робеспьер!
Казалось, то был голос всей нации.
– Оказывается, – произнесла я, кусая губы, – этот Робеспьер не только отвратителен, но еще и смешон…
– Да уж, – отозвался Арман. – Замечательный человек этот Робеспьер.
– Замечательный?
– Якобинцы скоро станут целовать край его одежды.
Запрокинув голову, я зло рассмеялась. Арман точно угадал мои мысли. Повернувшись, он мгновение наблюдал за мной.
– Вы великолепны, – произнес он вдруг.
– Я? Великолепна?
– В вас удивительный заряд жизненности, дорогая. Вы не умрете. У вас душа просто свинчена с телом, ваш час еще не настал…
– Если бы об этом знали присяжные в Трибунале!
Внимательно взглянув на Армана, я быстро спросила:
– Вы умный человек, виконт, что вы думаете обо всем происходящем?
– Очень трудно ответить на ваш вопрос, мадам. Что вы имеете в виду?
– Ну, что будет дальше? – повторила я почти резко. – С нами, со всей Францией. Как вы думаете, что на уме у Робеспьера? Как распорядится он своей властью? Действительно ли он безумен? Может быть, он просто решил обезлюдить Францию? Я видела уже столько людей, отправившихся на эшафот, что не понимаю, откуда берутся новые заключенные! Там, за оградой тюрьмы, скоро никого не останется!
– Почему вы знаете, что мне даны ответы на эти вопросы?
– И все-таки? – спросила я с мукой в голосе.
Арман поднес мою руку к губам и улыбнулся.
– Мне думается, мадам, – сказал он, – что такой человек, как Робеспьер, надоел не только нам. Почти наверняка он внушает ужас даже своему окружению. Его политика построена на устрашении. Его манера – угрожать, делать угрожающие намеки, обвинять сразу всех, не называя имен, да так, что любой может почувствовать себя в опасности… У него нет друзей, на которых он мог бы опереться.
– Да зачем они ему? Он станет диктатором.
– Я полагаю, у него не хватит для этого смелости. Он и хотел бы, но трусость ему помешает… Он разделил Францию на тех, кого преследуют, и тех, кто преследует. Такое не может долго продолжаться. Страшно становится слишком многим.
– И каков же ваш вывод, виконт?
– Я думаю, Робеспьер падет.
У меня перехватило дыхание.
– И как скоро, Арман? Когда это случится?
– Не знаю, дорогая. Возможно, его низвергнут в самом Конвенте. Но, может быть, найдется один такой генерал, который, одержав несколько блестящих побед на фронтах, завоюет популярность в армии и двинет войска на Париж…
Слушая, я не замечала, как сильно сжимаю руку Армана.
– О, если б нам дожить до этого часа, друг мой! – воскликнула я с надеждой и отчаянием одновременно.
– У вас, дорогая, этого времени больше, чем у всех нас…
5
Террор усиливался с каждым днем. Еженощно пьяные тюремщики, обходя камеры, разносили обвинительные акты, выкрикивали имена и фамилии и из-за двадцати намеченных жертв повергали в смертельный ужас двести человек. Надо было разгрузить переполненные тюрьмы. Надо было судить – без отдыха и передышки. И Трибунал судил – в лихорадочно-дремотном состоянии, основываясь на вынужденных показаниях свидетелей и бредовых обвинениях…
Но и это было слишком долго, слишком!
Робеспьер вынес проект нового закона через своего друга Кутона. При чтении его у самих якобинцев захватило дыхание от ужаса.
Речь шла об уничтожении самого института суда как такового. Революционный трибунал подлежал коренной реорганизации. Все «формальности» – следствие, допрос, свидетельские показания, защита – отменялись как излишние; мерилом приговора становилась «совесть судей, движимых любовью к родине». Приговор был один: смертная казнь. Каждому гражданину вменялось в обязанности доносить на врагов народа. К последним при желании можно было отнести любого.
То была программа истребления французов.
Депутаты почувствовали холод лезвия гильотины на собственной шее. Некий Рюан решился сказать, что если этот закон пройдет без отсрочки и прений, то он, Рюан, разнесет себе череп. Другие поддержали его. Но Робеспьеру достаточно было подняться, нахмурить брови, произнести несколько угроз…
Проект стал законом. Опрометчивый Рюан был рад, что его череп остался на месте.
Гильотина стала альфой и омегой жизни. «Гильотинируйте! – кричал один из революционеров, Камбон. – Хотите покрыть расходы ваших армий – гильотинируйте. Хотите стабилизировать экономику страны – гильотинируйте, гильотинируйте, гильотинируйте!»
Присяжные Трибунала были люди простые, и сокращенное судопроизводство удовлетворяло их. Теперь они осведомлялись только об убеждениях обвиняемых, не допуская, что можно, и не будучи злодеем, мыслить иначе, чем они. Карали не только за слова, желали наказывать и за самые мысли. Состояние опьянения не было смягчающим обстоятельством, а, наоборот, стало изобличающим: in vino veritas![12] В 1794 году перестали обращать внимание на правдоподобность обвинений. Иногда они носили характер зловещего абсурда. Член Конвента Осселен был казнен за участие в заговоре с целью бежать из тюрьмы, перебить членов обоих комитетов, вырвать у убитых сердца, зажарить их и съесть!
Становилось обычным мстительное торжество по поводу участи осужденных, глумление над агонией жертв террора, кровожадное злорадство, которое считали нужным демонстрировать при любой возможности. Ненависть душила и ослепляла людей.
Судили теперь «охапками». Первая такая «охапка» была отправлена на гильотину 17 июня, через 10 дней после праздника Верховного существа, праздника умиротворения. Она состояла из 54 заговорщиков – случайных людей, никому не известных и не знакомых друг с другом, так что возникал вопрос, не по жребию ли их отобрали. Фукье-Тенвиль провел дело в один день, поскольку новый закон позволял обойтись без «формальностей». После переклички обвиняемых судья повторил пятьдесят четыре раза вопрос: «Признаешь ли ты себя виновным?» – и получил пятьдесят четыре ответа: «Нет, не признаю». Если кто-то пытался добавить к этому какое-либо объяснение, его лишали слова. Затем прокурор потребовал смертной казни для всех подсудимых, и присяжные утвердили приговор.
Заговорам не было конца. Парижане уже не могли смотреть на ежедневное шествие телег. Когда открывалось новое кладбище для обезглавленных тел, раздавался даже ропот. Поэтому гильотину спешно убрали с площади Революции и перенесли на юго-восточную окраину, к заставе Поверженного Трона. Зрителей становилось все меньше; некоторые говорили, что Робеспьер дает слишком много крови и слишком мало хлеба.
То было страшное время. Кровавая жатва мессидора. Смерть без фраз. «В те дни, – говорил Фукье-Тенвиль, – головы летели, как куски шифера». За сорок пять дней Трибунал вынес столько же смертных приговоров, сколько за пятнадцать предшествующих месяцев. Поскольку зал суда не мог вместить огромные партии подсудимых, занялись его быстрой перестройкой. Роковое кресло заменили рядами скамей, которые не только вытеснили зрителей, но и судей заставили забиться в угол зала. Быстрей, быстрей, еще быстрей. Судьба человека завершалась с такой быстротой, что дух захватывало: в пять утра его арестовывали, в семь переводили в Консьержери, в девять сообщали обвинительный акт, в десять он сидел на скамье подсудимых, в два часа дня получал приговор, в четыре оказывался обезглавленным; на всю процедуру от ареста до казни уходило менее полусуток!
Судебные ошибки никого не волновали, заниматься ими было некогда. Сын погибал вместо отца, отец – вместо сына, легко путали братьев, а если у осужденного имелся однофамилец, то иной раз отправляли на гильотину и его, исходя из соображений, что виновным может оказаться любой. Кровавая жатва мессидора… Смерть без фраз.[13]
6
Аврора держала перед собой зеркало, а я, расчесав ее густые волосы так, что они начали искрить, заплетала ей косу. Настроение у меня сегодня было получше, чем обычно. Я чувствовала себя здоровой и, поскольку у меня была свечка, рассчитывала заняться штопаньем чулок и этим заполнить весь вечер.
Было 29 июня 1794 года, по новому стилю 11 мессидора. Почти шесть месяцев я была в тюрьме.
– Скоро у нас будет юбилей – полгода, – мрачно пошутила Изабелла.
Я не нашла в себе сил пошутить в ответ. Эти полгода были самым мрачным периодом в моей жизни. Тюрьмы, допросы, да еще этот ребенок… Он имел привычку причинять мне всяческие неприятности. Меня все время то тошнило, то рвало, то не давала покоя головная боль. Кроме того, он – тот, кто был внутри меня, – очень быстро рос. Быстрее, чем полагается.
Если бы рядом не было Изабеллы, я, вероятно, просто отчаялась бы. Она поддерживала меня. И откуда только у нее брались силы? Над ней самой как дамоклов меч висел нож гильотины, и у нее не было даже того прикрытия, которым обладала я.
Я заштопала чулки, потом пришила последнюю оборку к новому зеленому чепчику, который сшила для Авроры. Вид ее красивого круглого личика с сияющими глазами и в оборках нового чепчика заставил меня улыбнуться и привлечь Аврору к себе.
– Ты так хороша, дорогая. Ты просто прелесть.
В это мгновение где-то далеко часы пробили одиннадцать вечера, а из коридора донеслись топот и позванивание ключей.
– Это перекличка, – прошептала Аврора. В глазах ее застыл ужас.
Одному Богу известно, как я могла забыть, что эта страшная процедура сегодня еще не повторялась. Моя рука судорожно сжала шитье. Перед глазами у меня на миг потемнело, и я не видела перед собой ничего, кроме расплывающихся огненных кругов. Потом, когда туман вокруг меня рассеялся, судебные агенты Фукье-Тенвиля с их всегдашним списком уже стояли на пороге.
– Арман Сомбрейль! – донеслось до меня первое имя.
Это вывело меня из оцепенения. Превозмогая боль и слабость, охватившие меня и едва не доведшие до обморока, я увидела, как виконт де Сомбрейль, мой добрый знакомый, поднялся с места. Я не знала, какие чувства его обуревают. Но мне вдруг стало ясно: сегодня наша партия… И наши имена станут следующими… Я с ужасом почувствовала это, но не могла даже подняться, чтобы что-то предпринять. Да и что я могла? Изабелла тоже сидела молча, но лицо у нее посерело – видимо, она думала о том же, что и я.
– Клод Фабюле, бывший капуцин!
Эта отсрочка ни на миг не обманула меня. Я знала, что будет дальше.
– Изабелла Шатенуа!
Голос судейского эхом разносился по камере. Изабелла машинально поднялась, но не сделала вперед ни шагу. Губы у нее побелели, руки были сжаты в кулаки, и я видела, что ногти ее до крови впились в кожу.
– Антуанетта Граммон! – тусклым голосом крикнул судейский.
И тут же добавил:
– Сюзанна ла Тремуйль, ее дочь Аврора ла Тремуйль! Это конец списка…
«Надо же, – промелькнула у меня нелепая мысль, – именно сегодня, когда список короче всего… именно сегодня вызвали нас».
Потом я осознала, что мы должны собираться – как можно скорее, ибо на сборы дают лишь минуту или две. Я лихорадочно сложила в узел нашу одежду. Изабелла подала мне деньги, и я бросила их в тот же узел. Что нам еще понадобится? Я ничего не могла вспомнить. Да и нет смысла думать об этом…
– Быстрее! Не задерживайте других! – глумливо крикнул нам судебный агент.
Как сомнамбула, пошла я к выходу. Внутри снова шевельнулась тошнота, сильная боль появилась внизу живота, и я вдруг подумала, что меня, возможно, сейчас стошнит прямо на глазах у всех. Ужаснувшись, я остановилась. Арман де Сомбрейль поддержал меня, и в его объятиях я на какой-то миг успокоилась. Тошнота улеглась, но я вздрагивала всем телом и продолжала стоять, не чувствуя в себе сил идти дальше.
– Ну, ты, бывший! – крикнул нам агент. – Бери свою шлюху на руки и скорее топай на гильотину, она быстро успокоит все ваши страдания!
Я не была склонна как-то реагировать на это оскорбление. В тюрьме мне столько раз говорили, что я шлюха, что это меня уже ничуть не ранило. Зато Арман… Он оставил меня на попечение Изабеллы и герцогини де Граммон, а сам быстро двинулся к ступеням.
Я с ужасом увидела, как он, схватив агента за манишку, рывком подтянул к себе и какой-то миг достаточно хладнокровно вглядывался в его лицо, потом отшвырнул его от себя с такой силой, что судейский ударился о стену, потом упал и прокатился по полу.
Агенты бросились к Арману, желая, видимо, силой заставить его успокоиться. Он отступил назад, с насмешливой улыбкой сложил на груди руки:
– Спокойно, спокойно, господа палачи! Нет нужды трудиться. Со мной у вас больше не будет хлопот, даю слово…
Они оставили его, и вздох облегчения вырвался у меня из груди. Для меня было бы невыносимо сознавать, что этого человека повезут в Трибунал связанным или избитым.
– Благодарю вас, – прошептала я едва слышно. – Арман, я так рада, что вы мой друг.
– Увы, я, по всей видимости, буду лишен счастья быть им долго. Дайте руку, мадам, я помогу вам идти.
Сбитый с ног судейский бросил нам вслед ужасный взгляд. Можно было не сомневаться, что в Трибунале к нашим многочисленным преступлениям присовокупят еще и нападение на представителя национального правосудия.
Вшестером мы вышли из камеры. Я опиралась на руку Армана, Изабелла шла рядом с Авророй, герцогиня де Граммон следовала в паре с аббатом Фабюле. Последний все еще говорил что-то о своей защитной речи, словно не знал, что института защиты давно не существует, она отменена прериальским законом Робеспьера.
Нас втолкнули в какой-то вонючий возок, окруженный эскортом вооруженных жандармов, грубых и пьяных. Я не слушала оскорблений и глумливых насмешек, которыми они нас осыпали. Вокруг была кромешная темнота, но, несмотря на это, прохлада не наступала, и я задыхалась от жары и недостатка воздуха. Меня бросало то в холод, то в невыносимый жар, и я едва успевала вытирать со лба испарину. «Только бы у меня не случилось выкидыша, – думала я, сжимая зубы, – только бы этого не произошло…»
– Куда мы едем? – осведомилась Аврора шепотом.
Одними губами я произнесла:
– В Консьержери.
7
Возок, в котором нас везли, на тюремном жаргоне назывался «корзиной для салата». Почти машинально я отмечала, как мы едем; скользила глазами по домам улиц Сент-Антуан и Мар-труа, полускрытым темнотой. Чуть позже «корзина для салата» приблизилась к площади Ратуши и въехала под аркаду Сен-Жан. Я еще с прошлых времен помнила, какая там грязная сточная канава… Как раз в этом месте возок сильно тряхнуло, и брызги полетели нам в лицо.
«Мы смертники, – подумала я, когда поняла, что мы приближаемся к месту назначения. – Да, ведь Консьержери – тюрьма смертников… Никому не удавалось выйти оттуда…»
Черные крепостные стены с тремя сторожевыми башнями служили мрачным украшением набережной Люнет. Это была тюрьма Консьержери. Квадратная Часовая башня, почти такая же высокая, как Сен-Жан-де-ла-Бушри, служила приметой Дворца правосудия и образовывала угол набережной. Именно в этом Дворце заседал Трибунал.
Никакими словами нельзя было изобразить мощности стен и сводов, увиденных мною, когда «корзина для салата» въехала в калитку Консьержери, между Часовой башней и башней Монтгомери. Здесь нам приказали выходить и повели налево, в канцелярию, где клерк очень невнимательно записал наши имена и приметы. Да и к чему было стараться – он привык, что люди, прибывающие ночью, уже утром отправляются в Трибунал.
– В Мышеловку! – распорядился судебный агент.
Мышеловкой назывались несколько камер, расположенных на месте бывших кухонь Луи Святого. Нас загнали, как скот, в помещение с железной решеткой; за решеткой тянулся коридор, по которому то и дело бродили тюремщики и судебные агенты. Мы были вовсе не первыми в завтрашней партии, собранной для гильотины Фукье-Тенвилем; кроме нас здесь было уже человек тридцать.
– Откуда вы, братья мои? – спросил аббат Фабюле.
Послышались краткие прерывистые ответы:
– Из Люксембурга.
– Из Маделанетт.
– Из Сен-Лазара.
– Из тюрьмы Карм…
Обессиленная, я опустилась на одну из коек. Меня так трясло в возке, что я опасалась самого страшного – выкидыша. Как это было бы несправедливо…
Я пришла в себя, почувствовав прикосновение Авроры. Она прижималась ко мне – бессознательно, из страха. «Боже мой, – мелькнула у меня мысль, – да что же она здесь делает?!»
У меня мороз пробежал по коже. Блуждающим взглядом я обвела камеру, отчаянно надеясь увидеть хоть кого-то, кто смахивает на человека Батца и кто пришел сюда, чтобы забрать Аврору, но все мои надежды были тщетны. Я никого не узнавала. Но ведь Батц обещал… Не может же он бросить одиннадцатилетнего ребенка под нож гильотины…
В кругу заключенных, привезенных из тюрьмы Карм, звенели струны гитары, и мужской голос напевал романс – такой печальный и тоскливый, что хотелось зажать уши от отчаяния:
Уж близок час, несущий гибель мне, Уж бьют часы, и слышен голос ночи, Спокоен я и в грозной тишине Пред гибелью не опускаю очи. Друзья, которых вижу я кругом, Не плачьте, на смерть друга провожая: В тот грозный век, в который мы живем, Нас всех, быть может, ждет судьба такая.Мелодия была просто невыносима, она словно высасывала из меня остатки душевных сил… Мне казалось невероятным, что этот человек поет в такую минуту, поет таким глубоким, бархатным и проникновенным голосом… Это неслыханно!
– Нельзя ли сделать так, чтобы он замолчал? – прошептала я в бессильной ярости, обращаясь неизвестно к кому.
Мне ответил Арман де Сомбрейль:
– Он в последний раз поет, дорогая. Забудьте о нем.
– Но он на всех наводит тоску и уныние! Мы ведь еще не похоронены, черт возьми! Нам надо держаться!
Аврора уткнулась лицом мне в грудь и тихо, по-детски заплакала. Я гладила ее волосы, пытаясь успокоить; на слова утешения у меня просто не было сил.
– Мама, мама, неужели они убьют нас – и тебя, и мадам Изабеллу, и меня? – прошептала Аврора, поднимая ко мне залитое слезами лицо.
Словно кинжал вонзился мне в сердце. Я собрала все силы, чтобы ответить.
– Нет, дорогая. Тебя – нет. Они не тронут тебя.
– Это правда?
– Честное слово. Верь мне.
Она горестно вздохнула, словно на миг успокоившись, а потом снова вздрогнула, испуганно встрепенулась:
– А что будет с тобой? Тебя они тоже не тронут?
– Надеюсь, что так, дорогая. Но…
– Но я никогда тебя не оставлю, никогда! – закричала она, в детской ярости сжимая кулаки. – Я им не позволю! Я… я так люблю тебя!
Слезы снова брызнули у нее из глаз. На нас стали обращать внимание. Я поспешно привлекла ее к себе, прижала к груди ее русоволосую голову и сама едва удерживалась от слез.
– Тише, милая. Надо держать себя в руках. Они не должны видеть, что мы в отчаянии.
– Они? Те, что хотят убить нас?
– Да. Послушай меня внимательно… Если… если мы расстанемся, ты должна будешь суметь позаботиться о себе…
– Но ведь я никогда еще не жила без тебя!
– Ты пойдешь к Джакомо и Стефании. Ну-ка, повтори их адрес! Они найдут способ помочь тебе… Пожалуйста, обещай мне, что сделаешь так, как я говорю, Аврора.
Мне так и не удалось добиться у нее обещания. Она упрямо отмалчивалась, закусив губу; в глазах ее стояли слезы, а взгляд выражал безграничное отчаяние. Потом часы пробили два ночи, и я увидела, что Аврора уснула: незаметно и тихо, прямо у меня на плече. Слезы еще не высохли у нее на щеках.
Спать я пока не могла. Тоска не давала мне покоя. Что будет утром, всего через несколько часов? Я смотрела по сторонам, пытаясь понять, что чувствуют остальные обреченные. Теперь их было уже больше сотни. Некоторые вели себя совершенно невозмутимо: беседовали о политике, играли в пикет, кое-кто из мужчин брился, кое-кто чистил свой сюртук, кое-кто спал. Иные впадали в отчаяние, выражая его криками, рыданиями или стонами; некоторыми овладевала прямо-таки настоящая паника. Почти никто здесь не знал друг друга, и приходилось задумываться, какая мысль руководила Фукье-Тенвилем, когда он объединял нас в одну «охапку».
Потом от напряженной позы и долгого сидения у меня заболели шея и поясница; я прислонилась к каменной стойке и сама не заметила, как задремала.
…Кто-то тронул меня за плечо. Я встрепенулась, сразу почувствовав ужас: все эти часы я жила с мыслью о том, что нас вот-вот потащат в Трибунал. Было уже утро, в узкие окна заглядывал свет. Почти всю камеру сморил тревожный, тяжелый сон.
– Вы Сюзанна де ла Тремуйль? – спросил мужчина.
Он был весь в черном, и шляпа затеняла его лицо.
– Да, это я, сударь.
– Я пришел от знакомого вам лица, чтобы забрать вашу девочку.
Я мгновенно все поняла и стала будить Аврору.
– Но, сударь, как же вы это сделаете?
– Не задавайте лишних вопросов. Поспешите!
Я знала, что нужно торопиться. Сейчас, утром, все уснули, тюремщики тоже потеряли бдительность…
– Вы выведете ее из тюрьмы, на свободу?
– Нет.
– Что же, в таком случае, вы сделаете?
– Я отведу ее в другую камеру… туда, где ей не будет угрожать Трибунал.
– А списки? Ее сразу хватятся, если в этой камере людей окажется меньше, чем значится в списках!
– Ее имени больше не будет в списках.
Единственной стоящей мыслью, пришедшей мне тогда в голову, была мысль дать Авроре денег. Именно так я и поступила. На остальное у меня не было ни соображения, ни времени.
– Но я не могу уйти вот так, прямо сейчас! – воскликнула Аврора.
– Дорогая, сейчас не время капризничать и проявлять характер. Ради Бога, послушайся меня. Ты должна уйти с этим господином; речь идет о твоей жизни…
Я поспешно поцеловала ее. У нас не было и двух минут для прощания.
– Да хранит тебя Пресвятая Дева, мой ангел! Не забывай, как ты должна поступить…
Мужчина в черном увел Аврору. Я смотрела им вслед и напряженно прислушивалась к тому, что происходило у решетки, каждую секунду ожидая, что обман раскроется и Аврору вернут.
Обман не раскрылся. На решетке глухо звякнул замок, и все звуки стихли. Уход Авроры словно подчеркнул разницу между двумя мирами, – миром, где была жизнь и куда все хотели бы попасть, и миром, где нас, его обитателей, ждали лишь Трибунал и гильотина.
Забывшись, я не заметила, как наступило девять часов утра. Становилось жарко и душно, солнечный свет лился в зарешеченные окна. Я почувствовала, что ужасно голодна. Мне самой казалось странным то, что я еще могу испытывать голод. Но ведь нас, в сущности, было двое… Я развязала узел, достала оттуда хлеб и сыр и съела это до последней крошки. Будь что будет, но в Трибунале я не имею права упасть в голодный обморок. Для обмороков у меня достаточно и других причин.
– Уже скоро, – раздался голос Изабеллы.
Послышались голоса тюремщиков, пьяных уже с утра. Они зашли к нам в камеру, выдали всем обвинительные акты. Свой я отложила в сторону, не читая. Мне надо было еще приготовиться…
Я разложила на коленях гребень и шпильки, распустила волосы и тщательно расчесала их. Потом разделила на две половины, как это делала Маргарита для меня когда-то, свернула назад и уложила на затылке тяжелыми волнистыми прядями. Я не знала, что мною руководило в эту минуту, но так поступали все женщины. В Трибунале нельзя выглядеть жалкой. Даже в том случае, если ты знаешь, что тебя ожидает гильотина…
Свой туалет я закончила, приколов к волосам маленький белый чепчик. Потом взглянула на Изабеллу. Она казалась окаменевшей и двигалась как бы автоматически, хотя ни разу не ответила невпопад. Лицо ее было бело, на нем жили только глаза, черные, как агаты.
– Подсудимые, на выход!
Вслед за этим возгласом послышался звонок, возвещающий о начале судебного заседания, и в камеру стали заходить жандармы.
В полной прострации я поднялась. Рядом что-то бормотал аббат Фабюле, перемежая молитвы с причитаниями. Я рассеянно скользнула по нему взором и двинулась к дверям. За мной пошла Изабелла. Лязг ключей, хлопанье железных дверей, крики жандармов и икота тюремщика сопровождали нас.
А голос снова пел свой унылый бесконечный романс:
Едва блеснет заря навстречу дню, Меня связут они в телеге длинной На площадь, где я голову склоню Под лезвие холодной гильотины.«Нет, – подумала я, кусая губы, – они меня не казнят. Они не смогут. Я беременна, и это уже так заметно…»
И даже безумный Жак Казот, помнится, предсказывал мне жизнь.
8
Всего нас было сто пять человек – заключенных, привезенных из самых разных тюрем. Заседание было назначено на десять часов утра; когда жандармы ввели нас в зал суда, присяжные уже сидели на своей скамье, а судей, председателя и прокурора еще не было. Я увидела огромное трехцветное знамя в углу, Декларацию прав на стене, бюсты Марата и Лепелетье.
Нас усадили на скамью, похоже, на самые почетные места, и оставили дожидаться решения своей участи.
Присяжные сидели напротив нас. Они совершенно не были знакомы с делом, не знали даже фамилий подсудимых. Мой взгляд рассеянно переходил от одного присяжного к другому, как вдруг мне показалось, что я вижу знакомое лицо. Здесь был человек, которого я, пожалуй, знала… У него, кстати, было лицо довольно честного человека. «Честный – здесь? – подумала я, одергивая саму себя. – Я, вероятно, ошиблась». Но я не могла не заметить, что этот человек то и дело напряженно посматривает на меня.
– Святой Боже, что же нам делать? – прошептала я в отчаянии.
Изабелла едва заметно усмехнулась.
– О, разве что гордиться тем, что мы умрем так, как умерла королева Франции.
Вошли судьи и председатель Трибунала Дюма, занял свое место общественный обвинитель гражданин Фукье-Тенвиль. Среди судей я с содроганием узнала Коффиналя, того подонка, к которому я как-то приходила домой, чтобы узнать что-то о Рене, и который запросил непомерную цену за свои услуги. Боже, и такой гнусный тип был судьей…
Секретарь начал читать обвинительный акт; как ни мало уделялось в нем внимания каждому подсудимому в отдельности, все же чтение его заняло много времени из-за большого числа обвиняемых. В акте говорилось о раскрытии заговора, имевшего целью утопить Республику в крови народных представителей.
Главой заговора был объявлен Арман де Сомбрейль, которого назвали «бывшим виконтом» и безнравственным растратчиком, расточившим в кутежах значительную часть народного достояния. Он был обвинен в шпионаже в пользу эмигрантов и коалиции.
Когда дело дошло до меня, то выяснилось, что я – его бывшая сожительница, распутная женщина, вступившая в постыдную связь с Арманом для того, чтобы строить козни против Республики, подкупать судей и устраивать биржевые спекуляции…
Я видела, как насмешливая улыбка тронула губы виконта; он повернулся ко мне и тихо, но ясно прошептал:
– Я прошу прощения, мадам, за то, что вы слышите. Вы же видите, душевное состояние этих людей поистине плачевно.
Я, неприятно пораженная тем, что слышу из уст секретаря, нетерпеливо шевельнулась. Секретарь возвысил голос:
– Несколько изречений этой зловредной женщины ясно характеризуют ее гнусные идеи и пагубную цель…
Я на мгновение перестала слушать эти бредни, хотя они довольно точно передавали смысл моих высказываний по поводу революции – видимо, здесь сказалась работа доносчиков. Я сплела свои пальцы с пальцами Изабеллы, и мне стало как будто легче.
Ну, можно ли было ожидать, что меня обвинят в спекуляциях и подкупе судей? Мне казалось, что мы находимся среди сумасшедших. Секретарь зачитывал чистейшую чепуху, мы это понимали, а люди вокруг нас, вкупе с судьями и прокурором, слушали этот бред с полной серьезностью и подобную чушь вменяли нам в преступление!
Когда очередь дошла до Изабеллы, было отмечено, что она – просто-напросто публичная женщина, подобранная мною и Арманом в грязи каких-то улиц и втянутая нами в омерзительные преступления.
– Каково? – прошептала я.
– Немного же они уделили мне внимания, – проговорила Изабелла.
Далее обвинительный акт переходил к остальным подсудимым. Все они были виновны в заговоре и втянуты в него виконтом де Сомбрейлем, но, кроме этого, у каждого находились и своих грехи. Кто-то обругал патриотов за казнь короля, директор театра матрионеток Луазон скверно отзывался о Марате, а его жена якобы заявила, что меры Конвента – это «свинство», еще один человек способствовал бегству Петиона, пятый зарыл в саду столовое серебро… Были перечислены и другие преступления – скупка зерна и звонкой монеты, печатание фальшивых ассигнаций, контрреволюционные речи, переписка с эмигрантами. Чтение длилось, вероятно, целый час. В самом конце обвинительный акт требовал смертной казни для всех обвиняемых.
Присяжные, слушая это, зевали.
– Переходим к допросу! – объявил председатель Дюма. Первым допрашивали виконта, как главу заговора.
– Ты принимал участие в заговоре?
– Нет, – с презрением отвечал Арман. – Все, что вы там написали, – сплошная ложь.
– Вот видишь! Ты и сейчас злоумышляешь против Трибунала!
Председатель повернул голову ко мне, оставив Армана в покое.
– Признаешь ли ты, – спросил он ухмыляясь, – что состояла в заговоре с Сомбрейлем и расточала ему свои презренные ласки?
Закусив губу, я молча и с ненавистью глядела на него. У меня и в мыслях не было отвечать. Я вообще считала ниже своего достоинства говорить здесь что-либо.
В ответ на мое молчание поднялся прокурор Фукье-Тенвиль, страшный, рябой, чудовищный, и громогласно заявил:
– Обратите внимание, что подсудимая ничего не сказала по поводу последнего замечания гражданина председателя суда. Ее молчание говорит само за себя.
После этого заявления меня оставили в покое и больше никакими вопросами не тревожили. Председатель Дюма так же глумливо-равнодушно обращался по порядку ко всем подсудимым, сидевшим на скамьях. Некоторым он задавал даже по два или три вопроса, что в этом Трибунале можно было счесть самой высшей данью судопроизводству.
Мы с Изабеллой сидели, как и раньше, сжимая пальцы друг друга. Я снова почувствовала на себе внимательный взгляд одного из присяжных и, в свою очередь, взглянула на него. В этот миг мне показалось, что я узнаю его. Он был похож на того комиссара, который как-то пристал ко мне в парке Монсо, довез в коляске до церкви Ла Мадлен и которого мы с Изабеллой обманули. Я даже помнила его имя – Доминик Порри. Он тогда церемонно представился «комиссаром народного общества секции Социального контракта». Ну, и чего же мне следует ожидать от этого человека после того, как мы обвели его вокруг пальца?
Я устало вздохнула. Сейчас это не имеет никакого значения… Все присяжные проголосуют за смертную казнь, и мнение какого-то Доминика Порри – будет ли оно в мою пользу или нет – ничего не изменит.
Допрос затягивался, и судьи уже проявляли нетерпение. Дюма уже не задавал много вопросов, ограничиваясь одним, самым главным, а судья Коффиналь, едва увидев, что подсудимый намеревается что-то добавить к своему объяснению, вскакивал с места и кричал:
– Я лишаю тебя слова!
Эта фраза давно превратилась в его кличку.
Далее слово взял Фукье-Тенвиль. Речь его не была продолжительной. Он лишь развил наиболее вздорные места уже прочитанного обвинительного акта и потребовал смертной казни для всех подсудимых, за исключением одного, которого все знали как «наседку» – тюремного доносчика.
– Все подсудимые изобличены, – заключил Фукье-Тенвиль, – а закон ясен и не допускает никаких толкований.
Присяжные удалились в совещательную комнату. Нам приказали подниматься и выходить из зала. В эту минуту часы пробили полдень. Суд длился ровно два часа.
За железной решеткой, в тесной, грязной, вонючей комнате мы ждали приговора. Нам было известно, что его огласят в зале в наше отсутствие. У решетки дежурили жандармы с саблями наголо, а со двора доносились громкие голоса «вязальщиц», поджидающих новую партию.
Сейчас никто ни с кем не разговаривал. Я в ту минуту ничего не чувствовала, даже страха. Я словно впала в оцепенение. Все это было как ужасный сон…
Явился секретарь с приговором. Словно сквозь слой ваты доносился до меня его голос, утверждающий, что «все подсудимые виновны в заговоре, не имеющем себе равных в летописях народов». Все, кроме доносчика, приговаривались к гильотинированию.
– Приговор будет приведен в исполнение сегодня же, у заставы Поверженного Трона, а настоящее решение Трибунала с именами всех казненных будет распространено по всем городам Республики. Дано в Париже, 12 мессидора II года.
Громко вскрикнули и зарыдали некоторые женщины. Но в общем приговоренные были апатичны и покорны, как скот, пригнанный на бойню. Никто не протестовал, не пытался, в послед ней вспышке отчаяния, убежать, броситься на ряды жандармов. Все молчали, будто к казни были приговорены какие-то другие люди, а не они.
Тогда я встала и заявила, что я беременна. Вообще-то я полагала, что уже в приговоре будет оговорена моя отсрочка, но, поскольку ничего подобного я не услышала, я не намеревалась молчать. Секретарь, взглянув на меня из-под очков, сказал:
– Жди, тебя осмотрит врач.
– Да ведь и так все видно, – сказала я с сарказмом.
– Здесь все говорят о своей беременности. Мало ли что может изобрести заговорщица, чтобы избежать наказания!
Мне ничего не оставалось, как смириться с этим. Во всяком случае, врач, когда он явится, сразу все поставит на место.
Мы сидели долго, очень долго, то ли забывшись, то ли задремав. Постоянно я ощущала тепло Изабеллы. Арман де Сомбрейль, бледный и спокойный, с невозмутимым видом читал своего любимого Боссюэ. В четыре часа дня, очнувшись, я поняла, что обещанный секретарем врач еще не появлялся.
Вместо этого в камеру вошел огромный могучий мужчина, в котором я с ужасом узнала палача Сансона.
Держа в руках громадные ножницы, он со своими подручными подходил к каждому приговоренному и проделывал обычную в таких случаях операцию: коротко стриг волосы, широко разрывал рубашки и обрезал воротники. Дрожь пробежала у меня по спине, и в это мгновение я впервые ощутила, как шевельнулся у меня под сердцем ребенок.
«Но ведь мне обещали врача, – мелькнула у меня испуганная мысль, – и заставили ждать!»
В этот миг Сансон приблизился ко мне, и я увидела страшные ножницы в его руках.
– Гражданка, – сказал он почти учтиво, – пожалуйста, снимите чепец и распустите волосы. Я должен исполнить свою работу.
Я подняла на него глаза, в которых застыл ужас.
– Я… я вовсе не в этой партии, сударь! Мне приказали ждать, пока придет врач, и…
– Гражданка, – повторил он так же мягко, – мне очень жаль, но я обязан исполнять свою работу.
В его голосе звучало почти сочувствие. Сочувствие, выраженное палачом! Это так потрясло меня, что, не найдя в себе сил для сопротивления, я молча сняла чепчик и вынула шпильки.
Золотистая волна волос хлынула вдоль спины; я наклонила голову…
Холодная сталь ножниц коснулась моей шеи, прямо как нож гильотины. Небрежно и коряво, однако не причиняя мне боли, Сансон очень коротко обрезал мне волосы и отдал длинные золотистые пряди своему помощнику. Я знала, что он продаст их потом скупщикам, которые делают из них парики.
Сансон перешел к Арману, чтобы обрезать ему ворот сорочки.
Я подняла голову с ужасом почувствовав, какая она стала легкая. Вероятно, остриженная, я была похожа на мальчишку. Мне стало почти дурно, и такая невыносимая тревога охватила меня, что я в отчаянии оглянулась по сторонам, пытаясь хоть в ком-то найти надежду на спасение. Все было тщетно.
Упали в руки палача черные кудри Изабеллы и седые волосы герцогини де Граммон. Обе они были похожи на школьников, убежавших с уроков, и это сходство казалось особенно жутким по отношению к герцогине – увядающей, поседевшей, преждевременно постаревшей в тюрьме женщине.
Неужели меня казнят? Эта мысль всплыла передо мной с кошмарной ясностью. Возможно, секретарь и не думал звать врача. Разумеется, ему наплевать на меня, он никого не звал… Зачем же я молчала и ждала? Я дождалась лишь того, что в общей страшной спешке меня потащат вместе со всеми и ничего нельзя будет доказать…
И тут – пожалуй, впервые – я испытала ужасный страх, щемящую жалость: совсем даже не к себе, а к тому ребенку, которого носила. Это было первое отчетливое, ясное чувство по отношению к нему. Он не успел родиться, а уже узнал, что такое тюрьма. И он ни в чем не виновен… Было бы жестоко убить его вместе со мной…
– На выход! – громко крикнул один из судебных агентов. Сознавая, что если я не пойду, то меня потащат силой, я поднялась. Рука Изабеллы даже сейчас поддержала меня.
– Как видите, – через силу прошептала я побелевшими губами, – я, вероятно, не смогу исполнить свое обещание.
Я имела в виду обещание назвать ребенка – если это будет девочка – Изабеллой.
– Молчите! – горячо и властно сказала маркиза. – Все еще образуется, не смейте думать о смерти! Вас не казнят.
Я прекрасно понимала, что это лишь утешение, не имеющее реальных оснований. Реальным было то, что я видела и чувствовала: судебный агент в проеме двери, визги «вязальщиц» во дворе, мои коротко обрезанные волосы…
У двери каждому приговоренному связывали руки за спиной. Силы оставили меня, и я без всякого сопротивления позволила себя связать. На меня нахлынула страшная апатия, я сейчас ничего не боялась и ничего не хотела.
И вот солнечный свет ударил мне в глаза.
День был чудесный. Небо было жемчужно-голубое, без единого облачка; запах цветущего жасмина был такой сильный, что дурманил голову; и в эту минуту я пожалела, что все мы должны умереть. Арман и герцогиня де Граммон уже были в телеге; герцогиня кивнула нам, показывая, что рядом с ней есть место. Всего телег было двенадцать, в одной из них стоял Сан-сон.
Мне было трудно подняться в телегу даже по лесенке, и Арман помог мне, подхватив меня под мышки.
– Спасибо, – проговорила я. – О, Арман, мне так жаль. Это так несправедливо!
Он молчал. Лицо его было мрачно, из кармана сюртука выглядывал томик Боссюэ с заложенной страницей.
А мужчина, приговоренный к смерти вместе с нами, продолжал петь:
Когда меня чрез город повезут, По приказанию Фукье-Тенвиля, Глазеть мне вслед парижский будет люд На улицах средь грохота и пыли. Как будто бы вот эта смерть моя Крепит его победную свободу, И расплачусь своею кровью я Народному неистовству в угоду.Люди, глядящие на нас, в большинство своем молчали. Революционный пыл «вязальщиц» тоже поугас, лишь некоторые выкрикивали «смерть им!», не встречая никакой поддержки в толпе. Я могла уловить даже несколько сочувствующих взглядов.
– Трогай! – приказал палач Сансон.
В этот миг у двери, из которой нас вывели, произошло движение. По ступенькам спустился один из присяжных, которого я еще раньше узнала и вспомнила как Доминика Порри, комиссара народного общества секции Социального контракта. «Ну, вот, – подумала я безучастно, – он, вероятно, решил отомстить и оскорбить меня». Но комиссар очень решительно подошел к одному из судебных агентов, окружавших телеги, и, не глядя на меня, громко произнес:
– Эта женщина беременна; я требую, чтобы она была исключена из сегодняшней партии и оставлена в Консьержери до медицинского освидетельствования.
– Что? – переспросил агент в полнейшем изумлении. – Ты требуешь отпустить роялистку, гражданин?
– Не отпустить, а отсрочить ей казнь; не следует искажать мои слова, гражданин Гребоваль. Закон Республики предоставляет ей эту отсрочку.
– И все-таки, гражданин Порри… Ты просишь за роялистку? Удивительно! Ты просишь за нее – ты, добрый патриот?
– Я лишь требую, чтобы исполнялся закон, – тихо, но твердо произнес комиссар.
У меня сердце чуть не выскочило из груди. Он просит за меня! Ну, в таком случае, он просто должен добиться своего! Было бы слишком жестоко подарить мне надежду и не довести дело до конца…
– Ты обязан был оставить эту женщину, гражданин Гребоваль, но ты пренебрег своими обязанностями.
– В наше время, – произнес сквозь зубы агент, – лучше казнить одну беременную роялистку, пренебрегая при этом обязанностями, чем вступаться за нее и прослыть скрытым заговорщиком.
– Я настаиваю на своем требовании, гражданин!
– Эй-эй, Порри! Уж не слишком ли ты печешься о враге Республики?
Неизвестно, чем закончился бы этот спор, если бы в него совершенно неожиданно не вмешался палач Сансон:
– В самом деле, гражданин! Не следует проявлять излишней жестокости… Прикажите увести бедную женщину в тюрьму. Когда я везу смертников через город, повсюду слышен ропот; повсюду им сочувствуют… Вид беременной женщины может усилить недовольство. А ну как случатся беспорядки?
Словно в подтверждение его слов, из толпы любопытных послышался ропот.
– Слишком много крови даете и слишком мало хлеба…
– Женщина, может, и виновна, но разве виновен ее ребенок?
Гребоваль с перекошенным от злобы лицом произнес:
– Надо, чтобы ее осмотрел врач. Может быть, эта роялистка нас дурачит!
– Если тебе угодно вспомнить, то я и есть врач, – сказал Доминик Порри.
Гребоваль махнул рукой, и два жандарма подошли, чтобы помочь мне спуститься.
Я повернулась к Изабелле и почувствовала, что не в силах сдержаться. Слезы хлынули у меня из глаз. Мы расставались навсегда. Я оставалась жить, она должна была погибнуть. В последний раз мы видели друг друга. Если бы я могла, я бы передала ей все свое мужество. Но мужества у меня не было: лихорадочно вспоминая все эпизоды нашей дружбы, ее верность, нежность и преданность, я задыхалась от горя, я почти теряла сознание. И в то же время жгучая ярость поднималась в груди – ярость к тем гнусным людям, убийцам, которым все мало и мало. Они… они убивали сейчас мою лучшую подругу…
– Будь я проклята, Изабелла, если когда-нибудь прощу им! Если когда-нибудь забуду то, что они сотворили! Я их так ненавижу, так… Они еще узнают нас, эти мерзкие санкюлоты!
– Эй, поскорее! – раздраженно крикнул мне жандарм.
– Поглядите, ее снимают с телеги, а она еще и не спешит!
Они грубо стащили меня вниз, оторвав от Изабеллы, отшвырнули в сторону к тюремщику. Мой взгляд по-прежнему был прикован к ней, с невыносимой мукой я видела ее искаженное лицо, ее черные глаза, полные слез.
– Трогай! – заорал судебный агент.
Телеги тронулись с места. Вереница страдальческих лиц осужденных поплыла передо мной – старых и юных, стоических и отчаявшихся… И я вдруг увидела, как шевельнулись губы Изабеллы. Она прошептала что-то, и я догадалась, что именно. Она сказала:
– Помните о своем обещании, Сюзанна!
Я нашла в себе силы лишь кивнуть в ответ. Еще мгновение – и телега скрылась за воротами. У меня перехватило дыхание. Никогда я больше ее не увижу, никогда! Это слово было страшно. И я лучше, чем кто-либо, знала его безнадежный смысл.
Мне стало так плохо, что я пошатнулась, не ощущая в себе сил стоять на ногах.
– Уведите ее в Консьержери! – приказал Порри.
Это было последнее, что я услышала. Головокружение и боль стали столь нестерпимы, что легко погасили сознание, и я словно полетела в темную бездну, даже не сопротивляясь этому ужасному полету.
Я словно плыла среди темных волн, ледяных и тяжелых, они обволакивали меня таким холодом, от которого стыла душа. Надо позвать на помощь, надо просить о спасении…
Но даже сквозь обморок я ощущала, что просить мне больше некого.
ГЛАВА ПЯТАЯ КОНСЬЕРЖЕРИ
1
В июле 1794 года тюрьмы были битком набиты, и жара стояла такая, что в камерах невозможно было дышать. Я отерла пот, выступивший на лбу, и тяжело вздохнула. Передо мной стоял завтрак – чашка молока и белый хлеб, – но эта ужасная духота отбивала охоту даже к еде. Хотелось воды, холодной, как лед… Но где ее взять?
Ко мне легкой танцующей походкой подошла соседка – креолка с Мартиники, тридцатилетняя Жозефина де Богарнэ. Я встречала эту женщину еще на островах и даже хорошо помнила ту далекую встречу. Жозефина казалась мне весьма пустой, взбалмошной и не слишком воспитанной особой, хотя я и не могла отказать ей в обаянии, привлекательности и некоторой доброте. Разведенная, многое пережившая, болтливая и уже увядающая, она тем не менее казалась мне женщиной, которой можно довериться. Вместе с ней в тюрьме были ее дети – сын и дочь; так что наше положение было почти одинаково.
– Тот красивый блондин из мужского отделения снова просит вас выйти к нему во двор, – произнесла Жозефина, обращаясь ко мне.
Сама она находила какой-то способ проникать в мужское отделение – в Консьержери мужчин и женщин содержали раздельно – и встречаться со своими любовниками. И вот так, между делом, передавала мне слова Рене Клавьера, заключенного там же.
– Спасибо, – сказала я, подавив внутреннюю дрожь. – Я буду очень благодарна вам, Жозефина, если вы скажете ему, что я больна настолько, что не могу выйти.
– Но ведь это неправда, – заметила она. – Конечно, мне нетрудно исполнить вашу просьбу, но, честно говоря, вы многое теряете, отказываясь встречаться с этим богачом.
– Почему?
– Когда все закончится, он озолотит вас.
– Когда все закончится? Если бы закончилось! Да и золото его мне ни к чему…
Я никак не могла побороть себя и встретиться с Рене, хотя, честно говоря, увидеть его я очень хотела. Мне не хватало смелости… Вот уже почти две недели, как я узнала, что он тоже в Консьержери – осужденный, ожидающий исполнения смертного приговора, но не могла заставить себя выйти к нему и на все просьбы отвечала отговорками, рискуя рассердить и оскорбить его.
У меня были причины для опасений.
Главная из них уже очень ясно обозначилась на моей талии. Я не представляла себе, как поведу себя с Рене, что скажу ему, как объясню. Смогу ли я сказать правду? Ведь я до сих пор понятия не имею, кто отец ребенка. Это было кошмарное положение, выхода из которого я не видела. Никакими усилиями мне не удастся это выяснить.
Я не знала, как говорить с Рене, я чувствовала приближение паники при одной мысли о том, что мне придется все ему объяснять.
– Этот человек любит вас, – произнесла мадам де Богарнэ. – Он так просил растолковать вам это, что мне, ей Богу, стало завидно. Почему вы отказываетесь увидеться с ним?
Я попыталась улыбнуться.
– Взгляните на меня внимательнее – я очень дурно выгляжу. Вы думаете, мне хочется, чтобы он видел меня такой?
В моих словах была доля правды. Беременность оставляла уродующие следы на фигуре; даже лицо у меня осунулось, пошло коричневыми пятнами, под глазами залегли почти черные круги. Да еще вдобавок ко всем несчастьям палач обрезал мои чудесные золотистые кудри едва ли не под самый корень – так раньше стригли только проституток.
– Вы можете надеть чепчик, – заявила мадам де Богарнэ. – Пожалейте этого вашего блондина, он так хочет видеть вас.
– Вы не сказали ему, в каком я состоянии? – спросила я с затаенным страхом.
– Разумеется, нет. Так что мне ему передать?
– Вероятно, я еще подумаю, – сказал я вздыхая.
Мне не хотелось обижать Рене. Но мой отказ увидеться с ним он непременно воспримет без всякого понимания; к тому же его, в отличие от меня, могут казнить в любой день: он приговорен к смерти, и властям может надоесть с ним морочиться. Я должна увидеть его… Но, Боже мой, как? Для такого поступка нужна смелость.
Жозефина ушла. Я втайне была рада, что осталась одна. Мне многое надо было обдумать.
– Мама, а куда мы пойдем, когда выйдем отсюда? – вдруг спросила Аврора.
– Не знаю, девочка моя, ей Богу, не знаю, – произнесла я рассеянно.
Мы обе только-только стали приходить в себя после тех страшных событий 11 и 12 мессидора. Я до сих пор вспоминала глаза Изабеллы, ее голос, прозвучавший для меня в последний раз. Все, что было потом, я помнила смутно. Похоже, меня отнесли в тюрьму, там я еще долгое время пребывала в полубеспамятстве, а рядом Доминик Порри в окружении каких-то враждебных мне людей составлял докладную записку Фукье-Тенвилю о наличии у меня всех признаков беременности. Я была словно во сне… Окончательно опомнилась уже здесь, в переполненной камере Консьержери и первым делом возблагодарила Бога за то, что совершилось чудо и у меня не случилось выкидыша.
Потом я узнала, что здесь же находится Рене Клавьер.
У нас с Авророй теперь только одно слово было на уме – ждать. Ждать, когда исполнятся предсказания Батца и Робеспьер падет, прихватив с собой весь Конвент в придачу. Но с каждым прошедшим днем – днем, который, казалось, только усилил положение Робеспьера, – мы все больше и больше сомневались в обоснованности наших надежд.
Иногда я думала о Доминике Порри, но лишь иногда. Чувство отвращения и неприязни к якобинцам было во мне так сильно, что я ощущала досаду при мысли, что якобинец мне помог. Я заставляла себя испытывать к нему благодарность, но заставить не могла, и испытывала я к Доминику лишь холодное равнодушие. Все мои душевные силы иссякли, их истощила тюрьма. Иной раз, когда отчетливо ощущалось одиночество, я думала: а зачем я так стремилась остаться живой? Что мною руководило? Инстинкт самосохранения? Ведь меня ничто не ждет в этой жизни, абсолютно ничто… Если даже террору придет конец, что я буду делать, выйдя за ворота тюрьмы? Куда пойду? Я не найду даже своего сына; он, вероятно, в Англии. Думая об этом, я понимала, что в душе у меня ничего не осталось. Порой я даже к Рене ничего не чувствовала, кроме страха встретиться с ним.
Размышляя трезво, можно было еще вспомнить о том, что не все потеряно. Можно было утешить себя, подумав, что я доселе и не жила вовсе, и все моя настоящая жизнь – впереди.
Но, Боже мой, как трудно было поверить в это, окидывая взглядом каменный мешок, куда нас заточили, и решетки на окнах.
И все-таки очень часто мне снился один и тот же сон: Эстелла де ла Тремуйль, стройная, высокая, прекрасная, словно сошедшая с давно сожженной сент-элуаской картины, касалась рукой моей щеки и говорила: «Возвращайся в Бретань, дитя мое, возвращайся!» Я мучилась, сознавая нелепость этого сна. Куда же я могла возвратиться, находясь в Консьержери?
А Рене… Вероятно, я все-таки должна повидаться с ним. Только бы Господь Бог дал мне сил выдержать его первый взгляд, а потом я уже найду что говорить!
Я волновалась не потому, что Рене увидит меня подурневшей и остриженной. Он увидит меня беременной.
Наверное, я должна буду ему солгать…
Я ни словом не упомяну о Сен-Жюсте, о своих сомнениях, не скажу ничего такого, что могло бы его расстроить или оттолкнуть от меня. Он не виноват. Мы оба приговорены к смерти, и если я имею отсрочку, то у Рене ничего такого нет. В нынешнем положении быть с ним честной означает быть жестокой. Зачем омрачать недоразумениями и неясностями наши, может быть, последние дни? Мы должны прожить их с улыбкой. У нас и так достаточно поводов для грусти. Итак, а выбираю самый приемлемый выход – я промолчу…
Да и вообще, Рене, если он любит меня, должен быть рад. От кого бы ни был ребенок, он спас мне жизнь, без него я давно была бы на том свете. Рене не может этого не понять.
Когда наступил вечер и засияли летние теплые звезды, а судебные агенты выбрали новые жертвы для гильотины, я вышла во двор Консьержери. Он был перегорожен решеткой, разделявшей женское и мужское отделения, – решеткой, впрочем, не настолько частой, чтобы не дать рукам встретиться в пожатии, а губам слиться в поцелуе. Под покровом снисходительной темноты к решетке приникали пары… Я обошла их, не зная, что мне делать, как искать…
– Сюзанна!
Я узнала этот хриплый голос, и меня бросило в дрожь. Рене стоял совсем рядом, ухватившись за прутья решетки руками; я понятия не имела, как он меня узнал в такой темноте.
Словно читая мои мысли, он произнес:
– Не удивляйтесь, я ваше приближение чувствую кожей. Мне даже не надо видеть вашего лица – от вас исходят токи, мадам. Впрочем, я, кажется, это уже говорил.
– Вы не обиделись? – прошептала я, все еще не находя мужества подойти к нему ближе.
– Ну, может быть, всего лишь слегка.
И вдруг он добавил – очень приглушенным голосом:
– Зря вы так долго размышляли. Я давно знаю, что вы беременны. Это и спасло вам жизнь, не так ли?
Я едва не задохнулась от неожиданности. Потом быстро направилась к нему. Почти на ощупь, сквозь прутья решетки, наши руки нашли друг друга; Рене притянул меня к себе и поцеловал. И я вдруг поняла: то, как нетерпеливо он ждал меня, хотел видеть, и все это тогда, когда я сидела в камере и вела себя до крайности нелепо. Мы потеряли целых четырнадцать дней.
Потом я заметила, как внимательно он разглядывает меня. Я знала, что вид у меня сейчас далеко не блестящий, но решила выдержать этот взгляд. Рене должен понимать, что к чему.
– Вы так изменились! – сказал он наконец.
– Тюрьма и беременность ни одну женщину не украсят.
Мы замолчали. Какой-то едва уловимый холодок пробежал между нами. Мне, честно говоря, было не слишком приятно то, что он вслух отметил происшедшие со мной изменения. Он, конечно, никак это не оценил, но…
Я быстро спросила, пытаясь наладить с ним отношения:
– Есть ли какая-нибудь возможность вам прийти ко мне?
– Для этого нет никаких затруднений, радость моя. Я лишь хотел, чтобы вы сами поняли, что я вам нужен.
– Еще как нужен…
Мне становилось легче уже от того, что его сильные руки меня поддерживают. Я так долго искала опору. Я так устала быть одинокой и независимой. Я без сожаления готова была расстаться со всем этим…
– Откуда вы узнали о ребенке? – проговорила я наконец, решившись нарушить молчание.
– У меня много осведомителей, – сказал Рене, и я почувствовала, что его губы улыбаются, касаясь моей щеки. – Вы же знаете, у меня есть деньги.
– И… что вы подумали, когда узнали?
Какое-то мгновение он раздумывал, и я внутренне напряглась в его объятиях.
– Я подумал, что наша встреча там, в Ла Форс, не была случайной. Ее ниспослал мне Бог… Я… я прав?
Он, такой смелый, насмешливый и решительный, сейчас не решался задать вопрос открыто и прямо. Я коснулась ладонью его щеки – шершавой, чуть небритой.
– Это ваш ребенок, Рене.
Голос у меня не дрогнул, прозвучал ровно и тихо, как и прежде.
– Верьте мне. Я клянусь вам в этом той минутой, когда впервые сказала, что люблю вас.
В тот миг я и сама не испытывала никаких сомнений. Я и сама не хотела допускать каких-то иных мыслей, иных вероятностей. Сен-Жюст? Я так ненавидела его. Нет, это безумие, у меня не может быть ребенка от Сен-Жюста. Да разве может что-нибудь родиться от этого холодного земноводного?!
Сжимая мои руки в своих, Клавьер на мгновение отстранился, заглянул мне в лицо и рассмеялся – от всего сердца, с искренней радостью в голосе.
– Да это же замечательно… Черт побери! Это просто чудесно!
Я впервые видела его таким. Для меня нынешняя ситуация была абсолютно непривычна, да еще и Рене вдруг так изменился. Как хорошо он смеется! Честное слово, мужчины очень непредсказуемы и забавны в подобные минуты, ведут себя почти как дети.
Не выдержав, я тоже засмеялась. Я уже и сама забыла, как звучит мой смех, но, засмеявшись, поняла, что смеяться не разучилась. Рене наклонился ко мне, взял мое лицо в ладони, жарко, коротко поцеловал в губы.
– Сюзанна, сокровище мое, вы не могли мне сделать лучшего подарка!
Я не знала, что и сказать. Я ведь не ожидала, что он до такой степени будет рад и взволнован. Лишь бы мне не пришлось признаться ему в своих сомнениях!
– Мы выйдем отсюда, Сюзанна. У меня есть некоторые сведения из Комитета, там очень неспокойно. Я верну себе свое состояние, у нашего ребенка будет все, что только он захочет…
Я мягко зажала ему рот рукой:
– Не надо, Рене, ради Бога, не надо. Если нас действительно ждут свобода и счастье, не говорите о них, чтобы не спугнуть.
– Вы не должны сомневаться. Все будет именно так, как я сказал.
– Я хочу этого больше всего на свете.
Приближался час, когда тюремщики запирают камеры на ночь. Я вопросительно взглянула на Клавьера.
– Я проведу вас, моя дорогая.
Для него не составляло труда сунуть тюремщику несколько су и получить право проводить меня. Мы пошли рядом, и меня удивило, как заботливо он меня поддерживал, словно я вдруг стала необыкновенно хрупкой.
– Рене, я вовсе не больна, вы не должны так беспокоиться! – шепнула я ему.
Он снова засмеялся – тихо и радостно:
– Ну конечно, я веду себя немного нелепо. Что поделаешь – я еще никогда не чувствовал себя отцом!
Помолчав, он добавил:
– Надо же, матерью моего ребенка будет принцесса, аристократка! Честно говоря, двадцать лет назад, будучи грузчиком в английских доках, я мечтал о многом, но только не об этом!
– Рене, давайте, наконец, забудем обо всех этих различиях, – проговорила я, пытаясь скрыть, что торжество в его словах меня неприятно поразило. Да и напоминание о том, что Клавьер был грузчиком, тоже не привело меня в восторг.
– Забыть? Ну уж нет. Это конец всей моей борьбы с аристократией, конец этого вечного спора. Аристократка любит меня, аристократка ждет от меня ребенка и станет моей женой – могу ли я, буржуа, забыть об этом?
Я молчала. Тогда он спросил более требовательно:
– Вы ведь станете мадам Клавьер, не так ли?
Когда дело касалось его гордости буржуа, он становился упрямым и твердым, как скала. Я поежилась, словно от холода… «Мадам Клавьер»! Что-то в этом имени помимо моей воли оскорбило меня. Быть мадам Д'Энен де Сен-Клер – и стать просто мадам Клавьер! Это звучало как имя прачки.
– Нам надо сначала выйти отсюда, – проговорила я.
– Ах вот как! – сказал он холодно. – Стало быть, спор еще не кончен, пари не выиграно?
– Спор? Пари? – переспросила я упавшим голосом, почувствовав, что меня воспринимают как какой-то приз. – Неужели именно это для вас главное в наших отношениях?
– Главнее, чем вы думаете, ваше светлейшее сиятельство.
Это был язвительный ответ. Я умолкла. Он ждал, когда я соглашусь выйти за него замуж. И я была согласна, я просто не видела другого выхода. Да и что значили все эти предрассудки по сравнению с возможностью быть защищенной, любимой и обеспеченной? Но меня мучил вопрос: а почему он хочет на мне жениться? Хочет настолько сильно, что моя уклончивость задевает его за живое? О любви он сейчас не говорил. Что же им, в таком случае, движет? Желание присовокупить к своему богатству немного аристократического блеска? Желание отомстить мне за ту давнишнюю холодность, сделав меня мадам Клавьер? Желание выиграть пари, на моем примере доказать аристократии ее несостоятельность? Нет, такого брака я не хотела. Такой брак будет для Клавьера лишь средством постоянного торжества надо мной.
Видимо, подумала я с горечью, он очень страдал при Старом порядке, не имея титула и чувствуя себя человеком второго сорта, ущербным гражданином Франции, не обладающим полнотой прав. Вот почему он так гнался за деньгами, сказочным богатством, независимостью – все это играло лишь роль возмещения. Он скрывал свои чувства. Его насмешки над аристократами – это, в сущности, его боль и обида… Именно эти чувства не позволяют Рене любить меня спокойно, ровно, без всякой мстительности, без желания утвердить и подчеркнуть свою победу. Свой выигрыш.
«Да любит ли он меня?» – подумала я вдруг.
– Рене… – прошептала я едва слышно.
– Что?
– Мне нужно идти. Я очень устала.
Это были последние слова, которыми мы обменялись в тот вечер.
И я так и не дала ему согласия.
2
Несколько дней спустя, выйдя во двор Консьержери постирать белье, я заметила, что за мной кто-то наблюдает. На мужской половине находился человек, которого я с легкостью узнала, – дородный, румяный, крепкий, как булочник. Это был Доминик Порри.
На нем уже не было трехцветного шарфа и трехцветной перевязи, и он явно уже не был комиссаром народного общества секции Социального контракта. Он сидел в Консьержери, он, как и я, был брошен за решетку, «Из-за меня», – сразу решила я.
Но даже встретившись с ним глазами и понимая, что он меня узнал, я не испытала ровным счетом ничего. Даже чувства вины или благодарности. Может быть, у меня душа и вправду стала черствой, словно камень, поскольку я сознавала, что живу лишь благодаря вмешательству Порри, но никакой признательности к нему не чувствовала и выражать ее не хотела. И, подозревая, что Доминик очутился здесь за то, что заступился за меня, я не желала себя винить. Мне было все равно.
И даже не укоряя себя за подобное жестокосердие, я приказала себе выбросить из головы все мысли о новом заключенном.
Каждый вечер ко мне приходил Рене и оставался у меня часа на два, пользуясь снисходительностью тюремщика. У Клавьера и в тюрьме были деньги, и я уже ни в чем не нуждалась. Я имела возможность есть почти все, что захочу: жена тюремщика, щедро оплачиваемая деньгами Рене, специально для меня ходила на рынок. Начальство Консьержери, тоже живущее за счет взяток, закрывало на это глаза.
Но мои отношения с Клавьером складывались совсем не так, как следовало бы.
Я полагала, это происходит из-за невыясненности вопроса о браке. Мои отговорки просто бесили его. Он так часто раздражался, что я иной раз опасалась с ним разговаривать. Это было похоже на шантаж: скажи я «да», и он всегда будет в хорошем настроении… Но решиться на утвердительный ответ мне было трудно. Очень трудно. Я все размышляла, вспоминала предсказания Жака Казота, говорила себе, что это, видно, моя судьба – стать женой буржуа и что нет в этом ничего ужасного… но всякий раз мои мысли наталкивались на воспоминание об отце, и я останавливалась, словно моим размышлениям преграждала путь ледяная скала. Отец, Мария Антуанетта, Людовик XVI, Изабелла… Это были люди, мнением которых я дорожила больше всего на свете. Не приходилось сомневаться, что все они – все четверо – были бы против того, чтобы я стала мадам Клавьер. Изабелла была бы не против связи, но возражала бы против брака. А ведь она из этой четверки понимала меня лучше всего. Остальные просто презирали бы меня.
Мне трудно было переступить через свое прошлое. Возможно, если бы Клавьер понимал меня, я бы меньше нервничала. Но я видела, что он догадывается о моих сомнениях, что это его злит… и принять решение казалось мне все более затруднительным. Я не хотела уступать под давлением. Мы часто ссорились, а даже когда и не ссорились, вопрос брака все время довлел над нами, и мы не могли нормально разговаривать.
Да, а иногда во время встречи мы вдруг умолкали, и я с неловкостью сознавала, что нам просто не о чем говорить. Раньше я ничего подобного не замечала; мы встречались с Рене очень редко. Теперь, когда встречи происходили каждый день, я столкнулась с тем, что между нами мало общего. Возможно, мы еще плохо знали друг друга.
А еще он поглядывал на других женщин. Не демонстративно, конечно, и только тогда, когда думал, что я этого не вижу. В женском отделении было много женщин, которые охотно улыбались привлекательному холостому банкиру, и он тоже не отказывался от того, чтобы проводить их взглядом. Ревниво наблюдая, я заметила среди них одну особенно настойчивую девушку. Она была белокурая, стройная, видимо, длинноногая, и улыбалась просто ослепительно. У меня ныло сердце, когда я смотрела на нее, и в душу закрадывалась обида.
Я не показывала этого, но Рене сам все усугублял. С его губ нередко срывались слова о том, что та одежда, которая на мне, – она совсем мне не подходит, и он иногда смотрел на меня так пристально, что самим этим взглядом убеждал в том, что я уже не столь восхитительна, как прежде. Может быть, он и не хотел ничего дурного. Но, говоря о моем платье, он тем самым давал понять, что я плохо одета и скверно выгляжу.
Я и сама знала, что стала сейчас другой. Я не была похожа на Сюзанну образца 1790 года. Но я бы надела другое платье, если бы оно у меня было. И в то же время я понимала, что никакое платье не способно сделать меня нынче стройной. Никакое платье не придаст моей походке легкость и не сотрет следов беременности с лица. Я лишилась даже своих длинных волос, и они еще нескоро отрастут. Я пыталась спокойно относиться к этому, но, не встречая поддержки, стала мучительно переживать каждую нашу встречу. Ни с кем из красивых женщин, что были в Консьержери, я сейчас соперничать не могла. Сравнение было бы не в мою пользу.
Впрочем… Другие заботы поглощали меня больше, чем все эти недоразумения. С тех пор как пошел шестой месяц беременности, ребенок стал вести себя все хуже и хуже. Тошноты и рвоты, вопреки ожиданиям, не прекращались, а головокружения мучили меня теперь целыми днями. Вдобавок ко всему однажды вечером я с ужасом заметила, как отекли у меня ноги. Такие же отеки я заметила на пояснице и на руках, а что касается лица – то я сама себя не узнавала, таким оно стало одутловатым. По совету знающих женщин я теперь не ела ни единой крупинки соли, чтобы отеки стали меньше, но из-за этого у меня совсем пропал аппетит.
Кроме того, этот ребенок рос словно на дрожжах. Никогда раньше ничего подобного не случалось. И тогда я впервые подумала о том, что их, возможно, двое.
Я держала эту мысль пока при себе, но меня невольно разбирало любопытство. Какие они, если их двое? Может, два чудесных черноглазых мальчика, похожих на меня? Возможно, это мальчик и девочка вместе, и тогда это вообще венец всех неожиданностей.
Они – если это были они – уже отчетливо шевелились, не причиняя, впрочем, мне боли, и я понемногу стала ловить себя на мысли, что начинаю чувствовать к ним уже не равнодушие или досаду, а что-то очень похожее на нежность.
3
– Вы слышали? Робеспьер арестован!
Этот возглас, невесть откуда раздавшийся, ошеломил меня, как гром среди ясного неба. Потрясенная до глубины души, я поднялась с постели. Все силы во мне словно застыли в ожидании.
В ожидании правды. Да или нет? Действительно ли я слышала, что…
– Робеспьер в Люксембургской тюрьме! Конвент издал декрет об его аресте!
Никакими словами нельзя описать того, что произошло в Консьержери. Словно могучий взрыв потряс эти древние каменные своды – настолько невообразимым и мощным было ликование. Заключенные вскочили с коек и стульев; одни ринулись во двор, у других от неожиданности чуть ли не отнялись ноги. Слезы стояли в глазах у женщин. Некоторые просто падали на колени и молились – в экстазе, горячо и страстно; молились за то, чтобы новость оказалась правдой, чтобы те люди, которые отправились сегодня утром в Трибунал, стали последними жертвами гильотины или вообще не стали ими.
Я не знала, что мне делать; словно какая-то лихорадка, полубезумие охватили меня, исчезли все мысли, кроме исступленной, неистовой радости. Потом меня словно пронзило: «Надо найти Рене! Надо сказать ему! Надо порадоваться вместе!»
Волна неудержимого счастья нахлынула на меня, когда я брела по коридору. От потрясения ноги у меня подкашивались, я хваталась за стены, чтобы не опуститься в изнеможении на пол. Улыбка была у меня на губах – настоящая счастливая улыбка…
– Мама! Мама! Постой!
Аврора бежала за мной, ее голос звенел под мрачными сводами.
– Мама, Робеспьера схватили! И его друзей тоже! Ты уже знаешь?
Возможно ли было не знать этого сейчас, когда даже стены тюрьмы, казалось, дрожали от радости? Я кожей почувствовала, как сползают с меня оковы рабства и ужаса, сковывавшие меня уже несколько лет. Я чувствовала невероятное облегчение, будто с меня сняли целую гору тяжести. Я становилась свободной, я больше не боялась!
Те же самые чувства, может быть, еще не осознанные, я увидела и в огромных глазах Авроры. Нервная дрожь пробежала по моему телу; я упала на колени, привлекла девочку к себе, жарко обняла. Слезы хлынули у меня из глаз. И смеялась, и плакала, и задыхалась от счастья.
– Мы будем жить! Жить! Понимаешь ли ты это, Аврора? Не будет больше страха, гильотины, Трибунала! О Боже, Пресвятая Дева Мария!
Я столько месяцев мечтала об этом событии! Я провела в тюрьмах сто восемьдесят шесть дней, и не было, такой минуты, когда бы я не пожелала Робеспьеру гибели!
А она была так близко… О, если бы мы знали это раньше! Но раньше никто не мог даже подумать, что все случится так скоро. Достаточно вспомнить грандиозный праздник Верховного существа – он был совсем недавно, – когда весь Париж кричал «Да здравствует Робеспьер!» и осыпал этого тщедушного маньяка цветами. Теперь можно было не сомневаться, что, если Робеспьера повезут на плаху, те же самые люди будут выкрикивать: «Смерть тирану!»
– Мы будем жить, – снова прошептала я, наслаждаясь каждым словом.
Может быть, только сейчас я полностью осознала желание всего моего существа жить и радоваться жизни. У меня был огромный запас сил, энергии, здоровья, жизнерадостности. Просто все это на время замерзло где-то в глубинах сердца.
– Мы не только будем жить, – заметила Аврора, – мы еще и выйдем из этой проклятой тюрьмы. Вот тогда будет настоящая жизнь!
Я посмотрела на нее, и слезы высохли у меня на глазах!
– Ты права, Аврора. Девочка моя, как же ты права!
Я оставила ее и поспешила к выходу. Мне надо было повидаться с Рене. Я еще ничего не знала конкретно и была уверена, что он знает о случившемся гораздо больше.
У решетки стоял Рене; он говорил с какими-то другими мужчинами, но нетерпеливо поджидал меня. Это я видела.
– Ну? – только и смогла выдохнуть я, когда наши пальцы сплелись воедино через прутья решетки. Всем существом я жадно желала услышать ответ.
– Это правда, Сюзанна, правдивее не бывает! С двух часов дня он находится в Люксембурге. Сведения пока отрывочны, но, вероятно, через некоторое время я буду осведомлен обо всем точнее.
Он быстро привлек меня к себе. Мы поцеловались.
– Как хорошо видеть, что вы улыбаетесь, моя дорогая! Я устал видеть вас мрачной.
– Боже мой, Боже мой! – прошептала я, вся сияя. – Мы скоро будем свободны, не правда ли?
– Несомненно! Вы оживете, поправитесь, похорошеете… и всегда будете светиться от счастья, как сейчас.
– И ребенок родится не здесь, не в тюрьме! Матерь Божья! Я об этом даже мечтать не смела!
Я приникла к Рене так близко, как это было возможно. Как раз в это мгновение ребенок шевельнулся, забеспокоился у меня внутри; таинственно и радостно улыбаясь, я взяла руку Рене и приложила ее к животу.
– Слышите?
– Он силен! – сказал Рене с приятно поразившей меня гордостью. – Кто бы мог подумать… Вы чудовище, Сюзанна, вы сказали мне о нем слишком поздно!
– Это, вероятно, не он, – проговорила я смеясь.
– Не он? Вы, может быть, хотите сказать, что это девочка? Нет, девочки не бывают такими сильными.
– Я хочу сказать, что их, наверное, двое, – шепнула я, прижимаясь щекой к его груди и проклиная при этом железные прутья решетки. – Это близнецы, вот как!
Какой-то миг он изумленно смотрел на меня.
– Значит, два мальчика? А откуда вы знаете?
– Я просто догадываюсь. Живот очень велик и…
– Надо же! – произнес он, прерывая меня. – Два мальчика! Сюрприз за сюрпризом!
– Может, и две девочки! – перебила я его, чувствуя себя слегка ущемленной этим мужским эгоизмом и желая напомнить Рене о существовании женского пола. – Им тоже следует радоваться!
– Нет, это мальчики, – уверил он меня с самым счастливым видом. – Вот увидите, сами увидите!
Он был так убежден, что я и сама свыклась с этой мыслью.
– Черт, только об одном я сейчас жалею!
– О чем же? – осведомилась я.
– Что не могу сейчас же жениться на вас! Чертовски хотелось бы, чтобы эти сорванцы поскорее получили мое имя!
Он умолк, испытующе взглянул на меня:
– А вы, Сюзанна?
– Что?
– Вы хотели бы?
И я неожиданно для самой себя произнесла:
– Да.
4
Робеспьер был свергнут утром 9 термидора. С этого дня должен был начаться отсчет моей новой жизни.
Утром 9 термидора прежде покорный Конвент восстал против Неподкупного, Сен-Жюста и Кутона. Зал бушевал так, что триумвиры были бессильны что-либо сделать. Депутаты, прежде ползавшие перед Робеспьером, теперь дружно обличали «насилия тирана». Тиран, не желавший верить в очевидное, пытался протестовать и сорвал себе голос. Открытым голосованием Конвент принял декрет об аресте робеспьеристов. Зал взорвался аплодисментами.
– Граждане, – заявил один из организаторов всего случившегося, – поздравляю вас, вы спасли родину…
Но торжествовать победу было рано. Робеспьеристы, посаженные в тюрьму в два часа дня, уже в шесть часов вечера были освобождены чиновниками Коммуны. Чаша весов заколебалась. Вокруг Ратуши собирались люди, верные Робеспьеру. Депутаты, узнав об этом, полагали, что единственное, что им остается, – это умереть на своем посту. Были слухи о том, что сторонники Робеспьера движутся на Конвент и что у них есть пушки.
Но Робеспьер был трус; привыкнув к тайной, скрытой войне, к интригам и козням, он, даже видя сплотившихся вокруг него вооруженных людей, не решался на открытый поход против Конвента. Час проходил за часом, к ночи начался дождь, и люди стали расходиться. Когда в полночь командующий гвардией Анрио спустился на площадь и стал уговаривать артиллеристов подождать, его уже никто не слушал. Еще полчаса – и площадь опустела.
Между тем Конвент спохватился и объявил робеспьеристов вне закона; эмиссары разнесли этот декрет по всему Парижу. Через некоторое время все было кончено. Отряды Конвента ворвались в Ратушу. Робеспьер пытался покончить с собой, но не умел стрелять и смог лишь прострелить себе челюсть, чем увеличил свои страдания. Парализованного Кутона швырнули с лестницы. Некоторые робеспьеристы покончили с собой; Анрио стал панически кричать «Мы пропали!», и разъяренный могучий Коффиналь, преданный Робеспьеру, схватил командующего гвардией в охапку и вышвырнул за окно… Разгром был полный. Робеспьеристы оказались побежденными, даже не вступив в бой. И еще целую ночь жандармы преследовали и ловили разбежавшихся инсургентов по всему Парижу.
10 термидора вечером Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и девятнадцать их приверженцев были гильотинированы без суда. Народа собралось множество. Давно уже ни одна казнь не вызывала такого интереса и такой радости. Глядя на смертников, люди хохотали, издевались, строили рожи. Мелькали сотни улыбающихся лиц, окна домов были широко раскрыты. К жертвам, которых ждал нож гильотины, ни у кого не чувствовалось ни малейшего проблеска жалости, наоборот, их жуткий вид повсюду возбуждал жестокий восторг.
На следующий день казнили семьдесят одного человека – последних помощников Робеспьера. С террором было покончено.
После этих термидорианских казней стали освобождаться тюрьмы. Не было больше ежевечерних вызовов в Трибунал, да и сам состав Трибунала был вскорости почти весь арестован. Был отменен страшный прериальский закон, и каждый, кто раньше со дня на день ждал смерти, теперь вздохнул свободно.
Консьержери лихорадило. Все ожидали скорого освобождения. Люди смеялись, поздравляли друг друга, некоторые несколько раз в день перепаковывали свои нехитрые пожитки, будто приказ об освобождении уже был подписан. Всеми овладело радостное возбуждение, все хотели жить, радоваться, улыбаться и все были необыкновенно любезны друг с другом. В те дни никто не хотел причинять ближнему своему даже малейших неприятностей.
Девятое термидора. Что касается меня, то мне этот день принес не только облегчение и надежду, но и поставил перед необходимостью быть честной.
Смерть нам больше не угрожала. Я должна была сказать правду.
5
Я открыла глаза. Низкий каменный свод нависал надо мной. Сквозь узкое, забранное решеткой окно пробивался солнечный свет, оставляя светлую полосу под самым потолком. Наступило воскресенье.
«Ну, вот, – подумала я. – Вот и пришел этот день».
Сегодня я решила признаться Клавьеру в своих сомнениях.
И, едва я вспомнила об этом, смутное предчувствие беды охватило меня. Очень тревожно стало на душе. Я тяжело вздохнула. Нынешнее мое настроение было резким диссонансом по сравнению с тем, как я жила все время после 9 термидора. В целом я была счастлива. Я верила, что жизнь вознаградит меня за горькие утраты, которые я познала во время революции. Я жила, так сказать, своим счастливым будущим, и крайне болезненно воспринимала все, что могло бы это будущее изменить.
Может быть, лучше вообще отказаться от этого разговора? Он казался мне тем труднее, что раньше я много лгала. Я уверяла Рене, что только он один может быть отцом, только он один и никто другой. Что поделаешь, тогда я думала, что мы погибнем. Теперь обстоятельства изменились, и моя ложь, которую я считала ложью во спасение, обращалась против меня, затрудняла мне задачу. Кроме того, меня удерживал страх, боязнь потерять Рене. Мне казалось, если он уйдет, я просто умру – до того я стану беспомощна. Я боялась жизни без него. Я боялась жить без поддержки.
Но тянуть было больше нельзя.
Если я хочу начать сначала, с чистого листа, нельзя замешивать фундамент новой жизни на лжи или сомнениях, иначе все сразу пойдет наперекосяк. Я это знала по опыту. Ложь – это как подводные камни… На них наталкиваешься именно тогда, когда считаешь, что полностью обезопасил себя. Я хотела, чтобы в моем будущем никаких подводных камней не было.
…Мы встретились вечером, у фонтана. Он подошел неслышно, взял мою руку и порывисто поцеловал ее.
– Как вы себя чувствуете, Сюзанна?
Мне этот вопрос не показался слишком важным. Я сразу сказала:
– Рене, я хочу поговорить с вами.
– О чем?
– О детях, – неопределенно сказала я, оттягивая тот момент, когда надо будет начать рассказывать.
– Чудесно. О наших малышах я готов слушать сколько угодно.
– Нет, вы не поняли… то есть не совсем поняли.
– Чего я не понял?
Я шумно вздохнула. Потом быстро сказала:
– Послушайте меня. Надо… чтобы вы знали об этом.
Страх, который я испытывала, вдруг исчез, уступив место какой-то холодной, странной решимости. Я решила говорить, а там будь что будет. Внутри у меня словно все замерло, сжалось – до тех пор, пока эта напряженность не разрешится.
Пока я говорила, я не смотрела на Рене, но и не волновалась. Можно было ожидать, что рассказ мой получится сбивчивым и путаным, но, вопреки ожиданиям, я говорила ясно и твердо. Воспоминания сейчас не причиняли мне боли. Я знала, что отомщена. Сен-Жюст уже давно в аду. А остальное… о, я так надеялась на свое будущее, что уже не хотела испытывать никаких страданий по поводу прошлого.
– Рене, в этом нет никакой моей вины, я готова поклясться чем угодно. Можно винить только революцию и судьбу. Так получилось. И я…
Я остановилась, впервые решившись поглядеть на Клавьера. Он усмехался. Это так поразило меня, что я на миг растеряла все слова. Между нами повисла тишина – напряженная, гнетущая, как затишье перед грозой.
– Что это с вами? – проговорила я через силу.
Он взглянул на меня все с той же горькой усмешкой, и гнев полыхнул в его глазах.
– Вы готовы поклясться чем угодно, не так ли?
– Да.
– Вот именно. Чем угодно! Я вспомнил одну такую вашу клятву. «Это ваш ребенок, Рене, я клянусь вам в этом той минутой, когда впервые сказала, что люблю вас!» Замечательно… Отличное умение понапрасну сотрясать воздух.
Я молчала, подавленная его словами. Его упреки были справедливы, тогда я действительно выразилась неудачно. Зря я так сказала. Но в то время я меньше всего задумывалась над точностью выражений!
– Послушайте, тогда я не могла признаться…
– А теперь смогли? Почему же? Какая разница между тем днем и этим?
– Рене, вы должны мне верить. Это единственное, о чем я вас прошу!
– Черт побери! Почему это я «должен»?
– Что? – спросила я, совершенно сбитая с толку.
– Почему я должен верить? Вы мне столько дней врали, теперь признались и уверяете, что сказали правду, и я должен верить! Ваше сиятельство, а уж не слишком ли многого вы требуете от простого буржуа?!
Это возмутило меня до глубины души.
– Я не требую ничего невозможного. Вы говорили, что любите меня, стало быть, должны верить. Из-за беременности я осталась жива – почему вы это упускаете из виду? Какая разница, от кого дети, если они спасли мне жизнь?
– Знаете, мадам, это не тот аргумент, который следует употреблять в разговоре со мной.
Я хотела возразить, но он вдруг поднялся, сунул руки в карманы и на миг отвернулся от меня. Когда повернулся и посмотрел, на лице его была кривая улыбка.
– Я всегда говорил, что вы поразительная женщина. Вас даже ни с кем не сравнишь. Мало того, что вы морочили мне голову и не желали опускаться до брака со мной, вы еще и сообщаете, что ребенок вовсе не от меня.
– Опускаться до брака? – переспросила я. – Что за выдумки! Ничего подобного я вам не говорила. Я просто долго принимала решение и теперь…
– О, теперь! Ну, разумеется! Теперь-то вы, может, и скажете дураку Клавьеру «да». Денег у вас нет и жить вам не на что. Титул трудно продать, не так ли? Благодарю за честь, мадам… Черт возьми! Неужели вы думаете, что я повешу себе на шею вас и чужого ублюдка?!
– Он не чужой, вы вполне можете быть его…
Я осеклась, осознав до конца то, что он говорил. Я чувствовала, что разговор перешел ту границу, когда я еще не ощущала себя оскорбленной. Он забывался, этот Клавьер… Я не испытывала гнева, но обида разрасталась в груди. За что он меня винит? Я, можно сказать, чиста, как слеза! Все вокруг только тем и были заняты, чтобы запятнать меня!
– Послушайте, Рене Клавьер, – сказала я сухо и тоже поднялась, – при всем желании я не могу припомнить случая, когда бы я вешалась вам на шею. Если вы будете честным, то поймете, что дело все эти годы обстояло как раз наоборот.
– Несомненно. Это ваш способ кокетства – враждебность. Именно так вы меня и поймали. Милая моя, я прихожу к выводу, что здесь, в Консьержери, вы ершились только для того, чтобы набить себе цену, чтобы продать подороже то, что уже давно не так ценно, как прежде, и эти ваши выкрутасы с согласием на брак тоже имели лишь одну цель – заставить меня подороже ценить вас. Всегда дороже ценишь то, что трудно досталось, не так ли?
Я не до конца понимала, что он имеет в виду и что значит его намек на то, что я уже не та, что прежде… Меня поразили сами слова, которые он употреблял: «цена», «дорого», «подороже»…
– Вы говорите, как барышник в лавке, – произнесла я с отвращением. – Но, в отличие от вас, ни я, ни мой отец в приказчиках не служили, и я не понимаю, как можно отмерять какую-либо цену чувствам.
Он ответил в ту же минуту:
– Дорогая моя, насмешками меня не возьмешь. Я давно знаю, что куда лучше откровенно покупать и продавать, чем изображать честность, а втайне продаваться.
– По-видимому, – сказала я горько и язвительно, – исходя из этих корыстных соображений, я и сделала свое признание – именно для того, чтобы быть осыпанной вашим золотом.
Он что-то ответил, но я прослушала его слова. Я была осенена внезапной разгадкой того, что происходят. Я взглянула в глаза правде. Он не пытался понять меня, поверить мне – об этом и речи не было. Дело обстояло как раз наоборот. Он не желал возвращаться в мирное русло, упорно избегал этого, он сжигал все мосты. Он даже подстегивал меня в этой ссоре, нарочно подстегивал!
Вывод был один: я ему не нужна. Я стала не та, что прежде. Сейчас я лишена шика, блеска, очарования, независимости, которая так возбуждала его когда-то. Теперь меня уже не нужно завоевывать. Я уже завоевана, привязана к нему, мне некуда идти, у меня лишь одна надежда – на него… И ему стало скучно. Я уже не привлекаю его. Что это за любовь – с бледной, грустной, вялой женщиной? Никакого азарта, никакого опьянения борьбы!
Он хотел развязаться со мной. Но так, чтобы в разрыве была виновата я. Если мои догадки правильны, я знала, какое жестокое меня ждет разочарование.
Я попыталась взять себя в руки, но бежать от правды не хотела. Надо убедиться. Надо проверить: права я или все выдумала… И я сказала – не потому, что считала это уместным доводом, а потому, что хотела спровоцировать Клавьера на ответ:
– Задумайтесь еще раз, Рене. Кто отец ребенка – это лишь одна сторона вопроса. Ребенок, чей бы он ни был, спас мне жизнь! Неужели это не имеет никакого значения?
Он окинул меня пристальным холодным взглядом. Не до конца зная меня, он, может быть, допускал, что я буду просить, что ради возможности быть с ним поступлюсь достоинством.
– Ничем, кроме ребенка, вы не могли бы меня теперь привлечь. Ребенок не мой, стало быть, вопрос на этом закрыт.
Это было жестоко. Я ощутила, как кровь отхлынула от сердца. У меня еще хватило мужества напомнить:
– Вы забываете, что с такой же вероятностью это может быть и ваш ребенок, сударь.
– Оставьте меня в покое! – взорвался он. – Рекомендую вам поискать отца для своего ребенка в другом месте, мне все это осточертело! На этом наше пари закончено, точка, мадам, финал, вы понимаете это?!
Я понимала. Я поняла это еще за десять минут до его слов. Но меня просто-таки обожгло раздражение в его голосе и презрение во взгляде, которым он окидывал меня. Один раз он уже смотрел на меня так… когда-то давно, возле театра «Комеди Франсез», когда меня стошнило. Меня словно хлестнули кнутом, Я сделала то, чего сама от себя не ожидала.
Я рывком подалась к нему и плюнула ему в лицо.
Да, плюнула. Я сама не знала, как это получилось. Это было как мгновенное сумасшествие. Я поняла, что сделала, когда оказалась в прохладном коридоре женского отделения.
Надо было ударить, закатить ему пощечину, а не плеваться… Как только он вытерпел это. Впрочем, что мне за дело до него? Пропади он пропадом! Да и было бы кого бить – какой-то мерзкий приказчик…
«Подонок», – подумала я, и мне стало немного легче.
Я остановилась, прислонилась к стене. Ноги у меня дрожали, голова шла кругом.
– Боже мой, – прошептала я, – до какой степени я была глупа.
В этот миг один из малышей так сильно шевельнулся во мне, что я не сдержала возгласа боли. Ну вот, и они тоже… Тоже делают мне больно, как и их отец. Кто бы он ни был, он был подонок. Слезы выступили у меня на глазах; прижавшись лбом к холодной стене, я зарыдала.
– Нет, – пробормотала я сквозь слезы, – вы мои. Только мои малыши. Вы не того и не другого. Вы спасли мне жизнь. И если это не интересует его, то это интересует меня, и за то, что вы меня спасли, я буду вас очень любить. Наперекор ему…
Злой смех разобрал меня. Я и плакала, и смеялась одновременно, уязвленная до глубины души тем, как была глупа и доверчива раньше. Нет, на этом точка. Финал, как сказал он. Я больше ни одного мужчину и знать не желаю…
Я зарыдала сильнее, пребывая в настоящей истерике.
Один Бог знал, как мне было больно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ДЕНЬ СВЯТОЙ ВЕРОНИКИ
1
Клавьер вышел из тюрьмы спустя два дня. За это время он успел устроить несколько спектаклей, публично появляясь в обнимку с длинноногой белокурой красавицей, которую я заметила раньше. Консьержери они покинули вместе. Тому, что Клавьер освобожден, я была только рада, ибо теперь, выходя в тюремный двор, я уже не боялась, что увижу его.
К середине сентября как-то мало-помалу я свыклась с мыслью, что осталась одна и что напрасно будет ждать освобождения оттуда, откуда я его ждала. Дни шли, а оно не приходило. И я постепенно, без какой-то особой боли поняла: оно и не придет.
Раньше у меня были надежды; я знала, что меня ждет, когда я выйду из Консьержери. Если иметь в виду вопросы чисто материальные, то и это я знала: они будут разрешены. И я, и мои мальчики – я бессознательно пребывала в уверенности, что мои близнецы – мальчики – не будем обеспокоены мыслями о хлебе насущном. Ну, а если иметь в виду спокойствие душевное, то на него я надеялась не меньше. Рене мог быть опорой, сильным плечом.
И вот он ушел. Словно почву выбили у меня из-под ног – настолько его уход был жесток, внезапен и бесповоротен.
Мы с Авророй продолжали жить, как и раньше, за исключением, может быть, того, что теперь от Батца не поступало ни единого су, и мы почти полностью перешли на тюремный рацион. Бывало, что некоторые жалостливые заключенные, имеющие кое-какие деньги и наблюдавшие наше плачевное положение, делились со мной едой, угощали кофе. На этом все и заканчивалось.
Дни шли за днями, и тюрьма медленно пустела. В нашей камере остались только я да Аврора. Время тянулось крайне медленно, никаких изменений не происходило. Иногда, правда, во мне воскресала надежда. Не мог же Клавьер быть таким окончательным подлецом! Неужели он ничем не поможет мне? Ему ведь ничего не стоит добиться моего освобождения – хотя бы ради детей, ведь должен же он допускать, что это могут быть и его дети…
Я сама ругала себя за эти надежды. Я старалась не думать о Клавьере, вообще не думать ни о чем, что было связано с ним. Как сомнамбула, совершенно машинально, выполняла я все необходимые дела: стирала белье, подметала пол, причесывала Аврору, мыла посуду у фонтана, а вечером, как можно раньше, ложилась и спала – тяжело, беспробудно и долго, чтобы во сне убить как можно больше времени. Мне ничего не снилось, и сон был словно забытье. Зато наяву мне стали мерещиться галлюцинации: будто из тумана выплывала Эстелла де ла Тремуйль, затянутая в серебряную парчу, и упрямо повторяла одни и те же слова: «Возвращайся в Бретань, дитя мое! Послушай меня, возвращайся!» Я подносила руку ко лбу: видение исчезало. Что это было? Помешательство?
– Так и сделаю, – тупо пробормотала я в конце концов, – как только выйду отсюда, сразу уеду в Бретань…
Видит Бог, мне больше некуда было ехать.
Числа десятого сентября 1794 года Доминик Порри, с которым я изредка обменивалась приветствиями и несколькими словами, махнул мне рукой, словно хотел, чтобы я подошла к решетке. Я так и поступила, даже не удивившись столь неожиданной просьбе.
– Завтра меня выпускают, – сказал он, точно полагал, что это имеет для меня значение.
– Очень рада, – произнесла я без всякого выражения.
– Я… я хотел сказать, что знаком с Лежандром.
Я молча и равнодушно смотрела на него. Названное им имя ничего мне не говорило, да и вообще мне было все равно, с кем он там знаком. Я не понимала, каким образом это касается меня. Внимательно глядя на Порри, я подумала совершенно некстати: как этому упитанному человеку удается сохранить свою дородность даже в Консьержери?
– Я понятия не имею, о ком вы говорите, – сказала я наконец.
– Лежандр – это якобинец, член Конвента. Он бывший мясник, я знал его еще при Старом режиме, когда сам был врачом…
– Вот как, – произнесла я холодно.
Право же, хорошенькая компания – бывшие мясник и врач. Один теперь в тюрьме, другой в Конвенте. Потрясающе.
Я заметила, что мой отсутствующий взгляд действует на Доминика весьма охлаждающе и затягивает разговор. Желая покончить с этим, я задала наводящий вопрос, проявляя минимум интереса к беседе:
– И что же?
– Лежандр занимается сейчас освобождениями из тюрем. Это благодаря его ходатайству меня завтра выпустят. Я хочу… хочу, чтобы он сделал это и для вас.
Теперь мне все стало понятно. Порри, добрая душа, хочет похлопотать, чтобы меня выпустили. Отлично. Но, к несчастью, это ничуть меня не воодушевило.
– Да, – сказала я невнятно.
– Что это за «да»?
– Да, мне будет очень приятно, если вы за меня похлопочете. Я буду вам очень благодарна.
Как я ни старалась вести себя вежливо, тон у меня был почти сердитый. Ужасно болели ноги от отеков, кровь стучала в висках; еще немного – и меня бросит в жар, это я знала.
– Пожалуй, я пойду, – сказала я нетерпеливо.
Он ничего не ответил.
Я прекрасно знала, что веду себя по-свински. Но вести себя как-то иначе я не хотела. Я ненавидела якобинцев, меня тошнило от одного их вида.
К тому же у меня было очень мало надежд на то, что Доминик Порри исполнит свое обещание. А еще я не понимала, почему он проявляет обо мне такую заботу. Невозможно поверить, что только из доброты душевной он так поступает. Хотя, с другой стороны, в своем нынешнем состоянии, на восьмом месяце беременности, подурневшая, осунувшаяся и остриженная, я вряд ли могу представлять какой-то интерес для мужчин.
Я приказала себе забыть о Доминике Порри раз и навсегда.
Забыть о нем и обо всех мужчинах на свете.
Меня очень тревожило собственное состояние. Нынче тошноты мучили меня меньше, чем на первых порах, но, едва лишь исчезло это несчастье, как усилились отеки. Ноги отекали так, что я едва могла ходить. Ко всему этому добавились явные признаки того, что мне, видимо, не придется доносить моих мальчиков до конца беременности. В том, что роды застигнут меня гораздо раньше, я уже не сомневалась.
Признаки были налицо. Мой большой живот заметно опустился, что значительно облегчило мне дыхание. А еще я ощущала неприятные разлитые боли в крестце, внизу живота, в бедрах. Я вспомнила доктора Дебюро. Он был прав.
– Мне осталось недолго, – пробормотала я вслух.
Самый большой срок, который я себе определила, – две недели. В сущности, в том, что роды будут преждевременны, не было большой трагедии, ведь теперь от беременности не зависела моя жизнь. А за жизнь моих неугомонных сорванцов я не имела никаких оснований опасаться: они так брыкались и проявляли такое нетерпение, что не было причины заподозрить их в какой-то болезненности. Еще бы! Недаром они высосали из меня все соки…
Значит, подумала я уныло, им придется увидеть свет в Консьержери. Для беременных узниц здесь был лазарет. И кто бы мог такое представить… Принцесса де ла Тремуйль, наследница одного из двенадцати, знатнейших родов Франции, дочь пэров и родственница королей, будет рожать на грязной тюремной подстилке, при свете коптящей лампы, почти без всякой помощи… А родить мне предстояло целых двух, это я знала точно!
«А на что я буду с ними жить?» – подумала я с истинной мукой. У меня наверняка даже молока не будет. Это было б чудо, если б было иначе.
Но я не позволила себе расслабиться или предаться отчаянию. В конце концов, я Сюзанна де ла Тремуйль, принцесса и аристократка. Я не вышла замуж, не стала мадам Клавьер, и мои сыновья, пусть даже тысячу раз незаконнорожденные, все равно будут принцами. У меня остались только они. Да еще я сама.
Я встала, расправила худенькие плечи, глубоко вдохнула воздух и гордо вскинула голову. Будь что будет, но отныне я всегда буду прямо и открыто идти навстречу жизни. Ей меня не сломать. Если я не сломлена до сих пор, значит, я сильнее, чем даже сама себе кажусь.
Я прижала руки к животу, почувствовала, как двигаются у меня под сердцем эти хорошие, мужественные мальчики. О, как я хотела, чтоб это были мальчики. Мои. Только мои.
И он – Клавьер – еще пожалеет. Придет время, и он горько пожалеет. Пусть мои сыновья будут чьи угодно, но они вырастут такими, что Клавьер посчитал бы за честь назваться их отцом. Но я никогда не дам ему такой возможности. Пусть он подавится своим богатством, пусть нагромоздит его целую кучу. Пройдут годы, и он, старый и больной, еще узнает, что почем в этой жизни и что в ней самое важное.
2
Как-то вечером, уже в конце сентября, мы с Авророй, как обычно, вышли к фонтану в тюремном дворе, чтобы постирать белье. С тех пор как моя беременность сильно продвинулась и я чувствовала себя неважно, Аврора очень много помогала мне. Совсем как я, она замачивала белье, терла его скверным жгучим мылом, стирала, полоскала. Во время этих занятий я занималась с девочкой: рассказывала ей те основы катехизиса, которые мне твердо вдолбили в монастыре.
В тот вечер мы дошли уже до царя Саула, как вдруг Аврора крепко сжала мою руку. Глаза ее округлились от удивления.
– Мама, мама, смотри-ка на того мальчишку! Это же он!
– Кто? – спросила я и взглянула.
– Это Брике! Честное слово, мама, это он!
Я не сразу поняла, как она так легко его узнала. В этом подростке трудно было узнать того Брике, с которым мы расстались чуть меньше года тому назад. Теперь во дворе Консьержери я увидела тощего, длинноногого, нескладного парня лет семнадцати. У него уже явно пробивались усы – правда, пока в виде легкого русого пушка. Ничем, уже абсолютно ничем не напоминал он прежнего Брике. Вот разве только этот характерный нос – длинный и ястребиный!
– Надо же, – прошептала я. – Он тоже в тюрьме!
К этому парнишке я могла чувствовать только хорошее. Он сделал мне немало добра.
Но пока я стояла и размышляла, Аврора кинулась вперед, крича:
– Брике! Брике! Да подожди же, черт тебя побери!
«Где она только успевает набраться таких слов?» – подумала я мельком. Брике, уже готовый скрыться за дверью, ведущей в мужское отделение, обернулся.
– А, так это ты, малышка!
Он тоже не забыл ее. Я подошла ближе, с улыбкой – первой за много дней улыбкой – наблюдала, как Аврора прильнула к Брике, прижавшись к прутьям решетки.
– И вы здесь, ваше сиятельство!
– Да, и я здесь, Брике.
Не думая долго, я поступила так же, как Аврора, и обняла Брике через решетку. И только потом заметила, как странно и оробело он оглядывает меня.
– Да уж… не ожидал я увидеть вас такой.
– Какой?
– Да такой, как вы сейчас.
Он повзрослел, и я не могла уже разговаривать с ним, как с несмышленышем. Что могут сделать одиннадцать месяцев в таком возрасте… Брике казался мне незнакомцем.
– А ты? Как ты?
Нимало не смущаясь, он поведал мне о случившемся. Несколько последних месяцев, еще в разгар террора, он пребывал в одной из банд пресловутого Двора чудес, воровской шайке Андре Беккера. Они подвизались на ограблениях квартир и карет, которые останавливали в темных переулках. Это занятие не принесло Брике богатства. И как раз тогда, когда пал Робеспьер и все богачи снова стали подавать признаки жизни, их банду вместе с главарем поймали полицейские агенты Комитета общественной безопасности. И, разумеется, бросили за решетку.
– И ты грабил? – спросила я пораженно.
– Еще бы!
– Сам? – снова спросила я.
– Ну а как же! С товарищами. Мне давали приказания, я их исполнял. А что я еще, по-вашему, мог делать? Ремесла у меня никакого нет. На что ж мне было жить?
– Ты же говорил, что запишешься в армию.
– В армию меня не взяли. Мне было только шестнадцать. Да и сейчас еще не возьмут.
Окинув меня внимательным взглядом, он вдруг хмуро и даже как-то грубо спросил:
– А вы, видно, повстречали здесь, в Консьержери, своего белокурого красавчика? То-то он вас с подарочком оставил.
«Да, – подумала я, неприятно пораженная этим не слишком тактичным вопросом, – Брике изменился. Попробовал бы он раньше так говорить со мной… И как легко он догадался обо всем. О Клавьере. О моей встрече с ним».
– Уж позволь, Брике, мне тебе не исповедоваться, – сказала я и горько и едко в ответ.
Но Аврора, внимательно следившая за нашим разговором, вмешалась так решительно, что я не смогла ее остановить:
– Да, Брике, да! Это все тот человек виноват. Мама встречалась с ним, а потом поссорилась. Его уже давно выпустили. Это из-за него мама стала такая грустная, он ее обидел, я знаю!
Мне стало жарко и стыдно.
– Да замолчи же ты, глупая девчонка, тебя это не касается! – вскричала я вне себя от того, как легко Аврора выбалтывает все мои тягостные тайны.
Брике сплюнул сквозь зубы.
– Я так и знал. Я сразу понял; мне-то известно, что вы еще раньше с ним встречались. Этот хлыщ ничего доброго сделать не может, я таких хорошо знаю. Мы с дружками давно облюбовали его хижину, да все как-то руки не доходили…
Подняв на меня глаза, он с грубоватым сочувствием, с какой-то смесью стыда и гнева спросил:
– Так что ж… что ж, мадам, вы от этого хлыща беременны, что ли?
Я молчала, глядя в сторону. Мне все еще казалось невозможным говорить на эти темы с Брике. С сопляком Брике – для меня он оставался сопляком, несмотря на свой рост, басок и усы.
– Погодите, – сказал он хмуро, – я тут вам кое-что покажу.
Из кармана рваной куртки он извлек обтрепанную мятую-премятую газету.
– Вот она, смотрите! Я не думал, что она вам понадобится, а думал из нее папиросы делать. Читайте, вы ж читать умеете!
И грязным пальцем он ткнул в уголок газеты. Это была заметка из нескольких строк, обычная – при Старом порядке обычная – светская хроника:
«В субботу, 9 вандемьера, в доме гражданина банкира-поставщика Рене Клавьера на площади Карусель, 11, будет дан прием в честь годовщины провозглашения Республики. В программе ужин, бал, преферанс, бильярд и прочие развлечения. Как стало известно, прием почтят своим присутствием граждане депутаты Конвента Лежандр, Камбон, Фуше, Тальен, Ровер в сопровождении очаровательных спутниц-республиканок, а гражданин хозяин обещает гостям сюрприз в виде прежде неизвестного в Париже изысканного восточного лакомства».
У меня заныло сердце, и краска унижения залила щеки. Я машинально отдала газету Брике и тупо, яростно посмотрела перед собой.
Итак, Клавьер снова на коне, у него снова деньги, ужины, банкеты, банки, девочки. Он пользуется влиянием в правительственных кругах и запросто приглашает к себе виднейших якобинцев. Он задает балы в доме на площади Карусель – в моем доме, проданном с торгов!
– Проклятье, – прошептала я одними губами.
Этот мерзкий буржуа Клавьер развлекается и пьет шампанское без всяких угрызений совести, хотя прекрасно знает, что я – женщина, которой он клялся в любви, – до сих пор нахожусь в Консьержери. «Это и есть его месть, – подумала я в ужасе. – Боже мой, какой же он все-таки подлый!»
– К черту все, – сказала я вслух. – Он еще пожалеет…
– Вас, может быть, скоро выпустят, – проговорил Брике.
Я вспомнила о Доминике Порри и усмехнулась. Вот еще поразительный образчик того, как мужчины исполняют свои обещания. Почти три недели прошло, как его выпустили, а он, вероятно, и думать забыл обо мне. Ну и прекрасно. Мысль о Порри даже не вызвала у меня гнева, только досаду и презрение. Пусть они убираются к черту, они – все мужчины на свете, кроме Жанно, Брике и моих мальчиков. Я все выдержу, со всем справлюсь сама. Мне не нужна помощь. Я посильнее любого из них.
– Что с тобой сделают? – спросила я у Брике.
– Выпустят, это уж наверняка.
Помолчав, он добавил – с детской горячностью, оставшейся от прежнего Брике:
– Я помогу вам, мадам. На меня вы можете рассчитывать. Уж я-то вас никогда не брошу; я ой как хорошо помню, как вы тащили меня, раненого, по пескам возле Ла Рошели к морю…
Я наклонилась и молча поцеловала своего юного друга в чуть шершавую щеку.
3
Пасмурный осенний день медленно угасал за окном. Мы с Авророй только что закончили ужинать. Жидкий бобовый суп, абсолютно безвкусный, ни у меня, ни у нее не вызывал аппетита. Ничего другого здесь не давали, а денег у нас не было уже давно.
Аврора, собрав посуду, вышла. За последние несколько дней она понемногу взяла на себя ту небольшую работу, без которой нельзя обойтись даже в тюрьме. Теперь я редко выходила во двор. Да и незачем было выходить: Брике выпустили на свободу, а других знакомых у меня уже не было.
С самого утра во мне поселилась тревога. Сегодня я чувствовала себя как никогда уставшей и обессиленной, хотя вроде бы ничего и не делала. Я смутно догадывалась, что это означает. Я осторожно прилегла на постель и, устроившись поудобнее, закрыла глаза.
Не прошло и десяти минут – я еще даже не успела задремать – как резкая сильная боль заставила меня подняться и затаить дыхание, прислушиваясь к самой себе. Это было так непохоже на те ноющие разлитые боли, которые я ощущала раньше, что я сразу и без какого-либо страха поняла: это начало. Начались схватки. Все это длилось не больше минуты, затем боль утихла.
Чтобы проверить себя, я решила пока не поднимать шума. Если это уже роды, схватки вскоре повторятся. Сегодня было 3 октября, в уме я быстро прикинула, что до полных восьми месяцев беременности мне не хватает девяти дней. Доктор Дебюро словно в воду глядел. Если признаться, то эти начавшиеся схватки не были для меня неожиданностью, я уже давно свыклась с мыслью, что они застанут меня раньше срока. И все же меня охватило беспокойство. Через каких-то три-четыре часа я стану абсолютно беспомощной, и никакого участия в судьбе моих малышей принять не смогу. Кто о них позаботится? Кто покормит их? Ах, ни на один вопрос я не знала ответа!
Я поднялась, ломая руки, прошлась взад-вперед, и тут боль повторилась. Пока что я выдерживала ее довольно легко, но сомнения теперь исчезли, и я поняла, что мне понадобится помощь. Как только боль утихла, я тихо окликнула Аврору, сидевшую у окна на нашем единственном хромоногом стуле.
– Милая моя, сбегай, найди тюремщика. Пусть он позовет кого-нибудь. Я… я…
В ее глазах застыл испуг. Она живо вскочила, явно охваченная паникой. За эти дни мы действительно так привязались друг к другу, что одна мысль о том, что кому-то из нас плохо, повергала нас в ужас.
– Да, мама, да! Я мигом!
Она выбежала в коридор и тут же вернулась.
– Сюда кто-то идет, – сообщила она взволнованно. – Какой-то человек с усами и еще солдаты.
Они вошли. Я, едва увидела их, без сил опустилась на постель. Один из них был, кажется, сержант. Ничего хорошего от этого посещения ждать не приходилось. Но, к моему удивлению, страха я не ощутила. Я лишь приказала себе быть мужественной и крепко сжала зубы, ожидая нового приступа боли.
– Вы Сюзанна ла Тремуйль. Не так ли?
– Да.
Мне с трудом удавалось скрыть свое состояние. Хриплый вздох вырвался у меня из груди; боли нарастали быстрее, чем я ожидала. К тому же я знала, что схватки будут усиливаться, каждая новая будет чуть дольше предыдущей, а промежутки между ними – все меньше.
Сержант, услышавший мой то ли вздох, то ли стон, сердито блеснул в мою сторону глазами и, отведя взгляд, стал громко читать:
– Гражданка, приговор Революционного трибунала от 12 мессидора II года Республики отменен в отношении всех подсудимых. В отношении Сюзанны ла Тремуйль – тоже. Стало быть, вы, как единственная оставшаяся в живых, подлежите не только амнистированию, но и немедленному освобождению.
«Надо же, как это некстати», – подумала я с досадой. Почему именно сегодня? Почему не вчера, не через неделю? Сержант равнодушно заключил:
– Дело о вашей амнистии провел гражданин Лежандр. Поздравляю вас. Вы теперь свободны.
Я не знала, что сказать. Это освобождение пришло как раз тогда, когда я даже воспользоваться им не смогу. Больше всего на свете мне нужен был сейчас тюремный лазарет, а самым большим моим желанием было добраться туда и избавиться от сержанта.
Я мельком подумала, что знаю, кому обязана этим приказом. Лежандр… Знакомый Доминика Порри. Это он устроил.
– Собирайте вещи, гражданка, – раздался голос сержанта. – Мы не можем тратить на вас все наше время.
Я не смогла скрыть недовольной гримасы.
– Послушайте, гражданин сержант, я не могу… Честное слово, не могу… Раз уж вы тут, будьте так любезны, отведите меня в лазарет.
– Зачем?
Я не сдержала своего раздражения, нетерпеливо воскликнув:
– Затем, чтобы я могла родить там ребенка! У меня только что начались схватки. Вы что, хотите, чтобы я родила прямо здесь, на полу?!
Я произнесла это, как в бреду, не принимая во внимание то, что говорю с мужчиной. Он покраснел. Потом поднес бумагу к моему лицу:
– Вы слышали, что я читал? Ну, то-то же. Вы вычеркнуты из списка заключенных, с этой минуты государство не выделит ни одного су на ваше содержание в Консьержери. Отныне содержите себя сами.
– Благодарю вас… Куда же мне идти? На улицу? У меня ничего нет!
– Меня совершенно не касается, куда вам идти.
– У меня начались роды, вы это понимаете?! – прокричала я с яростью, подстегиваемая все разрастающейся болью.
– Консьержери – не родильный дом, черт побери! И заботам тюрьмы и ее лазарета вы больше не подлежите.
Я с ненавистью поглядела на него, в душе тысячу раз пожелав ему самой лютой смерти. Черт бы побрал этого идиота… Я чувствовала, что силы мои на исходе. Я не смогу долго продолжать этот спор… Боль мучила меня с каждой минутой сильнее, а я еще должна была заботиться о том, чтобы держаться перед солдатами с достоинством. Ах, самое лучшее было бы для меня сейчас – это упасть в обморок и никогда не приходить в себя! Я откинулась на подушку, закрыв лицо руками.
Сержант тут же отозвался:
– Гражданка, если вы будете игнорировать приказ, мне придется применить силу для его исполнения.
– Прекрасно, – проговорила я. – Сначала ваша Республика силой загоняет людей в тюрьмы, затем силой же выгоняет…
– Оставьте свои рассуждения при себе и собирайтесь.
Боже, как я ненавидела сейчас и этого сержанта, и тот злосчастный приказ об освобождении. Мне была ясна моя участь. Даже если бы я умирала, меня бы выкинули вон. А если я не смогу идти сама, он, пожалуй, прикажет солдатам нести меня, и они бросят меня в грязь где-нибудь за воротами Консьержери.
– В последний раз спрашиваю вас, гражданка: вы будете собираться или нет?
– Да будьте вы прокляты, – произнесла я поднимаясь.
И, повернувшись к белой как мел Авроре, сказала:
– Ты должна помочь мне, дорогая.
…Когда мы с Авророй вышли за ворота тюрьмы, уже смеркалось. Огненно-красный солнечный шар садился в тучи, и зрелище это казалось весьма зловещим. Небо было серое, пасмурное, с разорванными лоскутами облаков.
– Мы на свободе, – пробормотала я с сарказмом, думая, уж не упасть ли мне посреди улицы и не отдаться ли на милость Божью. Брике возник перед нами, как всегда, внезапно, вынырнув из темного переулка.
– Ах, ваше сиятельство! Так вас и вправду выпустили? А я уж думал, тот человек лжет.
– Какой человек?
Я была так измучена, что ничему, впрочем, не удивлялась. Даже появление Брике я восприняла как должное.
– Да вон тот, видите? Дородный такой. Видно, при деньгах. Грязным пальцем он указал на высокого полного мужчину в приличном плаще и шляпе, который быстрым шагом направлялся к нам. Я закусила губу, мгновенно узнав его, и, честно говоря, сама не могла бы сказать, от чего страдала больше в тот миг – от боли или бессильного гнева. Ибо шел к нам не кто иной, как Доминик Порри, и именно ему я была обязана своим неожиданным освобождением.
– Чертов Порри! – пробормотала я сквозь зубы.
Брике присвистнул.
– Так вы его знаете, мадам?
Аврора очень важно пояснила:
– Он влюблен в маму, Брике.
– Не говори чепухи, – оборвала я ее.
– Это не чепуха. Это правда.
Резкая режущая боль заставила меня буквально повиснуть на руке Брике. Испуганный, он что-то спрашивал, но я ничего не разбирала. Потом, вероятно, бедному парню стало ясно, что со мной, и он принялся что было силы звать Доминика Порри.
Бывший комиссар подбежал ко мне, когда боль уже прошла.
– Могу я чем-то помочь?
– О, ваша помощь, сударь! – произнесла я в гневе. – До чего же не вовремя она подоспевает!
Я понимала, что несправедлива, но остановиться не могла. Мне надо было хоть на ком-нибудь выместить свою боль и раздражение, и, разумеется, владеть собой я сейчас не могла.
Порри подхватил меня под руку.
– Вам следует немедленно лечь. Давно это у вас?
– Что?
– Давно ли это началось? Я врач, я могу вам помочь.
«Черт побери, – подумала я, прямо-таки изнывая от боли и беспокойства, – что только побуждает этого Порри таскаться всюду за мной со своими услугами». Пожалуй, если бы этого человека не было рядом, я бы могла лучше сохранять мужество, у меня, по крайней мере, не было бы соблазна высказывать свое раздражение. Да если бы не Порри, я бы сейчас не шла сама не зная куда, а лежала бы в лазарете, по меньшей мере у меня была бы крыша над головой и мне не пришлось бы рожать на улице.
– Меня здесь ждет извозчик. Я могу отвезти вас к себе. Мне не раз приходилось принимать роды.
– О, – простонала я, придя в ужас от самой мысли о том, чтобы поехать к нему и потом расплачиваться за все его благодеяния, – ради Бога, сударь, уйдите, пожалуйста! Уйдите! Мне ничего от вас не нужно!
– Но почему? Откуда такая неприязнь?
– Оставьте меня! Оставьте! Уходите!
Собрав все силы, я освободилась и, опираясь на Аврору, медленно пошла вперед. Куда я шла – этого никто не знал, а тем более я. Я услышала, что Порри идет за нами, и пробормотала:
– Прошу вас оставить меня, гражданин.
Он резко повернулся и отошел в сторону. Я перестала думать о нем сразу же, едва он скрылся из виду. Я, но не мои спутники.
– Зря вы так, ваше сиятельство, – заявил Брике. – Что это вы задумали? У меня ни одного су нет, и я не врач. А тот человек помочь вам хотел.
– Уж позволь мне судить об этом самой.
Тут взбунтовалась и Аврора:
– Не надо было его прогонять! Не надо!
– Перестанешь ли ты когда-нибудь вмешиваться во взрослые разговоры и судить о том, чего…
В эту секунду, не договорив, я ощутила, что идти дальше не могу. Ну не могу, и все. Брике, видимо, почувствовал это. Остановившись под фонарем, он снял с себя куртку и бросил ее прямо на тротуар.
– Садитесь-ка! Так мы далеко не уйдем, надо найти фиакр. Запрокинув голову и едва переводя дыхание, я спросила:
– Где же… ты его найдешь? Здесь так пустынно. Он замотал головой.
– Найду, постараюсь. Не уходите только никуда.
Фиакр – или что-то вроде фиакра, я не разобрала – вынырнул из темноты, как сказочная карета в сказке о Золушке. Брике подбежал ко мне. Я с трудом поднялась.
– Куда мы поедем, мама? – устало спросила Аврора.
– Ты отправишься к Джакомо.
– Я хочу поехать с тобой.
– Со мной тебе нельзя.
Больше я не смогла сказать ей ни одного слова. Брике помог мне взобраться на деревянное сиденье.
– Об оплате можете не беспокоиться. За вас тот человек заплатил…
Это был не фиакр, а вонючая грязная повозка, где, видимо, раньше возили либо падаль, либо трупы, собранные на улицах Парижа. Впрочем, это уже не волновало меня. Я глухо пробормотала извозчику: «Едем в родильный дом Бурб[14]» – это заведение казалось мне наиболее дешевым, и после этих слов сознание мое наполовину угасло.
Обливаясь потом, согнувшись в немыслимой позе, впиваясь ногтями в ладони, я едва удерживалась, чтобы не кричать от боли. Схватки были так длинны и мучительны, что я уже не успевала замечать затишья между ними. Губы у меня были искусаны.
Повозка подпрыгнула на ухабе, и меня отбросило в сторону, я сильно ушибла висок, и в голове у меня зашумело. Потом что-то теплое поползло по ногам – это отошли воды.
«Боже, пожалуйста, сделай так, чтоб мы быстрее доехали», – подумала я с детской мольбой, неизвестно почему уверенная, что там, куда мы едем, мне окажут помощь.
4
– Это девочки, – раздался у меня над ухом холодный равнодушный голос. – Две девочки. Вы слышали меня?
– Оставьте ее, Анриетта. Мы сделали все, что могли.
Обе женщины удалились, оставив меня одну, и их серые монашеские одеяния слились перед моим затуманенным взглядом в одно сплошное пятно, которое колыхалось и таяло.
«Девочки, – подумала я тупо. – Нет, это неправда. У меня должны быть мальчики».
Новорожденные лежали рядом и пищали, но я не могла даже шевельнуться, чтобы взглянуть на них. Сознание у меня было наполовину помрачено, да если бы это было и не так, то и тогда трудно было бы понять, где я нахожусь. Это было похоже на ад. Я лежала на грязной вонючей подстилке в узкой душной комнате с едким застоявшимся запахом испражнений. Повсюду были какие-то помои, грязь, рвота… Вокруг меня другие больные либо кричали, либо стонали. Некоторые ухитрялись спать, но вскрикивали во сне. А совсем рядом с собой я видела женщину, молоденькую, лет девятнадцати, не больше. Она, вероятно, не так давно родила, но ребенка рядом с ней не было. У нее явно был жар. Она беспокойно ворочалась, выкрикивая что-то бессвязное.
Никто не возвращался, чтобы хоть немного отмыть меня или провести какой-то туалет. Сил требовать что-либо у меня не было. Кровотечение у меня быстро прекратилось, и я и за это была благодарна. Скинув с себя покрывало, я задремала, так и не взглянув на своих новорожденных.
Я спала долго, очень долго, а проснувшись утром следующего дня, ощутила вялость и ноющую боль во всем теле. В горле саднило и сильно кололо в груди. Теперь в помещении было холодно, и я стала натягивать на себя все, что попадалось под руку. Мне надо было, конечно, вымыться, но воды рядом не было даже для питья. Я на миг задумалась о том, что такая грязь – это очень опасно, но какой смысл был печалиться над этим, если я все равно не могла ничего изменить? Мне надо поскорее встать на ноги.
Новорожденных рядом не было. Осознав их отсутствие, я не испытала никаких чувств. Повернувшись на бок, я увидела, что моя соседка, которая вчера бредила и металась в жару, теперь лежит спокойно. Рот ее был раскрыт, руки разбросаны. Что-то в ее позе показалось мне неестественным. Я с трудом приподнялась, чувствуя в голове странную тяжесть, и, склонившись над женщиной, дотронулась до ее щеки.
Щека была холодна, как лед. Я теперь заметила, что и губы ее уже стали синеть… Она мертва, давно мертва! Я лежу рядом с мертвой! Отдернув руку, я закричала.
– Ну, чего вы визжите? – принялась отчитывать меня сестра милосердия, прибежавшая на крик. – Неужто здесь мало визгов? Голова раскалывается! Вы что же, смерти не видели?
– Отчего она умерла? – спросила я, стуча зубами.
– Родильная горячка. Для нее это к лучшему. Отмучилась. Я устало опустилась на свой грязный тюфяк. Мне было плохо: сильно ломило затылок, покалывало в висках, во рту – сплошная горечь. Признаваться в своей болезни мне не хотелось. Все равно никто не станет лечить. Я вспомнила, что уже довольно давно ничего не ела и не пила. Но ни еды, ни питья мне не предлагали, а просить у меня не было сил – здесь каждая просьба воспринималась как вызов. Ах, лишь бы уйти отсюда поскорее… Здесь и здоровый человек заболеет. Здесь так грязно. И эти грубые сестры…
С этими мыслями я снова забылась.
…За окном лил дождь. Крыша дома протекала: каждую минуту с потолка срывалась тяжелая капля. Я открыла глаза.
– Ну, наконец-то, – произнес женский голос, и кто-то приподнял меня.
Я с трудом приходила в себя, медленно вспоминая, где нахожусь.
– Откройте рот, – приказали мне.
Я подчинилась, тотчас почувствовав, как теплая сладкая вода вливается мне в горло. Судорожно глотнув, я закашлялась, закашлялась тяжело, с хрипом и болью в груди.
Меня осторожно опустили на тюфяк. Незнакомая: пожилая женщина склонилась надо мной.
– Я долго спала? – спросила я тихо.
– Три дня.
– Что? – Я решила, что ослышалась.
– Три дня. Вы не спали, вы были в беспамятстве. – Она приложила палец к губам: – Молчите. Вы очень больны.
Я попыталась осмыслить то, что услышала. Я больна? Вероятно, это так, я ведь чувствовала, что заболеваю. Три дня… Ужас захлестнул меня, накрыл с головой, как морская волна во время шторма.
– Где они? Мои дети? Они живы? – проговорила я, превозмогая спазмы в горле.
Если эта женщина сказала мне правду, моим малышкам уже четыре дня. Только Бог знает, что с ними могло произойти за это время.
– Не беспокойтесь. Они здоровы, за ними хорошо присматривают.
Я не поверила. О чем говорит эта женщина? О каком уходе? В этом зловонном месте никто никому не нужен.
Я думала, что женщина оставит меня, но она не уходила.
– Кто вы? – спросила я наконец.
– Я сестра Беата.
– Вы монахиня?
– Теперь так запрещено называться. Да, я была монахиней. Мне поручено ухаживать за вами.
Я все еще не верила. Мне выделили сиделку? Неужели то, что я видела, мне лишь приснилось? Та женщина, моя соседка, умерла именно потому, что за ней не было никакого ухода. Ей даже воды не подали. Почему же ко мне относятся иначе?
– За вас заплатили. Мы устроили вас здесь настолько хорошо, насколько это возможно.
Я равнодушно огляделась. Это была все та же комната, но теперь пространство вокруг меня было свободно. Все тюфяки были перетащены в противоположный конец комнаты, к двери. Несколько больных женщин лежали прямо на соломе, совсем без одеял. Я же была тепло укутана и, по здешним меркам, устроена просто с комфортом: моя голова покоилась на мягкой подушке, грязный тюфяк был застлан свежей простыней.
– Человека, который заплатил за все это, зовут Порри. Он хотел сразу забрать вас отсюда.
– Почему не забрал?
– Вы были так больны, что вас не решились трогать.
Сестра Беата кормила меня жидкой пищей с ложечки, но я даже не смогла доесть до конца. Болезнь возвращалась, тревожный сон одолевал меня, я вся пылала. Связь с реальностью я надолго утратила.
5
Я была без памяти, и понятие времени совершенно для меня не существовало. Но наступил день, когда все вдруг закончилось, затихло – и бешеные ознобы, терзающие меня, и невыносимый кашель с вязкой мокротой, и невероятная горячка, от которой, казалось, легко могла свернуться кровь.
Странный покой охватил тело. Я пошевелила рукой, потом пальцами. Да, я жива. Только вот тело стало таким легким, невесомым, почти бесплотным, я ужасно плохо ощущаю его.
Мне не долго пришлось оставаться в этом спокойствии; чья-то рука коснулась моего лба, чей-то голос произнес:
– У нее облегчение, гражданин Порри: пожалуй, теперь вы можете забрать ее.
– А она не умрет по дороге?
– Вот этого я не знаю. По-моему, она может умереть в любую минуту.
Мне было все это безразлично. По-прежнему не открывая глаз, я чувствовала, как чьи-то руки одевают меня и укутывают в теплые, мягкие вещи, усаживают в глубокое кресло, куда-то везут. Я ничего не понимала. Мои чувства так притупились, что от всех движений, направленных на меня, я ощущала лишь легкие, едва слышные прикосновения.
Меня увезли. Видимо, в какой-то коляске. Я очень отчетливо чувствовала холодный влажный ветер на своем горячем лице; он принес мне некоторое облегчение. Потом слабость усилилась, и я снова забылась.
Очнулась я от мягких теплых прикосновений влажной губки к телу. На мне не было никакой одежды, и женщина в белом фламандском чепчике обтирала меня губкой, смоченной в душистой воде. Я невольно застонала от удовольствия. Женщина подняла голову и сказала в сторону:
– Доминик, Доминик, успокойся: она жива еще.
В этот миг сознание вернулось ко мне почти полностью. Я очень отчетливо вспомнила о своих малышках – двух маленьких крошечных свертках, каждый величиной с ладонь… Мои безымянные маленькие дочурки – где они?
Я попыталась что-то сказать. Женщина наклонилась к самым моим губам и, к счастью, быстро все поняла.
– Они здесь, уж об этом-то можете не волноваться. Они живы, и вас-то явно переживут… Да не дергайтесь вы так! Я сама их кормить буду.
Я не знала, кто такая эта женщина в чепчике, и у меня не было сил расспрашивать. Я многого чего не знала – в каком, например, доме нахожусь, как я здесь оказалась, долго ли продлится моя болезнь и останусь ли я жива.
Впрочем последнего никто не знал. Странный и неожиданный просвет, наступивший в моей болезни, продолжался недолго – быть может, дня два или три. Какой-то врач, приглашенный ко мне, произнес название моей болезни – родильная горячка, недуг страшный и часто смертельный. Я заразилась им в грязи и вони родильного дома Бурб, на грязных, пропитавшихся кровью и испражнениями подстилках. Я сама была виновата в этом. Я сама выбрала для себя Бурб, когда вышла из Консьержери.
В это время, когда мне полегчало, мне показали дочек – крошечных, тщедушных, с едва заметным золотистым пушком на голове. Весила каждая из близняшек едва ли больше четырех с половиной фунтов, а похожи они были как две капли воды. Они, слава Богу, не заболели.
Николь Порри, тридцатилетняя сестра Доминика, у которой совсем недавно родился мертвый ребенок, кормила моих малышек. У меня самой не было сил даже взять одну из них на руки. По моей просьбе Николь распеленала их. У них все было в порядке – ровненькие ручки и ножки, маленькие пальчики, словом, никаких изъянов. Правда, одна из них как-то странно поджимала в пеленках ножку; это меня и встревожило. Но на самом деле все оказалось в порядке. Девочки были очень маленькие и худенькие, но здоровые, и на этот счет я могла быть спокойна.
Они были пока без имен, эти мои девочки. И даже без крещения. Мне было не по силам всерьез задумываться над этим.
Болезнь снова вернулась, и как раз в тот момент, когда я надеялась, что поправляюсь. Я снова запылала в горячке, туманившей сознание, и снова бешено забился пульс, доходя до ста сорока ударов в минуту. Страшный кашель с мокротой выматывал из меня последние силы, боли в боку пронизывали все тело; меня тошнило, и рвоты были с примесью крови; невыносимо болели мышцы. Но так было лишь в начале очередного приступа. Потом боль и жар просто лишали меня всяких сил к сопротивлению; я теряла сознание и становилась недосягаема для любой боли. Я полуумирала.
Очень редко, когда память возвращалась ко мне, я чувствовала, как женские руки обтирают меня губкой, поят, кормят жидким супом с ложечки, взбивают подушки и меняют простыни. Потом я снова отключалась. Родильная горячка жгла меня до самых костей, иссушала невыносимым жаром; она выпивала из меня всю влагу; щеки у меня ввалились, губы запеклись, разум растворился в этом горячем, распаленном, чудовищно раскаленном аду.
Кто знает, может быть, я и вправду там побывала.
А еще я мельком видела Брике – то ли он действительно был рядом, то ли мне это мерещилось в бреду. Он то появлялся, то исчезал, но я успела уяснить, что его приход неизбежно связан с появлением в доме Доминика каких-то лекарств, призванных помочь мне. Его приход неизменно приносил мне облегчение.
Я болела – тяжело и опасно – очень долгое время, хотя тогда и не отдавала себе в этом отчета; на самом же деле прошло несколько месяцев, пока болезнь отступила окончательно и признала свое поражение. Родильная горячка протекала с перерывами: две недели болезни и один-два дня облегчения. Она измотала меня, забрала все силы, особенно физические; сотни раз я то умирала, то оставалась жить, и все это так меня измучило, что я потеряла всякие желания, кроме одного – забыться, успокоиться и больше не страдать.
6
Только к Рождеству 1794 года стало ясно, что я не умру.
Мою кровать придвинули к окну, чтобы я лежа могла смотреть на улицу. На свежем воздухе я не бывала уже очень давно. Эта зима выдалась необыкновенно холодной, и столбик термометра опускался к очень низким температурам. Я видела крыши домов, покрытые толстым слоем снега, и заснеженные ветви вязов в саду. Я до сих пор не знала, в каком квартале нахожусь. Да и до этого ли было? Я и так считала почти чудом, что осталась жива.
Я была так слаба, что не смогла бы самостоятельно подняться с постели. Николь, сестра Доминика, подложила мне под спину подушки, чтобы я могла находиться в полусидячем положении. 'Наклонившись, я дотянулась до зеркала и, взглянув в него не без страха, не узнала себя. Женщина в зеркале – то не могла быть я. Неужели у меня такое худое тело, костлявые руки, впалая плоская грудь, тощая шея? Неужели у меня так ввалились щеки и кожа приобрела землистый оттенок? Это какая-то другая женщина, худая и уродливая. Странным контрастом этому жалкому зрелищу были пышные, ярко-золотистые прекрасные волосы – они отросли уже на пять дюймов и сияющим ореолом обрамляли исхудавший овал лица.
Скрипнула дверь. Появился Брике – покрасневший, замерзший, очень неуклюжий и долговязый.
– Я вам поесть принес, кое-чего на ужин! – ломающимся баском сообщил он с порога, расплываясь в улыбке.
Я тоже улыбнулась. Пока для меня было тайной, как и где Брике живет, откуда он берет и приносит мне лекарства и пищу. Мне для лечения советовали кучу вкусных, но редких в голодном Париже вещей. Для Брике достать их трудности, по-видимому, не представляло. Я не сомневалась, что и для собственного пропитания, и для помощи мне он промышляет воровством, но, видит Бог, не осуждала его за это. Его приход даже заставил меня позабыть то, что я увидела в зеркале.
Из своей необъятной сумки Брике извлекал один за другим горшочки и судки – все похожие, словно из одного сервиза, и сделанные с отменным вкусом из голубого, расписанного цветами севрского фарфора. Это навело меня на мысль, что парень изрядно пошарил в буфете какого-нибудь нувориша.
– Коль уж вы, мадам, остались живы, то с моей помощью быстро поправитесь! Я для вас от души потрудился! А как же иначе! Я-то не дурак, слышал прекрасно, что вам господин доктор прописывал… Глядите-ка: вот это – самое что ни на есть хорошее вино, настоящее бургундское, да еще пахнет как! Это – парочка горшочков с конфитюром, а это – свежая айва… Здесь ростбиф с кровью, только что изжаренный, а это еще какое-то жаркое, не знаю, как оно называется… А в этой кастрюльке – бульон; его только подогреть надобно…
– А ты? – спросила я. – Ты ел?
– Еще как! Меня этот мерзавец долго помнить будет.
Он показал мне на ладони баночку с чем-то черным, зернистым и смотрел на меня с самым торжествующим видом.
– Вот это, мадам, вас живо на ноги поставит!
– Что это такое? – спросила я удивленно.
– Черная икра, вам такое доктор прописал. Есть ее нужно много, и я вам еще принесу… Я и сам ее впервые вижу. Это от самой русской императрицы!
Смутное подозрение зародилось у меня в душе. Сжав холодную руку Брике и глядя ему прямо в глаза, я спросила:
– Ну-ка, признавайся: у кого ты это взял? У Клавьера? Брике и не думал отпираться.
– Ну да, я второй месяц уже наведываюсь в его буфет. И лососину вам оттуда приносил, и вино – доктор говорит, что вина много нужно после родильной-то горячки, а где взять вино, когда кругом голод? Пусть этот мерзавец хоть чем-то с вами поделится. Если уж он вас бросил, то пусть хоть платит! Дочки-то его, правда? А вы из-за них едва не умерли.
И он добавил очень искренне:
– Нужно, чтобы вы поправились, ваше сиятельство. Поешьте! А то от вас нынче только кожа да кости остались.
– Спасибо, – сказала я. – Я обязательно поем, мой мальчик.
Он наклонился ко мне, и я ласково его поцеловала.
Когда Брике ушел, я снова осталась одна – дожидаться прихода Николь. Я устала, но мысли не давали мне уснуть. Сейчас я еще очень слаба, но у меня нет времени поправляться слишком долго. Меня не могут содержать чужие люди, я должна сама позаботиться о себе и своих дочерях, я и так больше двух месяцев пользуюсь добротой и гостеприимством семейства Порри. А еще… еще я должна разузнать что-то о Жанно и Шарло. Действительно ли их отправили к моей мачехе? Мне стало страшно, когда я подсчитала, сколько времени не видела сына.
Больше десяти месяцев… И не было никаких вестей о нем.
В это мгновение мои мысли внезапно вернулись к девочкам. Из-за болезни я видела их крайне редко, лишь в редкие промежутки затишья, и, по сути, я не знала, совсем не знала своих дочерей. Я даже с трудом представляла себе, как они выглядят. А между тем я прекрасно знала, что им уже почти по три месяца, и, хотя они родились недоношенными, чувствуют себя отменно благодаря молоку Николь.
Для меня было неожиданностью то, что родились девочки, – я слишком привыкла к мысли, что у меня будут мальчики. А вышло – две дочурки, слабые, но мужественные, худенькие, но такие беленькие и симпатичные!
– Принесите мне моих детей, – тихо, очень тихо попросила я, когда сестра Доминика вернулась к обеду.
Эта дама, относившаяся ко мне вежливо, но сухо, согласно кивнула, хотя я успела заметить на ее лице некоторое разочарование. Не знаю, может быть, она втайне надеялась, что я откажусь от своих девочек: и они заменят ей и умершего ребенка, и мужа, убитого на полях Голландии.
– Они вполне здоровы, – произнес молчаливый Доминик, пришедший вместе с сестрой. – У них отменный аппетит.
– Только благодаря вам они живы, – сказала я наконец то, что давно было для меня очевидно.
Николь бережно, держа каждого ребенка на одной руке, уложила девочек рядом со мной и, поджав губы, отошла в сторону. Собрав все силы, я приподнялась на локте и осторожно откинула пеленку, закрывавшую личико одной из девочек. «Одной из девочек» – я так говорила потому, что они еще не имели имен. Эта малышка спала. Едва слышное сопение доносилось из ее крошечного носика. Я осторожно, почти мимолетно прикоснулась пальцем к ее щеке – теплой, нежной и бархатистой, словно персик, и сразу же отдернула руку, не желая разбудить малышку. А может быть, я просто боялась встретиться с ней взглядом. Ведь я еще никогда не была ей матерью.
Это была совсем крохотуля, легонькая и маленькая, едва двадцати дюймов росту, с необыкновенно белой, нежной кожей и светлыми, едва наметившимися бровями. Глаз ее я не могла разглядеть, маленький носишко поразил меня своей аккуратностью. Все остальное тельце было спеленуто, и я пока не решалась распеленать его лишь по своей прихоти.
В этот миг другая девочка зашевелилась, засучила спеленутыми ножками, и я, удивленная этим проявлением энергии, поспешила взглянуть на нее. Эта малышка была точной копией той, другой, однако она не спала и ее ясный незатуманенный взгляд был устремлен именно на меня. Она смотрела на меня очень внимательно, личико ее было чуть повернуто, и меня поразили ее глаза – большие, ясные, серые, как растаявшие жемчужины, с густо-черными зрачками. Вряд ли они изменятся с течением времени.
– Она-то и будет Изабеллой, – вырвалось у меня невольно.
Из этой пары барышень она была самой бойкой. Она не спала и так внимательно смотрела на меня, словно уже в свои три месяца умела узнавать людей. Только она и могла быть Изабеллой. Маленькой Изабеллой де ла Тремуйль, моей крошечной Бель.
И снова что-то во взгляде малышки меня поразило. Эти глаза – ясные, серые – кого они мне напоминают? А это личико? Задрожав от гневного предчувствия и забыв обо всем, я потянулась к дочери, которую уже мысленно окрестила Изабеллой, поспешно сняла с ее головки чепчик. Так и есть: светлые, рыжевато-золотистые волосики уже начинали виться.
– Это его ребенок! – воскликнула я пораженно.
Я имела в виду Клавьера. Раньше у меня были лишь предположения, но теперь, когда я рассмотрела своих девочек так хорошо и пристально, предположения переросли в убежденность. Нельзя отыскать более поразительного сходства буквально во всем – в цвете глаз, волос, чертах лица, линии носа и подбородка… Глаза у меня расширились от удивления. Чего я никак не ожидала и чего раньше не замечала из-за болезни – так это того, что мои малышки являются точной копией Рене Клавьера, богатейшего банкира Республики, бросившего меня на произвол судьбы.
Мстительное торжество завладело мною. Дочери – мои, и они ни на унцию не принадлежат тому, другому. Он лишен этого сокровища. У него, быть может, есть сказочное богатство, банки, тысячи ливров и долларов, любовь продажных женщин, но у него нет и не будет удивительного ощущения тепла детского тельца, мирного дыхания, счастливых детских глаз и детских ручонок, доверчиво протянутых к нему. Он не знает, что такое иметь дочь или сына. Он никогда не узнает – я была в этом уверена, – что чувствует мужчина, когда ребенок впервые называет его «отец». Его любят за богатство и золото. Меня мои дети будут любить не за то, что у меня есть, а за то, что я – это я.
– Их надо окрестить, – произнесла я решительно. – Девочки должны встретить Рождество уже католичками.
– Окрестить? – переспросили сестра и брат в один голос.
– А вы разве не оставите их нам? – невольно вырвалось у Николь.
Я взглянула на эту тридцатилетнюю несчастную женщину, прекрасно понимая чувства, обуревающие ее. Кому, как не мне, было понять желание иметь детей. Но потом я перевела взгляд на своих трехмесячных дочек. Спокойные, крошечные и такие милые, они всколыхнули в моей душе целую бурю чувств. Внезапно, неожиданно и бесповоротно я поняла, что люблю.
Я – мать. Я люблю своих малышек больше всего на свете, я бы все отдала за счастье чувствовать их у своей груди.
– Нет, – сказала я мягко, но решительно, чтобы пресечь всякие домыслы по этому поводу. – Не оставлю.
Но я помнила, кем стала эта женщина для моих младенцев, и, испытывая безграничную благодарность к ней, добавила:
– Я бы сочла за величайшее счастье, сударыня, если бы вы согласились стать крестной матерью малышек.
– Крестной! – повторила Николь пораженно.
– Никто не сможет быть им лучшей крестной, чем вы, – сказала я. И, взглянув на Доминика, произнесла: – А вас, господин Порри, я очень прошу стать крестным отцом.
В тот миг я не подозревала, что мое невинное предложение покажется бывшему комиссару секции почти кощунством. Поэтому я добавила:
– Разумеется, крестить моих детей может только неприсягнувший священник.
– Что вы сказали? – переспросил Порри.
– Крестить моих детей может только один из тех редких ныне священников, которые не присягнули на верность Республике и не запятнали себя никакими связями с нынешним режимом.
Целая буря поднялась из-за моих слов. Впервые я увидела бывшего гражданина комиссара таким возмущенным и гневным. Его поражала сама мысль о том, что он, патриот и республиканец, будет присутствовать на какой-либо церемонии, совершаемой контрреволюционным священником. И вообще ему кажется невероятным даже говорить об этом в его доме. К тому же сейчас нет задачи более трудной, чем отыскать в Париже подобного священника…
Я выслушала всю эту тираду очень спокойно, в душе зная, что ни на йоту не отступлю от своего. Потом очень мягко, но настойчиво изложила Доминику свои доводы. Для меня присягнувший священник – вовсе не священник, и таинство, совершенное им, я считаю лишь насмешкой над католической обрядностью, а мне вовсе не хочется, чтобы мои дочери оказались в аду. Угодно или не угодно это гражданину Порри, а я поступлю именно так, даже если он откажет мне в своей помощи. А отыскать неприсягнувшего священника – дело не такое уж трудное; достаточно поручить это Брике и…
– Как вы не понимаете! – вскричала Николь, прерывая меня. – Если хоть одна живая душа проведает о том, что мой брат имеет какие-то отношения с роялистами, со священниками, отказавшимися принять Республику, – карьера Доминика будет кончена, его вычеркнут из всех списков, он не продвинется вверх ни на одну ступень! Неужели вы так бессердечны, что желаете погубить его?
– Ваш брат, мадам, – сказала я устало, но спокойно, – оказал мне неоценимую помощь, и я всю жизнь буду его благодарить. Но я не могу понять, за что вы меня упрекаете. Государство, в котором религия преследуется, создавал именно ваш брат…
– Я не стану им крестной матерью, – заявила Николь, – мое участие в этом деле может бросить тень на Доминика.
– А я и подавно не стану, – произнес бывший комиссар.
Я вздохнула.
– Мне очень жаль, Николь. Мне очень жаль, Доминик. Но я не могу поступить как-то иначе, мой отец проклял бы меня из могилы…
Трудно было шокировать Порри сильнее, чем упоминанием о моем отце, несгибаемом враге Республики. Побледнев, Доминик повернулся на каблуках.
– Белые всегда останутся белыми! – в сердцах бросил он через плечо. – Делайте, как знаете, только не вмешивайте меня!
…Брике, знавший в Париже каждый уголок, разыскал неприсягнувшего священника у Кармелитской тюрьмы, где собирались сторонники истинной веры Христовой, чтобы почтить память церковнослужителей, убитых здесь во время сентябрьских событий. Оттуда же пришли люди, которые должны были стать крестными моих девочек, – старая-престарая чета. Женщина, предназначавшаяся в крестные матери, была так стара, что вспоминала, как видела, сидя на руках у матери, карету Людовика XIV.
– Как вы хотите назвать своих детей, дочь моя? – спросил аббат – худой, оборванный, жалкий, но гордый своей высокой миссией.
Я взглянула на девочек. Сейчас они обе не спали, раскинув ручонки, обе были очень похожи, – беленькие, сероглазые, чистенькие, но одна из них лежала среди полотняных пеленок очень безмятежно, а другая явно проявляла беспокойство и, казалось, готова была заплакать. Собравшись с силами, я взяла эту беспокойную малышку на руки.
– Ее, отец мой, я хочу назвать Изабеллой.
Мне было по душе это имя – такое гордое и величественное, как имя королевы.
– А ту, другую?
Я растерялась. У меня же была еще одна дочка, такая же миленькая, как и эта. Но об имени для нее я не подумала.
– Отец мой, я… я даже не знаю. Может быть, вы что-то посоветуете?
Старый аббат взглянул на меня добрыми серыми глазами.
– Вы желаете воспитывать своих дочерей в истинной вере, дочь моя. Было бы неверным не дать вам совета. Когда родились ваши дети?
– Четвертого октября, отец мой, вечером.
– Четвертое октября – это день святой Вероники. Почему бы вам не назвать вашу дочь в честь этой святой?
– Вероника… – повторила я задумчиво.
– Да, именно эта святая помогла вашей дочери появиться на свет. А в переводе на французский это имя означает «побеждающая». Кроме того, есть такой цветок – вероника, голубой полевой цветок…
– Спасибо, отец мой, – сказала я решительно, – я согласна.
В тот же день, поздно вечером, мои дочери были окрещены во имя отца, и сына, и святого духа и получили при крещении имена Вероники и Изабеллы.
В скромном доме, где я была со своими девочками, не раздавалось ни звука: и Доминик, и его сестра куда-то ушли на целую ночь, чтобы их не коснулась даже тень подозрения в причастности к подобному крещению. Аббат и крестные удалились, я даже не имела возможности чем-то отблагодарить их. Они, впрочем, и не надеялись на какое-то вознаграждение, идя сюда.
Девочки спали так тихо, что я едва различала их теплое дыхание у своей груди. Я придвинулась к ним, желая подарить им как можно больше тепла. Сама не знаю, почему я заплакала. Слезы текли у меня по щекам, я глотала их, стараясь не всхлипывать. Близняшки были такие милые и трогательные. Бедняжки, им пришлось так много пережить вместе со мной в тюрьме. Нет, было бы предательством отдать их кому-то. Я так люблю их, я буду работать с утра до ночи, лишь бы вырастить их.
– Я уеду в Бретань, – прошептала я вдруг.
Дайте мне только выздороветь, и я ни дня не останусь в этом страшном Париже. Бретань – вот то место, где ко мне вернутся силы. Там сама земля наполнит меня жизненными соками. Я вернусь в Сент-Элуа, и он, пусть и полусожженный, станет домом для меня и моих детей. Только там я смогу встать на ноги. Революция не закончена и Старый порядок не восстановлен, да и не может быть восстановлен, но Робеспьер казнен, и я уже не попаду в тюрьму. Я буду спокойно жить для своих дочерей…
А Жанно?
Я прижала руку ко лбу, чтобы успокоиться. С Жанно могло произойти одно из двух – либо он увезен Батцем в Англию, либо не увезен. В последнем случае он до сих пор должен находиться в Сен-Мор-де-Фоссе… И тогда я подумала: «Мне нужно только поправиться, и я сразу отправлюсь на поиски».
Мой взгляд снова упал на малышек. Только сейчас я поняла, что между ними есть маленькое различие: у Вероники на правом виске была крошечная родинка, а у Изабеллы ее нет. Но, должно быть, это заметила только я, для всех остальных девочки абсолютно неразличимы.
– Изабелла, – прошептала я. – Вероника.
Вероника трепыхнулась, и губки ее чуть дрогнули во сне. И тогда, вытирая слезы, я счастливо улыбнулась.
Это была моя первая ночь рядом с ними.
7
Доминик Порри, занимающий теперь должность чиновника при военном комитете Конвента, получал достаточное жалованье для того, чтобы встретить Рождество по всем правилам. Конечно, к мессе он не ходил, и то обстоятельство, что отмечает этот праздник, вовсе не афишировал, но уж очень сильна была традиция, привитая за полторы тысячи лет, чтобы так быстро отказаться от этого торжества. По этому случаю было все, что полагается: и жареный гусь, и двенадцать блюд в сочельник, и даже рождественское полено, рассыпающее искры.
Мы с Николь так и не нашли общего языка. Впрочем, лишь одно имело для меня значение: то, что у нее было много молока и она охотно кормила малышек. К ним она искренне привязалась, это я видела. Меня беспокоило только то, что она старается под всяческими предлогами отдалить меня от девочек.
Рождество прошло не слишком весело, но спокойно. Мои малышки, уже ставшие настоящими католичками, встретили его вместе со мной, и на этот раз было много похожего между пресвятой девой, пеленающей у очага маленького Иисуса, и мною, держащей на руках два крошечных свертка. Доминик Порри, смущаясь и краснея, принес мне теплое виноградное вино в постель; я выпила сама и осторожно капнула на губы малышкам. В том, как они отреагировали, проявилась вся разница их характеров: Изабелла вздохнула, устремив ясный взгляд серых глаз к свету свечи, а Вероника заплакала.
– Счастливого Рождества! – сказала я смеясь, успокаивая и нежно баюкая ребенка.
Поведение Доминика забавляло и удивляло меня. По всему было видно, что он привязан ко мне, но страшно боится, чтоб этого никто не заподозрил. Может быть, я слишком часто в разговорах напоминала ему о своем происхождении. Несмотря на революцию, ореол аристократизма еще не потускнел, и громкий титул принцессы сохранял очень много блеска, иногда даже внушал робость и нерешительность. Доминик не внушал мне опасений. Я давно поняла, что он слишком робок и порядочен, чтобы домогаться меня. Он способен был идти лишь честным путем, через брак, а для этого нужна решительность.
Но, в сущности, мне был глубоко безразличен и сам Порри, перспективный чиновник Республики, и все его душевные качества. Я куда больше боялась, не выкинет ли его сестра какое-нибудь коленце, чтобы забрать у меня детей. В последнее время мне стало невыносимо жить в постоянной тревоге от этой мысли, мучившей меня еще и потому, что Вероника и Изабелла нуждались в молоке гражданки Николь. У меня самой грудь была абсолютно пуста – все сожгла родильная горячка.
У меня появилось желание выздороветь и как можно скорее покинуть этот дом.
Только к Новому 1795 году я ощутила, что ко мне возвращаются силы, истощенные долгой болезнью. У меня появился аппетит, и в окно я глядела уже не с апатией, а нетерпеливо, все время желая поскорее оказаться там, на улице, среди людей. Ходила, правда, я пока с трудом, и больше была в постели в полусидячем положении, проклиная это временное бессилие. Худа я была чрезвычайно. Брике почти каждую ночь отправлялся в дом Клавьера за черной икрой, но это невиданное кушанье не так уж сильно помогало. Я чувствовала ужасное нетерпение. В душе у меня было энергии побольше, чем у двух людей, вместе взятых, но тело оставалось пока бессильным. Я не могла бы сейчас даже заботиться как следует о малышках, ухаживать за ними, стирать пеленки. Так что существование Николь вызывало у меня и радость, и раздражение одновременно.
Шли дни, и я чувствовала себя все лучше и лучше. Каждый час я пыталась использовать для выздоровления. Когда Порри лишь разрешал мне садиться в постели, я уже тайно от всех поднималась; и также без ведома доктора начала ходить по комнате. Я дала себе для поправки две недели сроку и твердо знала, что к тому времени должна быть здорова.
Силы, конечно, еще не скоро полностью вернутся ко мне, но мне нужно лишь одно – способность ходить по Парижу и не падать от слабости.
Однажды за обедом из каких-то обрывков фраз я поняла, что Доминик и его сестра завтра на рассвете собираются к матери в Лоншан.
– Не вставайте с постели, – попросил меня Доминик. – Я знаю, что вам не терпится, но поберегите себя. Когда я вернусь, я хотел бы… хотел бы серьезно поговорить с вами.
Я молча кивнула. Мне стало ясно, что он набрался смелости и решил прояснить свое отношение ко мне. Может быть, он даже предложит мне замужество. «Возможно, даже решится скомпрометировать себя», – подумала я с усмешкой. Доминику я была очень благодарна, но мне не нужны были ни его любовь, ни его жертвы. Сейчас я ничем не могла ему отплатить. Может быть, настанет еще такой час, когда я смогу его отблагодарить. Тогда-то я и скажу ему «спасибо». А пока я хотела лишь того, чтобы никто не догадался о моем намерении уйти. Я хотела попрощаться по-английски.
– Вы обещаете? Обещаете не вставать? – настаивал Доминик.
– Да, конечно, – сказала я, поднимая глаза от тарелки. – Обещаю.
8
И вот наступил тот день, 10 января 1795 года.
В ту ночь я спала очень крепко, очевидно, потому, что знала, что мне надо набраться сил, но, едва внизу хлопнула дверь и Доминик с сестрой уехали в Лоншан, меня словно пружиной подбросило на постели. Сон как рукою сняло. Я опустила босые ноги на пол, быстро поднялась. У меня был план, и я готова была его исполнять. Я не волновалась и не спешила, прекрасно зная, что времени у меня предостаточно.
Оконное стекло покрылось изморозью, из чего я заключила, что погода стоит холодная. Не без труда я разыскала свою прежнюю, еще тюремную одежду – она была теперь выстирана и выглажена руками Николь и выглядела опрятно, но весьма убого. Впрочем, мысль об этом недолго занимала меня. Я умылась, аккуратно причесала короткие волосы перед зеркалом. Энергия так переполняла меня, что я даже не огорчилась, увидев себя в зеркале худой, смертельно-бледной и изможденной. Мне не для кого быть привлекательной, я навсегда вычеркнула мужчин из своей жизни.
Потом меня посетила мысль о том, что у меня нет теплой одежды. Три месяца я не выходила на улицу, но знала, что сейчас зима и что нельзя ходить по Парижу в одном платье. Тем более что зима выдалась холодной. Мне никак нельзя заболеть снова. Подумав об этом, я поняла: у меня только один выход – взять одежду Николь. Так я и поступила. Белым пушистым платком повязала голову, как это делали все парижские простолюдинки, и нашла для себя грубо сшитый, но очень теплый плащ из тяжелого шерстяного сукна. В ящике я обнаружила теплые вязаные чулки, и они тоже пришлись мне очень кстати. Да, я совершала кражу. Но я должна была быть здоровой, чтобы вырастить моих Дочек. Женских зимних ботинок я не нашла и, не долго думая, взяла мужские, принадлежащие Доминику: они были велики, но хорошо грели.
Девочки еще спали. Я склонилась над деревянной колыбелькой, и какой-то миг прислушивалась к их дыханию. Я знала, что они скоро проснутся; они вообще вставали ни свет ни заря, требуя молока, и потом снова засыпали, как и все трехмесячные младенцы. Но Николь, уходя, уже их накормила, и даже сцедила лишнее молоко. Я осторожно перелила его в бутылочку, чтобы забрать с собой, и тяжело вздохнула, подумав о том, как щедро наградил меня Господь Бог, послав вместо одного ребенка целую двойню.
Я вытащила из колыбельки Веронику – она не плакала, но было видно, что удовольствия ей это не доставляет. Может быть, девочки еще не очень хорошо знали меня, ведь с ними всегда больше возилась Николь. Я проверила, не мокрая ли малышка, вытерла и перепеленала ее насухо, потом надела на головку два теплых чепчика и завернула в шерстяное одеяльце. Затем очередь дошла до Изабеллы, и то же самое я проделала с ней. Теперь мои малютки были тепло укутаны и готовы сопровождать меня.
Вместе они не весили и двадцати фунтов, но мне все же показалось, что будет слишком тяжело нести их на руках. Я разыскала крохотную тележку, в которой Николь вывозила их гулять, устлала ее теплым одеялом, уложила туда малышек и, поскольку еще одного одеяла уже не было, укрыла их теплым большим полотенцем. В уголок поставила бутылочку с молоком и сложила в тележку все пеленки, одежки и чепчики, сшитые Николь для малышек.
Через минуту, прихватив с собой оставленный для меня завтрак, я была готова.
Я осторожно вывезла тележку на улицу. Девочки, сухие и сытые, спокойно спали, но я все равно прикрыла одеяльцем их личики, чтобы им не очень досаждал зимний воздух. У порога стояло молоко, оставленное молочницей. Недолго думая, я поставила крынку в тележку.
Из-за угла показалась долговязая фигура Брике. Он всегда навещал меня по утрам.
Увидев меня, он замер.
– Вот оно что, ваше сиятельство! Я-то думал, вы еще в постели!
– Я ухожу, – сказала я без долгих предисловий. – Ты со мной, Брике?
Он усмехнулся.
– Само собой! Что вы без меня можете! И куда мы теперь отправимся?
– Для начала к моему брату. А потом в Бретань.
– Я вам тут кое-чего съестного принес, – сказал Брике. – Ну, ведь это всегда пригодится.
И от сознания того, что он будет со мной, мне стало легче. Мы уже отошли от дома, как я кое-что вспомнила.
– Погоди, – сказала я Брике.
Потом подошла к двери и кусочком мела вывела лишь одно большое слово – «спасибо».
9
Я шла по улице, толкая перед собой тележку. Вероника и Изабелла спали, ни о чем не подозревая, а я все время тревожилась, не холодно ли им.
Зима была лютой, как никогда в истории. Температура падала до минус пятнадцати градусов. Париж был засыпан снегом, деревья стояли в узорчатых цепях инея. Было красиво, но чересчур холодно. Ледяной ветер бил в лицо, забирался под одежду, и надо было идти быстро, чтобы не замерзнуть. Маленькая тележка вязла в сугробах, и толкать ее было не так уж легко.
– Давайте я помогу вам, – предложил Брике.
– Нет, – сказала я. – Я должна сделать это сама.
Еще не совсем рассвело, и голубоватый туман стоял над землей, смешиваясь с белым сиянием снега. Воздух был морозный, сухой, бодрящий; над домами серое небо уже посветлело и показался туманный, расплывчатый диск солнца. Оно было огненно-серое, синевато-алое. Верхушки деревьев тоже были точно облиты огненным светом, искры утренней зари скользили по прозрачно-белому инею, окрашивая его в нежно-розовый цвет.
Но как было холодно! Молочницы, попадавшиеся мне навстречу, все были румяны от мороза. Хлопали двери домов, гасли в окнах свечи и ночники – Париж просыпался. Водовозы уже отправились скалывать лед на Сене, многие ремесленники спешили на работу, открывались булочные, и вкусно пахло горячим, свежим, только что испеченным хлебом.
На небе еще сияли январские звезды, но с каждой минутой все слабее и тускнее.
Я шла очень быстро, толкая тележку, и снег поскрипывал у меня под ногами. Он выпал давно, утрамбовался, и теперь на тротуарах было скользко. Но сверху, с холодного серого неба падал новый снег – крупный, мокрый; мягкие снежинки садились мне на ресницы и тут же таяли.
– Трубочки, трубочки, дешевые трубочки! – громко выкрикивал продавец вафель, и приятный сладкий аромат сдобы и сливок соблазнительно щекотал мне ноздри.
А цирюльник, спозаранку распахнувший дверь своего заведения, уже запел свою всегдашнюю песенку:
По примеру святой Жанны Мойтесь, дамы, только в бане.Проходя мимо лавки гравера, я увидела, что посетителям предлагается целая серия карикатур на Робеспьера: Робеспьер-тиран, Робеспьер-предатель, чудовищный Робеспьер-убийца, с леденящей кровь улыбкой сжимающий в руке, как лимон, человеческое сердце… Люди и нравы менялись с головокружительной быстротой.
Темная мрачная тень легла на нас. Я подняла голову. Мы были уже у Тампля, у той самой ротонды, где раньше собиралось столько торговцев и лоточников. Совершенно внезапно у меня в памяти всплыла полузабытая картина.
Январь 1787 года, поздний вечер, и такой же глубокий снег, как сейчас. Мягкое сияние фонарей. Блеск звезд на темном небе. Мы с графом д'Артуа вернулись в Тампль из Оперы. Тогда это был уютный, приветливый замок… В тот вечер мы смотрели «Ифигению» Глюка, и я плакала – то ли от счастья, то ли от потрясения, вызванного музыкой. Принц утешал меня. Я как сейчас помнила: он стоит перед зеркалом позади меня, застегивает у меня на шее новое рубиновое колье, потом наклоняется, осторожно отводит в сторону волну моих сверкающих золотистых волос… Его губы касаются моей шеи, плеч, груди; я запрокидываю голову, содрогаясь от блаженства…
Я вздрогнула. Что за наваждение! Что за странное желание жить воспоминаниями! Все это глупости. Я взглянула на Изабеллу и Веронику. Эти девочки – вот моя жизнь, моя реальность. И не стоит лить слезы над прошлым. Я начну все сначала. Сейчас уже не 1787 год…
– Пойдем, Брике, – сказала я вслух. – Уже недалеко.
Улица Па-де-ла-Мюль была пустынна. Я быстро отыскала нужный мне дом, оставила на минутку тележку и молотком постучала в дверь. На первом этаже жил мой брат с семейством, стало быть, он и исполнял обязанности консьержа.
В доме послышался шум. Дверь мне открыла Стефания с фонарем в руке.
10
– Здравствуй, – произнесла я как можно спокойнее. – Это я.
– Я это прекрасно вижу.
Мы молча смотрели друг на друга. Стефания продолжала стоять, не приглашая меня войти. Она еще больше постарела с тех пор, как мы в последний раз виделись, и выглядела теперь лет на пятьдесят. Кажется, даже волосы у нее уже седели. А ведь ей по самому большому счету только сорок.
– У тебя снова родились дети? – спросила она вдруг.
– Да. Близнецы. Девочки.
– Ты так щедра! – произнесла она с иронией. – Ну, а отец-то у них есть?
– Нет. У них нет отца.
– Так я и думала.
Стефания отошла в сторону, пошире распахнула дверь.
– Входи, золовка. Я впускаю тебя только ради Джакомо. Взяв девочек на руки, я вошла в дом, а Брике втащил следом за мной тележку.
– Тебя снова сопровождает этот парень?
– Это мой друг, Стефания.
– Мне прекрасно известно, чего стоят такие друзья. Должно быть, следующий ребенок у тебя родится именно от такой дружбы.
Я пропускала мимо ушей эти пошловатые замечания. Мне нужно было позаботиться о детях. С ними на руках я прошла в комнату, где спали Джакомо со Стефанией, уложила девочек на кровать поближе к камину, осторожно раскутала. Они все-таки замерзли, и носики у них покраснели.
– У тебя есть спирт? – спросила я у невестки.
– Зачем?
– Я хочу растереть их, они совсем замерзли.
– Но я не могу тратить спирт на такие вещи!
Мне было наплевать на то, что она говорит. Решив действовать самостоятельно, я прошла к буфету, ибо приблизительно знала, что и где лежит, достала пузырек со спиртом, развела его водой и мягкой губкой энергично растерла голеньких девочек, пока кожа у них не порозовела. Потом я снова перепеленала их в сухие, подогретые у камина пеленки, и опять уложила в тележку. Она должна была пока заменять им колыбель.
– Ты распоряжаешься в моем доме, как в своем собственном!
– Я твоя родственница, Стефания. Будь добра оказывать мне гостеприимство.
Я знала, что веду себя нахально. Но ради своих детей я бы сделала и не такое.
– Где Джакомо? – осведомилась я, закончив возиться с детьми.
– Стоит за хлебом.
– А твои дети? А Аврора?
– Спят они еще!
– И ты знаешь, что приготовишь им на завтрак?
Стефания очень выразительно постучала пальцем по лбу.
– Ты сумасшедшая, моя дорогая! У меня нет ничего, кроме трех луковиц, куска масла и муки. Джакомо вот сейчас принесет хлеб. В Париже не хватает даже хлеба на всех. Где ты жила все это время – на Луне?
– Из трех луковиц и куска масла можно приготовить отличную луковую похлебку. Да и Брике кое-что принес с собой – правда, Брике?
Я полностью взяла инициативу на себя. Дорогу в кухню я знала и очень легко нашла там три несчастные луковицы. Я очистила их, бросила в кипящую воду, потом туда же бросила четверть фунта масла для заправки. Брике развернул заляпанную соусом бумагу – это был огромный кусок жаркого.
– Это я почти что со стола украл! – сообщил он горделиво. – У меня есть и вино, но уж это только для мадам Сюзанны. Ей после болезни доктор вино прописывал.
– Ты привела в мой дом бандита с большой дороги!
– Успокойся, – сказала я Стефании. – У Брике ловкие руки, это так, но тот дом, из которого он все это украл, так богат, что пропажу вряд ли даже заметили.
Подумав, я добавила:
– У нас будет отличный завтрак.
Голодному и замерзшему Брике, который эту ночь провел неизвестно где, я налила большую тарелку луковой похлебки, горячей, только что с огня.
– Завтрак-то у нас будет, – сказала Стефания, без особой радости наблюдая прекрасный аппетит Брике. – А обед?
– Когда придет время обеда, тогда мы об этом и подумаем.
Мне не терпелось увидеть Аврору, и я, оставив своего друга и невестку на кухне, поспешила в другую комнату. Там спали девочки и Ренцо. Сквозь тонкие занавески уже пробивался солнечный свет. Я без труда нашла там Аврору: она единственная из всех спала на полу. У Флери и Жоржетты были свои кровати, Ренцо спал на раскладной, походной постели. Только для Авроры ничего не нашлось. И спала она в ветхой-ветхой рубашке, укрываясь рваным тонким одеялом, из-под наволочки лезла солома. Впрочем, вряд ли я могу многого требовать для своей девочки. Следует считать счастьем уже то, что она сносно прожила без меня эти три месяца.
Я наклонилась, нежно провела рукой по ее русым волосам и, не удержавшись, поцеловала в лоб. Мне показалось, она очень выросла. И еще больше похудела. Ничего другого ожидать и не приходилось: Джакомо и Стефания живут очень бедно. Ощутив чье-то присутствие рядом, Аврора сонно зашевелилась.
– Ах, Флери, отстань! – пробормотала она сквозь сон. Я еще раз погладила ее, не зная: будить или не будить. Она проснулась.
Какое-то мгновение она недоуменно смотрела на меня, словно не узнавала спросонья. Потом – с тихим всхлипом, без возгласа радости, без крика – рванулась ко мне, протянув руки, порывисто обняла, необыкновенно сильно прижимаясь ко мне. Этот бурный, сильный порыв поразил меня, всколыхнул и во мне целую волну нежности. Щека у Авроры была мокрой – она тихо плакала. Прижимая к себе ее голову, осыпая поцелуями волосы, я внезапно поняла, что тоже плачу.
Аврора ничего не спрашивала, только повторяла:
– Мама, наконец-то! Наконец-то!
– Ты ждала меня, дорогая?
– Ну, конечно! Наконец-то мы вместе!
– Успокойся, радость моя, – говорила я, сама дрожа от волнения, – успокойся. Все уже кончилось, я никогда больше не оставлю тебя. Я люблю тебя, малышка.
– Ты возьмешь меня с собой?
Я кивнула, даже не задумываясь над тем, откуда она догадалась о моем намерении уехать из Парижа.
Стали просыпаться другие девочки – мои племянницы Жоржетта и Флери. Они очень выросли, особенно последняя – ей, Флери, шел уже пятнадцатый год и она казалась развитой не по летам. Обе девочки не блистали изяществом, но, крепко сбитые, смуглые, черноволосые и черноглазые, они выглядели достаточно привлекательно. О Жоржетте еще пока рано было говорить, но Флери мне показалась очень похожей на Джульетту Риджи, свою бабушку.
Именно это я и высказала вслух самым приветливым образом, и мне показалось, что Флери польщена.
– Папа часто рассказывает о бабушке. Говорит, она была просто необыкновенная красавица.
– Да, это так, – подтвердила я.
– И она вправду была шлюхой, да?
– Замолчи! – напала на сестру младшая, Жоржетта. – Мама не позволяет говорить о таком!
Я рассмеялась.
– Одевайтесь поскорее, лентяйки, я привела вам кавалера.
– О! – воскликнула Флери. – А как его зовут?
– Брике.
– Фи!
– Что значит «фи»?
– Имя как собачья кличка.
– Его так все называют, это его прозвище.
Тут Аврора ревниво прижалась ко мне, напоминая о своем присутствии, и я сразу же прекратила разговор с племянницами.
– Пойдем, – шепнула я, – я привезла тебе сестричек.
– Правда?!
Аврора даже подпрыгнула от восторга и нетерпения. Мне ни на мгновение не удалось задержать ее. Она бросилась вон из комнаты, позабыв даже обо мне.
– Тише, не смей будить их! – крикнула я ей вслед.
За завтраком я больше молчала, серьезно обдумывая свое положение. Мне многое было ясно, даже слишком ясно. Долго оставаться в этом доме я не могу, самое большее – неделю. Дольше меня не потерпят, даже если Джакомо будет на моей стороне. Да я и сама не останусь. Мне нужно начать новую жизнь. Свою жизнь.
Но я хорошо понимала, что начинать мне ее придется с нуля. Я попыталась оценить все трезво, взвесить все «да» и «нет». Чего у меня нет? Денег, крова, одежды, работы – ничего. Что у меня есть? Два грудных младенца, нуждающихся в молоке, Аврора, которую нужно содержать, и, если повезет, еще два мальчика, которые не настолько малы, чтобы питаться лишь молоком, но и не настолько велики, чтобы помогать мне. Есть еще Брике, но его, пожалуй, следует отнести к счастливым приобретениям.
И все-таки ситуация, похоже, была тупиковой.
Я нетерпеливо дожидалась прихода Джакомо – он всегда слыл благоразумным и рассудительным человеком. К тому же я знала, что он хорошо ко мне относится. С ним я и поговорю на эти сложные темы.
Когда Джакомо все-таки пришел, я не узнала его. У меня даже возникло поначалу впечатление, что передо мной совершенно чужой человек. Волосы у него сильно поредели и начали седеть. Он ссутулился, почти сгорбился и ходил, тяжело опираясь на трость. От Стефании я знала, что с недавних пор его мучает полиартрит – это в его-то годы! Лицо его было бледно и печально, щеки ввалились, возле губ залегли глубокие складки. И я невольно подумала, что жизнь, пожалуй, слишком жестоко обошлась с самым красивым из братьев Риджи.
Его пальцы, как и прежде, лишь коснулись моего лба, и он сразу узнал меня.
– Ты изменилась, – сказал он в свою очередь. – Ты, вероятно, была больна?
– Да. После родов заразилась родильной горячкой.
– Подумать только! – проворчала Стефания. – Обычно женщины от этого умирают!
Джакомо знаком велел ей замолчать.
– Прости, – сказал он мне. – Мы ничем не могли тебе помочь.
Мы уселись возле стола, брат взял мои руки в свои.
– Как твои дочери? – спросил он.
– О, великолепно. Они так цепко держатся за жизнь. И такие хорошенькие. Вероятно, будут такие же белокурые, как я.
– Это хорошо, – заметил Джакомо. И, помолчав, добавил: – Стефания снова беременна. Так что не сердись на нее. У нас и так много забот, а тут еще это…
Это сообщение удивило меня. Стефания казалась мне совсем старой. И, конечно, при их бедности совсем не нужен еще ребенок. Хотя, впрочем, мне лучше, чем кому-либо, известно, что дети часто появляются на свет именно тогда, когда меньше всего об этом мечтаешь.
– Что ты думаешь делать?
– Хочу вернуться в Бретань, – сказала я.
– У тебя сохранилось там какое-то имущества, Ритта? Я усмехнулась.
– Да так, не имущество, а остатки имущества… Дома почти нет, земли и леса секвестрированы и проданы с торгов. Полагаю, у меня осталось кое-что… та земля, что прилегала к замку… да еще площадь парка, который сожгли…
– Значит, ты правильно решила, Ритта, – поспешно произнес Джакомо. – Поезжай в Бретань, там твоя вторая родина.
Я замолчала. Похоже, Джакомо очень хочет, чтобы я поскорее уехала из Парижа. Это не обидело меня, ничуть не обидело. Брата можно понять. Он и так бьется как рыба об лед, а тут еще семья грозит увеличиться.
Джакомо поднял голову, заговорил – медленно, сдавленным голосом, словно стыд душил его:
– Ты прости, Ритта. Я, наверное, веду себя плохо. Не так, как по тосканским обычаям полагается старшему брату. Но в последнее время дела наши идут все хуже и хуже. Нищета нас совсем пришибла… Два месяца назад тяжело болел Ренцо, мы потратили на лечение почти все сбережения, а их ведь и так было немного. А времена нынче такие, что…
– Я все поняла, Джакомо.
Сказав это, я поднялась. Мне стало ясно, что он не поможет мне даже советом. Бедность совсем заела его. Это скверное явление – постоянная бедность. Оно сейчас и меня постигло.
Я наклонилась, быстро поцеловала брата в щеку:
– Я ничего не хочу от тебя, Джакомо, милый. Успокойся. Я люблю тебя. И я не пробуду у вас больше, чем неделю.
Все разговоры для меня здесь были закончены. Я вышла в прихожую, быстро оделась. Из кухни выглянула растрепанная головка Авроры.
– Аврора, милая, – сказала я, – ты уже взрослая девочка. Через сорок минут малышек надо снова покормить. Найди в тележке бутылочку с молоком, подогрей, чтоб было теплым, и покорми их из рожка. Я знаю, ты все сделаешь правильно.
Аврора, в восторге от порученной ей миссии, кивнула.
– А куда ты идешь, мама?
– В Сен-Мор-де-Фоссе.
Видя, что она не совеем понимает, я добавила:
– За своим сыном, Аврора. И за Шарло.
Если только они там есть…
11
В тот день, в среду 10 января, Конвент принял декрет о ежегодном национальном празднестве в годовщину казни Людовика Капета.
Казалось, то был последний всплеск террора. Метаморфозы, касающиеся власть имущих, происходили с такой быстротой, что дух захватывало: вчерашние левые становились правыми, вчерашние террористы надевали личины умеренных, вчерашние умеренные едва ли не превращались в конституционных монархистов… Казнь Робеспьера словно сорвала с революционеров маски: каждый открыл свое истинное лицо. Термидор разрушил завесу, созданную из высокопарных речей и патриотических славословий, уничтожил флер, наброшенный на подлинную природу новой власти. Раньше ее представляли патриоты-революционеры, теперь эти патриоты и революционеры устали притворяться и вели себя более естественно, превратившись в обыкновенных жуликов, воров, интриганов и убийц. Таков был состав Конвента.
Все теперь уверовали, что выигрывает только карта справа, и политика неумолимо отклонялась от пика террора к пику обличения террористов и их преступлений. Париж был наводнен бандами золотой молодежи – их еще называли мюекаденами. Вооруженные палками и дубинами, они нападали на якобинские клубы и кафе, разгоняли якобинцев под пение нового гимна «Пробуждение народа», где рефреном звучал припев: «Им от нас не уйти!» Фрерон и Тальен, сами бывшие террористы, были теперь предводителями этих группировок и страницы своих газет оглашали призывами к возмездию и расправе с «охвостьем Робеспьера».
Да, это были те самые Фрерон и Тальен, прославившиеся как кровавые проконсулы Конвента в провинциях, перещеголявшие в жестокости самого Робеспьера. Их политическое мышление было необыкновенно гибко, совесть лишена всяких принципов; они даже не стыдились своего поведения, они просто держали нос по ветру.
Горе было теперь террористам! Каррье, утопивший в Нанте тысячи женщин и детей, уже был обезглавлен; Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель в Революционном трибунале, ожидал суда; за решетку были брошены наиболее кровавые исполнители воли Робеспьера, в их числе и арраский палач Жозеф Лебон. Целая когорта термидорианцев, сбросивших тирана и его приспешников, теперь пребывала в тревоге за собственную жизнь: в Конвенте все громче звучали требования суда над террористами, над членами некогда всесильного Комитета, в первую очередь над четырьмя из них – Барером, Билло-Варенном, Колло д'Эрбуа и Вадье.
Террористы трепетали, а на передний план все увереннее выступали истинные победители, которых революция облагодетельствовала и обогатила, которые пользовались ее плодами и строили свое нынешнее благосостояние на том, что было отобрано у побежденных, Республика раскрыла свою суть. Она оказалась жестоким миром низменных страстей, волчьей грызни из-за дележа добычи, республикой чистогана, спекуляции, хищнического, беспощадного эгоизма, создающего богатство на крови других. Наконец-то после долгой ночи, в жизненной стуже появился новый хозяин, возникла новая власть – деньги. Едва казнили Робеспьера, как воскресли всемогущие деньги, и снова вокруг них появились тысячи прислужников. Парфюмерные и ювелирные лавки снова стали торговать вовсю; внезапно возникли пятьсот, шестьсот, тысяча танцевальных залов, повсюду строили виллы, приобретали дома, спекулировали, держали пари, покупали, продавали и за плотными камчатными занавесями Пале-Рояля спускали тысячи. Деньги пришли к власти – самодовольные, наглые и отважные.
Но где же они, эти деньги, были во Франции между 1791 и 1795 годами? Они продолжали существовать, но были спрятаны. В период террора богачи внезапно прикинулись мертвыми и, надев поношенное платье, жаловались на свою бедность. В эпоху Робеспьера прослыть богатым было опасно. Теперь же силен стал лишь тот, кто богат. И, к счастью, наступило великолепное время (как всегда в дни хаоса) для приобретения денег. Состояния переходили из рук в руки; имения продавались, на этом зарабатывали. Собственность эмигрантов продавалась с аукциона: на этом зарабатывали. Состояние осужденных конфисковывалось: на этом зарабатывали. Курс ассигнаций падал со дня на день, дикая лихорадка инфляции потрясала страну: на этом зарабатывали. На всем можно было заработать, имея проворные руки и связи в правительственных кругах. Но самый лучший, ни с чем не сравнимый источник доходов – это, разумеется, война.
Республика захватила Бельгию, Нидерланды, северные области Испании; Республика вела непрерывные войны. И с той, и с другой стороны гибли тысячи людей, плакали убитые горем солдатские матери – что из этого? Поставляя в армию скверное обмундирование, неисправные ружья, подмокший порох и сапоги на картонной подошве, за которые платят впятеро больше, чем в мирное время, можно наполнить карманы золотом, – вот почему Республика должна воевать! Ну, разумеется, под приличными лозунгами – Свободы, Равенства и Братства.
Якобинцы и депутаты Конвента быстро обнаружили, что деньги пахнут гораздо лучше, чем кровь, пролитая в 1793 году. Исчезло отвращение к «презренному металлу», о котором так красноречиво трубили совсем недавно; забыта была ненависть к «злым богачам», забыто то, что хорошему республиканцу не нужно ничего, кроме «хлеба, оружия и сорока су в день», – теперь настало время самим стать богатыми.
Почетно только богатство! Вчерашние проповедники равенства открыто, неистово, с нескрываемым вожделением бросились в погоню за богатством, превратившись в охотников за наживой, искателей легкой жизни, жуиров, жадных, грубых стяжателей, нетерпеливо стремившихся захватить все сразу.
Проконсулы – Баррас, Тальен, Фрерон, Ровер, Бурдон де л'Уаз, – выступавшие в тоге апостолов равенства, оказались в действительности ворами, казнокрадами, хладнокровными убийцами, под флагом «революционной беспощадности» творившими расправу над невинными людьми, обогащаясь на их несчастьях. Теперь они были вознесены на вершину власти, с трибуны Конвента определяли политику. Для них Республика означала обогащение, открытое, ничем не ограничиваемое наслаждение благами жизни. Последнее представлялось этим рвачам в соответствии с их низкопробными вкусами: власть, золото, вино, женщины… Богатство, выставляемое напоказ, кутежи и оргии в голодающем городе, пир во время чумы…
Менялся внешний облик Парижа, менялась сама жизнь. По Булонскому лесу каталась верхом золотая молодежь – в туго облегающих ноги белых нанковых лосинах и ярких фраках. Большие бульвары и площади столицы оказались во власти новых хозяев – молодых людей в крикливых нарядах, с тросточками в руках, чуть-чуть прикрытых прозрачной тканью дерзких девчонок из так называемого хорошего общества. Париж новой буржуазии предавался кутежам, развлечениям, танцам. То были новые, странные танцы, не похожие на медлительные, изящные котильоны старого времени. Устраивались «балы жертв», куда допускались лишь те, у кого кто-то из родственников был гильотинирован. Полуголые женщины «высшего света», похожие на проституток, и проститутки, не отличимые от «высокопоставленных» дам, вместе с крикливо одетыми кавалерами при неярком свете свечей, под жалобную и пронзительную музыку танцевали странный танец, имитирующий судорожные движения тела и головы, падающей под ударом ножа гильотины. Танцевали и в темноте, и при свете луны на кладбищах, на могильных плитах.
Женщины-полуаристократки, отсидевшие в тюрьмах, пользовались спросом у депутатов Конвента и государственных чиновников – те, забыв о своих убеждениях, предпочитали именно их брать в любовницы или даже в жены. Тереза Кабаррюс, бывшая маркиза, после многочисленных приключений стала законной супругой одного из главарей мюскаденов Тальена и теперь в великолепном доме на шоссе д'Антен разыгрывала роль первой красавицы и законодательницы мод. Жозефина де Богарнэ выгодно устроилась в многочисленном гареме Барраса, бывшего маркиза, а теперь перспективного депутата. Ровер, бывший аристократ, резавший других аристократов в ледниках Авиньона, сочетался браком с Анжеликой де Бельмон. Вентабол получил в жены одну из представительниц рода Роган-Шабо, которую вызволил из тюрьмы. А Мерлен из Тионвиля, пылкий республиканец, 10 августа 1792 года первым ворвавшийся в Тюильри с пистолетом в руке и к 1795 году обладавший уже богатейшими имениями и парками – несомненными плодами этой победы, – женился на прекрасной вдове графа де Клермон-Тоннера – в этот раз на настоящей аристократке, если не по духу, то по происхождению.
Экономика резко шла под откос. Непрерывные эмиссии и инфляция окончательно прикончили бедные бумажные деньги, и в ноябре 1794 года за семь золотых монет с изображением Луи XVI давали тысячу бумажных ливров. Урожай был плох в 1794 году, к весне ожидался голод, но уже сейчас в Париже не хватало хлеба. Выкачать зерно из крестьян уже не удавалось. Правительство тщетно пыталось начать закупки за границей: оскудевшая казна вынудила его положиться на частные капиталы, что еще более усилило положение крупной буржуазии.
Безработица принимала устрашающие размеры вследствие недостатка сырья и закрытия военных мастерских. Повсюду в бедных семьях нарастало отчаяние, повсюду недоедали. Холод усиливал эти бедствия. А в январе муниципалитет жестоко сократил рационы хлеба и мяса, но и после этой меры многие булочники и мясники не могли выдать продукты по всем продовольственным карточкам. От отчаяния люди переходили к ярости. Полицейские агенты доносили о таких изречениях в очередях: «При Робеспьере кровь текла и был хоть какой-то хлеб, теперь хлеба нет так же, как и крови; стало быть, кровь должна течь, чтобы хлеб появился».
Обескровленная, разграбленная, Франция падала все ниже и ниже, под гром пушек, звуки победных фанфар и пение «Пробуждения народа»:
Мы клянемся на наших гробах, Мы клянемся несчастной страной Сразу всех извести кровопийц, Сразу всех уничтожить врагов.12
Только придя в Сен-Мор-де-Фоссе, я почувствовала, что ноги у меня от усталости стали деревянными. Я замерзла, бредя по заснеженной дороге, то и дело попадая в глубокие сугробы. От жестокого мороза пальцы у меня закоченели, щеки пылали румянцем. Было пять часов пополудни, к вечеру ветер усиливался и, казалось, со свинцово-серого неба снова начнут падать хлопья снега.
У попавшейся по дороге старухи, высохшей, как дынная корка, я еще раз уточнила, где живет мамаша Барберен, давшая приют моим мальчикам. Об остальном я расспрашивать побоялась, инстинктивно опасаясь узнать что-то такое, что причинит мне боль.
Я прошла по занесенной снегом тропинке, сильно постучала в дверь. Впрочем, еще подходя к дому, я заподозрила, что он пуст: не видно было даже дымка, тропинку занесло снегом… Я постучала снова; ответом мне была лишь тишина.
– Эй, вы! – окликнул меня женский голос.
Толстая молодая девка, с виду крестьянка, остановилась на дороге.
– Не стучите понапрасну. Мамаша Барберен вот уж три дня гостит у своей дочери в Бельвю.
Сказав это, она двинулась дальше.
– Погодите! – окликнула я ее, быстро возвращаясь от дома к дороге. – У этой самой мамаши жили два мальчика…
– Эге! – прервала она меня. – Да их уж давно нету.
– Их кто-то увез? – спросила я с замиранием сердца.
– Не кто-то, а сама мамаша Барберен. Одного, как я слыхала, в приют отдали, а второй здесь остался, в Сен-Мор-де-Фоссе, помогает господину кюре. И живет у него.
– У кюре? – переспросила я.
– Ну да, у кюре.
– А как его зовут, того мальчика, что живет у кюре?
– Не знаю. Маленький он такой, брюнет…
Я опустила голову, понимая, что большего не добьюсь. Слава Богу, хоть один из мальчиков остался в деревне. Второго отдали в приют… У меня сжалось сердце. Кто этот второй? И в какой приют его отдали?
Не помня себя, я побежала по дороге. Дикая ярость охватила меня. Если бы эта чертова мамаша Барберен оказалась сейчас передо мной, я бы ее прикончила! А уж самого Батца за его лживость следовало бы щипцами разорвать на мелкие кусочки!
Я задыхалась от гнева. Мои мальчики, Жанно и Шарло! Ясно, что крестьянка выставила их из своего дома просто из скупости, сама-то я видела, что на ее ферме дела идут хорошо и она вполне могла бы содержать двух парнишек, если бы только имела хоть каплю человечности! Впрочем, эти крестьяне – они все такие; глотку друг другу перегрызут из-за куска пашни, лошади или свиньи… Больше всего меня ужасало то, что Жанно может оказаться в приюте. Если бы туда попал Шарло, я бы с этим еще смирилась, но Жанно! Жанно в казенном республиканском заведении! Жанно, сын аристократки, которого содержит Республика! Содержит и воспитывает! Нет, это слишком страшно, это просто кошмар!
Когда я разыскала дом господина кюре, уже совсем стемнело. Дверь мне открыла пожилая женщина, видимо служанка. Я рванулась в дом, даже не спрашивая разрешения, но служанка оказалась достаточно проворной и перехватила меня. Я стала вырываться, а потом, когда поняла, что с ней не справлюсь, яростно прокричала ей в лицо:
– Я хочу немедленно видеть того мальчика, что живет у кюре!
– А что вы за птица? – спросила служанка, ослабив хватку.
– Я его мать.
– А! наконец-то!
Она отпустила меня, окинула неприязненным взором.
– Долго же вы бродяжничали! Ну-ка, ступайте за мной! Господин кюре сейчас с ним занимается.
Я молча пошла следом. Мне было наплевать, как относится ко мне эта старуха, но все же ее слова меня задели. Как можно сказать, что я «бродяжничала»? Только последняя дура может так говорить!
– Ваш кюре присягнул или не присягнул Конституции?
Служанка обернулась. Видно было, что мой вопрос задел ее.
– Это надо же, милочка! За кого вы нас принимаете – за роялистов, что ли?
Из этого ответа я поняла, что кюре присягнул Конституции, и желание забрать мальчика из этого дома усилилось во сто крат.
Я вошла в комнату. При свете двух свечей над столом были склонены две головы – старика и мальчика. С первого взгляда мне стало ясно, что это Шарло. Значит, в приюте оказался мой сын…
– Мадам Сюзанна! – радостно воскликнул Шарло, едва взглянув на меня.
– Ах вот как! – вскричала служанка. – Так вы солгали! Вы не мать ему!
– У меня умерла мать, – заявил Шарло. – Мадам Сюзанна взяла меня к себе еще пять лет назад, когда мой отец застрелился.
– Так ты сын самоубийцы? Силы небесные! – еще разгневанней воскликнула служанка. – Почему ж ты раньше ничего не сказал об этом господину кюре?
Я взглянула на нее, испытывая сильное желание ударить. Но в этот миг вмешался сам священник: он поднял руку и приказал служанке замолчать.
– Где вы были все это время? – обратился он ко мне.
– В тюрьме, – отрезала я.
– За какое преступление?
– За роялизм!
Все замолчали. Мне показалось, служанка даже перекрестилась. Только Шарло смело подошел ко мне; я обняла его, поцеловала в волосы.
– Ты уйдешь со мной, мой мальчик?
Он нерешительно поглядел на священника.
– Отец Бертран, вы меня отпустите?
Я была удивлена.
– Шарло, милый мой, неужели тебе здесь было так хорошо, что ты не решаешься уйти?
– Да, мне здесь было хорошо. Отец Бертран научил меня верить в Бога, открыл мне радости католической веры, и теперь я хочу стать священником, как он.
Я передернула плечами: настолько странно это звучало. Да еще в устах одиннадцатилетнего мальчика. Но Шарло и сам выглядел странно: с каким-то отрешенным непроницаемым лицом, которое было бы под стать скорее старику, чем ребенку, с грустными большими глазами, с волосами, тщательно причесанными назад и собранными в старомодную косицу. Боже мой, во что они его превратили! На нем не одежда, а сутана. Я же знала, что Шарло хорош собой, но этот мрачный наряд словно лишил его половины привлекательности.
– Что с тобой, Шарло, милый? Ты стал похож на монаха из ордена траппистов![15]
Он поднял на меня глаза.
– Мне кажется, мадам Сюзанна, – сказал он со спокойным достоинством, – что это совсем неплохо.
Я не могла воспринимать подобные глупости серьезно. Меня так и подмывало встряхнуть Шарло, взъерошить прилизанные волосы.
– Шарло, дорогой мой, ты, пожалуй, не совсем здоров. Тебе нужно выйти на свежий воздух, ты наверняка уже давно не развлекался так, как другие мальчики твоего возраста. Ты дружишь с кем-нибудь из Сен-Мор-де-Фоссе?
– Нет, – сказал он почти угрюмо. – Я люблю читать.
– Ничего. Тебе в этой деревне и не нужны друзья. Мы сейчас же уйдем отсюда.
Он оглянулся на священника:
– Отец Бертран, вы разрешите мне уйти?
Кюре развел руками.
– Дитя мое, могу ли я препятствовать забрать тебя женщине, которая содержала тебя несколько лет и которую ты сам признал?
– Мы уйдем сейчас же, – заявила я решительно, слегка уязвленная тем, что Шарло в какой-то степени поставил меня в зависимость от этого кюре, к тому же присягнувшего.
– Зачем вам уходить сейчас? Стоит мороз, а на дворе ночь. Я предлагаю вам переночевать у меня, – сказал отец Бертран.
Я сперва растерялась, а потом это предложение показалось мне резонным. Я так устала, что вряд ли смогу добрести до Парижа, пешком, ночью, да еще в такой холод.
– Луиза, – обратился кюре к служанке, – подавайте на стол.
И, повернувшись к Шарло, кюре добавил:
– После ужина, сын мой, мы закончим урок, и я дам тебе свои последние наставления.
Ужин был скудный, но я поглощала его жадно и поспешно – мне не терпелось поговорить со священником. Едва подали сыр, я сразу же прервала затянувшееся молчание.
– Сударь, – сказала я, не желая называть присягнувшего священника «святым отцом», – ради всего святого, скажите, не знаете ли вы, куда мамаша Барберен отдала второго мальчика, Жанно?
– Ах, этого сорванца!
Священник вытер губы салфеткой.
– Судя по тому, как ведете себя вы, этот негодник, очевидно, уже не ваш приемный, а ваш родной сын, гражданка.
Я вспыхнула. Не хватало еще, чтобы всякие полуякобинцы-полусвященники обсуждали меня и моего сына!
– Ваш сын, Жан, жил некоторое время у меня, гражданка. У мамаши Барберен я забрал обоих мальчиков. Но спустя неделю я был вынужден расстаться с ним.
– Почему? – спросила я напряженно.
– У него нет никаких способностей к учению.
– Вот уж верно! – взревела служанка. – Никто не досаждал господину кюре так, как этот сорванец. Он не желал учиться, не желал помогать мне на кухне, а когда его хотели наказать, кусался и убегал в поле. Он со злости изорвал половину книг у господина кюре и залил их чернилами, и поцарапал стол, и разбил мою любимую голубую чашку – она у меня была одна, видит Бог!
– Ваш сын – злой мальчик, гражданка, – кротко заключил кюре. – Увидев, что его не перевоспитать, я отдал его в приют.
Я сидела красная как кумач, не желая верить ни одному слову, которое услышала. Это у Жанно-то нет способностей к учению? Ну, это смотря как учить. Когда в монастыре францисканцев меня встретил фра Габриэле, я тоже оказалась бестолковой. И, разумеется, Жанно – не Шарло, мой сын никогда не нацепит на себя личину религиозности, не станет благостным и кротким, таков уж у него нрав – строптивый, бойкий, задиристый. Но он не глуп. Ему не в кого быть глупым.
Кипя от злости, я только спросила:
– В какой приют вы его отдали?
– В приют Мучеников Свободы, что в Клиши.
Меня ужаснуло самое название. Мученики Свободы! Можно представить, как там обращаются с детьми!
– И давно он там? – спросила я ледяным тоном.
– С начала весны.
– То есть почти десять месяцев!
В этот миг я была готова выцарапать глаза всем – и мамаше Барберен, выгнавшей детей на улицу, и Батцу, бесстыдно солгавшему мне, и этому чертову отцу Бертрану, который считает, что это по-христиански – разлучать братьев!
– Шарло, ты только взгляни на своего учителя! – воскликнула я запальчиво, не в силах владеть собой. – Вы с Жанно все время были вместе, вы росли как братья. Разве я когда-нибудь обращалась с тобой хуже, чем со своим сыном? Вряд ли ты можешь меня в этом упрекнуть. И вот этот человек отправляет Жанно в приют, а тебе это нравится, ты даже не протестуешь! Ты же дворянин, вспомни об этом!
Мальчик взглянул на меня.
– Я остался, потому что хотел принять причастие и еще чему-нибудь научиться.
– И ты его уже принял, это первое причастие?
– Нет, но отец Бертран подготовил меня.
– Поздравляю!
Я встала из-за стола, дрожа от гнева. Конечно, я понимала, что бессмысленно обвинять Шарло. Он еще ребенок, да к тому же явно не бойцовского нрава. Обуздав себя, я взглянула на мальчика.
– Я жду тебя, Шарло. Когда ты поговоришь со своим учителем, приходи поскорее, тебе надо отдохнуть.
Вряд ли он меня послушался. Служанка постелила мне в его каморке и оставила зажженной свечу. Ожидая Шарло, я задремала. Когда открыла глаза, свеча догорела уже до половины, а мальчика еще не было. «Он замучает его до смерти, этот кюре», – возмутилась я. Потом я снова уснула. Некоторое время спустя до меня донеслось какое-то бормотание.
Шарло стоял на коленях перед распятием и что-то бубнил себе под нос.
– Что это ты делаешь, мальчик мой? – спросила я.
– Я молюсь, мадам Сюзанна.
– Вряд ли ты выспишься, если будешь так долго молиться.
Его поведение, его слова казались мне нелепыми. Ну, ему же только одиннадцать! В его возрасте так не молятся. Я, конечно, ничего не имела против того, чтобы Шарло был религиозен, но все-таки это очень странно. Впрочем, я ничуть не намерена ему мешать.
Я уже спала, а до меня все доносились латинские слова молитвы.
13
В Клиши мы пришли только к полудню следующего дня. Я вынуждена была взять Шарло с собой. Для того чтобы отвести его к Джакомо, нужно было время, а я не хотела терять ни минуты. Узнав, что священник сдал Жанно в приют, я была сама не своя. Мне представлялись самые ужасные картины: то, как неуютно там моему сынишке, как его обижают, может быть, даже бьют. Приют отождествлялся в моем сознании с тюрьмой. Стало быть, надо поскорее освободить Жанно оттуда.
Оставив Шарло на улице, я прошла в широкий, вымощенный плитами двор. Два или три десятка мальчиков примерно двенадцати лет в одинаковых бумазейных куртках и синих, военного покроя брюках, дружно распевая «Марсельезу», маршировали взад-вперед, повинуясь приказам своего наставника. Жанно среди них не было, поэтому я решительно направилась ко входу.
Дверь распахнулась, и прямо на пороге я столкнулась с Маргаритой.
От неожиданности я попятилась. Она, кажется, тоже. Какой-то миг мы пораженно смотрели друг на друга.
– Маргарита? – прошептала я растерянно.
Стыдно было признаться, но я мало вспоминала о ней. Я все время думала о Жанно, и Маргарита была вытеснена из моей головы этими заботами. Но вот она стояла передо мной – в серой поношенной юбке, шали, фартуке, такая же, как прежде, решительная, полная и румяная… Раз она здесь, значит, и Жанно недалеко; я знала, что она оказалась здесь только ради мальчика, ради того, чтобы он не остался один. Она любила всех нас… Взволнованная и этой мыслью, и долгой разлукой, и собственными чувствами к этой пожилой преданной женщине, я без сил уткнулась лицом ей в грудь.
Ее рука, гладившая мои плечи, чуть вздрагивала. Я прошептала:
– Знаешь ли ты, что ты для меня больше, чем мать?
– А как же! Вот оставили вы меня, и сами видите, что из этого вышло!
Я невольно улыбнулась. У меня словно гора с плеч свалилась, когда я поняла, что вновь обрела Маргариту. Доселе я была старшая, я за все отвечала. А сейчас у меня… ну, у меня появилось что-то вроде тыла, что ли. Было на кого оглянуться. Маргарита оценит все мои поступки.
– Ну-ка, милочка, довольно! – сказала она решительно. – Бегите скорее, забирайте мальчика. Он, пожалуй, совсем извелся.
Бледность разлилась по моему лицу.
– Ему плохо здесь? Его обижают?
– Да вы же знаете, мадам, что ему не может быть здесь хорошо.
– Где я могу увидеть его?
Маргарита сделала презрительную гримасу.
– Он нынче на занятиях. Хотя какие тут занятия… Это вовсе и не приют даже, а тюрьма!
Я содрогнулась: слова Маргариты очень точно совпали с моими самыми скверными предчувствиями.
– Нас это уже не касается, – сказала я решительно. – Я его сейчас же отсюда заберу.
– А вот это верно, мадам! И очень правильно сделаете. Ему даже на улице, пожалуй, будет лучше, чем здесь… Я, если бы вас не дожидалась, сама бы так поступила. Но все останавливалась: во-первых, думаю, вы здесь нас будете в первую очередь искать, а во-вторых, что-что, а тарелку супа мальчуган тут всегда получит… Но теперь этому надобно положить конец.
Она вскинула голову, расправила плечи и с необыкновенно гордым видом двинулась вперед. Невольно улыбаясь, я подумала, что сорок лет службы сделали свое дело и наложили отпечаток на нрав Маргариты. Она до сих пор была исполнена сознания собственной значимости, и этого не смогла преодолеть даже революция.
– Идемте, мадам, я отведу вас в плотницкие мастерские.
– Плотницкие? Ты же сказала, что Жанно на занятиях.
– Ох, и не говорите, мадам! Это у них и есть занятия. Обучение ремеслу, маршировка и гимнастика.
– И что же Жанно?
– А что ж ему делать? Он учится на плотника. Господи, подумала я, хорошо, что этого никто не узнает.
Всякое ремесло почетно, но… но… только не тогда, когда речь идет о моем сыне. Я не хотела, чтобы мой Жанно был плотником. Еще чего придумали! Это они нарочно так поступили, без сомнения. Решили присовокупить ко всем издевательствам еще и это. Я должна прекратить, пресечь все эти нелепые вещи – немедленно, сейчас же.
Я шла очень быстро. За закрытыми дверями комнат, тянувшихся по обе стороны коридора, слышались шум, приглушенные голоса, стучание молотков. Здесь, в приюте, было грязно и холодно. Обстановка явно не для детей… Даже в старом-престаром монастыре святой Екатерины в Санлисе было уютнее!
Плотницкие мастерские, по словам Маргариты, находились в самом конце коридора, сразу же за широкой лестницей на второй этаж. Там было шумно, раздавались детские крики, иногда что-то со стуком падало на пол. Это показалось мне не очень-то похожим на мерные звуки работы. Вдруг недоброе предчувствие охватило меня, и, вся охваченная этим чувством, я побежала.
Дверь была распахнута. В комнате дрались. Это я поняла еще до того, как добежала, – поняла по громким подстрекающим возгласам мальчишек, которые наблюдали за дракой. Сгрудившиеся в кучу дети мешали мне видеть, что же именно происходит. В сердцах я оттащила нескольких малышей за шиворот в сторону и, получив теперь возможность видеть, взглянула на середину круга.
Жанно, лежа на полу, пытался сбросить с себя усевшегося на него крепкого подростка лет двенадцати. Губы у моего сына были разбиты, на лице багровел синяк. Изловчившись, Жанно рванулся в сторону, одновременно освобождая из-под захвата противника правую руку, и они снова покатились по полу.
Я закричала так громко, что дети застыли, сразу повернув головы ко мне. Расталкивая мальчишек, я бросилась к дерущимся, намереваясь оттащить их друг от друга.
– Что здесь происходит? – раздался громкий голос.
Я остановилась. В комнате повисла напряженная тишина.
– Разве я должен спрашивать дважды? – раздраженно прикрикнул незнакомец. – Ла Тремуйль, Гроте! Я к вам обращаюсь. Извольте хотя бы встать.
Все еще не замечая меня, Жанно медленно поднялся на ноги.
– Кто был зачинщиком?
– Ла Тремуйль, это ла Тремуйль начал! – наперебой заговорили дети, указывая на моего сына пальцами.
Он молчал, сжимая кулаки и глядя на своих обидчиков с недетской злобой и ожесточением. Мне стало страшно. Среди десятка мальчишек, находившихся здесь, не нашлось ни одного, кто если не заступился бы за него, то, по крайней мере, не принимал участия в этой травле.
– Он плохо отзывался о Республике, гражданин Корню.
– Он первый ударил Люсьена.
– Ла Тремуйль издевался над нами…
– Он говорил, что мы чернь, а он принц.
Жалобы на моего сына сыпались со всех сторон, пока гражданин Корню не поднял руку, приказывая детям замолчать.
– Ты скверный республиканец, ла Тремуйль, и тебя жестоко накажут за это.
Жанно лишь пожал плечами, и я поняла, что подобные речи для него не новость. Меня бросило в жар. Что они сделали с моим хорошим, добрым мальчиком? Я рванулась вперед и, прежде чем кто-то сумел что-либо сообразить, обхватила сына за плечи.
Он испуганно отшатнулся, почти инстинктивно замахнулся рукой, будто бы ожидал удара и готов был ответить на него. Его здесь били – такой вывод я сделала из этого жеста. Это движение руки Жанно – оно поразило меня сильнее, чем все, что я уже увидела. Острая ненависть захлестнула: меня – ненависть к Корню, к этим жестоким мальчишкам, ко всем, кто довел моего сынишку до такого состояния.
– Мама? – прерывисто и как-то недоверчиво произнес Жанно.
Я вскочила на ноги, не помня себя от гнева. Подросток, с которым Жанно дрался, был в двух шагах от нас; я подскочила к нему и залепила такую пощечину, что; у него голова мотнулась в сторону; потом, подняв руку, словно готовясь снова ударить, взглянула на гражданина Корню.
– Вы мерзавец! – воскликнула я в бешенстве. – Вас убить мало! Проклятый выродок!
Лицо у меня было искажено гримасой ярости, глаза метали молнии. Во мне вдруг проснулись силы, о которых я даже не подозревала, и, по-моему, все вокруг поняли, что со мной шутить опасно, – особенно тогда, когда я в таком состоянии.
– Вы… вы накажете моего сына? Ублюдок!
Я вернулась к Жанно, порывисто обняла. Дыхание у меня было учащенным, грудь высоко вздымалась. В тот миг я полагала, что если бы подожгла этот приют и увидела, как он сгорит, – то и это было; бы недостаточным возмездием.
– Возмутительно! – произнес Корню. – Кто вы такая; и что здесь делаете? Я вышвырну вас вон за оскорбления!
– Не трудитесь! – отрезала я. – Мы ни секунды не останемся в вашем противном обществе.
Я взяла сына за руку.
– Пойдем, Жан. Их Бог накажет за то, что они сделали.
Корню преградил мне путь.
– Оставьте мальчика, гражданка, он наш воспитанник.
– Это моя мама! – гневно воскликнул Жанно. – Моя мама, сударь!
При слове «сударь» лицо Корню перекосилось.
– Ты хочешь сесть в карцер?
– Я вас не боюсь! – вызывающе произнес Жанно. – Можете сами теперь строгать свои гробы.
Я сочла, что мне пора вмешаться.
– Послушайте, господин Корню, не советую вам повторять слова о карцере. Предупреждаю вас, не переходите границу. Вы не знаете, с кем имеете дело.
– С кем же? – спросил он саркастически.
– С женщиной, которая очень много времени провела в тюрьме. Советую вам избегать со мной встреч. Тюрьма меня многому научила. И если для того, чтобы забрать сына, ж должна буду убить вас, я так и сделаю, имейте в виду!
Я сама не знала, что говорю, но испытала огромное удовлетворение, увидев замешательство на лице Корню. Он отступил в сторону.
– Если сын – драчун и грубиян, то уж мать – самая настоящая преступница, – произнес он нам вслед.
Я обернулась.
– Вы правы, господин Корню. Советую вам помнить об этом всегда.
Мы с Жанно шли к выходу, где нас должны были ждать Маргарита и Шарло.
– Скажи, мой мальчик, ты ведь пошутил тогда насчет гробов, не правда ли?
– Нет. Я не шутил. Я сказал так, потому что мы и правду делали гробы.
– Вы? Дети?
– Да. Мы плотничали.
«Он даже слова такого раньше не знал», – подумала я.
14
Стефания, увидев, что я вернулась с двумя мальчиками и Маргаритой, пришла в ужас. В ее глазах плескалось такое отчаяние, что мне стало не по себе.
– Можно один вопрос? – спросила она неожиданно тихим, напряженным голосом.
– Какой?
– Я хочу узнать: есть ли у тебя хоть капля порядочности? Совесть у тебя осталась или нет, дорогая?
Сбитая с толку этим тоном, я никак не могла подобрать слов для ответа.
– Что ты имеешь в виду? – пробормотала я наконец.
Она в сердцах отбросила тряпку, которую держала в руках.
– О Господи, что же это за наказание! В стране творится Бог знает что, и в доме ничуть не легче. Ты решила взять нас в осаду? Решила доконать своими родственными чувствами? Ну уж нет, я этого больше не потерплю… Я не могу кормить дармоедов!
– Не говори так о детях, прошу тебя, – произнесла я.
– Ты не имеешь права ни о чем меня просить, ты сама дармоедка и бездельница! Ты знаешь, что за квартиру надо платить? Знаешь?
– Я не останусь здесь больше недели.
– Эта квартира не создана для того, чтобы здесь даже день ютилось столько человек. Кроме того, нам всем надо есть. Нам самим не хватает хлеба, и я не могу делить пищу на десятерых!
– Я не прошу у вас многого.
– Многого? Полно, милая! Мы ничего не можем дать! Мы бедные! Бед-ны-е! Уясни это, прежде всего! У нас нечего взять, а если б и было, то ты этого ничуть не заслужила!
– Не тебе судить! – отрезала я, уже начиная распаляться. – Не так уж ты сама безгрешна, как хочешь казаться. Похоже, твоя добродетель ничуть не помешает тебе выставить нас всех на улицу.
Стефания повернулась к мужу, который доселе молчал.
– Джакомо, будь добр, объясни своей сестре. Объясни, что мы отказываемся содержать ее. Наберись смелости, скажи правду!
Я тоже посмотрела на брата:
– Да, Джакомо. Скажи. Я хочу услышать, что ты думаешь.
Он долго молчал. Потом сказал – сдавленно, нерешительно:
– Стефания говорит правду, Ритта. Мы слишком бедны. Мы… ну, не можем же мы пожертвовать своими детьми ради… ради твоих.
Я закусила губу. Теперь, когда высказался брат, мне все стало ясно. Продолжать перепалку было бы нелепо, кроме того, это означало бы поссориться окончательно. То есть навсегда… А я этого не хотела. Если уж на то пошло, обстоятельства вынудили их так поступать. Да и надо было принимать во внимание то, что Стефания беременна, – оттого и ведет себя так взвинченно.
Я убрала прядь волос с лица. Потом резко спросила:
– Сколько часов я могу еще пробыть у вас? Джакомо не отвечал. Стефания, повернувшись ко мне спиной и убирая посуду, угрюмо пробормотала:
– Два дня. Так и быть, на два дня оставайся.
– Хорошо.
Я вышла, хлопнув дверью. И уже там, на холодной лестнице, припав щекой к каменной стене, заплакала.
Как изменилась жизнь… Все было поставлено с ног на голову. Роскошь и нищета, как и прежде, делили общество на две неравные части; на мою долю теперь досталась нищета, и с этим надо смириться. Хотя смириться – этого мало… Надо как-то выжить. И я никак не могла понять, каким образом это можно сделать.
Маргарита нашла меня, стала ласково гладить мои плечи.
– Ну, довольно убиваться, мадам. Вы прямо как дитя. Не переживайте так из-за этой ссоры.
– Я не из-за этого переживаю. Хотя Стефания…она могла бы не при детях все это высказать. Жанно – он такой ранимый.
Я вытерла слезы на щеках и едва слышно пробормотала:
– Представляешь, Маргарита столько людей есть на свете, а я ни к кому не могу обратиться за помощью. Даже к брату.
– Вы сами выкарабкаетесь, я вас знаю.
– Сама! Всегда сама! Я не хочу больше сама! Будь проклято это слово!
Губы у меня дрожали. Пытаясь взять себя в руки, я произнесла:
– Маргарита, ты же не представляешь нашего положения. У меня в карманах – ни одного денье. О су и говорить не приходится. Ты понимаешь? Мы умрем прямо на улице от голода и холода, я в этом уверена.
Помолчав, я добавила с усмешкой:
– А у меня были мечты добраться до Бретани!
Маргарита перестала меня обнимать и принялась поправлять серый чепец на голове.
– Слушайте-ка меня, мадам. Вы все эти страшные мысли из головы выбросьте. Не пристало вам так думать.
– Маргарита, я объяснила тебе, что…
– Выход всегда можно найти. Вот у вас девочки родились. Кто их отец? Завтра же отправляйтесь к нему, пусть он вам поможет.
В моих глазах полыхнул такой огонь, что Маргарита оторопела.
– Оставим это, – сказала я резко, давая понять, что для меня это предложение совершенно неприемлемо. – Ничего подобного я делать не стану.
Мы долго молчали, подавленные сознанием своего безвыходного положения.
– Ну что ж, – отозвалась наконец Маргарита, – тогда завтра на рассвете отправимся к Сене. Там прачек нанимают. Заработаем что-нибудь. Хотя бы на хлеб.
Я усмехнулась, но отвечать не стала. Сделаться прачкой? После болезни у меня не осталось для такой работы сил. Кроме того, там платят так мало, что самой прачке едва хватает. За гроши, которых не хватит и на хлеб, я не собиралась по двенадцать часов в день полоскать чужое белье в холодных водах Сены.
Я вспомнила о пекарне гражданки Мутон. Мое место, вероятно, давно занято, и никто не примет меня обратно. Теперь у меня нет протекции Изабеллы. Да и вообще, довольно быть дурой и искать честные способы заработка… Пока я стремлюсь быть честной, другие только обворовывают меня. Клавьер, например, белья в Сене не стирал, он занимался тем, что мошенничал, и на этом стал богатым.
Правда, повторить его пример у меня нет ни умения, ни возможности. Так что же делать? Выйти на улицу и стать проституткой? Ах, кому я нужна такая – худая ж бледная! Женщина, у которой в глазах стоит ненависть, никого не привлечет. Кроме того, этот способ слишком мерзок. И заберет много времени. А у меня есть только, два дня.
Мысли снова и снова возвращались к Клавьеру. Кровь застучала у меня в висках. Я вспомнила о доме на площади Карусель – я ведь знаю там каждый уголок. Это же мой дом. У меня его отобрали, не заплатив и одного су. Меня просто-напросто ограбили – Клавьер и революция, вместе взятые. И именно поэтому я сейчас оказалась в столь тупиковой ситуации.
Я увидела на ступеньках Брике. Его появление показалось мне добрым знаком – настолько оно совпало с моими мыслями. Я рванулась к нему.
– Брике, – сказала я взволнованно, – будем говорить начистоту. Ты хорошо воруешь, не так ли?
– Да, неплохо, – признался он без ложной скромности.
– А меня бы ты не отказался взять в товарищи?
– Что? – переспросил он, не веря своим ушам.
– У меня есть одна удачная мысль. Я кое-что придумала, и без тебя мне никак не обойтись.
Брике был ошеломлен до глубины души, но я понимала, что возражений с его стороны не предвидится.
15
– Ты точно знаешь, что слуг сегодня в доме не будет?
– Точнее не бывает. Я разузнал. Они отпущены сегодня по домам.
– Неужели никто не остался?
– Ну, может быть, есть два или три лакея. Они нам не помеха.
– А почему это он нынче всех отпустил?
– Кто знает. Видно, шлюху какую-нибудь приведет. Вот и не хочет, чтоб ему мешали.
Площадь Карусель была ярко освещена и, несмотря на позднее время, многолюдна. Лавируя среди экипажей, мы приблизились к темному проезду на улицу Эшель. Чем ближе мы подходили к моему бывшему дому, тем сильнее стучало у меня сердце.
Брике обычно проникал внутрь через окно на кухне, но на этот раз подобный способ был неприемлем – нам пришлось бы пройти очень много комнат и лестниц, и мы очень рисковали бы наткнуться на какого-нибудь слугу. Сейчас план у меня был иной. Я поглядела на небо, сказав себе, что, если узнаю хоть одно созвездие, то могу надеяться на успех. Какое-то время я ничего не могла разобрать и уже хотела бросить это бесполезное занятие, но вдруг заметила, что в просвете между тучами ясно мерцает ковш Большой Медведицы. Сердце у меня радостно екнуло.
Вокруг дома горели фонари, но мы заходили отнюдь не с парадной стороны, и здесь, в саду, было темно. Мы подошли к черному ходу. Я подняла руку и дрожащими пальцами стала нащупывать перекладину над дверью. Пальцы мои погрузились в густую пыль. Я знала, что, когда жила в этом доме, то именно на этом месте лежал запасной ключ от черного хода. Вряд ли кто-то, кроме меня, был осведомлен об этом, и если Клавьер не сменил замок…
Было очень много «если», но ключ нашелся и подошел к замку: в этом я еще раз усмотрела знак того, что звезды нам благоприятствуют. Раздался характерный щелчок, и я, еще не до конца поверив в удачу, увидела, как распахивается дверь.
– Пойдем, – прошептала я.
– А мы не наткнемся на что-нибудь впотьмах?
– Нет… Я знаю здесь все.
Волнение захлестнуло меня. Волнение и боль. Здесь даже воздух был тот, что прежде, – воздух, ароматы, запахи… Я словно возвращалась домой. Ах, как я была бы счастлива, если б это действительно было так!
Память сердца помогала мне, и я ни разу ни на что не натолкнулась. Насколько я могла судить, Клавьер здесь абсолютно ничего не изменил: мебель, ковры, канделябры – все это было мне знакомо, все еще хранило мои прикосновения. Я была просто убита несправедливостью ситуации. Дом был построен для меня и Эмманюэля моим отцом. Почему, по какому праву здесь живет теперь мошенник и принимает своих шлюх?
И ведь он, Клавьер, не переехал сюда сразу, как только приобрел этот дом. Он переехал сюда после освобождения из Консьержери, и я не сомневалась, что таким образом он мстил мне. За что? Трудно сказать. Но с его стороны это было самое изощренное издевательство.
Мы бесшумно поднялись по винтовой лестнице и вошли в спальню. Брике зажег свечу. С первого взгляда было ясно, что нынче тут спит Клавьер. Все стояло на своих местах, будто я только вчера ушла отсюда. Изящные фарфоровые статуэтки, похоже, не были сдвинуты с камина ни на один дюйм. Широкая кровать, казалось, до сих пор ожидала меня.
– Ах, убить его мало, – пробормотала я сквозь слезы.
– Да вы только посмотрите, ваше сиятельство…
Я взглянула.
– Какая куча денег, мадам, и даже не заперто… Да здесь и пистолет есть.
Наполовину выдвинутый ящик моего бывшего бюро был наполнен ворохом бумажных ассигнаций и россыпью тяжелых золотых ливров. Тут же был и большой дуэльный пистолет. Я осторожно взяла его в руки, внимательно осмотрела. В ящике были пули, порох… Я завела ключиком пистолетную пружину и невольно подумала, что заставляет Клавьера опасаться за свою жизнь.
– Откуда вы узнали, что здесь есть деньги? – поинтересовался Брике.
– Я не узнала. Я просто догадывалась. Раз он водит сюда проституток, стало быть, с ними здесь же и расплачивается.
Я произносила эти слова, не чувствуя ни досады, ни неловкости. Лишь какое-то отчуждение. Слишком многое меня с Клавьером разделяло. Пожалуй, ни один его поступок уже не мог меня задеть.
– Да тут будет не меньше семи тысяч, – пробормотал Брике, выгребая деньги из ящика на стол.
– Мы возьмем не больше трех, и притом золотом. Эти бумажки нам ни к чему.
Брике пытался было протестовать, но я резко оборвала его:
– Замолчи! Сейчас я командую. И я не занимаюсь воровством, запомни это! У Клавьера я возьму столько, сколько нужно для жизни мне и детям. Не хватало мне еще набивать карманы его грязными деньгами…
Мы стали пересчитывать монеты, складывая их в кучки по пятьсот ливров каждая. Я подозревала, что Брике плутует, но мне хотелось поскорее покончить со всем этим и убраться отсюда, покуда нас не застали. Поэтому я не останавливала его. В конце концов, какая разница? Клавьера это не разорит.
Мы были так поглощены счетом, что, когда где-то совсем близко раздались голоса, бежать было уже поздно.
– Желаете ужинать, господин Клавьер? – Это, видимо, говорил лакей.
– Нет. Горячее вино для меня и для дамы. Когда принесешь, уходи.
Лакей стал спускаться по лестнице. Клавьер и его спутница, по всей видимости, направились в спальню.
Как ни странно, я не испугалась и не растерялась. Наоборот, необыкновенно ясными стали мысли. Мы с Брике переглянулись и мгновенно поняли друг друга. Он дунул на свечу и прижался к стене возле двери. Я отошла в глубину спальни, четко, без единого лишнего движения зарядила пистолет и взвела курок. Потом, держа оружие обеими руками, чтобы, не дай Бог, не выронить, направила дуло прямо на дверь.
Сдаваться или бежать я не собиралась. Втайне я была даже рада, что так произошло. Я хотела сделать все открыто, не как воровка.
Они вошли. Их глаза не привыкли к темноте, и нас они не видели. Клавьер был, как обычно, насмешлив и элегантен. А дама… Это было что-то среднее между проституткой с улицы и дамой полусвета. Такие обычно промышляют в ресторанах, игорных домах или гостиницах. Она была небольшого роста, кокетливая, не то чтобы красавица, но очень миловидная.
– Располагайся, – коротко бросил ей Клавьер.
Она с любопытством оглядывалась по сторонам. В этот момент Клавьер зажег ночник, и спальня озарилась голубым светом.
– Эй вы, двое, – скомандовала я решительно и резко. – Стойте на месте и не двигайтесь. Брике, ну-ка, свяжи их.
Брике действовал как нельзя более четко. Сдернув с постели простыню, он свернул ее жгутом и приблизился к Клавьеру.
– Давайте руки, сударь. Что поделаешь, раз так получилось.
Клавьер возвышался над Брике, как скала, и, хотя даже не пробовал сопротивляться, я не могла не видеть, что положение очень напряженное. Поэтому я произнесла:
– Советую стоять смирно. Если кому-нибудь взбредет в голову звать на помощь, я выстрелю.
– А вы умеете? – с холодной иронией произнес Клавьер.
– Желаете проверить?
Он улыбнулся. Насколько я могла судить, он оставался абсолютно спокоен, видимо, мои угрозы особого впечатления на него не произвели. И я разозлилась, ибо сама сознавала серьезность своих намерений.
– Вы зря улыбаетесь. Ваша улыбочка вызывает у меня сильное желание всадить вам в лоб добрую порцию свинца, – произнесла я с нешуточной угрозой в голосе.
– Могу я узнать, как вы проникли ко мне?
– Я пришла к себе.
– А, старая песня! Вы снова возрождаете былые иллюзии?
Внезапно нахмурившись, он спросил:
– Надеюсь, это последнее ваше посещение? Вы оставите, наконец, меня в покое? Своей фамилии я ни вам, ни вашим детям давать не собираюсь. Вы это поняли?
Я расхохоталась. Для меня самой этот смех был неожиданным. Но уж слишком самонадеян был этот банкир.
– Ах, милейший господин Клавьер, – сказала я почти ласково, – да я бы руки на себя наложила, если бы заподозрила вас в подобном намерении.
– Так вы пришли только грабить? Отлично! Аристократы, насколько я знаю, всегда стремились пожить за чужой счет.
– Я взяла деньги для своих детей.
– Ах детей!
– Да, детей. Только своих, запомните это.
Он перебил меня:
– Можно надеяться, что я вас больше не увижу, дорогая?
Я сдвинула брови и сделала шаг вперед. Пистолет в моих руках угрожающе заколебался.
– Единственное, что я могу вам обещать, – это то, что наступит день, когда вы с треском отсюда вылетите.
– Старая, старая песня! Похоже, на этой почве вы когда-нибудь сойдете с ума.
– А это мы увидим, – пообещала я.
Брике тем временем, оставив Клавьера, занялся его подружкой. Она не сопротивлялась, но, между тем, нельзя было сказать, что она испугана.
– Так вы грабители? – спросила она вдруг.
– Да, вроде бы так, – пробормотал Брике.
– Черт возьми, я бы охотно помогла вам!
Я ничего не поняла.
– Что вы имеете в виду?
– Я присоединюсь к вам, подружка! Вы уйдете, а я с ним немного посижу. Ну, чтоб он шума не устроил…
Брике мгновенно смекнул, что к чему.
– И сколько же ты хочешь за это?
Она бросила взгляд на стол.
– Я заберу то, что вы не взяли. Идет?
– По рукам! – охотно согласился Брике.
Я готова была рассмеяться. В спутнице Клавьера меньше всего можно было ожидать встретить помощницу.
– А что заставляет вас так поступать?
– Вы думаете, мне охота с ним валяться? Пусть идет к черту! Он скверный человек. Его никто из девушек не любит…
Я когда-то уже слышала нечто подобное, но предпочла не размышлять сейчас на эту тему.
– Браво, – произнес Клавьер. – Поистине восхитительно… Пожалуй, я отвалю полиции хороший куш за то, чтобы получить удовольствие снова увидеть вас в тюрьме.
Если мои угрозы не производили на него впечатления, то и я испугалась его не больше. Мне пришло в голову, что он нарочно затягивает разговор, чтобы дождаться прихода лакея или еще кого-то… Кровь бросилась мне в голову.
– Ну-ка, вы, мерзкий человек, – сказала я угрожающе, – поворачивайтесь и ступайте вон в ту комнату! Живо! Ну? На этом мы закончим наш разговор…
Брике подтолкнул его, и с помощью проститутки мы заперли связанного Клавьера в молельне. Я знала, что это надежное место: там не было ни балкона, ни окон.
– Если вы издадите хоть звук, вас пристрелят! И у меня нет уверенности, что хоть один человек на свете вознесет молитвы за вашу душу.
С этими словами я передала пистолет проститутке.
Я сама не помнила, как мы оказались на улице. У меня словно выросли крылья… Полиция будет меня искать? Пусть попробует! В Париже семьсот тысяч жителей, и, кроме того, я завтра же сяду в дилижанс и уеду в Бретань.
– Ты взял деньги? – на всякий случай спросила я у Брике.
Он почти обиженно ответил:
– Разве я дурак, ваше сиятельство? Вот они, денежки! У меня!
И он показал мне увесистый полотняный мешочек.
16
Стефания изо всех сил трясла меня за плечо.
– Ты собираешься подниматься или нет? Вы только поглядите на нее! Только она может спать так беспечно без единого су в кармане!
Я открыла глаза, сладко потянулась.
– Ты поразительно любезна, дорогая. Я так рада с самого утра услышать твой голос.
– Мы полагали, ты уже на рассвете отправишься искать работу. А вместо этого ты спишь до полудня.
– Это естественно. Я вернулась в четыре часа утра.
– Меня это не интересует. Надеюсь, ты помнишь наш вчерашний разговор?
Я нахмурилась, порывисто села на постели, спустила босые ноги на пол.
– Я все помню.
– Ты обещала оставить нас уже завтра.
– Я оставлю вас уже сегодня.
Невозможно описать, до чего этот разговор был мне неприятен. Все было так, будто я находилась у чужих людей или, например, со мной говорила хозяйка гостиницы, которой я давно задолжала. Сердито глядя на Стефанию, я произнесла:
– Я вместе с детьми уеду сегодня вечером дилижансом в Бретань. А это… это я оставлю вам для того, чтоб вы не очень печалились после моего отъезда.
С этими словами я выложила на стол пятьсот ливров – одну из кучек, которые вчера так любовно складывал Брике, и, не слушая того, что говорила невестка, отправилась умываться.
Уже действительно было поздно. Хотя дилижанс отправлялся девять вечера, надо было еще добраться до Севрского моста – места остановки. Кроме того, у меня было еще несколько дел. И, честно говоря, я хотела уйти раньше, чем это было необходимо, – дом Джакомо со вчерашнего дня не казался мне ни уютным, ни приветливым.
Мы ушли через час после моего разговора со Стефанией, и я не стала дожидаться Джакомо, чтобы попрощаться с ним. День был пасмурный и еще более холодный, чем вчера. Сильный ветер леденил щеки. Я укутала близняшек так тепло, как только могла; об остальных малышах позаботиться таким же образом не было возможности. Брике помогал мне толкать тележку. Я все время подбадривала детей, заставляя их быстрее передвигать ноги, – только так можно было уберечь их от мороза.
Зато маленький постоялый дворик у Севрского моста стал для нас хорошим убежищем. Я не пожалела денег на то, чтобы заказать для всех горячий ужин и купить молока для малышек. На этом, сказала я себе, все роскошества заканчиваются. Ни в чем не будут нуждаться только близняшки, остальным придется привыкать к бедности и экономии. Ведь вполне возможно, что пополнить денежный запас нам удастся лишь лет через десять.
– Ты уходишь, мама? – спросил Жанно, заметив, что я снова потянулась к плащу.
Я взглянула на него. Щеки у него порозовели, круги под глазами исчезли. Он отогрелся, и слава Богу. Я мягко погладила его по голове.
– Я скоро вернусь, мой милый. Совсем скоро.
17
Да, я должна была сделать еще кое-что. У меня были обязанности, не выполнив которых я не могла покинуть Париж навсегда – по крайней мере, так, как намеревалась.
Темнело. Ржавая калитка заскрипела, когда я стала открывать ее, и глухо звякнула у меня за спиной. Шел мелкий мокрый снег, он увлажнял мне щеки, и я, вероятно, казалась сейчас заплаканной.
Парижское кладбище Сен-Маргерит было пустынно. Я не сразу нашла то мраморное надгробие, которое мне было нужно: ведь я бывала здесь не так уж часто. Ну, если честно признаться, то раз или два. А сейчас почувствовала острую необходимость прийти сюда, попрощаться с единственной могилой, которая осталась мне еще с той, прошлой жизни.
Снег облепил надгробие. Стынущими руками я убрала снежинки, и на белом мраморе проступила надпись латинскими буквами:
ЛУИ ФРАНСУА ДЕ КОЛОНН
4 сентября 1790 года—21 сентября 1790 года
ОН УМЕР, ЕДВА УВИДЕВ СВЕТ
ДА ПРЕБУДЕТ С НИМ ГОСПОДЬ
Ледяными пальцами я прикоснулась к щекам, почувствовала, как прямо на ресницах замерзают только что набежавшие слезы. Это была могила моего сына, родившегося семимесячным и прожившего на свете чуть больше двух недель. Я подумала, как горько и неуютно лежать ему здесь, одному, в зимнюю стужу, в ночь… Ведь даже я почти не приходила сюда. Впрочем, Луи Франсуа сейчас, наверное, в раю, если только рай существует.
– Я люблю тебя, – прошептала я сквозь слезы.
Потом прикоснулась губами к выгравированному на мраморе имени – мои губы словно обожгло холодом… Порывистыми движениями я сняла с себя нательный крестик, положила рядом с надгробием.
– Это тебе от мамы, – проговорила я тихо.
Потом достала носовой платок, заледеневшими пальцами выгребла горсть холодной земли.
– А это мне от Луи Франсуа…
И вдруг я расплакалась. Здесь на его могиле, мне стало ужасно страшно. Я не понимала, что меня ждет в будущем, как мы выживем. Что мне делать? У кого просить совета? Все просили помощи у меня, а между тем я, как никто, нуждалась в ней. Глотая слезы, я бессознательно оглянулась по сторонам, рыдая, как маленькая девочка. Но вокруг никого не было; только зимние звезды мрачно мерцали на почерневшем небе, ветер нес свинцовые облака, кружился снег и от могильного холода стыло все тело…
Страдания ожесточают. Я резко поднялась и зашагала прочь, сжимая в руке узелок с землей. Я шла наугад, не видя дороги, и почти на ощупь нашла калитку. Слезы высохли у меня на щеках. Нет смысла предаваться отчаянию. У меня есть пятеро маленьких детских сердец, за которые я в ответе.
Окончательно я пришла в себя на большой, многолюдной парижской улице. Здесь собиралось нынешнее «великосветское» общество – банкиры, поставщики, спекулянты, сказочно разбогатевшие на той катастрофе, в которую угодила Франция. К роскошным подъездам подъезжали кареты, и подобострастные швейцары бросались встречать новоприбывших разодетых дам так же поспешно, как раньше встречали Марию Антуанетту и ее фрейлин.
Я слышала смех, музыку, звон бокалов. Огромная витрина ресторана, вся залитая огнями, мерцала передо мной. Я подошла ближе и заглянула. В зале, освещенном десятками свечей, сверкал хрусталь и фарфор, смеялись полуобнаженные содержанки богатых коротконогих молодчиков, слышались звуки скрипки… Там было тепло, уютно, там пили изысканные вина, вкушали тонкие яства, сорили деньгами, хвастались драгоценностями, забавлялись с дамами.
И я увидела себя в оконном стекле – бледную, исхудавшую, одетую хуже прачки, с твердо сжатыми губами, нелюбимую и угрюмую женщину. Я была чужой на этом празднике жизни. Да и сама жизнь словно перевернулась с ног на голову. И я вдруг поймала себя на простой, ясной, доступной мысли: я ничуть не жалею об этом. Да, я не жалела, что оказалась по другую сторону витрины. Напротив, мне было бы позорно и стыдно быть рядом с теми, другими. У меня не было даже зависти к ним. Когда я осознала это, словно камень свалился с плеч – настолько мне стало легко.
И все грустные мысли мигом вылетели из головы. Я круто повернулась, в тот же миг позабыв о ресторане и его посетителях, брезгливо обошла карету какой-то новоиспеченной великосветской красавицы и зашагала дальше – туда, где меня ждали дети.
Примечания
1
Сегодня, письмо, графиня.
(обратно)2
Во время Революции получил широкое, распространение т. н. оптический телеграф, не имеющий ничего общего с электрическим. Сигналы передавались посредством подвижных планок, установленных на столбах.
(обратно)3
Отель де Виль – ратуша.
(обратно)4
Шуаны – отряды лесных партизан, действовавших в Бретани, в годы Революции. Воевали на стороне короля и принцев. Название «шуаны» происходит от имени их предводителя, Жана Котро по прозвищу Шуан, что значит Сова.
(обратно)5
Черт побери! (ит.).
(обратно)6
Орифламма – старинное знамя французских королей, полотнище из алого шелка с вышитыми золотом языками пламени.
(обратно)7
Пале-Рояль (Королевский дворец) во время Революции был переименован в Пале-Эгалите – буквально: Дворец равенства
(обратно)8
Пор-де-ла-Монтань – буквально: Порт Горы. Гора (Монтань) – название якобинской группировки в Конвенте.
(обратно)9
Католический святой, которого обезглавили. Нес свою голову в руках до самого монастыря, названного позднее Сен-Дени.
(обратно)10
Бриссо Жак Пьер – лидер низвергнутой жирондистской партии.
(обратно)11
Кутон Жорж Огюст – ближайший друг Робеспьера, один из «триумвиров». Нижняя часть его тела была парализована, поэтому он передвигался на коляске.
(обратно)12
Истина в вине (лат.).
(обратно)13
Заимствовано из работ А. Левандовского.
(обратно)14
Бурб – по-французски «грязь», «тина».
(обратно)15
Монашеский орден, отличающийся особо строгим уставом. Трапписты давали обет молчания и ходили в лохмотьях.
(обратно)

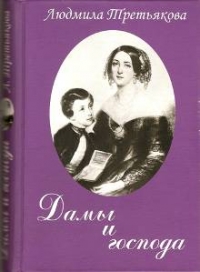
Комментарии к книге «Край вечных туманов», Роксана Михайловна Гедеон
Всего 0 комментариев