Паулина Гейдж Проклятие любви
Моим сыновьям, Симону и Роджеру.
С любовью
Книга первая
1
Императрица Тейе вышла из своих покоев в сопровождении четырех слуг из личной стражи его величества и своего главного вестника. Галерею от ее приемной до дверей, ведущих в сад, освещали факелы, а под ними вдоль стен стояли дворцовые стражники со скимитарами[1] в кожаных ножнах. На их смуглых телах ярко выделялись белые юбки, на головах были бело-синие кожаные шлемы. С приближением императрицы стражники опускали копья и почтительно склоняли головы. Сад был окутан густой темнотой, недосягаемой для мерцающего света звезд, горевших над пустыней. Маленькая группа торопливо прошла по дорожкам сада, остановилась у ограды, за которой начинались личные владения фараона, и, ответив на оклик охраны, направилась вдоль задней стены дворца.
Тейе приказала страже ждать у высоких дверей, через которые фараон часто выходил прогуляться в сад, а иногда просто стоял на пороге, устремив взгляд на западные холмы. Вместе с вестником она шагнула в проход. Всякий раз, когда она здесь оказывалась, ее взгляд неизменно притягивало большое количество изображений на стенах коридора. Теперь же она взглянула вверх, на фриз, тянувшийся под потолком. На длинной полосе листового золота, врезанной в панель из ароматного амкийского кедра, многократно повторялось тронное имя фараона: Нембаатра – Ра, Воссиявший в Истине. Во дворце эти слова можно было прочесть повсюду.
Тейе остановилась, и управляющий фараона, Суреро, вскочил со своего места у двери опочивальни и распростерся ниц перед царицей.
– Суреро, изволь доложить владыке, что его хочет видеть богиня Обеих Земель, – сказал вестник.
Суреро исчез, но через несколько мгновений появился и с поклоном пригласил Тейе войти.
Владыка мира, фараон Аменхотеп Третий, сидел в кресле у своего львиноголового ложа, из одежды на нем была только полоска тонкого льна, свободно обернутая вокруг бедер, и светло-синий свободный парик, увенчанный золотой коброй. Мягкий желтый свет десятков ламп, стоявших на низких столиках и подставках по всей опочивальне, скользил, будто дорогое масло, по широким плечам фараона, по его рыхлому обвислому животу и толстым бледным ногам. Лицо фараона было ненакрашено. Когда-то квадратная, волевая нижняя челюсть теперь заплыла жиром и терялась в складках кожи, щеки отвисли и опали, что свидетельствовало об отсутствии зубов и о болезни десен, мучившей фараона. Нос тоже с возрастом чуть опустился, будто стремясь уравновесить черты стареющего лица, только высокий, гладкий лоб и яркие черные глаза, которые были еще хороши даже без краски, напоминали о том, каким цветущим красавцем он был в молодые годы. Одна нога фараона покоилась на табурете, рядом на полу стоял открытый косметический ящичек, и раб, стоя на коленях, кисточкой красил царственную ступню оранжевой хной.
Тейе огляделась. Комната пропахла потом, тяжелыми сирийскими благовониями и увядающими цветами. Хотя раб и подрезал фитильки, бесшумно передвигаясь от одной лампы к другой, пламя начало источать серый зловонный дым, от которого запершило в горле, а в комнате сделалось так темно, что Тейе едва различала огромные изображения Беса,[2] бога любви, музыки и танцев, безмолвно и неуклюже пляшущие на стенах комнаты. Время от времени дрожащее пламя выхватывало из темноты высунутый красный язык или серебряный пупок на раздутом животе божества-карлика или вскользь пробегало по его львиным ушам, но, в общем, в этот вечер присутствие Беса в комнате было незримым. Оглядев опочивальню, Тейе остановила взгляд на ложе, по которому были разбросаны сухие листья мандрагоры и измятые цветы лотоса, и только сейчас заметила под смятым покрывалом маленькую фигурку, мирно дышавшую во сне.
– О Тейе, ты сегодня хороша как никогда! Вижу, ты тщательно подготовилась к этой встрече, – приветствовал ее Аменхотеп, но голос его прозвучал зловеще, эхом отдаваясь от невидимых сводов. – Ты пришла, чтобы снова соблазнить меня? Я прекрасно помню, что на тебе было синее платье и незабудки – тогда, в нашу первую ночь в этой спальне.
Тейе улыбнулась, торопливо опустилась на колени и поцеловала его ступни.
– Если бы сегодня я вырядилась так старомодно, царедворцы тут же скончались бы от ужаса, – невозмутимо парировала она, поднимаясь. – Как драгоценное здоровье фараона?
– Здоровье фараона бывало и получше, и тебе это хорошо известно. Зубы болят, голова болит, спина болит. Весь день заклинатели бубнили за дверью, а я терпел их, потому что обязан предоставлять Египту любую возможность исцелить меня. Однако эти болваны воют здесь ради своего собственного удовольствия. Наконец-то они убрались лакать свое пиво и перечитывать свитки с заклинаниями. Тейе, как ты думаешь, в меня вселился демон?
– Он жил в тебе всегда, муж мой, – едко ответила она. – И тебе это хорошо известно. В этом кувшине вино?
– Нет, там настойка мандрагоры, черная и противная. Я сам себе ее прописал. Заметил, что она не только разжигает желание – это знает любой мальчишка, которому стукнуло двенадцать лет, – но, что удивительно, еще и притупляет боль. – Он лукаво взглянул на нее, и оба рассмеялись.
– Царевна Тадухеппа привезет тебе Иштар[3] из царства Митанни,[4] – ободряюще сказала Тейе. – Эта богиня помогала тебе раньше, помнишь? Тушратта очень милостив.
– Еще бы этот скряга, митаннийский царь, не был милостив. Я отослал ему его драгоценную Иштар, покрыв ее золотом, да еще гору слитков в придачу. Теперь я снова озолочу его, на этот раз благодаря его дочери. Надеюсь, она стоит того. – Он выдернул свою ногу из рук слуги. – Хна высохла, и на другой ноге тоже. Убирайся. И ты убирайся! – прикрикнул он на раба, подрезавшего фитильки.
Когда слуги, шаг за шагом отступая по мозаичным плитам, наконец, вышли и дверь за ними бесшумно закрылась, Аменхотеп успокоился.
– Итак, моя Тейе, что у тебя на уме? Ты же пришла сюда не для того, чтобы предаваться любовным утехам со старым жирным богом с гнилыми зубами.
Она быстро справилась с чувством тревоги, которое испытывала всякий раз, когда он так говорил. Он был проницателен и хладнокровен, этот человек, испытывавший жестокое наслаждение при созерцании человеческих несовершенств, даже если это были его собственные несовершенства, и он лучше, чем кто бы то ни было, понимал всю ироничность этого своего описания. Потому что в Нубии, близ Солеба,[5] жрецы денно и нощно возносили ему молитвы и курили фимиам, и множество свечей горело у подножия громадной статуи Аменхотепа – каменного изваяния ныне живущего бога, которому было не суждено ни стариться, ни болеть.
– Мне нужно поговорить с тобой наедине, Гор. Будь добр, отошли его, – сказала Тейе, кивнув на спящего мальчика.
Аменхотеп удивленно поднял брови. Он с неожиданной легкостью поднялся с кресла, откинул покрывало на ложе и нежно положил руку на голый бок спящего ребенка.
– Просыпайся и уходи, – сказал он. – У меня царица.
Мальчик со стоном перевернулся на спину и открыл темные, обведенные черной краской глаза. Увидев Тейе, он отстранился от фараона, соскользнул на пол, преклонил колени и, не сказав ни слова, вышел за дверь.
– Он старше, чем кажется на первый взгляд, – бросил Аменхотеп, даже не думая оправдываться. – Ему уже тринадцать.
Тейе присела на край ложа, холодно глядя на мужа.
– Ты прекрасно знаешь, что это противно богам. Из всех древних законов этот – самый строгий, и мужчина, осквернивший свой дом, навлекает на него проклятие и заслуживает смерти, так же как и его любовник.
Аменхотеп пожал плечами.
– Здесь я – закон. Кроме того, Тейе, почему это нарушение должно тревожить тебя? Между нами говоря, мы с тобой уже нарушили все законы империи.
И те, что касаются убийства, тоже, – подумала Тейе, а вслух сказала:
– Это все суеверные сплетни, но они меня беспокоят. О твоей ненасытности ходят легенды, и долгие годы такая слава только возвышала тебя в глазах подданных и иноземных вассалов. Но это… это вызовет скверные толки, люди станут хвататься за свои амулеты, в их сердцах вместо благоговейного трепета поселится враждебность.
– Мне нет до них никакого дела. Почему я должен заботиться о том, что подумают люди? Я – самый могущественный бог, какого только видел свет. Одним только словом я дарую жизнь или обрекаю на смерть. Я поступаю так, как мне нравится. И ты, великая владычица двойного пера, наделенная безграничной властью, ты – сфинкс с когтями и грудью, почему ты огорчаешься из-за такой мелочи?
– Я не огорчаюсь, но и для радости тоже не вижу повода. Я просто напоминаю тебе о нравах твоего народа. Царедворцам, может быть, это и безразлично, но они – еще не весь Египет.
– Тогда к Себеку[6] их всех. – Тяжело дыша, он опустился на ложе, откинувшись на подушки. – Я создал тебя по образу человека, которым мог бы стать сам. Но мне не хотелось бы быть этим человеком. Поэтому правишь ты, а я согласен гоняться за тем, чего все еще жажду и не могу найти. Может быть, это бессмертие, что таится в кувшине с вином. Может быть, плодородие, скрытое в женском чреве. Или моя собственная мужская сущность, заключенная в теле этого мальчишки. Чем бы это ни было, у богов этого нет, так же как нет и в Египте.
– Я понимаю, – тихо сказала она, и он снова улыбнулся.
Они понимали друг друга с полувзгляда – такие отношения устанавливаются после многих лет истинной близости. В этом дряхлеющем теле Тейе, прежде всего, видела мужчину, которого всегда любила, единственного и неповторимого. Наконец она вздохнула и подала ему чашу с соком мандрагоры, используя паузу для того, чтобы тщательно обдумать слова, которые собиралась сказать.
– Сын Хапу давно мертв, – начала она.
Фараон выпил, скривился, потом рассмеялся.
– Пожалуй, это единственная смерть, которая потрясла меня. Он был уже так стар, когда я взошел на трон, что я был уверен, будто он уговорил богов даровать ему бессмертие. Их магия оберегала его жизнь целых два царствования до меня. Ни один прорицатель в Египте, с самого его основания, не обладал таким редким даром провидения.
– Он был родом из бедных крестьян Дельты и не имел права вмешиваться в такие важные вопросы, как престолонаследие.
– Почему? Как оракул сфинкса и глашатай воли Амона он был так же искусен, как и любой другой. Его предсказания сбывались на протяжении без малого восьмидесяти лет.
– Все, кроме одного, Аменхотеп.
Фараон поджал губы и беспокойно заерзал на сухих листьях и увядших цветах.
– Пока я жив, мне грозит опасность; посему, предваряя твой вопрос, отвечу: нет, я не стану освобождать мальчишку.
– Почему ты не хочешь признать его своим сыном?
– Мой сын мертв, – отрезал он. – Мой Тутмос – красавец-охотник, он так искусно владел кривой саблей… Девять лет назад треснувшая ось колесницы, которая швырнула его навстречу смерти, разрушила цепь прямого престолонаследия в Ехите.
– Ты, упрямец, все еще лелеешь горькие мечты о том, чего не случилось. – Она говорила намеренно резко, зная, что даже тень волнения в ее голосе вызовет у него презрение. – На тебя не похоже так долго таить обиду на судьбу! Или ты до сих пор злишься на сына Хапу за то, что тот не сумел предсказать кончину Тутмоса? – Она наклонилась к нему. – Аменхотеп, почему твоя печаль так неизбывна? Почему ты не можешь признать, что юноша, которого ты держишь в гареме, – наш с тобой сын, последний мужчина в нашем роду и поэтому имеет право унаследовать трон Египта после твоей смерти?
Аменхотеп вертел в руках чашу, не глядя на нее.
– Я хотел убить его, когда оракул сообщил, что увидел в чаше Анубиса. Тот день до сих пор живет в моей памяти, Тейе. Я помню запах влажных лотосов у подножия престола, вижу сына Хапу, стоящего у моих ног, с Оком Гора, поблескивающим на груди. Я испугался. Сын Хапу сам посоветовал мне задушить ребенка, и действительно, я уже отдал приказание, но что-то остановило меня. Может быть, я не до конца верил, что этот ребенок может стать угрозой для моей жизни. Как может мой собственный сын, этот крошечный червячок трех дней от роду, причинить мне вред? – думал я. «Я дважды смотрел в чашу и читал знаки, – возражал Хапу. – Сомнений быть не может. Он вырастет и убьет тебя, о Могучий Бык». – Аменхотеп осторожно потрогал свои раздутые щеки и поморщился. – Но я смилостивился. Вместо этого я запер его в гареме.
– Где он был в безопасности, но лишь до тех пор, пока не погиб Тутмос.
Аменхотеп поднял брови. Поставив чашу на столик, он спустил ноги с ложа. Тейе ощутила прикосновение его мягкого бедра к своему.
– Я знаю, это ты, именно ты помешала мне избавиться от него, – прошептал он, и его глаза сверкнули. – Но мои люди так и не смогли выяснить это доподлинно, как ни старались. Так же как мне не удалось дознаться, что именно ты отравила Небет-нух.
Тейе не дрогнула.
– Я понимала, как тебя встревожила гибель Тутмоса, – сказала она как можно спокойнее. – Ты позволил сыну Хапу убедить себя, что это был хорошо продуманный заговор десятилетнего мальчика, никогда не покидавшего пределов гарема, хотя его охрана менялась каждую неделю, и ему не позволялось заводить друзей-мужчин. Но никакого заговора не было. Хапу просто отстаивал свою власть над тобой.
– Нет. Он пытался еще раз убедить меня сделать то, чего я из-за своей слабости не смог сделать прежде.
Тейе положила голову ему на плечо.
– Если ты действительно намеревался убить своего сына, ты мог бы действовать до тех пор, пока твои попытки не увенчались бы успехом. Но, невзирая на свое презрение к нему, о Бог Египта, глубоко в своем сердце ты узнавал в нем плоть от плоти своей. Когда придет твой конец, он станет царем, и я бы предпочла, чтобы ты объявил его царевичем короны теперь и отослал в Мемфис, чем оказаться свидетельницей жестокой схватки, которая неизбежна, если ты умрешь, так и не назначив престолонаследника. Если бы ты устроил его брак с его сестрой сразу после того, как бальзамировали Тутмоса, передача власти после твоей смерти прошла бы гладко, и у меня было бы сейчас спокойно на душе.
Фараон сидел неподвижно. Только его глубокое, затрудненное дыхание нарушало тягучее безмолвие комнаты. Где-то в темноте затрещала и погасла лампа, и приторный чад ароматического масла сделался еще ощутимее.
– Но я хотел Ситамон для себя. И взял ее. Тутмос многому научил свою сестру, к тому же в шестнадцать лет она была так восхитительна, что я был не в силах отказаться от подобной награды.
– Но теперь у нас не осталось незамужних дочерей царской крови, и есть только один сын. А твои дни сочтены.
Он протянул руку и провел пальцами по ее лицу.
– Я научил тебя с легкостью лгать всем, кроме меня, – прошептал он. – А сейчас я нахожу твою честность ужасной. И все же я не обманываю себя. Предположим, я прикажу отпустить этого… этого женоподобного евнуха, которого я породил. Но что если сын Хапу окажется прав и он воспользуется своей свободой, чтобы убить меня?
Тейе решила действовать на свой страх и риск.
– Тогда ты получишь удовлетворение от того, что оракул оказался прав. Однако может ли такой нежный и безобидный юноша вообще замышлять убийство, не говоря уже о том, чтобы убивать собственного отца? Это выше моего понимания. Кроме того, муж мой, даже если случится невероятное и царевич покусится на убийство, ну и что? Боги просто-напросто призовут тебя на священную ладью Ра чуть раньше срока, вот и все. В любом случае фараоном станет твой сын.
– Если только я не казню его немедленно, раз и навсегда положив конец этим пререканиям.
Он говорил абсолютно невозмутимо. На его лице появилось выражение учтивого безразличия, и Тейе не могла определить, сердится он или просто насмехается над ней, напоминая об остатках своего могущества.
– Хорошо, – с готовностью сказала она, чувствуя, как внезапно заледенели пальцы на руках. – Скажи слово фараона, владыка. Я сама прослежу, чтобы приказание было выполнено. Я твоя верная подданная. Я умею повиноваться. А потом, когда ты, в свою очередь, умрешь, я с чистой совестью удалюсь в свои владения, считая свой долг исполненным. Какая разница, что решать, кто наследует корону, будут низкородные и что в схватке за престол Гора они зальют Египет своей кровью? И конечно, меня не должно волновать то, что Могучий Бык не оставил после себя царского семени!
Он долго смотрел на нее не мигая, потом медленно кивнул.
– Это убийственный довод, – проворчал он. – Узри, моя надменная Тейе, я, наконец, тебя послушаюсь. И больше не тыкай меня носом в эту мучительную смесь гордости и чувства потери, что живет в моей душе. Смерть Тутмоса – суровая плата, востребованная богами за могущество и власть, которыми я обладал всю жизнь. – Он вяло улыбнулся. – Им бы следовало служить у меня в царском казначействе. Я согласен. Пусть его освободят. У меня было все, но теперь мне пора уходить, мой путь на этой земле закончен, и уже не важно, болезнь разрушит мое тело или я погибну от ножа убийцы. По крайней мере, я еще в силах избавить тебя от стаи лающих шакалов, которые сбегутся к тебе, если я умру без объявления официального наследника. Но не надейся, что сможешь отдать ему Ситамон. Она нужна мне самому.
Слабея от облегчения, которое она не осмелилась выказать, Тейе выпалила:
– Я подумывала о Нефертити.
Фараон неожиданно опять рассмеялся. Потом повернулся, схватил ее за шею и начал сжимать ей горло. Золотая цепь, на которой висела пектораль со сфинксом, больно врезалась в тело, но она знала, что лучше не выказывать страха и не сопротивляться.
– Семейная традиция, – хрипел он, встряхивая ее и все сильнее стискивая горло. – Вот что тебе нужно! И снова ты пытаешься завладеть троном от имени шайки авантюристов-митаннийцев. Ибо вы, митаннийцы, – авантюристы, все вы верные слуги короны, достойные всяческих наград, но пусть сжалятся боги над тем фараоном, что встанет у вас на пути.
– Ты несправедлив, Гор. Три поколения моей семьи беззаветно служили Египту, – с трудом выдохнула она. – Мой отец не заставлял тебя делать меня императрицей. У него не было возможности. Ты сам возвел меня в божественный сан.
Внезапно он отпустил ее, и она попыталась незаметно отдышаться.
– Я любил Иуйу. Я верил ему. Я люблю тебя и верю тебе, Тейе. Мне очень плохо. Иногда я уже не в силах выносить эту боль. Кассия, гвоздичное масло, мандрагора – ничего не помогает.
– Я знаю, – сказала она, поднимаясь. – Только это поможет.
Положив руки ему на плечи, она наклонилась и поцеловала его. Он тихо вздохнул, опуская ее себе на колени, и вскоре его губы отыскали ее накрашенный сосок. Так много изменилось, Аменхотеп, но только не это, – подумала она, радостно покоряясь ему. – Несмотря ни на что, я до сих пор обожаю и боготворю тебя.
– Нефертити? – прошептала она и вскрикнула: он укусил ее.
– Если хочешь, – ответил он с дрожью наслаждения в голосе.
Потом стянул парик с ее головы и запустил руки в ее длинные локоны.
Перед самым рассветом она покинула его, мирно спящего, забывшего на несколько часов о своей боли. Ей хотелось остаться с ним, качать его и баюкать, тихо напевая, но вместо этого она подобрала свой парик, снова застегнула иектораль со сфинксом на покрытой синяками шее и вышла, медленно закрыв за собой дверь. Суреро и ее вестник спали: один, согнувшись, на табурете, другой на полу, привалившись спиной к стене. Факелы в длинном коридоре погасли, стражники сменились, их лица казались усталыми и осунувшимися, но взгляд был неизменно бдительным. В эфемерную прохладу летней ночи вливался бледный серый свет. Тейе уже хотела легонько тронуть вестника носком сандалии, как вдруг услышала шорох за спиной и обернулась.
Посреди коридора в нерешительности застыла Ситамон; белый лен короткой накидки, тонкой, как паутинка, пенился, обнимая точеные плечи. Она была без парика, непокорные каштановые волосы вились у лица, схваченные серебряным обручем. На руках были серебряные амулеты, а на груди – ожерелье из серебряных сфинксов и скарабеев. Тейе, обессиленная и пресытившаяся, посмотрела на девушку, и вдруг у нее явственно возникло ощущение, что она смотрит назад сквозь годы и видит себя; на секунду она замерла, с болью осознавая, что прошлого уже не вернуть. Тейе шагнула навстречу дочери.
– Он не нуждается в тебе сегодня, Ситамон, – сказала она; от звука ее голоса вестник проснулся и вскочил. – Он уснул.
Увидев, как на надменном лице дочери промелькнули ревность и разочарование, Тейе ощутила внезапный прилив чисто женского превосходства. Не пристало императрице радоваться, препятствуя Ситамон в осуществлении ее желаний, – подумала она покаянно. – Подобная мелочность – удел стареющих наложниц больших гаремов. Она тепло улыбнулась. Ситамон не ответила на ее улыбку. Постояв немного, девушка чопорно поклонилась и исчезла в сонном полумраке.
Возвратившись в свои покои, Тейе перекусила под звуки лютни и арфы, обычно будившие ее по утрам, и послала за Неб-Амоном. Он ожидал вызова и явился быстро – полноватый, приятный человек в длинном, до пола, платье писца, с наголо выбритой головой и безупречно накрашенным лицом. Освободившись от груза свитков, он поклонился, воздев к небу раскрытые ладони.
– Приветствую тебя, Неб-Амон, – сказала Тейе. – Слишком жарко, чтобы заниматься делами, сидя на троне, и я решила прилечь. – Что она и сделала, прислонившись затылком к прохладному изгибу подголовника из слоновой кости. Пиха укрыла ее покрывалом, а носитель опахала принялся обмахивать голубыми перьями. – Я прикрою глаза, но мои уши останутся открытыми. Садись.
Писец сел в кресло рядом с ложем, Пиха вернулась в свой угол.
– Здесь не так много стоящего внимания царицы, – начал Неб-Амон, перебирая папирусы. – Из Арзавы[7] обычные жалобы на вторжение хеттов, и, конечно, письмо от хеттов с протестом против набега Арзавы через их общую границу. Я сам могу ответить на это. Из Кардуниаша[8] – сразу после традиционного приветствия – просьбы прислать еще золота. Я бы не советовал Великому Гору вообще что-либо им посылать. Они получили от нас достаточно, но подкрепляют свои требования завуалированными угрозами заключить соглашения с касситами и ассирийцами в случае, если фараон перестанет присылать им доказательства своей дружбы.
– Фараон проведет на востоке военные маневры, – пробормотала Тейе. – Этого будет довольно. Из Митанни есть что-нибудь?
– Да. Тушратта уведомляет нас, что он придержит приданое, пока город Мисриан официально не будет принадлежать ему, то есть пока не пришлют свиток, подтверждающий его право. Золото и серебро он уже получил. Царевна Тадухеппа прибыла в Мемфис. Сообщение доставили сегодня утром. Тейе на миг раскрыла глаза.
– Значит, гарем действительно ожидает пополнения, – пробормотала она. – Несмотря на долгие пререкания, похищение послов, пустые обещания и взаимные оскорбления, малышка Тадухеппа в Египте.
Хотела бы я еще хоть раз увидеть Митанни, – вдруг подумала она. – Родину моих предков. Кто знает, может быть, этот новый царь, Тушратта, – мой дальний родственник. Как странно!
– Что-нибудь еще?
Неб-Амон помедлил.
– Еще нет официального подтверждения, но ходят слухи, что в землях хеттов появился новый царевич. Он сплачивает людей. Похоже, Хеттское царство, в конце концов, оправится от разграбления Богаз-Кёя.
– Возможно, хотя с врагом, которому удалось проникнуть в столицу страны, не так просто справиться. Особенно если его тайно снабжают оружием и продовольствием. – Тейе повернула голову и посмотрела на Неб-Амона невидящим взглядом. Она вдруг нахмурилась. – Мы знаем, что Тушратта воспользовался беспорядками среди хеттов, чтобы укрепить собственные позиции, помогая мятежным государствам – вассалам Хеттского царства. Равновесие власти между царством Митанни, Египтом и Хеттским царством было хрупким, и теперь оно нарушено.
– Хетты сейчас очень слабы.
– Но ослабление хеттов означает укрепление Митанни. Нужно внимательно следить за развитием событий. Мы не можем позволить царству Митанни слишком расшириться, но при этом нельзя позволить хеттам стать слишком самоуверенными. У нас есть соглашения с хеттами?
Неб-Амон кивнул:
– Да, но они уже устарели.
– Мы можем возобновить их, если будет необходимо. Известно что-нибудь о характере этого царевича? Как его зовут?
– Стражи пустыни говорят, что он молод, решителен и достаточно беспощаден, чтобы при необходимости рискнуть стать правителем Хеттского царства. Он победил в дворцовом перевороте, моя госпожа. Его имя Суппилулиумас.
Тейе рассмеялась.
– Варвар! Египет легко договорится с ним, если возникнет необходимость. Дипломатично, разумеется. Что еще?
Оставалось еще немного. Груз из Алашии,[9] новая партия быков из Азии, золото из копей Нубии и вазы из Кефтиу.
– Пришли мне одну позднее. Хочу посмотреть качество, – сказала Тейе. – Ступай, Неб-Амон. Фараон поставит свою печать там, где необходимо.
Неб-Амон тотчас собрал папирусы, поклонился и вышел. Совершив омовение и надев свежее платье, Тейе послала за вестником.
– Вызови мою стражу. Мы отправляемся в гарем.
В сопровождении солдат – впереди и сзади – и носителей опахала и метелки по бокам Тейе выплыла из-под высокой крыши дворцовой террасы. Хотя до полудня было еще далеко, во дворе было уже полно резвящихся в фонтанах детей. Рабыни и служанки склоняли головы при ее появлении. На широкой вымощенной площадке перед залой для приемов Аменхотепа толпились представители иноземных посольств, здания которых усеивали дворцовую территорию; они ожидали, когда фараон или его управители смогут принять их. Услышав предупредительные выкрики вестника, они тоже склонялись в почтительных поклонах, пока Тейе шествовала сквозь толпу. Лишь только закрылась тщательно охраняемая дверь между публичными помещениями и причалом гарема, шум сразу затих. Тейе со стражей повернула налево, миновав украшенный колоннами вход в дом женщин, и тотчас перед ней предстал Херуф, ее главный управляющий, а также хранитель дверей гарема; его короткое платье трепетало на ветру, задувавшем в сады, расположенные позади зданий. Тейе протянула ему руку.
– Тебе предстоит подготовить и обставить новые комнаты и купить еще рабынь, – сказала она, когда он поцеловал кончики ее пальцев. – На днях прибывает иноземная царевна Тадухеппа.
Херуф вежливо улыбнулся:
– Царевна Гилухеппа будет несказанно рада, моя госпожа. С того времени, как убили ее отца, а брат стал править страной, она сама не своя до новостей из Митанни. Тадухеппа – ее племянница, она привнесет в комнаты Гилухеппы дыхание дружеского общения.
– Памятуя о том, что Гилухеппа является царской женой почти столько же лет, сколько и я, мне трудно понять, почему она все еще тоскует по лишениям и опасностям варварской страны, – сухо заметила Тейе. – Но я пришла сюда не затем, чтобы обсуждать митаннийских женщин фараона. Я хочу увидеть царевича.
– Он только что поднялся и сейчас в саду у озера, моя царица.
– Хорошо. Проследи, чтобы нас не беспокоили.
В одиночестве Тейе шла по галерее, наслаждаясь благословенным ветерком. Слева и справа двери были открыты. Она проходила мимо небольших гостиных, где женщины принимали своих управляющих и родственников, мимо совсем маленьких личных покоев, в которых они зимними вечерами собирались поболтать вокруг жаровни. От главной галереи ответвлялись коридоры, где вдоль стен возвышались статуи богинь Мут, Хатхор, Сехмет, Таурт; это были божества, перед которыми женщины воскуряли благовония, шепча молитвы о красоте, плодовитости, продлении своей молодости и здоровье детей. Коридоры вели в апартаменты жен фараона, живущих в этом же крыле, в глубине дворцового ансамбля. Покои наложниц были разбросаны по многим зданиям, и особенная, душная атмосфера гарема постепенно окутывала Тейе. Повсюду эхом раздавались смех и визгливая болтовня. Бряцанье бронзовых ножных браслетов, звон серебряных украшений, мелькание желтых, алых, синих одеяний, исчезающих за поворотом. Где-то в конце галереи, ведущей в детские, жалобно плакал больной ребенок. Вдруг из неплотно затворенной двери пахнуло фимиамом и донеслось благозвучное пение иноземных молитв, может быть сирийских или вавилонских. В другом дверном проеме она увидела нагое тело с вытянутыми руками и услышала плач флейты.
Ненавижу гарем, – в тысячный раз подумала Тейе, вырвавшись, наконец, на ослепительный солнечный свет. Она пошла к озеру. – Месяцы, которые я провела здесь, были самыми трудными в моей жизни. Я была испуганной и упрямой двенадцатилетней девчонкой, одной из многих жен фараона. Не помогало и то, что моя мать – Украшение царского престола – тоже жила здесь. Она управляла другими женщинами, как военачальник своими войсками, применяя кнут и проклятия, и ругала меня за то, что я бегаю по этим лужайкам рано утром, голой и ненакрашенной, пока все в гареме еще сладко спят. Если бы Аменхотеп не полюбил меня, я бы, наверное, отравилась.
При виде своего последнего оставшегося в живых сына она отогнала прочь невеселые воспоминания. Он сидел, скрестив ноги, на папирусовой циновке у озера, в тени маленького балдахина. Он был один; руки неподвижно лежали на коленях, покрытых белой юбкой, взгляд был прикован к белому мерцанию воды и солнечным бликам на ряби озера. Неподалеку отбрасывала пятнистую тень маленькая рощица, но он выбрал именно это место, под натянутым балдахином, в ослепительно ярком свете солнца. Погруженный в созерцание, он не заметил приближения Тейе и поднял взгляд лишь в последний момент. Он распростерся ниц на траве, выражая почтение, и снова уселся на циновку.
Тейе изящно опустилась рядом с ним. Он не смотрел на нее, погруженный в молчаливое самосозерцание, по-прежнему не отрывая взгляда от поверхности озера. Как и при каждой их встрече, ею овладело чувство смущения и отчужденности. Она ни разу не замечала за ним проявления хоть какой-нибудь активности; за девятнадцать лет она так и не смогла понять, является ли его сдержанность свидетельством крайнего высокомерия, стоическим принятием своей судьбы или признаком слабоумия. Она знала, что женщины гарема относятся к нему со смешанным чувством привязанности и пренебрежения, как к приблудному щенку, и не раз за эти годы задавалась вопросом, понимает ли ее муж, что такое отношение окружающих тлетворно влияет на душу взрослеющего юноши. Разумеется, он понимал. О вырождении человеческой натуры он знал больше, чем кто-либо другой.
– Аменхотеп?
Он медленно обратил к ней взгляд кротких, прозрачных глаз, и его полные губы изогнулись в улыбке, отчего выступающий, неестественно длинный подбородок сделался еще заметнее. Царевич был некрасив, почти отвратителен. Некоторое благообразие его лицу придавал только тонкий орлиный нос.
– Матушка? У тебя утомленный вид. Сегодня все выглядят утомленными. Это из-за жары. – Голос у него был высокий и тонкий, как у ребенка.
Ей не хотелось говорить о пустяках, ей не терпелось сообщить ему поразительную новость, но в какое-то мгновение она поняла, что не может подобрать слова. Поборов нерешительность, она начала:
– Долгие годы я мечтала о том, чтобы сказать тебе это. Хочу, чтобы ты приказал своим управляющим и слугам упаковать все, что желаешь взять с собой. Ты покидаешь гарем.
Улыбка не исчезла с лица, но длинные смуглые пальцы стиснули сиявшую белизной ткань юбки.
– Куда я поеду?
– В Мемфис. Ты будешь назначен верховным жрецом Птаха.
– Фараон умер?
– Нет. Но он болен и знает, что должен назвать тебя своим преемником. Прямой наследник всегда служит верховным жрецом в Мемфисе.
– Значит, он умирает. – Он устремил взгляд к небу. – Мемфис совсем близко от Она, правда?
– Да, да, очень близко. И ты увидишь громадные гробницы предков, и город мертвых в Саккаре, и чудесный Мемфис. Ты будешь жить в летнем дворце фараона. Ты рад?
– Конечно. Можно мне взять с собой моих музыкантов и зверушек?
– Все, что захочешь. – Ей было немного досадно, что он не проявил никаких эмоций, но она объяснила это тем, что он еще не до конца осознал, насколько может теперь измениться его жизнь. – Думаю, нужно полностью освободить твои покои, – продолжила она. – Сюда ты уже не вернешься, и, кроме того, тебе как Гору-в-гнезде предстоит жениться, а будущая царица Египта вряд ли станет жить где-либо, кроме собственного дворца.
Впервые ей удалось расшевелить его. Он резко повернулся, и на мгновение в его глазах вспыхнуло удовлетворение.
– Мне отдадут Ситамон?
– Нет. Ею по-прежнему располагает фараон.
– Но она моя сестра, и она истинно царской крови. – Он поджал губы, нахмурясь.
Доволен он или разочарован тем, что не может получить ее в жены? – задумалась Тейе.
– Сын мой, дни, когда трон передавался только человеку, женатому на особе истинно царской крови, прошли. Теперь выбор делает либо сам фараон, либо оракул Амона.
Аменхотеп скривил губы в презрительной усмешке.
– Меня сын Хапу выбрал бы последним из всех. Я рад, что он умер. Я его ненавидел. Матушка, это ведь ты заставила фараона принять такое решение, правда? – Он оторвал руки от колен и принялся задумчиво теребить крылья своего белого кожаного шлема. – Я хочу Нефертити.
Тейе была поражена.
– Я тоже выбрала для тебя Нефертити. Твоя двоюродная сестра станет тебе достойной супругой.
– Она порой навещает меня и приводит дядюшкиных бабуинов. Она ходит в библиотеку и берет для меня свитки для изучения. Мы говорим с ней о богах.
Значит, Нефертити серьезнее, чем мне казалось, – подумала Тейе.
– Это очень мило с ее стороны, – вслух сказала она. – Тебе предстоит служить в Мемфисе в течение года. Потом вернешься в Фивы, женишься и построишь собственный дворец. Я помогу тебе, Аменхотеп. Знаю, тебе придется нелегко после стольких лет заточения.
Он потянулся к ней и погладил ее руку.
– Я люблю тебя, матушка. Это все благодаря тебе. – Его нежные пальцы ласкали ее запястье. – Захочет ли фараон увидеть меня перед отъездом?
– Не думаю. Он очень плох.
– Но его страх передо мной вполне жизнеспособен! Пусть будет так. Когда я должен ехать?
– Через несколько дней. – Она поднялась, он поднялся тоже, и, поддавшись порыву, она поцеловала его гладкую щеку. – Желает ли царевич Аменхотеп основать свой собственный гарем?
– Со временем, – важно ответил он. – Но я сам стану выбирать себе женщин, когда буду готов. Пока в Мемфисе мне будет не до этого.
– Тогда я покидаю тебя, чтобы передать твои распоряжения. Да живет твое имя вечно, Аменхотеп.
Он поклонился. Когда через несколько мгновений она оглянулась, он все еще стоял там, где она оставила его. Лицо Аменхотепа было непроницаемо.
Прежде чем погрузиться в ежедневную официальную рутину, Тейе отправила сообщение своему брату Эйе с просьбой оставить все дела на заместителей и ждать ее дома. Потом она с трудом досидела до конца приема, слушая ежедневные отчеты царского казначея, рассеянно отказалась от фруктов, предложенных Пихой во время короткого перерыва. Все ее мысли были поглощены изменениями в судьбе сына и бременем новой ответственности, которое налагала на нее его свобода, ей не терпелось обсудить все это с Эйе. Не успел последний управитель с поклоном покинуть зал, как она уже сошла с трона, нетерпеливо вызывая свой паланкин.
Дом брата располагался к северу от дворца, у дороги, что пролегала вдоль реки. Едва носильщики опустили паланкин на землю, и она ступила под жидкую тень деревьев сада, поджидавший ее Эйе опустился коленями в траву.
– Оставайтесь у ворот, пока я не позову, – приказала она слугам и шагнула вперед, давая Эйе возможность поцеловать ступни ее ног, потом села в приготовленное для нее кресло.
Эйе поднялся.
– Я знаю, что выгляжу утомленной. – Она улыбнулась, перехватив его взгляд. – Мне почти не удалось поспать этой ночью. Но мы с тобой выпьем вина, разбавленного водой, и я немного отдохну. Здесь ничего не меняется, Эйе. Дом так величественно стареет; цветы, которые нравились мне в детстве, все еще цветут, и кроны деревьев такие же непокорные, как прежде. Немало загадок мы с тобой разрешили здесь за долгие годы.
Он сделал знак слуге наполнить чашу, тот исполнил приказание и удалился.
– Судя по веселому настроению царицы, можно предположить, что ты нашла фараона в добром расположении духа? – с улыбкой поинтересовался он.
Тейе поставила чашу на столик и посмотрела ему в глаза.
– Дело сделано, – ответила она. – Он отпустит царевича. Это моя окончательная победа над сыном Хапу, да перемелет Себек его кости! Все еще не верю, что он действительно мертв. Столько людей при дворе верили в то, что он пребывал под защитой самих богов и давно обрел бессмертие.
Эйе взял метелку с ручкой, украшенной драгоценными камнями, и принялся отгонять мух, роившихся над его влажным лбом.
– Мы с тобой часто обсуждали, как доказать, что они ошибаются, – невозмутимо возразил он. – Когда Аменхотеп обретет свободу?
– При первой возможности. Я дам тебе знать. Будь готов отправить солдат из части Птаха, чтобы сопровождать его в Мемфис. Командиром лучше бы назначить Хоремхеба. Он молодой, но очень способный.
– И будет бесконечно рад вернуться в Мемфис. Любой был бы рад. Фивы – зловонная дыра, кишащая нищими, крестьянами и ворами. В это время года вонь от реки такая, что даже цветы гибнут. Хорошо, Тейе, я с особой тщательностью отберу людей. Я несказанно рад. Мир замер в ожидании, чтобы выказать почтение твоему сыну.
– Да вознаградят его боги за потерянные годы, – тихо сказала она. – Фараон также желает скрепить печатью брачный договор между Аменхотепом и Нефертити. Он не захотел отдать Ситамон. Я и не ждала, что он отдаст ее, и это совсем не важно. Я сдержала обет, данный семье, – отстояла наши интересы при дворе. Теперь твоя дочь и мой сын сделают то же самое. У нас никогда не возникало трудностей с отпрысками митаннийского воина марианне,[10] которого пленником привел в Египет с войны еще Осирис Тутмос Третий.
Они немного помолчали. В дни ее детства, когда она была уже обещана, но еще не доставлена фараону, Эйе был ее наставником, он учил ее, что носить, что говорить, как удержать интерес юноши, который был предназначен ей в мужья. Он рассказывал ей о том, что любит царь и чего не любит, о его слабостях, о том, каких женщин он предпочитает. Он то и дело напоминал ей, что невозможно удержать мужчину только своим телом. Цепь для него следует ковать из способности к пониманию и юмора, живого ума и лукавого сердца. Когда в возрасте двенадцати лет Тейе, накрашенная, в парике, наконец, предстала перед Аменхотепом, ее встретил взгляд его черных глаз, в них светилось чувство, не входившее в расчеты брата. Они полюбили друг друга. Аменхотеп возвысил ее до положения великой царской супруги, и спустя много лет после того, как она перестала безраздельно царить в его опочивальне, их связь все еще оставалась прочной. Она не обманула его ожиданий. Она происходила из крепкого рода, который из поколения в поколение стремился к власти и господству, поэтому ее семья, простолюдины без капли царственной крови, постепенно укрепляла свое влияние при сменах верховных правителей, начиная с Осириса Тутмоса Третьего. С тех пор семейство тщательно оценивало каждого фараона, выверяло степень его могущества, отдавая дань его слабостям и умело используя их. Отец Тейе был начальником колесничих войск, смотрителем царских конюшен и главным наставником в военном искусстве молодого Аменхотепа. Эту последнюю должность он использовал, чтобы добиться расположения юноши. Ее мать была наперсницей царицы Мутемуйи и главной госпожой гарема Амона. Земля, богатство и влияние накапливались годами, как отложения плодородных иловых наносов Нила, но конец всему этому мог настать в один момент, порыв – и все могло быть сметено ветром нищеты и царской немилости. Поэтому ничто не принималось как должное, и каждый шаг тщательно выверялся.
– У Нефертити характер угрюмый, она очень беспокойна и своевольна, – сказал Эйе, немного помолчав. – Но все ее недостатки бледнеют на фоне ее необычайной красоты, недаром ей всегда потакали все, начиная с нянек и учителей и кончая моими собственными конниками. Честолюбива ли она, еще неизвестно. В свои восемнадцать она обвиняет меня, что еще не сделалась женой и матерью.
– Можешь сказать ей, что скоро она станет и тем и другим. Конечно, пока она будет на всех бросаться, потому что ей скучно и тревожно. Во дворце она быстро научится дисциплине.
– Не надейся на это, – коротко сказал Эйе. – Она моя дочь, и я люблю ее, но моя любовь не слепа… Возможно, если бы ее мать была жива, если бы я не был так занят…
– Это не важно, – прервала его Тейе. – Недостатки царицы затушевываются косметикой, украшениями и правилами этикета. – Она приподняла подол влажного от пота платья и принялась обмахиваться. – Если Исида не прослезится в ближайшие дни, я умру от этой жары. Да, я богиня. Конечно, я могу послать жреца к ее жертвеннику, чтобы он пригрозил ей.
Услышав легкое шлепанье босых ног по прохладным плитам террасы, она умолкла и обернулась. Из сумрака приемной появилась Мутноджимет, младшая дочь Эйе и единокровная сестра Нефертити; она медленно, будто прогуливаясь, направлялась к ним, из одежды на ней не было ничего, кроме золотого обруча на шее и алой ленты, свисавшей с детского локона. В одной руке девушка держала гроздь черного винограда, в другой – маленькую метелку. За ней торопливо семенили два карлика, тоже нагие: один волочил полотенца, другой – красное опахало из страусовых перьев. Завидев царицу, они остановились и принялись оживленно болтать между собой, строя смешные гримасы. Мутноджимет подошла к Тейе и почтительно распростерлась перед ней ниц, потом поднялась и бесцеремонно чмокнула Эйе в щеку.
– День уже давно наступил, – пожурила Тейе, заметив опухшие веки девушки и раскрасневшееся лицо. – Ты проспала все утро?
Мутноджимет смачно раскусила виноградину, потом вытерла сок в уголке рта тыльной стороной окрашенной хной ладони.
– Вчера была вечеринка в доме у Мэя и Верел, потом мы катались на лодках, а потом взяли факелы и до утра бродили по Фивам. Я не заметила, как рассвело. – Она задумчиво жевала виноградину. – Блудницы на улице домов терпимости начали носить ожерелья из маленьких разноцветных глиняных колечек. Думаю, раскрашенная глина будет модной при дворе в этом сезоне. Я непременно должна иметь такое ожерелье. У тебя все хорошо, тетушка?
– Да, – ответила Тейе, стараясь скрыть изумление.
– Тогда Египет счастлив. Пойду, освежусь, пока кожа не пересохла от жары. О боги! Ра безжалостен этим летом!
Бросив ощипанную гроздь на столик, она вяло махнула метелкой карликам и пошла прочь. Тейе смотрела, как плавно перекатывались мышцы на пышных бедрах Мутноджимет, когда та вышла из тени на ослепительный солнечный свет. Карлики рысили за ней, визгливо вскрикивая, и шлепая друг друга.
– Мне жаль мужчину, который женится на ней, – заметила Тейе. – Ему придется стать деспотом.
– Ей давно пора, – ответил Эйе. – В любом случае, после брака Нефертити с наследником короны Мутноджимет окажется слишком близко к трону, и нельзя будет выдать ее замуж за человека, чья преданность семье вызовет хоть малейшие подозрения. Она же будет предана любому, кто возьмет на себя труд развлекать ее.
– Хоремхеб сумел бы совладать с ней, – задумчиво сказала Тейе. – Интересно, что если поженить их? Но не хотелось бы принуждать его. Он хороший военачальник и взятки берет открыто, а не исподтишка, как и подобает сановнику короны.
– Было бы неплохо придержать ее, пока Нефертити и царевич не сочетаются браком, – возразил Эйе. – Есть еще Ситамон, но я уверен, что фараон не отпустит ее до самой своей смерти. Она связывает его с Тутмосом, его сыном, и с его собственным прошлым.
Тейе молча оценила его проницательность и твердость.
– Слишком непочтительно ты говоришь о моем муже, – спокойно упрекнула она.
Он не извинился.
– Я говорю о политической необходимости, – ответил он. – Мы оба отдаем себе отчет, что, если бы царевич был волен предпочесть Ситамон и сделать ее верховной женой, ревность Ситамон к тебе и ее политическая недальновидность могли бы тотчас после кончины фараона низвести тебя до положения безвластной вдовствующей царской супруги. Ситамон не позволила бы тебе принимать участие в управлении, да и сама не стала бы с этим связываться. Аменхотеп может в дальнейшем жениться на своей сестре, но только после того, как верховной женой станет Нефертити.
Они замолчали. Тейе задумалась над его словами. Они с Эйе часто обсуждали эти вопросы, представлявшиеся им упражнением для ума и средством от скуки знойного летнего полдня, но, на сей раз, предметы обсуждения были слишком реальными, а возможные варианты решения жизненно важными. Тейе задумчиво смотрела на бабуинов, возившихся в сухой траве на другом конце сада. Они зевали, время от времени похлопывали друг друга, с удовольствием приподнимая нарядные ошейники и почесываясь, или запускали руки в шерсть друг другу в поисках насекомых.
Наконец Тейе сказала:
– Если что-нибудь случится с Нефертити до того, как будет подписан брачный договор, я бы скорее предпочла, чтобы на ее месте рядом с моим сыном оказалась Мутноджимет, а не Ситамон. Но мы подождем и постараемся не совершать опрометчивых поступков. Да, и убеди ее срезать детский локон и отрастить волосы. Уже четыре года, как она стала девушкой.
Эйе уныло ухмыльнулся:
– Я оставил попытки бороться с ней. Мутноджимет нравится быть не такой, как все. Она любит шокировать тех, кто ниже ее по положению, и дразнить равных себе. Она считает себя законодательницей мод в Фивах.
– И пока ее это развлекает, она не станет играть в более опасные игры. – Поднимаясь, Тейе хлопнула в ладоши, и Эйе тотчас встал тоже. Из полумрака дома выбежали слуги. Тейе протянула брату руки для поцелуя. – Когда буду готова, пришлю к тебе Херуфа. Да живет твое имя вечно, Эйе.
– И твое, моя госпожа.
Несмотря на внешнюю уверенность, которую я всегда выказывала, на самом деле мне не верилось, что этот день когда-нибудь наступит, – подумала Тейе, направляясь к воротам. Завидев ее, носильщики принялись усердно кланяться. – Аменхотеп свободен. У Египта есть наследник короны, а все остальное – всего лишь детали. Это моя величайшая победа, и я счастлива.
2
Переданный Тейе приказ об освобождении сына облетел дворец и казармы, как дуновение пустынного ветра. Уже через три дня после оглашения радостного известия Аменхотепу предстояло направиться в Мемфис во всем великолепии, подобающим наследнику престола. Замерщики доложили, что за эти три дня уровень воды в Ниле немного поднялся, и люди, столпившиеся на пристани у дворцового причала в надежде хоть краем глаза увидеть царевича, чье появление было сродни внезапному обретению слухами плоти, испытывали одновременно облегчение и радостное возбуждение. Тейе восседала на своем эбеновом троне под изысканно украшенным балдахином, над ней медленно покачивались опахала. Рядом сидела Ситамон в желтом одеянии, перья короны, которую она носила по праву верховной жены, подрагивали в такт ее дыханию. В ожидании царевича Эйе прохаживался между позолоченной ладьей «Сияние Атона» и строем солдат, истекавшх потом. Мутноджимет, закутанная в белый лен и ярко накрашенная, что помогало защититься от солнца, уныло щелкала хлыстом по финиковой пальме, у ее ног пыхтели карлики, будучи не в силах препираться на такой жаре.
Из Карнака прибыла небольшая группа жрецов под предводительством Си-Мута, второго пророка Амона. Жрецы держали систры и благовония, готовые ускорять путь царевича своими молитвами. Покосившись на торжественное лицо Си-Мута, по которому струился пот, Тейе вдруг ощутила острую тоску по умершему от лихорадки брату Анену, который еще год назад был вторым пророком Амона.
– Подай мне метелку, – приказала она носителю метелок и принялась раздраженно гонять мошкару, роившуюся у шеи и норовившую присосаться к покрытому испариной лицу.
Эйе склонился перед ней.
– Царица, я дал указания Хоремхебу временно разместить царевича в своем доме, пока все сановники и слуги дворца не пройдут тщательную проверку. Конечно, теперь, когда фараон официально распорядился о новом назначении, покушение маловероятно, но всегда может объявиться человек, желающий выслужиться перед фараоном, попытавшись нанести вред Аменхотепу.
– Или фараон сам пожалеет о своем решении, – ответила она, понизив голос. – Я не успокоюсь, пока не закончится предписанный законом год и царевич не вернется в Малкатту. Посторонись, Эйе.
Гул возбужденных голосов внезапно стих: показались солдаты с Хоремхебом во главе. Хоремхеб широкими шагами приблизился к трону. Предплечья его были схвачены блестящими серебряными обручами, свидетельствующими о звании сотенного; синий шлем колесничего обрамлял привлекательное лицо, носившее, несмотря на юный возраст, отпечаток раннего возмужания, наложенный образом жизни, который выбрал для себя юноша. Благодаря покровительству Эйе ему была обеспечена прекрасная карьера в армии и при дворе, и он понимал это, но полагался не только на своего наставника. Подчиненные знали, что хотя начальник суров, но мудр и справедлив. Хоремхеб опустился на колени и поцеловал ноги царицы.
– Надеюсь, ты понимаешь всю важность налагаемой на тебя ответственности, Хоремхеб, – сказала Тейе, жестом приказывая ему подняться. – Я буду ждать подробных и регулярных отчетов.
Он молча склонил голову.
Тейе, встав, шагнула навстречу сыну и с удивлением увидела рядом с ним Нефертити – высокую, грациозную, в желтом платье и длинном, до талии, парике, локоны которого увиты незабудками из ляпис-лазури, камня богов.
– Шли мне известия как можно чаще, – сказала Тейе, обнимая Аменхотепа.
Он уткнулся ей в щеку и с улыбкой отстранился; взгляд сына устремился за ее плечо, к колоннаде дворца. В тот же миг будто маска сковала черты вытянутого, болезненно-бледного лица, и он резко отвернулся. Тейе украдкой проследила за направлением его взгляда. Полускрытый за одной из колонн с капителью в форме цветка лотоса, которые украшали фасад залы для приемов, стоял ее супруг в сопровождении только одного личного слуги. В толпе пронесся ропот удивления, Тейе, отведя взгляд, резко повернулась к сыну как раз вовремя, чтобы заметить, что тот прижался губами к алым губкам Нефертити.
– Да живет твое имя вечно, сестра, – громко сказал Аменхотеп, играя ее блестящим локоном, а она улыбалась ему, прищурившись от солнца. – Приезжай навестить меня, если твой отец позволит. Мне будет не хватать наших бесед.
Возмущенная таким явным попранием приличий, Тейе посмотрела на брата.
– Да будет твердой земля под твоими ногами, царевич, – дерзко ответила Нефертити.
Он повернулся и, поднявшись по сходням, исчез в тени маленькой кабины. Хоремхеб отдал приказание, и занавеси опустили. Си-Мут начал свои песнопения, вверх поползли струйки фимиама, солдаты заняли места по бортам ладьи. Выдвинули весла. Надсмотрщик задал ритм, и ладья под сине-белым флагом, легко скользнув от причала, пошла через озеро к каналу и дальше, к вольным водам реки.
Когда ладья исчезла из виду, Тейе крепче сжала свою метелку, горя желанием хлестнуть ею по румяному личику племянницы, но сдержалась и вместо этого принялась яростно стегать метелкой по своим ногам. Не успела девушка отойти, как Тейе быстро приняла решение.
– Нефертити, собери вещи, ты должна как можно скорее переехать ко мне во дворец, – приказала она. – Оставь своих слуг в доме отца, или отошли в Ахмин, или продай, мне все равно. Прислугой я тебя обеспечу. Настало время учиться вести себя как жена, а не как жеманная наложница.
– А я уже ни то и ни другое, тетушка, – ответила Нефертити без тени замешательства. – Это Аменхотеп поцеловал меня. Не я его.
– Ты отлично знаешь, что тебе следовало сделать шаг назад и преклонить колено, чтобы показать, что ты почла за честь царственное внимание к себе, но смущена проявлением его на людях. Что с тобой происходит?
А что происходит со мной? – мысленно спросила она себя. – Почему меня так раздражает маленькая оплошность сына, ведь он сегодня наверняка исполнен ликования, с которым так нелегко совладать? Я, что, боюсь потерять влияние на Аменхотепа, боюсь, что он не будет больше всецело зависеть от моей любви? Она заставила себя холодно улыбнуться Нефертити и ощутила, как отступает ревность.
– Я знаю, как мне следовало поступить, – произнесла Нефертити не то с вызовом, не то извиняясь, – но мой брат застал меня врасплох. Это был знак высочайшего расположения, и я почитаю его за честь.
Когда толпа начала расходиться, жрецы подошли к озеру и Си-Мут принялся бросать в воду цветы. Мутноджимет остановилась рядом с Тейе и с интересом прислушивалась к разговору.
– Как тебе и полагается, – неохотно вымолвила Тейе. – Хорошо, забудем об этом. Ты могла бы также взять на себя некоторые обязанности царевны, Нефертити. Вчера прибыли посланники этого выскочки, хеттского царевича, и сегодня фараон намерен дать им первое представление о египетском гостеприимстве. Вы все приглашены. Жаль, что Тии еще в Ахмине. Хотелось бы ее увидеть.
– Мама не выносит Фивы летом, тетушка, – вмешалась в разговор Мутноджимет. – Ей по душе только старое родовое поместье. Но я приду с удовольствием. Теперь мы с Нефертити можем идти?
Тейе кивнула, девушки почтительно поклонились ей. Хлыст Мутноджимет со свистом опустился на головы сонных карликов, и те подскочили с возмущенными воплями. Проведя по бритой голове оранжевой от хны ладонью и забросив за плечо схваченный лентой детский локон, она направилась к ладье Эйе, привязанной под сикоморами на другом конце причала. Нефертити, подав знак своей свите, последовала за сестрой. Тейе неслышно вздохнула и обернулась в сторону дворца; за колонной, где прежде маячила массивная фигура супруга, никого не было.
Суета, вызванная отплытием Аменхотепа, вскоре улеглась, двор взбудоражило новое событие: приезд царевны Тадухеппы. К этому времени река еще больше поднялась, и теперь вода стремительно неслась мимо берегов, будто вырвавшаяся из узды дикая лошадь, и, хотя она еще не начала разливаться на высохшие поля, тернистые акации, нависавшие корнями над самой рекой, уже покрылись свежей листвой. Воздух сделался насыщенным и тягучим, но в нем еще не чувствовалось прохлады. В гнетущей духоте было невозможно дышать, каждый вздох требовал почти физических усилий. В гареме от духоты заболели дети.
Восседая рядом с супругом на своем эбеновом троне, Тейе наблюдала, как царевна сходит на берег. Несмотря на жидкую тень балдахина и непрерывные взмахи опахала из алых страусовых перьев над головой, платье Тейе промокло от пота, а плиты розового и черного мрамора под ногами обжигали кожу сквозь тонкие подошвы сандалий. Аменхотеп сидел неподвижно, крюк, цеп и скимитар[11] покоились у него на коленях, пот скапливался под двойной короной и струился по вискам. Тейе подумала, что он, скорее всего, задремал. Прямо перед ней заманчиво прохладная темная вода лизала ступени причала. Из-за реки доносился приглушенный, будто задыхающийся от жары шум города, множество построек, разбросанных вдоль восточного берега, сливались в один мерцающий мираж. Придворные фараона в сверкающих париках и ослепительно белых одеждах лениво щелкали разукрашенными метелками и изредка перекидывались парой слов. Тейе почувствовала слабость и головокружение. Чуть поодаль, слева от нее, обособленной группой стояли под своими балдахинами Птахотеп, Си-Мут и другие жрецы из Карнака, над ними поднимались тонкие струйки фимиама, что еще больше затрудняло им дыхание. В отдалении, справа, в тени дворцовой стены, сидели обитательницы гарема, Гилухеппа тоже была там; служанки сновали между ними, разнося прохладное питье и блюда со сладостями, в траве прыгали кошки и обезьянки.
Наконец послышался окрик впередсмотрящего, и Тейе подняла глаза, щурясь от солнца. Ладья «Сияние Атона» возвращалась из Мемфиса, она уже повернула в канал и, лавируя, приближалась к причалу; парус был спущен, шли на веслах, двигавшихся медленно и монотонно. Теперь, когда ладья миновала толпу любопытного фиванского простонародья, откинули шелковый полог. Придворные музыканты загрохотали в барабаны, зазвенели кимвалами и лютнями. Флаги царского дома поникли, судно уткнулось в причал. Мокрые, сияющие на солнце золотистые борта ладьи бросили желтые отблески на его мраморные плиты. Рабы устремились вниз по сходням, в полумраке кабины поднялась суета, и вот появилась Тадухеппа. Лишь только она вышла из своего укрытия, служанки тут же подняли над ее головой балдахин – странно изогнутую жесткую конструкцию, затянутую белым атласом, верхушку которой украшал улыбающийся лик какого-то варварского божества. Тяжело и сипло дыша, Аменхотеп с трудом поднялся, подобрав символы власти, и застыл в ожидании.
Тейе пристально разглядывала царевну. У нее было смуглое лицо с мелкими чертами и живые черные глаза, голову покрывала мягкая шапочка из золотой ткани, кисти которой спускались на шею. Маленькие парчовые башмачки едва виднелись из-под тяжелой пестрой юбки с золотой бахромой, свободная шаль из той же ткани скрывала контуры тела, оставляя на виду только руки. Следом причалили еще шесть кораблей, из них высыпалась на берег щебечущая толпа ярко разодетых женщин – свита царевны.
Тадухеппа просеменила к трону, опустилась на колени, поцеловала ноги своего мужа, потом, помедлив в нерешительности, робко, но с интересом взглянула на Тейе и поцеловала ее ноги тоже. Несмотря на маленький балдахин, на жаре она, очевидно, сразу почувствовала дурноту. Тейе было видно, что ее лицо покрылось испариной.
Аменхотеп безразлично кивнул вестнику.
– Во имя всемогущего Амона и наипрекраснейшего Атона я, Нембаатра Хек-Уасет,[12] бог этой земли, приветствую тебя, Тадухеппа, царевна Митанни и дочь моего друга и брата владыки Тушратты! Добро пожаловать в Фивы, – провозгласил вестник, выставив перед собой свой официальный жезл. – Пусть этот брак станет залогом добрых отношений между нами.
Аменхотеп поднялся. Потом он наклонился и заставил Тадухеппу подняться с колен, эти движения дались ему с большим трудом. Тейе встала рядом с ним. Вдруг она ощутила, как его локоть скользнул по ее руке, и, мгновенно угадав желание фараона, незаметно поддержала его.
– Отец шлет тебе свои искренние приветствия, – запинаясь, сказала Тадухеппа. Она говорила по-египетски с сильным акцентом. – Он с полной уверенностью отдает меня в твои августейшие руки. Также он шлет тебе богиню Иштар, потому как до слез опечален твоей болезнью. Иштар счастлива снова посетить землю, столь любимую ею.
Повернувшись, она поманила пальчиком раба, стоявшего позади нее, и черный покров соскользнул с его ноши, открывая маленькую золотую статуэтку. Собравшиеся склонили головы. Дрожащими руками Тадухеппа передала статуэтку Аменхотепу.
Он не верит, но, вопреки самому себе, надеется, что Иштар сможет придать ему сил, он страстно желает этого, – подумала Тейе, глядя, как он передает крюк, цеп и саблю хранителю царских регалий и осторожно касается пальцами богини. – Это и мое желание. – Она сжала его руку. – Я не хочу, чтобы это заканчивалось, – в отчаянии думала Тейе. – Он борется за возвращение молодости, как слепец, что трет себе глаза пеплом. Это не дипломатический брак, это последний шанс бросить кости в игре со смертью. О, Аменхотеп! Вот и пришел конец всем светлым мечтаниям нашей юности. Старый бог, дрожащий под пристальным взором безжалостной вечности, и стареющая богиня, лишившаяся наконец всех своих иллюзий.
– Птахотеп! – хрипло крикнул фараон, и верховный жрец тут же подскочил к нему, чтобы принять из его рук Иштар. – Установи богиню в нишу в моей опочивальне и проследи, чтобы ей поднесли пищу, вино и благовония. А теперь давайте же возблагодарим Амона за благополучное прибытие моей жены.
Перед террасой установили маленький алтарь и рядом с ним огромную каменную чашу, в которой корчились языки пламени, почти невидимые при свете полуденного солнца. Аменхотеп, по-прежнему с Тейе по правую руку и Тадухеппой по левую, медленно прошествовал за жрецами к алтарю, а все придворные выстроились вслед за ними, замыкая шествие. На алтаре, закатив черные глаза, лежал уже связанный бык и жалобно мычал. Зазвенели кимвалы, затрещали систры. Какое-то время пришлось выслушивать песнопения жрецов. Тейе кожей чувствовала, с каким трудом Аменхотеп выносил это, и молилась, чтобы ему не сделалось плохо в самый ответственный момент.
Птахотеп занес нож. Зарокотал барабан. Под многоголосый крик толпы нож описал в воздухе дугу, из горла животного брызнула кровь и, источая пар, полилась в большой кувшин. Бык еще бился в предсмертных судорогах, а жрецы уже вспороли ему брюхо, и оттуда волнами повалились кишки, падая в подставленное корыто. Толпа принялась визжать и хлопать в ладоши. Другие жрецы искусно разрезали жертву на надлежащие части, и Аменхотеп, собрав последние силы, принялся хватать куски и бросать их в огонь. Танцоры начали ритуальный танец.
– Пусть Птахотеп сам сожжет антилоп и гусей, – прошептала Тейе Аменхотепу, воспользовавшись суетой. – Это допустимо. Херуф отведет девушку в гарем. А тебе надо отдохнуть.
Он не стал противиться. Взяв Тадухеппу за руку, фараон улыбнулся ей, не разжимая губ, чтобы не показывать гнилые зубы в беспощадном сиянии полуденного солнца.
– Хранитель дверей гарема будет счастлив угодить тебе, – сказал он, – а твоя тетушка Гилухеппа уже заждалась, ей не терпится поговорить с тобой. Ступай.
Он не стал ждать, пока она уйдет. Опершись на руку Тейе, царь медленно прошествовал через террасу в благословенный полумрак залы для приемов. Лишь только он удалился, придворные, расталкивая друг друга, с радостными воплями бросились к алтарю за бычьей кровью. Они обмакивали в кровь пальцы и вымазывали себе лоб, грудь, ноги, уповая на то, что принесенная жертва обернется удачей.
Той ночью состоялся официальный прием в честь Тадухеппы. Царевна сидела на помосте банкетной залы рядом с фараоном, одеревенелая, разукрашенная, словно кукла, говорила только тогда, когда обращались прямо к ней, и робко сносила откровенно оценивающие взгляды придворных и гостей, заполонивших огромное помещение. Справа от Аменхотепа, увенчанная рогатой короной с двойным пером, расположилась Тейе; она следила за тем, чтобы слуги не обделяли Тадухеппу, но в основном ее внимание было приковано к супругу, который сидел, неуклюже развалившись в кресле, часто закрывал глаза и тяжело дышал. Иногда он взбадривался, пытаясь делать изысканные комплименты своей новой жене. Рядом с Тейе красовалась Ситамон, сверкавшая перстнями над маленьким позолоченным столиком, заставленным цветами. Она сосредоточенно ела и пила, отрываясь от яств лишь для того, чтобы перегнуться через мать к Аменхотепу и предложить ему лакомый кусочек. Между колоннами порой пробегал легкий ветерок, порывисто налетавший с темной глади озера, но в зале все равно было душно от густых ароматов еды и масел, вытекавших из тающих конусов с благовониями на париках гостей.
Между тесно поставленными столиками извивались нагие танцовщицы, на ногах у них позвякивали браслеты, в волосах, сверкая в свете факелов, колыхались серебряные подвески. Они грациозно наклонялись и собирали с пола золотые пластинки, исчерканные приглашениями продемонстрировать свое искусство в других местах или предложениями иного толка, исходившими от компании, чьи непристойные выкрики иногда заглушали звуки барабанов и арф придворных музыкантов. Вдруг Тейе увидела, как царевна Тиа-ха, сидевшая среди жен фараона, поднялась со своих подушек и, сбросив длинное и узкое голубое платье, нагая скользнула к подножию помоста. Аменхотеп кашлянул. Тиа-ха поклонилась ему, послала воздушный поцелуй и, откинув назад волосы, начала грациозно извиваться в быстром ритме музыки.
– Вот эта женщина никогда не умрет, – восхищенно сказал фараон, обращаясь к новой жене. – Слишком много в ней жизненной силы Хатхор. Ты любишь танцевать, царевна?
Тадухеппа смутилась и испуганно воззрилась на своего повелителя, а внизу зрители начали свистеть и аплодировать Тиа-ха.
– Я училась танцам в храме Саврити Многорукого, – ответила она. – Если светлейший пожелает, я буду танцевать для него.
– Сегодня, Тадухеппа, – благодушно ответил он, видя ее смущение, – твоя красота так хрупка, как весенний цветок, она слишком нежна, чтобы выставлять ее напоказ перед этими пьяными трутнями.
Он погладил ее руку и повернулся к Тейе.
– Суппилулиумас не терял времени и быстро прислал своих представителей, – сказал он. – Но посланник этого выскочки-хетта такой неотесанный, явно из простых солдат.
Он кивнул в том направлении, где среди других иноземных сановников сидел хеттский посланник, упираясь босыми ногами в столик и обхватив руками двух танцовщиц; его длинные, спутанные волосы и кустистая борода подрагивали, когда он что-то быстро говорил Эйе, который сидел рядом, откинувшись на подушки, и вежливо внимал ему.
– Хетты никогда особо не заботились о приличиях, – ответила Тейе, задумчиво разглядывая смеющегося солдата, – и едва ли им знакомы самые простые правила дипломатии. Высокомерие и неукротимая сила делают их опасными. Пусть Эйе развлекает этого человека, как солдат солдата. Эйе владеет языком казарм и быстро выяснит, чего этому Суппилулиумасу нужно от Египта. Кроме золота, разумеется. Было бы правильно принять завтра посла царства Митанни и узнать, что по этому поводу думает Тушратта. Его это касается непосредственно.
Ситамон наклонилась вперед, вытирая салфеткой оранжевые губы.
– Хетты живут, чтобы воевать, – предположила она. – Набеги благотворно влияют на них. Дворцовые перевороты дают им повод для празднования, а убийство вызывает здоровый аппетит. Неудивительно, что у них нет времени развивать свою культуру. Вавилонян, по крайней мере, можно урезонить, и они достаточно цивилизованны, чтобы получать удовольствие от политических игр, но эти – нет. Эти понимают только силу оружия.
Снова вызвав бурю восторгов, Тиа-ха проскользнула обратно к своему месту, неспешно извиваясь, надела узкое платье, потом опустилась на подушки и приказала принести вина.
– Таких вояк часто можно запугать угрозами и вдохновить туманными обещаниями, – ответила Тейе дочери. – Эйе обо всем доложит мне, когда будет готов. А пока необходимо проследить, чтобы иноземец ни в чем не знал нужды.
Ситамон улыбнулась и обмакнула пальцы в вино.
– Предложите ему Мутноджимет, – медленно добавила она. – Они одного поля ягоды. Мой господин желает удалиться?
Аменхотеп с трудом поднялся, и тут же шумное веселье стихло, по зале пробежал шепот. Хранитель царских регалий тоже встал, вынул драгоценные атрибуты из сундучка, который повсюду носил с собой, и поднял их высоко над головой. Фараон кивнул вестнику.
– Мани, подойди, – объявил тот.
Посланник Египта в Митанни – седой, сухощавый, немного сутулый человек с благородным лицом – твердым шагом приблизился к подножию помоста. Он легко распростерся ниц перед фараоном и замер, прижавшись лбом к прохладным плитам пола; за те секунды, пока фараон собирался с духом для приветственной речи, Тейе физически ощутила, что силы супруга на исходе.
– Мани, возлюбленный богов и истинный слуга Египта, – наконец произнес Аменхотеп, стараясь говорить громко и повелительно, чтобы его было слышно всем присутствующим. – За выдающиеся способности и преданность, с которой ты нес свою службу, и в знак нашего беспредельного одобрения я награждаю тебя золотом милости. Встань.
Мани поднялся, раскрыв ладони, а фараон принялся снимать с себя золотые украшения и бросать их неулыбчивому человеку. Браслеты, кольца, серьги, массивная золотая пектораль со звоном посыпались на мраморный пол. Мани поклонился. Гости зашумели. Аменхотеп равнодушно сделал знак слугам и удалился с помоста. Тейе кивнула Херуфу, который с улыбкой приблизился к Тадухеппе, недвусмысленно намекая, что она тоже должна уйти.
– Есть ли новости из Мемфиса? – спросила Ситамон. Тейе оторвала взгляд от мужа, который брел к выходу, стараясь во что бы то ни стало сохранять бодрый вид.
– Нет, только сообщение караульной службы Нила о том, что Хоремхеб и царевич добрались благополучно.
Ситамон осушила свой кубок и, проведя по лоснящейся от масла груди, стянула колечко с пальца и принялась втирать в него благовония.
– Думаю, что, когда вода в реке пойдет на спад, я составлю компанию Нефертити для поездки в Мемфис, – сказала она, избегая материнского взгляда – Это развлечет меня. Я всегда стараюсь навещать свои владения, когда на виноградных лозах появляется завязь, чтобы узнать, какой будет урожай. Ты же понимаешь, никому нельзя доверять, даже управляющим. И потом, на верфях Мемфиса для меня строятся три ладьи, хочу посмотреть, как их будут спускать на воду.
Тейе медленно склонилась к Ситамон, и та наконец подняла на нее свои голубые глаза.
– Нет, Ситамон, ты не поедешь, – с нажимом произнесла Тейе. – Брат не для тебя. И ты будешь держаться от него подальше. После кончины фараона я подумаю, что с тобой делать, и, если мы с Эйе сочтем необходимым, Аменхотеп сможет взять тебя в жены, но до этого ты будешь всецело принадлежать отцу. Твоя власть и так уже достаточно велика.
Ситамон удивленно подняла брови и пожала плечиками.
– Трудно принадлежать мужчине, который каждую ночь предается любви с этим мальчишкой, а дни проводит в пьянстве, – гневно парировала она, надув полные губки, в такие минуты она была очень похожа на Тейе. – Моя жизнь невероятно скучна Ты, мама, в моем возрасте уже давно была великой царской супругой и самой могущественной женщиной в мире.
Тейе смотрела, как сверкает золотая пудра на влажных локонах, спадающих на лоб Ситамон. На округлых глянцевых щеках дочери едва заметно проступили носогубные складки – след недовольства, а выкрашенные черной краской брови решительно сошлись на переносице. У Тейе мелькнул вопрос: Было ли мое лицо в ее возрасте отмечено такими же морщинками своеволия?
Она поднялась, и в зале снова стало тихо.
– Мне бы не хотелось прибегать к наказанию, Ситамон, поэтому запасись терпением. Нефертити будет великой супругой, но не исключено, что ты станешь второй женой.
– Я уже и так вторая жена одного фараона и не желаю провести остаток жизни будучи второй женой другого. Я заслужила положение великой супруги. И не думай, что ты можешь отравить меня в гареме, как ты поступила с царевной Небет-нух, мама. Мою еду всегда пробует служанка.
Тейе вцепилась в упругое голое плечико Ситамон.
– Я была ребенком и действовала под влиянием беспричинного детского страха, – в ярости прошипела она. – А ты, Ситамон, слишком опытна в житейских делах, чтобы воспринимать нынешнюю ситуацию с подобной наивностью. А теперь иди спать. Вестник! Если Тиа-ха не слишком пьяна, пусть выйдет со мной в сад. Хочу поплавать. Спи спокойно, детка.
Не оглянувшись на море склоненных голов, она покинула залу. Когда привратники закрывали за ней задние двери, она услышала, как щелкнула метелка. Мутноджимет и один из карликов взвыл от боли. Другой в это время пьяно хохотал, притоптывая в такт музыке.
Тейе внезапно проснулась среди ночи, взмокшая от пота. У ложа дрожало затухающее пламя ночника, Пиха почтительно прикоснулась к ее волосам.
– Херуф ожидает за дверью, – прошептала служанка. – Гор послал за тобой, моя госпожа.
Постанывая, Тейе спустила ноги на пол, машинально потянулась за чашей холодной воды, всегда стоявшей на ночном столике. Пиха подала ей халат и расчесала слипшиеся каштановые локоны.
– Мне снилась луна, отраженная в водах Ахмина, – сонно пробормотала она. – Эйе был мальчиком, а наш отец стоял в лодке, держа костяную палицу. Что бы мог означать этот сон, Пиха?
– Не знаю, моя госпожа. Хочешь, я омою тебя?
– Нет, я слишком устала. Наверно, выпила много вина. Дождись меня. Подними занавеси на окнах, здесь слишком душно.
Когда она вышла, Херуф молча поклонился, а стражники гарема выстроились впереди и позади нее. Они в молчании миновали пустынные коридоры, потом сад Тейе и через калитку в стене вошли во владения фараона. По мере приближения к саду гарема Тейе, совершенно бесшумно ступавшая по упругой траве, стала различать за стеной тихие шорохи, они то делались громче, то затихали, и печально звенела арфа. Взглянув вверх на крышу здания, она смутно различила какие-то бугорки и движущиеся тени: в жаркие ночи женщины гарема вытаскивали свои подушки на крышу, куда долетало слабое дуновение северного ветерка. Внизу виднелись цветочные клумбы и лужайки, пальмовые рощицы, расступавшиеся перед вымощенными ступенями причала, за которым быстро бежала река; ее журчание было монотонным, усыпляющим, она плескалась в заводях, вдруг замедляя течение и ластясь к берегу под громкое кваканье лягушек. Ночной воздух был сырым и более прохладным, чем днем; Тейе старалась дышать полной грудью; когда она повернула к дворцу, последняя сонливость слетела с нее.
Внутри сумрачного лабиринта «Величия Атона» – личных покоев фараона – еще висело знойное дыхание Ра, зловонное и безжалостное. Ее эскорт остановился. Стражники открыли двери, вестник объявил о ее прибытии, и она вошла в опочивальню фараона.
Он лежал, обложенный подушками, рот его был полуоткрыт, отекшие глаза болезненно щурились даже от того тусклого света, что давали несколько расставленных вокруг него алебастровых ламп. Мошкара, жужжа, роилась над нагим телом, покрытым испариной, но он, казалось, не замечал этого. Рядом стоял распечатанный кувшин с вином, туг же валялась сломанная и раскрошенная печать, на полу стояла пустая чаша. Тейе подбежала к ложу и поклонилась.
– Где твой носитель метелки, Гор? – спросила она с тревогой, вытаскивая метелку из-под простыней и начиная осторожно разгонять мошкару.
Он улыбнулся и пошевельнулся при легком касании конского волоса, мошкара взвилась злобным облаком.
– Мог ли я лишить насекомых Египта права отпраздновать уход их бога? – шутливо отозвался он хриплым голосом. – Они такие же хищные и ненасытные, как и прочие мои подданные. Правда, моя Тейе, я не замечал их. Я отослал слуг несколько часов назад. Меня раздражают даже их шаги.
– Я прикажу принести воду, свежее белье и, может быть, фрукты? – Она оглядела комнату, но мальчика нигде не было видно.
– Нет. Прежде чем ты уйдешь… – оборвал он ее, не дав договорить, и вздохнул.
Тейе ждала, что он скажет, для чего посылал за ней. Через некоторое время он перевернулся на живот, зарывшись своей бритой головой в подушки.
– Тут масло на блюде, где-то на столе, – сказал он глухо. – Сделай мне массаж, Тейе. Не могу сегодня выносить прикосновения раба.
Повинуясь, она сняла кольца, скинула халат, взяла блюдо, взобралась на ложе и встала на колени рядом с ним. Налив немного масла на ладонь, она размазала его по широкой спине и принялась втирать в податливую плоть, разминая и поглаживая, ощущая под пальцами сведенные болью мышцы. Долгое время тишину нарушало только тяжелое дыхание фараона. Тейе вдыхала сладковатый, густой аромат масла, возвращавший ей память о тех ночах, которые прошлое уже забальзамировало, и, будто читая ее мысли, он сказал:
– Никто еще не делал этого так, как ты, Тейе. Помнишь наш первый год, когда я посылал за тобой каждую ночь? Сегодня воспоминания о тех временах переполняют меня. На некоторое время я забыл о тебе, твое тело перестало удивлять меня, и я обратился к другим, но сейчас я снова страстно желаю тебя.
Его слова озадачили и растрогали ее. Хотя спина начала болеть, а запястья ныли, она продолжала скользить руками вверх к его массивным плечам, потом вниз по позвоночнику, она смотрела на поблескивающее теплое тело, на такие знакомые, четкие линии.
– Малышка царевна сделала все, чтобы угодить мне, – продолжил он, помолчав немного, и при звуке странных, заискивающих интонаций в его голосе сердце Тейе забилось сильнее. – Она пленительно танцевала для меня без одежды, на ней были только драгоценные украшения. Она пела для меня песни своей страны. Она целовала и ласкала меня, а потом ушла, унося лишь пустоту в своем лоне и басню о моем бессилии, чтобы разнести ее по всему гарему. Я пытался взять ее, но сегодня я, как Осирис, изувечен и разрублен на куски. Ее молодость и невинность не возбудили меня. И от внезапного страха меня прошиб пот.
Он, кряхтя, приподнялся и взглянул ей в лицо. В темных глазах мужа она прочла то, чего никогда не видела прежде: беззащитность жертвенного зверя, добивающегося ее благосклонности. Осознание своей власти над ним на секунду захлестнуло ее горячей волной, но скоро отступило, оставляя после себя только боль сострадания.
– Она воспитывалась в царской семье, – мягко ответила Тейе. – Она должна знать, что в гареме существуют негласные правила. Здесь нельзя безнаказанно болтать обо всем, что взбредет в голову, и она будет придерживаться этих правил. Хочешь, я разыщу мальчишку?
В его глазах вспыхнула сардоническая усмешка.
– Нет. На сегодня с меня довольно цветения юности. У тебя волшебные руки, Тейе. Мне стало лучше.
Его слова означали, что он отпускает ее, но она знала, что это не так. Он ждал, молчаливо моля о спасении, и она с улыбкой склонилась над ним.
3
На несколько месяцев воздух во дворце загустел от мрачного ожидания, потому что, несмотря на утешительные слова Тейе, прошло совсем немного времени, и все придворные узнали, что Аменхотеп оказался неспособен выполнить супружеские обязанности по отношению к маленькой митаннийской царевне. Этот факт сильнее всего остального укрепил их в мысли, что богу осталось жить недолго, потому что прежде о его любовной ненасытности ходили легенды. И хотя дни Аменхотепа были наполнены мучительной болью и лихорадкой, зловонными отварами озабоченных врачевателей и монотонным завыванием магов, он цеплялся за жизнь и находил в себе силы воспринимать медленное умирание своего тела с черным юмором. За Тадухеппой он больше не посылал, и она замкнулась в горделивом молчании, отнеся его пренебрежение на счет собственного несовершенства. Ночи фараон проводил с мальчишкой, женой или с младшей женой-дочерью. Начался паводок, и живительная влага вновь полилась на выжженные поля, размягчая и взрыхляя плодородную почву. Но на землю вернулись и болезни: в гареме, в лачугах городских бедняков, в хозяйствах феллахов – всюду слышались причитания плакальщиц, всюду звучали рыдания по усопшим.
Наконец стали приходить письма из Мемфиса. Уперев подбородок в накрашенные ладони и поглядывая на свои золотые сандалии, Тейе сидела рядом с пустовавшим троном фараона и внимательно слушала писца, который зачитывал ей свитки. Послания от сына были краткими, льстивыми и утешительными. Он здоров и надеется, что его вечно прекрасная мать тоже здорова. Он полюбил разноликую жизнь Мемфиса, особенно разнообразие духовных верований, которое нашел здесь. Он со всей серьезностью относится к службе в храме Птаха. Тейе часто казалось, что за его словами она ощущает странное одиночество, тоску по привычному окружению гарема, но она считала естественным, что молодой человек, впервые за девятнадцать лет вдохнувший глоток свободы, порой тоскует по защищенности и безопасности прежнего убежища. И при этом она не могла не обратить внимания на тот факт, что Аменхотеп никогда не интересовался здоровьем отца. Если не считать слов, адресованных самой Тейе, и изредка вопросов о Нефертити, от сухого желтого папируса повеяло человеческим теплом лишь однажды, когда он написал о Хоремхебе. Аменхотеп с восторгом рассказывал, как добр к нему молодой военачальник. Тейе находила эти восторженные откровения трогательными, но и тревожащими, ибо о других друзьях сын не упоминал.
Потом она перечитала свитки от самого Хоремхеба. Они приходили регулярно и содержали более живые и обстоятельные рассказы о том, как царевич устроился в своей новой жизни. Хоремхеб ничего не утаивал, он описывал, какое удовольствие получает его царственный друг от катания по городу в золотой колеснице, когда все вокруг кланяются ему. Что Аменхотеп дважды посетил Он, где приносил дары в храмах Ра-Харахти и Атона, а потом долго, пока не опустилась ночная прохлада, спорил о религии со жрецами бога солнца. Что жрецы Птаха едва сдерживают недовольство, потому что он относится к службе в их храме без должного внимания, зато всегда горазд пререкаться с ними. Он стал играть на лютне и сочиняет песни, которые поет для Хоремхеба и его наложниц. Голос у него несильный, но слух хороший.
Тейе слушала, сравнивала, размышляла. Ей передавали письма Аменхотепа к Эйе, присланные прямо во дворец, где Эйе служил смотрителем царских конюшен и надзирал за частью «Величие Атона». Она перехватывала все его письма к Нефертити, которые потом снова запечатывались и доставлялись девушке, но из них она узнавала не много нового. Его письма к невесте почти не отличались от писем к матери, за исключением ссылок на некоторые беседы, которые вели между собой Аменхотеп и Нефертити, когда он еще жил в гареме, – о культе бога Амона, покровителя Фив.
Нефертити переехала во дворец, в анфиладу комнат, примыкавшую к покоям Тейе. Казалось, девушку не расстроило увольнение ее прежних слуг и продажа рабов. С теми, кто теперь прислуживал ей, она обходилась сурово, придиралась к мелочам и не прощала промахов. Ни дня не проходило без слез, пролитых в комнатах для прислуги. Раздражительный характер племянницы нисколько не беспокоил Тейе, ее интересовало только, сможет ли Нефертити стать правительницей страны. Но девушка была надменна и воспитанию поддавалась плохо. В сопровождении свиты, носителей опахал и косметических ящичков она следовала за теткой из залы для приемов на продуваемую теплыми ветрами площадку для парадов, внимательно слушала, но интереса ни к чему не проявляла. Она была уверена, что с ее блестящими черными волосами, светло-серыми миндалевидными глазами, смуглой атласной кожей и чувственным ртом ей нет равных при дворе. Носитель метелки носил за ней также и маленькое медное зеркало, и Нефертити по многу раз за день искала свое отражение в его глянцевой глубине – проверяла, наверное, не появилась ли где морщинка с тех пор, как она в последний раз подкрашивала лицо, с раздражением думала Тейе.
Тейе помнила племянницу с самого рождения. Мать Нефертити, первая жена Эйе, умерла при родах, и Нефертити растила Тии, вторая жена Эйе и мать Мутноджимет. Тии, легкомысленная, нервная, но поразительно красивая женщина, предпочитала жизнь в родовом поместье в Ахмине хлопотному занятию воспитания двух дочерей и заботе о влиятельном супруге, хотя она по-своему любила их. В Ахмине она придумывала украшения, диктовала длинные, бестолковые письма семье и невинно флиртовала с прислужниками. Как жаль, не раз думала Тейе, глядя на тонкий профиль Нефертити, что ни она, ни Мутноджимет не унаследовали от отца его лучших качеств. Но, по крайней мере, Нефертити прилежно отвечала на письма будущего супруга, а когда говорила о нем, что случалось нечасто, то употребляла преувеличенные выражения любви и привязанности.
В один из ветреных весенних дней начала поры цветения, когда всюду на обширных угодьях фараона буйствовала молодая зелень и распускались почки, женщины гарема шумно веселились, катаясь на лодках по Нилу. Тем временем Тейе, лежа в своей спальне и завидуя им, покорно сносила бесстрастные манипуляции врачевателя. После нескольких приступов тошноты и слабости она неохотно призвала его к себе, но теперь жалела о бездарно потраченном времени, мечтая поскорее присоединиться к речной прогулке. Наконец врачеватель закончил осмотр и с улыбкой отступил.
– Моя госпожа не больна, но у нее будет ребенок.
Тейе села на ложе, вцепившись руками в покрывало, кровь отлила от лица.
– Беременность? Нет! Должно быть, ты ошибся. Слишком поздно, я стара для этого! Скажи мне, что ты ошибся!
Человек поклонился, пятясь к двери.
– Это не ошибка. Ведь я наблюдал императрицу при рождении каждого царственного ребенка.
– Убирайся!
Когда дверь за ним закрылась, она вскочила с ложа, опрокинув столик из слоновой кости, и пнула ногой жертвенник рядом с ним.
– Я не допущу этого! – закричала она испуганным слугам. – Я слишком стара! Слишком стара… – Она вяло опустилась на подушку, лежавшую на полу, грудь ее тяжело вздымалась, руки дрожали. – Интересно, – с кислым видом пробормотала она, – что скажет фараон.
Аменхотеп ничего не сказал. Он долго смеялся, обхватив руками свой толстый живот, пока слезы черными струйками краски не потекли у него по щекам, смеялся, исполненный необъяснимой мужской гордости.
– Значит, есть еще жизнь в моем божественном семени! – ликовал он, а Тейе смотрела на него в невольном изумлении. – И есть еще весенняя плодовитость в твоем стареющем теле. Должно быть, боги тоже сейчас смеются.
Вдруг он энергично отшвырнул в сторону покрывала, легко поднялся с ложа и встал рядом с ней. Она уже забыла, насколько он выше ее ростом. Она подняла лицо и встретила взгляд его все еще слезящихся глаз.
– Ты довольна, моя Тейе?
– Нет, я вовсе не довольна.
Он взял ее лицо в ладони.
– Какой же я плодовитый фараон! Надо немедленно посоветоваться с оракулом сфинкса насчет будущего нашего ребенка. – Неожиданно на его лице появилось хитроватое выражение. – А что если это мальчик? Здоровенький и крепкий? Мне опять придется думать о престолонаследии.
Тейе дернула головой, отстраняясь.
– Думаю, к оракулу нельзя и близко подходить до рождения ребенка, – решительно заявила она, – и любые споры о наследовании престола тоже могут подождать.
– Как я люблю дразнить тебя! – Он по-мальчишески улыбнулся. – Я сегодня чувствую себя намного лучше, чем все предыдущие месяцы. Давай-ка возьмем «Сияние Атона» и присоединимся к женщинам на реке. Я буду сидеть на солнышке, а ты можешь ругать меня и гонять мошкару.
Тейе все же сходила к оракулу, но спрашивала его о своем будущем, а не о будущем ребенка, которого носила. В маленьком храме сфинкса, расположенном высоко в западных скалах, оракул склонился над черной чашей Анубиса, а она стояла перед ним, держа дары. Заметив его нерешительность, она вдруг поймала себя на мысли, что впервые сожалеет о кончине сына Хапу. Несмотря на то, что она ненавидела человека, оспаривавшего у нее любовь фараона, человека, который пытался манипулировать ее супругом и которому она стремилась противостоять, она признавала, что как оракулу ему не было равных. Беспристрастный повелитель тайн, он трактовал волю богов с полным безразличием к своей безопасности. Его видения сделали его великим. Он, как живой, стоял перед глазами Тейе в этом маленьком святилище, где постоянно слышалось завывание пустынных ветров; его голова отрешенно склонялась над чашей, красивое надменное лицо скрывали спадающие локоны странного женского парика с длинными прядями, который он носил всегда. Когда он поднимал голову, чтобы произнести пророчества, в его глазах не было восхищения или подобострастия. Возможно, у меня была особая причина для ненависти, – размышляла Тейе, утомленная долгой неподвижностью. – Под его взглядом я чувствовала себя последней безродной крестьянкой, и хуже всего было то, что я знала: он не прилагает к этому никаких усилий.
Оракул прикрыл чашу и обернулся, сделав знак своим прислужникам; мальчики тут же бросились скатывать плетеные занавеси, заслонявшие солнечный свет. В комнату хлынули лучи, и Тейе на миг зажмурилась от яркой синевы неба, на фоне которого мерцали и дрожали в горячем воздухе бежевые утесы.
– Ну? – нетерпеливо произнесла она.
– Тебе нечего опасаться, моя госпожа, – сказал он, опустив взгляд. – Роды пройдут нормально, и жить ты будешь долго.
– Нормальные роды могут быть долгими и тяжелыми, а могут быстрыми и легкими. Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, что они пройдут без осложнений.
– И это все? Какого пола будет ребенок? Тебе показали боги?
Он пожал плечами и воздел руки, раскрыв мягкие ладони.
– Нет, божественная.
Тейе осторожно положила дары к ногам оракула, хотя ей очень хотелось швырнуть их. Не сказав ни слова, она покинула храм и в сопровождении своей стражи шагнула в яркий полдень, где в небе носились стаи птиц. Остановившись на мгновение перед сфинксом, бесстрастно взиравшим вдаль поверх запыленного пристанища мертвых и коричневой ленты реки далеко внизу, она уселась в свои носилки; ей предстоял долгий путь по извилистой тропе вниз, в долину. Сын Хапу не был бы таким трусливым, – грустно думала она, не замечая сухого пустынного ветра, что приподнимал подол ее платья с серебристым отливом и шелестел локонами парика, путаясь в увенчанной коброй диадеме. – Он рассказал бы мне про цвет глаз ребенка, про его пол, сказал бы, на какой секунде после рождения я услышу его первый крик. Я пожертвовала три золотые диадемы и аметистовый браслет человеку, которого, что бы ни случилось, невозможно уличить в неправоте. Интересно, больше ли заплатил Аменхотеп оракулу Амона из Карнака, когда спрашивал, сколько ему осталось жить?
Неожиданная весть о беременности царицы не сильно взбудоражила Фивы. Попрошайки на улицах перестали надоедать прохожим, теперь они сидели в тени, заключая пари на предмет того, появится ли в Египте новый царевич или царевна. Среди обитателей Фив нашлись такие, кто был готов отдать свои деньги в их грязные руки, но большинство жителей просто пожимали плечами и проходили мимо. Им не было дела до царской семьи, обитавшей где-то за рекой, в бурых зданиях на окраине города. Для них Малкатта была всего лишь гробницей, одной из многих, окружавших город, просто это была гробница для живых богов, с которыми они никогда не сталкивались. Непосредственное участие в судьбах простого народа принимали только управители фараона в своих благоухающих одеждах, с накрашенными лицами, их воспринимали как хищных стервятников, шныряющих повсюду в поисках наживы. Жители Фив не могли интересоваться рождением ребенка, которого большинство из них никогда не увидит, и женщиной, которая не имела никакого отношения к их жизни.
Придворные, однако, сочли новость достойной обсуждения, жадно набросились на нее, прожевали и с удовольствием выплюнули. Те из них, кто уже обратил свои взоры к новому царю и ожидал изменений в политике, быстро повернулись к фараону, который теперь поправился и был полон жизни, и к богине, которая могла еще удивлять их. Двор сделался сентиментальным. Вновь стало модным поклонение Мут, матери бога Хонсу и супруге Амона. Состоятельные царедворцы, стремясь приобщиться к вернувшейся молодости своих правителей, заказывали скульпторам скромные фигурки младенца Гора, сосущего грудь матери Исиды. Женщины, надеясь таким образом подстегнуть собственную плодовитость, сотнями скупали у ювелиров драгоценные амулеты.
Тейе испытывала и отвращение, и удивление, узнавая обо всем этом от своих осведомителей, раскинувших сеть в гареме и коридорах власти. Все же она не могла отрицать улучшение здоровья своего супруга, вновь проснувшийся у него интерес к государственным делам и свое хорошее самочувствие. Все вокруг дышало оптимизмом. Воздух был напоен запахами злаков, торопливо дозревающих к сезону сбора урожая, и роскошным благоуханием летних цветов, чьи насыщенные густые ароматы день и ночь сквозняки разносили по галереям дворца. Лишь в зябкие предрассветные часы благостный сон Тейе превращался в тяжелый дурман, к ней возвращались мрачные предчувствия, и она внезапно просыпалась, ощущая, как внутри беспокойно толкается ребенок. Тогда она лежала, глядя на красноватые отсветы и глубокие тени, отбрасываемые на потолок тлеющей жаровней; далеко в пустыне завывали шакалы; донесся одинокий рев осла; однажды она услышала плач и всхлипывания какой-то женщины, ее голос, подхваченный порывом ветра, разнесся, будто эхо другого Египта, мрачного и до краев наполненного непостижимой печалью. В такие минуты, застывающие и безграничные, как сама вечность, настроение всеобщей радости, пронизывавшее дворец, становилось хрупким и нереальным, готовым исчезнуть в один миг. Лишь только Тейе уютно сворачивалась под одеялом, как ее обступало отчаяние; она решительно пыталась бороться с ним, но не могла понять его природу, оно терзало ее, пока она вновь не проваливалась в вязкую дремоту.
Тейе родила мальчика в разгар жаркого летнего дня. Роды были стремительными и легкими. Будто щедрое плодородие египетской земли вдруг выплеснулось через край и захлестнуло дворец, разделив с Тейе свое изобилие. С первым криком младенца по опочивальне пробежал ропот облегчения и одобрения, а Тейе, обессиленная и довольная, уже ждала, когда ей скажут пол ребенка. Эйе протиснулся к ней сквозь толпу и прошептал:
– У тебя мальчик. Чудесный малыш, – и коснулся губами ее мокрых щек.
Взяв его руку, она притянула брата к себе, усадила на ложе и прильнула к нему, пока удостоенные чести царедворцы друг за другом входили в опочивальню, чтобы выразить царице свое почтение. Он сидел, крепко обняв ее и бесстрастно взирая на вереницу кланяющихся. Она уснула задолго до того, как, поклонившись, вышел последний придворный.
После долгих раздумий и нервных обсуждений оракулы определили, что царственный сын должен носить имя Сменхара. Фараон одобрил их выбор и лично пришел сообщить об этом Тейе. Он уселся в кресло рядом с ложем, осторожно посасывая зеленые фиги и обмакивая их в вино.
– Очень хороший знак, что этот ребенок, этот символ новых начинаний, будет носить имя, которого еще никогда не было в царственном доме, – сказал он. – И конечно, весьма кстати, что оно посвящено Ра, потому как солнцу поклоняются повсюду. Интересно, какое имя дадут нашему следующему ребенку. – Он лукаво посмотрел на нее, выковыривая длинным накрашенным ногтем фиговое зернышко из темных зубов.
– Ты поражаешь меня, Гор! – рассмеялась она, заражаясь его восторгом, освобождаясь от своих страхов, готовая поверить в невероятное. – То ли присутствие Иштар, то ли новорожденный сын вернули тебе молодость.
Он счастливо улыбнулся.
– Думаю, и то и другое. В следующем месяце я решил переехать в Мемфис со всем двором, на время самой сильной жары, как раньше. Оставь ребенка кормилицам, Тейе, и поедем со мной.
– Мемфис. – Она откинулась на постели и закрыла глаза. – Как я люблю его. Помнишь, мы с тобой среди подушек под финиковыми пальмами играли в собаку и шакала, вокруг жужжали пчелы… Интересно, захотят ли посланники переехать с нами?
– Разошли сообщения всем их царькам и избавься от них ненадолго. Надиктуй такие послания, которые потребуют длительного обдумывания, чтобы они как можно дольше не беспокоили нас.
– Вот уж воистину прекрасная мысль, – сказала Тейе, расслабленная и умиротворенная, не открывая глаз. – Как давно мы не предавались такой бесстыдной лени. Но, прости меня, Гор, сначала мне надо поспать.
Он поднялся с кресла и наклонился поцеловать ее.
– Поправляйся скорее, Тейе, поедем в Мемфис, будем сидеть на ступенях дворца и любоваться зеленым лесом под ласковыми лучами Ра.
Она ждала, что он вспомнит о присутствии в Мемфисе сына, но он только положил ладонь ей на лоб, движением, неожиданно нежным для такого крупного человека, потом Пиха открыла двери и он вышел. Ей были слышны возгласы вестника, предупреждавшего подданных о приближении царя, звук его голоса становился все глуше, пока не слился с птичьим щебетом за окном, и она улыбнулась, вспомнив прикосновение прохладных пальцев ко лбу. А, будь что будет, – подумала она, не желая прислушиваться к голосу рассудка; она вглядывалась в свое сердце и в сердце Аменхотепа и видела там лишь двоих затаивших дыхание детей, опьяненных безграничной властью, данной им судьбой, и любовью, не знавшей обмана и не остывшей за годы дружбы.
Радостное оживление, охватившее двор после рождения Сменхары, скоро утихло, ибо, казалось, фараон сорвал последний плод своего дряхлеющего тела и неукротимой воли. Месяц спустя его одолела лихорадка, вновь загноились десны, причиняя невыносимые страдания. По его просьбе Тейе долго не виделась с ним, однако регулярно вызывала его врачевателей и выслушивала их туманные, учтивые доклады. Он, как мог, держался за жизнь, лежа в полумраке опочивальни, где с каждым днем становилось все труднее дышать: сезон шему медленно подходил к концу, жара усиливалась.
Все долгие ночи мальчик лежал рядом с ним на ложе, неподвижный и молчаливый, а царственный любовник беспокойно метался и что-то бормотал о людях, умерших еще до его рождения, и событиях, давно ушедших в прошлое. Аменхотеп не отпускал мальчика, хотя прикасаться к нему не мог, сил не было. Слушая врачевателей, Тейе заподозрила это и ощутила горечь несбывшихся надежд и вину за то, что радость от рождения сына заставила фараона жить торопливой и насыщенной жизнью, на пределе сил.
Она с сожалением осознала еще один источник своей вины перед фараоном. Каждый вечер, когда заходящее солнце заливало комнату красным светом, придавая коже Тейе таинственное бронзовое сияние, она, стоя перед большим медным зеркалом, изумленно любовалась новым дыханием жизни, что подарил ей маленький Сменхара. Она знала, что ей несвойственна та холодная, неприступная красота, которой обладала племянница, и многие годы это ее совсем не беспокоило. Ее привлекательность таилась в жизнестойкости, в земной, откровенной чувственности. Она внимательно изучала свою фигуру, невысокую, средней комплекции, с хорошо выраженными бедрами, в меру узкой талией, не большой, но и не маленькой грудью, уже определенно начинающей терять упругость. Шея у нее была длинная и стройная. Она могла бы гордиться собой, но гордость своим телом уже не доставляла ей прежней радости, потому что все удовольствия плоти не могли сравниться с удовольствиями живого, пытливого ума.
Она критически рассматривала свое лицо. Оно выдает мой возраст, – думала она. – Веки слишком нависают. Носогубные складки, возможно, были прорезаны мстительным сфинксом, которого я ношу между грудей. Рот слишком крупный, хотя он очень нравится Аменхотепу, он называет его сладострастным, но, когда я не улыбаюсь, губы кажутся надутыми. И все же… – Она улыбнулась своему отражению, излучавшему мягкий блеск расплавленного золота. – Я чувствую себя возрожденной, тогда как мой фараон отчаянно борется со смертью. Она отвела взгляд от зеркала.
– Убери его! – крикнула она Пихе. – И позови музыкантов и танцоров. Я еще не настолько утомилась, чтобы ложиться спать.
Она надеялась развлечься, но напрасно. Музыканты играли, юноши танцевали безупречно, и все же Тейе знала: ничто не может отвлечь ее от мысли, что они с мужем все больше и больше отдаляются друг от друга.
Прошел безжалостно жаркий месяц мезори. Приближался день Нового года, знаменующий начало месяца тота. В этот день Амон покидал свое святилище в Карнаке и переправлялся в золотой барке на юг, в храм Луксора, который Аменхотеп строил последние тридцать лет. Фараон обычно сопровождал бога в Луксор и на четырнадцать дней празднования отождествлял себя с Амоном, будто перевоплощаясь в него.
За две недели до празднований Тейе вызвала к себе Птахотепа и Суреро.
– Суреро, близится праздник Опет.[13] Ты управляющий фараона, ты все дни проводишь с ним. Как по-твоему, сможет он выдержать путешествие в Луксор?
Суреро заколебался.
– Для трапезы он встает с постели. Вчера ненадолго выходил в сад.
– Это не ответ. Птахотеп, мне известно, что сегодня утром ты провел с ним немало времени. Что скажешь ты?
Она не заботилась о том, чтобы скрыть свое презрение. Верховный жрец недолюбливал ее. Это был суровый, практичный человек, который ревностно оберегал богатства своего бога и всю жизнь подозревал Аменхотепа в легкомысленном отношении к Амону, скрытом за формальными ритуалами и традициями. Благочестивая супруга могла бы повлиять на его мнение, но Тейе сознавала, что он считает ее простолюдинкой, сколь богатой и влиятельной ни была бы ее семья, и притом простолюдинкой-чужеземкой, поэтому не ждал от нее глубокого понимания уз, связывавших фараона с Амоном. Хуже было то, что она поддерживала фараона в его желании возвысить Ра и его физическое проявление на земле, Атона, до положения еще более высокого. Тейе пыталась объяснить Птахотепу, что политика ничего не значит для большинства населения Египта, потому что почитатели Ра как солнечного диска составляют малочисленный культ, приверженцами которого являются только умудренные жрецы да некоторые царедворцы. Это был скорее хитрый политический маневр, имевший целью поддержать чувство единения среди вассалов империи и несамостоятельных государств – подданных Египта. Потому что все люди, независимо от их вероисповедания, поклоняются солнцу. Возвышение Атона могло бы послужить укреплению теплых взаимоотношений между Египтом и независимыми иноземными царями и заставить последних стать более сговорчивыми в вопросах торговли и политических соглашений. Пока угроза Амону, которой Птахотеп так явно опасался, не появилась, но его все больше удручали повсеместное ослабление религиозных устоев и легкомысленное непочтение скучающего двора. Сейчас в Карнак приходит больше крестьян, чем знати, и подношения их, соответственно, небогатые и примитивные. Она холодно смотрела на верховного жреца, пока тот собирался с мыслями.
– Божественное воплощение был весел этим утром, царица. Мы говорили о его юбилее.[14]
Он застал ее врасплох. Руки Тейе, лежащие на подлокотниках трона, сжались на улыбающихся лицах огромных сфинксов.
– Планы очередного празднования его успешного правления были отменены несколько месяцев назад, когда мой муж заболел. Он уже почтил Египет двумя юбилеями. Этого вполне достаточно.
Птахотеп явно наслаждался удивлением царицы.
– Фараон приказал мне найти в библиотеке записи о соответствующих церемониях, оставшиеся от его первого юбилея, – ликуя, заявил он. – Он желает праздновать его на торжествах Опет.
Если бы мой брат Анен был жив, я давно знала бы об этом, – с раздражением подумала Тейе, – и смогла бы подготовиться.
– Это правда, Суреро? Скажи честно, сможет ли он выдержать такое?
– Он вбил себе в голову, моя царица, что на этот раз полностью поправится. Он желает устроить представление для своих подданных и иноземных властителей.
Так-так, – подумала Тейе. – Он опережает меня.
– Птахотеп, ты свободен, – бросила она.
Жрец угрюмо распростерся ниц перед ней, поднялся и попятился к выходу. Когда он ушел, Тейе расслабилась и откинулась на спинку трона.
– Аменхотеп думает, что его продолжительная болезнь всколыхнула алчность царственных братьев в разных концах империи, так, Суреро? Поэтому он устраивает юбилей?
– Думаю, так, моя царица. Я служу во дворце, мне не положено вникать в государственные дела. Однако фараон часто говорит, что ради упрочения стабильности в стране он не должен показывать свою слабость, чтобы наследник мог получить прочный задел к началу своего правления.
– Полагаю, ты говоришь о младшем наследнике.
Суреро смутился.
– Да, божественная.
– Прекрасно. Не позволяй верховному жрецу без необходимости усложнять церемонии. Думаю, фараон переоценивает свои силы.
Неудивительно, что он не хочет встречаться со мной, – подумала она. – О, лукавый фараон! Значит, ты снова за свое!
– Моя царица, но я не властен над верховным жрецом. Только сам фараон и оракул могут приказывать ему.
– Это так, но ты вполне можешь тактично намекнуть Птахотепу. Он не захочет, чтобы поднялся шум, будто он сознательно подрывает здоровье своего царя. Освежи мои воспоминания, Суреро. Разве нет такого требования в распорядке проведения юбилея, что если Гор-в-гнезде объявлен, то он должен совершать богослужение вместе с фараоном?
– Да, моя госпожа.
– Фараон не собирается сегодня на прогулку?
– На закате Ра он будет в саду.
– Хорошо. Ступай.
Это не имеет значения, – говорила она себе, переходя из залы для приемов в личные гостиные, в кабинеты своих управителей, задавая вопросы, делая заявления, вынося решения; Нефертити со своей обезьянкой следовала в трех шагах позади нее. – Фараон умрет, и Аменхотеп станет царем задолго до того, как маленький Сменхара достигнет возраста, когда его честолюбие обретет конкретные формы. Почему я так терзаюсь? Пусть он устраивает свой юбилей, пусть наслаждается игрой, пусть думает, будто может влиять на будущее. Он знает не хуже меня, что это ни к чему не приведет. Нет, меня мучит мое собственное будущее. Этот ребенок – еще неведомая сила. Но мой старший сын – гибкий тростник, подвластный моему дыханию.
– Тетушка, мудро ли это, посылать золото ассирийцу Эриба-Ададу,[15] зная, что Ассирии угрожает Кадашман-Энлиль,[16] с которым у нас имеются дружественные соглашения? Не рассердятся ли вавилоняне и не станут ли, в свою очередь, угрожать нам?
Девушка предпринимала незадачливые попытки проникнуть в лабиринты внешней политики, и Тейе всячески поощряла ее старания. Царица отвлеклась от своих мыслей и ответила на вопрос Нефертити:
– Нет, моя царевна. Без нашего золота Ассирия не сможет защищаться, и Вавилонское царство станет слишком могущественным, а это опасно для нас. Если мы пошлем солдат Эриба-Ададу, тогда Кадашман-Энлиль просто нападет на нас. А так Ассирия сможет нанять солдат и купить оружие, к тому же мы не обидим Вавилон. Ты поняла? – Не дожидаясь ответа, она взяла Нефертити за руку. – Это кабинет Менны. Мы пришли обсудить орошение больших площадей земель фараона в следующем году и оплату Кефтиу за стеклянные вазы, заказанные Суреро. Я поручаю это тебе. Обычно я не занимаюсь такими мелочами, а доверяю их Менне, смотрителю царских земель и визирю Севера, но раз тебе предстоит стать супругой царя, ты должна разбираться во всем.
– Но, моя царица, у тебя же есть управляющие, они ежедневно докладывают тебе о таких делах.
– Ты права. Однако эти люди постоянно берут взятки. Против чего я не возражаю, но тут важно уметь отличать полностью купленного чиновника от чиновника, лишь берущего взятки за сделки, которые он совершил, а это возможно сделать, лишь когда сам потратишь время на разговоры с управителями. Зайдем. Я буду только слушать.
Нефертити невозмутимо и деловито справилась с заданием, хотя ей явно было скучно. После этого Тейе повела ее купаться на свое личное озеро. Был полдень, Ра стоял в зените, заливая ослепительным белым светом водную гладь. Женщины с удовольствием окунулись в зеленоватые, поросшие лилиями воды. Они плескались, пока служанки ждали в траве на берегу с полотенцами и балдахинами наготове, а обезьянка носилась туда-сюда, лопоча что-то. Тейе плавала, упиваясь шелковистыми прикосновениями воды, а Нефертити лежала на спине с закрытыми глазами, покачиваясь на маленьких волнах, поднимавшихся от движения Тейе, ее руки мелькали, как медные рыбки, у самой поверхности воды.
Потом они сидели бок о бок под балдахином Тейе, мокрые волосы прилипали к спине, капли воды, как бисер, поблескивали на смуглой коже.
– Хорошее празднование Опета будет в этом году, – сказала Нефертити, аккуратно снимая с бедра сухую травинку. – Осталось чуть больше двух месяцев до возвращения царевича из Мемфиса.
– Он, кажется, любит тебя, – отозвалась Тейе. – Будь с ним осторожна, Нефертити. Его чувства дают тебе большую власть над ним. Брачный договор уже готов, осталось только скрепить его печатью фараона.
Девушка сузила серые глаза, ставшие еще бледнее под ярким солнцем.
– Я готова всегда быть для Аменхотепа тем, кем ты была для Могучего Быка, дорогая тетушка. – Она улыбнулась сладчайшей улыбкой, обнажив мелкие белые зубы, и принялась высвистывать обезьянку. Та подбежала и бросилась облизывать влажные руки хозяйки.
– Вот как! – с сарказмом воскликнула Тейе. – Подобное обещание беззаветной преданности делает тебе честь. Твой отец будет счастлив. – Нефертити стрельнула глазами из-под темных, вразлет, бровей, и Тейе не сомневалась, что девушка поняла ее. – Сегодня вечером во дворце праздник в честь управителя Нефруси, – продолжала она. – По моему приказу он должен получить золото милости. Его город расположен на самой границе с Сирией, и он хорошо потрудился, помогая Хоремхебу сохранять спокойствие на границе. Хочу, чтобы ты оказала ему честь вместо меня, Нефертити, а я проведу вечер с фараоном. На помосте с тобой будут твой отец и Ситамон.
Нефертити ничего не сказала на это, только кивнула. Обезьянка заснула, растянувшись у нее на коленях.
– Когда царевич вернется, Хоремхеба отзовут в Фивы?
– Зачем? – резко спросила Тейе.
Девушка пожала плечами.
– Просто потому, что они с царевичем подружились. Наверное, Аменхотепу будет одиноко без него.
Выходит, ты не настолько уверена в своей власти над моим сыном, как мне казалось, – размышляла Тейе, – но ты достаточно умна, чтобы понимать это. Приедет ли Хоремхеб?
– Если я сочту необходимым отозвать военачальника вместе с сыном, – вслух сказала она. – Прими мой совет, Нефертити. Никогда не пытайся повлиять на мужчину через его друзей. Он или не так поймет и начнет ревновать, или у друзей вместо доверия завоюешь презрение. Мужчины не такие, как женщины. С ними лучше всегда действовать прямо.
Нефертити вспыхнула, закусив губу, и Тейе смягчилась.
– Аменхотеп очень привязан к тебе, – мягко добавила она. – Тебе не понадобится посредничество Хоремхеба.
Она пожелала Нефертити приятного отдыха, а сама отправилась в детскую, где Сменхара голышом лежал в кроватке, под охраной двух личных стражников владыки; крошечные ручки и ножки свободно лежали на покрывале, маленькие ноздри подрагивали во сне. Она коротко расспросила стражу и кормилицу, наклонившись, поцеловала мягкую темную прядку, влажную от жары, и пошла в свою опочивальню. Надо получше присматривать за Ситамон, – сонно подумала она, переворачиваясь на бок. – Пока фараон жив, она будет вести себя тихо, но она царевна крови, и ее притязания на царевича имеют законные основания. Если дать ей шанс, у нее достанет сообразительности обратиться за поддержкой ко всем древним законам, касающимся старшинства.
На закате Тейе вышла в сад; фараон сидел у декоративного пруда, бросая хлебный мякиш стае крикливых уток. Солнце уже опустилось за стену, защищавшую дворец со стороны западной пустыни от песка, от скал и от мертвых, покоившихся неподалеку. Еще не остывшие красные лучи, как стрелы, падали под ноги Тейе и ярким светом брызгали на платье. Слышался ритмичный шелест страусового опахала. Суреро стоял на коленях у ног фараона, а дворецкий Апуйя, склонившись, наливал воду в протянутую фараоном чашу. Струйки воды вспыхивали в лучах заката.
В нескольких шагах лежал мальчишка, растянувшись на животе, подбородок его покоился на схваченных браслетами запястьях. Тейе был виден плавный изгиб обнаженной спины, залитой розовым светом. Подойдя ближе, она поняла, что мальчишка наблюдает за золотистым скарабеем, медленно и тяжело ползущим в густой траве.
За креслом фараона толпились рабы и слуги. Когда вестник сообщил о появлении Тейе, все повернулись к ней и склонили головы. Аменхотеп взмахом руки подозвал ее, а Херуф кивком велел слугам поставить для нее кресло. Она улыбнулась фараону и присела под балдахином.
– Я отвечаю, хотя ты пока не спросила: да, мне лучше, – сказал он, бросив последнюю хлебную корку толкающимся птицам и глотнув воды. – Видишь, я даже не потею. Ра сегодня благотворен для моих костей. Суреро догадался, что ты придешь. Не пытайся отговаривать меня от празднования юбилея, Тейе. Я все уже решил.
Мальчишка нашел палочку и теперь дразнил скарабея, подталкивая его сзади, отчего жук спотыкался и опрокидывался на спину.
– Рада видеть тебя в добром здравии, муж мой, – отозвалась Тейе. – Я не собиралась отговаривать тебя от празднования юбилея. Это хороший дипломатический ход. Просто хочу напомнить, что у тебя теперь есть законный наследник трона, который должен присутствовать на церемонии.
Фараон вежливо улыбнулся ей:
– Конечно. Его понесут рядом со мной в корзине.
– Аменхотеп, решение принято. Позволь ему вступить в силу. Если ты сделаешь Смерхару законным наследником и умрешь, когда он будет еще совсем мал, Египет ждет долгая эпоха регентства со всеми вытекающими последствиями.
Он пожал плечами и озорно улыбнулся.
– Бедняжка Тейе! Тебе ни за что не справиться с регентством! Мое сердце разрывается от жалости!
Она не выдержала и рассмеялась.
– Тогда представь, что я тоже умру до его совершеннолетия.
– Ты? – Он отмахнулся от блюда со сладостями, предложенного Апуйей. – Ты черпаешь силы во власти и лести. Ты не можешь умереть, пока тебе есть чем управлять.
– Тогда подумай о том, что ты даешь Аменхотепу еще один повод для ненависти.
– О! Вот мы и добрались до сути дела! Но почему я должен заботиться о любви или ненависти вообще кого бы то ни было? Я фараон. Я бог Солеба, бог Фив, бог всего мира. Даже другие боги воздают мне почести. Этот евнух не сын мне, а божественности там не было и в зародыше.
– Я вижу, – прошипела она тихо, так, чтобы было слышно только ему, – что со здоровьем к тебе вернулся и страх. Прекрасно. Делай, что хочешь. Но решение должно вступить в силу.
– Конечно, должно. Я не стану беспокоиться о том, чтобы отозвать его. Ты же не побеспокоилась выяснить, что сказал оракул о будущем ребенка, не так ли? – Он положил пухлую ладонь ей на колено. – Он станет фараоном. Несомненно.
– Как несомненно и то, что преемник сына Хапу слишком старается угодить своему царственному господину и мало заботится о том, чтобы говорить истину! – парировала Тейе.
Яростный вопль заставил обоих повернуться к мальчишке. Скарабею наконец удалось ускользнуть от надоевшей палки: с треском раскрыв свои переливчатые надкрылья, он взлетел в воздух. Мальчишка отшвырнул палку и бросился за ним, пытаясь поймать беглеца. Тейе и Аменхотеп смотрели на странный полет огромного насекомого, пока оно вдруг не задрожало в воздухе и не рухнуло вниз, неуклюже налетев на зеленого сфинкса между грудей Тейе. Мальчишка, спотыкаясь, ринулся за ним, на мгновение забыв о том, с кем рядом он находится. Тейе, не в силах сдержать свой гнев, с размаху залепила жгучую пощечину по бронзовой щеке мальчишки, и тот пошатнулся.
– Как ты смеешь прикасаться к моей царственной особе! – закричала она. – Долу!
Он упал в траву, но Тейе успела заметить злобное выражение, промелькнувшее в круглых черных глазах. Аменхотеп сдавленно засмеялся.
– Солнце ищет убежища у женщины-сфинкса, – задумчиво заметил он. – Интересно. Надо спросить оракулов, что это значит.
– Это значит, – резко ответила Тейе, когда насекомое улетело прочь, – что Ра не особенно жаждет разделить с тобой свою священную барку, мой упрямый супруг. Встань, глупый мальчишка.
Она поднялась, носитель опахала тут же подскочил к ней. Пока царская свита кланялась царице, она запечатлела поцелуй на лбу фараона и направилась к себе.
Целый час ее личный писец сидел у подножия трона, скрестив ноги и держа на весу над папирусом тростниковую палочку, пока она мерила шагами залу для приемов, пытаясь сочинить письмо Хоремхебу. Сына под любым предлогом нужно было задержать в Мемфисе, не ранив при этом его чувства. Задача оказалась невыполнимой, и, в конце концов, она приказала командующему просто объяснить Аменхотепу, что, если он появится в Малкатте, его шансы завладеть троном могут упасть. В конце концов, – думала она, пока писец торопливо записывал, – он не ребенок. Он вполне способен понять страх своего отца. Когда папирус свернули и запечатали ее кольцом, а писец с вестником ушли, она упала в кресло, вдруг ощутив усталость. Пиха и Херуф терпеливо ждали новых приказаний, стоя в сгущающейся тени, но она все сидела, медленно обводя взглядом залу. Временами она слышала музыку и взрывы смеха – это с сухим ночным ветерком доносились отголоски праздника из пиршественной залы, где, несомненно, царила Нефертити – грациозная и самоуверенная, величественно притворяющаяся, что не замечает устремленных на нее восхищенных взглядов. Что если фараон вздумает перехватить письмо, – подумала она. – А может быть, и нет. У меня мало секретов от фараона, и он знает их все. Как не хватает сейчас Эйе. Вызвать бы его с праздника, мы бы сели на полу в опочивальне, выпили бы легкого пива, он принялся бы рассказывать смешные и скандальные истории, которых у него всегда было в избытке еще со времен службы в войске фараона.
У двери появился слабый проблеск света, и Тейе, вздрогнув, поняла, что уже совсем стемнело. Это был Хайя, помощник Херуфа в гареме, путь ему освещал носитель факела.
– Говори, – рассеянно разрешила она.
– Царица, мне нужен Херуф. Сцепились две вавилонские жены Великого Гора. Если бы они были жительницами Техен-Атона, я бы мог сам разнять их, но они выше меня по положению. Боюсь, что они покалечат друг дружку.
Тейе кивнула Херуфу.
– Даже если и убьют, мне все равно, но, возможно, тебе стоит пойти, Херуф. Пиха, принеси факел. Я, пожалуй, тоже немного прогуляюсь у озера перед сном.
Она надеялась найти успокоение, но тщетно. Гул праздника преследовал ее всюду, и, когда подвыпившие веселые гости стали постепенно перемещаться из залы в сад за стеной, Тейе I вернулась в свои покои.
4
Начавшиеся в день Нового года праздники Опета и вместе с ними третий юбилей фараона проходили с соблюдением всех церемоний, приличествующих этим торжественным событиям. На седьмой день празднований Амона, покоящегося в золотой божнице, вынесли из святилища карнакского храма и под возбужденные крики толпы поместили в золотую барку; жрецы, одетые в белые одежды, совершали обряд очищения, поливая дорогу перед баркой молоком и вином, струи смешивались и текли розовыми потоками между плитами мостовой. Трепещущие опахала из страусовых перьев укрывали бога от ослепительного дневного света; жрецы-носильщики, истекая потом и пошатываясь под драгоценной ношей, несли барку к священной ладье, качавшейся на волнах у храмового причала, а их собратья воспевали хвалу Амону. Он все еще был могущественным, милосердным богом, гордостью Египта, богом, который благословил великого воина Тутмоса Третьего на покорение диких стран, помог ему создать великую державу и наделил огромными богатствами. Гордые иноземные царевичи смирялись пред живым его воплощением, Аменхотепом, тысячи людей собрались, прославляя его, готовые идти за ним до самого Луксора, к его второму дому.
Как только Амона медленно опустили в позолоченную ладью, рабы на берегу взялись за канаты, и царское судно, стоявшее на середине реки, подняло якоря. По команде ладья неуклюже сдвинулась с места и пошла по воде. На четырех высоких мачтах перед миниатюрным храмом[17] заполоскались на ветру флаги Амона, солнечные лучи отражались от золотой статуи бога, державшего весло, будто он сам греб к Луксору. Толпа у причала стала рассеиваться вдоль берега, люди бежали за ладьей и бросали в воду венки, каждый надеялся накинуть свой венок на одну из бараньих голов с закрученными книзу рогами – древнее изображение Амона-Ра, – украшавших нос и корму. Вокруг ладьи кружили дюжины маленьких лодочек, полных оживленных фиванцев, жаждущих благословения. Люди махали гусиными перьями, протягивали к ладье головы гусей[18] на вытянутых руках, чтобы бог, скрытый от мирской суеты в складках льняного полотнища, мог узреть рвение своих верующих.
За ладьей бога следовали ладьи поменьше, в которых везли его жену Мут и сына Хонсу. Многие придворные дамы изъявили желание сопровождать на ладье вошедшую в моду богиню. Беспрерывно били барабаны, играла музыка, заводили свои песнопения храмовые певчие. На берегу, разложив товар на переносных коробах, трясли талисманами и амулетами бродячие торговцы, зазывая нерешительных покупателей и выкрикивая ругательства вслед тем, кто, отворачиваясь, проходил мимо. У разносчиков еды и питья торговля шла бойчее, потому что многие люди пришли издалека, чтобы занять местечко получше, у самой воды, и теперь были не прочь подкрепиться.
У причала Луксора тоже было людно, но здесь собрались величественные, молчаливые сановники и старшие жрецы. Сам фараон восседал в тени на своем троне и взирал, как неуклюже причаливает увешанная драгоценностями ладья. В этот день у него на плечах лежала леопардовая шкура – убор верховного жреца, а сзади был привязан символ божественности – леопардовый хвост.[19] Если ему и скучно, он умело это скрывает, – думала Тейе, сидя рядом с фараоном и краем глаза наблюдая за выражением его лица. Она заметила, как напряглись мышцы его нижней челюсти – то ли он подавил зевоту, то ли боролся с приступом боли. Священная ладья слегка коснулась причала, и жрецы-носильщики ринулись поднимать божницу. Снова разлилось по камням молоко, и вино, ароматное и соблазнительное, тонкой струйкой потекло в траву. Аменхотеп приподнял ноги, носитель сандалий опустился на колени и разул его, чтобы фараон не осквернил святилище грязью подошв.
В святилище храма вела галерея, где насчитывалось свыше пятидесяти стройных колонн, венчавшихся капителями в форме цветка папируса, созданная сыном Хапу по рисунку фараона. Аменхотеп, традиционно сопровождаемый Птахотепом и Си-Мутом, прошел по галерее в святилище, где совершил кровавый обряд жертвоприношения. Во время заклания он вознес надлежащие моления, потом разоблачился, оставшись лишь в двойной короне и набедренной повязке, и принялся медленно раскачиваться в магическом ритуальном танце, предписанном вековыми традициями. Тейе с волнением наблюдала за ним, опасаясь за его состояние и восторгаясь его непреклонной волей. Когда все закончилось, она с облегчением присела рядом с ним для ритуальной трапезы в присутствии Амона, хотя беспрестанный гул толпы за стенами храма и тяжелый запах горячей крови совершенно лишили ее аппетита.
– Я выполнил свои обязанности на год вперед, – обратился к ней фараон, прихлебывая вино, все еще тяжело дыша и обливаясь потом. – Завтра мы начнем празднование юбилея, а Амон пока побудет здесь. – Он подтолкнул локтем бога, который теперь обосновался на троне, пустующем большую часть года. Золотое изножие Амона утопало в цветах, перед статуей были расставлены пища и благовония, дым воскурений вился у лица, на котором играла легкая улыбка, двойное перо короны вспыхивало в свете факелов. – Как мне жаль его гарем! Бедные маленькие жены и танцовщицы! Они все умрут девственницами. – Не было секретом, что фараон изредка беспокоился о судьбах женщин бога, уединенно живущих здесь и в Карнаке. – Мне будет приятно посидеть рядом с тобой на царской ладье в розовом сиянии рассвета, дорогая Тейе.
Она с удовольствием сносила его поддразнивания.
– И мне будет приятно посмотреть, как ты поднимаешь джед в юбилейной зале.[20]
Они ухмыльнулись друг другу. Тейе ненавидела рано вставать, а Аменхотеп не особенно любил неблагородную, хотя и исполненную символического смысла церемонию натягивания канатов.
В полумраке луксорского святилища ритуального дара царственного семени фараона в образе бога ждала не Тейе. У подножия статуи лежала скучающая Ситамон, равнодушно пожевывая кусочки дыни в меду, пока в преддверии святилища ее отец боролся с приступом недомогания, а врачеватель отпаивал его спешно приготовленной настойкой мандрагоры.
На следующее утро, на рассвете, «Сияние Атона» с Аменхотепом и Тейе на борту направилось обратно в Карнак. Празднование Опета закончилось, начался юбилей. Накрашенные и увешанные драгоценностями, Аменхотеп и Тейе сидели рядом и молчали: он – сжимая зубы, чтобы не стучали, лихорадка снова терзала его одряхлевшее тело, а она – еще не до конца проснувшись. Их путешествие символизировало каждый шаг фараона на пути к перевоплощению и повторному рождению в мир как бога, которое происходило при каждом праздновании юбилея. Кто из моих сыновей может быть воплощением бога? – рассеянно размышляла Тейе, когда сияющий Ра показался над горизонтом, уже готовый беспощадно выжигать землю.
– Пожалуйста, не устраивай больше юбилеев, – прошептала она на ухо Аменхотепу, так чтобы не услышали жрецы. – Утром я должна спать. Это пытка.
Он что-то промычал, но не ответил. Потом вдруг схватил ее за руку, и она поняла, как ему плохо: его рука была скользкой от пота и дрожала.
Позже, в великолепной зале, которую фараон построил в Малкатте для своего первого юбилея, началась его повторная коронация. Богини юга и севера, Нехбет и Буто,[21] вновь возложили на его голову белую и красную короны. Птахотеп снова вручил ему цеп, крюк и скимитар. Собравшиеся в зале иноземные посланники и придворные с истинным благоговением наблюдали, как фараон получал право на обладание Египтом и всеми его подданными. И все же Тейе не испытывала радости при виде младенца Сменхары, которого вынес в корзинке растерянный жрец. Было совершенно очевидно, что Аменхотеп чувствует себя плохо. Он тяжело дышал, громкое хрипение было слышно всем. Сановники, перешептываясь, невозмутимо следили за его неуверенными движениями. Как шакалы, почуявшие падаль, – гневно подумала Тейе. – Как бледные жрецы-сем[22] в ожидании тела для потрошения. Она сидела рядом со своим владыкой под золоченым балдахином, на кайме которого были изображены сфинксы и солнценосный урей – священная кобра, попирающая связанных и гибнущих врагов Египта. Каждый нерв Тейе отзывался болью на страдания фараона, пока час за часом звучали торжественные речи, подданные благоговейно подползали к его ногам, целуя их и принося подношения вместе с уверениями, что он будет жить вечно. Если бы фараон не был таким упрямым, молодой Аменхотеп стоял бы сейчас рядом с ним, принимая эти безделушки и отвлекая на себя часть внимания, – думала она; голова болела под тяжестью огромного рогатого диска богини Хатхор и твердых серебряных плюмажей, поднимавшихся выше медных перьев ее короны. Она замечала взгляды, которые подданные бросали на нее и фараона, – холодные, вдумчивые, оценивающие. И не один вельможа пылко приложился устами к ее ногам, оторвавшись от ног фараона. Это был не просто знак вежливости. Это было признание ее положения правительницы Египта и обещание будущей преданности ей как олицетворению связи со следующим правлением.
Когда в конце церемонии настало время поднимать столб джед, фараон не поднялся с трона. От его имени веревки натягивал Птахотеп, поднимая высокие деревянные шпили с тремя крестовинами на каждом. «Долгое царствование!» – кричали зрители, благоговейно склоняясь перед символом вечной жизни, но в голосах не было убежденности, и ночной порывистый ветер, казалось, нес угрожающий холодок неизвестности.
Два изнурительных празднования подорвали здоровье фараона, он слег, снова терзаемый уже привычными приступами лихорадки и зубной боли. Поэтому, получив известие о том, что Аменхотеп-младший через месяц возвращается из Мемфиса, Тейе решила не устраивать ему торжественную встречу. Она слишком хорошо понимала, что громкая публичная церемония встречи наследника могла обернуться волной истеричного восторга со стороны придворных, которых уже порядком утомил Гор, изрядно задержавшийся на пороге смерти. Для встречи она собрала лишь небольшую группу: когда ей донесли, что ладья сына вскоре прибудет, на причал дворца направились только она сама, Эйе и Нефертити. Но ожидание встречи слегка затянулось, потому, что ладья царевича сначала причалила у шумной пристани Фив, где он взошел на свою колесницу и медленно проехал по узким грязным улочкам города, и только потом приказал плыть на другой берег реки, в Малкатту. Наконец, поднявшись с кресла, она приняла поцелуй сына, отослала их с Нефертити осматривать приготовленное для него крыло дворца и стала слушать отчет Хоремхеба. Тревога и удивление переполняли ее. Еще большим испытанием терпения стало появление Мутноджимет, которая спокойно спустилась по сходням вслед за Аменхотепом, белая лента развевалась на ее детском локоне, серьги покачивались, на гибкую руку намотан неизменный хлыст.
– Ты не должен был этого позволять! – сердито закричала Тейе молодому военачальнику, когда тот предстал перед ней в зале для приемов. – Что за демон овладел им, выставлять себя перед простолюдинами, как площадная девка, и, что еще хуже, подвергать опасности свою царственную особу?
Хоремхеб открыл было рот для ответа, лицо его покрылось краской смущения, а шрам на подбородке сделался синевато-багровым, но тут мягко вмешался Эйе:
– Императрица, довольно трудно простому военачальнику противоречить царевичу крови, тем более что он даже не подозревал о намерении Аменхотепа прогуляться по Фивам до того момента, как царевич приказал кормчему поворачивать к восточному берегу. У Хоремхеба не было времени ни разубедить племянника, ни как-то препятствовать ему. Он не виноват.
– Конечно, он виноват! – фыркнула Тейе, но лицо брата, с которым они были так похожи, сохраняло невозмутимое выражение.
– Тейе, дай ему сказать.
Тейе надула губы и сухо кивнула Хоремхебу. Молодой человек развел руками.
– Императрица, я должен был или тратить драгоценное время на то, чтобы пытаться переубедить царевича, а я знаю его достаточно давно, чтобы понимать, что это не под силу ни одному живому существу, или использовать эти минуты, решая, как наилучшим образом разместить вокруг него моих солдат, дабы обеспечить ему наиболее надежную защиту.
– Это понятно. Продолжай.
– Я защищал его, как только мог. Я вызвал подкрепление, состоящее при охране складов, и забрал их колесницы. Но царевич отказался от охраны. Его колесницей правил я сам. Он настаивал, чтобы его было видно как можно лучше.
– Его узнавали? – спокойно спросил Эйе.
– Нет, до тех пор, пока вестник, с белым жезлом наперевес, не выступил вперед и не начал выкрикивать его титулы. Но люди реагировали со странным спокойствием. Они, конечно, отступали назад и отводили глаза, но не встречали Царевича громкими радостными возгласами.
– Это неудивительно. Впервые за сотню лет член царской семьи проявил такую безрассудную смелость. Он проехал по всему городу?
– Да, каждый его локоть.[23]
Прямые плечи Хоремхеба вдруг поникли, и Тейе поняла, насколько он утомлен. Но в ней еще кипела ярость.
– Вижу, организация безопасности моего сына оставляет желать лучшего, – язвительно сказала она. – Я понимаю твое бессилие, Хоремхеб, но не забыл ли ты, что гнев моего сына не столь важен, как твоя ответственность передо мной, твоей царицей? И что с Мутноджимет? Это и вовсе крайнее безрассудство.
Хоремхеб выпрямился и подошел ближе к трону.
– Ты не представляешь, как царевич проводил время в Мемфисе. Я позволил Мутноджимет развлекать его в надежде отвлечь его внимание от людей из Она, которые следовали за ним повсюду. Известно, что нет на свете человека, которого вопросы религии волновали бы меньше, чем твою племянницу. Царевича забавляло кривляние карликов и ее умение обращаться с хлыстом.
– У меня большое желание предоставить ей возможность проявить свое умение на твоей спине. Не улыбайся. Я предупреждала перед отъездом, что если твои отчеты будут неполными или недостаточно правдивыми, ты будешь наказан. Почему обо всем этом ничего не сказано в свитках, которые ты посылал мне?
– Я старался быть откровенным, но это было непросто. Царевич завел собственных шпионов, и я уверен, что он регулярно читал мои письма к тебе, а потом запечатывал вновь. Моя печать не имеет такой власти, как твоя. И при этом я не мог доверять устным сообщениям.
Тейе принялась нервно постукивать пальцами по подлокотникам трона.
– Расскажи мне о людях из Она.
– Царевич собрал вокруг себя многих жрецов из храмов солнца. От рассвета до заката они спорили о религии. Твой сын теперь очень сведущ в этом вопросе, и к его мнению уже прислушиваются. Многих жрецов он пригласил в Фивы.
– И какова была реакция жрецов Птаха?
– Естественно, они разгневаны.
Тейе некоторое время молча смотрела на Хоремхеба.
– Царевич доверяет тебе? – наконец спросила она.
– Да, думаю, доверяет.
– Тогда можешь оставаться на правах его телохранителя, но будешь докладывать мне ежедневно. Эйе, отправь Мэя принять временное командование охраной границ вместо Хоремхеба. Вирел будет счастлива переехать с семьей в Мемфис. Ты свободен, Хоремхеб.
Он поклонился и попятился к дверям. Когда они закрылись, Тейе вздохнула от досады и разочарования и поднялась с трона.
– Поговори со мной, Эйе. К чему этот бессмысленный парад по небезопасным улицам города? К чему это стадо жрецов, которое он приволок в Малкатту? Или Хоремхеб ведет какую-то свою игру?
Эйе сложил руки на груди и принялся ходить взад и вперед. Он слегка прикрыл глаза, вдруг сделавшиеся сонными, его широкий лоб под желтым шлемом собрался складками.
– Если бы ты не была так озабочена состоянием фараона, ты сама смогла бы ответить на эти вопросы. Фараон всегда был одержим страхом, что ему грозит смерть от рук собственного сына, и ты носилась с этой идеей, как собака с костью. Но ты забываешь, что царевич тоже живет в постоянном страхе, и, пока его отец жив, он не будет защищен от прихотей старика, всю свою жизнь находившегося под влиянием самого могущественного прорицателя, которого знал мир. И этот старик еще может все переиграть и обвинить сына в том, что тот наслал на него болезни своими проклятиями. Безумная прогулка Аменхотепа по Фивам – не что иное, как способ заявить Египту о своем существовании, утвердить свое право на жизнь, право на отмщение, если он умрет.
– Тьфу! Ты говоришь глупыми загадками! Думаю, на него повлиял сладкий вкус грядущей власти. Он станет таким же самонадеянным, как его дядя.
Эйе остановился и опустил руки. Губы его расплылись в широкой заговорщицкой улыбке.
– Как жаль, что в твоих жилах нет царственной крови, Тейе. Нам с тобой надо было пожениться.
– Чтобы узаконить царственной кровью притязания брата, как в старые времена? Ты что – воображаешь себя в двойной короне?
Он скорчил гримасу, все еще улыбаясь.
– Только когда мне бывает совсем скучно.
– А что с Хоремхебом? – Тейе отвернулась от внимательного взгляда Эйе. – Он показал себя не лучшим образом.
– Напротив, он проявил здравый смысл прирожденного воина, когда, не задумываясь, отбросил невозможное решение и сосредоточился на возможном. И я думаю, тебе следует принять во внимание мотивы, по которым он с такой легкостью допустил к царевичу Мутноджимет. Во всяком случае, она уже вернулась домой. Двоюродный брат обманул ее ожидания. Честолюбие ничего не значит для моей дочери, если только оно не наполняет ее жизнь разнообразием и не развлекает ее.
Тейе задумчиво потрогала анхи на своем браслете.
– Слова, слова, – сказала она тихо. – И за ними огромное счастье – мой сын вернулся домой. Мы с тобой сделались слишком похожи на мышей, скованных страхом перед невидимыми им ястребами, что кружат в вышине. Пора расслабиться и устремить взоры на изобилие окрестных полей.
– Прелестная речь, – холодно проворчал он.
Она, посмеявшись над собственной напыщенностью, отпустила его.
Вечером она в сопровождении стражи отправилась на поиски сына. В его роскошных покоях еще царил беспорядок, слуги торопливо распаковывали сундуки и ящики, привезенные из Мемфиса, дворцовые служащие заносили мебель, заказанную для него Тейе. Заглянув в приоткрытые серебряные двери приемной, она вышла в сад. Сын сидел в траве на берегу озера, совсем как прежде в гареме, вокруг него расположились какие-то люди. Пока вестник объявлял о ее появлении, Тейе быстро их оглядела. Нефертити сидела рядом с Аменхотепом, они держались за руки, а Ситамон лежала в сладострастной позе, опершись на локоть, алого цвета платье туго обтягивало соблазнительный холм бедра. Нефертити опустилась на колени и поклонилась, а Аменхотеп поднялся и, протягивая руки, пошел навстречу Тейе. Он обнял ее и нежно поцеловал в губы.
– Скажи-ка мне, кто эти люди, уткнувшиеся лицами в грязь? – спросила она добродушно, усаживаясь в приготовленное Пихой кресло. – А тебе, Ситамон, не следует при всех валяться среди цветов, как безродной наложнице. Пиха, пусть принесут еще кресло.
Ситамон взглянула на нее, покорно поднялась и обеими руками нервно натянула на грудь тонкую, как паутина, голубую накидку.
– Но траву только что полили, – сказал Аменхотеп своим высоким, мелодичным голосом. – Ситамон наслаждалась ее свежестью – Он обвел жестом собравшихся. – Матушка, это мои друзья. Пенту, жрец храма Ра-Харахти в Оне. Панхеси, тоже жрец солнца, которого я сделал своим главным управляющим. Туту, который так старательно записывал мои слова, и чью руку ты видела в моих письмах к тебе. Кенофер, Раннефер…
Один за другим люди поднимались с травы и целовали ее ноги, глядя на нее снизу вверх с почтением и одновременно с вызовом. За несколькими исключениями головы у всех были выбриты, в толпе придворных выделялись длинные белые юбки жрецов. У каждого на шее или на плече виднелся символ бога горизонта, ястреб с солнечным диском.[24]
– Маху, – недоуменно произнесла она, когда очередной гость поднял на нее обведенные черной краской глаза. – Что ты здесь делаешь? Ты лишился своей высокой должности в Мазои?
Так вот кто шпионит для моего сына, – подумала она. – Глава службы, надзирающей за порядком в Мемфисе. Маху уныло улыбнулся:
– Нет, конечно, императрица, но царевич счел целесообразным принять меня, скромного солдата, в круг своих друзей.
Скромный солдат с не очень скромным пристрастием к секретам своей царицы, – снова подумала Тейе.
– А ты, Эпи? Пренебрегая интересами фараона, расселся в траве?
– Разумеется, нет, божественная, – поспешно ответил человек, склоняясь перед ней. – Я просто сопровождал царевича в его путешествии и перед возвращением домой решил воспользоваться возможностью и доложить смотрителю царских угодий о состоянии владений фараона в Мемфисе.
Тейе села, и собравшиеся расслабились. Аменхотеп опустился на траву, подтянув под себя ноги, и Нефертити немедленно последовала его примеру, усевшись рядом. Заметив в траве разбросанные свитки, тарелки с пирожными и чаши с недопитым вином, царица задумалась, чему же она здесь помешала. Почувствовав на себе безмятежный и спокойный взгляд сына, она повернулась к нему.
– Как тебе понравились Фивы, Аменхотеп?
Он отнесся к вопросу чересчур серьезно.
– Улицы загажены, – помедлив, сообщил он, – и простолюдины дурно пахнут.
Собравшиеся с готовностью рассмеялись, и Тейе уловила в этом взрыве веселости знакомую нотку подобострастия. Аменхотеп даже не улыбнулся, продолжая так же серьезно смотреть на нее. Вдруг она поняла, что он оценивает ее, взвешивает на каких-то своих весах, меры которых были ей неведомы. От этой мысли она смутилась и остро ощутила свой возраст, поскольку была намного старше всех собравшихся.
– Ты понял, что должен увидеть их, после рассказов Мутноджимет? – вежливо поинтересовалась она.
Он опустил глаза.
– Возможно.
– Мне тоже больше нравится Мемфис, – она улыбнулась, – но я стараюсь помнить, что, если бы не фиванские царевичи в старые времена, наша страна до сих пор пребывала бы под гнетом иноземцев.[25] Кроме того, Фивы – это дом Амона. За всей этой грязью и гнилью – благородный и гордый город.
Некоторые из молодых людей переглянулись. Аменхотеп старательно изучал свои руки.
– Все, что ты говоришь, – правда, тетушка, – ответила Нефертити, – но давайте лучше будем любоваться Фивами отсюда, из-за реки. – От Тейе не ускользнули оживление девушки, блеск серых глаз, подчеркнуто грациозные движения. – Скажи мне, о великая, как тебе нравится новый посланник Хеттского царства со своей свитой? Что за дикари!
После смены темы разговора все расслабились и принялись оживленно болтать. Некоторое время Тейе разговаривала с ними о всяких пустяках. Ситамон по-прежнему пребывала в дурном настроении. На вопросы она отвечала вежливо, но односложно. В конце концов, Тейе оставила их, чувствуя, что, едва она повернулась к ним спиной, они тотчас возобновили обсуждение, прерванное ее появлением. Выбросив из головы мысли об этой компании, она направилась в опочивальню фараона. На этот раз выкрашенные плетеные занавеси на окнах были подняты, лампы еще не зажгли, и вечерние тени мягко ложились на выложенный плиткой пол. Апуйя прислуживал царю во время трапезы, а Суреро стоял рядом, готовый помочь в любую минуту. По комнате молчаливо и сосредоточенно сновали слуги, одинокий арфист в углу медленно перебирал струны. Мальчишки не было видно, но, подойдя к ложу и поклонившись, Тейе услышала смех из сада. Она взглянула в окно и увидела, как он пробегает мимо, а за ним гончие фараона.
– Видишь, я ужинаю, – благодушно сказал Аменхотеп. – Лихорадка утихла, десны окрепли, и зубы перестали шататься. Иди, присядь рядом. Тиа-ха была прошлой ночью, принесла мне айву и презабавные слухи. Значит, евнух воротился.
Тейе устроилась у его ног, покачав головой, отказалась от предложенного угощения, но приняла от Суреро чашу с вином.
– Нельзя судить о человеке только по тому, как он натягивает лук, или мечет копье, как ты любишь повторять, – парировала она, с удовольствием потягивая прохладный напиток. – Твой сын не любит военное искусство, хотя он достаточно хорошо умеет править колесницей. Полагаю, ты не имеешь в виду его религиозные или музыкальные пристрастия, когда называешь его евнухом.
– Но он выглядит как евнух, – проворчал фараон, с удовольствием проглатывая пищу. – Со своими толстыми губами и недоразвитыми плечами. Тебе, видимо, нужна моя печать на брачном договоре.
– Время пришло, Аменхотеп.
– Вот и посмотрим, чего стоит твой евнух. – Он протянул к ней свой кубок, и его глаза озорно блеснули. – Я прочел свиток.
– Это совершенно обычный договор.
– Верни его мне завтра. Скреплю его своей печатью. Думала ли ты уже о брачном договоре для маленького Сменхары?
– Нет, но осмелюсь предположить, что ты уже подумал об этом. К тому времени, как он достигнет брачного возраста, Ситамон будет уже слишком стара, чтобы производить наследников с чистейшей божественной кровью в жилах.
– Но не настолько стара, чтобы не обеспечить Сменхаре столь же неоспоримое право на трон, как и нашему нынешнему наследнику, если бы он женился на ней.
Он сделал знак, чтобы слуги убрали остатки трапезы, и откинулся назад. Несмотря на его притворную веселость, Тейе видела, что одна сторона его лица распухла, бисеринки пота проступили над верхней губой.
– Но если Сменхара будет упорно претендовать на престол и от этого брака не будет детей – а их не будет! – тогда в стране возможна гражданская война! – гневно сказала Тейе. – Потому что у твоего сына и Нефертити родятся дюжины царственных отпрысков. Эта игра начинает приедаться, Аменхотеп.
– Да, действительно, – неожиданно согласился он и закрыл глаза. – Ты права. Суреро, веди сирийских акробатов и зажигай лампы. Ты уже уходишь, Тейе?
Вопрос был дерзким. Она стояла, сочувственно глядя на него, потому что Аменхотеп редко позволял себе жаловаться.
– Сегодня я должна быть на празднике в честь миссии из Алашии, – сказала она. – Договор будет у тебя завтра, Гор. Да живет твое имя вечно.
Он открыл глаза, удивленный таким формальным прощанием.
– Да, и твое тоже. Передай Нефертити мои соболезнования.
Всегда сумеет оставить за собой последнее слово, – подумала она, улыбнувшись про себя, и быстро вышла.
5
Как фараон и обещал, договор скрепили печатью и доставили в архивы дворца. Лишь только кольцо впечаталось в теплый воск, Нефертити сделалась царевной и женой сына фараона. Аменхотеп довольно невнимательно выслушал доклад Суреро о предстоящем пиршестве, которое устраивали для царственной четы, а под конец велел принести Сменхару и играл с ним, уже не слушая.
На церемонии царственного бракосочетания, которое состоялось в Карнаке через несколько дней, фараон не присутствовал, но Тейе это не беспокоило. Для нее было важно лишь то, что он одобрил договор. Простолюдины не относились к браку как к религиозному обряду, только царственные боги искали благословения Амона, заключая брачные союзы, чтобы производить на свет новые божества. Тем не менее, Тейе радовалась, глядя на своего сына и Нефертити в блиставших серебром сине-белых одеждах – цвета царского дома, – торжественно стоящих рука об руку перед величественным святилищем Амона. По окончании церемонии начался пир, на который были приглашены все, но Тейе, вдруг почувствовав усталость, при первой возможности покинула залу. За короткое время я сделала очень много, – думала она, когда Пиха стягивала с нее через голову желтое платье и надевала ночную сорочку. – А сейчас я устала. Мне нужно какое-то время, чтобы абсолютно ничего не делать.
Тейе решила посетить свое поместье в Джарухе, где не бывала уже много лет. В этот сезон она всегда ощущала странное беспокойство и хорошо знала его причину. Река разлилась, превратив страну в огромное спокойное озеро. Праздные крестьяне толпами стекались к местам строительства в Луксоре, Солебе и Дельте, продолжалась работа над гробницей фараона, вход в которую теперь был залит водами разлива. Начался сев, еще немного – и новые всходы пронзят влажную черную землю, а персей и финиковые пальмы протянут нежные зеленые листочки навстречу Ра, ставшему теперь благотворным и великодушным. В реке и каналах плескалась рыба, вдоль берегов гнездились птицы, и тело Тейе волновалось, пробуждаясь вместе с живыми силами весны.
– Едем со мной, Эйе? – подбивала она брата, когда они сидели рядом на крыше залы для приемов. Укрывшись в тени балдахина, они наслаждались ароматным ветром и сверканием солнца на воде за буйно колыхавшимися травами, которые тянулись от серовато-коричневых утесов за спиной до извивающейся ленты Нила. – На несколько дней остановимся в Ахмине и уговорим Тии поехать с нами. Мне нечего делать. Никаких потрясений в других странах, никаких политических вопросов, требующих разрешения, и фараон чувствует себя сейчас хорошо. Мне начинает казаться, что я чую запахи, доносящиеся из Фив. Мечтаю о тишине маленького домика, который Аменхотеп выстроил для меня так много лет назад.
Эйе взглянул на нее и отвернулся, прекрасно понимая, что в действительности вызвало у сестры внезапное желание уехать.
– Если хочешь, – уклончиво ответил он. – Но ты уверена, что твое желание не связано со стремлением убежать вон от тех?
Он кивнул на небольшую группу людей, укрывшихся в тени у стен покоев царевича. С крыши хорошо было видно и самого царевича, сидевшего на траве в своей обычной позе. Он энергично жестикулировал, вещая что-то внимательным слушателям, его белый шлем подпрыгивал, а короткая юбка была смята. Слова не долетали до ушей Тейе и Эйе, но резкие движения рук юноши безошибочно выдавали властность, а поднятое одухотворенное лицо было исполнено уверенности.
Тейе прищелкнула языком.
– Посмотри на него! – воскликнула она. – При свете дня он бродит по своим покоям вместе с Нефертити в окружении этой галдящей стаи жрецов и ведет с ними нескончаемые беседы. А ночи проводит, перебирая струны лютни и сочиняя песни. Что с ним происходит? Он должен плескаться в озере с молодой женой, бегать нагишом под сикоморами, лежать с ней под звездами. О чем это он вещает с такой страстью?
– Почему бы тебе не спросить его самого?
Она повернула голову и посмотрела ему в лицо.
– Не уверена, что хочу это знать, – просто ответила она. – Само его присутствие уже изменило настроение во дворце, не могу объяснить, каким образом. Я жду сообщения о первой беременности Нефертити, но его все нет. Только глупые слухи среди прислуги, я не вникаю в них.
– Ты никогда в жизни не игнорировала слухов, – возразил он. – И не избегала правды, как бы болезненна она ни была. Почему ты хочешь убежать?
– Потому что начинаю задумываться, не зашла ли я в своей игре с фараоном настолько далеко, что уже не в состоянии исправить ошибку. Это больше не игра. Там сидит будущий владыка величайшей державы в мире, и власть, скрытая в его руках, больше власти самих богов. Какого фараона я навязываю Египту, чтобы оправдать свою ненависть к мертвому человеку и показать свою власть над живым?
– Ты слишком все усложняешь, – мягко возразил он. – Трон принадлежит ему по праву. Тебя страшит сама возможность отдать ему трон, а слухи о его мужском бессилии щекочут воображение, потому что в этом случае Египет навсегда останется твоим. Вызови его и спроси, чему он учит своих прихлебателей. Вызови мою дочь и спроси ее, девственна ли она до сих пор. Почему ты медлишь?
– Я поеду в Джаруху, прихватив с собой друзей и музыкантов, – отрезала она. – Там я буду купаться, спать в жаркие дневные часы и думать о том, что ты сказал. На закате я буду пить вино и безудержно смеяться по пустякам. О, вдохни этот ветер, Эйе, он полон цветочных ароматов! – Она с наслаждением потянулась. – Сезон перет всегда будит во мне s воспоминания, хорошие воспоминания. Вдруг воскресает то время, когда отец и мать были живы и мы все жили в Ахмине, или летние дни, которые мы с фараоном проводили во дворце Мемфиса, упиваясь друг другом.
– Я понимаю тебя, – спокойно ответил он. – Это единственное время года, когда мне слышится смех матери Нефертити. Я нежно люблю Тии и не хочу воскрешать прошлое, но оно оживает во мне каждую весну.
Они еще немного поговорили о прошлом, но их взгляды неизменно притягивались к группе людей на траве; наконец их разговор иссяк.
Река вернулась в границы берегов, и Тейе отплыла в Джаруху. В Ахмине она сделала остановку, чтобы захватить с собой Тии. Когда они миновали Фивы и оставили позади утопавшие в зелени живописные поместья знати, Тейе позволила себе погрузиться в атмосферу деревенского Египта. Тейе с братом и его женой сидели на палубе под навесом, а мимо них проплывали крошечные селения из глинобитных домишек в обрамлении яркой зелени молодых всходов. Реку заполонили египетские и иноземные суда, которые курсировали между Мемфисом и Фивами. Но Тейе не смотрела на них; почти не принимая участия в разговоре, она чуть прикрыла глаза и отпустила свои мысли вдаль, к полям, очерченным рядами пальм, к стоящим на страже утесам и пустыне за ними – в Египет, исполненный Маат, неизменный и безмятежный.
– Мне уже спокойнее, – заметила она брату и Тии однажды темно-лиловым вечером, когда после вечерней трапезы они сидели, подставив лица ночному бризу, и слушали тихие завывания флейт на корме. – Малкатта – это сердце Египта, но очень легко забыть, что деревенская глубинка – это его тело. Мы покидаем дворец лишь для того, чтобы мчаться в Мемфис, укрывшись за спущенным пологом от взглядов феллахов. Нашим идеалом красоты сделались царские озера и цветочные клумбы, вытянутые по линейке, как войска на параде.
– Может быть, стоит позвать писца и надиктовать поэму? – скучно отозвался Эйе. – Что-нибудь о прелестях простой жизни. Феллахи были бы счастливы узнать, что земля, которую они орошают своим потом, так прекрасна.
– Не думаю, что они были бы счастливы, – сказала Тии, нервно копаясь в мешочке, набитом баночками с косметикой, кисточками, украшениями и неограненными камешками, который носила с собой повсюду. – Они ничего не смыслят в красоте, и попытка научить их ни к чему не приведет, это только огорчит их. Взгляни на этот кусочек яшмы, Эйе. – Она протянула мужу красный камень, на поверхности которого тускло догорал закат. – Я так долго полировала его. Искусственные цветы входят в моду, и я хотела попробовать сделать из него цветок каркаде, но здесь в верхнем углу есть бурая трещинка. Сначала ее не было заметно, я очень огорчилась.
Эйе взял камень из огрубевших, неухоженных пальцев жены.
– Я в этом ничего не понимаю, Тии, – сказал он, катая камешек между большим и указательным пальцами.
– Ладно, давай его сюда. – Она с улыбкой выхватила у него яшму и бросила ее обратно в кожаный мешочек. – Когда прибудем в Джаруху, надо непременно засушить несколько цветков винограда. Я подумывала о диадеме для Нефертити из сердоликов в золоте или, может быть, даже в слоновой кости. Но сейчас она, сдается мне, не хочет носить ничего, кроме ляпис-лазури.
Тейе резко повернулась к ней, но Тии, как обычно, высказалась с наивным простодушием, без всякой задней мысли. Маленькая головка в жестком старомодном парике склонилась над беспокойно снующими руками. Тейе взглянула на брата, но Эйе со снисходительной улыбкой смотрел на жену. Бессмысленно говорить с Тии о Нефертити, – размышляла Тейе. – Я не стану об этом думать. Кроме того, какой вред от того, что Нефертити нравится украшать себя божественным камнем?[26] Ее обожествление – лишь вопрос времени, и она это знает. Короны, что украшают мои собственные изображения, инкрустированы ляпис-лазурью.
В Джарухе они много плавали, почти беспрерывно что-то ели, вечерами пили вино и вспоминали былое. Пока Тии укладывала между листами из папируса собранные цветы или бродила по берегу реки с юным телохранителем, Тейе и Эйе сидели в прохладной гостиной, иногда о чем-то говорили, но чаще просто предавались размышлениям. Тейе знала, что брату не терпится вернуться к своим делам в Фивах, но сама она испытывала наслаждение, воображая, будто она снова молодая богиня, а в новом дворце на западном берегу ее ждет влюбленный фараон в расцвете сил и здоровья. Она подолгу безмятежно спала в своей комнате, окна которой выходили на зеленеющие угодья, сады и виноградники, и за все время пребывания в Джарухе не достала из футляра ни одно из своих чудесных медных зеркал.
Через месяц Тейе с братом вернулись в Фивы, по пути домой доставив Тии в Ахмин. Оказавшись в Малкатте, Эйе сразу устремился к себе, а Тейе пошла в гарем, чтобы узнать последние новости от Тиа-ха. Время, которое она провела вдали от двора, хоть и было недолгим, все же помогло ей лучше ощутить изменения, произошедшие здесь в ее отсутствие. Проходя по гулким коридорам дворца, она уже чувствовала, что подул новый ветер. Жрецы в белых юбках кланялись ей. Незнакомые молодые люди с наплечными повязками царских писцов и храмовых смотрителей склонялись перед ней в почтительном благоговении. Тейе повернула за угол и неожиданно оказалась лицом к лицу с крепким солдатом, который быстро опустил голову и встал на колени, пытаясь скрыть свое смущение в этом неловком выражении почтения. На нем была короткая льняная юбка и простой белый шлем, широкую голую грудь украшала только золотая пектораль Ра-Харахти, ястребиноголового солнечного бога. К поясу у него был пристегнут небольшой скимитар, в руке он сжимал копье. Что здесь делает храмовый солдат из Она? – удивилась Тейе. Стражники гарема открыли перед ней двери. Навстречу торопливо выбежал Херуф, небрежно зажав жезл под мышкой, его бритую голову покрывал свободный плат. Справившись насчет Тиа-ха, Тейе приказала ему на закате вызвать Эйе в залу для приемов.
В кельях женщин было прохладно, негромкие разговоры и легкие шаги сливались в слабый неясный шум. Дверь в комнаты Тиа-ха была открыта, оттуда хлынула волна насыщенных ароматов. Слуга Тиа-ха, с ложечками в обеих руках, сидел, склонившись над низким эбеновым столиком, сплошь уставленным маленькими алебастровыми баночками. Он опустился на пол вместе со своей госпожой, и Тейе жестом велела им подняться. Воздух комнаты был пропитан густым ароматом, в котором угадывались запахи мирры, лотоса и еще каких-то незнакомых эссенций.
– Что ты делаешь? – с любопытством спросила Тейе, подходя ближе. – У меня даже голова закружилась от этого запаха.
– Я пытаюсь выбрать подходящий аромат, – ответила Тиа-ха, окуная в баночку накрашенный хной палец и поднося его к носу. – Мне надоели мирра, алоэ и персея. Надеюсь, мне удастся распродать кое-что. Говорят, в этом году будут хороши свежие ароматные масла. Кое-что мне уже везут с грузом товаров с Великого Зеленого моря в обмен на лен. Ты можешь идти, – кивнула она слуге. Тот собрал свои принадлежности, поклонился и вышел.
– Пошли что-нибудь и моим слугам тоже, – сказала Тейе, – но только не мирру. Дворец уже и без того пронизан духовными веяниями.
Тиа-ха удивленно подняла тщательно выщипанные брови, хлопнула в ладоши, чтобы принесли угощение, и вслед за Тейе опустилась на разбросанные по полу подушки.
– Но эти веяния не приносят удовольствия, – возразила она. – Теперь здесь царит дух величайшей серьезности, и никакого легкомыслия. Разве Джаруха так далеко, что твои осведомители не смогли до тебя добраться?
– Я не хотела их видеть. Расскажи мне последние сплетни, царевна.
Тиа-ха закатила черные как сажа глаза.
– Сплетни гарема всегда очень сочны, но плоти в них не много. А личные слуги царственных особ всегда держат рты на замке.
– Но мы старые подруги, – улыбнулась Тейе, – ты же расскажешь мне все?
Тиа-ха вздохнула. Неслышно вошла рабыня с финиками и вином.
– Мы теперь видим царевича так же часто, как в те дни, когда он жил в соседних покоях. Его, и царевну, и жрецов, и Ситамон.
– Ситамон? – Тейе насторожилась. – Тиа-ха, а не болтают ли чего об Аменхотепе и его сестре? Фараон велит ее казнить, если она допустит оплошность.
– Конечно, ходят слухи, но Ситамон никогда не остается наедине с царевичем. Она слишком умна для этого.
– Видела ли ты фараона? Известно ли ему, что о ней говорят?
– О, императрица, – мягко сказала Тиа-ха, взяв с блюда липкий черный финик и задумчиво разглядывая его, – ты задаешь вопросы, которые могли родиться в голове наивного ребенка. Даже малышка Тадухеппа, которая ходит по коридорам гарема, почти вжимаясь в стены, и не желает общаться ни с кем, кроме своей тетушки, и та знает ответ. С тобой все хорошо?
Нет, – подумала Тейе в отчаянии. – Я вдруг состарилась и утомилась, мне вовсе не хочется мериться силами с новым кабинетом управителей.
Она поднялась.
– Может быть, я хочу быть тем наивным ребенком, – отрезала она. – От твоих ароматов, царевна, у меня разболелась голова.
– Если желаешь, я буду собирать для тебя сведения, – спокойно ответила Тиа-ха, – но женщины Херуфа сделают это лучше. Я предпочитаю делать выводы. – Она надкусила финик и потянулась за своей чашей. – Царевна Хенут, известная гордячка, несколько дней назад сцепилась с одной из вавилонянок. Хенут принадлежит к древнему вымирающему роду, моя госпожа. Она всегда относилась к Амону-Ра с надлежащим почтением, а от благовоний в ее покоях задохнулся бы даже жрец. Вавилонянка стала возмущаться. Кажется, царевич навестил ее и воскурил благовоние для ее вавилонского бога. Она принялась бахвалиться этим перед Хенут. Та ударила ее метелкой. Вавилонянка была настолько глупа, что в ответ ударила царевну по священному лицу. Херуф отхлестал ее за это.
Тейе уставилась на красивые, пухлые, липкие от финикового сиропа губы Тиа-ха, к которым прилипла прядь длинных черных волос.
– Ты хочешь сказать, что драка в гареме случилась из-за… религии?
– Да. Но, сдается мне, Амон пока удерживает первенство.
– Не могу в это поверить!
– Я тебе больше скажу. – Поднявшись, Тиа-ха посмотрела Тейе прямо в глаза. – Когда царевич услышал о том, что вавилонянку наказали, он прислал ей пару золотых сережек.
– О боги, – простонала Тейе.
В гареме была строгая иерархия, и по традиции только хранитель дверей гарема фараона мог исполнять наказания и раздавать поощрения. Попирать традиции было не только неблагоразумно, но и опасно. Если женщины сочтут, что можно добиваться благосклонности не только того единственного мужчины, которому они принадлежали, но и кого-либо еще, это может привести к взяточничеству, обману, превратить гарем в неуправляемую толпу. Аменхотеп жил в гареме всю свою жизнь, – недоумевала Тейе. – Он должен знать его неписаные правила. Или, может быть, он считает вавилонянку членом своей семьи и думает, что должен защищать ее? Она повернулась и вышла, не сказав больше ни слова.
Царевич сидел у открытого окна, опершись на подоконник и глядя в сад, купающийся в ярких лучах предвечернего солнца. У его ног примостился писец с развернутым свитком. Тейе услышала его монотонное чтение задолго до того, как смогла разобрать хоть слово. В комнате царил легкий полумрак, разбавленный мелкими брызгами белого света, лившегося из узких прорезей под самой крышей. Несколько крошечных обезьянок в нарядных ошейниках скакали по комнате, ускользнув от смотрителей; они корчили гримасы. Их пронзительные крики эхом разносились между рядами деревянных колонн, поднимавшихся к голубому своду, терявшемуся во мраке. У подножия трона царевича, на обрывках гирлянд увядающих лотосов, небрежно сваленных в кучу, будто на подушке, лениво развалился большой пятнистый кот. Когда вестник объявил о прибытии Тейе, Аменхотеп отвернулся от окна, писец прекратил читать и поклонился.
– Матушка! Ты вернулась! Как в Джарухе? Прекрасно? Все хорошо?
Она пожала его протянутые руки, холодные и влажные, и с изумлением заметила, что его полные губы выкрашены хной, как у девушки, а опустив взгляд вниз, увидела под полным мягким животом длинную гофрированную юбку жреца. Она отступила назад, мотнув головой в сторону писца, тот торопливо свернул свои свитки и стремглав понесся прочь.
– В Джарухе действительно было прекрасно, но я вернулась, и у меня к тебе много вопросов, сын мой.
Как всегда, когда она говорила с ним наедине, ей хотелось отбросить условности. Она испытывала отвращение к тому, что ей предстояло услышать, и, кроме того, искренние, беззащитные глаза сына не располагали к пустой болтовне.
– Я скучал по тебе, матушка. Дворец без тебя совсем не тот. Она улыбнулась, ничего не ответив на это.
– Аменхотеп, сегодня я встретила странного солдата, кажется, это стражник из Она. Сейчас, насколько мне известно, у нас не проводится никаких религиозных церемоний. Любые изменения в штате дворцовой прислуги должны обсуждаться с фараоном, или со мной, или с управляющим в мое отсутствие. Полагаю, этот солдат – твой человек.
– Недавно прибыла охрана для жрецов, моих друзей, – ответил он, ничуть не смутившись.
– Почему жрецы нуждаются в охране здесь, во владениях самого бога?
Он взял ее за руку и подвел к окну.
– Какой чудесный день, – мечтательно сказал он. – Смотри, вон утки распушили перья и окунают клювы в озеро. Вода, будто расплавленное серебро, стекает из ведер садовников. Жрецы Карнака порой чувствуют себя ущемленными, матушка, потому что мы учим тому, что верховный бог – это Ра. Мои жрецы захотели иметь собственную охрану.
Тейе почувствовала, как слабеют мышцы спины. Она оперлась обеими руками о подоконник.
– Так вот что вы там обсуждали, собираясь вместе! Верховенство Ра. Глупец! Жрецы Амона не будут глубоко задумываться над такой игрой слов. То, что ты серьезно пытаешься продолжать политику своего отца, направленную на укрепление единой религии в Египте, достойно похвалы. Это довольно хорошо сработало с иноземцами. Слуги Амона привыкли манипулировать религией, и самому великому богу это ничем не грозит.
Аменхотеп подвинулся ближе, коснувшись своим худым плечом ее плеча.
– Амон – из более молодых богов, – быстро сказал он. – Он обрел в Египте огромное могущество, но он не первый по силе. Когда Фивы были лишь скоплением глинобитных лачуг, а Амон только вылупился из яйца Великого Гоготуна[27] и был ничем, мелким деревенским божеством, солнце – сияющий Атон управлял уже всем Египтом. Атон снова должен править всем Египтом. – Высокий мальчишеский голос набирал силу.
Тейе не осмеливалась повернуть голову, ею овладело смятение.
– Откуда ты узнал обо все этом? – наконец спросила она.
– Я знаю. Я знал это с самого рождения. Но даже если бы я ошибался в начале своего пути, свитки, составленные из древних записей для первого юбилея фараона, просветили бы меня. Маат искажена. И я рожден для того, чтобы восстановить ее в прежней целостности.
– И конечно, жрецы Ра ревностнее всех стремятся видеть ее восстановленной.
Он не расслышал или притворился, что не расслышал сарказма в ее голосе.
– Конечно, – искренне подтвердил он.
– Аменхотеп, – сказала она, повернувшись, наконец, к нему лицом, – твой отец – и есть сама Маат, душой и телом, как фараон великой державы. Повсюду, где он, там правда, справедливость, традиции и закон.
– Неужели? – Его полные губы внезапно скривились в подобие улыбки, и на мгновение Тейе охватил гнев.
– Не смей говорить со мной в таком тоне, Аменхотеп! Будь осторожен, потакая жрецам солнца! Ты – Гор-в-гнезде и скоро станешь воплощением Амона в Египте. Карнак – твой дом, так же как и Малкатта, и жрецы Она должны рано или поздно осознать это. Продолжай увлекаться вопросами религии, если хочешь, но помни, что, когда фараон умрет, жрецы должны уехать!
– Ты ничего не поняла! – Он вдруг схватил ее руки и принялся целовать их с такой страстью, что она изумилась. – Но ты поймешь. Великая мать, божественная женщина, однажды твои глаза откроются.
Странный порыв миновал так же быстро, как и нахлынул. Он выпустил ее руки аккуратно, одно за другим поправил кольца на пальцах и нежно улыбнулся. Она в ошеломлении лишь молча смотрела на него, пытаясь собраться с мыслями.
– Аменхотеп, я хочу, чтобы ты держался подальше от гарема своего отца, – наконец сказала она. – Ты свободен, можешь начать приобретать женщин для себя. Больше не нужно тянуться к тому, что было для тебя одновременно и домом, и тюрьмой. Мне рассказали, что произошло между Хенут и вавилонянкой.
Он вздохнул.
– Царица, ты еще не понимаешь, почему я молился вместе с этой вавилонянкой, правда?
Повисла напряженная тишина. Только у них за спиной пронзительно вскрикивали обезьянки, негромко цокая по скользким плитам пола. Слуги тихо переговаривались, не сводя глаз с царственной пары в ожидании приказаний. Пятна солнечного света сместились, и кот, не просыпаясь, пополз вслед за ними, оставив в покое увядшие гирлянды.
Тейе раздраженно пожала плечами.
– Я понимаю только то, что вижу, вот и все, – сказала она. – Я жду от тебя повиновения, царевич Аменхотеп. Разве Нефертити не приятна тебе? Почему ты не начал покупать наложниц?
– Я не хочу удаляться из Техен-Атона,[28] – ответил он, и, хотя его вытянутое лицо оставалось спокойным, визгливый голос звучал надтреснуто от переполнявших Аменхотепа эмоций. – Когда фараон умрет, я унаследую его гарем.
– Это проделки Ситамон! – Тейе напряглась, гневно стиснув пальцы рук. – Это она вложила в твою наивную голову свои мысли. Я не потерплю этого!
– Но она моя сестра, она царской крови и моя по праву!
Тейе вплотную приблизила к нему лицо.
– А еще она властная и коварная, она будет пытаться управлять тобой. Неужели ты не понимаешь? Она хочет быть старшей женой, чтобы, в конце концов, занять место Нефертити.
– У тебя такие голубые глаза, как холодное небо, как у богини Нут, когда та открывает рот, чтобы вечером поглотить Ра, – тихо сказал он. – Я люблю их. Ситамон я тоже люблю. Она отдала всю свою прислугу в мое распоряжение. Она предана мне.
– Нефертити тоже предана тебе, и она красива. Подари Египту сына от нее, Аменхотеп, и если тебе придется, когда фараон уйдет, взять Ситамон, возьми ее просто как царственную жену.
Тогда посмотришь, как она тебе предана, – подумала Тейе.
Взгляд юноши снова привлек медленно бронзовеющий свет, наполнявший сад. Он высунулся из окна, и Тейе не могла определить, отчего бледное лицо его вдруг сделалось пунцовым – то ли от внезапного прилива смущения, то ли от прикосновения закатного солнца.
– Бог не так легко порождает детей.
– Но ты еще не бог. Прислушайся к зову своего тела, сын мой, и дай недолго отдохнуть разуму. Отошли жрецов.
Он не ответил, и она поняла, что не стоит давить на него. Сделав знак вестнику, она удалилась.
Вскоре, голодная и расстроенная странным разговором с сыном, Тейе, сидя на троне посреди залы для приемов, рассказывала Эйе, что произошло между ней и царевичем.
– Сколько сейчас этих солдат во дворце? – спросила она.
– Сотня, царица. Но жрецы численно превосходят их.
– Сто человек! – Головная боль, начавшаяся еще во время пребывания в душных покоях Тиа-ха, неожиданно резко усилилась, заставив Тейе вздрогнуть. – Ну, будем надеяться, что это безрассудство пройдет само собой и вскоре царевич утратит интерес к вопросам, которыми пристало заниматься нежному отроку, а не зрелому мужу. Я не хочу противоречить ему или ранить его чувства, приказав жрецам убираться восвояси. Но они раздражают меня. Они подлизываются к мальчику, который неплохо к ним относится, и используют его. Это уже нечто большее, чем просто подкуп.
– Мне доставили письмо из Мемфиса. Кажется, царевич преподнес немалые дары храму солнца. Но он также послал зерно и мед в Карнак.
Тейе почувствовала себя спокойнее.
– Тогда он просто испытывает свои крылья. Бедный Гор-птенец! Завтра я поговорю с Нефертити, но сейчас, дорогой Эйе, я хочу сидеть на помосте среди цветов, вкушать трапезу и наслаждаться представлением.
– А как фараон? – Вопрос прозвучал осторожно, даже робко.
– Его состояние явно не ухудшилось. Не хочу встречаться с ним сегодня. Распоряжусь, чтобы Херуф послал к нему Тиа-ха.
– Хоремхеб говорит, что фараон удвоил свою стражу.
– Вот как? Даже сейчас сын Хапу не дает ему покоя!
– Он не глупец. Он понимает, что глаза придворных обращены к Аменхотепу, понимает, что не знает своего сына. Кроме того, и прежде случалось, чтобы фараон или его отпрыск умер не своей смертью. Аменхотеп сам распустил стражу, назначенную охранять его, и теперь пользуется услугами только солдат из Она.
– Искал ли подходы Аменхотеп к другим военачальникам, кроме Хоремхеба?
– Нет. Это было бы неумно и преждевременно. Армия подчиняется тому, кто царствует ныне, а не тому, кто будет. А он будет командовать ею довольно скоро.
– Хорошо. – Она поднялась, потянувшись к его руке. – Поужинай со мной сегодня в покоях фараона. Маленького Сменхару надежно охраняют?
– Конечно, хотя не думаю, что Аменхотеп знает достаточно, чтобы почуять в нем конкурента. Все под контролем, Тейе.
У Тейе не было такой уверенности, но сегодня ей было все равно. Она чувствовала себя такой же опустошенной, как мертвец перед бальзамированием.
6
Время шло, придворные постепенно привыкали к присутствию жрецов Ра, тихо слонявшихся по дворцу. Мода на религию при дворе менялась быстро, и, тогда как всемогущество Амона, его супруги Мут и их сына Хонсу было неоспоримо, младшие боги Египта и даже некоторые из иноземных наслаждались кратким моментом фавора, перед тем как кануть в забвение, уступив место новым богам.
Тейе успокоилась, видя, что Аменхотеп, вначале проявивший отроческое неповиновение, стал вести себя, как подобает царевичу. Теперь он бывал в гареме редко, только когда навещал старших женщин отца, которые были прежде добры к нему. Если его взгляд останавливался на Тадухеппе или на других молодых женах фараона, он быстро переводил глаза на более безопасные объекты. С Тейе он держался вежливо-учтиво, и она часто задумывалась, не стал ли их странный разговор причиной тому, что они отдалились друг от друга, не пытался ли он тогда сказать ей что-то важное, чего она не смогла понять и что заставило его быть осторожнее. Часто в предрассветной тишине, когда она внезапно просыпалась и подолгу лежала без сна, она вспоминала его мягкие губы, прижавшиеся к ее рукам в странном порыве, который она, как ни пыталась, не могла объяснить.
Миновали беспокойные месяцы сбора урожая, потом знойные, безжизненные дни сезона шему, и Тейе начала замечать, что способ ведения государственных дел стал несколько отличаться от того, который существовал в дни ее юности. Фараон погрузился в сумеречный мир своих хронических недугов, он больше не выходил во время праздников и не гулял в саду, безучастно заверял некоторые документы, которые недостаточно было скрепить печатью супруги, и устало возвращался к мальчишке, чародеям и нагим танцовщицам. Он постоянно пил, со страстью фаталиста пытаясь забыться, и в свои все более и более редкие визиты Тейе почти всегда видела его опухшим, беспокойным, язык плохо слушался его, речь была бессвязна.
Она проводила большую часть времени в палате внешних сношений, решая дипломатические вопросы, потому что Эриба-Адад умер и хетты с митаннийцами алчно и свирепо засматривались на Ассирию, с опаской оглядываясь на Египет. Они с Эйе подолгу обсуждали письма, которые она адресовала Суппилулиумасу и Тушратте, сочетая завуалированные угрозы со сладкими обещаниями и намеками на военное превосходство Египта. Дипломатия всегда привлекала Тейе. Еще она совершила ежегодное паломничество вверх по реке, до второго порога, за Солеб, и выстояла службу в храме, который построил для нее супруг,[29] увенчанная рогатой короной богини с диском и двойным пером[30] и уреем на лбу. Ее собственное гигантское скульптурное изображение холодно взирало на нее сквозь тонкую голубую завесу фимиама, а жрецы лежали вокруг нее на спинах, похожие на стаю бескрылых белых птиц.
Путешествие на юг, этот ежегодный торжественный ритуал, обычно всегда радовало Тейе, ей доставляло удовольствие засвидетельствовать свое превосходство. Но в этом году изнурительный летний зной, обжигающий каждый нерв, бесконечно утомлял ее, и она вернулась в Малкатту вконец обессиленная.
Уныние жаркого сезона немного развеял один приятный момент: вестник Нефертити объявил о беременности царевны. Аменхотеп учтиво принимал официальные поздравления двора и восхищенные поклоны членов семьи, а Нефертити, очень гордая собой, подолгу сидела, перебирая маленькие подарки, которыми засыпали ее восторженные обитательницы гарема. Фараон предоставил ей своего личного мага, чтобы тот приготовил для нее надлежащие обереги и заклинания, а Тейе дала амулет, приносящий удачу, который носила сама, когда была беременна Аменхотепом.
Но Тейе недолго пребывала в состоянии восторга. В такую жару сильные эмоции быстро утомляли ее. Иногда она посылала за Сменхарой, которого приносили ей воркующие няньки, улыбалась ему, а он тихонько колотил ручонками по ее ожерельям. Но для Тейе материнство не было предметом гордости, она думала, прежде всего, о том времени, когда сын станет взрослым мужчиной, царевичем Египта. Окажется ли он угрозой для своего брата, Аменхотепа? Возможно, у Нефертити родится девочка, тогда, если не появится больше царственных сыновей, она будет подходящей женой для Сменхары. Но если у Нефертити родится мальчик, Сменхара навсегда останется царевичем.
Ходила ли Тейе по залам Малкатты, или сидела на троне, слушая официальные письма и доклады, или возглавляла бесконечные празднества, во время которых пиршественная зала полнилась разноязыкой иноземной речью, перед ее внутренним взором все чаще вставала страна, империя и даже она сама, Тейе, застывшая в ожидании ответа Анубиса. Будто он уже опустил все сердца на чашу священных весов в темной зале, где души умерших предстают перед судом.[31] Пока она не находила никакой видимой причины для своего повторяющегося видения, но, привыкнув за двадцать лет правления всему придавать значение, не гнала его от себя.
Однажды утром, накануне месяца тота, Тейе обдумывала, как проводить новый праздник Опета, если фараон будет не в состоянии принять в нем участие, когда ей доложили о приходе второго пророка Амона. Пиха помогла ей надеть узкое алое платье, и Тейе, немало удивленная визитом, позволила пророку войти. Си-Мут вошел, поклонился, согнувшись почти вдвое, его выбритая голова блестела бусинками пота, а жреческая лента прилипла ко лбу.
– Встань и говори, – сказала она, присев за туалетным столиком. – Но напоминаю тебе, Си-Мут, обычно я не принимаю в опочивальне.
Слуга открыл косметический ящичек, обмакнул кисть в желтую краску и принялся подкрашивать ей щеки.
– Прошу прощения, богиня, я понимаю, что моя новость, возможно, уже известна тебе, но, поскольку ты многие месяцы не бывала в Карнаке, смиренно полагаю, что это не так.
Тейе сидела с закрытыми глазами, пока слуга наносил ей на веки зеленую краску.
– Если бы я сочла, что мое присутствие в Карнаке необходимо, я бы не стала нанимать жреца, чтобы он отправлял там службы от моего имени. В чем дело?
– Вчера царевич Аменхотеп огородил белым шнуром площадку на священной территории для строительства своего нового храма Атона.
Теперь ее висков касалась кисть с черной тушью.
– Я знаю. Аменхотеп долгие месяцы обсуждал: план строительства святилища Атона в Карнаке со своими архитекторами. Это безвредный проект, да и царевич счастлив.
Когда слуга обмакнул кисть в оранжевую хну, она открыла глаза и взяла зеркало. В бронзовой глубине за ее собственным лицом отражалось лицо молодого жреца, искаженное и встревоженное.
– Сегодня утром, императрица, царевна Нефертити совершает такую же церемонию.
– И что с того? Полагаю, ты имеешь в виду приготовления в новом дворце, который выстроен для моего сына на восточном берегу.
Си-Мут глубоко вздохнул.
– Нет, царица, я не это имею в виду.
Тейе еле выдержала момент вынужденного молчания, пока слуга плавно водил кистью по ее сомкнутым губам. Видя, что Си-Муту с трудом удается скрыть беспокойство, она подозрительно сузила глаза и опустила зеркало Слуга начал собирать свои баночки, а парикмахер подступил к ней с черным кудрявым париком. Тейе обернулась к Си-Муту.
– Ты хочешь сказать, что Нефертити закладывает фундамент еще одного храма Атона?
– Да, божественная.
– Оставь меня. И немедленно пришли ко мне Нена.
Си-Мут тут же поклонился и попятился к двери, подняв раскрытые ладони. Парикмахер осторожно закрепил тяжелый парик на густых каштановых локонах Тейе и принялся смазывать его завитки ароматным маслом.
Тейе сидела не шелохнувшись, но мозг ее неистово работал. Когда явился Нен, она поднялась и заговорила, не дав ему даже завершить ритуал почитания.
– Ты обязан держать меня в курсе всех дел, касающихся Карнака. Но, похоже, вместо этого ты проводишь время, лакая вино с моего стола и катаясь по реке на лодке.
При звуке ее тихого голоса он побелел. Его испуганный взгляд опустился на ее руки, с обманчивым спокойствием лежавшие на подлокотниках кресла.
– Императрица, если меня обвиняют в безответственности, я хочу знать своего обвинителя.
– Тебя обвиняю я! Ты не сказал мне ни слова о планах царевны относительно строительства в Карнаке.
– Я докладывал тебе, что они оба – и царевич, и царевна – собираются строить храм, – растерянно ответил он, не отрывая взгляда от ее рук.
– Да, но при этом ты не уточнил, что царевна собирается строить свой собственный храм. Ее архитекторы, должно быть, бродили по священной земле, и наверняка об этом поползли слухи. Я не желаю пребывать в неведении. Как не нуждаюсь больше в твоих услугах и снимаю свое покровительство. Отправляйся обратно в Мемфис.
Он понял, что страшный момент вынесения приговора уже миновал, и с очевидным облегчением поднял голову.
– Императрица, царевна Нефертити никому не позволяет приближаться к ней, кроме слуг, подобранных для нее царевичем. Слуг, которых ты предоставила ей, она отдалила от себя. Очень трудно узнать хоть что-нибудь о ее действиях. Это правда, что ее архитекторы появлялись в Карнаке, но их всегда сопровождали люди царевича. А для своего храма она нанимает строителей царицы Ситамон.
Ситамон знает моих людей, – подумала Тейе. – Ей легко получать от них сведения. Она заслуживает наказания. Однако Ситамон всегда строила козни и всегда выбирала для этого неудачное время. Разве она не понимает, что слишком рано раскрывает себя? И как только мы с фараоном могли породить на свет такую дуру?
– Оставь меня. И Малкатту. Немедленно.
Когда он тихо убрался восвояси, Тейе повернулась к Пихе:
– Серьги с ониксами и царскую диадему. Повесь на мою пектораль Око Гора и анх рядом со сфинксом и подай новое ожерелье из глиняных колечек. Когда закончишь одевать меня, вызови царскую ладью, носителя опахала и вестника. Я отправляюсь на другой берег.
Пылающий полдень обдавал жаром сквозь шторки паланкина, будто огнедышащее горнило. Переправившись в ладье через реку, Тейе сошла на берег в Карнаке. Похоже, жара здесь еще нестерпимее. Птахотеп и Си-Мут уже преклонили колени, чтобы поцеловать раскаленные плиты причала у ее ног. Ей всегда казалось, что в Фивах летом жарче, чем на западном берегу, зловоние во время половодья сильнее и шума на бурных празднованиях Опета больше. Она никогда не пыталась преодолеть свое отвращение к городу и уже не тревожилась о том, что Малкатта расположена в такой близости от пристанища мертвых. За приветственными молитвами жрецов Амона и треском систров в их безукоризненно чистых руках Тейе не могла не слышать какофонии повседневной жизни Фив. Хрипло зазывали уличные торговцы. Ревели ослы, громыхали телеги, музыканты терзали свои инструменты, бранились горожане, кричали дети. Смрад гниющих отбросов и кухонных приправ через стены Карнака проникал в священные сады. Не выдержав, Тейе поднесла к носу локон своего парика, благоухавшего маслом лотоса. За спиной, на легких волнах реки, добавлявшей к общему зловонию запахи ила и водорослей, призывно покачивалась ладья «Сияние Атона». Тейе вздохнула и, скрепя сердце, шагнула к носилкам, не обращая внимания на собравшихся у причала жрецов.
– Отнесите меня к царевне Нефертити, – приказала она, и задернула парчовые шторки.
Пот лился на глаза из-под тугого парика, тонкой струйкой стекал по спине, алое платье противно промокло под мышками.
Она лежала неподвижно, покачиваясь в носилках над вымощенными дорожками, которыми был исчерчен этот город в городе, обитель всех могущественных богов, милости которых искал Египет. Наконец носильщики осторожно опустили ее на землю. Под встревоженными взглядами притихшей толпы Тейе распахнула шторки и сошла с носилок. Носители опахал бросились укрывать ее от солнца. Собравшиеся припали к взрыхленной пыльной земле. Тейе с первого взгляда заметила серебряную чашу с белой краской в руках жреца Атона, клубки тонких веревок у его ног, быка, невозмутимо и покорно стоящего в ожидании удара ножа, и насыпи сухой черной земли у котлована. За всем этим высилась громада храма Мут, отбрасывавшая скудную тень, колоннады пилонов слева и справа от него и аллеи, вдоль которых тянулись ряды статуй, дрожавших в раскаленном воздухе. Позволь им солгать, – мрачно сказала себе Тейе, глядя на собравшихся из-под украшенного кистями балдахина.
– К царевне, – коротко бросила она вестнику, и тот направился к Нефертити, которая почтительно склонилась, но не опустилась на горячую землю.
Сделалось совсем тихо, только услужливо шелестели метелки, и мошкара зависла в воздухе, как черная пыль. Нефертити выпрямилась и, сузив глаза от яркого солнца, стала плавно приближаться к Тейе; выпирающий живот нисколько не нарушал грации ее движений. Тейе отослала носителей опахала и знаком пригласила девушку в свое укрытие.
– Это Карнак, Нефертити, – сказала она без предисловий. – Почему ты строишь новый храм Атона здесь, когда твой муж расширяет святилище, которое уже существует?
Нефертити невозмутимо посмотрела на нее.
– Потому что это правильно, что я строю собственный Бен-бен,[32] где я смогу сама поклоняться богу.
– Традиции запрещают возведение храма для простой женщины.
– Но я скоро стану богиней, тетушка. Аменхотеп жаждет увидеть, как я совершаю богослужение в собственном храме, который я строю из религиозного усердия. – Она помолчала, потом едко добавила: – У тебя же есть в Солебе собственный храм.
– Я совершала богослужения в Солебе, потому что так повелел божественный фараон! Ты пока всего лишь царевна и можешь никогда не достигнуть этой ступени божественности. Жрецы Амона обеспокоены не только этим показным возвеличиванием Атона, они обижены твоей неразборчивостью.
– Не надо просвещать меня в вопросах религиозных предпочтений, тетушка, – спокойно ответила Нефертити. – Ты сама едва ли ступила бы в Карнак, если бы не требовалось отправлять ритуалы. Ты больше любишь, чтобы поклонялись тебе, нежели поклоняться самой.
– Но это, – Тейе презрительно указала на неровную площадку, – может привести к попранию незыблемости Маат в Египте.
– Не думаю. Аменхотеп также возводит храм и для Амона, хотя и скромнее.
– Жест умиротворения?
– Может быть, и так. Но как бы то ни было, мой муж выказывает больше почтения богам, чем его отец, который построил Малкатту на западном берегу, удалив тем самым свою божественную персону от всех святынь. Новый дворец Аменхотепа на окраине Карнака растет с каждым днем.
Их взгляды встретились, и Тейе почудилось, что в прозрачных глазах Нефертити мелькнуло саркастическое выражение. Мне понятно желание сына держаться подальше от того места, где каждое воспоминание причиняет ему боль, – размышляла она, задумчиво глядя на безупречный овал накрашенного лица Нефертити, – к тому же он строит и для Амона, и для Ра-Харахти. Тогда откуда этот холод предчувствия беды?
– Твое искреннее поклонение богам делает тебе честь, Нефертити, – вслух сказала она, – но никогда не забывай, что государственные дела превыше всего. Тебе лучше заняться вопросами дипломатии.
– Я занимаюсь ими.
Нефертити впервые улыбнулась, и Тейе захлестнула волна гнева.
– Если не можешь любить моего сына, имей хотя бы уважение к его доброте и невинности, – сказала она холодно. – Для тебя это все глупые детские игры, я понимаю. Но не смей использовать его.
– Ты обижаешь меня, императрица, – ответила Нефертити.
Тейе постаралась совладать с собой. Мне не пристало ссориться с Нефертити на людях, – подумала она. – Каким бы опрометчивым ни казался мне ее поступок, я не должна давать повод придворным сплетничать о разладе в моей семье.
– Полагаю, строительство этого храма – глупая и, возможно, даже опасная затея, – произнесла она, выдержав паузу, – но если Аменхотеп желает, чтобы храм был построен, то я не стану препятствовать тебе. Птахотеп и другие жрецы со временем успокоятся, если ты будешь правильно себя вести. И не оставайся слишком долго на солнце, дитя мое. Тебе нужно больше отдыхать. – Тейе сделала знак носильщикам, неторопливо уселась в паланкин, откинулась на подушки и задернула шторки.
– Обратно к ладье! – крикнула она и закрыла глаза. Все стало раздражать меня, – подумала она. – Надо постараться с Ситамон вести себя более благоразумно.
Тейе нашла дочь в ее собственной купальне. В комнате царил полумрак, влажный пол приятно холодил ступни, а плеск звенящей воды создавал ощущение зимней свежести. Ситамон лежала на животе, растянувшись на прохладной мраморной плите, уперев подбородок в сложенные руки, а слуга усердно разминал ее упругое тело. Она сонно поздоровалась с матерью.
– Мое почтение, матушка.
Тейе молча кивнула. Она не отрывала глаз от рук массажиста, подобострастно втиравшего масло в глянцевую кожу, которая блестела, как атлас в лунном свете. Ситамон часто раздражала ее, иногда казалась забавной, иногда пробуждала чистую любовь, переполняющую сердце, но лишь изредка заставляла Тейе вздрагивать от ревности. Сегодня ревность возникла непрошено, Тейе явственно ощутила ее, глядя, как раб откинул в сторону роскошные темные волосы Ситамон и принялся массировать длинную шею, изящную спину, соблазнительные округлости нагих ягодиц. Девушка замурлыкала от удовольствия и медленно, в точности копируя движение Тейе, повернула голову набок, слегка улыбаясь полными губами – губами Тейе, только принадлежавшими женщине, напоенной весенней свежестью.
– Я знаю, зачем ты здесь, мама, – сказала Ситамон, полуприкрыв глаза, – так что не стоит снова угрожать мне. Я была счастлива одолжить своих архитекторов брату и Нефертити для их нового дворца. Полагаю, что и сама стану его обитательницей.
– Меня мало заботит, что ты поставляешь архитекторов Аменхотепу, – резко ответила Тейе, подходя ближе. – Тебе известно о храме Нефертити?
Ситамон подняла голову.
– Да, конечно. Моим людям приказано держать меня в курсе всего, что касается строительства.
– Почему ты не сказала мне об этом?
Ситамон лениво посмотрела на нее.
– Я думала, все это знают. Напыщенность Нефертити сделалась притчей во языцех. Неужели ты ожидала, что я ринусь к тебе, взбешенная этой новостью, а затем побегу к ней с протестами? Едва ли это поможет сохранить благосклонность Аменхотепа.
Тейе стиснула зубы.
– Для тебя это важнее, чем мое недовольство? – холодно спросила она.
– Да. Я пытаюсь стать ему необходимой. – Она перевернулась на спину, и Тейе отвела глаза от подтянутого живота и прекрасно очерченных грудей. Волосы Ситамон струились почти до золотых сандалий Тейе. – Я девять лет была царственной женой, царицей, я научилась ублажать капризного, ненасытного мужчину. О, я знаю, фараон взял меня в свою постель, потому что я напоминала ему тебя, но то, что я задержалась в ней, – только моя заслуга. Поставь себя на мое место, царица. Когда фараон умрет, меня на всю оставшуюся жизнь переведут в гарем. Ты не приняла бы такую участь, и я тоже не приму. В том, что я делаю, нет большого вреда. Мне действительно нравится брат. – Она согнула длинную ногу, и пальцы массажиста погрузились в плоть ее бедра. – Он объявит меня царицей. Возможно, даже великой царской супругой.
– Как ты можешь так беспечно недооценивать Нефертити? Разве ты не видишь, что ее амбиции ничуть не уступают твоим?
Голубые глаза Ситамон встретились с глазами Тейе.
– Да, это так. Но она моложе меня и не так опытна. Ты была бы счастлива увидеть, как мы вцепимся друг дружке в горло, правда, богиня? Ты хочешь сама управлять Аменхотепом, но ты слишком горда, чтобы соперничать с Нефертити и со мной, потому что знаешь, что проиграешь. Молодости и красоте ты можешь противопоставить только свою политическую дальновидность, но красоту Аменхотеп ценит намного выше.
– Ты не боишься меня, Ситамон?
Вопрос прозвучал почти неслышно.
– Да, боюсь, – вяло ответила та, – но ты не посмеешь тронуть меня, пока отец жив, а когда он умрет, меня защитит новый фараон. В любом случае, не думаю, что ты сможешь навредить мне. Ты не настолько опасна. Если бы ты хотела убить меня, ты бы давно это сделала, когда мы с тобой были соперницами.
Тейе неприятно засмеялась.
– Мы были соперницами только в твоем тщеславном воображении, Ситамон. По крайней мере, употреби свое влияние на царевича, чтобы придержать этих жрецов солнца. Мне не нравятся его религиозные устремления. Тебя не может волновать вся эта ерунда с Атоном.
Ситамон медленно закрыла глаза и улыбнулась.
– Меня – нет, но Аменхотепа волнует. Ты слишком долго единовластно правила Египтом, мама. Ты видишь скрытые трудности там, где их нет. Он развлекается, только и всего. Мы все развлекаемся.
Она села, сделала знак слуге подать полотенце, и Тейе поняла, что дальше спорить бесполезно. Холодно кивнув, она вышла.
В ее словах есть доля правды, – размышляла Тейе, возвращаясь в свои покои. – Это все так легко забывается – беззаботная веселость, безрассудство, игра ради самой игры. И она определенно имеет все основания упрекать меня в ревности. Я действительно хочу иметь влияние на сына, хочу быть вхожей в круг его друзей, хочу заставить его подчиняться мне. И я сделаю это. Она ошибается, полагая, что будет иначе.
Следующие несколько недель Тейе пристально следила за бешеными темпами строительства в Карнаке. Она с удовлетворением замечала, что, несмотря на то, что среди прежних религиозных святынь растет розовый храм Атона, сын по-прежнему относится к Амону с глубочайшим благоговением. Иногда ей казалось, что Аменхотеп глумится над ритуалами богослужения, сознательно делая их слишком изощренными, но глумится не так, как это делал его отец, с беззлобной иронией искушенного правителя, а с холодной скрытностью посвященного в более глубокие тайны.
Она старалась больше времени проводить с сыном, прогуливалась с ним в компании Нефертити, Ситамон и его прихвостней; они кормили уток, которых полно было в царских озерах, рвали цветы и сплетали из них гирлянды или с милой простотой вкушали вечернюю трапезу, сидя на траве и глядя, как Ра погружается в уста Нут. В такие моменты Аменхотеп редко заговаривал о религии, но Тейе не могла понять, связано ли это с ее присутствием или нет. Он часто очень трепетно и с большой любовью говорил о красоте и очаровании мира природы, трогательно смущаясь при этом. Животные любили его, это было очевидно. За ним всегда увязывались обезьянки, кошки, борзые отца, а когда он устраивал смотр колесничим, лошади без страха подходили к нему и тянулись мягкими губами. Его простота одновременно восхищала и пугала Тейе, казалась ей слишком правильной и выверенной, чтобы быть настоящей. Своей нарочитой открытостью он будто бросал вызов простой искренности. Однако Тейе глубоко трогало почтительное отношение сына. Он сочинял для нее песни и сам исполнял их, подыгрывая себе на лютне, которой овладел в совершенстве. Прогуливаясь с ней по саду, он трепетно, как ребенок, держал ее за руку.
При дворе стало очень модным любить природу. Цветы из аметиста, яшмы и бирюзы, оправленные в золото, появились в ожерельях, поясах, в выкрашенных хной мочках ушей, в локонах женских и мужских париков, свисающих до пояса. Ни один царедворец, заботящийся о своем статусе, не появлялся в саду без обезьянки на плече, собаки или гуся у ног, корзинки с котятами, которую носили за ним слуги. Придворные дамы собирались на лужайках, жеманно смакуя местное пиво и обсуждая таланты своих садовников. В садах гарема, обычно пустынных почти до полудня, теперь на рассвете было полно заспанных наложниц, которые, спотыкаясь о шелковые подушки, с громкими восторгами наслаждались свежим утренним воздухом. Торговля непахучими маслами стремительно пошла в гору.
Тейе наблюдала, как придворные превращают Малкатту в роскошное подобие летнего поместья состоятельных горожан, а ее сын невольно становится центром нового развлечения. Она надеялась, что это продлится недолго. Глядя на то, как Аменхотеп тискает своих кошек, катается по траве с мартышками, со смехом гоняет уток, а те, переваливаясь, убегают от него, она впервые серьезно попыталась представить двойную корону на его странно непропорциональной голове. И не смогла. Это встревожило ее. Это просто ребячество, – успокаивала она себя, – попытка быть беззаботным и безыскусным в дружеском кругу. В детстве Аменхотеп не мог позволить себе такую роскошь. Скоро ему наскучит все это. Должно наскучить.
Нефертити, наконец, уложили в постель в личных покоях Тейе, и она разрешилась от бремени девочкой с легкостью и быстротой, удивительной для ее хрупкого телосложения. Когда возбуждение привилегированных очевидцев этого великого события улеглось, и они удалились, чтобы продолжать празднование, Аменхотеп взял дочь на руки.
– Я назову ее Мериатон, – сказал он, прижимая к себе малышку, она дергала крошечными ручонками и плакала. – Возлюбленная Атона – хорошее имя. Она плоть от плоти моей.
– Ты не желаешь прежде посоветоваться с оракулом? – спросила Тейе.
– Я главный слуга Атона, и мне известно мнение бога, – важно ответил он. – Мериатон – имя, которое ему очень нравится.
– Ты пошлешь официальное сообщение отцу?
Не ответив ей, он передал Мериатон кормилице и сел рядом с Нефертити.
– Я же говорил тебе, что это будет легко, – сказал он, проведя пальцами по ее влажной щеке, – и скоро твоя фигура станет такой же прекрасной, как прежде. Тебе на радость.
Нефертити мягко отстранилась.
– Если это порадует также и тебя, Аменхотеп, – ответила она. – Можно я теперь посплю? Я устала.
Он сразу поднялся.
– Спи, счастье мое, – сказал он и обернулся к Тейе. – Матушка, выпей со мной чашу вина.
Тейе кивнула, и они вместе вышли через маленькую приемную. Когда слуги торопливо зажгли лампы, Херуф разлил вино в чаши. Тейе опустилась в кресло, а Аменхотеп уселся на стул рядом с ней.
– Фараон должен услышать эту новость от одного из твоих вестников, – мягко сказала она. – Не мог бы ты хоть ненадолго забыть свою ненависть?
Он поднял свою чашу и принялся задумчиво водить пальцем по краю. Его серебряные кольца поблескивали в свете ламп.
– Мать – это сфинкс, – медленно сказал он. – Мать непостижима, в ней вся власть.
– Ты говоришь вздор. Твой отец болен, а это очень важная новость.
Полные губы Аменхотепа скривились. Он залпом осушил чашу и протянул Херуфу, чтобы тот наполнил ее снова. В карих глазах царевича светилась радость.
– Твой муж действительно болен. Он всего лишь обыкновенный человек. И он умрет. Отправляйся к нему сама с моей новостью.
– Ты безжалостен и жесток! Разве в тебе нет ни капли сострадания!? – воскликнула она ошеломленно.
Он задумчиво смотрел в свою чашу, не отвечая. Взяв себя в руки, она заметила:
– Дочь – это хорошо, Аменхотеп. Она будет царственной женой для Сменхары.
– Если у меня не будет сына. – Он вышел из задумчивости и с доброй улыбкой взглянул на нее. – А сыновья труднее достаются, чем дочери, царица?
Тейе рассмеялась:
– Для женщины разницы нет.
– Но Сменхара причинил тебе боль.
– Это потому, что я уже немолода.
Он долго рассматривал ее, переводя взгляд от лица к сфинксу на шее и обратно, потом сказал:
– Это не так. Ты – бессмертна.
Неужели он действительно верит, что я буду жить вечно, потому что я богиня? – изумленно подумала Тейе. – Неужели ему нравится эта мысль, или он просто хочет усыпить мою бдительность, чтобы убрать с дороги последние преграды старого правления?
Он вновь опустошил чашу и поставил ее на столик.
– Я, конечно, бессмертна по своей божественной природе, – согласилась она, – но мое тело смертно!
Он не улыбнулся, и, казалось, вдруг погрузился в мрачный транс, не отрывая глаз от ее лица.
– Я помню Тутмоса, – вдруг сказал он.
Упоминание этого имени сразило ее.
– Ты говоришь о своем брате?
– Однажды ты привела его ко мне. Он неохотно подчинился. Стоял в моей комнате, обняв тебя за плечи, и улыбался, избегая смотреть мне в глаза. Он был очень смуглый, от него пахло лошадьми и солнцем, на его сандалиях осела пыль. Он сказал…
– Я знаю, что он сказал. – Тейе сглотнула, ошеломленная внезапной живостью этого воспоминания.
Ее старший сын, такой высокий, такой надежный, прикосновение его жесткой ладони к плечу, тепло его дыхания на щеке, белозубая улыбка… Тутмос все время смеялся, как и его отец. Он постоянно был в движении – шагал, стрелял, мчался на грохочущей колеснице, он был настоящим наследником, царевич, исполненный божественности и силы. Жизнь была проще тогда. Тутмос – могущественный Гор-в-гнезде, а Ситамон его царевна. Мне следовало знать, – со страстью сказала себе Тейе, – что это не продлится долго.
– Он сказал: «Маленький братец, когда ты вырастешь, я возьму тебя с собой на львиную охоту».
– Как долго я мечтал об этом, – сказал Аменхотеп, и, как всегда, только ломающийся голос выдавал его душевное волнение. – Каждое утро я просыпался с трепетом и, еще не открывая глаз, думал: «Сегодня он придет. Сегодня я поеду на его колеснице. Я увижу пустыню и увижу настоящего льва». Но он так и не пришел.
– Он был не склонен к размышлениям, – мягко возразила Тейе. – Он знал, что ты узник, и понимал, что это нелепость, он просто сказал первое, что пришло в голову, потому, что ему было неловко.
– А потом он умер. – Аменхотеп встал со стула и покачнулся: выпитое вино быстро ударило ему в голову. – Это моя судьба – жить вопреки всему, чтобы стать фараоном. Я так же неистребим, как и ты.
– У тебя прекрасная дочь, любимая жена, и Египет ждет, чтобы почтить тебя, – напомнила ему Тейе, смущенная и потрясенная его словами. – Прошлое забальзамировано, сын мой.
– Да…
Он вдруг уронил голову на грудь. Потом, стараясь сохранить равновесие, ухватился за край стола, коротко кивнул и нетвердо зашагал к выходу, по-женски покачивая рыхлыми бедрами. Слуги бросились открывать перед ним двери. В темноте за его спиной вестник скомандовал свите, и телохранитель из Она поспешил за своим господином.
Жалость и презрение наполнили сердце Тейе, на несколько мгновений вытеснив из него щемящее материнское чувство, которое она всегда питала к нему. Будто блаженный нищий, – думала она, в сопровождении эскорта направляясь в покои супруга. – Зачем сейчас вспоминать Тутмоса? Я сохранила Аменхотепу жизнь, но он не испытывает ни капли благодарности. Недавний пленник гарема, он мечтает о торжестве своего возрождения, подобного возрождению самого Ра, когда он станет сильным и могущественным, как Тутмос. Пока она шла по освещенной факелами галерее, где раздавалось торопливое шлепанье босых ног слуг и праздный смех придворных, любящих ночные развлечения, ее раздражение улеглось, остались только любовь и смущение, как горький осадок терпкого вина на языке.
Массивные двери медленно закрылись за ней, и она вошла в покои фараона, освещенные желтым светом ламп. Посреди комнаты на корточках сидел блестящий от масла голый мальчишка, увлеченный игрой в собаку и шакала с маленькой сирийской танцовщицей со свежими цветами лотоса в волосах. Остальные танцовщицы лежали вокруг, растянувшись, или сидели неподалеку, сблизив головы, болтая и посмеиваясь. У потухшей жаровни стояли музыканты, звон кимвалов и лютней то и дело вплывал в тихий гул разговора. У изножия ложа негромко совещались трое врачевателей, не обращая внимания на шум. Атмосфера оживления, царившая в опочивальне фараона, воодушевила Тейе. Ему лучше, – подумала она, но, когда подошла к ложу и увидела его, от ее оптимизма не осталось и следа. Аменхотеп лежал на спине, хрипло дыша. Кожа, серая и прозрачная, туго натянулась на щеках, обычно отвислых и дряблых, и Тейе почудилось, что сквозь нее просвечивает череп. Рот слегка приоткрылся, обнажив редкие черные зубы. Она наклонилась поцеловать его, и в нос ударил слабый сладковатый аромат, от которого у нее заледенела кровь. Ей не часто приходилось чувствовать его, но Тейе тотчас узнала этот запах – это был аромат смерти.
– Аменхотеп? – прошептала она.
Он открыл один глаз и попытался улыбнуться.
– Я знаю, – с трудом произнес он, дыхание со свистом вырывалось изо рта. – Наш грядущий бог сделался отцом. По крайней мере, кое-кто сделался отцом. – Зрачок у него был расширенный, невидящий, и Тейе поняла, что ему дали много обезболивающего.
– Это девочка, – сказала она, наклонившись ближе к его уху. – Нефертити чувствует себя хорошо.
– Нефертити превосходно выполнила свой долг. Евнух доволен?
Тейе коротко рассмеялась.
– Ты ужасен, Могучий Бык, – прошептала она у самого его виска. – Я очень люблю тебя. Рада видеть, что могу не тратить понапрасну свое сочувствие, ты не нуждаешься в нем. Думаю, твой сын доволен. Он пошел в свои покои, чтобы напиться.
– Счастливчик Аменхотеп. Вели им повернуть меня на бок, Тейе, я хочу видеть тебя.
Она сделала знак слугам, те подбежали и уложили его поудобнее, примяв у лица подушки. Теперь фараон открыл оба глаза, и, несмотря на то, что от действия лекарства глаза казались стеклянными, Тейе, как всегда, оказалась во власти пристального взгляда, в глубине которого все еще неизменно горел огонь жизни.
– Зачем тебе вся эта суета? – спросила она. – Тебе надо поспать. Отошли их.
– Нет. Они – все, чем я жил. Я пью мерзкие снадобья врачевателей, и боль стихает, тогда я любуюсь телами, которые извиваются и кружатся рядом со мной, слышу музыку, и перед глазами встают видения – красное вино, льющееся в драгоценные кубки, голубые глаза, вспыхивающие нетленной страстью… – Речь его стала бессвязной, потом он затих.
Тейе не взяла его за руку, не стала утешать и успокаивать. Она знала, что он бы не захотел этого. Она просто сидела среди этой какофонии звуков, напоминающих о празднествах в пиршественной зале, и глядела в его глаза, пока не поняла, что он больше не видит ее. Тогда она поднялась и жестом подозвала врачевателей.
– Как вы находите его состояние?
Один из врачевателей, очевидно уполномоченный выражать общее мнение, поднял брови и пожал плечами.
– Лихорадка измучила его. Десны покрыты нарывами. Вчера он потерял еще два зуба. Пять лет, царица, я говорю тебе одно и то же: у него нечеловеческая воля к жизни.
– Конечно нечеловеческая! – раздраженно бросила она. – Ты говоришь о самом Амоне. Дай ему все, что он хочет, и продолжай докладывать мне.
Она с облегчением покинула опочивальню. Как только двери за ней закрылись, оживленный гул сменился задумчивой тишиной коридора. Вконец обессиленная, она направилась к себе, сознавая, что несет аромат смерти в складках своего платья, прилипший, будто пыльца какого-то отвратительного цветка.
Новость о том, что состояние фараона ухудшается, разнеслась быстро, и на Малкатту опустилась тишина ожидания. Иноземные посланники не вручали верительных грамот. Управители с охапками свитков стояли в коридорах у дверей своих кабинетов, будто не желая входить. В садах слонялись притихшие придворные, время от времени поворачивая головы в сторону опочивальни фараона, будто прислушиваясь к прерывистым звукам мучительного умирания. Тейе, одурманенная бессонницей, с опухшими глазами, иногда выходила из своих покоев в относительную тишину сада, собираясь с силами для долгих ночных часов, чтобы лежать и слушать, как слушала вся Малкатта, жуткие пронзительные крики и смех, зловеще доносившиеся из окон. Однажды она приказала играть своим музыкантам, но при первых же звуках с омерзением отвернулась, чувствуя, что отвратительная музыка делает ее соучастницей предсмертной оргии фараона. В конце концов, она оставила надежду уснуть и сидела неподвижно рядом со своим ложем, слушая чтение писца.
Но вызов все-таки пришел, и Тейе знала, что на этот раз это последний вызов. Ее единственным чувством было облегчение. Долгие годы двор пребывал в постоянном напряжении, каждую минуту ожидая страшного известия из покоев фараона. Управители привыкли общаться с фараоном через Тейе. Уже много месяцев его место пустовало во время пиршеств. Когда он внезапно появлялся среди придворных, это вызывало изумление и даже обиду. Очень немногие еще помнили время, когда голос Аменхотепа звучал повсюду, когда вся Малкатта ощущала его физическое присутствие. Слишком долго он был ее воздухом, ее незримым богом. Его смерть повлечет за собой не только горе, – думала Тейе, посылая вестника разбудить сына, – она повлечет за собой неверие. Она торопливо прошла по коридорам забывшегося тяжелым сном темного дворца. Когда двери царских покоев распахнулись перед ней, шум, доносившийся оттуда, сменился громкими криками. Тейе на мгновение остановилась, потом повернулась к личной страже фараона.
– Выгоните их всех.
Поджав губы, она ждала, пока солдаты вытолкают потрясенных людей. Музыка смолкла, и музыканты, торопливо поклонившись, исчезли в тот же миг. Танцовщицы и прислужники с дикими глазами и лоснящимися от пота телами последовали за ними. Толпа, спотыкаясь, неслась мимо, некоторые падали пред ней на колени, узнавая, другие пятились, пока, наконец, солдаты не выставили их всех в коридор.
Тейе огляделась в наступившем безмолвии. Пол был заставлен пустыми кувшинами из-под вина, повсюду были разбросаны порванные гирлянды цветов, побрякушки танцовщиц, кто-то оставил на полу желтый плащ, рядом валялась разбитая баночка, оттуда медленно вытекала густая черная краска, расплываясь на пыльных синих плитах. Из угла одним гибким движением поднялся мальчишка и осторожно подошел к ней, крепко сжимая в руке что-то блестящее. Он распростерся ниц перед Тейе. Она молча кивнула солдату, и тот приказал мальчику подняться.
– Покажи, – коротко приказала Тейе.
Мальчик поднял на нее холодные, дерзкие глаза.
– Это он мне дал. – Маленькая ладошка раскрылась, и на ней сверкнуло золотое кольцо, увенчанное царским картушем и украшенное бирюзой.
Солдат проворно схватил кольцо. Мальчишка зло уставился на него.
– Это он мне дал!
В коридоре послышались быстрые шаги, вошел Эйе, за ним следом Хоремхеб. Тейе кивком ответила на их поклоны и повернулась к Хоремхебу.
– Забери этого мальчишку. Отправь его на корабле в Дельту, пусть немедленно примет присягу в одном из твоих пограничных дозоров. И пусть его начальник проследит, чтобы он не сбежал.
– Если он попытается это сделать, ему тотчас отрубят руки и ноги, а затем он будет обезглавлен, – сурово сказал Хоремхеб.
Мальчишка завизжал и, непристойно ругаясь, кинулся на него, пытаясь выцарапать глаза своими длинными ногтями, и брыкаясь босыми ногами. Тут вмешался солдат из личной стражи фараона; он оглушил бунтовщика ударом в висок, сгреб его и исчез в полутьме за дверью.
– Оставь нас и ты, Хоремхеб, – тихо приказала Тейе.
Ее била дрожь.
Хоремхеб поклонился и немедленно вышел.
Только теперь Тейе смогла собрать свое мужество, чтобы посмотреть вглубь комнаты, сквозь зловещие безмолвные тени, на массивное ложе, рядом с которым горела каменная лампа. За ложем сутуло и покорно стояли врачеватели. Вместе с Эйе она медленно пошла к ложу. Когда они остановились перед фараоном, дверь снова отворилась, и в нее проскользнули Аменхотеп и Ситамон. Они подошли к изножию постели, Тейе даже не взглянула на них. Ее глаза были прикованы к мужу, который метался в бреду.
– Ну что? – обратилась она к врачевателям.
– Мы сделали все возможное, – сказал один из них монотонным голосом вконец измученного человека. – Он отказался от заклинаний.
– Очень хорошо. Вы свободны.
Они не стали задерживаться, чтобы собрать свои травы, амулеты, притирания, разбросанные по столу, а ушли так быстро, как только позволяли приличия. Но Тейе не могла осуждать их. Она понимала, что на протяжении последних недель их работа в опочивальне фараона превратилась в кошмар, которого они никогда не забудут. Положив руку на взмокший лоб мужа, она прошептала его имя, но, даже будучи без сознания, он почувствовал боль от прикосновения и дернулся, отстраняясь. Все его лицо распухло, у рта засохла пена, из закрытых глаз сочились желтоватые слезы, залепляя ресницы. Тейе убрала руку.
Долгое время они четверо оставались недвижны в могильной тишине комнаты. Тейе с отчаянием осознала, что фараон умирает так же, как и жил, – гордо, надменно отвергая все, что неподвластно его влиянию, и презирая тех, кто предлагал ему свою помощь. Он так и не пришел в сознание. Его метания становились все более судорожными, невнятное, бессвязное бормотание – слабее и глуше. Слуга беззвучно приблизился к Тейе и сказал, отводя глаза:
– Царица, верховный жрец и его прислужники ждут за дверью. Они принесли молитвы и фимиам, чтобы проводить бога.
– Пусть войдут.
Комнату медленно заполнили молчаливые люди в белых одеждах с тлеющими курильницами в руках. Раздалось тихое мелодичное пение. Птахотеп подошел к ложу, преклонил колени и поцеловал безвольную руку фараона. Хотела бы я знать, осознает ли он все это, – подумала Тейе. – Думаю, вместо этого он предпочел бы бесшабашную оргию, которую я разогнала, но, надеюсь, он понимает, почему я так сделала. Ты бог, Аменхотеп, и всегда будешь богом. Она украдкой бросила взгляд на сына, но не смогла прочесть ничего на его лице. В мерцающем свете его подбородок выглядел еще длиннее и уже, чем обычно, нос казался острее, а полные губы еще толще. Глаза Ситамон перебегали с тела отца на толпу жрецов, и Тейе почудилось, что она уловила нетерпение в движениях длинных переплетенных пальцев дочери.
Комната постепенно наполнилась сладковатым дымом, затрудняющим дыхание и заползающим клочьями в каждый угол, вытесняя застарелый запах прокисшего вина, благовоний и пота. Сквозь ставни пробился бледный рассвет. Где-то вдалеке, за лужайками и цветниками загрохотали тамбурины, послышался тихий мотив чьей-то утренней песни – это служанка шла в кухню или в гарем, начиная свой новый день.
В этот момент Тейе внезапно осознала, что перед ней лежит тело. Фараон ушел, но его колдовское очарование было так сильно, что долгие минуты она просто молчала и не шевелилась, все еще надеясь, что его глаза откроются, и он будет искать ее взгляда…
– Да будут тверды подошвы твоих ног, Осирис, – наконец прошептала она. – Да живет имя твое вечно. Поднимите занавеси, откройте ставни, – приказала она слугам. – Светает.
Слуги бросились выполнять приказание, а Ситамон упала на колени. Тейе подумала, что девушка хочет выразить хоть некоторую скорбь и почтение пред телом отца, но она распростерлась ниц перед братом, лихорадочно прижавшись губами к его стопам.
Свет становился все ярче, Ра настойчиво боролся за свое рождение. Без паузы жрецы начали хвалебный гимн, которого фараон не желал слышать много лет, их взоры теперь обратились к молодому человеку, смотревшему в окно. Ситамон поднялась и пошла к дверям. Один за другим жрецы преклоняли колени, выказывая почтение своему новому правителю, и когда гимн закончился, они тоже ушли. Эйе преклонил колени, быстро поцеловал ноги нового божества, и Тейе последовала его примеру, едва осознавая, что делает. Аменхотеп не замечал их, он смотрел в сад, где уже рассвело и розовый свет начал медленно белеть.
– Воистину как чудно завершает Ра свое последнее перерождение.
– Императрица, я немедленно вышлю вестников, – сказал Эйе, – и, если хочешь, дам указания писцу из палаты внешних сношений подготовить официальные послания в те царства, с которыми мы имеем отношения. Твоего присутствия для этого не требуется.
Тейе кивнула.
– Пошли за жрецами-сем, пусть унесут его, – сказала она, – и пусть слуги соберут его вещи. – Эйе взял ее за руку, но она мягко отстранилась. – Я пойду к Тиа-ха, – сказала она. – Я не горюю, Эйе, еще нет. Просто не могу поверить, что бог, чье ка так долго заполняло собой целую империю, ушел. Я скажу Херуфу.
Дверь мягко щелкнула. Вздрогнув, они с Эйе повернули головы. Аменхотеп вышел.
Когда Тейе вошла в покои своей подруги, траурный плач по ушедшему богу уже разносился по всему гарему. Женщины собирались в саду, разрывая на себе платье и посыпая голову горстями земли. Тиа-ха, еще закутанная в свободную ночную сорочку, поднялась из-за туалетного столика, и, увидев такой знакомый, привычный беспорядок в комнате, Тейе расслабилась. Ее начала бить дрожь. Не дав Тиа-ха опуститься на колени, Тейе взяла ее за руки, притянула к себе, и они обнялись.
– Принеси теплого вина, быстро, – крикнула она рабыне. – Императрица, садись на мое ложе. Ты озябла!
Она набросила на плечи Тейе шерстяной плащ и сунула чашу с подогретым вином в ее ослабевшие руки. Тейе с благодарностью выпила.
– Какой это удар, Тиа-ха, – сказала она, когда вино достигло желудка и тепло приятно разлилось по телу. – Мы так долго этого ожидали. Нам следовало лучше к этому подготовиться.
– Как можно быть готовым к смерти такого Гора, как он? Поплачь, если хочешь, царица. Мои покои – хорошее и тихое место. Ты только послушай! Женщины гарема так не голосили с тех пор, как царевна Хенут напала на вавилонянку. Аменхотеп плывет к священной ладье на волнах приятной скорби.
Тейе печально улыбнулась.
– Он бы рассмеялся, услышав это. Нет, Тиа-ха, я не буду плакать. Кажется, я забыла, как это делается. Фараон не любил слез. Он считал их проявлением слабости.
– Может быть, для царицы. У тебя теперь будет полно хлопот с организацией нового управления для сына и с устройством иноземцев, которые приедут на похороны. – Она замолчала и сидела, обхватив свою чашу обеими руками.
– Ты исполняла свои обязанности царской жены, выказывая огромную преданность, – сказала Тейе, глядя на поникшую, растрепанную голову подруги. – Хочешь, я поговорю с сыном, чтобы он отпустил тебя из гарема, Тиа-ха? Ты сможешь удалиться в свои владения в Дельту. Судьба других женщин мне безразлична, но ты была моей любимой подругой.
– Удалиться? – Яркие глаза Тиа-ха сверкнули. – О, кипучие наслаждения Дельты! Сады, аромат виноградников, похотливые молодые рабы с такими волнующими мускулами, давящие виноград. Это было бы интересно. Но, думаю, нет. Я хотела бы быть свободной, чтобы бывать не только на фиванских рынках, но моя жизнь прошла здесь, и мне будет недоставать сплетен, стычек, дуновения власти, доносящегося сквозь эти двери. Благодарю тебя, богиня, но нет.
Тейе кивнула, расслабившись при звуках мелодичного голоса Тиа-ха, и на нее навалилась здоровая усталость. Но она не почувствовала вины, когда распознала облегчение, высвободившееся из-под скорби и напряжения. Египет готовился к этому дню долгое время.
– Думаю, теперь я смогу уснуть, – сказала она. – Как хорошо, что я пришла к тебе, Тиа-ха.
Тейе поднялась, на этот раз подождав, пока Тиа-ха исполнит ритуал почитания, и покинула гарем. Медленно проходя к своим покоям, она не отвечала на громкие выражения соболезнования, доносившиеся со всех сторон. Мы с тобой многое успели сделать, – думала она, бросаясь на ложе и погружаясь в долгожданный сон. – Жизнь была прекрасна.
Книга вторая
7
В течение семидесяти дней траура по фараону Аменхотепу Третьему, пока над бальзамированием его тела трудились жрецы-сем, а великолепную гробницу готовили к погребению, Малкатта полнилась иноземными сановниками, съезжавшимися со всех уголков империи; они выражали соболезнования императрице Тейе и заверяли ее сына в вечной братской дружбе. Аменхотеп торжественно сидел на троне, но царские регалии оставались в руках хранителя, стоявшего на ступенях помоста, потому что новый фараон до коронации не имел права носить их. Он милостиво выслушивал льстивые слова и вежливо отвечал на них, однако мысли его, казалось, были где-то далеко. Покидая залу приемов, он отправлялся в детскую, где склонялся над кроваткой маленькой Мериатон, или сидел у озера вместе с женой, говорил редко, все больше слушал, как писец читает вслух древние тексты. Тейе ждала, что он теперь отправит жрецов домой, успокоит людей Амона и нанесет визит своим управителям, но он ничего не делал. Тейе пыталась найти этому объяснение, она решила, что, продолжая вести себя как царевич, он даже теперь испытывал страх потерять царский сан и пытался защититься своим бездействием.
А Нефертити не испытывала такого страха. Она велела доставить ей диадему, увенчанную коброй, и до заката солнца все разглядывала ее. Хранитель диадемы все время молча стоял рядом, опасаясь, как бы она ненароком не надела ее на голову до времени, нарушив тем самым закон. Но примерить диадему Нефертити не осмелилась. Девушка проводила много времени, наблюдая, как продвигается строительство дворца, начатое по велению Аменхотепа за комплексом сооружений Карнака, и архитекторы и мастера трепетали при ее появлении, потому что она всегда была чем-нибудь недовольна. К супругу она проявляла, как всегда, безграничную любовь и заботу, но окружающим ее показная любовь казалась неестественной и чрезмерной.
За несколько недель до погребения, когда ритуальные дроги с телом Аменхотепа должны были двинуться к его гробнице, Ситамон отправилась к новому фараону. В синем траурном одеянии, она грациозно шла через лужайку, под ласковым ветерком прозрачная ткань развевалась и приятно облегала тело. Уровень реки уже достиг своего верхнего предела и теперь снижался, голая земля уже покрылась тонкими зелеными стрелками молодых всходов. Воздух был пропитан ожиданием перемен, двор почти ликовал, предвкушая новые интриги, раздачу новых должностей, новое лицо под сенью двойной короны. Ситамон тщательно подобрала платье и надела ожерелье в четыре нити ярко раскрашенных и позолоченных глиняных колечек. Ее парик был украшен васильками из бирюзы и ляпис-лазури, а на смуглом лбу поблескивала яшма. Ленты, стягивающие узкое синее платье под накрашенной грудью, развеваясь, свисали до самых золотых сандалий, а с плеч складками спадала короткая накидка с красной каймой. Когда она приветствовала брата, подняв к небу раскрытые ладони и склонив голову, на запястьях зазвенели браслеты и вспыхнули кольца на пальцах. За ней, подобно вихрю ярких лепестков, двигалась ее нарядная свита.
Когда она выпрямилась, Аменхотеп улыбнулся.
– Траур тебе к лицу, Ситамон. Он соперничает с синевой твоих глаз.
– Мой фараон, мой дорогой брат, – ответила она, обольстительно улыбаясь, – по закону мне следует дождаться коронации, чтобы вручить тебе свой подарок, но я бы хотела, чтобы ты получил его без суеты, чтобы я могла одна насладиться твоей радостью. Ты не прогуляешься со мной до канала? – Не дожидаясь ответа, она взяла его под руку, и они направились на внешний двор. – Храм Атона не скоро будет готов к освящению, – продолжала она, – и храм царевны тоже растет довольно медленно. Не разжигает ли такая отсрочка твое нетерпение? – Он ласково улыбался ей, с живостью отвечая на вопросы, чувствуя, как ее другая рука легла поверх его собственной. – И царевна Мериатон здорова, как я слышала, – продолжала Ситамон, когда они ступили на ослепительно белые плиты причала.
Завидев их, толпившиеся на пристани люди упали перед ними ниц.
– Да, она здорова. И она уже сейчас очень красивая. Думаю, у нее будут глаза, как у Нефертити.
Они подошли к краю канала, отделявшего дворец от реки, и под сенью сикомор и финиковых пальм неспешно направились вдоль берега. Там, где ступени причала скрывала вода, легко покачивалась маленькая ладья, ее сине-белый узорный парус был аккуратно свернут на мачте. Ладья была сделана из кедра, Аменхотеп уловил аромат этого экзотического дерева. Борта, инкрустированные золотом, тускло поблескивали в тени деревьев. Огромное лучистое солнце, покрытое слоем серебра, сияло на носу, а с кормы на них бесстрастно взирало серебряное Око Гора. В центральной части палубы возвышалась кабина, занавешенная вавилонской парчой, нубийской кожей и азиатским шелком, все было выполнено в цветах царского дома – синем и белом. На палубе были расставлены небольшие раскладные кресла из кедра, инкрустированного слоновой костью. Свернутый сейчас золотистый балдахин висел на передней стенке каюты. Рабы в юбках и сине-белых шлемах стояли на палубе вдоль бортов, и, когда Аменхотеп шагнул вперед, они опустились на колени.
Ситамон взмахнула рукой.
– Это мой подарок тебе, Гор. Я хотела, чтобы Атон украсил его. Прими его с моим смиренным почтением и любовью.
Среди слуг пронесся гул восхищения. Аменхотеп остановил на сестре серьезный взгляд.
– Принимаю с изумлением, – сказал он. – Достойная работа. Великолепный подарок. Управляющий твоими поместьями, должно быть, вспотел от ужаса.
Все послушно рассмеялись его неловкой шутке, Ситамон улыбнулась, глядя ему в глаза.
– Я богаче любой из женщин, за исключением нашей матери, – холодно ответила она. – Поэтому могу себе позволить дарить щедрые подарки. Команда ладьи и рабы тоже твои.
Аменхотеп повернулся и тепло обнял ее.
– Поедем кататься, прямо сейчас, – сказал он. – Сегодня чудесный день.
Повинуясь его знаку, рабы засуетились, отбрасывая сходни и поднимая парус. Фараон направился к кабине, Ситамон последовала за ним. Слуги вскарабкались на борт, расселись по всей палубе.
– До излучины, – приказал Аменхотеп, и маленькое суденышко, отделившись от причала, заскользило по каналу. Аменхотеп откинулся на подушки. – Нет ничего приятнее, чем провести день на реке, – мечтательно произнес он. – Если посмотришь внимательно, Ситамон, то увидишь птичьи гнезда, спрятанные среди пальмовых ветвей. Я люблю проплывать мимо стай цапель и ибисов: какая ослепительная белизна, какие тонкие, изящные ноги! Воистину жизнь удивительна!
Ситамон прилегла рядом с ним, от теплого ветра ее синее платье как бы невзначай приподнялось, обнажая ноги.
– Посмотри, Аменхотеп, – сказала она, указывая на берег, – там крокодил. – Они смотрели, как животное бесшумно скользит к воде. – Они любят караулить в реке вблизи Фив. Иногда ведь трупы попадают в Нил. Как ужасно умереть вот так, без бальзамирования, не обретя места в мире ином.
– Судьба тела не так важна, – мягко возразил Аменхотеп. – Мы рождаемся по воле Атона, и по воле Атона наши ка живут дольше.
– О нет, – подумала Ситамон. – Если мне придется выслушивать очередную речь о могуществе солнца, я усну.
Но фараон не стал продолжать, и когда Ситамон взглянула на него, то увидела, что он пристально смотрит на нее.
– Что ты будешь делать теперь, когда твой царственный муж умер? – быстро проговорил он высоким голосом, взгляд его похожих на коровьи, с поволокой, глаз затуманился и слишком недвусмысленно заскользил по телу Ситамон.
Она, будто невзначай, принялась поигрывать колечками ожерелья на своей груди.
– А что я могу сделать, Гор? Я принадлежу гарему. Я вдова. Но даже если бы я могла удалиться, я бы не сделала этого. Потому что желаю служить тебе так же преданно, как служила Осирису Аменхотепу. Я была царевной, была супругой наследника Тутмоса, была царицей. Если мой долгий опыт жизни при дворе может стать полезным тебе, ты волен распоряжаться мной, как сочтешь нужным.
Он глубокомысленно кивнул.
– Ты была добра ко мне, Ситамон. Твои советы в вопросах управления могут быть полезны, если, конечно, матушка не сможет дать их сама. Пусть опустят полог, и давай обсудим это.
Ситамон отдала короткий приказ, и слуга поспешил развязать шнуры тяжелого полога. Когда в каюте воцарился мягкий полумрак, Ситамон показалось, что глаза брата лихорадочно заблестели. Его слабые, непропорционально длинные руки беспокойно задвигались, он стал потирать ладони, оглаживать свой рыхлый живот, потом медленно потянул наверх подол своей длинной, до щиколоток, юбки.
– В этом полумраке ты кажешься женщиной без возраста, – проговорил он ломающимся голосом. – Я подумываю сделать тебя великой царской женой. Такая красота не должна пропасть зря.
Ее чувства вдруг обострились, она ощутила его руки на своем теле, когда он развязал ленты ее платья и нежно провел рукой по груди. Он стянул с нее парик, и собственные волосы обрушились ей на плечи. Казалось, от этого зрелища он возбудился еще сильнее и впился толстыми, вырезанными сердечком губами в ее губы. Некоторое время ее тело сопротивлялось, ее неосознанно отталкивала совершенно безобразная внешность брата, но Ситамон закрыла глаза, призывая на помощь все свое мужество и умение, отточенное в постели его отца, и нашла задачу более приятной, чем это представлялось вначале.
Когда все закончилось, он осторожно водрузил парик ей на голову и приказал поднять полог. На палубе слуги все так же смеялись и болтали, волны плескались о золотые борта ладьи. Аменхотеп внимательно разглядывал сестру.
– Мне понравилось, – сказал он. – Ты больше понимаешь в любви, чем Нефертити. Может быть, ты смогла бы обучить ее.
Ситамон не поверила своим ушам, она старалась сохранять на лице бесстрастное выражение, не зная, пошутил ли он или просто позволил себе злобный выпад в адрес жены. Она догадалась, что ни то, ни другое не было правдой, и что он просто высказал свои мысли вслух. Поэтому, завязав ленты на платье и хлопнув в ладоши, чтобы ей принесли питья смочить пересохшие губы, Ситамон решила, что он опасен.
Новость о подарке Ситамон брату, об их приятной речной прогулке и о том, что во время прогулки они уединялись за спущенным пологом, жадно передавалась из уст в уста, она облетела всю Малкатту – за семьдесят дней траура по ушедшему фараону двор истосковался по привычному образу жизни. Нефертити два дня размышляла об этих слухах, а на третью ночь встретилась с мужем в опочивальне лицом к лицу. Было холодно, в противоположных концах огромной комнаты дымились две жаровни. Дверцы золотого жертвенника Атона стояли открытыми, и в нем еще теплился ладан, который он воскурял, творя молитвы. Сам фараон сидел на ложе, подтянув колени к подбородку и свободно обхватив их руками, полностью погруженный в транс, как часто бывало после его ежедневных бесед с богом. Голова его была непокрыта, и Нефертити, торопливо подходя к нему, в который раз поразилась ее странной форме. Она уже так привыкла к нему, что не чувствовала отвращения; наоборот, царица обнаружила, что чем чаще видит своего мужа, тем сильнее ее влечет к нему. Нефертити не стала понимать его лучше, чем раньше, когда был подписан их брачный договор, просто теперь она чувствовала необходимость защищать его странную наивность. Подойдя к мужу, она подняла его безвольную руку и нежно поцеловала. Он поднял голову, часто моргая, и спустил ноги с кровати.
– Ты выглядишь усталым, Гор, – сказала она.
Он кивнул:
– Я не люблю темное время суток, Нефертити. Я чувствую себя в безопасности только под жаркими лучами Ра, когда его свет высвечивает все, что скрыто. Ночью, если не удается уснуть, я всегда слышу разные голоса.
Нефертити сжала кулаки под ночной сорочкой.
– А под покровом занавеса роскошной ладьи, которую тебе подарила Ситамон, ты чувствовал себя в безопасности?
– Да, и даже очень. Ситамон – светлая. Она не может навредить мне.
– Фараон, твой отец мертв. Теперь никто не может навредить тебе. Но тебя могут использовать. Разве ты не видишь, что Ситамон хочет использовать тебя, чтобы стать императрицей?
Он резко вскочил и забегал по комнате. Нефертити заметила, что он ни разу не вышел за границы пространства, освещенного лампами, стоящими на всех столах и подставках вдоль стен.
– Ситамон имеет право стать царицей вместе с тобой, – ответил он почти угрюмо. – Я люблю тебя, Нефертити. Ты прекрасна, и ты была добра ко мне задолго до того, как матушка освободила меня из гарема. Но Ситамон мне сестра по крови, поэтому она по праву рождения может быть моей женой.
– Но фараон уже многие хенти не обязан сочетаться браком с особами чистейшей царской крови! Способ выбора наследника изменился!
– Дело не в этом. – Он поднял кефтийскую вазу зеленого стекла и с отсутствующим видом стал водить пальцем по контурам выгравированного на ней морского ежа. – Как глава избранной и священной семьи я должен обеспечить ее единство. Темнота стремится помешать этому. Мы должны взяться за руки. Мы должны сильно любить друг друга.
Он и раньше иногда говорил ей что-то подобное, но теперь она испугалась, что начинает до конца понимать значение его слов.
Она быстро спросила:
– И поэтому ты предавался любви с Ситамон за спущенным пологом ее ладьи?
– Моей ладьи, Нефертити. – Он нахмурился, поставил вазу и, заложив руки за спину, подошел к ложу; короткая ночная юбка висела под его пухлым округлым животом. – И поэтому тоже. Но еще она красивая.
– Как так получается, фараон: значит, красота Ситамон возбуждает тебя сильнее, чем моя собственная?
Она понимала, что ступила на опасную почву, но от ревности была готова разразиться слезами. Его периодически повторяющиеся приступы мужского бессилия были тайной, которую она хранила больше из гордости, чем из преданности. Нефертити много раз размышляла о его причинах, потому что, когда он приходил к ней исполненный желания, он был таким страстным любовником, о котором могла мечтать любая женщина.
Аменхотеп сел рядом и обнял ее за плечи.
– Дорогая Нефертити! Что есть плоть, если не обитель для нашего ка? Зачем тебе беспокоиться о плоти Ситамон, когда мы с тобой разделяем общность наших ка? Ты – моя жена, моя сестра, мой друг. Этого достаточно.
Этого недостаточно, если это означает, что мое будущее положение императрицы в опасности, – гневно думала Нефертити. Повернувшись к нему, она принялась целовать его, крепко обнимая за шею, но его губы оставались холодными и безответными; в конце концов, она отстранилась.
– Не бери в жены Ситамон, умоляю тебя, – прошептала она. – Если она тебе нужна, возьми ее в свой гарем.
– Но я уже принял решение, – мягко сказал он. – Она будет царицей вместе с тобой. Она – моя сестра.
Он сделал ударение на последних словах, и Нефертити вдруг увидела истинную причину его упорства, которому она пыталась противостоять.
– Твоя сестра – и жена твоего отца, – медленно произнесла она с колотящимся сердцем. – Ну, конечно же. Вот почему она возбуждает тебя. Поэтому ты и не сделал ничего, чтобы завести собственный гарем. Ты заберешь всех женщин отца, Аменхотеп?
Впервые она увидела его разгневанным.
– Не говори так! – закричал он, толстые губы оттопырились, дрожа, руки судорожно сжались. – Ты непочтительна! – С удивлением Нефертити увидела, что его глаза наполнились слезами. – Этот человек не был мне отцом! Уходи!
Он толкнул ее локтем, и она безропотно поднялась. Поклонившись, она собиралась уйти, но он глухо окликнул ее, голос его дрожал:
– Ниже, Нефертити! Кланяйся до земли! Ты знаешь, кто мой отец. Все вы знаете. Лицом – на пол!
Она повиновалась и, поднявшись, вылетела из комнаты. В ее опочивальне служанка зажигала лампы.
– Ты должна была уже закончить! – пронзительно завизжала Нефертити и, подскочив к девушке, с размаху залепила ей две пощечины. – Почему постель еще не разобрана и белье не приготовлено?
Девушка убежала, а Нефертити бросилась на ложе. Сбив покрывало, она оцепенела под бременем неистового страха перед чем-то темным и ужасным, пока еще неведомым.
В день похорон Аменхотепа рассвет выдался жемчужно-ясным и прохладным. Тейе поежилась, стоя в своей уборной, пока Пиха и служанки обряжали ее в синее, а хранитель царских регалий ждал в передней, чтобы надеть на нее короны. Сегодня я совершу жертвоприношение в память о своем муже, – решительно думала она. – Я буду с благодарностью оглядываться на прожитые годы. Она знала, что на дороге, ведущей в долину, где хоронили всех фараонов со времен Восстановителя Египта, Тутмоса Первого, уже собирается процессия. Она явственно представляла женщин из гарема, как они толпятся там, перешептываясь и поправляя одежды. Иноземные посланники, облаченные в варварские костюмы, наверное, беспокойно наблюдали за распорядителем протокола и его писцами. Управители и другие царедворцы явно коротали время, играя в кости или пожевывая сладости, поднесенные слугами.
В дверях возник Херуф, в юбке до пола траурного синего цвета, его голову покрывал льняной плат в синюю и золотую полоску.
– Пора, императрица. Все готово.
– Я не желаю ждать, пока женщины построятся согласно положению.
– Они уже построились, и царица Ситамон села в свои носилки.
Толпа затихла, когда под пилоном, отделявшим Малкатту от мертвых, появилась Тейе и направилась к своим носилкам. Несмотря на то, что ее раздражал обычай, предписывавший нести ее носилки рядом с носилками дочери, она не подала виду и, вежливо поприветствовав Ситамон, откинулась на подушки. Саркофаг с телом супруга уже стоял далеко впереди, прислоненный к скалистой стене гробницы, под охраной множества жрецов из Карнака, которые сопровождали его в ранний час, когда его везли к месту вечного упокоения на дрогах, традиционно запряженных рыжими быками. Рядом с телом стояли четыре белые алебастровые канопы[33] с крышками в форме голов сынов Гора. Были там и храмовые танцовщицы, безмолвно сидевшие под своим балдахином.
Когда солнце стало подниматься выше, по сигналу Тейе траурный кортеж тронулся в путь. В самом хвосте процессии, позади членов царской семьи и военачальников, заголосили женщины гарема, они принялись горстями черпать землю из корзинок, принесенных с собой, и посыпать ею свои блестящие парики. За ними шли кухонные рабы и распорядители трапезы, которая устраивалась по завершении церемонии похорон; они обычно оставались у входа в гробницу, тогда как все участники церемонии заходили внутрь.
Слева от Тейе угрожающе нависал храм сына Хапу, огромная гранитная статуя ее старинного врага смотрела поверх ее головы невозмутимо и, как показалось Тейе, самодовольно. В этот день его оставили без внимания, потому что жрецы храма тоже присоединились к процессии. Она отвела глаза и ненадолго позабавилась мыслью о том, как было бы хорошо разрушить храм до основания. Можно было бы найти какой-нибудь предлог, например, что камень понадобился для других целей. Она сама бы разбила статуе нос, чтобы Хапу не мог больше слышать запахи, и выколола бы глаза, чтобы он ослеп. Но она быстро оставила эту мысль, потому что простой люд уже привык собираться у храма, они несли цветы, хлеб, дешевые синие бусы, они приводили к храму своих слепых детей в надежде исцелить их. Какая насмешка, подумала она: незрячий провидец исцеляет слепых.
Справа медленно приближался величественный храм ее супруга, его колонны возвышались на фоне синего неба, а за ним, глубоко врезаясь в узкую полоску плодородной земли, которую каждый год заливало водой во время разлива, стояли два стража, которых выстроил сам сын Хапу. Каждый из них изображал Аменхотепа и более чем в десять раз превышал человеческий рост. Оба с сознанием собственного могущества смотрели на ту сторону Нила, на бурлящие Фивы и Карнак. Для создания скульптур сын Хапу выбрал малиновый кварцит, отвечая тем, кто осмеливался спросить его, зачем это он занимается строительными делами, загадочной усмешкой. Когда монументы были возведены и освящены, причина прояснилась, потому что эти статуи пели на рассвете, издавая мелодичный и чистый звон. Никто не знал, какую магию использовал сын Хапу, чтобы вдохнуть жизнь в каменные изваяния, но даже у Тейе они вызывали благоговейный трепет. Ее собственные каменщики и строители не могли дать достойного ответа на ее раздраженные расспросы. Придворные, которым пришлось в этот день встать с постелей раньше самого Ра, стояли на траве у подножия статуй, слушая волшебные звуки.
Покачивались носилки. Сквозь причитания плакальщиц стали слышны разговоры. Ситамон ела айву, отставляя руку с плодом подальше от безупречно чистого платья, чтобы не закапать его соком. Тейе отпустила свои мысли парить в вышине, пока процессия не остановилась передохнуть. Когда после привала балдахины свернули, те несчастные, которым предписывалось идти пешком, обливались потом, потому что Ра уже приближался к зениту.
Тейе снова взглянула налево, где широкая аллея сфинксов вела к прекрасному погребальному храму, чьи белые террасы изящно восходили к трем алтарям, вырубленным в скале. Храм был построен Тутмосом Третьим, который возвел также и другую, меньшую его копию, лишенную этой изумительной гармонии. Немногие почитатели уже ходили по этой аллее, и роща мирровых деревьев, доставленных из каких-то недостижимых мест, часто оставалась без должного присмотра. Поговаривали, что вовсе не Осирис Тутмос выстроил храм, его воздвигла женщина-фараон в самом конце своего правления, которое завершилось как-то странно, но Тейе не верила в эту легенду.
Процессия свернула направо, в тень скал, и снова выплыла на слепящий солнечный свет. Жрецы уже ждали. Дым ладана спиралью завивался в прозрачном воздухе. Разукрашенный гроб стоял наготове. Тейе сошла с носилок и вместе с Ситамон и Аменхотепом приблизилась к нему. Церемония началась. В течение нескольких дней придворные ютились в палатках, раскинутых в местах, где была хоть малейшая тень, – кому как повезло, и разными способами коротали время. Одни отправлялись поохотиться в пустыню. Другие диктовали письма, потягивая иноземные вина, или предавались любви, пока жрецы Амона распевали свои заклинания. Все встрепенулись только тогда, когда пришло время обряда отверзания уст,[34] потому что все придворные знали о неприязни нового фараона к своему отцу. Наиболее суеверные из них ожидали каких-нибудь изъявлений недовольства со стороны умершего бога, когда, с учтивым безразличием выполняя обряд, наследник приблизился к отцу с ножом в руке. Волна сочувствия донеслась до Тейе, которая открывала гроб, – ей надлежало первой поцеловать перебинтованные ноги усопшего. Остальные жены фараона последовали ее примеру, орошая слезами тщательную работу жрецов-сем, но Аменхотеп так и остался стоять под балдахином, скрестив руки на впалой груди и безучастно разглядывая окружающие скалы.
К всеобщему облегчению, гроб, наконец, внесли в сырую погребальную залу, где темнота поглотила его. Тейе и Ситамон последовали за ним с цветами в руках. Гроб заключили в пять саркофагов. Вбили золотые гвозди, возложили цветы. Повсюду в свете факелов блестела погребальная утварь фараона – серебро и золото, драгоценные украшения и дорогое дерево.
Наступил вечер, сине-лиловый, началась поминальная трапеза по фараону, на синих скатертях, расстеленных прямо на земле. Разбросали подушки, зажгли факелы, и, пока стражи мертвого опечатывали[35] гробницу и вдавливали во влажную глину изображения шакала и девяти пленников,[36] остальные набросились на еду и питье.
Погребальная трапеза продолжалась всю ночь, пока вся долина не огласилась криками пьяных гостей, многократно подхваченными эхом, и рассвет не высветил следы затянувшегося застолья – кости, хлебные крошки, недоеденные фрукты, разбитые горшки, тела пьяных. Тейе немного поела и выпила и удалилась в свою палатку, где лежала без сна, слушая весь этот гам. Перед самым рассветом она приказала подать носилки и с облегчением вернулась в Малкатту, направившись прямо в палату внешних сношений. Государственные дела должны идти своим чередом, и до коронации сына ее обязанностью было держать в руках бразды правления. Она не могла предсказать его будущий курс, потому что сын проявлял слабый интерес к государственным делам. Возможно, – размышляла она, – ему будет довольно одного сознания того, что он носит корону, и я еще смогу быть ему полезной. Нефертити и Ситамон, эти два неоперившихся сфинкса, – вот кто будет настаивать на его активном участии в делах правления. А мне останется довольствоваться каждым отпущенным днем.
Месяц спустя Тейе выполнила свой собственный обряд почитания умершего мужа. В Карнаке она в его честь расставила на столе священные яства и стояла босиком, с вином и мясом в руках, пока Птахотеп проливал очистительную воду на огромную каменную плиту. Зажегся огонь. К горлу подступил ком, взор ее затуманился, Тейе смотрела, как мясо пожирало священное пламя. На боковинах стола были вырезаны ее картуши – знаки монарха, все еще правящего, и слова, которые она выбрала, чтобы открыто почтить память Аменхотепа: «Великая царская супруга. В память о возлюбленном супруге, Нембаатра».
– Да пребудет в мире твое ка, Осирис Нембаатра, – прошептала она, и слезы, наконец, полились по ее накрашенным щекам. – Прости мне это проявление слабости, но воистину слезы не большая слабость, чем любовь, а я любила тебя.
Она повернулась к деревянной стеле, которую она также заказала в его честь, на ней они навсегда соединили свои руки в радости, молодые и прекрасные, исполненные жизненной силы, как сам Египет. Огонь потрескивал и шипел, и Птахотеп пел в честь ушедшего бога. Тейе позволила себе роскошь предаться горю, от которого она прежде оберегала свое ка. Теперь же горе поглотило ее, принеся с собой обещание полного одиночества, и она не противилась этому. Больше она никогда не плакала по супругу.
8
В конце месяца фаменос прошла коронация Аменхотепа. По традиции, прежде чем прибыть в Фивы для коронации, он сначала принял поклонение от северных богов в храме Птаха в Мемфисе. Как и его предшественники, в ожидании омовения и коронования красной и белой коронами объединенной страны Аменхотеп сидел на огромном троне, к которому восходили ступени в украшенном пилонами внутреннем дворе карнакского храма, и у подножия трона лежали лотосы юга и папирусы севера. Его узкие плечи покрывал старинный драгоценный плащ, в руках он держал крюк, цеп и скимитар. Казалось, он покорился всему этому с тем же рассеянным смирением, которое проявлял на похоронах, позволяя вести себя через церемонию, почти как ведомое на заклание животное. Он оживился единственный раз, когда глашатай зачитывал его титулы. Их было много, включая не только традиционные Могучий Бык Маат и Возвышенный Носитель двойного пера, но также титулы, которые он сам себе присвоил: Верховный жрец Возвышенного на Небосклоне Ра-Харахти во имя Шу в Его Солнечном Диске, и Великий в Его Продолжительности. По окончании церемонии хранитель царских регалий возложил увенчанную коброй диадему на голову Нефертити, но диск и перья императрицы остались в его обитом атласом сундучке.
Аменхотеп также не выказал большого интереса к преподнесенным дарам и празднованию, которое проходило на следующий день в Малкатте. Он с безразличным видом принимал драгоценные безделушки и поклонение распростершихся подданных, в то время как Нефертити и Ситамон радостно восклицали над грудой драгоценных даров, которая с приближением вечера становилась все больше. Сразу же после празднования коронации новый фараон обычно меняет управителей, новая метла выметала пыль, оставшуюся после старого правления, но, к удивлению Тейе, ни один чиновник не был уволен, и преданность молодых людей, которые поселились во дворце с ее сыном по его возвращении из Мемфиса, осталась невознагражденной. Сидя рядом с ним на помосте в зале, построенной его отцом для своего первого юбилея, она спросила его, когда праздник уже подходил к концу, почему он не произвел никаких изменений.
– Потому что мой дворец в Фивах еще не готов для вселения, а мой храм Атона не готов к тому, чтобы мои священные ноги ступили туда, и я еще не до конца понимаю, что делать, – ответил он, пытаясь перекрыть громкий гомон разговоров и треск кимвалов в руках танцовщиц. – Египет прекрасно себя чувствует в твоих руках.
Тейе поставила чашу и медленно повернулась к нему.
– Правильно ли я тебя понимаю: ты предлагаешь мне регентство?
Он рассмеялся, что само по себе было такой же редкостью, как и раскатистый хохот его отца, – хотя смех Аменхотепа казался сдавленным писком.
– Да, моя царственная матушка, до того момента, пока я не пожелаю править самостоятельно. Это ведь то, на что ты надеялась, правда?
Унизанная кольцами рука Тейе накрыла его руку, и мать и сын улыбнулись, глядя друг другу в глаза.
– Конечно, дорогой Аменхотеп, но я была готова просто удалиться от дел и помогать тебе советами, если ты будешь нуждаться в них.
– В самом деле?
Тейе никогда не видела его таким счастливым. Она поцеловала его в раскрасневшуюся щеку.
– Фараон Аменхотеп Четвертый, – сказала она с обожанием. – В конце концов, тебе было предназначено править. Мы вместе будем творить великие дела, ты и я.
Приподнятое настроение не покидало ее до тех пор, пока далеко за полночь она, наконец, не опустилась на свое ложе. Во дворце все стихло. Она лежала, наслаждаясь своей победой, пока рассвет не начал медленно просачиваться между планками оконных занавесей. Она была готова к тому, чтобы править исключительно закулисными методами, незаметно влияя на решения и тактично манипулируя людьми, но Аменхотеп сам снял эту необходимость. Я продолжаю править, – думала она. – Какая радостная новость! До сегодняшней ночи я и не представляла, насколько пугала меня перспектива уступить власть своему сыну.
Через несколько дней Аменхотеп отправился в традиционное путешествие вниз по Нилу, чтобы посетить каждое святилище и заслужить подтверждение своего царствования от каждого местного божества. Памятуя об отсутствии его интереса к другим обрядам коронации, Тейе подозревала, что он предпринял эту поездку исключительно для того, чтобы снова побывать в Оне. Он отчалил из Малкатты на ладье, подаренной Ситамон, за которой вереницей потянулись ладьи его свиты, как золотые бусины на серебряной нити. Его сопровождали Ситамон и Нефертити, и Тейе не могла не заметить, что он взял с собой малышку Тадухеппу и еще нескольких молодых жен отца. Он не теряет времени даром, присваивая женщин гарема, которые ему нравятся, – размышляла она, глядя вслед каравану судов, и удивилась, что эти мысли вызвали у нее тревогу.
В отсутствие Аменхотепа двор с удовольствием предавался привычной неге и безделью. Управителям и мелким чиновникам больше не приходилось путаться в море религиозных двусмысленностей, в страхе обидеть кого-нибудь своим явным невежеством. Тейе тоже спокойно вернулась к многолетней рутине. Поскольку Аменхотеп отказался въехать в покои фараона и предпочел остаться в крыле, которое он занимал в бытность царевичем, до тех пор пока не будет готов его прекрасный новый дворец на восточном берегу, она решила занять их сама, оставив свои прежние покои Нефертити или Ситамон – любой из девушек, которая сможет вынудить фараона отдать ей пышные покои императрицы. На своем ложе, которое она перевезла из своей прежней спальни в роскошную опочивальню мужа, она желала мужчине, которого любила, вечного продолжения земных радостей в обители богов.
Тейе также воспользовалась временным затишьем в делах двора, чтобы обратить свои взоры к делам семьи, которые она забросила в последнее время. Теперь, когда стабильное благополучие семьи и ее принадлежность к высшей знати Египта были подтверждены замужеством Нефертити, которая уже доказала свою плодовитость, Тейе решила заняться устройством будущего Мутноджимет. Девушке было уже почти семнадцать – она давно перешагнула возраст помолвки и пользовалась дурной славой при дворе из-за фривольного обращения с молодыми колесничими в Фивах. Мутноджимет удалось найти не сразу, но через несколько дней она, наконец, появилась в царской опочивальне, вольной походкой прошла по синим блестящим плитам, беспечно похлопывая по колоннам, и поклонилась с привычной прохладной невозмутимостью. Тейе велела ей подняться и сесть в приготовленное для нее кресло. Некоторое время Тейе оценивающе разглядывала девушку. Загорелая кожа головы была по-прежнему гладко выбрита, за исключением дерзкого детского локона, теперь отросшего ниже стройной талии девушки и перетянутого алой лентой. Стройные, необычно длинные ноги, талия, как всегда, туго затянутая ремнем, на котором висели крошечные золотые колокольчики. В ушах покачивались крупные, усыпанные яшмой кольца, а запястья схвачены змейками с красными яшмовыми глазами. Ее огромные миндалевидные глаза были сильно подведены сурьмой, веки покрыты темно-зеленой краской, а полные губы – семейная черта – выкрашены оранжевой хной. На ней было гофрированное узкое платье, едва доходившее до колен, грудь прикрывал небрежно наброшенный плащ.
– Без хлыста ты выглядишь голой, – сказала Тейе.
Мутноджимет улыбнулась.
– Тот болван у двери отнял его у меня, – ответила она, жеманно растягивая слова. – Тетушка, прошу прощения, что ответила на твой зов только три дня спустя. Мы с Депет ходили на вечеринку в дом Бека. Он был уполномочен внести свой вклад в строительство нового храма фараона, как ты знаешь, и на следующий день ему предстояло отбыть в каменоломни Асуана. Мы с Депет тоже решили поехать. Забрали рыбацкую ладью какого-то младшего управителя вместе с командой и почти все вино из его погребов. Но до Асуана мы не добрались.
– Я не удивлена. Ладьи частных лиц могут быть реквизированы служащими фараона только в исключительных случаях, и подразумевается, что за их использование потом будет заплачено, ты это знаешь.
– Я знаю, но все так делают. Бедняге заплатили, не бойся.
– Золотом?
Мутноджимет обворожительно улыбнулась:
– Нет.
Тейе указала на груду сваленных на столе свитков.
– Я только что прочитала отчеты о твоем поведении за последние два года, Мутноджимет. Мои осведомители сообщают, что ты торговала собой в домах терпимости в Фивах.
– Значит, ты платишь им за неверные сведения. Я оказывала свои услуги бесплатно. Что бы я стала делать с этими деньгами? Кроме того, взять деньги – значит бросить ужасную тень на семью.
Тейе изобразила серьезность, которой на самом деле не испытывала, подавляя желание рассмеяться, глядя, как Мутноджимет покачивает ножкой в изящной сандалии.
– Это серьезный вопрос, потому что твое поведение теперь бросает тень на фараона. Ты – сестра царицы. Я решила выдать тебя замуж за Хоремхеба.
Мутноджимет пожала плечами.
– Думаю, это разумный выбор. Он сделает все возможное, чтобы держать меня подальше от казарм. Он очень хороший солдат, тетушка, уважаемый военачальник. Я тоже отношусь к нему с уважением. Если он не станет требовать от меня безоговорочного повиновения, то нам удастся притерпеться друг к другу. Я посвящу себя управлению слугами и покупкам модной одежды.
Теперь Тейе рассмеялась. Она и не ожидала другого ответа от своей племянницы.
– Тогда я подготовлю договор и переговорю с Хоремхебом. Скажи мне, Мутноджимет, – она вдруг сменила тему, – что говорят в Фивах о новом фараоне?
Мутноджимет выпрямила ноги и откинулась на спинку кресла.
– Думаю, люди уже успокоились. Слухи о том, что дядюшка брал мальчишку в свою постель, возмущали и злили их. Они живут по древним законам, эти крестьяне. Они поклоняются древним богам – Осирису, Исиде, Гору, и «Исповедь отрицания»[37] для них не просто кусок пергамента, которым после смерти можно самодовольно помахать перед носом у богов. Фараон, который попирает законы богов, навлекает проклятие на своих подданных.
– Они верят, что это проклятие снято с них со смертью моего мужа?
– Не знаю. Но от вступления на престол брата они действительно ждут возвращения к благочестию. Однако с каких это пор фараонов интересует мнение невежественной толпы?
Мутноджимет подавила зевоту, и Тейе поняла, что разговор, принявший новый оборот, стал наводить на нее скуку. Мило улыбнувшись, она отпустила девушку и, когда Мутноджимет выскользнула из комнаты, пожалела о том, что, отдавая ее Хоремхебу, теряет ту, что, возможно, могла бы стать лучшей осведомительницей в Фивах.
Когда через несколько недель Аменхотеп, бледный, но возбужденный, сошел по сходням на причал в Малкатте, весь двор собрался встречать его. Прозвучали приветственные речи, зажглись благовония, но внимание Тейе было приковано к Нефертити и Ситамон. Одна была бледной и молчаливой, другая более оживленной, чем обычно, ее звонкий, мелодичный голос привлекал внимание, а движения были полны очарования. Аменхотеп ласково улыбался ей, часто касался ее руки и один раз даже неожиданно поцеловал ее в губы, но среди придворных не пробежал ропот удивления, они уже начинали привыкать к необъяснимым публичным проявлениям чувств фараона. Тейе перехватила взгляд брата, и он понимающе поднял темные брови.
Собравшиеся для официальной встречи вскоре разделились на небольшие группы, которые стали постепенно перемещаться к месту празднования, приготовленному у фонтанов перед дворцом. Тейе, подходя к столикам позади Аменхотепа, услышала голоса племянницы и дочери, выделявшиеся на общем фоне. Их слуги стояли, неловко отводя глаза, а некоторые придворные останавливались послушать, о чем идет речь.
Тейе замерла.
– Царевна, ты визжишь и галдишь, как дворцовая мартышка, но твое глупое позерство напрасно, – шипела Нефертити. – Ты не только уже распрощалась со своей юностью, но к тому же еще и бесплодна.
Ситамон самодовольно улыбалась.
– А ты надменная выскочка. Диск и перо – мои. Знай свое место и попытайся произвести на свет еще дочерей, чтоб тебе было чем себя занять. Или научись ткать, чтобы скоротать часы, которые ты будешь проводить в гареме.
Это было намеренное оскорбление, потому что ткали только мужчины, так же как только мужчины выпекали хлеб. Слушатели ахнули. Ситамон опомнилась, пристально оглядела собравшихся и ринулась мимо фонтанов, чтобы занять свое место рядом с рассеянным Аменхотепом. Нефертити стояла, кусая губы, ее серые глаза сверкали. Когда она, наконец, заметила на себе задумчивый взгляд Тейе, ей удалось выдавить вежливую улыбку, после чего она повернулась и со всем достоинством, на которое была способна, грациозно проплыла к своему месту слева от фараона и опустилась на подушки. Заинтригованные слушатели быстро разбежались, бросая испуганные взгляды на Тейе. Когда заиграла музыка и фараон поманил ее к себе, она смолчала.
Но вспышка враждебности была отнюдь не последней. Шли дни, Нефертити и Ситамон не появлялись вместе, обедали они в разном обществе и, наконец, совсем перестали общаться друг с другом, а вскоре и прислуга начала вести себя враждебно. Хотя фараон не спешил письменно подтвердить свое решение пожаловать Ситамон статус императрицы, Тейе удалось убедить Аменхотепа, и он приказал хранителю царских регалий доставить той корону императрицы. Тейе, которая давно миновала пору, когда внешние атрибуты власти заботили ее больше, чем суть, с растущим беспокойством наблюдала за тем, как Ситамон щеголяет своей блистающей тяжеловесной обновкой.
Сам фараон, казалось, не замечал накаленной атмосферы, он проводил время с архитекторами, в обеденной зале, у озера, часто останавливаясь покормить уток и других птиц сухариками. По его приказу слуги повсюду расставили корзинки. Изредка он присоединялся к Тейе в палате внешних сношений, и однажды утром, после особенно неприятной ссоры между управляющими двух цариц, она решила предупредить его об опасной ситуации, в которой он был повинен. Он сел у большого стола, сдвинув стул прямо на пятно солнечного света, льющегося в кабинет сквозь высокие окна, и принялся кормить орешками двух крошечных мартышек, резво скакавших между свитками. Он по-прежнему любил носить белый шлем, льняной или кожаный – по сезону, но сегодня на нем был только золотой царский венец – урей: кобра и гриф, охраняющие царя, возвышались над его высоким лбом. На нем было платье визиря – длинное, без складок, одеяние, собранное лентой вокруг шеи. На пекторали красовались ряды сердоликовых скарабеев, перекатывающих серебряные солнца по бирюзовому небу, а пальцы были унизаны перстнями с картушами. Карие глаза подведены краской необычного оттенка – настолько темного голубого цвета, что глаза казались сердцевинками голубых маргариток. Капелька золота мерцала в одном ухе, а мочка другого была выкрашена голубым. Он охал и ахал, восклицал и кудахтал над обезьянками, которые выхватывали у него еду, пока, насытившись, не принялись бросать кусочки на пол. Он снисходительно улыбался, глядя на них.
– Это правда, что прежний фараон обещал послать Тушратте золотые статуи, – спросил он, кивая на свиток в руках у Тейе, – и что их так и не послали?
– Да, думаю, правда. Я прикажу просмотреть архивы. Тушратта и мне напомнил об обещании фараона, – отправляя письмо, он послал много очень хорошего масла. Отношения между Египтом и Митанни всегда были добрыми, хотя порой возникали некоторые недоразумения. Митаннийцы неохотно отдавали женщин в жены твоему отцу и деду, вынуждая неоднократно упрашивать их и всякий раз предлагать более высокую цену. Твоему отцу нравилась такая игра. Но статуями надо заняться. А также вернуть богиню Иштар.
– Я отправлю Тушратте две статуи, но они будут из кедра, покрытого золотом, – сказал Аменхотеп, поглаживая мартышку, которая запрыгнула ему на плечо и похлопывала его по щеке, – потому что я не знаю, из цельного ли золота были обещаны статуи. Но мне не хочется думать, что он лжец.
– Он оскорбится.
– Нет. Он поймет, что я послал их, не желая его обмануть, а если я ошибаюсь, он напишет снова.
– Тут письмо из Алашии с извещением об отправке партии меди в Египет и с просьбой в обмен прислать серебро и папирус. Сын мой, – Тейе бросила свитки на стол, – я не могу больше думать о деловой переписке. Готов ли ты покончить с безрассудством, охватившим дворец, и официально назвать Ситамон своей императрицей? Ты осознаешь, что двор теперь разделился на два лагеря? Малкатта сделалась местом свар и брани.
Он посмотрел на нее слегка удивленно.
– Я сказал ей, что она может быть императрицей, и приказал доставить ей регалии. Этого вполне достаточно.
– Ты не хуже меня знаешь, что такие жесты ничего не значат, если они не подкреплены письменным заявлением. Если я пошлю за писцами и папирусом, ты продиктуешь свое волеизъявление, поставив под ним свою печать, и отдашь его глашатаям для обнародования. Тогда, может быть, вся суета уляжется. И раз уж мы коснулись темы указов и документов, Херуф сказал мне, что ты скрепил печатью брачный договор с Тадухеппой. Это правда?
Он улыбнулся.
– Малышка Киа. Так я зову ее. Да, это правда. Но я не вызывал ни одну из них в свою постель в последнее время.
– Почему?
Он отвел глаза и занялся мартышкой, почесывая ей уши и дергая за лапки. Тейе пришлось податься вперед, чтобы услышать его ответ.
– Не знаю, – прошептал он. – Если ты пожелаешь, матушка, я сделаю Ситамон императрицей.
Тейе позвала, и писец торопливо вошел, опустился на пол и положил на колени писчую дощечку.
– Это именно то, чего желаешь ты сам, Аменхотеп?
Снова его голова склонилась над взъерошенной шерсткой животного.
– Думаю, да.
Она быстро диктовала документ. Аменхотеп, спустив мартышку на пол, казалось, ушел в себя, тело его неподвижно застыло, руки свободно лежали на столе. Когда писец закончил, Тейе не стала ждать, пока он сделает копию иероглифами, опасаясь, что фараон забудет, о чем они говорили. Она взяла папирус и положила его перед сыном.
– Приложи свою печать, Аменхотеп.
Он снял с пальца кольцо и прижал его к теплому воску, потом поднялся и вышел, она не успела даже поклониться ему.
Отдай это глашатаям, – приказала она писцу. – Они знают, что с этим делать.
Писец поклонился и ушел, а Тейе со вздохом облегчения упала в еще теплое кресло. Может быть, теперь воцарится мир.
Официальное подтверждение решения фараона вызвало неожиданную перемену в Нефертити. Со всей любезностью, на какую она была способна при необходимости, она демонстрировала свое удовлетворение. Взяв с собой Мериатон, она почтила визитом новоявленную императрицу в ее покоях, принесла виноград, собранный на виноградниках отца в Ахмине, и сосуды с драгоценными выдержанными винами. В миг победы Ситамон была великодушна, и не успел закончиться день, как они с Нефертити уже смеялись, склонившись над доской для игры в сенет. Мериатон, лежа в траве, сучила ножками и радостно гулила.
Тейе, хотя ее и порадовало прекращение открытой вражды, все же не могла унять слабого, еле слышно пульсировавшего беспокойства.
– Это умный ход, – прямо сказал Эйе. – В конце концов, Нефертити – член нашей семьи, а мы не сдаемся так легко. Ситамон не следовало бы доверять ей.
– Нефертити трудно не поверить, когда она начинает использовать все свое очарование, – ответила Тейе, – а моя дочь – простушка во многих отношениях. Она примет мир, предложенный Нефертити.
Но если Ситамон попытается вмешиваться в управление, она будет иметь дело со мной, – подумала Тейе. – С ней будет легче справиться, чем с Нефертити, которая стремилась бы испробовать реальную власть. Но мне жаль. Готовясь к смерти, я бы предпочла оставить Египет Нефертити.
Сезон шему принес жару. Нефертити с Ситамон, взобравшись на крышу покоев императрицы, лежали в бледной тени огромного балдахина. Подставив спины под ветроловушку, через которую в опочивальню задувала струя северного ветерка, они раскинулись на льняных простынях. Вокруг валялись фишки для игры в сенет, фрукты, ленты, сандалии и накидки. Стоявшие рядом слуги махали огромными опахалами из страусовых перьев, которые едва волновали неподвижный воздух. Ситамон сунула обе руки в чашу с водой и плеснула в ненакрашенное лицо.
– Хотела бы я, чтобы фараон решил отправиться на север, – пожаловалась она, прикрывая глаза, сияющие капли стекали по ее обнаженной груди. – Половина двора уехала в Дельту, а мы сидим тут, задыхаемся. Его храм Атона все равно будет строиться, с ним или без него.
– Думаю, в конце концов, мы отправимся в Дельту, – ответила Нефертити, – но, прежде чем уехать, он хочет увидеть завершенное святилище и вымощенный внешний двор храма. Мастера должны были уже закончить его к этому времени, но я полагаю, что все продвигается медленнее из-за жары. – Она сделала знак, рабыня отжала салфетку и аккуратно промокнула ей лицо. – Если Тейе повлияет на него, он возьмет нас всех в Мемфис, но она говорит, что сейчас тоже слишком занята. Мутноджимет прислала мне письмо. Говорит, что даже когда она диктовала его, шел дождь. Дождь в Мемфисе. Какая редкость! А мы пропустили это событие.
Ситамон легла на спину.
– Осирис Аменхотеп обычно переезжал со всем двором в первый день шему и возвращался в Фивы лишь к наступлению Нового года, – сказала она. – Помню, как однажды начался ливень, когда мы были еще на ладьях, в дне пути от доков. Все толпились, чтобы поцеловать ноги фараона в благодарность, а потом мы все сняли платья и юбки и стояли голыми под дождем. Это было доброе предзнаменование. Оно предвещало счастливое лето. А в Фивах мы видим только пыльные бури да иногда налетает хамсин, помогающий развеять скуку.
Блестящие серые глаза Нефертити скользнули по роскошному телу Ситамон и устремились вдаль, к дрожащему мареву утесов.
– Сегодня ночью в садах гарема я устраиваю маленький праздник, – сказала она. – Будут только женщины. Во всяком случае, поспать никому не удастся. Мы будем купаться в озере и при свете факелов смотреть представление ходящих по огню. Ты придешь?
Ситамон обратила к ней томный взор.
– Если меня не вызовет фараон.
Нефертити промолчала, подавив готовый сорваться с губ ответ. Она была прекрасно осведомлена о том, что фараон проводит ночи при зажженных лампах в окружении дюжины изнуренных слуг, изучая чертежи архитекторов, читая молитвы или сочиняя песни. Огнедышащая жара шему, казалось, выжгла в нем все плотские желания.
– Вот и славно. Старшие дети тоже будут там. Сменхара пошел уже, ты не знала? Он топает теперь следом за нянькой Мериатон, когда та расхаживает с моей малышкой на руках. Сдается мне, в этом году не будет такой вспышки болезней у детей. Многие страдают от лихорадки, но нет никаких признаков чумы.
Ситамон отвечала ей скучным, монотонным голосом; день закончился в молчании, когда обеих женщин, наконец, сморила жара, и они уснули.
Праздник Нефертити начался в полночь, когда протрубили горны. Темнота не принесла желанной прохлады, и, пока рабы расстилали циновки у озера в угасающем оранжевом пламени огромных факелов, женщины с визгом и смехом побежали к воде. Тадухеппа, с длинными черными волосами, чинно стянутыми в узел на макушке маленькой головки, тихо стояла на мелководье, а служанки обливали ее, потому что она боялась воды. Тиа-ха сидела в воде, доходившей ей до подбородка, а рабыня мыла ей волосы и поила вином. Тейе, пришедшая позднее со своей свитой, села в кресло чуть поодаль.
Когда заиграли музыканты, женщины вышли из воды, задыхаясь и стряхивая с себя влагу, повалились на циновки, слуги подали им угощение и надели на них гирлянды из цветов и голубых бусин. Нефертити не поскупилась. Далеко на озере начало разрастаться пятно желтого света, к берегу приближался огромный плот. Когда до него уже можно было добраться вплавь, плот остановился, и молодые рабы, которые управляли им с помощью шестов, выпрямились и начали танцевать, нагие, с золотыми трещотками в руках, в венках из водяных лилий. На черной поверхности воды отражался свет факелов. Юноши закончили круг танца и нырнули в темную воду. Вдруг затрубили горны, и из воды поднялись женщины, одетые в мерцающие серебром рыболовные сети. Грациозно взобравшись на плот, они принялись бросать в воздух россыпи золотой пудры, которая повисала над водой желтым туманом. Слуги гарема обносили гостей вином. Теперь на озере появились маленькие деревянные лодочки, выкрашенные золотой краской, в которых сидели мужчины с золотистыми удочками. Приблизившись к женщинам на плоту, они начали забрасывать удочки в сторону женщин, в свете факелов тонкие нити паутиной высвечивались в темноте ночи. Гости, сидевшие на берегу, поощрительно восклицали и аплодировали. Одна за другой женщины, облаченные в серебристые сети, были пойманы на крючок, их с наигранным усилием выудили с плота и утянули под воду, а мгновением позже они уже восседали в лодках рыбаков.
– Прекрасно задумано, – сказала Ситамон Нефертити. – Ой, смотри! Мужчины укладывают камни в костер для нубийских укротителей огня.
Нефертити сделала знак рабу, и чаша Ситамон бесшумно наполнилась снова.
– Тебе понравилось вино, императрица? – негромко спросила она.
Ситамон кивнула и выпила.
– Оно великолепно. Откуда ты только берешь его?
– Это с виноградников твоего отца в Дельте. Чудесный урожай. Рамес, управляющий, прислал его мне специально для такого случая.
– Ты так много сил вложила в устройство праздника.
Нефертити слегка улыбнулась, отметив, что от выпитого вина щеки Ситамон раскраснелись, а речь сделалась немного замедленной.
– Это вовсе не обременительно – я же старалась для друзей, – сказала она. – Кроме того, нам всем нужно как-то вознаградить себя за го, что мы изнываем здесь в сезон шему. Хоть скоротаем время.
Ее главный управляющий Мерира подошел и поклонился.
– Угощение готово, царица.
– Тогда подавай. Надеюсь, ты проголодалась, императрица.
Нефертити едва прикасалась к еде на своей тарелке, а Ситамон ела с аппетитом. Рыбаки на озере теперь вытащили серебряные ножи и, изображая потрошение податливых рыб, которых они выловили, танцевали под нестройные звуки флейт и барабанов.
– Должно пройти немного времени, чтобы камни достаточно нагрелись для заклинателей, – сказала Нефертити. – Пойдем еще поплаваем.
Ситамон посмотрела в сторону озера, где женщины снова резвились, повизгивая с пьяной веселостью. Оставшиеся на берегу были заняты едой и разговорами. Поверхность темной воды внезапно покрылась рябью от набежавшего случайного ветерка. Ситамон, румяная и разгоряченная, согласилась поплавать. Они сбросили свои легкие одежды и пошли рука об руку к покрытому лилиями озеру, пробираясь между гостями, слишком пьяными, чтобы выказывать им почтение. Ситамон дважды споткнулась, но Нефертити вовремя подхватывала ее под локоть. В воде Ситамон разом пришла в себя.
– Давай доплывем до плота, – позвала Нефертити, откидывая с лица мокрые волосы. – Но остановись, когда станет слишком глубоко, Ситамон. Ты выпила слишком много вина.
Ситамон протестующе скривила свои полные губы.
– Ты предупреждаешь меня только потому, что я лучше тебя плаваю, и я докажу тебе это! – дерзко сказала она. – Ой, как холодно. Поплыли!
Она бросилась в воду и поплыла наперерез отражениям факелов. Нефертити следовала за ней, все более отставая. Когда они отплыли достаточно далеко, тьма начал сгущаться, и, наконец, они доплыли до темной воды, куда не достигал свет факелов ни с берега, ни с плота, на котором проходило водное представление. Взмахи рук Нефертити стали реже, потом она остановилась и только шевелила руками, чтобы не утонуть. Ситамон же все продолжала плыть, но взмахи ее рук к этому времени сделались слабее, а движения – более хаотичными. Нефертити посмотрела, как она исчезает в полосе темноты, спокойно повернула назад и неспешно поплыла обратно к берегу.
Я не сдамся первой и не попрошу остановиться, – думала Ситамон, молотя руками по воде, ноги у нее уже устали. – Я уже одержала верх над Нефертити во всех других отношениях, и если она думает доказать свое превосходство на воде, она снова проиграет. Как тяжело бьется сердце. Наверное, слишком много вина. Набрав побольше воздуха в легкие, она оглянулась назад, но не увидела силуэта Нефертити на фоне ярко горящих факелов. Судорожно дыша, Ситамон посмотрела вперед. Там Нефертити тоже не было. Плот опустел, факелы на нем горели слабо и уже начинали угасать. На маленьких лодочках, окружавших плот, грациозно умирали женщины в ловко разрезанных ножами рыболовных сетях. Сами мужчины один за другим ныряли в воду; сквозь звон в ушах Ситамон слышала энергичные аплодисменты зрителей на берегу. Она позволила ногам свободно повиснуть в воде и попыталась нащупать дно, но не смогла. Ее охватила паника, но она быстро справилась с ней. Очень хорошо, – думала она. – Я полежу здесь, на поверхности, и восстановлю дыхание, а потом потихоньку поплыву обратно. Что за игру затеяла Нефертити? Должно быть, она поняла, что проигрывает, или просто выбилась из сил и повернула назад. Задыхаясь, одной рукой держась за выпрыгивающее из груди сердце, она начала двигаться на месте, оглядываясь вокруг.
Она очутилась в круге темноты, ограниченном факелами, которые выглядели бесконечно далекими. Черная вода, окружавшая ее со всех сторон, на глубине оказалась намного более холодной, чем прогретые солнцем отмели. В вышине над головой плыла луна, она покачивалась, когда Ситамон пыталась сфокусировать на ней взгляд. Едва она закрыла глаза, к желудку подкатила тошнота. Слишком много вина, – снова подумала она. – Интересно, что там внизу, скрытое в холодном иле, в темноте. Судорога пронзила икру, и она подогнула колени, чтобы растереть ногу. Она вновь осознала, какое огромное пространство волнующейся черной воды отделяет ее от пьяного веселья на берегу, и холод пополз по ее жилам. Вдруг ее вырвало фонтаном кислого вина и непереваренной пищи, она сразу почувствовала облегчение, но теперь ее зазнобило. Я должна вернуться, – смутно думала она, вонзая в затвердевшую мышцу непослушные пальцы. – Надо будет принять горячую ванну и сделать массаж, иначе заболею.
Она уже повернула к огням на берегу, собираясь с силами, когда ее насторожил тихий всплеск справа. На поверхности озера она увидела что-то белое, волны, расходящиеся от него, громко заплескались рядом с ней. Вновь нахлынула паника, она изогнулась дугой, но внезапно ушла с головой под воду, почувствовав, как кто-то схватил ее за ноги. Она вскрикнула, неистово лягаясь, и пальцы разжались. Но тут что-то прижалось к ее пояснице, и она поняла, что это голова человека.
Испуганная и вмиг отрезвевшая, Ситамон попыталась сопротивляться, но ее крики тонули в громких возгласах, раздававшихся на берегу, где ходящие по огню уже начали свое представление. В отчаянии она нащупала волосы и изо всех сил рванула. Захват рук ослабел, и она быстро ударила коленом, стараясь, чтобы удар пришелся в подбородок нападавшего. Но она была обессилена еще до того, как они с Нефертити вошли в воду, и ее удар только слегка задел холодную щеку. Ситамон почувствовала, как ее схватили за руки. Она мельком увидела открытый, хватающий воздух рот, ввалившиеся глаза, измятые водяные лилии, вплетенные в мокрые, спутанные волосы. Она изо всех сил ударила человека ногами в живот. Руки на ее запястьях разжались, и на мгновение она освободилась, но, прежде чем она успела собраться с силами, чтобы плыть дальше, пальцы с уверенной силой сомкнулись на ее шее. Ситамон почувствовала, что ее тянут под воду. Теперь она боролась как безумная, ногтями царапая гладкую кожу, отбиваясь ногами, ее легкие раздувались, как мехи кузнеца, сердце неровно колотилось. Один раз ей удалось вырваться и глотнуть воздуха, который, как шелк, шелестел на губах, но неистовый порыв быстро иссяк. Человек надавил коленями ей на плечи, руками – на голову и посмотрел на огни, растянувшиеся по берегу; дышал он часто, но ровно. Последний удар Ситамон был таким нежным и легким, как прикосновение возлюбленной. Ее пальцы недолго блуждали по его бедрам, потом доверчиво замерли у коленей. Он обеими ногами толкнул тело на глубину и быстро поплыл прочь.
Тиа-ха подавила зевоту.
– Чудесный способ провести жаркую летнюю ночь, – сказала она, – но если госпожа изволит отпустить меня, то, кажется, мне пора на ложе.
Тейе с улыбкой кивнула, и царевна поднялась, с наслаждением потягиваясь. Ее слуги принялись скатывать циновку и собирать вещи. Луна уже превратилась в маленькое блестящее пятнышко на чистом небе. Догорая, дымились факелы. Женщины постепенно перемещались к своим покоям; одни шли, обнявшись, других поддерживали слуги, третьи передвигались самостоятельно, нетвердо, но довольно бодро. Тейе оглядела озеро. У самой воды сидела Нефертити, все еще увлеченно беседовавшая с Тадухеппой. Все факелы на плоту погасли, кроме одного. Лодочки уплыли гораздо раньше. Потом Тейе заметила, как что-то покачивается на легких волнах в слабом и неровном свете с берега. Тиа-ха тоже заметила это. Она повернулась к Тейе. Та поднялась.
– Не могу разглядеть, что это, – сказала она. – Наверно, один из участников представления что-то уронил в воду.
– Херуф, – позвала Тейе, обернувшись, – пошли лодку и подбери это, что бы там ни оказалось.
Херуф поспешил выполнить приказание, и обе женщины пошли к месту, где Нефертити и Тадухеппа вылавливали водяные лилии, вытряхивая из них лягушек. Когда Тейе подошла, они встали и поклонились ей.
– Тетушка, куда направляется эта лодка? – нахмурилась Нефертити. – Я отпустила танцоров, а плот можно забрать и утром.
Неизвестно почему, Тейе охватило странное предчувствие; она следила взглядом, как лодка пересекает озеро, как поднимается и опускается шест в умелых руках раба, подгоняя лодку все ближе к мягко покачивавшемуся предмету. Раздался крик, один из рабов перегнулся за борт, отпрянул, потом потянул к борту своего товарища. Они подняли в лодку что-то бесформенное и, очевидно, тяжелое и начали возвращаться к берегу; в их движениях уже не было прежней слаженности.
– Это утопленник! – прошептала Тадухеппа, расширив глаза. – Наверное, утонул один из танцоров!
Нефертити, пожав плечами, отвернулась, но Тейе, вдруг почувствовавшая слабость в коленях, схватила племянницу за руку. Херуф и двое его помощников вошли в воду и помогли вытащить лодку на траву. Однако Тейе не могла пошевелиться. Только когда мужчины положили тело вниз лицом и Херуф побежал к ней, ноги начали слушаться ее.
– Останься со мной, – быстро сказала Тиа-ха Тадухеппе, глядя в побелевшее лицо Тейе. Она опустилась на циновку, потянув за собой маленькую царевну. Рука Тадухеппы скользнула в ее руку.
Херуф подошел к Тейе и упал ей в ноги, лицо его посерело, он в ужасе закрыл голову руками. Тейе прошла мимо него, все еще держа Нефертити за руку.
Обнаженная женщина неловко распласталась на траве, согнув колено, одной рукой охватив голову с космами темных, мокрых волос.
– Принесите факел, – приказала Тейе упавшим голосом.
Один из рабов бросился прочь и вновь появился с факелами.
– Херуф, Херуф! Встань, старый болван. Переверни ее.
Он, рыдая, поднялся с земли и неловко, дрожащими руками взял женщину за плечо и за мягкий холм бедра. Тейе отпустила Нефертити. Глаза девушки были широко открыты, она закусила нижнюю губу, все ее мышцы были напряжены. Тело медленно перекатилось, и в небо уставились глаза Ситамон. Из уголка ее открытого рта вытекала вода, волосы лежали на шее, как рваный шарф. Тейе упала на траву и принялась безумными, неверящими руками гладить холодные щеки. Испуганные, возбужденные голоса собравшихся вокруг людей сливались в неясный гомон.
– Вызовите военачальника Эйе, – коротко скомандовал Херуф, – а потом врачевателя. Уведомите фараона, но сначала Эйе.
Тейе, приподняв безвольно податливую голову утопленницы, стала баюкать ее. Нефертити запричитала, простирая руки. Зачем она издает эти дурацкие звуки? – раздраженно думала Тейе. – Ситамон спит. Она лежала на воде и уснула.
– Ситамон, – сдавленно позвала она, приблизив губы к белому лбу.
Чьи-то теплые руки подняли ее, и она оказалась в объятиях Эйе. Факелы в руках приведенных им солдат пылали неровным пламенем. Она почувствовала, как ей на плечи накинули плащ, и внезапно пришла в себя. Эйе сидел на корточках перед Ситамон, приподнимая, ощупывая, внимательно осматривая тело. Рядом с ним присел врачеватель, они тихо переговаривались, но слов Тейе не слышала. Перед ней появилась Тиа-ха, и глоток вина проскользнул в горло. Нефертити внезапно замолчала, но Тейе видела, как она судорожно пытается подавить рыдания. Эйе поднялся.
– Слишком поздно, ничего не поделаешь, – сказал он, и что-то в его голосе заставило Тейе насторожиться, в ее притуплённое сознание медленно вползала тревога. – Она мертва.
Краем глаза Тейе видела, как переглянулись Нефертити и ее управляющий Мерира, бесстрастно вытянувшийся рядом с ней. Это произошло так быстро, что она подумала, будто ей почудилось, но потом заметила, что Эйе тоже это видел, и поняла, что он в одну секунду все оценил. Он тотчас повернулся и отрывисто скомандовал своим людям:
– Соберите всех слуг, рабов и танцовщиков, которые были здесь сегодня ночью. Царица, могу ли я опросить женщин?
Тейе слабо кивнула.
– Было бы лучше подождать до утра, – возразила она, с удивлением слыша свой спокойный голос. – Большинство из них не в состоянии связно говорить. Херуф поможет тебе.
Во тьме, недосягаемой для яркого света неровно горящих факелов, послышался шум, и кто-то прошептал:
– Гор идет!
Толпа тут же упала на траву, прижавшись лбами к земле, и Тейе вдруг поняла, что не сможет вынести зрелище горя сына. Она бросила последний взгляд на восковое лицо, остекленевшие глаза, в которых плясали отсветы факелов, создавая иллюзию жизни, потом повернулась и пошла прочь.
Обезумев от горя, Тейе всю ночь мерила шагами комнату. Она ждала, что Эйе вот-вот попросит принять его. День клонился к вечеру, а вечер перешел в душную неподвижность летней ночи, но он не пришел. Она не пыталась вызывать его, зная, что он явится, как только ему будет что сказать. Она с трудом проглотила какую-то еду и позволила Пихе омыть ее, одеть и накрасить, но отказалась принять и Тиа-ха, приходившую среди дня, и Нефертити, которая просила принять ее вечером. Она беспрестанно расхаживала из приемной в опочивальню и обратно, находя успокоение в разгадывании загадки. Ситамон превосходно плавала. Озеро не представляло угрозы для женщины – пьяной ли, трезвой, – которая была бесстрашной почитательницей водных глубин с тех пор, как научилась ходить. Ситамон сделалась императрицей, а Нефертити слишком поспешно и слишком охотно примирилась со своим поражением. А примирилась ли? Может быть, я неверно истолковываю характер племянницы, когда мои глаза застит зыбкое марево собственного горя? Ситамон сильно напилась, как и большинство женщин. Была ли Нефертити трезва? Это она устроила вечеринку. – Тейе прижала руки к воспаленным глазам и громко застонала. – Хочу, чтобы ты пришел, Эйе, – мысленно твердила она, останавливаясь у ложа и слыша, как Пиха тихо скользит сзади, зажигая лампы. – Моя дочь лежит под ножами жрецов-сем. Мой сын закрылся в своих покоях, и его рыдания слышны даже за тяжелыми дверями.
Через час Эйе, наконец, пришел и, велев слугам удалиться, сам закрыл за ними двери. Взгляд у него был замутненный, глаза под слоем краски ввалились. Тейе первый раз в жизни видела его потерявшим военную выправку, согнувшимся от горя. Некоторое время они смотрели друг на друга поверх мягкого света ламп, потом Тейе жестом предложила ему сесть и сама нервно опустилась на край ложа. Хотя он редко обращал внимание на строгие правила приличий, предписанные для приемов у царственных особ, сейчас он ждал, чтобы она заговорила первой, и ей пришлось начать.
– Не думаю, что хочу это знать, – хрипло сказала она.
– Ты уже знаешь. Как знаю и я. Мы допросили всех слуг и рабов во дворце, мы подступались к ним с лестью, угрозами, некоторых даже били. Мы опросили всех жен Осириса Аменхотепа и всех обитательниц Техен-Атона. Но одна лишь царевна Тадухеппа смогла немного помочь нам.
– И что же она сказала?
– Она видела, как незадолго до того, как началось представление ходящих по огню, Нефертити и Ситамон вместе отправились в озеро. – Он упреждающе выбросил вперед руку, предвосхищая возмущенное восклицание Тейе. – Нет, – угрюмо продолжал он. – Моя дочь сама не стала марать свои нежные ручки. Вскоре после этого царевна видела, как ее вытирала личная служанка.
– Ты предостерег Тадухеппу?
– Я велел ей молчать о том, что она видела, потому что это может доставить неудобства царице Нефертити. Малышка не сразу поняла, чего от нее хотят.
Тейе опустила взгляд на свои нервно переплетенные пальцы. Потом медленно расслабила руки.
– Всегда остается крупица сомнения.
– Конечно. Но самая ничтожная. Этим утром стражники пустыни нашли человека за дюнами. У него отрезан язык. Удивительно, как он не захлебнулся собственной кровью. Не стоит упоминать, что он не умеет ни читать, ни писать. Он, вероятно, был рабом во дворце, потому что кожа его ладоней совсем не загрубелая. У него исцарапаны руки и живот. Я сам видел его.
Их глаза встретились.
– Ее нельзя наказать, – прошептала Тейе.
– Конечно нельзя. Даже если бы ее вину можно было доказать, – а это невозможно, – она царица, и это ставит ее выше обычных законов. Мы не можем даже арестовать управляющего Мериру. Это было бы равносильно признанию того факта, что она, по меньшей мере, причастна к преступлению.
– Я хотела бы видеть, как с них обоих будут сдирать кожу до самых костей! – с горечью воскликнула она. – Что я скажу Аменхотепу?
– Нет смысла вообще ему что-либо говорить. Только он может вершить суд и наказание в этом деле, а я не думаю, что он станет что-нибудь делать, это доставит ему лишь страдания. Кроме того…
– Кроме того, мы все виновны в таких же преступлениях, совершенных из ревности или страха, – резко закончила она его мысль. – Нефертити научится быть осторожной, как научились и мы. Обними меня, Эйе. У меня болит сердце, я так устала, что не могу больше думать. Мне нужно избыть материнское горе, лишь рядом с тобой я могу позволить себе быть не божеством, а земной женщиной.
Он подошел и сел рядом. Она положила голову ему на грудь, и он обнял ее за шею, как делал много раз в детстве. Мерный стук его сердца успокаивал ее, и впервые с тех пор, как она взглянула на озеро накануне вечером, она ощутила, что тело ее расслабляется и веки тяжелеют. Эйе поцеловал ее и, осторожно опустив на ложе, укрыл покрывалом.
– Поспи, – сказал он. – Я пришлю Пиху и твоих носителей опахал. Не кори себя, Тейе, за то, что ты не смогла предотвратить несчастье, потому что вовремя не вмешалась и не сохранила равновесие между нашими дочерьми. Если бы Ситамон была более хитра и менее самоуверенна, то, возможно, бальзамирования в Обители мертвых сейчас ждала бы Нефертити.
Она что-то пробормотала в ответ, с закрытыми глазами она услышала, как он вышел и позвал ее слуг. Из всех детей, родившихся у нас с Аменхотепом, только Ситамон и мой сын достигли зрелости, – думала она, уже засыпая. – Теперь Ситамон ушла. О, муж мой, возможно ли, что все плоды нашей любви засохнут и погибнут? Так много любви за все эти годы без единого живого следа? Как бы я хотела, чтобы ты был сейчас в моих объятиях.
9
Фараон не появлялся на людях все семьдесят дней траура по Ситамон, и придворным стало казаться, будто он снова находится в заточении, хотя на сей раз по своему собственному выбору. Запретные двери, ведущие в его приемную, оставались закрытыми. Его не было видно ни в саду, ни на строительстве, хотя Тейе донесли, что он повелел начать работы на новых карьерах в Гебел-Силсилехе, чтобы обеспечить каменщиков песчаником. Его дворецкий Пареннефер и главный управляющий Панхеси скромно ходили по коридорам дворца с поручениями своего господина. Иногда Тейе справлялась у них о сыне, и они заверяли ее, что фараон чувствует себя хорошо, что его печаль почти прошла, и он прошел обряд очищения, стоя в грубом платье перед жертвенником Атона и воскуряя фимиам.
– Зачем ему понадобилось проходить обряд очищения? – озадаченно спросила Тейе у Панхеси. – И если он желает этого, то по-настоящему только Птахотеп имеет полномочия совершать такие обряды.
Потупив серьезный взгляд, юноша низко поклонился ей, опустив лицо и воздев раскрытые ладони, отягощенные серебром.
– Фараон очищает себя как человек, а не как бог Египта, а такой обряд может совершить только он сам, – ответил он робко, и Тейе пришлось довольствоваться таким объяснением.
Как и ее супруг, Нефертити держалась в стороне от оживленной жизни двора. Иногда ее видели чинно идущей по своим садам, одетой в белое льняное платье, черные волосы были гладко причесаны, никаких украшений. Взглянув на стройную, прямую фигурку, Тейе мрачно заметила, что красота Нефертити только выигрывает от такой естественности. Сама Тейе не таила зла на девушку. Она воспринимала ее ужасное деяние с мудростью правителя, для которого не существовало четкой грани между добродетелью и вынужденным пороком.
Смерть царственной особы всегда возбуждает множество слухов и домыслов, особенно среди женщин гарема. Тиа-ха рассказала Тейе, что женщины быстро обо всем догадались, но отнеслись к этому терпимо. Они верили, что обе – и царица, и императрица – любили фараона и погубить соперницу Нефертити заставили ревность и страсть. В гареме подобные вещи были обычным явлением. Его обитательницам были близки такие переживания, поэтому они отнеслись с пониманием к содеянному царицей. Единственное, что встревожило их, это обнаружение изуродованного слуги. Они всегда плели свои интриги при помощи слуг, но вместо награды учинить физическую расправу над тем, кто послужил орудием избавления, было попранием одного из неписаных законов гарема. Они одобряли решение Тейе вылечить человека и взять его себе в услужение и расценивали ее поступок как единственное реальное доказательство виновности царицы.
Тейе внимательно слушала подругу. Она знала, что, когда Ситамон похоронят, молва утихнет. Это всего лишь вопрос времени, а оно в дни траура тянется слишком медленно.
Погребение императрицы стало воздаянием последних почестей женщине, которая почти в любом состязании всегда оказывалась второй. Хотя она умерла молодой, однако принадлежала еще старому правлению. Несколько лет она пробыла женой своего знаменитого брата Тутмоса, а после его неожиданной смерти ей пришлось научиться ублажать стареющего, непредсказуемого мужчину. С тех пор она так и жила в тени своей матери – менее сообразительная, менее деятельная, менее властная, чем Тейе. Даже победа в борьбе за корону императрицы – ее единственное достижение – сулила, как оказалось, лишь кратковременный успех.
Погребальную процессию составляли только те управители и придворные, которым по рангу полагалось участвовать в царских погребениях вместе с официальными плакальщицами. Фараон, вышедший из своего добровольного заточения, выглядел отрешенным и тревожно-рассеянным. Он молча занял свое место рядом с Эйе, Тейе и Нефертити. Не проронив ни слова, они расселись в свои носилки, и процессия вереницей потянулась за ними по знакомому пути, который они преодолели не так давно, к гробнице Аменхотепа Третьего.
Ритуалы отправлялись с той же благородной простотой. Тейе страшилась момента, когда процессия направится в погребальную залу, где должна была лежать Ситамон, и ей придется проходить мимо чертогов супруга. Но когда пришло время идти через гробницу Аменхотепа, она обнаружила, что ее переживания притупились, как будто их оттеснили события, произошедшие в Малкатте после его смерти. Время брало свое. Троны, на которых он царственно восседал при жизни, сверкающие сундуки с его многочисленными одеждами, шкатулки с его драгоценными украшениями вполне могли принадлежать любому из предков. Интересно, всколыхнется ли темнота, когда я покину это место, – думала она, выступая вперед, чтобы положить цветы на гроб Ситамон, – польются ли потоки, соединяющие отца и дочь, сквозь магические глаза на их саркофагах? Одна из твоих цариц пришла к тебе, муж мой. Как скоро придет тот день, когда и я разделю с тобой это сырое пристанище?
Погребальная трапеза, завершающая церемонию, длившуюся несколько дней, была обставлена со скромной благопристойностью, и придворные разбредались по своим носилкам и исчезали в направлении Малкатты так скоро, как только позволяли приличия.
Во дворец Тейе возвращалась рядом с фараоном. Он оплакивал Ситамон тихо и с достоинством, поразившим всех. По дороге он ни разу не заговорил с Тейе, когда их носилки покачивались рядом под слепящими лучами свирепого Ра. Они миновали город мертвых, величественный бежевый погребальный храм Тутмоса Третьего, очертания которого дрожали и менялись, как чудесный мираж, справа от них; впереди уже показался дворец, когда Аменхотеп отдал короткий приказ, и оба их паланкина повернули налево. Над ними нависла громада храма его отца, полосы тени теперь перемежались полосами белого песка, но носилки не свернули в аллею сфинксов с головами баранов, ведущую к украшенной колоннами площади перед храмом. Впереди, отбрасывая короткие полуденные тени, маячили оба огромных стража. Аменхотеп снова отдал приказ, и носилки остановились. Он сошел на землю, приглашая Тейе сделать то же самое, и направился к ближайшей статуе. На секунду он запрокинул голову, оглядывая ее устрашающую высоту, потом учтиво взял Тейе за руку и повел ее в негустую тень.
– Матушка, – сказал он все еще сиплым от пролитых слез голосом, взгляд из-под опухших век, в котором читалось раскаяние, задержался на ее лице. – Семьдесят дней я молился и рыдал в своих покоях, колотя себя в грудь и натирая лоб пеплом из жертвенника, потому что я мог сохранить жизнь своей сестре, но не сумел.
– Аменхотеп, – запротестовала она, ласково его коснувшись, – ее смерть – не вина фараона. Зачем ты коришь себя?
Его искренность, такая безыскусная, обезоружила ее. Она приложила палец к уголку его рта в знак нежного возражения, как часто делала, когда он был ребенком. Он поцеловал его и отстранился.
– Говорили, что Ситамон сделалась жертвой собственного честолюбия, но это не так. Она умерла из-за моего малодушия. В глазах бога я поступил неправильно.
– Как такое возможно? Ты сам – воплощение Амона-Ра.
– Я знал, что должен был сделать, но струсил. Глаза Египта слепы, уши его забиты ложью. Он бы восстал против меня. Но я теперь буду храбрее. Я готов.
Тейе подавила вздох, готовый сорваться с губ.
– Ты пугаешь людей, когда начинаешь говорить загадками, – мягко пожурила она его. – Царь должен говорить ясно, чтобы подданные могли повиноваться ему, все как один.
– Осталось еще два месяца до конца шему и до празднования Нового года, – сказал он. – Я хочу, чтобы мы отправились в Мемфис – только ты, я и наши слуги. Ты сможешь оставить двор так надолго?
От его просьбы тревожное чувство всколыхнулось в ней. Отвернувшись, она устремила взгляд на потрескавшиеся бурые поля, которые простирались до линии запыленных пальм, окаймлявших берега Нила. Почему я вдруг сжалась от страха? – подумала она – Это естественно, что он хочет на время удалиться от всех, чтобы пережить боль утраты. Но почему только мы вдвоем? Может быть, он хочет обсудить со мной что-то серьезное? Перспектива остаться с ним наедине, вот что пугает меня. Она почувствовала на шее теплое дыхание Аменхотепа, и его рука умоляюще легла на ее плечо.
– Полагаю, Нефертити сможет пока заменить меня, – не оборачиваясь, сказала Тейе. – В это время года всегда затишье, и мне действительно хотелось бы снова увидеть Мемфис. Давно я там не была. Не потому, что мы с твоим отцом… – Она говорила все тише, потом умолкла, но через некоторое время продолжила: – Хорошо, сын мой. Я бы очень хотела поехать.
Это было правдой. Больше всего она хотела убежать от ядовитого дыхания смерти, которое так долго наполняло дворец, от нашептываний и намеков, от бесконечных усилий прочесть в глазах людей их тайные помыслы.
– Хорошо. Тогда через три дня отправляемся.
Она обернулась, чтобы поклониться ему, но увидела только его сутулую спину. Когда его носилки исчезли из виду, она прислонилась щекой к пьедесталу изваяния своего супруга и закрыла глаза.
Наутро третьего дня они отчалили из Малкатты на ладье, подаренной Аменхотепу Ситамон. Он назвал ее «Хаэм-Маат», это был один из его титулов – «Живущий в Истине», и приказал своим мастерам выгравировать это имя на изящном борту ладьи. Толпа недовольных придворных собралась у причала, чтобы проводить их. Нефертити сидела под своим алым опахалом. Теперь, когда Ситамон была похоронена, она стала намекать Аменхотепу, что корона императрицы должна принадлежать ей, но супруг оставался глух к ее намекам. Сменхара и Мериатон плескались в воде, волнами набегавшей на ступени причала. Сменхара барахтался очаровательно-робко, зато девочка вскрикивала и хохотала, когда нянька окунала ее в прохладную воду. Заклинания в защиту фараона были пропеты, придворные угрюмо совершили обряд почитания, и флотилия судов, заполненных царственными особами, их слугами, жрецами и солдатами, заскользила по каналу к реке.
Превозмогая густой знойный воздух, летний ветер, как всегда в это время года, дул с севера, поэтому ладьи шли на веслах. Тейе облокотилась на перила на палубе «Хаэм-Маат», прислушиваясь к командам Паси, торопливому шлепанью босых ног слуг, послушных приказам, плеску весел, погружающихся в мутную воду. Позади нее, под открытым балдахином, манили к себе фрукты, ароматная вода и вино. Сын сонно вертел в руках метелку, сидя на подушках у низкого столика, и тихо мурлыкал что-то себе под нос. За бортом тянулись пустынные берега, будто вынырнувшие из страшного сна, когда горло пересыхает от ужаса, мимо проплывали вымершие от жары селения с их глинобитными хижинами. Бурые поля, засохшие листья на пальмах. Даже небо казалось безжизненным, мелкие птицы искали тени в зарослях прибрежной растительности. Только ястребы, казалось, не замечали жары. Они парили, распластав крылья, стараясь уловить легчайшее дуновение, вскрикивая временами, а их острые глаза шарили по бесплодной земле в поисках добычи. Очарованная бурой водой, плавно ускользающей от взгляда, Тейе подалась вперед, и слуги тут же заботливо прикрыли ее опахалами. Через день или два вода станет синей, – думала Тейе. – Это первый признак того, что бесплодие Верхнего Египта осталось позади. О благословенный Мемфис! Величайший из городов!
К вечеру четвертого дня пути из Фив, когда царская ладья подходила к берегу, Паси подошел к балдахину и распростерся ниц перед Аменхотепом.
– Я надеялся, что мы сможем причалить немного дальше вниз по реке, там, где стоит селение и есть немного растительности, Могучий Гор, – сказал он извиняющимся тоном, – но я недооценил медленное течение и силу ветра. Прости меня за то, что я обращаюсь к тебе с просьбой провести ночь в этом месте.
Аменхотеп улыбнулся и отпустил его. Они вместе с Тейе направились посмотреть, как причаливают другие ладьи и слуги собираются группами на берегу, чтобы натянуть навесы, застелить коврами песок, зажечь факелы и приготовить вечернюю трапезу.
– Это пустынное место, но по-своему прекрасное, – обратился он к ней, оглядывая окрестный пейзаж. – Не помню, чтобы я когда-либо проплывал здесь по дороге в Мемфис или обратно.
– Возможно, это потому, что кормчий ладьи, на которой ты путешествовал, очень старался не останавливаться здесь, чтобы не прогневать тебя, – усмехнулась Тейе. – О боги! Я почти слышу эхо своих мыслей, отдающееся от тех суровых скал. Похоже, даже крестьяне были не настолько глупы, чтобы селиться здесь.
– Здесь веет покоем, – тихо проговорил сын.
Они поднялись к краю огромной долины, покрытой нетронутым песком, по которой, медленно извиваясь, струилась река. В каждой излучине к самой воде выходили скалы, но здесь они отступали, на западе снова взмывая вверх иззубренной грядой, а на востоке их отроги рассекали длинные таинственные овраги, в тенях которых уже кралась ночь. Солнце почти село, его красный край повис над вершиной черной скалы, проливая последние лучи на нетронутый песок. Здесь, в стороне от оживленной суеты берега, мертвая тишина была осязаемой, она давила на непрошеных гостей всей своей неприветливой тяжестью.
– Должно быть, здесь днем ужасно жарко, – сказала Тейе. – Как ты думаешь, далеко ли от одного края долины до другого?
– Какая чистота, – вздохнул он, отвлекаясь от своих раздумий. – Только острые скалы и слепящий песок, огромная чаша, наполненная золотым сиянием Ра.
С берега, где суетились слуги, неожиданно донесся смех. Звук прокатился по долине, отзываясь стократным эхом, и возвратился на берег, сделавшись намного громче и сильнее, будто невидимая армия, скрытая в скалах, передразнивала незваных гостей. У Тейе по телу побежали мурашки. Посмотрев вниз, в долину, она увидела своего увечного безъязыкого слугу, держащего в руках огромный горшок с маслом для ламп, и младшего управляющего, который что-то кричал ему. Тейе вернулась в кабину и опустила занавеси.
На следующий день населенная призраками тишина долины сделалась всего лишь воспоминанием, а еще через три дня они прибыли в Мемфис под приветственные крики толпы. Тысячи людей растянулись вдоль берега, некоторые взбирались на крыши складов или бросались в воду, чтобы хоть мельком взглянуть на царственных гостей. Спускаясь по сходням и усаживаясь в носилки, Аменхотеп благосклонно улыбался, высоко поднимая крюк и цеп. Тейе приказала, чтобы ее носилки доставили на борт, и плотно задернула занавеси, прежде чем позволила снести себя на берег: она считала недопустимым, чтобы лица живых богов видели невежественные крестьяне. Она пребывала в уединении до той поры, пока ее носилки не опустили на землю за надежными стенами дворца. Она тут же вышла на крышу. Аменхотеп последовал за ней.
– Я забыла, как он прекрасен! – выдохнула она. – Какой потрясающий вид открывается отсюда! Сколько деревьев, Аменхотеп, и какое изобилие диких цветов! Взгляни на солнце над этим старинным озером. Я вижу, на сирийском храме Решепа[38] обновили крышу – она проглядывает сквозь листву. Сирии, должно быть, выгодна торговля с нами. Думаю, здесь в гареме еще остались женщины. Не хочешь навестить их?
Он уклончиво улыбнулся.
– Вряд ли. Но я обойду храмы, как прежде, когда я был верховным жрецом Птаха. Не хочешь завтра покататься на ладье по поросшим папирусом болотам Дельты? Дорога туда займет всего полдня.
– Много лет назад мы с твоим отцом охотились на этих болотах, – мечтательно отозвалась она. – Очень хочу. Ты заметил, как отличаются звуки в Мемфисе от раздражающего грохота Фив? Я…
Он отвернулся и искоса щурился на солнце, больше не слушая. Наверное, не стоило напоминать ему об отце, – сердито подумала Тейе. – Хорошо, постараюсь не делать этого больше, поскольку он пригласил меня сюда, но он должен преодолеть свою ненависть, потому, что она больше не имеет смысла.
Весь месяц они с сыном занимались каждый своими делами. Фараон проводил большую часть времени, посещая бесчисленные храмы иноземцев, которые теперь называли Мемфис своим домом. Он принял миссию из храма Птаха, однако не нанес им официального визита. Тейе встречалась с управителем Мемфиса и военачальниками пограничных дозоров, чьи солдаты, сменяясь со службы, размещались в городе. Она принимала состоятельных торговцев и иноземных посланников, которым по роду деятельности приходилось жить в Мемфисе, устраивала праздники в гостеприимной зале, которую ее муж так любил украшать. Она посетила гарем, найдя его хорошо обустроенным, но мрачноватым местом, полупустым и безмолвным.
Когда все их дела были закончены, Тейе с Аменхотепом стали просто наслаждаться жизнью, бродя по прохладным комнатам пустого дворца или бесцельно прогуливаясь по продуваемым ветрами дорожкам сада. В жаркие полуденные часы они расходились по своим покоям, убаюканные шуршанием опахал и тихим звоном струн арфы. Они провели день на болотах, пробираясь в лодке сквозь высокие, почти в человеческий рост, шелестящие заросли папируса. Аменхотеп хорошо управлял колесницей и немного умел стрелять из лука, но решительно отказался охотиться. У Тейе же чесались руки метнуть палицу, когда вокруг них поднимались тучи непуганых гусей, уток и других водоплавающих птиц, но тем не менее, было приятно просто лежать в маленькой плоскодонной лодочке, глядя, как перистые листья папируса смыкаются над головой на фоне глубокой небесной синевы, в которой не было и намека на яростный бронзовый оттенок летнего неба юга.
Время текло так же восхитительно, как вино в их чаши. Тейе не знала, были тому виной ее сладостно-горькие воспоминания, украдкой выскальзывавшие из каждого уголка дворца, или беззаботное течение дней, стиравших с ее лица следы напряжения.
Однажды в сумерках, когда они сидели на террасе, глядя на раскинувшиеся внизу благоухающие сады, Аменхотеп повернулся в кресле и тихо отдал приказание слуге, стоявшему у него за спиной. Слуга удалился и вернулся вместе с хранителем царских регалий. В руках у хранителя был тяжелый сундучок, слишком хорошо знакомый Тейе.
– Приветствую тебя, Хана! – поздоровалась она удивленно. – Не знала, что ты путешествовал вместе с нами.
Он поклонился, смущенно ответив на ее приветствие. Аменхотеп приказал ему поставить сундучок на стол и удалиться. Дворецкого, который тоже был на террасе, он также отослал. Они остались вдвоем.
Аменхотеп наклонился и сам налил Тейе вина. Она не сводила глаз с сундучка, сердце ее вдруг заколотилось, во рту пересохло. Она взяла чашу и быстро выпила, чтобы скрыть свое волнение. Фараон заговорил, сначала сбивчиво, потом, когда ночная тьма стала сгущаться и скрыла его лицо, он все больше распалялся.
– У подножия храма Осириса Аменхотепа я сказал тебе, что смерть Ситамон – моя вина, – начал он, и Тейе, не веря своим ушам, осознала, что впервые слышит, как он произносит имя отца. – Теперь я скажу тебе, почему я так считаю. В глубине души я знал, что бог не хочет, чтобы я сделал ее императрицей. Мне следовало жениться на ней и позволить ей остаться только царицей. Она была моей сестрой, и я имел право и должен был жениться на ней, но зов другой крови оказался сильнее. Бог наказал меня за мою трусость тем, что лишил ее жизни. Если бы я поступил в соответствии с тем, что, знаю, было правильно, она была бы жива. Нет, – мягко сказал он, когда она попыталась заговорить, – я говорю сейчас не о моей дорогой Нефертити.
Он потянулся к сундучку и, откинув крышку, вынул оттуда корону императрицы. Большой полированный диск тускло блестел, и серебряные рога Хатхор, изогнутые вокруг него, сверкали в свете звезд. Двойное перо подрагивало в его нервных руках, когда он положил корону на свои голые колени.
– Я знал, что должен был предложить корону тебе, а не Ситамон, – продолжал он, – но я подверг сомнению волю богов. Больше я не сделаю этого. Корона твоя.
Тейе оцепенела в кресле, впившись руками в подлокотники.
– Сын мой, – с трудом произнесла она, вновь обретая способность говорить, – Ситамон умерла, соперничая за корону с Нефертити. В этом нет твоей вины. Ты предпочел одну женщину другой по праву фараона.
– Я слышал, что говорили об этом, – перебил он. – Ситамон лишили жизни человеческие руки, но приговор ей вынес бог. Ты должна быть моей, Тейе.
Тейе задрожала и еще сильнее вжалась в кресло.
– Правильно ли я понимаю тебя, – сказала она. – Ты хочешь, чтобы мы с тобой заключили брачный договор? Ты хочешь, чтобы я была старшей женой и императрицей Египта?
– Да. Документ может быть составлен и заверен печатью здесь, до того как мы вернемся в Малкатту.
– Эти титулы должна носить Нефертити, – прохрипела она, дыхание перехватило, в горле стоял ком.
– Нет. Я люблю свою сестру, но в ее жилах течет другая кровь.
Он осторожно положил корону на стол между ними. Тейе смотрела на темный сад внизу, но все ее внимание было приковано к этому тяжелому предмету. Это был вызов, награда, знак судьбы.
– Разумеется, ты имеешь в виду только формальный брачный договор. – Она с усилием оторвала руки от подлокотников, сложила их на коленях и повернулась к нему.
– Нет. – Он стремительно повернулся к ней, обхватывая руками корону. Лампа, стоявшая на столе, освещала только половину его лица, оставляя другую половину погруженной в тень. – Мне так много было неясно с тех пор, как я сделался достаточно взрослым, чтобы управлять своими мыслями, – тихо проговорил он. – Я не знал, зачем я родился, зачем сын Хапу делал порочащие меня предсказания, зачем меня оставили на попечение женщин гарема. Когда я был ребенком, я часто плакал. Мне снились странные сны. Я стал старше и сидел в саду гарема, глядя, как раскрываются чашечки цветов, будто крылья бабочек, а бабочки порхали над травой, похожие на взлетевшие цветы. – Он провел руками по лицу, и, хотя Тейе никогда прежде не слышала, чтобы он говорил с такой спокойной рассудительностью, его бледные пальцы дрожали. – Я бродил по галереям женских покоев, слушая молитвы иноземных жен, распростертых на полу перед жертвенниками богов, которых они привезли с собой из разных уголков империи. Я начал понимать, что, хоть и под разными именами – Саврити, Решеп, Баал, – они поклоняются единому богу. Я попросил принести мне свитки из дворца и храма и начал читать, но до первого юбилея фараона не понимал ничего. – Его голос вдруг надломился, и он замолчал, сглатывая и подбирая слова. – Много тысяч хенти[39] назад цари Египта не были воплощением Амона. Они были сынами солнца. Они правили на земле, как Ра правит на небе. После того как фиванские царевичи изгнали правителей-гиксосов из Египта, они сделали местное божество – Амона – своим идолом, и когда Фивы достигли власти и богатства, с ними возвысился и Амон. Но с тех пор они забыли, что только Ра дает жизнь всему и власть Амона ограничивается Фивами. Твой муж частично узрел истину, но это было как слабый проблеск света в темной комнате. Он пытался возвысить Атона, но это было показное. – Он склонился ближе, глядя ей в глаза. – Матушка, я – воплощение Ра. Я рожден для того, чтобы восстановить могущество солнца в Египте. Мой отец – Ра-Харахти, бог рассветного горизонта. Выбирая твое тело, чтобы выносить меня, он вел Египет в новую, славную эру.
– Твоим отцом был Осирис Аменхотеп, воплощение Амона земле! – почти закричала Тейе.
Он вежливо, почти снисходительно улыбнулся.
– Нет, он был всего лишь человеком, как и мой брат Тутмос. Так было нужно, чтобы Тутмос погиб. Мое предназначение – стать фараоном вопреки всем случайностям, потому что солнце должно быть возвеличено.
Тейе не могла думать. В ней боролись противоречивые чувства: потрясение, страх, робость, благоговение. Удары сердца причиняли боль, и она прижала к груди непослушную руку.
– Я не вижу необходимости делать меня твоей женой, – сдавленно произнесла она.
Он наклонился к ней поверх короны, в свете лампы его глаза меняли цвет от коричневого до желтого.
– Амон сделался сильным и могущественным, – прошептал он. – Моя магия должна быть сильнее его. Они все собираются вокруг меня, эти злые силы, демоны, они переполняют мои сны ночью, толпятся со всех сторон днем. Я многое узнал от женщин, которые устанавливали жертвенники для иноземных богов. Я могу использовать заклинания и магические формулы, чтобы защитить себя. Но величайшая защита от всего – это соединение тела сына с телом матери. Такой союз считается священным людьми солнца за великой излучиной Нахарина,[40] в стране хеттов, в Кардуниаше. Я говорил с иноземными женщинами. Я знаю. Это не только и не просто святое дело; для меня, воплощения солнца, это – долг. Я вышел из твоего тела. Именно твоим телом я должен обладать.
Внутрь горящей лампы влетел мотылек. Тейе слышала, как он бьется там, с обгорелыми крылышками, с ослепшими черными глазками, бьется, колотится о твердый алебастр, охваченный убийственным опьянением. Всходила луна – холодный серебряный диск, свет которого запивал террасу. Тейе смотрела, как он ложился бледным невесомым покрывалом на ее ноги. – Думай! – яростно приказывала она себе. – Думай же! Эйе, что мы наделали? Этот ребенок, за спасение которого я так отчаянно и тайно боролась, чье право рождения я отстаивала, рискуя навлечь на себя гнев фараона, этот фанатик, этот человек теперь утвердился во власти. Можно ли сдерживать или управлять этим безумием? – Но где-то очень глубоко сознание нашептывало ей: – Что если сын Хапу предсказал именно это, но чудовищность предсказания была слишком велика, чтобы быть понятной фараону, которого не интересовали религиозные вопросы? Сын Хапу хотел погубить моего сына. Он был оракулом Амона. Не поэтому ли он предсказал, что мальчик вырастет и убьет своего отца? Он имел в виду, убьет своего отца Амона? Что мне теперь делать?
Она попыталась заговорить, но голос отказывался повиноваться ей. Подождав немного, она повторила попытку, стараясь говорить успокаивающим тоном.
– Аменхотеп, – сказала она, – для царевича женитьба на своей сестре – это правильное и законное дело, потому что семя бога не должно прорасти в простолюдинах. По той же причине для фараона приемлемо жениться на своих дочерях. Такие союзы сочли необходимыми, когда царственные женщины получили право наследования по крови. Но в наши дни вопросы преемственности – дело оракулов, и Амон дарует божественность согласно их утверждениям. Брачные союзы между братом и сестрой или между отцом и дочерью теперь устраивают только по династическим причинам или для очищения царственной крови. – Она возвысила голос. – По закону Маат есть два союза, которые навлекают проклятия и кару богов, и они запрещены. Первый – между двумя мужчинами, второй – между мужчиной и его матерью. То, что ты предлагаешь мне, может потрясти основы Маат в Египте и навлечь неодобрение каждого – от придворного и жреца до последнего из феллахов.
– Ра всемогущ, – напомнил он ей, – он выше не только Амона, но и Маат. Маат должна быть возвращена к своей древней простоте. Семья Ра мала, а его власть должна быть сохранена и разделена внутри семьи, чтобы сделать ее более сильной, чтобы обеспечить магию, которую не мог бы разрушить ни бог, ни человек. Как воплощение Ра я слежу за соблюдением его законов, которые превыше законов Маат, ставших извращенными. Твой муж ложился в постель с мальчишкой, а твои придворные попирают Маат каждый день. Но те, кто повинуется мне, избранники солнца, не могут заблуждаться, и семья святого может только усилить Маат. – Он резко пододвинул к ней корону. – Ты уже стала избранной. Мне нужна ты.
– А если я откажусь?
– Ты не откажешься. Как ты посмеешь? Кольцо власти вокруг меня еще не замкнулось, и темнота проникает сквозь него ко мне. Ты можешь замкнуть его, Тейе. Мы с тобой будем рождать детей солнца.
Она поднялась, напряженная и измученная, и ей пришлось обеими руками схватиться за подлокотники кресла, чтобы не упасть.
– Я подумаю о том, что ты сказал, – пробормотала она, – но сейчас мне пора спать.
– Ты вся дрожишь. Пиха! Принеси богине плащ! – Он тоже поднялся, и, обойдя вокруг стола, со своей обычной кротостью поцеловал ее в шею. – Спокойной ночи, императрица. С рассветом Ра рассеет все твои сомнения.
Фараон, ликующий, возбужденный, бодро прошагал через залитую лунным светом террасу, будто с него свалилась огромная тяжесть.
Тейе шла в свою опочивальню, едва осознавая, что происходит. Она стояла, молчаливо и отстраненно, пока Пиха со служанками раздела ее, смыла краску с лица, ладоней и ступней, погасила лампы, оставив только ночник у ложа, и откинула покрывало на постели. Она безразлично скользнула под него, служанки поклонились и вышли. Пиха свернулась на циновке в углу и вскоре уже глубоко задышала во сне. За дверью прошаркал телохранитель, случайно кашлянув. Тейе села и уронила голову в колени. Очень хорошо, – подумала она. – Какой у меня есть выбор? Сдается мне, от моего сына вреда Египту не будет, потому что он говорит только о возвращении его к некоему прежнему изначальному величию. Если он безумен, тогда это безумие, которое не угрожает военному или дипломатическому превосходству империи. Я правлю страной. Я контролирую это превосходство, и, если я становлюсь императрицей, я могу и дальше продолжать контролировать его. Он не особо интересуется правлением и может свободно предаваться своему религиозному безумию, не нанося никакого вреда, пока я буду охранять спокойствие этой страны. Конечно, будет неодобрение. Все жрецы будут проклинать меня, все граждане возопят. Как долго это продлится? Как долго Фивы и двор возмущались мальчишкой, которого приблизил мой супруг? Недолго. Но здесь будет иначе. Это не будет выглядеть как царское неблагоразумие, скрытое во мраке царских покоев. Я буду щеголять попиранием законов Маат в залах для приемов, с короной на голове, каждый день. Иноземные миссии ничего не подумают. То, что он сказал, правда – иноземная знать и члены царской семьи часто берут в жены собственных матерей. Но Египет вскипит. Может, лучше отказаться, настоять, чтобы Нефертити надела эту корону. Но что если он прав? Как много времени прошло с тех пор, как фараон действительно верил всем сердцем, что он есть Амон, бог Фив? Сколько раз мы с Осирисом Аменхотепом посмеивались над своей божественностью, веруя только в свою власть делать себя богами. Жизнь моего сына была странной даже по его словам. Возможно ли, что Тутмос погиб от руки Ра? Что сын Хапу был напуган тем, что он увидел в чаше Анубиса? Возможно, это не только шанс продолжать обладать властью, которой мой муж наделил меня, но что-то более ужасающее. Если я решу неверно, не обрушит ли на меня Ра свой гнев?
Она завернулась в покрывало, соскользнула с ложа и тихо подошла к окну. В лицо повеяло прохладным воздухом. Сад, затихший и темный, иногда озаряли факелы солдат или слуг, спешащих с какими-нибудь поручениями. Она обдумывала слова сына снова и снова, пока чистое белое пламя его убежденности не воспламенило в ней ответную искру мрачного света, загоревшегося где-то глубоко. Тейе знала, что она – пресыщенная женщина, что ее чувства притуплены целой жизнью интриг, распада и порочности – неотъемлемых спутников безграничной власти. Ей никогда не доводилось слышать, чтобы о духовных материях говорили с таким искренним убеждением, и под слоями цинизма и ржавеющей броней сомнительных решений, принятых из соображений политической необходимости или общественной стабильности, настойчивая убежденность Аменхотепа задела в ней чувствительную струну. Что если он и вправду предвестник ревностного бога, пришедшего восстановить равновесие Маат, искаженное веками заблуждений?
Она уснула, стоя на коленях перед окном, положив голову на подоконник. В какой-то момент под утро она проснулась, вздрогнула, почувствовав заботливую руку Пихи на своем плече, и, шатаясь, пошла к своему ложу, чтобы снова погрузиться в сон без сновидений.
Все три дня, пока в ее душе шла внутренняя борьба, Аменхотеп не заговаривал с ней. В одиночестве отправившись в Он, чтобы поклониться своему богу в храме солнца, царь по возвращении много времени проводил на коленях перед своим переносным жертвенником, а также играя с обезьянками и кошками. Когда он присоединился к Тейе для официальной вечерней трапезы, то появился при полных регалиях: с двойной короной на голове, с крюком и цепом, лежащими у ног, с леопардовым хвостом и фараонской бородой. Он говорил мало, и Тейе тоже не пыталась поддерживать разговор. Она искоса поглядывала на сына, отмечая, как он медленно ест, изящно поднося фрукты и овощи к своему большому рту. Его прозрачные глаза были задумчивы, впалая грудь ровно вздымалась, и соколиноголовый бог солнца Ра-Харахти, которого j он всегда носил на своей тонкой шее, отбрасывал на его лицо скользящие лучи отраженного света.
На четвертый день она проснулась уже с оформившимся решением. Одевшись и накрасившись, она вызвала вестника и телохранителя. Сына она нашла у подножия террасы, где он бросал хлеб птицам, что кружились и свистели у него над головой. Сидевший на ступеньках у его ног писец читал вслух письмо. Вскоре она поняла, что это послание от Нефертити. Она спустилась к нему, и при звуке ее шагов по белому камню он обернулся и улыбнулся ей.
– Я приму корону, – сказала она напрямик, – соглашение должно быть засвидетельствовано письменно и скреплено печатью фараона. Сделай это сейчас, Аменхотеп.
Или я передумаю, – мысленно добавила она. Он хотел было обнять ее, но, видя ее напряженное лицо, заколебался, потом опустил руки.
– Возьми новый папирус, – торжественно повелел он писцу. – Записывай то, что я буду говорить.
Он начал диктовать, и вдруг Тейе сделалось невыносимо стоять здесь без движения, слушая его визгливый детский голос. Голову ее стало сильно припекать, а камни под ногами казались слишком холодными. Сдержанно поклонившись, она покинула его, подзывая на ходу Пиху и носителей балдахина. Она все ускоряла шаг и, оказавшись у озера, уже почти бежала, на ходу снимая браслеты, потом рванула с шеи ожерелья, сорвала с головы и отшвырнула в сторону парик. С криком она бросилась в воду, с открытыми глазами нырнула до самого дна, чувствуя, как вода заполняет рот и уши. Не в силах больше задерживать дыхание, она вынырнула на поверхность и поплыла. Что я наделала? – думала она. – Что? Она вышла на берег, совершенно выбившись из сил, когда руки и ноги уже отказывались повиноваться ей, и легла под балдахином, растирая влажную кожу.
Этой ночью Аменхотеп пришел к ней. Его приход объявил вестник, который затем приказал ее слугам покинуть покои и удалился сам. Она соскользнула с ложа, опускаясь на пол, чтобы поцеловать его босые ноги. Он попросил ее подняться, и некоторое время они стояли, глядя друг на друга. Тейе заметила про себя, что он на голову выше ее, такого же роста, как и его отец. Он недавно пил ароматное вино, в его дыхании чувствовался запах эссенции лотоса. Губы были окрашены хной, а глаза тщательно подведены углем. Свободные складки его мягкого белого парика покоились на шее.
– Ты боишься? – спросил он участливо, беря ее за руку.
Она смотрела, как он перебирает ее пальцы, и понимала, что ей не страшно. Она покачала головой. Он снял парик, аккуратно положил его на столик и провел рукой по гладко выбритой голове. Его вытянутый, выдающийся вперед подбородок и миндалевидные глаза казались слишком выпуклыми, отчего лицо приобретало жестокое выражение, но его взгляд был спокойным. Под прозрачной белой накидкой, которую он теперь отбросил, он был совершенно голый, бледные полные бедра рыхло подрагивали в свете ламп. Тейе отталкивала его несуразность, и одновременно ее влекло к той его части, что была ею самой. В этом мужчине есть кровь бога, которого я любила, – думала она, – так же как и моя собственная кровь.
Она опустилась на край ложа, и он устроился рядом с ней. Взяв ее лицо в ладони, он повернул ее голову к себе, теперь в его глазах горел лихорадочный огонь, проблеск оживления, от которого на его высоких скулах заиграл легкий румянец.
– На лице Ситамон очень скоро залегли бы такие же жесткие складки, – прошептал он, его дыхание участилось, – но ее глаза никогда не приобрели бы такой глубины и твердости. Я люблю тебя, матушка. Обними меня.
Она обняла его, и ею стало овладевать чувство нереальности происходящего. Будто она безопасно и спокойно спала где-то в другом месте, в другое время и издалека видела себя – во сне. Он не контролировал свою страсть так, как его отец, он предавался любви с упорной неутомимостью, которая была свойственна ей самой. Казалось, он не замечал, что она покорилась ему, терзаемая дурными предчувствиями, и, даже когда он вошел в нее, она все еще спрашивала себя, какому безумию она поддалась. Она отстранилась еще до того, как он перестал двигаться в ней, и, проявив чудеса интуиции, на которые он иногда был способен, он оставил ее в покое и лег рядом, тяжело дыша.
– Тебе не будет от этого вреда, Тейе, – сказал он, будто читая ее мысли. – Ни один бог не осмелится осуждать тебя. Ты под моей защитой.
В течение следующей недели – последней их недели в Мемфисе – он приходил к ней каждую ночь. Аменхотеп предавался любви с той же милой, но все же какой-то странно бесстрастной нежностью, и Тейе, попривыкнув, отвечала ему тем же. Ее тело тосковало по умелым, опытным рукам покойного супруга, его лицо часто вставало перед внутренним взором Тейе. С другой стороны, она никогда не видела от мужа такой исполненной желания нежности, которую проявлял к ней сын. Часто она не говорила ему ни слова, будто слова могли стать подтверждением ее преступления, окончательно сделать реальным то, что все еще было для нее похоже на сон, и он понимал ее или просто предпочитал ее молчание.
Днем они тихо прогуливались рука об руку в садах или, расположившись под деревьями, передвигали фишки на доске. Аменхотеп нанес последний визит в Он, но не просил ее присоединиться к нему, отчего она испытала облегчение. От ее внимания не укрылась новая, молчаливая деловитость ее слуг, когда те принялись паковать вещи для обратного путешествия в Малкатту.
Большую часть пути домой они прошли под парусами и прибыли к ступеням дворцового причала за три дня до начала празднования Опета. Сообщение об их возвращении было отправлено раньше. И вот Тейе, почти теряя сознание от жары, от которой она отвыкла без малого за два месяца, увидела с палубы, что вся площадь перед дворцом и обе стороны канала заполнены придворными Нефертити, двое детей и брат Тейе сидели под балдахином, все остальные почтительно отдалились, чтобы не мешать их уединению. Птахотеп, Си-Мут и небольшая группа жрецов Амона толпились в стороне под своим навесом. Хоремхеб стоял со своими солдатами в том месте, где должны были сбросить сходни; Мутноджимет нетерпеливо расхаживала, сшибая хлыстом сухие листья с деревьев, а ее толстые голые карлики бродили по воде канала.
Когда ладья прошла по каналу и уткнулась в причал, никто не приветствовал ее радостными возгласами. Одиноко и четко прозвучала команда Паси, эхом отозвавшись от колонн залы приемов, перед которой толпились придворные. Фараон начал спускаться по сходням, Тейе шла за ним, с высоко поднятой головой, на ее короне поблескивали диск и двойное перо. Команда засуетилась, и прибывшие начали сходить на берег, все еще в зловещей тишине. Эйе и Нефертити поклонились и застыли в ожидании. Встретившись взглядом с племянницей, Тейе прочла в ее глазах мрачную ненависть. Твердо ступая, она шла на нее, полная решимости сломить ее волю, и осталась довольна, увидев, как девушка заколебалась и опустила взгляд. Тейе знала, что эта секунда определяла все их дальнейшие взаимоотношения, и внутренне вздохнула с облегчением. Фараон оглядел присутствующих с милостивой, рассеянной улыбкой.
– Вы все можете подняться, – пронзительным голосом объявил он. – Нефертити, дай мне Мериатон. Моя малышка подросла, пока меня здесь не было.
Он крепко прижал к себе ребенка и пошел вперед. Свита двинулась следом, мартышки радостно затараторили и поскакали к деревьям, а кошки, выпущенные из клеток, бросились спасаться в тени. Тейе ощутила приступ болезненной ревности, когда фараон, улыбаясь, сделал знак Нефертити подойти к нему, но она быстро справилась с ним и подозвала Птахотепа.
– Верховный жрец, жду тебя через час. – Потом повернулась к Эйе: – Пойдем со мной.
Она направилась в личные покои супруга. За ней последовали хранитель царских регалий, носители опахала и прочая свита. Сняв корону, она вручила ее хранителю и приказала слугам выйти, потом живо двинулась к трону и взошла на него. Эйе стоял во враждебном молчании, пока последний слуга не попятился к дверям и не закрыл их за собой. Когда Тейе сделала ему знак говорить, он кинулся к подножию трона почти бегом.
– Ты что, лишилась рассудка? – спросил он сквозь стиснутые зубы, прижав руки к телу. – Ты обезумела? Это правда?
Она холодно разглядывала его.
– Да, это правда.
– Весь дворец взорвался негодованием, когда зачитали указ. Люди бросались друг к другу в залах дворца, торопясь разнести новость… Зачем, Тейе, зачем?! Птахотеп каждый день приплывал сюда из Карнака, сам не свой от беспокойства.
– Я скоро поговорю с Птахотепом. Не кричи на меня, Эйе. Я уже давно не твоя маленькая сестренка. Я бы не хотела отвечать за то, что предпринял бы фараон в том случае, если бы я отказалась от короны.
– Ты могла бы взять в постель какого-нибудь мелкопоместного вельможу, – насмешливо проговорил он. – Двор бы ничего не сказал на это. Но с собственным сыном…
– Если ты не прекратишь кричать на меня, я велю тебя выпороть! Я императрица! Я богиня! Ко мне нельзя так обращаться!
Он уставился на нее, тяжело дыша, потом сдержанно поклонился.
– Раскаиваюсь.
Но он не выглядел раскаявшимся. Тейе видела, как кровь прилила к его щекам, как нервно он сжимал пальцы своих больших рук, пытаясь совладать с собой.
– Мы ни к чему не придем, если будем продолжать кричать друг на друга, – сказала она твердо. – Мне нужна твоя проницательность, Эйе, а не твои нелепые рассуждения. Через несколько дней громкое возмущение двора перейдет в обычные сплетни, как это и произошло с мальчишкой моего супруга.
– Надеюсь, что ты окажешься права. Иначе ты рискуешь потерять лицо, а это грозит ослаблением твоей власти.
– Я решила, что должна рискнуть. – Она рассказала ему, что произошло в Мемфисе, и Эйе, забыв свой гнев, задумчиво слушал.
– Тем не менее, – сказал он, когда она закончила, – это непоправимое деяние, совершенное опрометчиво. Ты могла подождать до возвращения и обсудить это со мной.
– Возможно. Но я тщательно все обдумала. Если Аменхотеп ошибается или просто заблуждается, тогда все, чего я добьюсь, – настрою против себя двор, сильно огорчу жрецов и нарушу закон Маат. Скандал этот вскоре забудется. Но если бы я отказала ему…
– Мы всегда должны в первую очередь думать о своей безопасности, а потом о безопасности империи, именно в такой последовательности, – прервал он ее. – И то и другое связано с личностью фараона. Становится очевидным, что Аменхотеп не будет править, если его религиозные нужды не будут удовлетворены, а если он не будет править хорошо, от этого пострадаем и мы, и империя.
Тейе оскорбилась:
– Ты думаешь, что я – одна из его религиозных нужд?
Эйе печально улыбнулся ей:
– Думаю, да, Тейе. Не все так просто, конечно, но это – главная причина его брака. Ради Египта и ради себя самой, я надеюсь, ты запомнишь это.
– Я попытаюсь, – сказала она с сарказмом и отпустила его.
Позднее она приняла у себя Птахотепа, постаравшись убедить его в том, что никакое нарушение закона Маат не угрожает и никогда не угрожало устойчивости страны или верховенству Амона. Она подробно остановилась на своем собственном долгом опыте правления при фараоне, который в погоне за своими удовольствиями передал Египет в ее руки, намеренно создавая у Птахотепа впечатление, что во время царствования ее сына ничего не изменится. Она знала, что это лучше, чем льстить или лебезить перед ним, и он ушел успокоенным. Хорошо бы мне самой поверить в свои слова, – думала она, направляясь к своей опочивальне, чтобы отдохнуть в невыносимые полуденные часы. – Я сменила одного фараона на другого. Я все еще правительница и императрица.
Но когда она лежала под качающимися опахалами в своей затемненной комнате, перед ее внутренним взором вставал образ сына, как он прижимается ртом к ее губам, с нежной страстью целует ее тело, смотрит ей в глаза, ложась на нее сверху, и она не могла уснуть. Когда пришла Пиха, чтобы поднять занавески, и свет вечернего солнца, все еще удушающий, залил комнату, она послала за Херуфом.
– Отправляйся за реку, в город, – велела она. – Купи для меня «Исповедь отрицания». И не посылай слугу, Херуф. Сделай это сам.
– Императрица, – обратился он к ней, лицо его было бесстрастно, – могу ли я иметь безрассудную смелость напомнить тебе, что ты считаешься богиней, а боги не нуждаются в исповеди?
– Херуф, я никогда в жизни не оставляла ничего на волю случая. Ты мой управляющий. Делай, что тебе велено.
Он поклонился и вышел.
Она собиралась заняться другими делами до его возвращения, но не могла ни за что взяться. Это чувство вины отличается от того, которое я испытывала после убийства Небет-нух, – размышляла она, стоя посреди опочивальни, сложив руки на груди и опустив голову, – отличается от вины, которую я чувствовала, когда приказывала сечь, отправлять в изгнание, наказывать. Почему?
Херуф вернулся, когда солнце закатилось, и, хотя он явно успел зайти в свои покои, чтобы наскоро умыться и переодеться, на его щеках еще оставался слой пыли. Тейе натянуто улыбнулась ему.
– Ты все еще грязный, Херуф.
– Императрица, я ходил по общественным местам пешком, облачившись в грубое платье феллаха, – ответил он, поджав губы. – Мне казалось, что ты вряд ли пожелаешь заплатить за эту исповедь столько, сколько бы содрали с человека в дорогом одеянии и благоухающего, как бог.
– Поэтому ты мой управляющий, – ответила она. – Прочти ее мне.
Он развернул свиток и, опустившись на пол в позу писца, которым он когда-то был, принялся читать:
– «Приветствую тебя, Усехнемтет, Широкий в шаге, я не чинил несправедливости. Приветствую тебя, Хептсешет, Объятый пламенем, я не разбойничал. Приветствую тебя, Нехахра, Нечистый ликом, я не убивал ни мужчину, ни женщину. Приветствую тебя, Та-рет, Огненная стопа, я не впадал в гнев. Приветствую тебя, Хетч-абеху, Сверкающие зубы, я не захватывал ничьей земли. Приветствую тебя, Амсенеф, Кровопийца, я не убивал животных, посвященных богу.– Он продолжал бубнить, нараспев проговаривая слова, как читают молитву, заклинание или изгоняют духов, а Тейе слушала, не выдавая своего волнения. – Приветствую тебя, Сешет-Херу, Направляющий речь, я не был глух к словам справедливости и истины».
Нет, – думала Тейе, – я не была глуха. Я стараюсь прислушиваться к ним, но вопрос остается: говорит ли Аменхотеп слова справедливости и истины или нет?
– «Приветствую тебя, Маа-антеф, Провидец того, что несут ему, я не возлежал с женой другого. Приветствую тебя, Тутутеф, я не совершал прелюбодеяний и не предавался содомии, я не осквернял себя». – Тут голос Херуфа на миг дрогнул, и Тейе ощутила, как эти слова проникли ей под кожу и пробежали мягкими разоблачающими пальцами по затылку.
«Я не осквернял себя». Но, конечно, – убеждала она себя, – все это не касается лиц, ответственных за дела государства, для которых нарушение законов часто является необходимостью.
Она выслушала Херуфа до конца, не поворачиваясь к нему, пока свиток с шуршанием не свернулся.
– Дай мне перо и чернила, – приказала она. – Я подпишу ее.
Он положил писчую дощечку и свиток на ночной столик, обмакнул в чернила и вручил ей перо, показывая, где поставить подпись. Она дважды вписала свое имя и все свои титулы. Потом позволила свитку скрутиться и сунула его под подголовник.
– Это все, ты можешь идти, – сказала она, отдавая ему перо.
Он взял его, положил на дощечку и, замявшись в нерешительности, пал на колени перед ней, схватил ее ноги обеими руками и принялся целовать их.
Тейе отступила назад.
Что это значит, Херуф? – спросила она удивленно. – Встань сейчас же!
Он выпрямился, но с колен не поднялся.
– О, богиня, покорно прошу тебя освободить меня от моих обязанностей перед тобой и гаремом. Я хочу закончить службу.
– Что за глупости! Почему?
– Я состарился на твоей службе. Мои дети не помнят меня, а жены скучают в одиночестве. – Он избегал смотреть ей в глаза.
– Ты лжешь, Херуф, – спокойно сказала она. – Ты – мои глаза и уши, мои уста в гареме и мой хлыст среди слуг. Я знаю тебя лучше, чем саму себя. Если ты обидишь меня так, я рассержусь.
– Хорошо. – Он глубоко вздохнул. – Императрица, то, что ты совершила с фараоном, есть зло, скверна. Из-за этого я не могу служить тебе больше.
– А откуда ты знаешь, что я совершила? Может быть, мы просто заключили политический союз?
Его улыбка получилась вымученной.
– Разве не я твои глаза и уши? Разве не моя обязанность приносить тебе все слухи? Слуги Мемфиса не безъязыки.
– И давно ты сделался таким щепетильным? – Она говорила язвительным тоном. – Ты приехал со мной из Ахмина, когда я ребенком вошла в гарем. Ты выполнял любые мои приказания, не задавая вопросов.
Их глаза встретились, и она поняла, что ее ссылка на отравление Небет-нух не осталась незамеченной.
– Это другое, – тихо возразил он.
– Почему? – с вызовом воскликнула она, уже горюя по нему.
– Я не могу сказать, божественная.
– Глупо, как слова женщины, – сказала она, с сарказмом цитируя древнюю пословицу, и потом быстро сдалась – из страха, что начнет умолять его. – Я приму твою отставку. Ты заслужил мою благодарность. Передай Хайе свой значок и жезл и можешь отправляться домой, Херуф.
Он поднялся, безрадостно глядя на нее.
– Я люблю тебя, моя царица, моя богиня.
– Я тоже люблю тебя. Мой отец правильно поступил, когда отдал тебя мне. Пусть имя твое живет вечно.
– Отпусти меня. – Он плакал.
– Ступай.
«Но, моя дорогая Тейе, боги не испытывают угрызений совести», – звучал у нее в голове насмешливый голос супруга, когда шаги Херуфа, затихая, удалялись по коридору.
Ну и пусть так, все равно эти угрызения не продлятся долго, – решительно сказала она себе. – Мне не привыкать к предательству. Она приказала Пихе принести вина, позвать музыкантов и села у своего ложа, внимая оживленным мелодиям, которые наполнили комнату и полились над темнеющим садом.
Аменхотеп пришел к ней в эту ночь, тщательно накрашенный и одетый в прозрачное голубое платье, она встретила его кроткое вожделение со страстью, какой не испытывала с тех пор, как умер Могучий Бык. Это то, чего я хочу, – торжественно убеждала она себя, когда они соединились в страстном порыве, – и я покажу миру, что я всемогуща.
10
Как Тейе и предсказывала, скандал по поводу ее брака вскоре остался предметом разговоров только для тех придворных, кому было лень обсуждать что-нибудь еще. Сопротивление жрецов постепенно ослабело, когда они увидели, что фараон, хотя и без должного внимания, отправляет обязанности, которых требует Амон. Тейе со снисходительной улыбкой вспоминала свои мучительные раздумья в Мемфисе. Она оказалась права, доверившись своей интуиции. Разве управление страной, жизнь двора, отношения в царской семье не обрели теперь совершенно приемлемую форму? А новый фараон в начале правления всегда сталкивается с некоторыми трудностями.
Будто для того, чтобы подтвердить возвращение к обычному порядку вещей, в тот день, который предсказали жрецы Исиды, река начала подниматься, а с ней воспрянули духом и люди. Вся Малкатта полнилась предчувствием, что грядет новая эра, и самым значимым предвестником ее был фараон собственной персоной. Связь с Тейе, казалось, принесла Аменхотепу духовное освобождение. Мужское бессилие, одолевавшее его, исчезло, и хотя он никогда не был таким ненасытным любовником, как его отец, однако он больше не проводил ночи, закрывшись в опочивальне при ярком свете ламп и факелов. Часы темноты он делил с императрицей или царицей, и даже вторая жена, Тадухеппа, наконец, потеряла невинность.
В это же самое время Аменхотеп начал проповедовать свое учение. То, что начиналось как споры в саду на религиозные темы с жрецами. Она, теперь обернулось почти ежедневными проповедями в зале для приемов. Он восседал на троне, иногда в своем любимом белом клафте, но чаще в свободном парике, с крюком и цепом на широко расставленных коленях, и его голос, высокий и тонкий, разносился над беспокойной толпой. Вокруг него под золотым балдахином сидели, оглядывая слушателей, жрецы Она и их стражники; с ними всегда была Нефертити, ее личико надменно сияло под сверкающей, увенчанной коброй диадемой. У ног фараона часто сидела малышка Киа. Хотя поначалу его слушателями были только служители дворца да некоторые любопытные придворные, очень скоро те же придворные дали понять каждому во дворце, что милости фараона достойны лишь те, кто внемлет его речам.
Аменхотеп лучезарно улыбался постоянно растущей толпе слушателей, с доброй снисходительностью вещая о верховенстве Ра, проявляющегося в своем видимом облике как Диск Атона – Солнца. Он никогда не упоминал Амона, и Тейе, которая иногда приходила послушать его, если была свободна от более важных дел, задумывалась, было ли это упущение намеренным, или сын просто считал Амона настолько незначимым, что совсем забывал упомянуть его. Содержание этих речей неизменно утомляло Тейе, но она часто оставалась дослушать до конца, привлеченная такой непоколебимой уверенностью в голосе сына, которой в нем не было никогда в другие моменты жизни. Его глаза горели, длинные руки будто оживали, когда он дополнял свою речь грациозными жестами. К ее удивлению, слова фараона находили живой отклик в сердцах некоторых придворных, и, поговорив с ними позже, с ревнивой настороженностью выискивая малейшие оттенки фальши, она не увидела в их глазах ничего, кроме тени раздумья. Они с Эйе иногда обсуждали возможные последствия странных взглядов Аменхотепа, завладевших Малкаттой, и, в конце концов, сочли их несущественными. Времена, когда религиозные воззрения были движущей силой в жизни знати, давно прошли, осталось лишь небольшое, но нарочитое проявление набожности – домашние жертвенники, благовония и символическое отправление ритуалов.
Однако в один прекрасный день ее самоуспокоенность, касающаяся безвредности учения, была нарушена, когда в официальные приемные часы к ней явился Птахотеп с одним из младших жрецов. Она заметила его еще издали, он ждал в глубине залы, и что-то в его позе, его руках, напряженно сжатых поверх жреческой леопардовой шкуры, свисавшей ему на грудь, в склоненной бритой голове заставило ее встревожиться. Молодой жрец рядом с ним казался взволнованным, переминался с ноги на ногу, теребя белые ленты на голове. Не носильщик, – подумала она. – Возможно, заклинатель, не видно его наплечной повязки. Ей пришлось переждать доклады еще трех управителей, – писец усердно поскрипывал пером у ее ног, – пока Птахотеп с молодым жрецом не приблизились к трону и не выполнили ритуал почитания. Зала уже почти опустела, и желудок Тейе напомнил ей, что время полуденной трапезы уже прошло.
Птахотеп неуверенно подошел ближе, и Тейе велела вестнику и телохранителю посторониться.
– Говори, верховный жрец.
Он шагнул к подножию трона.
– О, богиня, я не знаю, с чего начать. С тех пор как Великий Гор начал проповедовать свое учение, в Карнаке нарастает беспокойство. Никто из жрецов не пренебрегает своими ежедневными обязанностями, но среди молодежи начались споры, даже перебранки, и мир и порядок в кельях под угрозой. Мне рассказывают, что молодые жрецы часто не спят по ночам. Они прокрадываются в кельи друг к другу, они берут свитки из храмовой библиотеки, иногда в отношениях между ними вдруг прорывается некоторая враждебность. Повсюду, кроме святая святых, жрецы шепчутся о Ра-Харахти. Некоторые даже подвергают сомнению всемогущество самого Амона. Я сам, Си-Мут, другие пожилые жрецы знаем, что это – всего лишь легкая буря, которая скоро пройдет, но остальные не настолько терпеливы.
– Мы уже обсуждали это раньше. Фараон не имеет в виду неуважение к Амону. Разве он не повелел тебе продолжать ежедневно совершать жертвоприношения от его имени? Разбирайся сам со своими жрецами, Птахотеп, и не рассчитывай, что я стану делать это за тебя.
– Императрица, дело не только в разбирательстве, – обиженно ответил он, – дело вот в этом жреце. – Он кивнул на застенчивого юношу рядом с собой. – Он попросил разрешения оставить службу в храме Амона и присоединиться к жрецам Атона, которые готовятся к служению в новом храме фараона. Если я отпущу его, не потянутся ли за ним остальные? Должен ли я наказать его, или с позором отослать домой к семье, или приказать ему остаться?
– В самом деле, Птахотеп, я… – начала Тейе, но умолкла на полуслове.
Это было непростое решение. Некоторые придворные недавно закрыли свои жертвенники Амону, заказав своим ювелирам новые жертвенники Атону, но для них это была всего лишь новая игра. Сейчас перед ней было первое проявление чего-то более глубокого – первый жрец, побужденный к действию. Иногда Тейе замечала жреческие одежды на тех, кто приходил слушать учение фараона. Если она прикажет Птахотепу наказать этого юношу или отправить его домой, это будет признанием того, что его жрецы служат по принуждению. Но если отпустить юношу служить Атону, может начаться массовое бегство.
– Ты, – обратилась она к молодому жрецу, – назови свое имя и сан.
Юноша поклонился:
– Я Мерира, заклинатель в Доме Бен-бен Амона.
– И чего же ты хочешь?
– Я хочу, чтобы меня отрешили от служения Амону. Он великий бог, он помог Египту во времена засилья гиксосов, но я больше не верю в его всемогущество. Атон – вот кто сияет всему миру.
– Почему ты не можешь служить обоим богам?
– Я могу поклоняться Амону, но служить могу только Атону. Я не хочу никому навредить. Я кроткий человек, я никогда никому не причинил зла ни словом, ни действием. Я всего лишь хочу спокойно покинуть Карнак и присоединиться к служителям храма Атона.
– Фараону известно о твоем желании?
– Да. Но он позволит это только с разрешения моего наставника.
По крайней мере, в этом фараон проявил осторожность, – подумала Тейе. – Понятно, почему Птахотеп не пошел жаловаться фараону.
– Бессмысленно удерживать людей против их воли, – обратилась она к верховному жрецу. – Они станут служить Амону без желания, и от этого будут одни неприятности. Отпусти его. Но, Мерира, ты должен оставить все, что ты заслужил, богу, которого ты предаешь. Ты все понял?
Ясные глаза твердо взглянули на нее.
– Да, императрица.
– Птахотеп, советую тебе объявить всем в Карнаке, что жрец, который отправляется служить Атону, немедленно лишается всего. Тогда уйдут только самые пламенные приверженцы, а сомневающиеся останутся. У тебя что-нибудь еще?
– Императрица великодушна.
– Тогда ступай. Я голодна.
Было бы глупо и опасно удерживать этого юношу против его желания, – думала она, направляясь со своей свитой в пиршественную залу. – Я только надеюсь, что у моего сына хватит здравого смысла не награждать в открытую перебежчиков, иначе мы получим настоящую реку алчущих жрецов, текущую из одного храма Карнака в другой. Ладно, к Себеку их всех. Где мое пиво и хлеб?
В следующие несколько недель выяснилось, что решение Тейе оказалось менее действенным, чем она ожидала. Несмотря на то, что массового исхода из храмов Амона, которого она опасалась, не случилось, неудовлетворенных жрецов, которые вдохновились объявлением Птахотепа, чтобы изменить Атону, было достаточно. Она понимала, как важно неустанно наблюдать за религиозными процессами и постоянно поддерживать контакт с осведомителями из среды жрецов, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем.
Несколько незначительных проблем, которые все-таки возникли, были сразу же разрешены, и Тейе снова ощутила, что обретает контроль над ситуацией. Но тут к ней явился явно встревоженный Эйе. Был сезон шему, когда половодье казалось бесконечно далеким и обжигающее дыхание Ра неистово изливало жар по всей земле.
Она только встала после дневного сна, еще расслабленная и обессиленная, и сидела на краю ложа, когда ей сообщили о приходе брата. Она кивком головы позволила ему говорить.
– Тейе, я хочу, чтобы ты поехала со мной на тот берег. Строительство храма Атона почти завершено. Было много разговоров вокруг статуй, установленных с обеих сторон переднего двора, и нам нужно увидеть их, прежде чем храм будет освящен, потому, что потом мы не сможем ходить всюду, где захотим.
Тейе вяло поднялась, и Пиха набросила на нее белое одеяние, застегнула украшения на шее, запястьях и щиколотках.
– Я тоже слышала об этом. Аменхотеп уверял, что необходимо осмотреть работу его мастеров, но, честно говоря, Эйе, он не смог заинтересовать меня этим.
Она села за туалетный столик и взяла зеркало. Оно отразило отяжелевшее, отекшее, землистого цвета лицо. Тейе положила зеркало, и слуга принялся открывать свои баночки.
– Сегодня ты заинтересуешься. «Сияние Атона» ждет нас. На воде, может быть, будет немного посвежее.
– Не надо насмешек. У меня слезятся глаза, Небмехи, так что крась поаккуратнее. Я давно не вижу Мутноджимет, Эйе. Где она?
– Они с Хоремхебом отправились на север, в Мемфис, а потом поедут в Хнес навестить отца Хоремхеба. Похоже, союз получился удачным, Тейе. Вечеринки у Депет и Вирел без моей дочери уже не те.
– Зато твоя вторая дочь не позволяет расслабиться. Ее враждебность каждый вечер лишает меня аппетита. Хайя говорит, что она снова ждет ребенка.
Она рассеянно выбрала парик, и парикмахер надел его, подобрав ее собственные рыжевато-каштановые волосы, а хранитель драгоценностей украсил парик золотой сеткой, усыпанной сердоликами. Когда хранитель царских регалий поправил на ее лбу царскую диадему с коброй, Тейе снова взглянула в зеркало и на этот раз смогла улыбнуться.
– Да, ее управляющий рассказывал мне, – со смехом сказал Эйе. – Она была готова озолотить всех прорицателей и оракулов в округе, чтобы те сказали ей, что родится мальчик, она покупала даже услуги служителей Анубиса.
– Да, знаю. Вызови носилки, Эйе. Я хочу проехать до причала. Слишком жарко, чтобы идти пешком.
По дороге они болтали о пустяках, легкий ветерок, задувавший с севера, немного взбодрил Тейе. На причале Карнака они снова сели в носилки и в сопровождении стражи отправились к храму. Когда они проезжали мимо храма Атона, который строила Нефертити, Тейе, бросив праздный взгляд на близкостоящий пилон, вдруг приказала носильщикам остановиться.
– Эйе, иди сюда. Кажется, мне в глаза попал песок.
Эйе послушно подошел к ее носилкам, а носитель опахала подбежал, чтобы укрыть их от солнца. Запрокинув голову, Тейе ощутила прилив ярости и замешательства.
Над ними возвышался каменный пилон. На каждой из его опор, глубоко высеченная в камне и ярко раскрашенная синим и золотом, шагала по телам мертвых нубийцев и мерзких азиатов огромная Нефертити. Картина немного напоминала ту, что окружала трон самой Тейе. Но на том резном изображении Тейе была сфинксом с телом животного, с когтями и женской грудью. Здесь же на застывшей в камне Нефертити была короткая мужская юбка, а представлена она была в такой позе, в которой никогда не изображался никто, кроме правящего фараона. Одной рукой она поднимала карающий царский скимитар, в другой держала цеп. У фигуры не было грудей, а на голове была высокая, с плоским верхом корона, спереди увенчанная коброй. Только лицо было узнаваемо женским, это было лицо Нефертити.
Тейе и Эйе переглянулись.
– Те дни, когда я узнавала о происходящем в моих владениях прежде, чем оно происходило, миновали, – пробормотала Тейе сквозь стиснутые зубы. – Как она посмела сделать такое? Это святотатство! Что она пытается доказать?
– Она заставляет камни говорить о том, о чем не может сказать сама, – резко ответил Эйе. – Надеюсь, у царицы имеются надежные люди, которые пробуют пищу, и неподкупная стража.
– Она не посмеет!
Эйе повернул к носилкам.
– Раньше она нападала без предупреждения. Это – предупреждение.
Как я была глупа, не придавая значения этому строительству, – думала Тейе, ей даже сделалось дурно от гнева. – Теперь мне кажется, что нити, привязывавшие Египет ко мне одной, рвутся под ловкими пальчиками Нефертити. В оцепенении она снова уселась в носилки, и Эйе приказал процессии двигаться дальше. Погруженный в раздумья, он на пути к храму Аменхотепа лишь изредка ронял слова.
Они оставили носилки у первого пилона, за которым открывался огромный, размеченный флажками двор, и, держась в тени, направились к внутреннему двору. Жрецы Атона, величественные в своих белых одеждах, прерывали разговор и низко кланялись. Истекавшие потом каменщики отложили свои инструменты и распростерлись ниц на горячих камнях. Некоторые из колонн, обозначавших линию внешних стен, уже были установлены, для других были приготовлены углубления.
Тейе и Эйе подошли ко второму пилону, более высокому и широкому, чем первый. Перед ним стояли шесты, на них в вышине реяли сине-белые флаги царского дома. Когда храм освятят, охрана из жрецов встанет по обе стороны от входа, чтобы простолюдины не могли попасть во внутренний двор. Но сегодня у пилона никого не было, на них повеяло жаром раскаленного на солнце камня. Тейе ожидала увидеть нечто вроде навеса, в тени которого могли бы укрыться благочестивые верующие, но ничего не нашла. Солнце нещадно заливало светом огромное пространство.
У входа она остановилась. Перед ней тянулись нескончаемые ряды столиков для подношений, каждый столик был установлен на небольшом возвышении, и между ними едва хватало места для прохода процессии. Стена двора через равные интервалы была размечена пилястрами, на три четверти выступавшими из стены. На каждом пилястре был изображен фараон – множество одинаковых изображений Аменхотепа взирали с высоты на священное место. Эйе тронул Тейе за руку. – Давай-ка рассмотрим их.
Обойдя столики для подношений, они приблизились к стене и посмотрели вверх.
Изображения, хоть и огромные, были мастерски выполнены, они передавали спокойную непогрешимость, присущую божественной природе фараона. Кобра и гриф вздымались над крылатым шлемом. Глаза Аменхотепа смотрели вниз, придавая слегка угрожающее, осуждающее выражение безмятежному лицу. Тонко вырезанный нос, полные губы, сомкнутые и чуть растянутые в слабой улыбке, фараонская бородка, выступающая вперед, к изображению крюка и цепа – было уже хорошо известно, что скимитаром Аменхотеп пренебрегал, – скрещенных на гладкой груди. Каменные руки крепко держали регалии, на запястьях и плечах были вырезаны браслеты с царскими картушами. Фигуры были не раскрашены. Тейе отступила, глядя на нескончаемые недвижные изображения сына, чей взгляд был устремлен вниз, на столики, над которыми взовьются жертвенные костры во имя его бога.
Потом, медленно скользя взглядом по фигуре фараона, она заметила, что его полный живот, плавно изгибаясь, переходит в бедра, и дальше, в ноги, которые, в свою очередь, становятся нижней половиной каждого пилястра. Если не считать одеждой шлемы, все статуи были обнаженными, и, поскольку на них не было вырезано юбок, чтобы прикрыть срам, было очевидно, что ни у одной из фигур нет признаков пола. Бедра каждой фигуры были плотно сомкнуты, как у женщины. Тейе медленно пошла вдоль стены, глаза статуй взирали на нее с высоты. Она шла, и постепенно ею овладевало глубокое душевное волнение, струящаяся от этих массивных сооружений невидимая аура обволакивала ее, и ей вдруг показалось, что глаза лгут, а вырезанные рты выкрикивают мучительную правду, наполняя храм бурей невысказанных терзаний. Она дошла до конца стены и развернулась, потрясенная и едва не теряющая сознание.
– А где Бен-бен? – шепотом спросила она.
– Здесь нет Бен-бена, – спокойно ответил Эйе. – Здесь нет бога, нет пирамид, нет священного камня. Атона нет в этом храме.
– Я боюсь, Эйе. В этом месте огромное зло, и я чувствую себя как ребенок, встретившийся в какой-нибудь пустынной долине со своими ожившими страхами. Мой сын знает, что фараон – это Могучий Бык, символ плодородия Египта, источник животворящего семени для людей и земли. Изобразить себя без детородного органа – значит навлечь бесплодие на весь Египет. – Подойдя к ближайшему столику для подношений, она оперлась на него. – Но это не самое страшное нарушение. Сущность фараона обитает в каждом его изображении, в каждом рисунке, в знаках его имени на картуше. Он наполняет своим присутствием любое место, где находятся его изображения, распространяя на все зрелую, мужскую, нестареющую магию, потому что он есть бог, и долго еще после своей смерти он защищает и лелеет свой народ. Какую защиту Египту могут дать эти уродливые статуи?
– Мне известны эти истины, Тейе, – мягко напомнил Эйе. – Но, возможно, фараон пытается ввести иные, свои собственные. Он верит в то, что он – воплощение Ра, Атон и Зримый Диск, а Атон, в отличие от Амона, бесполый. Думаю, фараон верит, что Египту нечего бояться подобных изображений, потому что магия, которую распространяет он, сильнее магии Амона. Фараон много говорит о том, что он сам и все остальные должны жить в истине. Изображения эти являют собой пример подтверждения его слов.
– Но Нефертити перетягивает на себя одобрение и признание богов богохульными изображениями, которые мы только что видели! Люди поверят в то, что она – фараон, а мой сын – не более чем простой смертный!
Она побледнела, Эйе шагнул к ней.
– Пойдем отсюда, – сказал он. – Здесь все будет иначе, когда на столах будут лежать груды подношений и цветов, и жрецы будут воскурять фимиам. Неоконченное строительство выглядит непривлекательно. – Его голос гулко звенел в пустоте.
– Но не так, как это. – Она посмотрела ему в глаза. – Эйе, я беременна. Меня это не раздражает и не пугает, я просто смирилась. Но то, что я узнала теперь, давит на меня. Я делала все возможное, чтобы предотвратить беременность, но когда это случилось, я обрадовалась за Аменхотепа, и, да, втайне я слегка торжествовала, представляя себе реакцию Нефертити. Теперь мне хотелось бы снова оказаться в Мемфисе, чтобы ответить на предложение сына отказом.
В словах ее сквозила неприкрытая горечь. Эйе обнял ее и повел к носилкам, туда, где сидели носильщики, развалясь в тени пилона. Ее кожа была холодной.
Той ночью она еще не стряхнула свое настроение. Аменхотеп пришел к ней. Он улыбался ей, говорил о пустяках и любил ее, как ей казалось, желая этого, но тело не вполне повиновалось ему. Она вела себя безучастно. Посещение храма Атона изменило ее отношение к нему, теперь ей казалось, что она увидела его впервые. Самые безобидные его слова казались ей зловещими, движения его уродливого тела в свете ламп таили невысказанную угрозу. Хотя ей и хотелось расспросить его, но она так и не осмелилась.
На следующий день она посетила Тиа-ха, в надежде, что жизнелюбие и здравый смысл подруги рассеют ее тревоги. Царевна вместе с личной служанкой разбирала свои наряды, и в ее покоях царил еще больший беспорядок, чем обычно. Тейе приветствовала ее, приняла почтительный поклон и стала пробираться между грудами разбросанных повсюду ярких платьев к отброшенным к стене подушкам.
– Вечно у тебя беспорядок, Тиа-ха, – сказала Тейе, опускаясь на подушки и откидываясь назад. – У тебя больше слуг, чем у любой другой женщины, однако твои гости с трудом протискиваются в дверь.
– Это оттого, что я неорганизованная, – ответила Тиа-ха, небрежным взмахом отпуская служанку. – Я обещаю себе, что стану аккуратнее, надиктую длинный список дел, которые надо переделать, но не успеют слуги приступить к их исполнению, кто-нибудь приносит новую игру или меня приглашают на праздник, и приходится все бросить и прихорашиваться. – Она уселась в кресло перед Тейе, носком сандалии отшвырнув разбросанные по полу платья. – Сегодня именно так и вышло. Я решила навести порядок и избавиться от своих старых нарядов, раздать их служанкам, и что же? Едва мы начали, как ко мне является императрица! Для меня, конечно же, большая радость поболтать с тобой, дорогая Тейе. Хорошо выглядишь. Осмелюсь заметить, что фараон тоже.
– Да, я тоже на это надеюсь, – неопределенно ответила Тейе. – А скажи-ка мне, царевна, не была ли ты случайно за рекой и не видела ли святилище нового храма, который Аменхотеп строит Атону? Его скоро закончат, и оно будет закрыто для посетителей.
Тиа-ха рассмеялась. Закинув ноги на кушетку, она опустилась на подушки и принялась стягивать кольца с пухлых пальцев, со звоном бросая их одно за другим в стеклянную чашу на полу.
– Случайно? Когда придворные толпами, как овцы, тащились к своим ладьям, чтобы переправиться через реку только для того, чтобы взглянуть на своего голого каменного фараона? Нет, не случайно, совсем не случайно. Я тоже, поддавшись любопытству, отправилась посмотреть, о чем это все так шумят.
Последнее кольцо со стуком упало в чашу, и Тиа-ха начала массировать пальцы.
– И что ты об этом думаешь?
– Я приготовилась увидеть странное осквернение Маат, – пояснила Тиа-ха, – но изображения оскорбили только мое представление о хорошем вкусе. Да ты огорчена!
Тейе перевела взгляд на свои собственные руки, сцепленные на коленях.
– Искусство – божественное дело, – еле слышно сказала она. – В изображениях царя не обязательно придерживаться точного физического сходства. Статуя или картина должны представлять царя как божественное воплощение, без человеческих недостатков.
– Но и с предшествующим фараоном было так же. Помнишь радость нашего супруга, когда перед ним сняли покрывало с той маленькой стелы, где он изображен сидящим в кресле в тонком женском платье?
У Тейе полегчало на сердце. Она благодарно улыбнулась Царевне.
– Помню. Но эта стела стоит во дворце. Храмовое искусство – другое дело.
– Ну, не настолько же. Кроме того, в новом храме фараона нет изображений бога, который может увидеть его тело, тогда в чем же дело? А не отведать ли нам пирожков?
Тейе согласно кивнула. Тиа-ха хлопнула в ладоши, тут же явилась служанка, Тиа-ха отдала приказание, и девушка исчезла.
– Что меня забавляет в наших придворных, так это то, что они бросились заказывать свои изображения в виде маленьких копий твоего супруга. В своем учении он рассказывает им, что Ра в знак особой милости наделил его неповторимым телом, поэтому они требуют, чтобы мастера покрыли стены их домов и гробниц искаженными изображениями их персон. Если подобное уродство дает человеку волшебную благую силу, они хотят иметь ее. Но как же тогда, ради всего святого, боги смогут узнать в таком уродстве смотрителей, управляющих, генералов и военачальников? Я не знаю! Даже оба могущественных визиря подобострастно следуют моде. Каждый хочет снискать расположение фараона. Так было всегда.
– Так ты полагаешь, что все это модное развлечение и оно пройдет?
Служанка Тиа-ха вернулась с блюдом пирожков, и Тейе, вдруг ощутив голод, съела сразу два.
– Ну конечно. – Тиа-ха колебалась с выбором лакомства. – А теперь, с позволения императрицы, я бы хотела сменить тему.
Склонив голову, она бросила проницательный взгляд на Тейе и начала запутанный рассказ о вечеринке на борту ладьи, куда была приглашена накануне вечером. И вскоре Тейе уже смеялась и ела пирожки, на время позабыв о своих страхах.
В разгар сезона ахет, когда река поднималась, а в воздухе повеяло легкой прохладой, Тейе разрешилась от бремени девочкой. Роды были тяжелыми. Ей удалось скрыть страх за свою жизнь, который увеличивался соразмерно тому, как распухало ее тело. Она понимала, что в бросаемых на нее исподтишка взглядах придворных таится ожидание кары за ее нарочитое пренебрежение запретами. Презрев неодобрение фараона, Тейе повсюду расставила в своих покоях статуи Таурт, богини материнства, а когда роды начались, вызвала в опочивальню магов с амулетами и заклинаниями. Их голоса и ее стоны были единственными звуками в переполненной комнате, потому что те немногие придворные, которым была оказана честь присутствовать при царственных родах, выжидающе помалкивали. Беззащитная и измученная болью, Тейе чувствовала их враждебность. Они в молчании встретили сообщение о рождении ребенка, зрители вышли один за другим в таком же обличительном безмолвии. Аменхотеп гордо прижал ребенка к своей хилой груди.
– Сестра-дочка, – сказал он, глядя в крошечное, спящее личико, – ты, кроме всего прочего, являешь собой доказательство того, что мой поступок богоугоден. Я назову тебя Бекетатон – Служанка Атона. А ты, Тейе, ты самая любимая великая госпожа. Страхи твои были беспочвенны.
Тейе опустила веки, чувствуя, будто на них давит тяжесть всех прожитых лет. У ложа стоял ее муж, расплывающаяся, сутулая фигура, большой парик свободно спадал на костлявые плечи. Она пробормотала что-то, сил для ясного ответа у нее не было. Какое-то мимолетное ощущение вторглось в ее сознание, и, хотя сон уже подкрадывался к ней, она не впускала его, пытаясь поймать мелькнувшую мысль. Она слышала, как Аменхотеп передал ребенка кормилице и, мягко ступая, пошел к двери. Она чувствовала, что ко лбу прикоснулся врачеватель. Дверь открылась, голос Эйе что-то спросил, дверь закрылась. Было что-то, связанное с ребенком, прижатым к груди супруга. Нет, не с ребенком, с самой грудью. Пектораль. Электрум, без драгоценных камней, только цепь тонкого плетения, на которой висело… Яркая вспышка предчувствия пронзила дремоту. Висело изображение Атона, символ Ра-Харахти, но оно было неправильным. Где соколиноголовый бог? Остался только диск, окруженный царственным уреем и солнечными лучами с руками на концах. С шеи Атона свисали анхи. Я должна сказать Эйе, – смутно подумала она. – Что это может значить? Вопрос остался без ответа, она уснула.
11
Следующий год на первый взгляд казался совершенно благополучным. В детских гарема подрастали дети. Через несколько недель после Тейе Нефертити тоже родила девочку, и Аменхотеп назвал ее Мекетатон – Под защитой Атона. Казалось, его не беспокоило то, что он до сих пор не произвел на свет ни одного царственного сына. Нефертити быстро поправлялась: сознание того, что у Тейе тоже родилась девочка, а значит, безрассудной схватки за право наследования трона не случится, благотворно повлияло на ее скорейшее выздоровление. Но здоровье Тейе восстанавливалось медленно, все недели половодья она отдыхала, наслаждаясь покоем и безмятежностью, занимаясь лишь самыми неотложными делами. Может быть, поэтому она любила малышку Бекетатон больше всех остальных своих детей, кроме первенца, Тутмоса. Любовь, которую она питала к Аменхотепу, когда он был ребенком, была вызвана страстным, неистовым желанием уберечь его от смертельной опасности, но, с нежностью наблюдая, как растет маленькая дочь, она чувствовала, что ее силы тоже растут, чувствовала, что все больше и больше по-настоящему привязывается к ней. Она не вглядывалась в ее будущее, не прочила ее в супруги своему сыну Сменхаре. Ей было достаточно настоящего, когда маленький теплый комочек рядом с ней просто тихо посапывал во сне.
Самому Сменхаре скоро должно было исполниться четыре года. Характер у малыша был спокойный, хотя иногда у него случались приступы говорливости; он был грациозен от природы, как и его покойный брат Тутмос. Для него уже началось учение в гареме, под неустанным взглядом Хайи. Такой поворот в жизни вовсе не обрадовал мальчика, потому что теперь их разлучили с Мериатон, – ей было всего два, и она была еще слишком мала. Миниатюрная, похожая на куклу, с серыми глазами Нефертити и орлиным носом отца, она была создана для колышущихся тончайших нарядов, украшений, лент и ароматных масел. Она часто стояла за дверью классной комнаты, где Сменхара вместе с детьми управителей фараона бубнил свои уроки, ее серые глаза с глубокомысленным терпением были прикованы к двери, она не обращала внимания на вздохи топтавшихся рядом нянек. Когда она слышала молитву Амону и краткое песнопение Атону, знаменовавшие окончание занятий и скорое появление Сменхары, ее хрупкое тельце напрягалось в предвкушении встречи. Расталкивая возбужденную ораву вопящих мальчишек, он подбегал к ней, и она вручала ему свой подарок, цветок, черепок или блестящего засушенного скарабея, – и он невозмутимо принимал это неоспоримое доказательство истинного чувства. Жаркие послеполуденные часы обычно не располагали к долгим разговорам, и в безмолвном единении они сразу же принимались играть в какую-нибудь только им двоим понятную игру.
Нефертити была довольна тем, что между детьми царит такое взаимопонимание, усматривая в этом основу для будущих переговоров, но Тейе лишь выслушивала ежедневные отчеты учителей и нянек и молча брала их на заметку. Любовь и династические соображения – суть совершенно разные понятия. Сама Тейе в этот год парила на самой вершине власти, уверенная в нескончаемой любви Аменхотепа. Казалось, ревность Нефертити почти угасла, превратившись в зловеще тлеющий огонек, ослабленная не только тем, что они обе произвели на свет девочек, но также и вернувшимся мужским бессилием фараона. Если он не способен предаваться любви с ней, то не мог спать и с Тейе, о чем сообщали ее осведомители. Невидимое пламя религиозной страсти – вот тот огонь, который сжигал фараона без остатка.
Аменхотеп часто бродил по своему все еще недостроенному храму, наблюдая, как его мастера высекают имя Атона, заключенное в картуши правящего монарха под новым символом, который он придумал для него. Глубоко за полночь он молился в своей ярко освещенной опочивальне, стоя перед жертвенником Атона с золотыми курильницами в руках, в гофрированном женском одеянии, которое он теперь стал носить. Вещая перед толпой, заполнявшей залу для приемов во время проповедей учения, он часто переходил на крик, его пронзительный голос становился высоким и тонким. Когда он, сидя на троне, подавался вперед, на его набегающем складками на окрашенные хной ступни одеянии проступали пятна трудового пота. После проповеди он обычно удалялся в опочивальню, без сил валился на ложе и погружался в глубокий сон. Его слушатели тем временем расходились: одни спешили заняться более приятными делами, другие – их с каждым разом становилось все больше – медленно перемещались на главный двор или в сад, затевая горячие споры. За кажущейся неизменностью пышной царственной рутины текла невидимая жизнь дворца, наполненная бесчисленными мелкими распрями, центром которых был сам фараон, шествовавший в окружении своих мартышек, – разряженная движущаяся копия гротескных изображений, которыми теперь были изукрашены стены Малкатты. Поскольку атмосфера при дворе сделалась тяжелой, Тейе находила отдушину в пространной переписке с иноземцами, которой, казалось, не будет конца, и проводила большую часть времени с придворными, которые знали ее первого мужа.
Однажды Тейе в сопровождении слуг и телохранителей шла по дороге, ведущей от погребального храма Аменхотепа Третьего в Малкатту. Она совершила жертвоприношения своему покойному супругу, принеся цветы и пищу к подножию его изваяния и шепча молитвы о благополучии его ка. Это был обряд, который она любила исполнять, потому что, когда двери святилища закрывались за ней, она переносилась на много лет назад. Насмешливая и необузданная натура Аменхотепа, казалось, заполняла собой огромное пространство между колоннами, принося ей чувство защищенности. В обществе сына, в его объятиях, она всегда испытывала тревогу, она страшилась будущего наказания, которое может настигнуть ее, несмотря на божественность, и иногда очень скучала по бурным, но таким легким отношениям, которые были у нее с его отцом. Слабый отзвук их продолжал жить здесь, в храме, построенном для его почитания, и Тейе понемногу черпала из этого источника. Она была слишком умна, чтобы потакать своим прихотям, предаваясь тоске по тому, что давно прошло, но, тем не менее, не могла отказать себе в маленьком удовольствии.
Со своей свитой она добралась до развилки, где по дороге тек многолюдный поток просителей к храму сына Хапу. Уже в густой тени храма она вдруг услышала чьи-то громкие проклятия и злые мужские голоса. Заинтересовавшись, она подняла занавеси паланкина и приказала носильщикам остановиться. Она уже собиралась послать кого-нибудь из свиты разузнать, что там происходит, как вдруг наступила тишина; потом тишину пронзил душераздирающий вопль, и перед кавалькадой внезапно появился человек. Завидев царскую свиту на безлюдной дороге, он застыл с полными ужаса глазами, потом, опомнившись, бросился бежать. Тейе кивнула начальнику стражи, и тот, взяв с собой еще нескольких стражников, кинулся вслед за беглецом, завернувшим за угол храма. От пыльной дороги веяло жаром, носильщики передавали друг другу кувшин с водой. Солдаты, оставшиеся позади, тревожно переминались с ноги на ногу; наконец вернулись стражники, они крепко держали беглеца. Сзади несли второго человека, и по тому, как обмякло его тело, и безвольно болталась голова, Тейе издали распознала, что человек мертв. Когда она сошла с носилок, солдаты сомкнулись вокруг нее, а слуги раскинули над ней балдахин. Тейе смотрела, как тело опустили на землю.
– Императрица, он умер совсем недавно, – сказал капитан. – Кровь еще не свернулась.
Тейе взглянула на разбитую голову, бритый череп, измазанный запекшейся кровью, разбитые губы, кровоподтеки на шее. Она отвела взгляд. Беглец, вспотевший и запыхавшийся, был тоже сильно избит. Его белое платье висело клочьями, но кровь, забрызгавшая его руки и размазанная по щеке, была чужая. Увидев, что императрица смотрит на него, он, что-то выкрикнув, попытался высвободить руки из крепкого захвата солдат, чтобы распластаться перед ней. Тогда Тейе и заметила его наплечные повязки, украшенные глифами Атона. Вздрогнув, она посмотрела на труп. На его наплечных повязках было выгравировано двойное перо Амона.
– Это невозможно! – Она почти кричала. – Встань, жрец. Что это значит?
Он силился заговорить, его глаза были прикованы к луже крови на дороге, уже впитывавшейся в пыль. Налетели мухи, алчно жужжа вокруг разбитой головы, солдат вытащил из-за ремня свою метелку и принялся отгонять их.
– Мне жаль, императрица, – прохрипел человек, судорожно сглатывая. – Я не хотел убивать его. Мы встретились на дороге, мне было жарко и очень хотелось пить. У него были хлеб и вода. Мы остановились поговорить. Он разделил со мной свой хлеб, и когда мы закончили трапезу, должны были уже разойтись, но… – Он закрыл глаза. Тейе невозмутимо ждала. – Мы разговаривали, потом заспорили. Он швырнул в меня бурдюк с водой, и во мне вскипела ярость. Я ударил его. Мы стали драться. Я повалил его на землю, но он вырвался и принялся ругать меня страшными словами. Я поднял камень и…
Тейе презрительно взмахнула рукой, сделав ему знак замолчать, и повернулась к начальнику стражи.
– Бросить его в дворцовую тюрьму и приставить охрану. Фараон рассудит. Труп доставьте к Птахотепу. Дерущиеся жрецы. Это невероятно!
Она повернулась к носилкам. В ноздри ударил запах свежей крови, внезапно появился гриф и закружил в вышине, неуклюже, но с вызывающим дрожь упорством; она задернула занавеси.
По возвращении во дворец Тейе отправилась прямо к сыну. Он выходил из своей купальни, разведя руки, давая возможность личному слуге вытереть себя, и приветствовал ее со своей обычной по-детски непосредственной улыбкой.
– Сегодня будет хороший праздник, Тейе. Пупри и Пузи, наконец, отправляются в Митанни после длительного отсутствия.
На этот раз она не проявила интереса к интригам, которые плели в Египте митаннийские посланники со времени похорон Осириса Аменхотепа. Глядя в лицо сыну, чтобы заметить реакцию, она в двух словах рассказала ему о том, что случилось на дороге. Он спокойно слушал с кротким выражением в больших карих глазах. Когда она закончила говорить, он ввел ее в свою опочивальню. Пока слуги облачали его в красное одеяние, он стоял, любовно лаская пальцами тонкую ткань. Потом сел, предоставив слугам окрашивать ступни хной, и, наконец, кротко вздохнул.
– Я поговорю с этим жрецом Атона, – сказал он. – Им еще так многому нужно учиться. Атон не нуждается в яростной защите. Он даритель жизни. Тебе нравятся эти браслеты, матушка? Мне подарил их Кенофер.
Она даже не взглянула на его протянутые накрашенные ладони, с которых сыпалось золото. Подойдя к креслу, она присела на корточки и заглянула ему в глаза.
– Аменхотеп, человек мертв, и это не простой человек. Жреца Амона, убитого жрецом солнца, отнесли в Обитель мертвых. Если жрец солнца не будет наказан за свое преступление, тем самым ты открыто заявишь о своем благоволении Атону и спровоцируешь дальнейшее разрешение всех глупых споров, которые имеют место, насильственным путем.
Он приподнял выщипанные брови и улыбнулся.
– Ты опытна в государственных делах, моя Тейе, и я редко оспариваю твои решения. Но с тех пор как я общаюсь с богом напрямую, я лучше, чем кто-либо, осведомлен в вопросах религии. – Слуга ловко продел золотые браслеты через его длинные пальцы. – Жрец не рассчитал свои силы, только и всего. Я сделаю ему предупреждение и отпущу.
– Если ты поступишь так, Аменхотеп, жрецы Амона начнут страшиться за свою жизнь! Это вызовет у них обиду и возмущение.
– Но их бог защитит их.
Она не могла с уверенностью сказать, что ей послышалось в милостивом тоне – истинная наивность или сарказм.
– Если ты намерен отпустить его, не мог бы ты, по крайней мере, появиться в Карнаке через несколько дней, чтобы лично провести утреннюю службу?
– Не думаю, что в этом есть необходимость. – Он вежливо отвернулся, чтобы посмотреться в зеркало, и она поднялась. Слуга окунул кисточку в синюю краску для век. – Я не ссорился с Амоном; пройдет некоторое время, и жрецы Атона сами поймут, что ничтожный Амон не представляет для них никакой угрозы. Тогда обе стороны успокоятся, и наступит мир.
Тейе не стала больше спорить. Поцеловав его в гладкое чело, будто несмышленого ребенка, она покинула его, вызвала носилки и в теплых сумерках отправилась к дому брата.
Эйе с несколькими своими офицерами пили вино в саду. За колоннами фронтона в доме мерцали первые огни, там раздавался смех слуг и наложниц, доносились запахи готовящейся еды. В темной траве лежали бабуины, прижимаясь друг к другу и тихо бормоча. Кроны деревьев, отделявших сад от реки, уже укрыла густая ночная тьма, но между стволами еще можно было различить серые полоски спускающихся к воде ступеней. Когда вестник Тейе объявил ее титулы, разговор прервался и собравшиеся распростерлись ниц перед ней. Велев им подняться, она жестом пригласила Эйе сопровождать ее, и они вдвоем пошли по дорожке мимо притихших животных к воде.
– Фараон хочет освободить жреца, содержащегося в дворцовой тюрьме, – сообщила она. – А я хочу, чтобы его убили. Смотри, чтобы все прошло без шума, но проследи, чтобы тело быстро нашли, и нужно оставить на нем знаки его жреческих отличий.
Эйе кивнул:
– Хорошо. Ты не желаешь сказать мне зачем?
Выслушав, он повел ее к шелестящим сикоморам. Теперь реку было хорошо видно – серебряная лента с проклюнувшими отблесками огней. У ступеней причала темной громадой высилась ладья Эйе; шаги часовых, обходящих дозором территорию поместья, то приближались, то удалялись. Ночь была тиха. С противоположного берега из Фив доносился только неясный прерывистый гул.
– Если этот религиозный фанатизм распространится на дворец, мы окажемся в очень серьезной ситуации, – сказал он. – Не могу поверить, что фараон не осознает этого сам. Или он ждет, чтобы это случилось?
– Не знаю. Иногда мне кажется, что все это ерунда, игра, в которую мы позволяем ему играть, чтобы ему было чем заняться, но потом я оглядываюсь назад и вижу, как многое переменилось, какой неспокойной сделалась жизнь при дворе.
У меня и в мыслях не было пытаться повлиять на него в вопросах, не касающихся правления, но боюсь, что мое влияние не так велико.
– А что случится, если ты просто дашь указание тем, кто несет ответственность за судьбу жреца, пренебречь приказом фараона, и отдашь свой собственный? – Его лицо казалось бледным размытым пятном. В теплом дыхании слышался аромат вина.
– Страшновато даже подумать об этом. Слово фараона – закон. Часто его слово на самом деле исходит от его советников или от меня, хотя и оглашается им, но оно в любом случае является священным. Если он впоследствии отменит мой приказ, моя власть будет ослаблена.
Эйе издал короткий, сухой смешок.
– Это так же глупо и вместе с тем забавно, как игра в собаку и шакала. Он – фараон, но ты – все еще правительница Египта, а Нефертити тем временем обеспечивает будущее семьи. Наша царственная кровь становится все чище, в ней все меньше остается примесей крови иноземцев. Если царствование Аменхотепа превратится в череду религиозных конфликтов, оракул будет очень счастлив назначить того наследника, которого мы ему предложим. Мы по-прежнему имеем огромное влияние, Тейе.
– Все, что ты говоришь, правда, но эта скала стоит на песке. А песок зыбкий. В настоящий момент при дворе существует равновесие между поборниками Амона и Атона, но что если число поклоняющихся Амону уменьшится?
– Каких верующих? Истинно веруют только жрецы. Я сделаю то, о чем ты просишь, императрица. Перестань тревожиться.
Но власть зиждется на постоянных тревогах, – подумала она, чувствуя, как несущая успокоение рука легла на ее плечо, – в беспокойстве о прошлом, вторгающемся в настоящее, а решения, принимаемые в настоящем, простираются в неизвестное будущее.
– Твои офицеры уже не прочь приступить к трапезе, да и я уже опаздываю на праздник фараона, – сказала она, на мгновение прижавшись щекой к его руке. – Дай мне знать, когда все закончится. Да, а что там слышно от Тии?
Беседуя о мелких семейных делах, они пошли обратно, туда, где в саду ярким неровным пламенем горели факелы, потом Тейе оставила брата с гостями. Взрывы раскатистого мужского смеха слышались до самых ворот, оживляя пустынную, освещенную лунным светом дорожку, чуть поскрипывающую под ногами носильщиков, и к ней вдруг подступила волна одиночества. Она бы охотнее разделила трапезу в дружеской компании в саду Эйе, вместо того чтобы сидеть рядом с фараоном под золоченым балдахином, увенчанной тяжелым диском и двойным пером.
Тело жреца нашли в пустыне за западными утесами, вблизи извилистой тропы, по которой ходили караваны. Человек был заколот аккуратно, в самое сердце, но оружия в теле не оставили. К тому времени, как его обнаружили, он уже начал высыхать, его соки впитались в песок и испарились в сухом, жадном до влаги воздухе, и наплечные повязки слуги Атона свободно болтались на его руках. Облегчение и новая волна почтения к императрице охватили Карнак. История ссоры двух жрецов и убийства приверженца Амона быстро сделалась известна всем. Карнак кипел от негодования и опасения, причем страсти бурлили не только в храмовом комплексе Амона, но и в кельях тех, кто служил супруге Амона Мут и его сыну Хонсу. Убийство грозило обострением соперничества между Атоном и богами Фив. Некоторые жрецы яростно требовали у Птахотепа оружие, заявляя, что они имеют право защитить себя, но большинство ограничились пространными разговорами в своих кельях и перестали в одиночку ходить по Карнаку и Фивам. Птахотеп понимал, что любое насилие со стороны его жрецов разожгло бы вражду на гораздо более серьезном уровне, что могло бы повлечь за собой пагубные последствия для всего Египта. Он строго запретил помышлять о каком бы то ни было возмездии, пока сам обдумывал, что предпринять. В освобождении из тюрьмы жреца Атона даже без Допроса он, несомненно, усматривал направляющую руку фараона и пребывал в ярости, но, когда тело жреца нашли на следующий день, его гнев сменился благодарностью, потому что он узнал в этом скорое правосудие императрицы.
Придворные также догадывались, что их императрица причастна к выбору простого решения проблемы, которая с каждым днем становилась все сложнее. Они восхищались легкостью, с которой она решила этот вопрос, умудрившись при этом обставить все так, чтобы фараон не потерял лицо перед своими подданными. Они с тревогой наблюдали за ростом враждебности между сторонниками обоих богов, потому что она грозила нарушить их благополучное житье, и они знали, что своим деянием Тейе дала им временное облегчение. Они ждали, что предпримет фараон, и, не дождавшись от него ответных действий, забыли об этом инциденте.
Но в уединении опочивальни Нефертити яростно выговаривала мужу.
– Кто здесь фараон, она или ты? – вопрошала она, расхаживая по комнате, а он лежал на ложе и посматривал на нее. – Я говорила тебе, Гор, что ее интерес к Атону был неискренним, и теперь она это доказала. Она убила жреца. Как часто ты повторял, что бог добр и милостив и не прибегает к насилию? Она использует тебя!
– Может быть, – кротко отозвался он, – но она моя императрица. Я имею снисхождение к ее недопониманию.
– Твоя снисходительность в глазах придворных выглядит слабостью! Накажи ее, Могучий Бык! Сделай ей публичный выговор.
– Нельзя доказать, что она повинна в смерти жреца. Это могли сделать люди Амона.
Нежные алые губки Нефертити скривились, и она шагнула к ложу.
– Даже если она невиновна, она ступает по дворцу с таким видом, будто на голове у нее – невидимая двойная корона. Настало время взять правление в свои руки. Больше нет нужды в регентстве. Ты позволил ей управлять, потому что не умел обращаться с властью. Но с тех пор прошло почти четыре года. Я поработала с ней. Я смогу помогать тебе.
– А что ты мне прикажешь делать с Тейе?
У Нефертити на языке так и вертелось «убей ее», но она сдержалась.
– Отправь ее в Ахмин или, если это слишком близко, в ее поместье в Джарухе. Она слишком стара, чтобы учиться чему-то новому, и в ее сердце всегда будет царить Амон. Пока она мелькает при дворе, разногласия между старым и новым неизбежны.
Она устроилась на ложе рядом с ним и принялась перемежать свои слова легкими поцелуями, нежно касаясь губами его глаз, щек, мягкой плоти его губ, но он равнодушно отстранился.
– Я люблю ее, – просто сказал он.
Гнев, угасший было в Нефертити, вспыхнул с новой силой.
– И при этом не любишь меня?
Он по-братски обнял ее.
– Ты же знаешь, люблю.
– Но пленила тебя она, – горько сказала Нефертити.
На языке ее вертелись слова, которые были готовы обрушиться в неподвижный полумрак комнаты: Она стареет. Она не так красива, как я, и ее зрелость увядает, она твоя родная мать, и Египет еще неспокоен и пребывает в страхе перед гневом богов, она опасна и коварна… Ей стоило немалых усилий не высказать все это.
– Я твоя смиренная служанка, – хрипло сказала она. – Но, Аменхотеп, придет время, когда ты захочешь править по-настоящему, но будет слишком поздно.
Он не ответил. Потом они играли в сенет, потом он взял лютню, и Нефертити, забыв свой гнев, пела вместе с ним, устремив на него весь свет своего очарования, поддразнивая его и смеясь. Но как часто случалось после спора о Тейе, он был не в состоянии отвечать. Нефертити не огорчалась. Она уже знала, что его периодически повторяющееся бессилие было признаком того, что ее нападки на императрицу достигали цели. Она была удовлетворена.
Сама же Тейе надеялась, что ее приказ негласно казнить жреца Атона хоть ненадолго ослабит религиозные трения, поэтому, когда несколько дней спустя в многолюдной зале для общественных приемов увидела Птахотепа, очевидно ожидающего своей очереди поговорить с Аменхотепом, ее охватило волнение. Обычно трон слева от Тейе оставался незанятым, потому, что фараон редко утруждал себя, разбирая жалобы управителей, но сегодня он занял свое место бога-властителя. Нефертити сидела на мягкой скамеечке у его ног, и хранитель царских регалий стоял перед ним на коленях со своим сундучком, в котором лежал только скимитар. Крюк и цеп покоились на коленях фараона. Он опоздал к началу приема, прошел через залу к помосту об руку с Нефертити, но, к облегчению Тейе, не стал комментировать вопросы, которые она решала, только слушал внимательно и иногда одобрительно кивал, подтверждая ее слова. Верховный жрец был последним. Тейе смотрела, как он вышел вперед в наброшенной на одно плечо леопардовой шкуре, носитель жезла и прислужник встали по обе стороны. Он распростерся ниц, затем Тейе позволила ему говорить. Писцы в ожидании приготовили свои перья. Птахотеп делал все, что мог, чтобы скрыть свое замешательство и страх под покровом достоинства.
– Богиня, прости мне мою смелость, но этот вопрос касается лично фараона, – обратился он к ней и, повернувшись к Аменхотепу, продолжал: – Могучий Гор, это только твое право – назначить или освободить от должности первого пророка Амона. Я прослужил в этой должности в Карнаке больше двадцати лет, повинуясь богу, оракулу бога и моему царю. Годовщина явления четыре раза наступала и проходила, однако он не назначил нового верховного жреца и не утвердил меня в этой должности. Я нижайше прошу фараона сегодня сделать или то, или другое.
Тейе позабыла об этой древней царской привилегии. Краем глаза она видела, что лицо сына начало омрачаться нерешительностью, и наклонилась к нему.
– Как ты хочешь поступить? – шепотом спросила она. – Тебе нужен совет? – Он энергично закивал. – Ты, конечно, понимаешь, – тихо продолжала она, – что если ты утвердишь Птахотепа в этой должности, ты тем самым подтвердишь неразрешенную ситуацию в Карнаке. Он придерживается старых устоев. Атон представляет угрозу для него, и он не знает, что с этим делать. Если ты позволишь ему остаться верховным жрецом, ты скажешь этим и двору, и храму, что, несмотря на все трудности, которые ты навлек на Малкатту своими деяниями, ты поддерживаешь Амона так же, как это делал твой отец. Жрецы Амона вновь обретут былую уверенность. Но я думаю, Птахотеп просит тебя освободить его от должности. Он хочет удалиться с достоинством, пока ситуация не вышла из-под его контроля и он не испытал унижения. Понимаешь?
Фараон сосредоточенно хмурился, и она видела, как он облизывает накрашенные губы. Нефертити, не скрывая, жадно ловила каждое слово, глядя то на него, то на нее.
– Думаю, я понимаю, – также шепотом ответил Аменхотеп.
– Вот и хорошо, – сказала Тейе. – Тогда отпусти его. Советую тебе повысить Си-Мута, второго пророка Амона, до положения верховного жреца; это будет означать не только твою готовность признать продолжающуюся власть Амона, но и послужит знаком для людей Атона, что ты огорчен ссорами в Карнаке, и ожидаешь возвращения к согласию и взаимодействию двух богов под началом более молодого, более сговорчивого человека.
Птахотеп терпеливо стоял, склонив голову, а писцы ждали, не отрывая глаз от Аменхотепа, готовые записывать его решение. Тейе откинулась на троне, ободряюще улыбнулась Аменхотепу и расслабилась, увидев, что он начал поднимать крюк и цеп, чтобы объявить свое решение, но, опередив его, Нефертити коснулась его колена и взлетела по ступеням. Она потянулась к нему и принялась что-то шептать на ухо, но Тейе резко прервала ее:
– Это место для общественных приемов, царица, а не твоя личная опочивальня, и как императрица я имею право слышать все замечания по этому вопросу.
– Это правда, дорогая, – согласился Аменхотеп. – Я был бы очень рад выслушать твое мнение, и уверен, что Тейе оно тоже будет интересно. Говори.
Тейе ждала, снисходительно приподняв брови, и после минутного замешательства Нефертити коснулась руки фараона.
– Си-Мут, конечно, сговорчив, муж мой, – быстро заговорила она, – но он во всем подчиняется императрице. Если ты назначишь его, Атон никогда не будет верховным божеством. Это в твоей власти – иметь верховного жреца, который не только поклоняется тебе, но и признает вселенскую власть Атона. С таким человеком, управляющим Домом Амона, ты сможешь произвести все изменения в Карнаке, какие пожелаешь, удержать жрецов от волнений и презрительных насмешек в адрес слуг Атона.
– Действительно, – холодно прервала ее Тейе. – Тем, кто признает своим единственным богом Атона, – место в храмах Она, и они не должны иметь власти над тем, что принадлежит Амону. Служители храма Амона и дня не подчинялись бы такому человеку, они примчались бы к фараону, умоляя назначить кого-нибудь другого. Если ты закончила, возможно, фараон примет свое решение и позволит нам всем удалиться для дневного отдыха.
От ее насмешливого тона гнев вспыхнул в глазах Нефертити.
– Я не настолько глупа, как ты думаешь, императрица, – громко ответила она. – Конечно же, выбор фараона должен удовлетворить требованиям обеих сторон, – продолжала она, повернувшись к Аменхотепу. – Возьми хотя бы Мэйю, четвертого пророка Амона. Он часто приходит послушать учение. Он молод и преклоняется перед тобой. Он не станет упорно отстаивать права Амона на каждом углу и препятствовать твоим желаниям в Карнаке. Назначь его!
– У меня не было времени как следует поразмыслить над этим, – перебил ее Аменхотеп, с несчастным видом глядя на Тейе. – Как я могу выбрать?
– Верь мне, сынок, – мягко ответила она, уверенная, что, как всегда, он сделает так, как она захочет. – Я никогда не советовала тебе, не подумав. Нефертити усложняет ситуацию больше, чем она того заслуживает.
Он высвободил свою руку из цепких пальчиков Нефертити.
– Лучше бы я не приходил сегодня на прием, – пробормотал он. – Дай мне минутку.
Он подпер подбородок ладонью. Тейе ждала, внешне спокойная, внутренне закипая от непозволительного вмешательства Нефертити. Аменхотеп, конечно, примет мой совет, – думала она, замечая нетерпеливое шарканье и бесцельные взгляды придворных. – Наивно со стороны Нефертити думать, что она может сделать что-нибудь, кроме как поставить фараона в неловкое положение.
Наконец Аменхотеп поднял глаза.
– Я одобряю твою идею, Нефертити, – сказал он, искоса взглянув на Тейе. Потом он встал и, подняв крюк и цеп над головой Птахотепа, провозгласил: – Мы признаем преданность и службу верховного жреца Амона. Пусть он удалится с честью. Леопардовая шкура переходит к Мэйе, наиболее достойному и удачливому слуге своего господина.
Облегчение отразилось на лице Птахотепа, и Тейе поняла, что одержала победу. Зала зажужжала множеством голосов. Аменхотеп опустился на трон, вытирая испарину, выступившую у него над верхней губой, и взмахом руки отпустил Птахотепа. Тейе чопорно встала и, не удостоив взглядом Нефертити, обратилась к сыну:
– Ты принял решение самостоятельно, и я уважаю его. Но, полагаю, оно показало недостаток твоего здравомыслия. – Повернувшись, она гордо спустилась по ступеням, сняла корону и, вручив ее хранителю, покинула залу.
Нефертити сопровождала мужа весь остаток дня, наслаждаясь сиянием триумфа. Это была ее первая публичная победа над императрицей, и еще слаще она была оттого, что оказалась случайной. Тейе не явилась к вечерней трапезе, и Нефертити восседала на почетном месте рядом с Аменхотепом, оживленная и блистательная, остроумными репликами заставляя смеяться гостей, удостоенных чести сидеть рядом с помостом. Она делала все возможное, чтобы добиться улыбки или пары слов от фараона, но он не поддавался на ее ухищрения и сидел, опустив взгляд к пустой тарелке перед собой. Иногда он начинал что-то бормотать, и Нефертити немедленно поворачивалась к нему, но оказывалось, что он обращается вовсе не к ней. Он беспрерывно пил, поднимая свою чашу, чтобы ее наполняли снова и снова, и не отрывая глаз от стола. Через некоторое время Нефертити начала раздражаться и перестала обращать на него внимание, поверх его головы разговаривала с Тадухеппой или через стол с гостями, а он продолжал цедить красное вино и шептать что-то про себя. Временами он вздрагивал и тянулся за салфеткой, чтобы вытереть шею, и Нефертити поняла, что он пьян. Никто из гостей праздника не обращал на него ни малейшего внимания, пока артисты не закончили выступление, и не настала пора расходиться. Тогда толпа забеспокоилась, ожидая, когда он примет их почтительные поклоны и позволит удалиться. В конце концов, Нефертити пришлось поближе наклониться к нему и притвориться, что слушает, будто он что-то говорит ей. Поднявшись, она объявила собравшимся, что они могут кланяться и уходить. Казалось, от звука голосов расходящихся гостей Аменхотеп очнулся, медленно отодвинул кресло, допил остатки вина из чаши и, пошатываясь, вышел через задние двери, даже не взглянув на нее.
Но его странное поведение не погасило ее воодушевления. Прошло много времени, прежде чем она собралась идти спать. Вызвав музыкантов в свою опочивальню, она слушала крестьянские песни, а когда музыканты закончили, заставила писца читать ей любовные вирши. Прежде чем отправиться в постель, она мечтательно стояла у окна, сложив руки на груди, едва обращая внимание на тихие ночные звуки, слабо доносившиеся из сада под окном. С большой неохотой она признала, что день закончился, и, наконец, улеглась в постель, удовлетворенно вздохнув, когда служанка укрыла ее покрывалом и скользнула в угол к своей циновке.
Ей показалось, что она уже проспала некоторое время, когда ее разбудил звук шагов в коридоре за дверью. Она сонно подняла голову и прислушалась. В слабом рассветном полумраке она увидела, что служанка тоже зашевелилась, встала с циновки и пошла посмотреть, что случилось. Едва девушка сделала три неуверенных шага, как дверь распахнулась и в комнату, шатаясь, вошел фараон. С широко раскрытыми глазами Нефертити смотрела, как он набросился на служанку и одним ударом вышвырнул ее в коридор, дверь со стуком захлопнулась за ней. Он был голый.
– Что случилось, Аменхотеп? – воскликнула она, пытаясь сесть в постели, но, прежде чем она успела прикрыться, он повалился на ложе и принялся вырывать простыню у нее из рук. Она была слишком напугана, чтобы сопротивляться. Опрокинувшись в подушки, она почувствовала, как он рывком раздвинул ей ноги и с силой вошел в нее, хрипло и тяжело дыша, пока она лежала, пытаясь прийти в себя.
Послышался осторожный стук в дверь, но Аменхотеп крикнул:
– Убирайтесь прочь!
Двигаясь в ней, он невнятно бормотал бессвязные фразы, слов она не могла разобрать, потом со сдавленным вздохом скатился с нее и лег на бок, подтянув колени к подбородку. Он весь дрожал.
– Принеси воды.
Окончательно проснувшись, она соскользнула с ложа и полила из кувшина себе в горсть. Приподнявшись на локте, он выпил, потребовал еще, потом неуклюже откинулся на подушки.
– Я видел сон, Нефертити, о, какой я видел сон! – прошептал он. – Надеюсь, ты не испугалась.
Я не просто испугалась, – подумала она, глядя, как судорожно подергиваются у него руки и ноги. – Я в ужасе. Она заставила себя обтереть ему лицо краем простыни и уже повернулась к двери, чтобы позвать на помощь, но он схватил ее за руку.
– Подожди. Ты скоро позовешь их, позовешь их всех, скажешь им… – Он начал хохотать. – Сядь со мной.
Он потянул ее вниз и отпустил руку. Нефертити быстро завернулась в измятую простыню, внезапно осознав, что не хочет, чтобы он видел ее наготу.
– Это был кошмар? – спросила она, стараясь говорить спокойно.
Ее страх начал убывать, когда судороги, бьющие его тело, сделались слабее, речь – более внятной.
Он повернул голову на подушке.
– Нет, не кошмар – мне было видение. Я был в Дуате,[41] я плыл в ночной ладье Месектет,[42] с богами и царями! – Его голос зазвучал громче, и она видела, как он сглатывает, стараясь сдерживать его. – Я слышал плач мертвых, тоскующих по свету, когда проплывал через все двенадцать Обителей тьмы, через двенадцать перерождений Ра, и я был в силах дать им то, чего они желали!
– В твоем сне ты был в подземном царстве вместе с Ра? – спросила она, озадаченная.
Аменхотеп сел и, обхватив себя за скользкие от пота бока, принялся раскачиваться взад-вперед.
– Я знаю, это был не сон. Я, во плоти, вошел в рот Нут на закате, как Ра-который-должен-быть-проглочен, и потом стоял в ладье, выдерживая все нападки змея Апопа, но не это самое главное. – Он закрыл глаза. – Чтобы заставить меня прийти к пониманию, Ра пришлось провести меня через Дуат. Я не воплощение Ра, Нефертити, я – сам Атон. Это было при двенадцатом перерождении Ра, когда я почувствовал, что возродился.
Не веря своим глазам, она смотрела на его восторженное лицо и думала, не тронулся ли он умом.
– Это был всего лишь сон, муж мой, – настойчиво повторила она, но при этих словах он широко раскрыл глаза и напряженно уставился на нее.
– Это было величайшее видение моей жизни, – поправил он ее. – Теперь мне открылась моя истинная природа. Когда я был извергнут из чрева Нут на рассвете, я оглянулся, ожидая увидеть ее лицо, но я увидел себя. Нефертити, я увидел себя! – Он вскочил и начал лихорадочно ходить перед ней взад и вперед, спотыкаясь и сжав кулаки от возбуждения. – Я счастлив. Наконец я смогу сделать тебя богиней. Сила больше не вытекает из меня, когда я предаюсь любви с тобой, любовь теперь обновляет и укрепляет меня, потому что я сам – источник всего света и жизни!
Нефертити, вновь обретя самообладание, начала размышлять. Он неосознанно пришел к ней первой; он изложил свою новую истину именно ей, а не императрице.
– Поэтому ты здесь, фараон, а не в покоях Тейе? – проницательно спросила она.
Он стремительно обернулся к ней.
– Да, да, до сих пор бог направлял меня, но теперь, думаю, я больше не нуждаюсь в матери, чтобы пополнять свои силы. Я люблю ее, но демоны, наконец, побеждены. Совокупление моего тела с ее телом больше не является необходимостью. Я – не смертный.
Нефертити успокаивающе улыбнулась.
– Отдохни теперь, – сказала она. Подойдя к двери, она распахнула ее. За ней беспокойно толпилась небольшая группа людей. – Пареннефер. – Она подозвала дворецкого фараона. – Принеси своему господину головной убор, чистое платье и чего-нибудь поесть. Этой ночью Ра было угодно ниспослать фараону великое видение, – обратилась она к собравшимся. – Фараон, естественно, очень устал, но нет повода для беспокойства.
Она закрыла перед ними двери. Когда она вернулась на ложе, Аменхотеп спал, лежа неподвижно и очень тихо. Нефертити села в кресло рядом и стала смотреть на него.
12
За несколько дней передаваемые придворными из уст в уста, искаженные пересказы видения фараона разошлись по всей Малкатте. Новость сочли заслуживающей большего внимания, чем обычные слухи, потому что было уже ясно, что теперь жизнь при дворе разделится на время до видения и время после. Фараон изменился. Внезапно он, казалось, утратил неуловимое очарование, которое внушало одним любовь и заставляло других относиться к нему снисходительно. Его приказания стали яснее. Он утратил интерес к любым разговорам, которые не касались религии. Он уже не выглядел таким кротким, держался прямее, и движения его сделались более четкими. Некоторые управители усматривали в этом доказательство новой силы и радовались тому, что фараон станет теперь более решительным, но большинство осторожно бросали на него мрачные, опасливые взгляды и перешептывались. Потому что указом Аменхотепа было установлено, что к нему впредь нужно было приближаться только на коленях – степень почтения, большая из всех, когда-либо существовавших в Египте, – к тому же после ночи видения он отказывал всем жрецам Амона, которые просили принять их.
Тейе не воспринимала в полной мере серьезности изменений, произошедших в сыне, пока не попыталась противостоять ему в вопросе новой формы выражения почтения. Она знала, что он снова обрел мужскую силу, но вызывал в свою опочивальню только Нефертити или Киа. Она решительно отбросила ревнивое чувство, убежденная в том, что ее непостоянный сын со временем устанет от них и в самый неожиданный момент приползет к ней обратно. Она знала, что не может открыто заявлять о своих супружеских правах. Она давно смирилась с ценой, которую заплатила за возвращение себе диска и двойного пера, ценой, которая, казалось, росла с годами, отдаляя от нее многих придворных – тех, кто верил, что ее поведение со временем навлечет проклятие на царскую семью. Она также знала, что феллахи в полях и лавочники в городах говорят о ней со все более откровенным и открытым презрением. Она говорила себе, что ей нет дела до этого. Они, в конце концов, – всего лишь стадо фараона, которое надо использовать и пасти, и снова использовать, безликая тупоголовая толпа. Любовь сына и свобода правления были достаточным вознаграждением. То, что возможно потерять и то и другое, не приходило ей в голову, пока она не запросила приема у фараона и не встретила смущенного распорядителя церемоний у дверей приемной.
– Великая богиня, – обратился он к ней, отводя взгляд. – Я должен напомнить тебе, что, согласно последним указаниям фараона, все должны входить к нему на коленях.
– Императрица Египта едва ли окажется среди этих «всех», – сухо ответила она. – Вестник, объяви о моем приходе.
Распорядитель протокола отступил, густо покраснев, и, едва прозвучало, отозвавшись эхом, последнее слово вестника, Тейе величаво прошествовала мимо него в зал. Сын сидел на троне, чопорный, тщательно накрашенный и увешанный украшениями, прижимая к груди знаки своей власти, увенчанный двойной короной. Несмотря на официальность приемного часа, скучное время, к которому он обычно относился с неприязнью, на нем был только прозрачный красный халат, стянутый под грудью с накрашенными желтой краской сосками. Тейе остановилась и поклонилась, как обычно.
Он немедленно обратил к ней свое внимание, сияя улыбкой.
– Говори, матушка, – сказал он.
Она не улыбнулась в ответ.
– Аменхотеп, – холодно сказала она. – Пора прекратить игру с этим странным ритуалом почтения, которую ты затеял. Это замедляет исполнение придворными ритуалов и причиняет физические страдания тем, кому приходится входить к тебе постоянно.
Он поерзал на троне – давала знать о себе былая неуверенность, – и на его лице мелькнуло выражение сомнения.
– Это не игра, императрица, и я могу рассердиться на тебя, если ты впредь будешь называть это игрой. Как еще должны простые человеческие существа приближаться к своему создателю?
Она открыла рот, чтобы рассмеяться, но заметила выражение его лица.
– Но, сын мой, конечно, ты не веришь… – Она всплеснула руками. – Даже если так, пусть твой указ не распространяется на тех, кто находится в услужении у Нефертити. Она становится невыносимой.
Снова ему хватило такта на мгновение показаться пристыженным.
– Я дарую тебе позволение приказать своему окружению обращаться с тобой так же, если пожелаешь, – с готовностью предложил он.
Тейе с отвращением фыркнула, быстро теряя самообладание.
– Когда ты запомнишь, что обладать властью и демонстрировать ее – не одно и то же! – сказала она, повысив голос. – Если мои управители начнут подползать ко мне, как звери, я, не удержавшись, могу начать пинать их, вместо того чтобы обсуждать с ними дела.
– Не говори со своим фараоном в таком тоне! – вдруг заорал он, и у Тейе, когда она увидела, что его начала бить дрожь, зашевелилось мрачное предчувствие. – Ты моя мать, но… – Последние слова прозвучали неразборчиво, он стал задыхаться, и голос сорвался на пронзительный визг.
– Но что? – Она старалась говорить успокаивающим тоном. – Разве бог говорил тебе, что ты можешь заставлять людей ползать по дворцу на четвереньках? – Он или не соблаговолил ответить, или боялся за себя и поэтому промолчал. – Мэйя несколько дней пытался добиться, чтобы ты принял его, – продолжала она. – Он хочет предоставить тебе отчет о том, как идут дела в Карнаке. Разве ты не примешь его?
Аменхотеп глубоко задышал. Он посмотрел ей в глаза и опустил взгляд, борясь с собой, потом поднял голову и выпалил:
– Мэйя принадлежит Амону! Я никогда больше не приму жрецов Амона. Я поклялся.
– Я поклялся! – в ярости передразнила его Тейе. – Ты разделяешь Египет на две части, ты понимаешь это? Я дала тебе трон, и я могу отнять его у тебя. Я сделала тебя тем, кто ты есть!
– Ты сердишься, потому что я не вызываю тебя больше в свою постель! – выкрикнул он, сжимая крюк и цеп так, что побелели костяшки пальцев. – Благодари богов, что ты моя мать и что Атон снисходителен к тебе. И это не ты сделала меня тем, кто я есть, – закончил он, звучавшее в его голосе раздражение разрушило впечатление силы. – Я – Атон. Я сам себя сотворил.
Тейе развернулась на месте, только теперь осознав присутствие молчаливых коленопреклоненных людей, внимавших каждому слову. Слышался скрип пера писца по свитку папируса. Хотя она шла спокойно к двери, и солдаты бросились открывать ее перед ней, она чувствовала себя раздавленной унижением. Я действовала, как глупый младший управитель, – думала она. – Этого больше не повторится.
Она сделала все возможное, чтобы унять беспокойство в Карнаке, заставив себя посмотреть в глаза ничего не понимающему Мэйе, когда объясняла ему, что бог, который поднял его на самую могущественную жреческую позицию в Египте, не может принять его. Но она мало чем могла противостоять буйству, назревавшему в Малкатте. Толпы придворных, утратив обычное безразличие ко всему, что происходило вокруг, устремились на сторону сильного, потому как сделалось очевидным, что Тейе начинает терять милость фараона. Многие продолжали во всеуслышание декларировать свою преданность ей как императрице, веря в то, что власть над Египтом, которую она столько лет держала в своих руках, восторжествует над непостоянством ее сына, но Тейе, все трезво обдумав, понимала, что эти люди принадлежат к старому поколению, люди ее возраста, которые помнили ее супруга и легкие дни более прямого и честного правления. Молодое поколение придворных, испорченное, жаждавшее перемен и споров, получало удовольствие, следя за разрывом отношений между матерью и сыном и вставая на сторону фараона. Тейе теперь рассматривала его проклятое видение как реку, по разным берегам которой стоят ее подданные и которая очень скоро станет слишком глубокой и стремительной, чтобы они могли пересечь ее. Она осторожно начала переносить внимание на Сменхару, с грустью осознавая, что, для того чтобы поставить у власти пятилетнего малыша, потребуется еще одна царственная смерть. Но пока рано. Она еще глубоко страдала от любви к Аменхотепу.
Месяц спустя Тейе сполна прочувствовала всю глубину совершенной ею грубой ошибки, потому что Нефертити, снова вернув себе благосклонность фараона, убедила его отозвать пресловутый указ. Он издал его опрометчиво, охваченный первой волной ликования, и был рад отменить его, когда молодая жена нашла этому подходящее оправдание. Со слов управляющего Тейе Хайи, Нефертити предложила фараону сказать придворным, что теперь они познали истинное смирение, и им было позволено подняться с колен. Тейе стало легче, потому что вид такого огромного количества богатых и достойных людей, вползающих в залу на израненных коленях, в конечном счете вызывал смех, которого она опасалась, потому что после смеха могло прийти презрение к фараону, а тот уже и так позволял слишком много вольностей по отношению к своей священной персоне. Если сохранять хладнокровие, – размышляла Тейе, – и молчать, отмена указа станет рассматриваться как моя победа над ними обоими.
Но отмена указа Аменхотепа не принесла ожидаемого возвращения прежних правил выражения почтения. Колени и спины оставались согбенными, а головы склоненными, даже если фараон только показывался в поле зрения. Тейе, которая безоговорочно верила в неизменную иерархию, которая была частью Маат и требовала должного почтения, чувствовала, что ритуал почитания постепенно превратился в подобострастие, которое она презирала. Аменхотеп назначил Мериру первым пророком Неферхеперура Уаэн-Ра – таково было тронное имя Аменхотепа, и исключительной обязанностью Мериры было постоянно боготворить фараона, следовать за ним, неся его сандалии, сундучок для сандалий и белый жезл. Тейе, закусив губу, продолжала хранить молчание. Они с Осирисом Аменхотепом тоже предписывали жрецам, чтобы они поклонялись их божественным изображениям в Солебе, но она могла представить, как отреагировал бы ее первый супруг, если бы она посоветовала ему таскать за собой жреца, весь день бубнящего ему хвалебные гимны.
Иногда она глядела, как сын и Нефертити идут к ступеням причала, чтобы совершить короткое путешествие через реку в Карнак, в сопровождении свиты, которая вдруг умножилась, включив прислужников с курильницами, четверых слуг с косметическими ящичками, которые должны были следить за тем, чтобы краска на лицах бога и богини не растекалась, окруженных солдатами, смотревшими за тем, чтобы присутствие царственной четы не было случайно осквернено соприкосновением с ничтожными смертными. Тут же были неизменные носители опахал и личные слуги, вместе с животными, их смотрителями и дрессировщиками. Тейе хотелось рассмеяться над глупым, несуразным зрелищем густо размалеванного, полуголого, уродливого царя. Но, несмотря на бросавшуюся в глаза физическую нелепость, сын обнаруживал некое внутреннее достоинство, что и удерживало Тейе от суждений по поводу истинности его видения. Подобные материи были выше ее понимания, и она знала это. Долгими душными ночами ей оставалось только твердить себе, что империя еще цела, фараон на троне, и она еще императрица, и этого Нефертити никогда не вырвать у нее. Однако ощущение того, что империя, фараон и ее собственная судьба брошены на колеблющиеся весы, снова не давало ей покоя, часто ей снились судные чертоги и перо Маат, медленно опускающееся на чашу весов.
Однажды душным, жарким днем, когда благословенный ветерок задувал от высоко поднявшейся реки, Аменхотеп, Нефертити и Тадухеппа стояли в тени первого пилона, ведущего в храм Атона, выстроенный фараоном, под натиском ветра яркие одежды облепляли ноги, сине-белые флаги реяли на высоких флагштоках. Справа и слева от них стояли, отвернув головы, носители опахал, покачивая страусовыми перьями. Первый пророк Аменхотепа низко склонился, опустив глаза в книгу песнопений, которую держал перед ним прислужник, его голос далеко относило ветром. Аменхотеп взмахнул рукой в сторону уже вымощенного внутреннего двора.
– Как хорошо, что он, наконец, закончен, но мастера работали слишком медленно, – пожаловался он. – Мой дворец не готов, а также сады и небольшие святилища, которыми будет окружен этот храм. Я недоволен. – Он посмотрел в ту сторону, где отбрасывал короткую полуденную тень храм богини Мут. На почтительном расстоянии собралась толпа жрецов Амона и храмовых танцовщиц, встав на колени и опустив головы меж простертых рук. – Как я могу отправлять службы в своем храме, если каждый день меня вынуждены нести к святилищу мимо этих шарлатанов? – пробормотал он. – Я прикажу, чтобы они убирались с моих глаз, когда я приезжаю.
Его последние слова утонули в пронзительном звуке труб, вырвавшемся из храмов. Тадухеппа заткнула уши, а Нефертити скорчила гримасу.
– Это полдень, – сказала Нефертити. – В моем храме, даже перед моими собственными жертвенниками, я слышу пение и треск систров, доносящиеся с территории Амона, не говоря уже о бесконечных танцах в храме Хонсу. Как можно расслышать мои молитвы?
Он улыбнулся и, наклонившись, поцеловал ее в губы.
– Твои молитвы доходят куда нужно, уверяю тебя.
– Ты недоволен этим прекрасным зданием, великий бог? – Тадухеппа застенчиво взглянула на него снизу вверх, и он притянул ее к себе, обняв также и Нефертити и прижав их обеих к своей впалой груди.
– Я доволен им, малышка Киа, но теперь я хочу знать, будет ли он вообще когда-нибудь построен. Я повелел выстроить этот храм еще в дни своего несовершенства. Я рассудил неправильно, хотя и действовал из благих намерений. Я должен был выбрать место далеко от Карнака, где Атону можно было бы поклоняться в покое, но я жаждал предоставить богу место на священной территории. Я больше не верю, что он хочет этого. Близость Амона – это оскорбление для него.
– Ты оставишь работы здесь? – удивленно спросила Нефертити. – И в своем дворце тоже?
Аменхотеп задумчиво посмотрел на нее.
– Возможно. Прежде я не задумывался об этом, но как было бы хорошо жить и служить богу вдали от неприязненных глаз, – ответил он. – Давайте же помолимся.
Тихий гул толпы затих, и все выпрямились. Носилки опустили, чтобы дать возможность царственному трио сойти на землю. Прорицатель упал на колени, благоговейно снял золотые сандалии с ног фараона и положил их в свой сундучок. Прислужники наполнили курильницы, и, пока солдаты рассредоточивались вдоль процессии, носилки пронесли через площадку перед храмом и доставили во внутреннее святилище, где Аменхотеп взошел по ступеням и остановился, чтобы принять ритуальные поклоны от обеих женщин.
В последующие дни идея найти новое место для храма Атона окончательно завладела умом фараона, и он часто заговаривал об этом с Нефертити.
– Нужно, чтобы оракул Ра посоветовал подходящее место, – сказал он ей однажды, когда они прохаживались рука об руку вокруг озера. – Уверен, что он может найти достаточно святое место. Мы, конечно, должны держать наш план в тайне. Я не желаю обижать императрицу.
Нефертити взглянула в его обеспокоенное лицо.
– Вряд ли Тейе оскорбит возведение еще одного храма, – заметила она. – Все время что-то строится. Но если выбранное место окажется далеко от Фив, и ты решишь жить и поклоняться своему богу там, она действительно рассердится. – Нефертити потянула его за руку и остановилась, заступив ему дорогу. – Но это не важно, дорогой Аменхотеп. Что она сможет сделать? Ты фараон, и тебе нельзя противоречить. Я буду на твоей стороне, так же как и все управители и верующие!
Он взял ее лицо в ладони.
– Моя верная Нефертити, – тихо проговорил он. – Атон тронут такой преданностью. Многие придворные еще не готовы видеть в нем своего единственного бога, но в тебе нет ни капли сомнения, правда? Представляешь, как было бы хорошо – навсегда оказаться вдали от шума Фив, враждебности Карнака, порицания подданных?
– Я желаю этого больше всего на свете, – живо откликнулась она, шагнув в его объятия, – но если такое счастье случится, ты должен попросить оракула, чтобы он одобрил место подальше от Малкатты, иначе нет никакого смысла в строительстве нового дворца.
Они плавали вместе, бросали хлеб птицам и смеялись над выходками мартышек, но за хорошим настроением мужа Нефертити чувствовала озабоченность. Вскоре он вернулся к теме их недавнего разговора. Они пошли в детскую и играли с Мекетатон и Бекетатон, пока Сменхара сидел в углу, помогая Мериатон нанизывать бусины.
– Предположим, я действительно изменю местоположение, – снова обратился он к Нефертити под возбужденные возгласы царевен, которых он угощал липкими сладостями. – Это будет означать огромное неудобство для всех иноземных посольств, размещенных в Малкатте, не говоря уже об управителях, которым придется проделывать долгий путь, чтобы увидеть меня. Было бы лучше… – Он помедлил, усаживая обеих малышек к себе на колени.
– Было бы лучше перевезти всю столицу Египта, – закончила за него Нефертити. Она посмотрела на Сменхару и Мериатон, поглощенных своим занятием. – Я согласна.
Аменхотеп мягко потянул свое золотое ожерелье изо рта Мекетатон.
– Я не смогу осуществить это, – прошептал он Нефертити поверх головок дочерей. – Мать откажется со мной разговаривать.
Нефертити сделала знак нянькам, поджидавшим на почтительном расстоянии, чтобы не слышать разговора, и громко протестующих царевен взяли с колен отца и унесли.
– Ты слишком долго жил в страхе перед императрицей, Аменхотеп, – тихо увещевала она его. – Она хочет, чтобы Египет навсегда остался в ее руках. Но ты – Атон, прекрасный бог. Она не может противостоять тебе.
Аменхотеп печально улыбнулся.
– С тобой я чувствую себя таким сильным, Нефертити. Ты пойдешь к оракулу вместе со мной?
Нефертити поднялась.
– Почту за честь. А теперь пойдем, поговорим с Мериатон, которая тоже ждет твоего внимания.
Немного пошутив с дочкой, Нефертити поднялась, глядя, как фараон вежливо восхищается ожерельем, которое собрали Мериатон со Сменхарой, и размышляя. С оракулом нужно посоветоваться как можно скорее, пока Аменхотеп не утратил мужества, – думала Нефертити, – и надо сообщить ему, что я снова беременна. Эта новость еще больше сблизит нас. А авантюра, которую мы затеваем, чудесна, и если все пойдет хорошо, я, наконец, смогу вывести его из-под влияния императрицы. Тогда и посмотрим, кто правит Египтом.
Объявление было сделано в середине прохладного, со свежими всплесками ярких красок, месяца фаменос, когда во влажных от росы цветах жужжали пчелы, свежие всходы покрывались рябью от ветра и игривость новорожденных детенышей разного зверья вселяла оптимизм даже в самых пресыщенных придворных. В приемные часы Тейе и Аменхотеп сидели под сенью огромного золотого балдахина. Нефертити занимала небольшой серебряный трон, стоявший слева у ног фараона, ее длинный, до талии, парик был расшит лотосами из розового кварца, и виноградная лоза с мелкими серебряными листочками обвивала кобру, венчавшую ее голову. Нужно было выслушать огромное количество докладов и принять множество посланников, но, в конце концов, прием подошел к завершению.
Взглянув на Аменхотепа и увидев, что тот смотрит перед собой, Тейе подняла руку, давая знак заканчивать процедуру, когда сын внезапно встал. Наступила тишина.
– Я принял два решения, которые затронут вас всех, – быстро сказал он, крепко сжимая крюк и цеп, скрестив их на своем обвисшем животе. – Я говорю с вами как Атон Славный. Дух Ра повелел мне выбрать новое имя. Старое содержит в себе имя ложного бога, и я отрекаюсь от него. Впредь я буду именовать себя Неферхеперура Уаэн-Ра Эхнатон – Действенный Дух Атона. Свою царицу я нарекаю именем Нефер-неферу-Атон – Прекрасны Совершенства Солнечного Диска, как знак моей любви к ней и ее верности нашему богу. Вестники, писцы и иноземцы, примите к сведению.
Никто не пошевелился. Царевичи и вельможи замерли в полной неподвижности, все глаза были прикованы к фараону. Тейе заметила, что он искоса взглянул на нее, потом снова воззрился на собравшихся.
– Мое второе решение так же бесповоротно. Я переношу столицу Египта и местоположение правительства из Малкатты в место, выбранное богом, которое находится в четырех днях пути отсюда вниз по реке. Фивы, Карнак, Малкатта – это все места, насквозь пропахшие ложью и фальшивой религией. Атон желает, чтобы его дом принадлежал только ему одному. Завтра я покидаю Малкатту, чтобы обозначить священными канатами границы нового дома.
Протяжный глубокий вздох недоверия пронесся по всей зале, после которого воцарилась мертвая тишина, потом один из жрецов солнца хлопнул в ладоши. Его товарищи подхватили, одобрительно смеясь и распевая, и вскоре придворные осознали, что целесообразно последовать их примеру. Аменхотеп стоял с улыбкой на устах. Он поднял крюк и цеп.
– Живущие в истине, добро пожаловать в мой новый город, – провозгласил он. – Это рассвет новой славной эры Египта. Тьма ложных верований осталась в прошлом. – Он торопливо сошел с трона, взяв Нефертити за руку, прошествовал между благоговейно распростершимися ниц подданными, и покинул зал.
Пока фараон не ушел, Тейе сохраняла спокойствие, после чего скользнула в заднюю дверь. Схватив за руку своего вестника, она заговорила, подкрепляя каждое слово злобным рывком:
– Разыщи мне Эйе, немедленно. Чтобы в течение часа он был в моих покоях. Пошли к Хоремхебу в Мемфис. Он должен бросить свои дела на заместителя и срочно явиться ко мне. Скажи управителям фараона, что под страхом смерти – смерти, ты слышал? – они должны быть в своих палатах завтра утром, я буду говорить с ними. Ну, что ты стоишь?!
Вестник поклонился и поспешил исполнять приказание, унося на руке побелевшие следы ее ногтей. Позади нее маячил хранитель царских регалий с открытым сундучком, изнутри обитым парчой, готовый принять ее священный убор. Тейе рванула корону с головы и швырнула ему с такой силой, что он покачнулся, поймав ее. Шепча молитвы в оправдание, он любовно положил корону в сундучок.
– Мне нисколько не стыдно выказывать свое недовольство! – прикрикнула она на несчастного жреца. – Убери эту бесполезную штуку, но запомни вот что. Ни в коем случае не доставляй ее царице Нефертити, предварительно не посоветовавшись со мной. А теперь забери корону, пока я не забросила ее в озеро.
С ужасом на лице он быстро отвесил поклон и исчез.
Эйе догнал ее в галерее, ведущей в ее покои. Небрежно поклонившись, он вошел вслед за ней в ее личную приемную и остановился в выжидательной позе. Долго она не могла ничего сказать. Силясь совладать с дыханием, она встала спиной к нему, сжав кулаки и тихо постукивая себя по бедрам. В конце концов, он подошел к ней, снял с нее завитый тугими локонами парик, ласково погрузил пальцы в ее длинные волосы и принялся массировать затекшие мышцы шеи. Она отстранилась и обернулась.
– Ты слышал?
– Да. Я был в зале рядом с посланником Хеттского царства.
– Неблагодарный! Змей! Червь Апопа! Я отдала ему все! Все, Эйе, даже свое тело! Фивы были сонной, нищей и грязной деревушкой, пока царевичи нашей династии не возвеличили их. Люди понимают, что теперь город снова утонет во мраке, начнутся беспорядки. Разве он не отдает себе отчета, что сходит с ума?..
– Тише! – прервал он ее тираду. – У тебя удобно избирательная память, царица, если ты думаешь, что ты отдала ему свое тело, исходя из других соображений, не связанных с соображениями высокой политики. Кроме того, я могу напомнить тебе, что наша династия, как ты выразилась, была основана меньше чем два хенти тому назад отцом твоего отца, попавшим в Египет пленным воином. Что касается беспорядков, армия превосходно справится с ними. И к тому же ты тоже ненавидишь Фивы.
– Он ничего не сказал мне!
– Ах! – Он сочувственно улыбнулся. – Конечно, он не сказал тебе. Как бы он смог? Должно быть, он испытывал страшные мучения от одной мысли предстать перед тобой с такой новостью. Отбрось свое уязвленное самолюбие и посмотри на себя, Тейе, посмотри на меня. Пришло время отказаться от небольшой, совсем небольшой части Египта в пользу следующего поколения.
Ее лицо еще пылало, на лбу гневно пульсировала вена.
– Если он попал под особую защиту богов, мы можем заменить его Сменхарой. – Тейе намеренно выразилась иносказательно, ибо называть человека безумцем было запрещено, потому что это наносило ему вред.
– Я не верю в его безумие, хотя думаю, что время от времени такие приступы у него случаются. В любом случае, это трудно доказать. Он не жестокий бог. Он не развязывал войн, не обижал никого из иноземных царей, он плодовит, он поклоняется тому, что ему кажется истиной. Возможно, это не Маат, но и не полнейшее святотатство. Пусть едет, Тейе. Империя слишком хорошо устроена, чтобы зачахнуть. Ты не думала о том, что с его уходом в Карнаке и Малкатте снова наступит мир?
– Я не хочу, чтобы средоточие власти было перенесено из Малкатты, где я могу присматривать за всем, что происходит в стране.
– Тебе не обязательно присматривать за всем. При той системе управления, которую создал твой супруг Осирис Аменхотеп, империя сама может поддерживать свое существование.
– Он просто смешон!
В ее голосе звучала бессильная злоба. Подойдя к трону, она взяла кувшин, всегда полный вина, и налила в чаши. Эйе едва успел взять чашу, как она уже осушила свою и наливала себе еще.
– Я вижу для себя два пути, – сказала она. – Я могу согласиться с ним во всем и надеяться, что эта его глупая затея со временем наскучит ему. Или бороться с ним всеми силами, которыми располагаю.
– Ты проиграешь. Он властен отменить любые твои приказания, и ты прекрасно понимаешь это. Уж не хочешь ли ты отравить фараона, Тейе?
Она пожала плечами и, подняв свою чашу, насмешливо предложила выпить за это.
– Почему бы и нет? От меня Египту больше пользы, чем от него.
– Ой ли? Я восхищен, с какой легкостью ты находишь себе оправдание! Знай же, что, если двор переедет в новое место, я поеду туда.
Тейе поперхнулась и выплюнула вино.
– Что?
Он настороженно встретил ее изумленный взгляд.
– Это не значит, что я принимаю чью-либо сторону. Ты знаешь, что я люблю тебя, что у нас с тобой никогда не было секретов друг от друга. Но, Тейе, я не хочу закончить свои дни, беспомощно распуская слюни в воспоминаниях о былой славе в разрушающемся дворце. У меня много достоинств, и я намерен продолжать использовать их, пока жив.
– Чудную же картинку моей кончины ты себе нарисовал! – с сарказмом бросила она в ответ. – Полагаю, ты думаешь, что я тоже должна собрать свои вещи и последовать за своим безумным сыном в какое-то забытое богами захолустье?
– Да, я думаю так. Ты недооцениваешь свое влияние на Аменхотепа. Ты для него – укрепляющая сила.
– Как скучно. – Она поднялась по ступеням и уселась на трон. – Кто мог подумать, когда мой отец ввел меня в двери гарема, что однажды я буду разжалована до укрепляющей силы! Оставь меня, Эйе. Разве ты не видишь, что мне больно?
Он тотчас поклонился и, поставив недопитую чашу рядом с кувшином, зашагал прочь.
Хоремхеб поддержит меня, – думала она, глядя, как уходит Эйе, его голая спина исчезла, и двери тихо закрылись. – И Аменхотеп его любит, он прислушается к нему. Он должен отказаться от своей глупой затеи.
– Хайя! – нетерпеливо позвала она, и хранитель дверей гарема тотчас предстал перед ней. – Я хочу, чтобы Сменхару и Бекетатон сейчас же перевели из детской. Мне все равно куда. Я решу это позже, и решу также, кто будет их новыми наставниками. Но они не должны иметь ничего общего с выводком Нефертити.
Не впервые она была благодарна, что право приказывать в гареме принадлежало старшей жене.
– Я понял, богиня. Это будет ударом для царевны Мериатон.
– Знаю. У меня нет выбора. Выполняй.
А пойду-ка к себе в опочивальню и напьюсь, – сказала она себе, когда он ушел. – Я не так стара для этого, Эйе. От вина не только болит голова, оно часто приносит вдохновение. – Она устало поднялась. – В самом деле, почему бы не перестать притворяться образцом добродетели, которой я не обладаю, и не убить его? Отправить правительство бог знает куда! Целых четыре дня пути от Фив! Вдруг у нее перехватило дыхание. Она знала куда, но вспомнила об этом только теперь. Уединение того места, где они с Аменхотепом останавливались по пути в Мемфис, устрашающая, отдающаяся эхом жара.
– О, Амон, нет, – подумала она, спускаясь по ступеням и шагая через зал. – Это сведет их с ума, моих неспешных, безвольных управителей. Если он хочет боготворить себя в абсолютной тишине, пусть отдаст трон Сменхаре и роет себе могилу в проклятой пылающей дикой пустыне, как эти безумные старые жрецы вокруг Она.
Взбешенная и напуганная, она вошла в свою опочивальню. В комнате ощущался слабый запах мускуса, сладость персей и цветов лотоса, кружение ароматов влажной земли доносилось в незашторенное окно. Но это мало порадовало ее, и когда она, обессиленная, подошла к ложу, воображение снова принялось преподносить ей образы сына-любовника.
– Пиха, принеси вина, – велела она, в горле стоял ком, – и пришли рабыню, чтобы раздела меня. Остаток дня хочу провести в постели. – Она знала, это было малодушием, но также и облегчением – устроиться на ложе с полной чашей в руке, пока мысли не станут расплываться и не пройдет внутреннее напряжение.
На протяжении этого долгого вечера она проснулась лишь однажды и припомнила серьезное лицо Пихи, говорящей ей, что царица Нефертити просит принять ее. Она также припоминала, даже сквозь хмельной туман, удовлетворение от своего ответа.
– Скажи Нефертити, пусть она провалится в Дуат и там останется. Я не желаю ее видеть.
13
Несмотря на опухшие глаза и стук в висках, Тейе поднялась перед самым рассветом и, едва вынося прикосновения своих служанок, позволила им одеть и накрасить себя. Сидя перед медным зеркалом, она услышала, что придворные тоже рано покинули свои покои. Малкатта полнилась гулом негромких голосов, стуком дверей, изредка сонной бранью, и когда она вышла из своих покоев с вестником и телохранителями, ее ноздри уловили ароматы свежеиспеченного хлеба и вареных овощей, от которых к горлу подступила тошнота. С первыми лучами солнца в сад донеслись звуки хвалебного гимна, и Тейе грустно задумалась о слугах Амона, которым приходилось петь для фараона, несмотря на то, что он всегда оставался глух к поклонению освященных временем песнопений.
В здании, где размещались палаты управителей, тоже было необычайно многолюдно для этого времени суток. Государственные мужи, состоявшие на службе у фараона, редко появлялись в своих палатах раньше середины утра, если вообще появлялись. Многие из них, получив синекуру в виде взяток или платы за преданность, немедленно нанимали расторопных помощников и посвящали свое время более увлекательным занятиям – моде и интригам. Но сегодня все они, ворчащие, с мутными взорами, ждали появления императрицы, предпочитая испытать некоторое неудобство, чем быть наказанными за ослушание.
Тейе сначала ворвалась в просторную комнату, где работал Бек, сын Мена, инженер и архитектор. Мен блестяще проектировал под руководством сына Хапу для Осириса Аменхотепа, и сын его был столь же талантлив. Тейе знала, что Бек заслуженно получил свою должность. Когда объявили о ее приходе, Бек склонился в глубоком поклоне. Она кивнула, позволяя ему сесть, и он опустился за массивный стол, где были разбросаны свитки и рисовальные перья. Носитель опахала поставил для нее складной стул.
– Я подумала, что фараон повелел тебе сопровождать его к месту строительства, – произнесла она, немного помолчав. – Ты приказал своим слугам упаковывать вещи, Бек?
Юноша учтиво улыбнулся.
– Мои помощники закончили осмотр местности, императрица, – ответил он, – и я поеду туда позже, когда смогу обойти его со своими писцами. Гор не нуждается во мне для того, чтобы размежевать границы города. Мне поручили проектировать его.
– Возникли ли какие-нибудь трудности у твоих помощников при осмотре местности?
Он опустил темные глаза.
– Нет, богиня. Земля ровная. Они закончили работу в удивительно короткий срок.
– Что они сказали о ней?
Он не поднимал глаз, его взгляд блуждал по куче свитков, сваленных на столе.
– Они сказали только, что, несмотря на то, что песок глубокий, каменщикам и инженерам будет легко работать.
– Я не об этом спрашивала. – Ее голос зазвучал резче.
Бек напрягся.
– Они сказали, что даже в это время года там стояла невозможная жара.
Тейе сдавленно вздохнула.
– Ты преданный слуга своего царя, и это достойно похвалы, но если ты действительно желаешь добра фараону, Бек, ты сделаешь все возможное, чтобы отговорить его от этого плана. Осмотр, как ты сказал, был сделан в спешке. Там могут оказаться препятствия, которых никто не заметил.
Теперь он поднял голову.
– Мой отец гордился своей работой на благо возвеличивания и упрочения красоты Египта, – сказал он. – Горжусь и я. Я не стану затушевывать никаких препятствий, которые могут возникнуть, но также не стану и вычерчивать их там, где их нет. Я стараюсь жить правдиво, как учил меня мой господин.
– Бек, – терпеливо сказала она, невольно тронутая его верой в сомнительное толкование Маат, – истина не всегда добра. Она может, в конечном счете, ранить и разрушать. Думай об этом, когда работаешь над чертежами нового города фараона. Ты помогаешь ему использовать истину для разрушения себя самого.
– Может быть.
Его тон был учтивым, неопределенным. Тейе встала, он тоже поднялся.
– Твой чертеж на редкость гармоничен и прекрасен, – сказала она, и Бек понял, что она не льстит ему.
Он поклонился.
– Отец хорошо научил меня. Да продлятся дни твои долго, императрица.
Она кивнула в ответ и вышла.
Следующие несколько часов она ходила из палаты в палату, спокойно беседуя со всеми управителями Эхнатона, пытаясь убедить их отговорить его от безумного плана. Она даже заглянула к заместителю Эйе Раннеферу; Тейе стояла у входа в конюшни на циновке, расстеленной, чтобы она не запачкала своих чистых легких сандалий, а за спиной Раннефера ржали и топтались лошади, и она морщилась от сильного запаха навоза. К тому времени, как она села в носилки и отправилась обратно в свои покои, у нее оформились два сильных впечатления, которые предстояло обдумать. Первое – сила убеждения или сбивания с толку, которую имело учение сына. Каждый, с кем она говорила, так или иначе, ссылался на него. Второе – сила уз, каким-то образом связавших Эхнатона и Нефертити друг с другом и с людьми, которые окружали их в те дни, когда Эхнатон был еще царевичем. Эхнатон вел их за собой на пути к власти, и они были еще достаточно молоды, чтобы испытывать благодарность.
Незадолго до полудня сын пришел проститься с ней. Она почтительно опустилась на колени и поцеловала его ноги, испытывая неловкость за свои опухшие глаза и землистый цвет лица – от вина, выпитого накануне. Он поднял ее с колен и поцеловал в лоб, увенчанный золотой диадемой. У него был такой виноватый вид, он так явно жаждал ее одобрения, что она проглотила возражения, готовые сорваться с языка. Возможно, когда он снова увидит это место, он изменит свое решение. А может быть, со временем оно станет меньше привлекать его.
– Я вернусь через четырнадцать дней, – сказал он. – Надеюсь, дорогая матушка, что ты к тому времени сама решишь переехать в мой священный город.
– Его строительство растянется на годы, – ответила она неопределенно. – Эйе едет с тобой?
– Должен ехать. Мне нужны мои лошади и колесница. – Он заколебался, явно не в состоянии решить, остаться или уйти, и, видя его затруднения, она обняла его.
– Да будут твердыми подошвы твоих ног, Эхнатон.
Он обнял ее, растроганный тем, что она назвала его новым именем.
– Я люблю тебя, матушка.
Это было как возвращение к прошлым временам – держать его в объятиях, чувствовать щекой его костлявое, покатое плечо, его дыхание, раздувающее ее волосы. Глаза наполнились слезами сожаления и усталости. Она прижалась губами к его шее.
– Тебе лучше уйти, – неуверенно сказала она. – Моя кровиночка, мой бедный царевич. Иди!
Он тепло улыбнулся и ушел.
Когда последняя ладья флотилии фараона исчезла из виду, дворец вздохнул с облегчением. Ритм жизни замедлился, и Малкатта быстро вернулась к беззаботности былых дней. Можно было устраивать шумные веселые празднества или проводить жаркие солнечные дни, предаваясь томной неге. Будто бы для того, чтобы опробовать свою свободу, придворные принялись переправляться через реку к храму Амона в Карнаке в количествах больших, чем помнилось жрецам за годы и годы, и молиться с усердием, которое удивляло как служителей божьих, так и самих новообращенных.
Тейе чувствовала себя так, будто выздоравливала после долгой болезни. Она вызвала своего ювелира и провела целый день, выбирая новые серьги, пекторали, браслеты. Она заказала дюжину новых нарядов. Вместе со Сменхарой она ходила к погребальному храму своего почившего супруга, приносила ему пищу и цветы и воскуряла благовония. Она присмотрела новые покои для Сменхары и Бекетатон и наняла им новых наставников из Обители жизни в Карнаке. Впервые за много месяцев она вгляделась в лицо сына, отметив у него полные губы и миндалевидные глаза отца, хотя у мальчика они были не такие яркие, как у фараона. Он также унаследовал уверенную, царственную поступь Аменхотепа. Но он был еще слишком мал, чтобы проявить черты характера, по которым можно было бы узнать в нем сына Аменхотепа. Разговорчивое настроение часто сменялось периодами длительного молчаливого размышления. Было ли это вызвано глубокой задумчивостью или просто спадом интереса и внимания, Тейе не могла определить. Порой он впадал в угрюмость.
– Я хочу, чтобы Мериатон вернулась, – заявил он однажды, когда они покачивались в ладье Тейе, стоявшей на якоре у берега. В одной руке Сменхара беспечно держал свисавшую рыболовную лесу, полуобернувшись к матери в своем креслице из слоновой кости. – Она, наверно, скучает без меня. Одному делать уроки скучно, и я ненавижу Бекетатон. Она хнычет, когда я не хочу играть с ней.
– Она просто маленькая, – напомнила ему Тейе. – Ей ведь только два года, Сменхара. Мериатон так же хныкала в ее возрасте.
– Нет, она не хныкала, она просто дулась. И все равно, как ты можешь знать, чего ей хочется? Ты заходишь в детскую, чтобы просто взглянуть на Бекетатон, и сразу же торопишься обратно, к моему братцу-царю. – С угрюмым видом он подергивал лесу. – Фараон взял Мериатон и Мекетатон с собой в путешествие по реке, и я тоже хотел поехать, но ты не мне позволила. Им всем весело вместе. – Он капризно выпятил нижнюю губку и забросил за смуглое плечико детский локон.
Тейе подтянула босые ноги в тень балдахина.
– Но я ведь тоже не поехала, – напомнила она, но он разгневанно поднял локти.
– Фараон не захотел тебя взять, вот почему ты не поехала!
– Это ты слышал от слуг или сам пришел к такому выводу? В любом случае, ты – вредный, избалованный маленький царевич, – поругала она сына. – Как давно уже учитель не сек тебя?
– Мои учителя никогда меня не секли. Я пригрожу им, если посмеют. И я сам решил, что фараон был рад оставить тебя здесь.
– Я вижу, что с дисциплиной в детской было очень плохо. Однажды ты можешь стать фараоном, Сменхара. Ты должен знать, как это – чувствовать себя простым смертным, прежде чем ты вкусишь радости божественности.
Не по годам развитый ребенок поклялся.
– Спорю на свой новый поплавок, что тебя никогда не секли кнутом, мамочка.
– Нет, не секли. Твой дядя Эйе ударил меня однажды кнутом и часто шлепал, потому что я была своенравна и отказывалась учиться у него.
Повисло долгое молчание, и Тейе подумала, что он забыл о ее присутствии. Она сонно прикрыла глаза, подставив лицо ласковому ветерку. Но через некоторое время он сказал:
– Это другое. Ты – женщина. А я вправду когда-нибудь стану фараоном?
– Я императрица и богиня, и никто не может оскорблять меня, – резко ответила она. – Лови рыбку, не отвлекайся. Я хочу поспать.
Он уныло ударил носком в борт ладьи и дал выход своим чувствам, показав язык безмолвному рабу.
– Я не хочу больше ловить рыбку. Я хочу плавать.
– Один в воду не лезь. У тебя еще не так много сил.
– Когда я стану фараоном, я буду делать все, что захочу.
– Может быть, – ответила Тейе, почти засыпая.
Злость Сменхары стихала. Она заметила, что он вытащил удочку из воды, так ничего и не поймав, и уселся под своим балдахином играть в сенет.
По случаю официальной разметки границ нового города Эхнатон отказался от своего, ставшего уже привычным, женского одеяния со множественными складками, которому все чаще отдавал предпочтение, и надел короткую белую мужскую юбку. Его тонкая шея сгибалась под тяжестью золотых обручей и аметистовой пекторали с изображением солнечного диска, окруженного серебряными пчелами, свисавшей ему на грудь. Над сильно накрашенным лицом возвышалась голубая корона, к которой были прикреплены кобра и гриф. Руки, сжимавшие поводья колесницы, были сплошь унизаны кольцами со скарабеями и картушами, на запястьях висели амулеты. Позади него в колеснице стояла Нефертити, прислонившись к полированному бортику, она была ослепительна в царственном синем одеянии. Миниатюрные крюки и цепы висели у нее на поясе, а между выкрашенных синим грудей поднимал голову лазуритовый сфинкс. Ее корона была выполнена в виде необычного, конической формы шлема бога солнца, под который она убрала волосы, подчеркнув плавные, безупречные линии скул и висков. От этого ее лицо несколько утратило женственность и приобрело некую суровость, которая отражала упрямство, начинавшее уже проявляться в ее характере. Мериатон, в одной лишь свободной льняной накидке с эмалевыми анхами и с сине-белыми лентами, вплетенными в детский локон, держалась за унизанную кольцами руку матери, а малышка Мекетатон сидела на полу колесницы, одной ручкой дергая отца за золотую сандалию, а другой тряся колокольчиком, который ей подарила Тейе. За колесницей фараона выстроились другие колесницы с окаймленными бахромой балдахинами, где истекали потом парадно разодетые и разукрашенные сановники. Утро было в самом разгаре, необузданное солнце – скалы преграждали путь любому ветру – нещадно раскаляло песок и, отражаясь от него, обжигало кожу.
В ожидании сигнала Эйе Эхнатон в последний раз огляделся. Влага тонкой струйкой вытекала из-под металлического шлема, мимо украшенного серьгой уха и стекала по шее. Он еще раз окинул взглядом огромное пространство нетронутого бело-золотого песка, простиравшегося от сверкающей синевы Нила справа до беспорядочно громоздящихся утесов и затененных оврагов слева. Впереди, подрагивая в волнах раскаленного воздуха, упиралась в реку изогнутая линия скал, их острые бурые пики темнели на фоне яркого синего неба. Несмотря на тихий смех и разговоры придворных, давящая тишина, древняя и загадочная, наплывала со всех сторон, глуша звуки человеческого присутствия. Были те, кто беспокойно оглядывался вокруг, испуганные ощущением, будто кто-то незримо наблюдает за непрошеными гостями, но большинство вели себя беззаботно, с нетерпением ожидая окончания церемонии, чтобы вернуться под роскошные навесы, устроенные по приказу фараона. Наконец Эхнатон дождался сигнала дядюшки. Обернувшись, он улыбнулся Нефертити, и она запечатлела поцелуй на его накрашенных губах.
– Новое начинание, – сказала она, сияя глазами. – Так было предопределено.
– Да, предопределено, – согласился он.
Кони, запряженные в золоченую колесницу, на мгновение натянули поводья, силясь сдвинуть с места, увязшие в песке колеса, и, рванувшись, понеслись вперед. – С этого места, освященного моим присутствием, культ Атона распространится по всей земле.
Блистательная кавалькада покатила вслед за ним. Мекетатон, завизжав от восторга, вцепилась пухлыми ручонками в голень отца. Мериатон не отрывала серьезного взгляда от его спины.
Весь остаток дня знатные вельможи и царевичи Египта, начинавшие все сильнее испытывать муки голода и снедаемые мучительной жаждой, медленно следовали по кругу ограниченного утесами пространства за колесницей своего бога. По пути их следования с определенными интервалами были расставлены переносные жертвенники. Когда колесница Эхнатона с семьей приближалась к жертвеннику, стоящий около него жрец воскурял фимиам и простирался ниц на раскаленном песке. Тогда фараон спешивался, и прорицатель, ехавший в следующей за ним колеснице, приносил жертву ему и Атону, который воспламеняет небеса тем же огнем, что живет в теле фараона. К тому времени, как была предана огню восьмая и последняя жертва, слепящий белый цвет солнца сменился насыщенным красным, и оно стало клониться к реке. Между навесами и вытянувшейся вдоль берега флотилией судов взвились приветливые живые огни костров, на которых готовилась еда. Потрепанные придворные закричали, больше от несказанного облегчения, чем от благоговения, увидев, как Эхнатон подстегнул своих коней, пуская их в галоп, когда его колесница, наконец, достигла твердой полосы серого прибрежного песка. Уже заиграли музыканты, наполняя серый полумрак быстрыми благозвучными мелодиями, и на коврах, рядом с манящими подушками, ждали слуги с полными вина кувшинами, охлажденными в реке. Спешившись у своей палатки и отдав поводья Эйе, Эхнатон оглянулся туда, где пляшущей точкой красного света еще догорала последняя жертва богу.
– На месте каждого жертвенника я воздвигну обелиск, – сообщил он Нефертити. – Я заметил много уединенных расщелин в скалах, где можно высечь царственные гробницы. Ты видела? Я намерен перевезти все туши быков Мнервиса из Она и похоронить их здесь, а еще завести здесь живого быка, чтобы поклоняться ему.
– Ты хочешь все и сразу, мой божественный супруг, – поддразнила его Нефертити, промокшее от пота платье прилипло к телу, и песок забился в складки на шее. – Я собираюсь поплавать перед ужином, но сначала хочу чего-нибудь выпить. Нянька!
Она торопливо отдала детей и исчезла в палатке, а Эхнатон задержался на несколько минут, вдыхая сухой ночной воздух, потом направился к своим рабам, которые беспокойно поджидали в стороне.
По окончании официальной церемонии Эйе стало нечего делать. Он был обязан следить за тем, чтобы лошадей хорошо поили, и они не стояли на солнцепеке, но это заняло немного времени. Потом он наблюдал за тем, как его подчиненные проводят мелкий ремонт колесниц. Он мог бы приказать колесничим поупражняться в свободное время в военных маневрах, но решил, что для этого слишком жарко. Однажды в полдень он сопровождал фараона на крутом подъеме к вершинам утесов, окружавших местность, и, пока носильщики, тяжело дыша, тащили носилки в гору, а стражники пытались сохранить четкий строй на склоне, Эхнатон разливался речами о том, как он мечтает скорее достигнуть вершины, где им откроется прекрасный вид. Чувствуя головокружение от жары и жажды, Эйе тогда едва ли многое понял из того, что говорил Эхнатон, но в течение следующих трех дней, когда он по-дружески заходил в соседние палатки поболтать и сыграть во что-нибудь или проводил праздные часы под навесом, глядя на сверкающую в солнечных лучах реку, он не раз вспомнил восторженные слова фараона. Эйе начал задумываться о своем будущем. Было очевидно, что царь не представлял иного исхода, чем тот, что смотритель царских колесниц должен будет обосноваться в новом городе. Впервые в жизни Эйе почувствовал, что его преданность подвергается жестокому испытанию. Как брату жены Аменхотепа Третьего ему изредка приходилось выбирать – в вопросах, касающихся стратегии управления, – между указаниями правителя и благополучием своей семьи, но это не шло ни в какое сравнение с тем решением, которое он должен был принять сейчас. Он сказал сестре, что, хотя легко мог бы остаться с ней в тихой заводи, которой неизбежно станет Малкатта, он поедет с фараоном, и он так и намеревался поступить. Он был богат, имел власть и наслаждался благосклонностью своего господина. Могла ли Тейе обвинять его за то, что он не желал отказываться от всего этого в надежде, что затея фараона потерпит неудачу и она, в конце концов, окажется лучшим правителем? И если разрыв между матерью и сыном продолжает увеличиваться, не следует ли ему остаться рядом с дочерью и внуками? Конечно, их права на него сильнее, чем у сестры. Если бы ей пришлось выбирать, – думал он, прикрыв глаза под слепящими солнечными бликами на воде, – она без колебания выбрала бы сторону победителя. Она знает, что я такой же реалист, как и она. Тейе надеется, что никому из нас никогда не придется выбирать. Она не верит, что из этого плана что-нибудь выйдет, но ее нет здесь, она не видит, как жрецы размечают границы, не слышит восторженных речей своего сына. Прости меня, Тейе, но я должен быть там, где фараон. Я еще не так стар, чтобы рисковать. Я никогда не предам тебя, но думаю, что равновесие власти сместилось, и, если ты не пойдешь на компромисс, ты никогда не вернешь его в прежнее положение.
На четвертый вечер он задумчиво прохаживался вдоль реки с двумя своими колесничими, когда увидел, что с севера приближается небольшое имперское судно. Повернув к причалу, он дождался, пока оно пришвартуется. Царские стражники потребовали сказать, кто и зачем плывет, и немедленно получили ответ. Выбросили сходни, и высокий человек в синем шлеме сошел на берег, за ним последовали женщина и вереница слуг. Эйе бросился приветствовать их.
– Хоремхеб! Что ты здесь делаешь? Мутноджимет!
– Я мог бы задать тебе тот же вопрос, – откликнулся Хоремхеб, подходя к нему. – Меня срочно вызвали в Малкатту, и я направляюсь вверх по реке. Почему-то мне редко во время пути удается избежать стоянки в этом проклятом месте. Что все это значит? – Он взмахнул руками в браслетах в сторону палаток, лошадиных яслей, громкой музыки и заманчивого аромата жарящегося к вечерней трапезе гуся.
– Тебе лучше не называть проклятым местом эту священную землю в присутствии фараона, – ответил Эйе и быстро рассказал Хоремхебу о том, что произошло с тех пор, как к нему в последний раз посылали почтовый корабль.
– Осмелюсь предположить, что ты разминулся с гонцом на реке, иначе ты знал бы обо всем. Мутноджимет, как твои дела?
Девушка почтительно прижалась губами к его щеке.
– Я выжила, – ответила она, растягивая слова. – Здесь, похоже, грандиозное празднество, так что, возможно, мне даже удастся не только выжить, но и поразвлечься, пока мы доберемся до Фив. Депет здесь? Дай мне денег, Хоремхеб. Если она здесь, она непременно захочет сыграть в кости.
Муж с добродушным видом вручил ей кошелек.
Она не сильно изменилась, – любовно заметил про себя Эйе, – только лицо немного похудело, и взгляд сделался более спокойным.
– А где твои карлики? – спросил он.
Она пожала плечами.
– Один выпал с ладьи несколько месяцев назад, когда у нас была вечеринка на реке, и из-за шума и криков я не заметила этого, – ответила она. – Он утонул. А другой убежал. Я заказала еще двух в Нубии, но ведь карлики – такая редкость. Располагайтесь вон там и готовьте ужин! – велела она слугам. – Я вернусь через три часа! – И она ушла.
– Не стану ли снова дедушкой вскоре? – прокричал Эйе ей вдогонку.
– Разумеется, нет! – бросила она через плечо.
Хоремхеб состроил гримасу и улыбнулся.
– Думаю, она счастлива, мой командир, и по-своему любит меня. Как ты думаешь, фараон захочет принять меня?
– Уверен, что да. – Они пошли вдоль реки. – Слышал, у тебя были некоторые трудности с войсками на границе?
Хоремхеб кивнул.
– Без четкой политики фараона в военных делах было нелегко поддерживать дисциплину, – признался он. – Недавно поймали нескольких солдат, которые занимались тем, что грабили лодки и крали скот, наводя ужас на мелкие селения. Им было нечем заняться, но это не оправдание. Я приказал отрезать носы зачинщикам, остальных отослал в Тжел. В их числе был любовник Осириса Аменхотепа.
Эйе молча слушал, потрясенный тем, что на ключевых постах в государстве еще остались люди старой закалки, будто все это уже принадлежало времени, которое миновало многие хенти назад. Столько всего случилось с той поры.
– Я удивлен, что он еще так долго протянул.
Хоремхеб рассмеялся:
– Он всех нас удивил. Он был упрямым, злым крестьянским мальчишкой с таким крутым нравом, что я не представлял раньше, что такие встречаются. Но Тжел сделает из него Человека. Это самая мрачная крепость во всей империи.
Эйе на миг припомнил дикое лицо и мятежные черные глаза мальчишки, потом задумался о более важных вещах. Фараон действительно не выказывал никакого интереса к состоянию своей армии и обороне границ. Нужно добиться его разрешения на то, чтобы самому улаживать такие дела, – решил Эйе, унимая внезапное беспокойство. – Я старался не вступать с ним в противоречия, но наверняка он увидит, что мы не можем допустить беспорядков в такой близости к центру империи, потому что иноземцы сочтут их проявлением слабости.
– Фараон знает, что тебе пришлось наказать солдат?
– Я послал свиток писцу рекрутов, и если царь читает послания, то он должен знать. – Хоремхеб искоса взглянул на Эйе. – Но я тщательно подбирал слова. Фараон вряд ли предпочтет, чтобы я шлепал своих подчиненных цветками лотоса и наказывал их ссылкой в задний ряд.
Эйе не засмеялся, да и тон Хоремхеба был нерадостным. Они осторожно прошли между группами пирующих туда, где сидели Эхнатон и Нефертити.
Фараон был несказанно рад увидеть друга, бросился ему на шею и пылко расцеловал его.
– Когда моя драгоценная особа переедет в новый город, ты тоже должен будешь жить здесь, – вдохновенно настаивал он. – Командующий на границе – это низкий пост. Я удостою тебя другого титула, чтобы я мог видеть тебя каждый день.
– Атон Славный очень добр ко мне, – ответил Хоремхеб, поклонившись несколько раз, чтобы скрыть смущение, вызванное объятием Аменхотепа, отпечаток восторженного царского поцелуя окрасил его губы оранжевой хной. – Но я солдат и не вижу радости в праздной жизни.
– Действительно, ты всегда бесстрашно говорил мне то, что думаешь, – одобрительно сказал фараон. – Ты хочешь быть счастливым, а я хочу, чтобы ты был рядом. Мое желание сильнее. Отсюда недалеко до Дельты, если ты настаиваешь на том, чтобы остаться на своем посту, и я уверен, что Мутноджимет будет счастлива вернуться ко двору.
– Любимый, у тебя еще будет время, чтобы принять решение, – быстро вмешалась Нефертити, обняв мужа за талию. – Возможно, твоя матушка пожелает иначе распорядиться услугами Хоремхеба. – Она улыбнулась Хоремхебу, но в ее взгляде мелькнула злоба.
– Ты права, – согласился Эхнатон, целуя ее. – Я просто очень хочу вознаградить тех, кто любит меня.
– Значит, разлад между нашим богом и его матерью зашел так далеко? – спросил Хоремхеб Эйе позже ночью, под визг и завывание флейт и певцов. – Нелепо, если верноподданным египтянам придется как-то выбирать между ними двумя.
Эйе оглядел шумное пьяное сборище. Слуги плавно сновали между неровно горящими факелами, вкопанными в песок, убирая остатки празднества. Танцовщицы раскачивались в танце, желтый свет скользил по их нагим, блестящим от масла телам. С берега реки, скрытого темнотой, доносились всплески и радостные вопли. Среди всеобщего гама стоял дрожащий слуга с подносом, на котором были навалены горкой разные безделушки, а хлыст Мутноджимет свистел в рискованной близости от его незащищенной головы, один за другим искусно подцепляя с подноса ожерелья и браслеты и с бряцаньем сбрасывая их на колени зрителей. Ее детский локон был закручен вокруг уха и закреплен золотыми листьями папируса, и вся она была обсыпана золотой пудрой. Каждое небрежное движение увешанной драгоценностями ручки встречалось бурей рукоплесканий и одобрительных возгласов.
– Ее ловкость впечатляет, – сказал Эйе, потом вздохнул и повернулся к Хоремхебу. – Я все еще надеюсь, что это не настоящая ссора, а всего лишь недоразумение и все еще наладится. Узы, которые связывают сестру с фараоном, всегда были очень прочными. Но если, упаси бог, раскол усугубится, не возникнет вопроса о том, чью сторону взять, Хоремхеб. Египет – это фараон.
– Я знаю, – ответил Хоремхеб. – Это не просто вопрос преданности старому или новому, это вопрос выживания. – Развернувшись на стуле, он посмотрел в глаза Эйе, и они без слов прекрасно поняли друг друга. – Мой отец мог позволить себе послать меня в школу писцов в Карнаке, – продолжал Хоремхеб, – но он был не настолько влиятельным, чтобы обеспечить мне хорошую должность, когда мое учение закончилось. Я мог бы до сих пор сидеть, скрестив ноги, в доках Фив, подсчитывая партии зерна, если бы не императрица, которая прослышала о моем умении и сделала меня царским писцом. – Он слабо улыбнулся, задумчиво глядя на веселящуюся толпу. – Однако сейчас у меня действительно нет выбора, Эйе. Если я хочу сохранить власть в армии, а тем более получить более высокое звание, то я должен быть там, где фараон. Все войска находятся в его распоряжении, и, конечно, командование переместится сюда вместе с ним. Кроме того, он будет вознаграждать тех, кто верен ему, а жить-то надо.
Эйе знал, эта реалистичная оценка касалась и его положения так же, как и положения Хоремхеба. Много юношей, начинавших некогда под покровительством Тейе, которым предстояло еще долго карабкаться наверх, мучились подобными размышлениями.
– Это жизнь, – пробормотал Хоремхеб, рассеянно трогая шрам на подбородке. – Мне бы только хотелось, чтобы фараон выбрал другое место для своего нового города. Это мне не нравится. Я не удивлен, что оно до сих пор напоминает девственную пустыню. Думаю, оно хочет, чтобы его оставили в покое.
– Это речи мага, а никак не солдата, – проворчал Эйе, и Хоремхеб внезапно рассмеялся.
– Завтра на рассвете мы отправимся в Малкатту, и я снова стану солдатом. Мутноджимет хочет по пути принести жертву Мину в святилище Ахмина, поэтому мы сможем передать Тии твои приветствия.
– Хорошо бы сегодня ночью оказаться рядом с ней на ложе, я лежал бы и слушал, как совы охотятся в саду, – сказал Эйе, больше обращаясь к самому себе, но Хоремхеб все равно не расслышал, он как раз вскочил, ловя голубое ожерелье, которым запустила в него жена.
За час до рассвета Эйе поднялся, чтобы пожелать счастливого пути Хоремхебу и Мутноджимет. Он смотрел, как их судно тихо отдаляется от берега, и внезапно его охватило чувство одиночества. Он вернулся в палатку и принялся ждать, пока лагерь начнет просыпаться. Открыв свой походный жертвенник, он произнес утреннюю молитву Амону.
Позже, перед тем как покинуть это место, фараон с большой неохотой совершил последний ритуал. Он и Нефертити, с детьми на руках, сидели на тронах перед переносным жертвенником, пока прорицатель возжигал дары, а придворные целовали их ноги и благоговейно припадали к песку. Пока они бормотали: «Вечная жизнь! Велико время твоей жизни, о, единственный возлюбленный Ра, венценосный владыка», – Эхнатон вновь повторил свои пожелания.
– Смотрите, – взывал он. – Этот город желанен Атону. Он будет построен, чтобы увековечить его славное имя. Это Атон, отец мой, указал мне на это место. Я воздвигну великий храм Атона во имя отца своего. Я воздвигну каменный навес для великой супруги царской Нефер-неферу-Атон Нефертити. Я заложу поместья для фараона, для царской жены; для себя я выстрою гробницу в восточных горах. Если я умру в другом месте, похороните меня здесь. Если великая супруга царская или царевна Мериатон умрут где-то в другом месте, похороните их здесь. Как живущий ныне бог я не покину это место.
Страсти и предвкушения были исполнены его слова. Мекетатон уснула у отцовской груди, но Мериатон внимательно слушала.
– Мама, – прошептала она на ухо Нефертити. – Он не сказал про Сменхару. Сменхару тоже здесь похоронят?
Но Нефертити только шикнула на нее, потому что жрец принялся петь гимн Атону и ее мужу. Эйе, совершив почтительное приветствие и получив разрешение подняться, стоял теперь в стороне. Взгляд обведенных черной краской глаз дочери медленно скользил по фигурам верноподданных, распростершихся ниц на песке. Эйе тревожило, о чем она думает в этот момент.
Усталые и сытые по горло путешествием, придворные по прибытии в Малкатту кинулись к своим ароматным купальням и к манящей мягкости приготовленных постелей. Тейе, в золотых одеждах, с диском и двойным пером, мерцавшим поверх завитого парика, с замиранием сердца ждала на ступенях причала, готовая к официальной встрече. Мирное и приятное времяпрепровождение, в которое она погрузилась, было нарушено разговором с Хоремхебом, которого она приняла всего час назад. Он в почтительном молчании выслушал ее доводы, но на любые предложения попытаться отговорить фараона от его прихоти отвечал отказом.
– Я нижайше сожалею, о великая, но это невозможно, – решительно проговорил он.
– Невозможно для тебя попытаться убедить его или невозможно для фараона поддаться убеждению? – раздраженно настаивала Тейе.
– Невозможно для фараона, императрица. Может, если он будет находиться ближе к Дельте, он лучше станет понимать проблемы своей армии.
– А, так ты намерен сохранять милость фараона, чтобы иметь возможность защищать солдат Египта, да? – насмешливо бросила она. – Я еще не выжила из ума от старости, Хоремхеб.
Он улыбался ей с нежным сочувствием, памятуя о долгих годах близкой дружбы.
– Я преклоняюсь перед тобой, моя богиня, но твое беспокойство напоминает озабоченность матери полом еще не родившегося ребенка.
Он отказался продолжать спор, и, в конце концов, крайне недовольная, она отпустила его. Теперь она мрачно наблюдала, как фараон со своей семьей сходит на берег. Сменхара и Бекетатон, нарядно одетые, по такому случаю стояли рядом с ней. Ее настроение немного улучшилось, когда она заметила, как явно обрадовался фараон, увидев детей. Он нежно взял Сменхару за подбородок и посмотрел ему в глаза.
– Какой ты красивый сегодня, мой маленький братец! – весело воскликнул он. – И ты, мой цветочек! Иди сюда, я тебя поцелую. – Он раскрыл объятия, и Бекетатон бросилась к нему, осыпав поцелуями. – Я так скучал без своей доченьки, – ворковал он. – Какая она растет у меня румяная, золотая моя девочка!
Он поговорил с ней немного, потом отдал ребенка няньке. Мериатон была уже рядом со Сменхарой, ее ручка скользнула в его ладонь. Тейе заметила, как они осторожно начали двигаться к фонтану, и не стала препятствовать им. Эхнатон повернулся к ней, ожидая глубокого поклона в знак почтения, который она надменно отказалась совершить. Вместо этого она слегка наклонила голову.
– Я и по тебе скучал, Тейе, – неожиданно сказал он. – Жаль, что ты не видела, как священный дым от сожженных подношений курился между утесами.
Он нежно поцеловал ее с большей самоуверенностью и достоинством, чем она замечала в нем прежде, и Тейе в замешательстве почувствовала, что ее воинственная готовность защищаться отступила. Может быть, все еще будет хорошо, – подумала она, глядя за его плечо, где Нефертити ждала, окруженная ореолом почтения.
Тейе все еще пребывала в приподнятом настроении, когда позднее, в тот же день, она вошла в его покои со свитком, который ее писец только что закончил переводить. Эхнатон еще лежал на ложе, с лицом, отекшим и осунувшимся после сна, и с глазами, налитыми кровью. Он слабым голосом приветствовал ее.
– Тебе нездоровится, Гор? – спросила она, глядя, как слуга прикладывает к его лбу влажное прохладное полотенце.
Он кивнул и поморщился.
– У меня ужасно болит голова, – прошептал он. – Невыносимо каждое движение. Когда я моргаю, такое чувство, будто в голову вонзаются скимитары. – Она почти смягчилась, но тут он сделал ей знак подойти ближе. – Что это за свиток?
– Это вчера было получено писцом из палаты внешних сношений, и это беспокоит меня, Эхнатон. Азиру сделался царевичем Амурру.[43]
– Почему это должно волновать кого-то? Все эти племена северной Сирии – наши вассалы. И совсем не важно, что какой-то мелкий царек правит страной, пока он делает то, что ему велит Египет.
– В данном случае это важно. Дело в том, что стало известно, что Азиру ведет переписку с Суппилулиумасом. Он даже несколько раз посетил столицу страны хеттов, Богаз-Кёй. Я опасаюсь заключения тайного союза между ними, что подорвет основы нашего влияния на Сирию.
– И что ты хочешь, чтобы я сделал? – Он скривился от боли, прижав ладони к вискам и закрыв глаза.
– Немедленно потребуй от Азиру повторного подтверждения его преданности и возьми заложника.
– А о чем говорится в его послании?
Тейе презрительно улыбнулась:
– Он поклоняется тебе и восхищается тобой, называет меня госпожой твоего дома и клянется в своей вечной верности и преданности Египту.
– Какие прекрасные слова! Он сын истинной Маат.
– Он лжец и негодяй! – горячо воскликнула Тейе.
Эхнатон попытался приподняться и вскрикнул от боли.
– Если он говорит неправду, Атон покарает его, – выдавил он. – Передай свиток Туту, пусть ответит любезно.
– Но, Эхнатон!
– Помоги мне, матушка. Меня тошнит.
Слуга кинулся к ложу, встав на колени и держа в одной руке серебряный таз. Другой слуга поддерживал голову фараона. Эхнатон перекатился на бок, и его вырвало. Гнев Тейе немедленно испарился. Схватив мокрое полотенце с покрывала, куда оно свалилось, она обтерла ему лицо и помогла уложить его поудобнее среди подушек. Трясущимися руками он натянул на себя одеяло, и Тейе увидела, что его вдруг сморило.
– Мне не следовало беспокоить тебя, – сказала она и наклонилась поцеловать его в лоб. – Я вернусь позже, чтобы справиться о твоем самочувствии.
Она не успела даже дойти до двери, как он уже уснул. В коридоре она столкнулась с Пареннефером, который поднялся со своего табурета.
– Незамедлительно призови к фараону его врачевателя, – приказала она. – Может быть, и магов тоже.
– Фараон рассердился на своего врачевателя, богиня, – смутившись, ответил он. – Его недомогание началось, когда он уезжал, и ему сказали, что он слишком часто был на солнце без защиты. Фараон сказал, что его отец не может причинить ему вред, и прогнал врачевателя.
Раздраженная, она только и смогла ответить:
– Если фараон желает страдать, полагаю, мы должны предоставить ему эту возможность.
Тейе неохотно передала свиток Туту, наказав ему ответить Азиру в жестком тоне, даже если фараон того не желает, но она знала, что Туту будет выполнять волю фараона. Она представила Эхнатону свое видение ситуации в северной Сирии и посоветовала относительно того, что, как она полагала, было надлежащей линией действия, она даже немного превысила свои полномочия. Решение вопросов внешней политики было исключительным правом фараона. Он был волен принять совет своего писца из палаты внешних сношений и прочих управителей или не принимать его и определять отношения с вассалами и союзниками по своему усмотрению, но его слово было решающим. Тейе понимала, что все указания, которые он давал Туту, обязательны для исполнения, но ее раздражало, что Туту получал такое удовольствие, видя, что ее решения отменяются.
Вечером она снова пришла в покои сына в надежде убедить его что-нибудь съесть и была удивлена, увидев, что он умыт, одет и сидит между колоннами приемной рядом с Нефертити, поглядывая в сумеречный сад. У его ног лежала лютня, и писец сидел за его спиной, скрестив ноги, и записывал песню, которую диктовал Эхнатон. Он говорил быстро, высоким голосом, руки с длинными пальцами отбивали ритм стиха, хлопая по коленям, подлокотникам кресла или одна о другую. Весь напрягшись, он подался вперед, легонько раскачиваясь. Время от времени он хватал лютню и быстро пощипывал струны, мурлыкая себе под нос, пока слова не начинали литься снова.
– Да, мне лучше, матушка, я не могу прерваться, боюсь, что прекрасные слова иссякнут, не трогай меня сейчас, – прокричал он на одном дыхании и взмахнул рукой, повелевая ей уйти, на лице его мелькнуло беспокойство.
Нефертити вообще не потрудилась заметить ее появление. Тейе посмотрела сквозь сгущающиеся вокруг колонн тени и увидела, что свита фараона уныло стоит со склоненными головами, не издавая ни звука и не осмеливаясь пошевелиться. Только писец не обращал внимания на обстановку почти болезненного ожидания. Тяжело дыша и прикусив от усердия язык, он записывал поток монотонно льющихся полуоформившихся слов. Уныние и скука охватили Тейе, и она ушла.
14
Все придворные Малкатты вскоре были вовлечены в превращение безжизненной и суровой земли в место, достойное стать обителью Атона. Бек, Кенофер, Аута и другие царские архитекторы и строители день и ночь работали над постепенно усложняющимся планом города, которому предстояло как по волшебству возникнуть из пустоты, как творение первородного хаоса. Циничные обитатели Фив наблюдали, как день за днем Нил все больше полнился судами: мимо осторожно проползали огромные, неповоротливые баржи, груженные превосходно обработанным камнем из каменоломен Асуана, плоты, где высились груды золотистой соломы, которую потом смешают с речным илом, плыли парусные корабли с грузом ценного кедра, стоившим целое состояние. Тысячи рабов с надсмотрщиками нужно было перевезти на север, где им предстояло жить в наспех сооруженных бараках. К западу от Фив было селение, славившееся своими каменщиками. По приказу фараона всю деревню перенесли на новое место. Городские жители – по воле фараона их ряды все редели – громкими насмешливыми возгласами изредка приветствовали проходящие мимо флотилии, но вскоре, утратив интерес к происходящему, возвращались к своим дневным заботам или усаживались с пивом и хлебом на берегу и молча сидели в надежде развлечься зрелищем какого-нибудь золоченого судна с балдахином, несущего сановников вниз по течению.
Эхнатон также повелел приостановить строительство в Карнаке. Тех, кто долгие годы трудился над их с Нефертити храмами Атона, отправили в новый город, чтобы начать все сызнова. Жрецы Амона со страхом ждали, что он отзовет рабочих и из их храма, но, как обычно, он просто проигнорировал их. Осторожный Карнак занял хорошо продуманную, незаметную позицию.
Малкатта зажужжала, словно огромный улей, и с помощью взмыленных управителей и торопливых чиновников сменила привычную праздность на четкую организованность. Фараон считал дни до отъезда и проводил время, переходя из одной палаты в другую, требуя отчетов или бесконечно обсуждая свое видение самого прекрасного города, когда-либо существовавшего на земле. Оживленный, исполненный благих намерений, он часто мешал тем самым управителям, которых хотел заставить быть порасторопнее, ибо с его появлением вся работа останавливалась до тех пор, пока не были возданы должные почести и не приняты соответствующие позы. Эхнатон был в высшей степени счастлив, несмотря на все чаще повторявшиеся приступы головной боли, которых он начал страшиться. Они подрывали его хрупкую уверенность в себе, потому что всегда заканчивались болезненной рвотой. Приступы неизменно сопровождались взрывами бурной творческой энергии и религиозного пыла. Придворные, всегда стремившиеся угодить ему любыми доступными их пониманию способами, водили за собой слуг с серебряными кувшинами и учтиво сплевывали или, перебрав вина, блевали в них. Если бог Атон желал, чтобы его божественное воплощение и его священная сущность вели себя таким образом, они тоже хотели приобщиться к божьей благодати.
Со сменой приоритетов в государственном управлении произошла реорганизация власти, и многие управители, которые были на вершине при Аменхотепе Третьем, оказались невостребованными. Фараон не отстранил их открыто, но те повседневные указания, которые должны были передаваться им, поступали теперь их подчиненным. Чиновники благоразумно удалились, не высказывая возражений, и их места заняли те, кто был обласкан Эхнатоном.
С чувством сожаления Эйе все более отчетливо видел разумность своего решения последовать за фараоном. Ему нравился его заместитель, Раннефер. Молодой человек знал толк в лошадях, и колесничие уважали его, но, когда он с царевичем приехал из Мемфиса, тот назначил его служить в подчинении у Эйе, и Эйе с тревогой наблюдал за Раннефером, ожидая, что тот захочет захватить власть. Однако пока было не похоже на то, что Раннефера назначат смотрителем царских лошадей. Но Эйе верил, что этот момент когда-нибудь наступит, если он сам не займет его должность. Больше не было сомнений, что фараон контролирует управление страной. Теперь он был бесспорным правителем, хотя осуществлял свою власть не так, как его отец, который управлял Египтом с помощью системы государственных учреждений; он правил как цари-жрецы древних времен. Восходила и звезда Нефертити. Через год после начала строительства города она, к своему огорчению, родила еще одну девочку, но Эхнатон радостно воспринял появление дочери и назвал ее Анхесенпаатон – Живущая для Атона. Нефертити была окружена ореолом красоты и богатства, притягивавшим власть. Благоговейно почитавшаяся богиней и императрицей, Тейе еще не утратила влияния, но она была богиней старого времени, императрицей, которая не могла больше безраздельно властвовать в империи. Эйе, не желавший видеть ее дальнейшее унижение, намеревался осторожно завоевывать доверие Эхнатона, а эта задача оказалась несложной. Эйе знал, что фараон благоволит ему, он всегда чувствовал себя спокойно в присутствии дяди и в то же время искал его совета без робости, которую испытывал в обществе матери. Советы Тейе слишком часто звучали снисходительно или, хуже того, ненамеренно едко, камня на камне не оставляя от его несмелых суждений. Наученный горьким опытом сестры, Эйе не спорил, а только рассуждал, поощрительно кивая, всегда уступая Эхнатону, если тот начинал настаивать на своем.
Единственным развлечением, которое доставляло Эхнатону истинное наслаждение, было управление колесницей, что он делал превосходно, и как смотритель царских лошадей Эйе проводил много времени в колеснице, стоя за узкой, сутулой спиной фараона, когда он весело покрикивал на лошадей, а его слабые руки уверенно управлялись с поводьями. Для Эйе было что-то подкупающее и вызывающее сострадание в том, как племянник упорно боролся со своими физическими недостатками. К своему удивлению, Эйе вдруг понял, что с удовольствием предвкушает тот момент, когда он вновь будет слушать немелодичное, похожее на писк пение фараона, скрип сбруи и свист ветра в ушах.
– Несмотря на то, что ты строишь новую часовню Мину в своем родовом поместье в Ахмине, я считаю тебя своим Другом, дядюшка, – сказал Эхнатон Эйе однажды, когда они, Все в пыли, сошли с колесницы и устало шагали к своим носилкам. – Это что-то большее, чем зов крови, правда?
Эйе улыбнулся тревожному, неуверенному тону вопроса.
– Конечно, я твой друг, – учтиво ответил он.
– Тебе хорошо со мной? Нефертити уверяет, что ты проводишь со мной время только ради того, чтобы потом докладывать матушке. – Он взял Эйе за руку и остановился.
Эйе посмотрел прямо в беспокойно вопрошающие черные глаза, отметив, что в складках век застряли песчинки.
– Эхнатон, ты должен знать, что императрица – мой старинный друг и любимая сестра, – осторожно подбирая слова, начал он. – С ней меня связывают воспоминания, которые принадлежат только нам двоим. Но я никогда не стану порочить своего фараона ни в чьем присутствии. Царица Нефертити слишком усердна в своем стремлении оградить тебя от всего, что может тебе навредить.
К изумлению и тревоге Эйе, глаза фараона вдруг наполнились слезами.
– Иногда, когда одни говорят мне одно, другие – другое, а Атон не может объяснить мне, кто же говорит правду, я очень страдаю. – Его толстые губы дрожали. – Иногда мне кажется, что меня совсем никто не любит.
Почувствовав, как тело фараона потянулось к нему, Эйе понял, что, если сейчас раскроет объятия, Эхнатон бросится к нему. Он убрал руки за спину. Придворным, которые не могли слышать их разговор, но терпеливо наблюдали за ними на расстоянии, вовсе не обязательно знать, что их фараон так нуждается в утешении.
– Мой царь, мой владыка, – тихо сказал он, – тебе поклоняется целая империя, ты возлюбленный самого Ра, и, конечно, тебя не могут не любить такие жалкие смертные, как я и твоя матушка.
Эхнатон смахнул слезы и закусил губу.
– Я тоже люблю тебя. Я люблю императрицу, но она становится остра на язык. Дядюшка, ты не хотел бы принять честь стать моим носителем опахала по правую руку?
Эйе смотрел на него, быстро обдумывая ситуацию. Ему предложили высочайшую должность на земле, и это не прозвучало как приказание. Он готов был рассмеяться от облегчения, но сглотнул, опускаясь на колени в утрамбованный грунт площадки и целуя запыленные ноги фараона.
– Я не заслуживаю этого, – сказал он, зная, что говорит правду, – однако я желаю верно служить тебе, о Дух Атона.
– Хорошо. Я позволю Раннеферу принять должность смотрителя царских лошадей. Ты поедешь со мной в мой священный город?
– Ты в этом сомневался?
– Да. Нефертити сказала, что ты останешься здесь с Тейе и будешь строить заговор против меня.
Надо будет серьезно поговорить с Нефертити, – подумал Эйе. – Неужели она так никогда и не научится благоразумию?
– Могу только отрицать это и пытаться своими деяниями убедить тебя в том, что царица не права.
Эхнатон мягко тронул его ногой, и Эйе поднялся.
– В любом случае я не поверил в это, дядюшка, – сказал фараон, шмыгнув носом, – Носи мое опахало и покажи всем злопыхателям, что они ошибаются, сомневаясь в твоей верности.
Я еще и сам не уверен, что они ошибаются, – подумал Эйе, рассеянно глядя на тяжелые бедра фараона, направлявшегося к своим носилкам. – Но я нужен тебе, Эхнатон.
Он все еще не был уверен, когда на следующий день просил сестру принять его. Тейе отпустила писца. Эйе распростерся ниц перед ней, искоса глядя, как босые ступни прошагали мимо его лица. Потом к нему приблизились кожаные с золотой шнуровкой сандалии Тейе. Эйе приподнялся на локтях, поцеловал ее ноги и встал.
– Писец собрания сообщил, что на строительство направлено четыре тысячи солдат, – гневно сказала она. – О чем думает Эхнатон? Чтобы поддерживать порядок среди феллахов, достаточно и тысячи. Себекхотеп, должно быть, просыпается среди ночи в холодном поту, когда видит, с какой скоростью убывает из казны золото. И ты, носитель опахала по правую руку, тебе тоже нужно платить в соответствии с твоей новой должностью.
Она быстро свернула свиток и бросила его на стол писца. Эйе посмотрел на морщинистые, с выступающими венами руки, унизанные массивными кольцами. На Тейе было прозрачное бледно-голубое одеяние, расходящееся складками из-под смуглой обвислой груди. Сморщенные соски были выкрашены синим, и поблескивали золотой пудрой. Голубой плащ, который она бросила на стул позади себя, по краю украшали маленькие золотые шарики, в каждом из которых при ходьбе со звоном перекатывались дробинки. Ее пышные рыже-каштановые волосы были убраны с высокого лба, который охватывала девическая диадема из синих эмалевых незабудок. С диадемы свисали стрельчатые зеленые эмалевые листья, касавшиеся щек, уже начавших отвисать под натиском прожитых лет. Прозрачные голубые глаза окружала густая сеточка морщин, под глазами от усталости образовались мешки. Впервые Эйе подумал, что она одета безвкусно, юная свежесть ее одеяния больше подчеркивала, чем скрывала ее возраст. В ее голосе появились интонации старой ворчливой няньки. С изумлением он разглядел в Тейе черты их матери, Туйи, Украшения царя, там, где прежде замечал только силу и самоуверенность отца.
– Пока подати и подношения иноземцев льются в казну, она не оскудеет, – мягко возразил он. – Похоже, фараон верит в то, что он сможет отпугивать злых духов от своего города с помощью копий и мечей живых людей. Это неважно, императрица.
– Это важно! – воскликнула она в негодовании. – На севере, в Сирии, уже сгущаются тучи. Наши вассалы делают попытки сделать свой народ нашим врагом. Любой глупец понимает это, только не фараон. Египту может понадобиться каждый его солдат.
– Фараон понимает это.
– О да. – В ее голосе зазвучали саркастические нотки. – Он читает депеши. Для него каждое слово в них дышит правдой. Он называет этих разбойников Азиру и Суппилулиумаса своими братьями.
– Зачем ты принимаешь все так близко к сердцу? Азиру и Суппилулиумас то ссорятся, то мирятся между собой. Если они, в конце концов, нападут друг на друга, мы только выиграем от этого. Если они объединятся и нападут на нас, мы разобьем их. Может быть, небольшая война вразумит Эхнатона.
– Ты так спокоен, Эйе. – Она холодно улыбнулась. – Так рассудителен. Когда я слушаю тебя, я начинаю верить в то, что трезвость ума покинула меня. Но я говорю тебе, что шакалы чуют слабость в моем сыне и их аппетиты разгораются.
– Тогда пусть попытаются утолить их. Египет вполне силен для того, чтобы вбить кость им в глотки. Ты всегда умела смеяться, императрица, и забывать о государственных делах, покидая палаты управителей. В чем дело?
Ее округлые плечи поникли.
– Не знаю. Может быть, в тебе. Носитель опахала – великая честь. Я слишком устала, чтобы шпионить за тобой, задумываться о твоих делах, тяготиться подозрениями, что ты подталкиваешь меня к смерти. Я могла бы вместе с Нефертити нашептывать фараону, что ты добиваешься его расположения только для того, чтобы сохранить свое положение самого высокопоставленного сановника царства, но я не хочу делать ему больно, даже если это правда.
– Нет ничего плохого в том, чтобы преследовать свою выгоду в сложившихся обстоятельствах, и ты бы первая признала это, окажись ты на моем месте, – возразил Эйе. Повисла пауза. Тейе опустила голову, глядя на свитки, оставленные писцом собрания. Потом Эйе тихо сказал: – Тебе не хватает его в постели, правда?
Она гордо вздернула подбородок и улыбнулась – непреклонно и вместе с тем смиряя свое достоинство.
– Да, это так. Но больше всего мне не хватает Осириса Аменхотепа Прославленного.
– Тогда найди кого-нибудь, кто мог бы заменить его. Твои ночи не должны быть холодными.
– Это не то… это… – Она подыскивала слова, потом пожала плечами. – Это не важно. Но я, наконец, решила, что, когда Эхнатон перевезет двор в новую столицу, я останусь здесь.
Он кивнул.
– Тогда ты понимаешь, что придется оставить здесь Сменхару и Бекетатон.
Их глаза встретились.
– Конечно, – сухо ответила Тейе.
Они замолчали. Ее взгляд упал на беспорядочно заваленный стол, и она принялась задумчиво перебирать свитки. Через некоторое время Эйе сказал:
– Может ли статься, чтобы императрица Египта поддавалась чувству жалости к себе?
Он ожидал едкого ответа, но она подняла голову и грустно улыбнулась ему.
– Вполне. Между нами уже выросла пропасть, носитель опахала. Я открыто признаю, что, если бы я оказалась на твоем месте, я поступала бы так же, как ты, но я уже горюю о том, что ты отдаляешься. Позволь мне роскошь простой человеческой слабости.
Она поднялась из-за стола, протягивая к нему руки, и они безмолвно обнялись. Эйе знал, что его великодушно простили.
Три месяца спустя, в самый разгар поры урожая, в Малкатту пришло сообщение, что маневры Суппилулиумаса переросли в полномасштабную военную кампанию и что хетты действительно двинули войска в северную Сирию против Азиру. Тейе стояла в окружении писцов в палате внешних сношений. Ее сын переминался с ноги на ногу, бледный и растерянный, вокруг него, как обычно, скакали мартышки.
– Но у нас мирное соглашение с Суппилулиумасом, – возражал Эхнатон, неуверенно глядя на смущенного Туту. – Туту показывал его мне. Как мы можем выступить против него?
– Великий царь, я вовсе не призываю развязать войну с хеттами, – осторожно принялась убеждать его Тейе, стараясь сохранять спокойствие. – Но пока они дерутся с Митанни, а также с Амурру, мы должны посетить граничащие с Египтом государства, в которых становится неспокойно. Наши наместники из коренных жителей озадачены бездействием Египта при виде ощутимых беспорядков, они начинают задаваться вопросом, а выгодно ли сохранять преданность нам. Риббади из Гебела жаждет получить от тебя указания; кочевые племена хапиру снова восстали, они грабят приграничные города. Мой первый супруг не раз сталкивался с подобной ситуацией и действовал без промедления.
– Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? – жалобно спросил Эхнатон. – Меня тошнит от посланий Риббади, в которых он умоляет о помощи. Он пишет все время. Я велел Туту послать ему свиток, в котором я запрещаю беспокоить меня так часто. Я написал всем наместникам, напомнив им, что они получили благословение Египта.
– Этого уже недостаточно, – мягко сказала Тейе. – Во-первых, призови Азиру в Египет, чтобы он объяснил, почему он пытался договориться с хеттами. Собери ударные войска нубийцев, лучников и колесничих и веди на север. Разгромить племена пустыни, которые разоряют пограничные селения, было бы нейтральным дипломатическим ходом, ты не примешь ничью сторону и в то же время вновь заявишь о власти Египта. Также желательно навестить своих вассалов, сменить наместников, которым больше нельзя доверять, возможно, казнить некоторых, чья преданность уже не является неоспоримой. Остальных лично осыпь золотом, Гор. Потом поезжай на охоту и покажи всю свою живость и силу. Письма не могут заменить фараона во всей его зримой мощи.
– Но что со всеми этими соглашениями? – Он был явно огорчен, его лоб наморщился под золотой коброй, он нервно облизывал накрашенные хной губы. Одна из мартышек взобралась на подлокотник кресла и запрыгнула ему на плечо. Он с удовольствием принялся поглаживать ее. – Ты говоришь об убийствах, матушка. Но как я могу убивать людей, чьи письма исполнены дружелюбия, кто заверяет меня в своей надежности, кто называет меня величайшим царем во всем мире? Я подумаю о том, чтобы написать Мэю и попросить его усмирить разбойников. Хапиру никогда не писали мне.
– Хорошо, это для начала. Туту здесь. Не продиктуешь ли прямо сейчас?
– Нет, не сейчас. Я обещал детям, что поиграю с ними в детской.
Тейе была готова умолять, но передумала.
– Может быть, ты хочешь, чтобы я написала за тебя?
– Очень хорошо. – Его лицо просияло, и он, поцеловав мартышку в ухо, ссадил ее на пол и поднялся. Люди в комнате в ту лее секунду распростерлись ниц. – Но это не должно быть не чем другим, как наказанием хапиру. О наместниках я подумаю позже.
Он вышел, и все вышли вслед за ним.
Если я не могу убедить его в серьезности ситуации, может быть, Нефертити сможет, – подумала Тейе. – Нужно заставить его понять. Она схватила Нефертити за руку.
– Послушай, – тихо сказала она, – ты можешь не любить меня, но ты, без сомнения, любишь Египет. Постарайся, чтобы фараон воспринял это всерьез.
– А я полагаю, что он прав, императрица, – прошипела в ответ Нефертити. – Чем дольше мы будем медлить, тем более вероятно, что наши враги станут воевать друг с другом и от этого ослабеют.
– Ты не права. – Ногти Тейе сильнее впились в руку молодой женщины. – Суппилулиумас еще не может до конца поверить в то, что величайшая власть в мире выбирает позицию слабости. Он будет действовать исподволь, чтобы заключить союзы там, где он видит вероятность дальнейшей выгоды.
Нефертити натянуто улыбнулась тетке.
– Это все, что тебе осталось, дорогая императрица, – сомнительное умение так истолковывать дела с иноземцами, чтобы попытаться восстановить некоторое влияние на бога. Это не поможет. Твоя звезда закатилась. – Она поджала губы и причмокнула двум мартышкам, прицепившимся к ее платью. – Мне нужно идти. Отцепись от моей руки. Ты уже наставила мне синяков, и теперь мне нужно велеть сделать массаж, чтобы удалить отметины от твоих ногтей.
– Выпороть тебя нужно хорошенько, Нефертити. Отец был всегда слишком мягок с тобой.
Тейе с отвращением отступила, и Нефертити выплыла из комнаты. Туту стоял в ожидании, не поднимая глаз.
– И ты, ты, продажный лизоблюд, – в негодовании налетела на него Тейе, – если бы это было в моей власти, я бы выгнала тебя. Писец палаты внешних сношений должен думать сам и уверенно давать советы, а ты только и знаешь, что как попугай повторять за моей племянницей.
От расстройства она была готова расплакаться. Туту вздрогнул, но непокорно выпятил нижнюю губу, и Тейе знала: он понимает, что она для него неопасна. Ей очень хотелось швырнуть свитки на пол и покинуть и эту палату, и хитрого управителя, снять с себя ответственность, которая стала для нее таким непосильным бременем. У ее ложа, наверно, уже стоит поднос с роскошным дымчатым виноградом из Джарухи и свежее ячменное пиво, темное и прохладное.
– Мне нужна копия этого документа для моих собственных писцов, – сказала она. – А тебе лучше перевести это на аккадский и отослать в Урусалим и Гебел. Этим городам не помешает узнать, что Египет, по крайней мере, начинает изгонять стрелков пустыни. «Военачальнику крепости, Мэю, приветствие. До нашего мудрейшего внимания довели, что…»
Туту быстро записывал, старательно сохраняя молчание. Закончив, Тейе вышла, даже не взглянув на него. Снаружи в коридоре терпеливо ждал Хайя.
– Подать мои носилки и балдахин, – велела Тейе. – Сегодня я отправляюсь на площадку, там будет парад войска «Величие Атона».
Хайя взглянул ей в лицо и не стал возражать. Тейе доставили на ослепительно сияющий песчаный плац, где командиры отдавали приказы, а воины ехали на колесницах или маршировали, взбивая босыми ногами белую пыль, их скимитары ярко сверкали на солнце. Зрелище не порадовало ее. Армия Египта напоминала колесницу без оси, прекрасную, но бесполезную. Она уже страстно мечтала о том дне, когда фараон со своими любимцами отплывет безвозвратно, и Малкатта с ее тихими садами и гулкими коридорами будет принадлежать только ей и ее воспоминаниям.
15
В следующем году Тейе убедила фараона отправить на север еще одну экспедицию, мрачно сознавая, что это не более чем попытка заслониться ладонью от ярости хамсина. Письма Риббади, полные упреков, озадаченные, преданные и, наконец, охваченные паникой, глубоко трогали ее, но она ничего не могла поделать. Абимилки из Тира умолял прислать на помощь солдат. Другие мелкие царьки и наместники просили о понимании, и Тейе знала, что, для того чтобы разгадать истинный смысл этих писем, требовались терпение и хитроумие человека, опытного и мудрого, как Осирис Аменхотеп. Ее бездеятельному и простоватому сыну было не по силам тягаться с коварством людей, которые на словах торжественно клялись ему в верности, а на деле уже тайно объединились с величайшей силой из всех, когда-либо угрожавших стабильности Египта; длинное лицо Эхнатона горело от удовольствия, когда они заявляли о том, что их преданность оскорблена. Азиру, воспользовавшись преимуществом запутанной ситуации и осторожно избегая вражды с Суппилулиумасом, принялся убивать египетских чиновников в Сирии и обвинять в этом своих старых врагов. На призывы Эхнатона явиться в Малкатту он отвечал, извиняясь, что, с тех пор как он занят защитой сирийских городов от хеттов, он не сможет явиться, по крайней мере, еще целый год. Тейе, придя в ярость, потребовала, чтобы на территорию Амурру выступили войска и казнили Азиру, но Эхнатон, слегка поколебавшись между аккадскими письменами, выдавленными на глиняной табличке, которую можно было подержать в руках, и менее вещественными и более неудобными толкованиями матери, решил поверить Азиру. Он предоставил ему годичную отсрочку. Риббади бежал из своего города Библа, и за ним медленно хлынули хетты. Мегиддо, Лахиш, Аскалон и Гезер слали в Малкатту письмо за письмом, умоляя прислать денег, солдат и провизии, и, пока Эхнатон отчаянно выяснял, где же правда, города-вассалы пали жертвами грабителей хапиру, которые теперь встали на сторону Суппилулиумаса. Многие из ханаанских вассалов были вынуждены просить хеттов о мире, предавая Египет в обмен на собственные жизни.
В следующий год, восьмой год правления Эхнатона и четвертый с тех пор, как он начал строительство своего города, Азиру пошел войной на Шумер и захватил его, пролив немало крови. Его письма Египту по-прежнему были полны торжественных заверений в преданности и описаний трудностей, которые ему приходится преодолевать, спасаясь от Суппилулиумаса. Неисправимый мошенник, он посылал такие же письма хеттскому царевичу, в ожидании того дня, когда, как он надеялся, Египет и Хеттское царство начнут воевать. Он писал поверженному и разоренному Риббади, предлагая приютить его, и Риббади, окончательно утратив способность рассуждать трезво, бежал в Амурру с семьей и немногими приверженцами. Эхнатон больше не слышал о нем. Азиру снова начал запутанные переговоры с Суппилулиумасом.
Целыми днями вереницы рабов, нагруженных сундуками и ящиками, курсировали между дворцом Малкатты и рекой, потому что через четыре года строительства город фараона был, наконец, готов. Его назвали Ахетатон – Горизонт Атона. Сияя факелами в ночи, вниз по реке скользили ладьи, увозя последние пожитки отъезжающих, которые бродили по пустым комнатам своих покоев и домов, перед тем как приказать слугам запечатать двери. В палате внешних сношений царил хаос, на полу, колено к колену, сидели писцы, торопливо переписывая наиболее важные тексты с глиняных табличек на более легкие и удобные для перевозки свитки папируса, которые можно было взять с собой в новую палату Туту в Ахетатоне, а сами таблички отправлялись в хранилище. Ежедневные послания часто терялись в беспорядочной груде старой переписки. Фараон, крайне утомленный и возбужденный ожиданием переезда, удалился в свой недостроенный храм в Карнаке, где находил успокоение среди своих жрецов, воскуряя фимиам и внимая молитвам Мериры, а Нефертити тем временем покрикивала на слуг, пытавшихся упаковать ее бесчисленные платья, драгоценности, сандалии и тяжелые парики.
Единственным местом во дворце, где никто не суетился, была детская, куда, воспользовавшись частым отсутствием своих воспитателей и матери, предпочитавшей уединение, Сменхара и Бекетатон пришли поиграть с детьми Нефертити.
– Я буду каждый день диктовать тебе письма, буду рассказывать, какие мне задают уроки, сколько рыбы я поймал, как убил своего первого льва, – обещал Сменхара Мериатон, растянувшись рядом с ней на циновке под ветроловушкой, откуда задувал порывистый ветерок с крыши. – А ты должна описать мне, какой у фараона новый дворец, где там получше места для охоты и каких новых женщин купили в гарем фараона. Мекетатон, ты лежишь на моей ноге. Пойди, поиграй с моей сестрой.
– Не-ет, я хочу купаться, а Бекетатон только и знает, что дразнить мартышек, – заныла малышка. – Не пинай меня, Сменхара! Я хочу и буду лежать здесь и слушать.
Мериатон приподнялась.
– Эй, ты! – крикнула она рабыне, стоявшей у двери. – Отведи этих двух к озеру. И где Анхесенпаатон?
– Ее купают перед сном, – поклонившись, ответила женщина.
Мекетатон подпрыгнула, а Бекетатон в другом конце комнаты завопила от возмущения.
– Я не хочу купаться. Я матушке нажалуюсь!
– Нажалуешься потом, – грубо ответил Сменхара.
Рабыня снова поклонилась, выжидая, пока обе царевны подойдут к ней. Мекетатон радостно запрыгала, а недовольная Бекетатон принялась выталкивать мартышек из окна на клумбу.
– И пусть кто-нибудь принесет нам пива, – приказал Сменхара, когда они уходили. – И поскорее. Слишком жарко, и мы хотим пить.
Дверь закрылась.
– Я каждый день буду просить отца, чтобы он послал за тобой, – тихо сказала Мериатон, поглядывая на слуг, толпившихся в дальнем конце детской. – Я буду сердиться, и визжать, и притворяться больной, пока он не послушает.
Сменхара намотал на палец ее детский локон и притянул ее к себе.
– Фараоны не слушают восьмилетних девочек, тем более твой отец. Он слишком боится императрицы, чтобы посылать за мной. А еще он не любит меня. Вряд ли он это позволит.
– Но почему? – Мериатон потянула локон. – Моя матушка снова беременна и говорит, что на этот раз у нее будет царевич, и он женится на мне, и я однажды стану царицей.
– Станешь, но только когда я стану фараоном и женюсь на тебе. Поэтому мой брат-царь не любит меня. По крайней мере, так говорит моя матушка.
Служанка подошла и, беззвучно опустившись на колени, поставила перед ними поднос с пивом. Сменхара залпом осушил свою чашу.
– Мне надоело валяться здесь. Надевай юбку, пойдем, покатаемся по реке. Посмотришь, как я рыбачу.
Мериатон послушно поставила чашу, хлопнула в ладоши, чтобы ей принесли юбку, и подождала, пока рабыня обернула ее вокруг талии. Сменхара с интересом наблюдал, как ее обули в сандалии и затушевали черной краской веки, потом схватил за ленты детского локона и небрежно потащил ее к двери.
Тейе сошла с носилок и, повелительным жестом приказав свите ждать у ворот, пошла к дому брата. Сад, где она так часто сиживала все эти годы, смеясь и потягивая вино, слушая звонкие переливы мелодий, глядя на бабуинов, которые, почесываясь, неуклюже переползали от одного островка тени к другому, – этот сад был теперь пуст и недвижен в тяжелом полуденном зное. Затененный каменный причал, у которого обычно покачивалась ладья Эйе, тоже был пуст, только ослепительно белые солнечные блики сверкали на ступенях, исчезающих в медленной маслянистой воде. Здесь я всегда чувствовала себя дома, – думала Тейе, ступая в тень портика с колоннами, расцвеченными синей и желтой краской. – Здесь столько милых сердцу воспоминаний. Отец, с его крючковатым носом и седыми волнистыми волосами, тихо улыбается, а мать пересказывает ему главные сплетни гарема своим низким хрипловатым голосом, увлеченно жестикулируя, и браслеты скользят по ее запястьям. Анен сидит на траве, скрестив ноги, его жреческие одежды аккуратными складками лежат на коленях, голова склонена, он слушает, не особенно вникая в смысл слов. Сам Эйе осмеливается комментировать или поправлять, всегда вежливо, – ловкий льстец. И здесь же юная Тии, прекрасная и румяная, вставляет в разговор какие-то обрывки фраз, бессвязные слова, случайно вылетающие из хаотичного потока ее собственных мыслей. Осирис Аменхотеп никогда не приходил сюда, и Ситамон тоже, – думала Тейе, увидев, как единственный слуга поднялся с табурета у открытой двери и распростерся перед ней ниц на теплых камнях. – Странно, что я не вспомнила первую жену Эйе, хотя она, должно быть, бывала здесь, или его детей – Нефертити и Мутноджимет. Как медленно тянутся годы, когда ждешь конца. Едва заметное движение у ног вернуло ее к действительности, и она велела человеку подняться.
– Скажи племяннице, что я здесь, и принеси для нас кресла, – сказала она.
Слуга поспешил в дом, а Тейе повернулась спиной к двери, позволяя себе на несколько минут предаться ностальгии, и когда она, вздохнув, снова повернулась лицом к дому, то увидела Мутноджимет, кланяющуюся ее спине. Неизменный детский локон молодой женщины был распущен, спадая волнистым черным шнурком к ее голым коленям. Она была бледна, не накрашена, из-за припухших век глаза казались меньше. Она торопливо набросила прозрачный белый халатик на голое тело. Слуга расставил раскладные стулья, принес воды из бочонка, охлаждавшегося в тени у стены, и потом, по знаку Тейе, исчез в полумраке дома. Мутноджимет слабо улыбнулась и села на стул, Тейе удобно устроилась рядом с ней.
– Ты была занята переездом отца? – сказала Тейе, и Мутноджимет кивнула.
– Все позади, я ужасно устала, тетушка. Сегодня я спала дольше обычного. Прости, что не вышла встретить тебя. Как только получу известие о том, что отец устроился на новом месте и вещи благополучно доставлены, я тоже поеду на север, чтобы присоединиться к мужу.
– Ты счастлива с Хоремхебом?
Вопрос удивил Мутноджимет. Она подняла свои разлетающиеся брови и усмехнулась.
– Да. Он не требует от меня что-то сверх того, что нравится мне самой, и научил меня не преступать границы дозволенного, и при этом он сохраняет мое уважение. Он становится довольно влиятельным при дворе, ты знаешь.
– Знаю, – коротко ответила Тейе. – Тебе удалось найти новых карликов?
– Хоремхеб писал в последнем письме, что они ждут меня в Ахетатоне. Они ему стоили целого состояния.
– Он быстро сколотит новое. – Тейе пристально разглядывала расслабленные и поникшие точеные плечи под прозрачной тканью, длинные ноги, скрещенные в лодыжках, смуглые соски – ее халатик распахнулся и спадал на землю. – Думаешь, тебе понравится новый город фараона?
Мутноджимет пожала плечами.
– Это чудо надо видеть. Игрушка, огромной красоты игрушка, один огромный храм. Я счастлива там, где у меня есть друзья. Конечно, мужу пожаловали поместье, где мы будем жить, – ничего подобного я никогда не видела. Фараон не пожалел средств, чтобы показать, как он доволен своими придворными. Так что мне понравится в Ахетатоне.
– Я слышала, что Тии решила переехать из Ахмина.
Мутноджимет рассмеялась, вскинув подбородок, и опрокинула свою чашу над головой. Вода тонкой струйкой потекла по ее шее к пупку и начала собираться в ложбинке между сомкнутыми коленями.
– Матушка пытается снова стать примерной женой. Ей это не идет. Хотя отец выстроил для нее очень уединенное поместье на противоположном от города берегу реки, она вскоре начнет тревожиться и метаться, пока зов Ахмина не станет слишком сильным. Потом она незаметно улизнет.
– Эйе любит ее.
– И она его тоже. Не в этом дело, тетушка. Только в Ахмине она чувствует себя в безопасности.
Я понимаю, – подумала Тейе с внезапным приливом сочувствия к прекрасной, вечно растрепанной жене Эйе.
– Мутноджимет, я пришла сюда сегодня не только посплетничать. У меня к тебе дело, – прямо сказала она. – Это не священный приказ, требующий неукоснительного выполнения. Ты можешь отказаться, если хочешь.
Мутноджимет заулыбалась.
– Ты хочешь, чтобы я сделалась твоей осведомительницей в Ахетатоне, не правда ли, богиня?
Тейе криво усмехнулась. Она недооценила степень проницательности, скрытой под этим томным безразличием.
– Да. И я хорошо заплачу тебе. Ты стоишь в стороне от борьбы за власть. Тебя ничего не заботит, поэтому ты сможешь обстоятельно рассказывать обо всем, что видишь и чувствуешь.
– Хоремхебу это не понравится, – резко возразила Мутноджимет. – И это неправда, что меня ничего не заботит – Ее глаза прояснились, и она пристально смотрела на Тейе – Меня заботит мой муж. Я не стану подвергать его опасности или риску впасть в немилость.
– Однако о твоих похождениях не сплетничает при дворе только ленивый.
– Фи! Скоротать бесконечные полуденные часы, наслаждаясь красивым телом, что из этого? А за Хоремхеба я готова пойти на убийство.
Тейе скрыла свое удивление.
– Став моей осведомительницей, ты, в конечном счете, сделаешься его защитой. Это только вопрос времени, пока те, кто окружает моего сына, увидят необходимость заставить его понять, где правда. Хоремхеб, конечно, не может верить ни в превосходство Атона, ни в малодушную политику умиротворения, которую ведет Эхнатон в отношении империи. Фараон нуждается в истинных друзьях, Мутноджимет, в людях, которые смогут противостоять ему ради его же блага.
– Хоремхеб переехал в Ахетатон только потому, что фараон пообещал ему монополию на нубийское золото, которой в настоящее время владеют жрецы Амона, – ответила Мутноджимет, – и, возможно, потому, что он уже имеет некоторое влияние. Он любит твоего супруга, императрица, независимо от того, верит он в его правоту или нет. Он не понимает его, но он готов быть преданным.
– Хоремхеб всегда был предан мне!
– Он и сейчас тебе предан, но нам нужно как-то жить, и, кроме того, он ничего бы не добился, если бы остался в опустевшей Малкатте или отправился охранять границу, хотя отец и пытался отослать его обратно. – Она встала, скользнула к бочонку и зачерпнула еще воды. Тейе покачала головой, отказавшись от предложенной чаши, и Мутноджимет, прислонившись к колонне, выпила сама. – Ты можешь поклясться, тетушка, что не станешь замышлять никаких заговоров с участием моего мужа?
– Разумеется, я могу поклясться! Хоремхеб – лучший из молодых военачальников Египта, и я знаю, что для него преданность своей стране превыше всего.
– А сколько ты будешь мне платить?
Тейе улыбнулась про себя.
– Сотня новых рабов каждый год, из любой страны по твоему выбору. Четверть моих доходов от торговли с Алашией. И разрешение распахать и оросить сто акров земель в моем поместье в Джарухе, прикажешь возделывать их для себя.
Мутноджимет кивнула.
– Договорились. Но я буду сама решать, о чем тебе докладывать, не обязательно о том, о чем ты захочешь знать, и не буду диктовать никаких посланий, чтобы потом их нельзя было обратить против меня.
– Я думала об этом. Дам тебе своего раба с отрезанным языком. Ты будешь пересказывать ему свои доклады, а по приезде он будет записывать их в моем присутствии. Я буду читать донесения и сразу сжигать их.
– Императрица, ты знаешь, что я ленива и не стану бегать, запыхавшись, с одного приема на другой или околачиваться у закрытых дверей, в надежде услышать какую-нибудь новость. Кроме того, я не уверена, что могу доверять тебе.
– Тогда приставь ко мне своих шпионов.
Они обе рассмеялись. Мутноджимет сползала спиной вниз по колонне, пока не опустилась на корточки.
– Мне не нужны от тебя отчеты о царской политике, – помолчав, продолжала Тейе. – Я хочу знать о том, что витает в воздухе, хочу знать о настроениях людей. Тебе не придется посылать сообщения регулярно. Уверена, что Эйе тоже будет держать меня в курсе.
– Фараон выстроил там для тебя огромный дом, – тихо сказала Мутноджимет. – Зачем ты остаешься здесь, в клонящемся к упадку городе? Это из-за моей вздорной сестры?
– Я – богиня, – холодно ответила Тейе и поднялась. Мутноджимет небрежно поклонилась. – Да живет твое имя вечно, – закончила разговор Тейе и, ступив в сияние позднего солнца, направилась к воротам, где дремали ее слуги.
Сад больше не навевал сладостных воспоминаний, но, склонив голову, чтобы защитить лицо от солнца, она осознала, что сердце у нее заныло вовсе не от воспоминаний об ушедших днях, а от внезапной зависти к Мутноджимет. Она оглянулась. У портика никого не было, стулья еще стояли, сдвинутые вместе, на камнях высыхала лужица воды, и в траве валялась чаша, брошенная Мутноджимет.
В ночь накануне отъезда фараона из Малкатты Тейе не могла уснуть. Она весь день бродила по своим покоям, не в состоянии ничем заняться, в ожидании, что Эхнатон пришлет за ней. Она вызвала танцоров, позвала Тиа-ха, чтобы отвлечься, и Пиху, чтобы та сделала ей массаж, но все ее мысли были о человеке, который был ей и сыном, и мужем, и ребенком, и возлюбленным. Она отказывалась верить, что он может уехать, не сказав ей ни слова, хотя уже миновали месяцы с тех пор, как он выражал желание провести хоть какое-то время наедине с ней. Он не давал никаких указаний касательно управления старым дворцом, не оставлял никого из своих людей, чтобы обеспечить связь со своей императрицей. Казалось, будто с его отъездом все огромное величественное строение, которое долгие годы было сердцем Египта, исчезнет, оставив лишь ящериц и тушканчиков, которые будут ползать по его камням. Тейе гордо отказалась встретиться с ним. Если он желает отплыть, даже не простившись, будто она уже умерла, так тому и быть. Она говорила себе, что жаждет такой же покойной старости, какой наслаждалась ее тетка, царица Мутемуйя, в роскошных покоях гарема. Тейе пресытилась битвами.
Она велела своему врачевателю приготовить сонное снадобье, но Ра плыл по Дуату от залы к зале, а она все лежала, напряженно прислушиваясь к слабым отзвукам труб, доносившимся из-за реки из Карнака, ее нагое тело было липким под льняными простынями. Дважды она будила Пиху, чтобы та принесла ей попить, но теплая вода вызывала лишь тошноту. Она была уверена, что сон ускользнул от нее, и, увидев склонившуюся над собой темную фигуру, не могла поверить, что пробудилась, пока не ощутила на своей щеке робкое прикосновение. Вскрикнув, она села на постели. Эхнатон отступил от ложа.
– Я отослал Пиху, – зачем-то шепотом сказал он. – Хочу поговорить с тобой наедине, Тейе.
То, что он назвал ее по имени, было добрым знаком, но она также шепотом спросила:
– Нефертити знает, что ты здесь? – Когда он склонился к ней, в слабом свете она не смогла разобрать, от смущения ли покраснела его шея, или просто на нее упала тень. – Или ты стыдишься прощаться со мной на людях?
– Почему? Вовсе не стыжусь, – ответил он более громким голосом, но лицо выглядело озадаченным. – Я думал, мы попрощаемся утром на ступенях причала. Я не мог уснуть.
Смягчаясь, Тейе похлопала рукой по покрывалу, приглашая его присесть рядом с ней.
– Я тоже. Аменхотеп, тебе еще не поздно передумать. Оставь свой город совам и шакалам, царствуй здесь!
– Не называй меня так! – Он нахмурился, выпятив нижнюю губу. – Это тебе еще не поздно изменить твое решение, матушка. Я приготовил для тебя великолепный дом в Ахетатоне, с прекрасным садом и иными источниками наслаждений, достойными императрицы. Прошу тебя, поедем со мной.
Его высокий лоб под белым льняным ночным колпаком был нахмурен. Тейе нежно коснулась горячими пальцами его нагого бедра.
– У меня нет причин покидать свой дом, – сказала она. – Эхнатон, ты явно дал мне понять, что я больше не нужна тебе – ни как императрица, ни как жена. Я поступала неправильно, нарушая с тобой закон, Эхнатон. Здравый смысл изменил мне. Теперь я ищу только покоя.
– Не понимаю. – Он взял ее руку и принялся массировать ее. – Атон соединил нас раз и навсегда. Соединение наших тел было необходимостью. Я же говорил тебе.
– Но больше такой необходимости нет. – В ее голосе слышались и утверждение, и вопрос. – Позволь мне уйти, Эхнатон.
Он внимательно посмотрел на нее, на его лице отразилось страдание.
– Значит, ты больше не любишь меня? Я тебя чем-то обидел? – От волнения его высокий голос становился визгливым. – Атон бы рассердился, если бы я обидел тебя, Тейе.
Она почувствовала себя снова невольно втянутой в вихрь сильных, противоречивых чувств, которые дремали в ней, чтобы внезапно спутать мысли и управлять телом, как было всегда, когда сын оказывался рядом с ней. Но в эту ночь она была непреклонна.
– Возвращайся в свою постель, – сухо сказала она, отнимая руку. – Вчера ты был болен. Мой врачеватель доложил мне. Тебе надо поспать, чтобы завтра утром ты смог отплыть.
– Как я могу уехать из Малкатты, зная, что разочаровал тебя?
О боги, – устало взмолилась про себя Тейе.
– Ты не разочаровал меня, сын мой. Разве ты не воплощение Ра, не Дух Диска Атона? Разве бог может разочаровать? – Она говорила успокаивающим тоном, но он все еще волновался.
– Ты разговариваешь со мной, как с ребенком! – взорвался он, вскакивая и переминаясь с ноги на ногу. – Я знаю, ты говоришь не то, что думаешь! Ты пытаешься успокоить меня, но на самом деле ты просто хочешь, чтобы я ушел!
– Ты – мой фараон, – медленно сказала она. – У тебя есть Нефертити – прекраснейшая из женщин, когда-либо ступавших по земле. У тебя есть такая власть, такое богатство. Что еще тебе нужно? К чему эти взрывы чувств в моем присутствии?
Он перестал раскачиваться и замер.
– Потому что я не вижу в тебе того поклонения, которое получаю от всех вокруг. Ты слишком хорошо меня знаешь.
Это был момент откровения, которого она не ожидала от него, и это поразило и разоружило ее.
– Но я и люблю тебя потому, что знаю. Не беспокойся. Ты и в Ахетатоне будешь фараоном, а я и в Малкатте буду твоей матерью.
– Ты будешь скучать по мне? – Он сжал коленями свои ладони. – Ты не станешь устраивать против меня заговоров и не захочешь причинить мне вред?
– Так это Нефертити нужно, чтобы я переехала в Ахетатон и была у нее под присмотром! – Тейе облегченно рассмеялась. – Я польщена. Только ради твоего собственного спокойствия ты должен запомнить, что она так говорит из ревности. Я лишь хочу, чтобы меня оставили в покое.
Он снова беспокойно заерзал, и, озадаченная, она увидела, что как-то задела его, но все же продолжила:
– Я сделала все возможное, чтобы увидеть тебя прочно сидящим на троне Гора, и у меня теперь нет желания любоваться вечно недовольной миной Нефертити. Ты не доверяешь мне, Аменхотеп, это не делает тебе чести. Я пыталась быть тебе и женой, и матерью, но мне это не удалось. Я скучаю по твоему отцу! Прошу тебя, покинь мою опочивальню.
Вместо ответа он толкнул ее на ложе. Его била дрожь.
– Отец – это я, и ты моя жена! – закричал он. – Ты любишь меня, ты знаешь, что любишь! Скажи мне это, Тейе!
– Я не желаю слышать этого сегодня, – властно сказала она. – Ты не дождешься от меня покорности, я тебе не малышка Киа или какая-нибудь из твоих наложниц. Ты слишком долго пренебрегал мною и в постели, и за пределами опочивальни. Убери руки с моих плеч, иначе я вызову стражу.
– Если ты не хочешь ехать, дай мне хотя бы свою любовь, чтобы я мог увезти ее с собой, – глухо сказал он, уткнувшись в подушку рядом с ней. – Только один раз, Тейе, будь со мной, чтобы удача не отвернулась от меня.
– Я тебе не амулет и не заклинание!
Она выгнулась под его весом, зная, что легко могла бы сбросить его, но затем вдруг расслабилась, пораженная правдивостью собственных слов. Это было так давно, слишком давно, – повторял коварный внутренний голос. Она почувствовала знакомое прикосновение, и ее колени расслабились и бедра раскрылись. Сердитая, она все же попыталась приподняться на локтях, но тут губы Аменхотепа прижались к ее губам, она ощутила вкус гвоздики и ароматного вина, который всегда вызывал воспоминания о его отце. Образ его полного, морщинистого лица возник перед ней так реально, что, почувствовав спазм в желудке, она отстранилась. Внезапно сын тоже отпрянул от нее.
– Ты действительно еще любишь меня! – Он счастливо улыбнулся. – Я знал, что любишь.
– Я люблю тебя как сына, как бога, – выдавила Тейе, голос сделался низким, тело отяжелело.
Он наклонил голову и опять поцеловал ее, на этот раз нежно, мягко и неуверенно, будто пробуя на вкус, этот поцелуй она помнила так хорошо. Ее тело, еще полное жизни, изголодавшееся, отвечало ему, но ее разум противился, и даже когда ее руки обвились вокруг его шеи, а его движения вернули ее к тем дням в Мемфисе, к первой радости их супружества, она вспоминала долгие месяцы, когда он пренебрегал ею. Она уже забыла ощущение от прикосновений его странного, бесформенного живота, дряблых бедер и мальчишески-недоразвитых мужских органов, но отвращение, которое всегда присутствовало где-то в ее сознании, не смогло побороть желания ее плоти. Он уедет, – смутно понимала она, слушая свои собственные невнятные слова любви и поощрения, – и потом все это будет уже не важно.
– Это было хорошо, – сказал он, когда все закончилось, и она лежала рядом с ним, отвернувшись, скомкав простыню занемевшей рукой. – Будто я рождался снова и снова, будто смотрел на себя, выталкиваемого из собственного лона. – Он уже встал и теперь застегивал юбку. – В Ахетатоне я буду жить надеждой, что однажды ты подплывешь к причалу. Снова твое тело благословило мои устремления. Бог призовет тебя в мой город.
Тейе передернулась. Она не обернулась.
– Уже светает, я хочу спать, – только и смогла она ответить.
Когда он ушел, она столкнула подушки на пол и положила голову на подголовник. Слоновая кость была прохладной, приятный холодок сползал вниз по спине. Пошарив рукой под кроватью, она вытащила «Исповедь отрицания», которой так обидела Херуфа, и положила ее себе на живот, прикрыв сверху рукой. Ей хотелось спать. В глазах чувствовалось жжение, во рту пересохло. Но понимание, пришедшее к ней несколько часов назад, вернулось снова. Для него я не женщина, как Нефертити, – думала она. – Я – амулет, талисман на счастье, который отгоняет темные силы, что-то такое, что иногда можно достать из сундука и зажать в кулаке, чтобы потом зашвырнуть обратно вместе с другими безделицами, когда минует момент тревоги. – Она крепко зажмурилась и тихо застонала от унижения. – Ты стареешь, императрица, – сказала она себе. – Этот жестокий удар по твоему самолюбию вовсе не разозлил тебя, у тебя даже не возникло желания отомстить. Ничего, кроме стыда и удивления. Но, возможно, он только хотел убедиться, что его влияние на меня так же сильно, как всегда, и что моя преданность вне подозрений. Если бы я была готова к этому, если бы я прогнала его немедленно, он отплыл бы в Ахетатон, терзаемый сомнением и болью. Уж лучше так. Пусть он чувствует себя в безопасности, мой наивный сын. Путь завтрашний день будет для него славным.
В конце концов она забылась глубоким сном. Пробуждение было тягостным, звуки флейты и лютни медленно и тяжело проникали в сознание. Когда она открыла глаза, Пиха поднимала занавеси на окнах, музыканты, исполнив свои обязанности, кланялись и выходили. Дневная жара уже не давала дышать, лазурная синева неба, проглядывавшего в окно, приобрела оттенок бронзы. «Исповедь отрицания» все еще была у нее в руках. Она прижала ее к щеке и затем бросила под кровать.
Через два часа остатки малкаттского двора – свита Тейе, несколько придворных, решивших остаться, и старшие женщины гарема – собрались на ступенях причала, чтобы проводить фараона. Тейе сидела на троне в редкой тени балдахина, корона с рогатым диском и двойным пером давила на ее мокрый от пота лоб с такой силой, будто вместо короны у нее на голове была сама империя. Канал от причала до реки был забит различными судами, на всех реяли яркие флаги, они были заполнены смеющимися, толкающимися людьми. Те, которые стояли позади Тейе, молчали, и до нее медленно доходило, что ее и сопровождающих отделяет от сотен возбужденных людей гораздо больше, чем несколько шагов по траве и горячим камням. С болью в сердце она всматривалась в толпу. После смерти Осириса Аменхотепа она много раз улавливала отблеск гребня невидимой волны, эта далекая тонкая линия несла предупреждение и тоску; это вздымалась пучина самого времени, и вот уже волна поглотила ее. Тейе огляделась, сидя на троне. Повсюду она видела лица, в той или иной мере отмеченные возрастом, тусклые глаза, ослабевшие, согбенные тела тех, кому простые движения уже давались с трудом и болью. Не имело значения, что в этих телах обитали ка, всегда жизнерадостные и полные молодой силы. Желаниям духа противостояла стареющая плоть, и только глаза, где временами вспыхивал прежний блеск, все еще выдавали не тронутую временем душу. Тейе поймала себя на том, что разглядывает Тиа-ха – маленькую толстую женщину с чрезмерно накрашенным лицом, которая кланялась и улыбалась, как юная кокетка. Она быстро отвела взгляд, но тут же встретилась со спокойным и внимательным взглядом Нефертити. Высокая и стройная, парик убран золотой спиралевидной сеткой, вьющейся поверх локонов до самой талии и завихряющейся ниже плавного изгиба бедер до самых колен. А она женщина, – горько подумала Тейе – Двадцати восьми лет. Как так могло случиться? Новая беременность Нефертити была уже заметна, и молодая женщина, казалось, олицетворяла собой все, что Тейе – она знала это – утратила навсегда. Нефертити торжествующе улыбнулась тетке и исчезла в темноте занавешенной кабины.
Эхнатон шагнул вперед, двойная корона на нем сияла, фараонская бородка из плетеного золота и ляпис-лазури ярко вспыхивала. Струйки фимиама поползли вверх, и жрецы Атона приступили к молитвам за удачное путешествие. Эхнатон взял Тейе за руки, когда она поднялась.
– Ты знаешь, что я дал обет никогда не возвращаться в Фивы, – спокойно сказал он. – Если ты пожелаешь увидеть меня снова, тебе придется приехать в Ахетатон. Матушка моя, для нашего возлюбленного Египта наступает новая эра, и через десять тысяч хенти, когда почитание Атона распространится по всему миру, люди забудут о том, что когда-то существовали Фивы с их богом. Но они всегда будут помнить, что меня родила ты, и будут с почтением произносить твое имя.
Она нежно коснулась его щеки.
– У тебя сегодня снова болит голова.
Он закивал, поморщившись от боли, которую причиняло ему каждое движение.
– Да. Снова меня касается божественная рука, но, когда Фивы скроются из виду, я смогу поспать.
Больше говорить было не о чем. Тейе откинулась на троне, а Эхнатон отправился перерезать горло быку, уже связанному и спокойно ожидавшему своей участи на переносном алтаре. Струи вина и искупительного молока полились на ступени причала. Чаши с кровью передавали из рук в руки среди толпившихся перед дворцом и среди тех, кто уже занял места на судах, но никто не поддался безумному порыву помазать себя, как обычно во время ритуала благодарения в былые дни. Двор Эхнатона научился сдержанности.
Наконец фараон воздел окровавленную руку и, пройдя по сходням, исчез в кабине. Прозвучал приказ кормчего, и судно отчалило. Весла с плеском ударились о воду, и «Хаэм-Маат» отчалила от берега Малкатты.
Тейе не стала задерживаться на причале, а, сделав знак Хайе и своей свите, медленно направилась во дворец, миновав огромную приемную залу, теперь пустую и безжизненную, потом залу для личных приемов фараона, и вышла в сад. Здесь она поднялась по ступеням, прилегавшим к внешней стене дворца, и взошла на крышу. За полоской пальм, покачивающих сухими кронами, виднелась скученная масса судов, стремящихся занять позицию позади царской ладьи, которая уже повернула на север. Весла погружались и поднимались. Реяли флаги на мачтах. Островки, которых было много по Нилу между Фивами и Малкаттой, постепенно становились различимы, по мере того как корабли один за другим расходились в стороны и в просветах между ними заблестела вода. В этот день тумана на реке не было. Пилоны и башни Карнака врезались в синее небо, и справа и слева от них по линии горизонта простирался, казалось, бесконечно огромный город.
– Тысячи людей выстроились вдоль причалов и стоят в воде, – обратилась Тейе к Хайе некоторое время спустя. – Они высыпали даже на крыши. Однако я не слышу их голосов.
– Это потому, что они молчат, императрица, – сухо ответил Хайя. – Невеселый для них день. Я не видел ни одного жреца Амона на причале Карнака.
– Они не хотят смотреть на эго.
Тейе заслонила гядза рукой. Неровная коричневая масса была необычайно неподвижна и молчалива, и постепенно враждебность горожан передалась Тейе как предчувствие возмущения и затаенной, бесцельной жестокости.
Хайя тоже почувствовал это и, засуетившись рядом с ней, отступил от края крыши и обтер лицо.
– Думаю, что они пока не понимают, что произошло, – заметил он, когда Тейе тоже отошла от низкого парапета. – В Фивах не будут больше закупать еду, вино и предметы роскоши, потому что все торговцы теперь, конечно, переместятся на север, в Ахетатон, вместе с иноземными посланниками. А значит, прекратится торговля, с которой в Малкатту поступало большинство иноземных товаров, не говоря уже об урожаях зерна из личных угодий знати. И фараон больше не будет строить в окрестностях города. Будет много голодных, люди остались теперь без работы.
– Есть еще жрецы, у них можно найти работу, – раздраженно бросила Тейе. – В Карнаке больше двадцати тысяч жрецов, и с их имуществом тоже нужно управляться. Фивы пострадают, но не погибнут. Послушай, какая пустота вокруг, Хайя! Я, наверно, просплю весь остаток дня.
Было хорошо лежать в тихой, затемненной комнате, закрыв глаза. Она проспала до рассвета следующего дня, потом завтракала в постели под сладкоголосое пение артистов. Потом, неторопливо одевшись и накрасившись, вальяжно прохаживалась по дворцу, непринужденно болтая со своими людьми. Комната за комнатой приветствовали ее гулким равнодушием. Двери стояли открытыми, гладкие мраморные полы пустых зал были залиты солнечным светом. Узоры, которых она давно не замечала, вдруг проявились на стенах, больше не заслоненных мебелью, цвета и четкие линии в пустых комнатах выглядели странно яркими и свежими. Шаги Тейе гулко раздавались в пустых коридорах, в застывшей неподвижности спален уже начала скапливаться пыль. Огромная зала для приемов с помостом и украшенным бордюром балдахином казалась средоточием всей этой пугающей пустоты, где в извечном полумраке еще витали ароматы воспоминаний. Потрясенная Тейе приказала запечатать все пустые комнаты во дворце.
После полудня она посетила палаты управителей, где тоже царила атмосфера покинутости. Рабы еще не успели убрать их, и казалось, что люди, которые работали здесь, вот-вот возвратятся, потому что повсюду были разбросаны свитки, перья, пустые чернильницы и глиняные таблички, на которых ученики архитекторов выцарапывали свои наброски. Палата Туту стояла в руинах поспешного бегства. Тейе подобрала среди груды обломков разбитую табличку, с трудом разбирая язык официальной переписки. «К ногам моего владыки семь и семь раз падаю ниц…» Глубоко вырезанные аккадские знаки обрывались там, где раскололась табличка. Вздохнув, Тейе повторила приказание опечатать двери и отправилась искать утешения в гареме у Тиа-ха.
Она нашла царевну, уверенно пробирающуюся сквозь неимоверную неразбериху из подушек, сброшенных платьев и надкусанных фруктов и сладостей.
– Дворец уже удручает меня, императрица, – сказала она Тейе. – Теперь, когда фараон забрал всех молодых женщин в свой новый гарем, а мы, старые жены, остались здесь, Малкатта стала похожа на уютную гробницу.
– Значит, ты все-таки хочешь удалиться в Дельту.
Тейе сидела на ложе, следя за бликами света, а Тиа-ха расхаживала перед ней взад-вперед.
– Если моя богиня будет так добра отпустить меня, – выпалила Тиа-ха на одном дыхании и вскинула руки. – Мне осталось так мало времени. Я думала, что это будет забавно – наблюдать за правлением твоего сына, но оно оказалось спокойным, предсказуемым, без единого крупного скандала. Кроме твоего с ним бракосочетания, конечно. – Она искоса бросила на Тейе взгляд, исполненный теплоты. – Я не могу больше выносить жару Верхнего Египта. Могу я послать своего управляющего на север, чтобы он приготовил мой дом?
– Конечно. – Тейе выдавила улыбку. – Год назад я предлагала тебе свободу. Твой муж умер. Ты вдова. Может быть, ты снова выйдешь замуж.
– Нет, – ответила Тиа-ха, останавливаясь и глядя в окно. – Не после Осириса Аменхотепа. Это будет развлечение, но не любовь. Здесь меня удерживаешь только ты. И тебе тоже нечего делать в Малкатте. Поезжай в Джаруху. Не надо оставаться здесь. Эти пустые покои начнут преследовать тебя во сне.
– Я все еще императрица, – раздраженно напомнила ей Тейе. – Малкатта более подходит для меня, чем личное имение.
– Конечно. – Тиа-ха повернулась к ней и покаянно поклонилась. – Я говорила опрометчиво, заботясь о тебе. Могу я диктовать письма, пересказывая тебе все сплетни, которые мне удастся раздобыть в провинции?
– О Тиа-ха! Ну как же я смогу прожить, не получая от тебя ни слова! Да приумножит Хатхор твои силы!
– А подходящий мужчина сделает это лучше. – Тиа-ха рассмеялась. – Идем, Тейе. Давай проведем вечер за сенетом, и, может быть, ты окажешь мне честь отпраздновать последние события со мной в саду, как только Ра опустится за горизонт.
– Я буду скучать по тебе, – сказала Тейе, не отвечая на приглашение.
Тейе больше ни разу не навестила подругу, и они не простились официально, но неделю спустя Хайя доложил, что покои Тиа-ха опустели. Узнав это, Тейе поднялась на крышу и сидела в сгущающихся сумерках, борясь с печалью, вызванной отъездом царевны. Для нее это было не только потерей старого друга, они могли обмениваться письмами и подарками в любое время. Тейе знала, что причина ее боли в общем прошлом, когда они с Тиа-ха были молоды и Аменхотеп еще был в расцвете своей мужской силы. Мы были так счастливы тогда, – думала она, а темнота тем временем сгущалась, на небе начали появляться звезды. – Все эти годы я редко размышляла над своей судьбой, а когда такие мысли посещали меня, я представляла, что дальнейшая моя жизнь пройдет в окружении плодов моих усилий, это будет время удовлетворения и дружеского общения. Никакие предчувствия никогда по-настоящему не тревожили мои юные сны. Теперь все уже в прошлом, все минуло, как проблеск лунного света на водной ряби, и если я хочу быть храброй, я не должна оглядываться назад. Я одинока, в будущем – только пустота, мой титул императрицы больше ничего не значит. Но все же я богиня Солеба, и жрецы еще отправляют службы перед моим бессмертным изображением, и мой храм полнится фимиамом. Я должна помнить об этом. Даже если грядущие годы принесут только нежеланный покой наступающей старости, я всегда буду достойна поклонения.
16
В течение следующих месяцев Тейе не раз вспоминала предупреждение Тиа-ха о том, что пустые комнаты Малкатты будут преследовать ее во сне. Закрытые и опечатанные двери стали терзать ее воображение. Она могла лежать ночами без сна, думая о темных коридорах за многочисленными опечатанными дверями, и, если она осмеливалась представить себя идущей по ним, неизменно видела открывающиеся одна за другой пышно убранные комнаты, полные зловещих тайн. Днем она все реже и реже входила в неохраняемые двери, ведущие в покои фараона, или в анфиладу комнат царицы, или в места публичных приемов. Она начала устраивать свои собственные скромные пиршества в обеденной зале, приглашая своих инженеров, архитекторов, управителей вместе с ней насладиться трапезой и искусством музыкантов и танцоров, но несколько сотен присутствующих не могли разогнать огромные тени, а их веселье казалось натянутым и неестественным. Вскоре Тейе стала трапезничать в своих покоях, предоставив гостям большую часть прежних палат Нефертити, потому, что не могла больше видеть незанятые места за столами и высокие колонны, отбрасывающие сплошные тени в желтом свете ламп.
Вскоре пришли сообщения от брата и Мутноджимет. Она не доверила писцу чтение свитка Эйе, это сделал Хайя, который опустился перед ней и сел на полу, скрестив ноги. Эйе писал сам, не иероглифами, как обычно, а четкими и ровными знаками иератического письма, которым пользовались торговцы.
«Моей дражайшей сестре и вечно живущей императрице, приветствия. Пусть Мин дарует тебе молодость, силу и благословляет во всех начинаниях. Спешу сообщить, что моя жена и твоя подданная Тии пребывает в добром здравии и целует твои ноги. Далее спешу сообщить, что визирь Юга, Рамос, умер и теперь его место занял Нахтиаатон, который некогда был жрецом Амона, но с тех пор узрел истину Атона.»
Тейе мрачно улыбнулась про себя, когда Хайя прервался чтобы сдержанно откашляться. Нахтиаатон был довольно приятным молодым человеком, но более чем несведущим в том, что входило в обязанности визиря.
«Фараон немедля сделал его персоной злата. Действительно, с тех пор как фараон переехал сюда, золото милости распределяется с величайшей щедростью. Я сам тоже удостоен чести быть осыпанным золотом милости, и я теперь личный царский писец».
Небольшое предостережение, – подумала Тейе. – Как за наиболее доверенным писцом фараона за Эйе будут постоянно шпионить завистники, те, кто подозревает его в сношениях со мной и кто боится за безопасность Эхнатона.
«И еще спешу сообщить, что сам Азиру снова ведет переговоры о мире и союзничестве с Суппилулиумасом. Война Суппилулиумаса против северной Сирии и наших вассалов там заканчивается, потому что он вышел победителем. Целую твои прекрасные ноги и молюсь перед твоим святым изображением, о богиня Солеба, да славится твое имя вовеки».
Хайя положил свиток, и тот начал с шуршанием сворачиваться.
Тейе молчала. Бессмысленно терзаться беспокойством о разрушении империи, – думала она. – Я больше ничего не могу сделать, так что хорошо бы мне выбросить все это из головы. Определенно, мой сын никогда не позволит, чтобы все зашло так далеко, что Египту пришлось бы воевать на своей собственной земле! Даже теперь еще не слишком поздно, нам необходимо снова обрести хоть каплю былой мощи и авторитета. Где-то побряцать оружием, кое-кого казнить… Коротко рассмеявшись, она пришла в себя.
– Сожги свиток в жаровне, прежде чем уйти, Хайя, и пришли ко мне немого слугу.
Он поклонился и, сунув аккуратно написанное письмо Эйе в оранжевое пламя, вышел.
Позади нее открылись двери, и с поклоном вошел немой слуга, он опустился на пол и пополз, чтобы поцеловать ей ноги. Она жестом велела ему подняться, подошла к столу и обмакнула перо в чернила. Она протянула ему перо, и на мгновение их глаза встретились. Тейе смотрела в лицо человеку, который убил Ситамон. Она не сожалела о том, что взяла его работником на свою кухню и потом научила писать. Немые слуги были большой редкостью. Он взял перо, подождал, пока она отойдет на положенное расстояние, и принялся писать. Сообщение было недлинным. Тейе взяла свиток со стола, куда слуга аккуратно положил его.
«Весь Ахетатон взбудоражен тем, что Великий Храм здесь действительно имеет свой Бен-бен, в отличие от незаконченного храма Атона в Карнаке, – молча прочла Тейе. – Это священная стела. На ней вырезаны изображения фараона, царицы и царевны Мериатон».
Казалось, в комнате вдруг сделалось холодно. Тейе с отвращением держала листок папируса, потом, шагнув к жаровне, бросила его в огонь. Не было никаких сомнений, кому поклонялись в Ахетатоне, в святая святых. Ее сын совершал жертвоприношения самому себе и Нефертити, которая возвысилась до того, что стала частью его божественного всемогущества. Добавление на стеле изображения Мериатон обеспокоило Тейе, но она не могла понять почему.
– Передай отправителю сего, что в Джарухе вырыты оросительные каналы и партия рабов ожидается в течение месяца, – сказала она рабу. – А теперь убирайся.
Когда он ушел, Хайя проскользнул обратно в комнату и остановился в ожидании. Тейе указала ему на писчую дощечку на полу.
– Запиши послание для фараона, – приказала она, – затем сделай копию и пошли ее Эйе. Начни с обычных приветствий и не забудь добавить: «моему царственному и всевидящему супругу». – Она подождала, пока он записал это, потом собралась с духом и принялась диктовать: – «Дарованной тебе великой мужской силой я, твоя императрица, снова жду ребенка…»
Перо со стуком упало на пол.
– Императрица! – воскликнул Хайя.
Тейе сжала кулаки под плащом.
– Управляющий, ты забываешься, – холодно сказала она. – Ты поставил кляксу? Нет? Тогда продолжай. «Я радуюсь вместе с тобой в надежде на рождение царственного сына в Малкатте и жду твоего слова, как высохшая земля ждет животворящей влаги от прикосновения Хапи». Закончи моими титулами, потом я поставлю свою царскую печать. Прикажи вестнику доставить это лично в руки, не отдавать никому, кроме моего сына. Копия для Эйе пойдет вместе с другими депешами. И ничего мне не говори!
Хайя плотно сжал губы, поклонился и, попятившись, вышел. Тейе с усилием разжала кулаки. Боги не знают слова «справедливость». Они смеются надо мной. Хорошо. Я буду высоко держать голову, и никто из них не дождется от меня воскурений ладана. Только одно может послужить мне утешением: если ребенок родится живым и это будет мальчик. Стоило бы посмотреть, как разъярится Нефертити.
Фараон вскорости написал сам, выражая свой восторг по поводу перспективы появления еще одного отпрыска. Тейе угрюмо слушала послание, а у нее внутри шевелился ребенок. Она сама не испытывала никаких чувств к этому ребенку – не было ни радостного ожидания, ни, конечно же, удовольствия, но, по крайней мере, страха тоже не было. В том возрасте, когда она должна уже наслаждаться покоем, безмятежно пожиная плоды целой жизни во власти, она рассматривала свое полнеющее тело как нелепость, но не как орудие смерти, как было, когда она ждала рождения Бекетатон. Теперь у нее оставалось гораздо меньше времени, чтобы жить, и она сделалась фаталисткой: неделю за неделей она просто ждала исхода, каким бы он ни был. Она ела, пила и спала, сколько хотела. Часто она искала общества детей, растущих свободно и большей частью бесконтрольно в молчаливом дворце. Бекетатон в свои шесть лет была красивой, но своенравной девочкой, которая сразу становилась капризной и раздражительной, если ей что-то не нравилось, а это случалось редко. Сменхара таил обиду на мать за то, что та удерживает его в Малкатте, которая теперь стала просто захолустьем. Он впал в дурное расположение духа, угрюмо молчал, а его воспитатели, учителя и слуги потакали ему, замечая, что Тейе относится к нему как к явному наследнику, и выказывали ему нездоровое почтение, что не способствовало улучшению его характера. Тейе пыталась смягчить его беспокойство, в красках расписывая его будущее, но он слушал насупившись.
– Я знаю, ты вскрываешь мои письма к Мериатон и ее ко мне, – уличил он ее однажды. – Ты подозреваешь всех. Ты что, думаешь, что мы обсуждаем заговор против своих родителей? Мериатон скоро вступит в возраст помолвки. Ей скоро исполнится девять. Мы говорим друг с другом о супружестве, вот и все.
– Я знаю, – мягко ответила Тейе. – Но помни, что, хотя Мериатон почти достигла возраста, в котором уже может вынашивать детей, пройдет, по меньшей мере, пять лет, пока ты сам сможешь стать отцом. Фараон не отдаст ее тебе. Он будет ждать, пока Нефертити произведет на свет сына, да и то, я думаю, его планы относительно ближайшего будущего Мериатон совершенно иные.
Сменхара взглянул на ее уродливо выпирающий, кое-как прикрытый живот.
– Или он дождется, когда ты родишь ему мальчика. Я должен вырасти очень сильным, чтобы избавиться от него и взять Мериатон себе.
– Невыносимо, что ты все время огрызаешься. Это неестественно для десятилетнего мальчика – беспокоиться и волноваться о своем будущем. У тебя есть все, чего только можно хотеть.
– Я хочу только Мериатон. Я писал фараону и просил послать за мной.
– Знаю. Я порвала письмо, и если ты еще раз сделаешь подобную глупость, я буду уничтожать все письма, которые ты посылаешь в Ахетатон. Уйди с глаз моих, Сменхара, и наслаждайся своей молодостью, пока можешь. Пойди, поплавай и порыбачь. Покатайся на колеснице. Постреляй с солдатами. Подразни слуг. Не изводи себя нетерпением.
Он бросился вон. В том, как он вобрал голову в плечи, Тейе узнала жест его отца. Ее захлестнуло чувство вины. Аменхотеп бы нагрузил мальчика уроками, отдал бы его в армию на некоторое время, а она мало заботилась о нем. Впервые благосостояние Египта заботило ее меньше, чем собственное. Фараон никому не отдаст Мериатон, – размышляла она, когда ссутулившаяся фигурка исчезла в дрожащем мареве зноя. – Он разместил ее изображение рядом со своим на священной стеле храма. Он оставит ее для себя. Почему меня тревожат эти мысли? Мой муж взял в супруги Ситамон, свою дочь. В чем тут разница? Она не находила ответа.
В начале следующего года Тейе сообщили, что племянница разрешилась от бремени еще одной девочкой, которую назвали Нефер-неферу-Атон-Ташерит. Тейе, которой тоже очень скоро предстояло рожать, смеялась от облегчения и самодовольной жалости к Нефертити, конечно страдавшей от своей неспособности произвести на свет царственного сына. Вместе с официальной корреспонденцией пришло сообщение от Эйе. После долгих колебаний фараон, наконец, принял совет Эйе, Азиру был вызван в Ахетатон, чтобы объяснить свое поведение. Письмо, дающее ему годичную отсрочку, вернулось с тем же посыльным, с которым было отослано. Он сообщил, что Азиру не смог принять послание, потому что его не оказалось на месте. Позднее Азиру написал в Ахетатон, льстиво извиняясь и объясняя, что он воевал на севере против Суппилулиумаса, поэтому не смог встретить посланника Египта. Теперь фараон пребывал в нерешительности. Следует ли ему потребовать снова, чтобы Азиру явился в Египет, или нужно похвалить его за попытки бороться с Суппилулиумасом и оставить в покое? Не менее интересны для Тейе были нечастые короткие сообщения Мутноджимет, которые, однако, давали живую картину состояния дел в Ахетатоне. «Мы утопаем в семейной любви, – сообщала она через немого слугу. – Фараона, царицу, девочек повсюду видят в колеснице, целующимися и ласкающими друг друга, демонстрирующими истинную любовь, о которой говорится в учении фараона. Все придворные готовы следовать примеру царской семьи. Здоровье фараона не очень хорошее».
Что она хочет этим сказать? – раздраженно спросила себя Тейе, когда, как обычно, подошла к жаровне и, бросив письмо в огонь, смотрела, как пламя сжирает папирус – Здоровье фараона никогда не было особенно хорошим. Может быть, усилились головные боли? Или у него случаются приступы лихорадки? – Она размышляла, представляя себе Эхнатона, Нефертити и их дочерей, дающих такое неприятное публичное представление. – Бедный Эхнатон, – думала она. – У него такие благие намерения, он так старается разъяснить то, что считает истиной. – Тейе захотелось заключить его в свои объятия, защитить его от его же собственной неразборчивости и простодушной доверчивости. – Может быть, пришло время мне оставить Малкатту, – думала она. – Не для того, чтобы приплыть к Эхнатону императрицей, нет, всего лишь матерью, которая желает оградить от бед своего сына. Когда мой ребенок родится, я, если останусь жива, поеду к фараону.
Два дня она всерьез забавлялась, обдумывая возможность отправиться на север, но на третий день ее незаконченный план рассыпался. Утром она проснулась раньше, чем ей бы того хотелось, и разбудили ее не нежные мелодии, а глухой рев, источник которого она спросонья не смогла определить.
Она с трудом села на постели. Пиха поднялась из своего угла, чтобы помочь ей подойти к окну.
– Это слишком далеко, похоже, на той стороне реки, – через некоторое время сказала Тейе. – Как ты думаешь, Пиха?
– Не знаю, царица. Это голоса. Я слышала, так кричала толпа во время процессии Амона.
Это действительно были голоса, непрерывное бормотание, звучавшее то громче, то тише в зависимости от направления ветра.
– Не могу решить, от радости ревет эта толпа или от ярости, – пробормотала Тейе. – В Фивах что-то творится. Позови ко мне Хайю.
Явился управляющий, но, когда она спросила его, ответил, что не знает причины волнений.
– Тогда отправь вестника на ту сторону, пусть выяснит, что там происходит, да смотри, чтобы он взял с собой стражу. Вызови моих телохранителей, и пусть военачальник развернет войска вдоль берега реки перед дворцом и особенно вдоль канала. Надо быть готовыми.
К тому времени, как пришел ответ, шум стих и его сменила зловещая тишина. Тейе направлялась в залу для приемов, когда ей навстречу попался вестник. Он запыхался и вспотел. Она сдержанно кивнула, выражая позволение говорить, и он начал, стараясь отдышаться.
– Первый пророк Амона уже здесь, – выдохнул он, – вместе с остальными сановниками храма. Половина жрецов Карнака на ладьях плывут сюда из Фив.
– Немедленно доложите мне, когда прибудет Мэйя.
Едва она успела сесть и поставить ноги на скамеечку слоновой кости, как комната начала наполняться людьми. Вереницей потянулись люди в белых одеждах, они почтительно склонялись перед императрицей, затем, собравшись группами, начинали тихо переговариваться между собой. Последним в зал вошел Мэйя, с леопардовой шкурой, накинутой на плечи, в сопровождении прислужников. Тейе издалека узнала в толпе бритую голову и выступающий лоб Си-Мута.
Она позволила Мэйе приблизиться и, пока он выполнял ритуал почитания, изучающе разглядывала его. Он часто дышал, закатывал глаза и нервно облизывал дрожащие губы. Тейе кивнула.
Говорил Мэйя сдержанно, хотя и высоким от волнения голосом.
– Царица, на рассвете к храму прибыло множество кораблей с солдатами из Ахетатона. Кормчий привез свиток от фараона. В нем содержится указание открыть казну Амона и передать собственность бога в руки солдат, чтобы те погрузили ее на корабли.
Теперь настала очередь Тейе пытаться сохранить спокойствие.
– Фараон как-то объяснил свое указание?
– Нет, императрица, но нам сказали, что богатства Амона нужны для того, чтобы заплатить за более чистые подношения Атону. В Ахетатоне множество жертвенников, и каждый день их заваливают свежей пищей, вином и цветами.
Повисла короткая тишина, и потом Тейе холодно произнесла:
– Я верю, что ты повиновался воле своего фараона. Мэйя не поверил своим ушам.
– Да, императрица, у меня не было выбора. Солдаты были вооружены, и стража храма была застигнута врасплох. Но…
Тейе подалась вперед.
– Но что? – выкрикнула она. – Как ты смеешь являться ко мне, ожидая, что я, жена твоего фараона и императрица, отменю его священную волю! Как ты смеешь предполагать такое! Из твоих слов можно сделать вывод, что, если бы стражу храма не застали врасплох, ты оказал бы сопротивление. – Она откинулась назад, сердце бешено колотилось, ребенок яростно толкался в животе. – Это так? Мэйя развел руками.
– Видит бог, я не знаю. Все исчезло. В казне было столько богатства, что невозможно сосчитать. Золото, серебро, эбеновое дерево, слоновая кость, драгоценные камни. Священные сосуды. Множество подношений. Все товары Амона для торговли. Все его доходы из владений в Дельте. Земли храма тоже отобрали.
Страх пробежал по жилам, как внезапная вспышка пламени, но она справилась с ним.
– Мэйя, тебе известно, что Египет со всеми его богатствами принадлежит, в конечном счете, правящему богу. Ни один фараон прежде не имел желания обобрать Карнак до нитки, но каждый был властен сделать это.
– Ни один фараон не делал этого, потому что каждый Гор был сыном Амона, – ответил Мэйя. – Но теперь фараон отрекся от бога, который есть защита Египта, и наделил другого славой Амона! Мы, его жрецы, в ужасе, что Амон нашлет на Египет проклятие. Царица, смилуйся над нами. Скажи, что нам делать. Казна всегда использовалась, чтобы платить нашим слугам, поварам и архитекторам, каменщикам и феллахам, которые заботились о стадах Амона и возделывали его земли. Эти люди теперь лишились работы.
– Достойно похвалы, – сухо заметила Тейе, – то, что ты прежде думаешь о рабах Амона, а потом о его жрецах. Если казна опустела, разве жрецы не могут существовать на одних подношениях?
Собравшиеся в глубине залы глухо зароптали. Мэйя покачал головой.
– Количество верующих все время уменьшается. – Он не осмелился объяснять, но все присутствующие знали, что богатые подношения приносят состоятельные люди, а они теперь несут свое золото к дверям Атона. У храма Амона в эти дни остались лишь цветы и хлеб бедняков.
– Богиня, это еще не все, – прошептал Мэйя. – Фараон запретил все открытые процессии Амона. Мы можем праздновать дни своего бога, но только в пределах Карнака.
Тейе воззрилась на него.
– Не будет прекрасного праздника долины? Не будет благословения умерших? Я… – Она пришла в себя. – Как много жрецов содержал Карнак?
– Я еще не пытался подсчитывать, божественная, – ответил Мэйя более уверенным голосом, в его глазах мелькнул проблеск надежды. – Около двадцати тысяч, а пожертвований от жителей Фив теперь хватит только на то, чтобы содержать сотен пять, не более.
– Да и качество этих подношений сомнительно. – Она быстро обдумала ситуацию и вынесла свое решение. – Из любви, которую я питаю к своему первому мужу, Осирису Аменхотепу Прославленному, я пожертвую золото из своих собственных запасов на содержание еще пяти сотен в услужении богу. Ты можешь сам решить, кто это будет. Остальным придется покинуть храм и искать работу в другом месте. – Она метнула свирепый взгляд на людей, толпившихся у двери, и протестующий гул сразу смолк. – Поймите, что я делаю это не потому, что не согласна с фараоном, который есть воплощение мудрости и святости, но из любви к тому, который теперь плывет на священной барке Ра. Я сказала.
Мэйя сразу понял, что прием окончен, и жрецы в молчании один за другим покинули залу.
Никто не издал ни звука, пока не затворилась дверь. Люди Тейе ждали в оцепенении. Сама Тейе сидела, застыв, но разум ее лихорадочно работал. Если бы я решила иначе, то положила бы начало гражданской войне, – думала она угрюмо, – и гражданская война могла бы сыграть на руку этому вероломному Суппилулиумасу. Какое безумие, фараон! Жрецы будут голодать, просить милостыню на улицах города, которому и так уже нанесен смертельный удар. Злость на Амона, раздражение против города, который ты всегда ненавидел, – это видение, посланное тебе Атоном? По крайней мере, службы будут продолжаться. Что делать? Во-первых, отправить протест фараону. Я должна ясно изложить свои доводы, иначе он утратит интерес, не дочитав свиток и до середины. Это Нефертити довела его до этого? Слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. Я действую вслепую. И все же после всего этого я раздумала уезжать. Я могу понадобиться Египту здесь, в Малкатте. Я и Сменхара.
Она собралась подняться, но боль в пояснице пронзила ее. Спазм повторился, у нее перехватило дыхание.
– Хайя! Позови моего врачевателя и пришли Пиху, пусть проводит меня в опочивальню. Проблемы Амона могут подождать.
Люди вокруг засуетились. Она вдруг согнулась пополам от боли, сосредоточившись только на своих ощущениях.
Это проклятие, – думала она, отчаянно сжимая зубы. – Аман именно в этот момент хотел выразить свое недовольство? Неужто его проклятие должно начаться моей смертью?
Пиха благоговейно прикоснулась к ней, и она открыла глаза. Сойдя с помоста с помощью служанки, Тейе медленно побрела в свою опочивальню.
– Хайя здесь? – спросила она. Укладывая ее на ложе, Пиха кивнула. – Пошли его за Мэйей. Я хочу, чтобы жрецы были здесь с фимиамом и молитвами. Приведи ко мне еще и магов и разложи амулеты вокруг ложа. Я не хочу умирать!
Это был последний раз, когда она позволила себе поддаться панике. Собрав всю свою волю и достоинство, она лежала в ожидании, когда родится ее ребенок, переводя взгляд с одного встревоженного лица на другое, а время ползло медленно час за часом. Она слышала, как вокруг нее со щелканьем и перестуком раскладывали амулеты, и, улавливая сладковатый дым воскурений, она успокаивалась. Иногда Тейе видела устремленные на нее карие взволнованные глаза Хайи, но чаще это был Осирис Аменхотеп, он склонялся над ее ложем, дыша ей в лицо густым ароматом гвоздики и вина, в его черных глазах не было сочувствия, но не было и беспокойства, только спокойное и мягкое повеление. Она благодарно черпала силы в его отказе от сострадания, в его уверенности в том, что она победит собственными силами.
– Но я не хочу побеждать! – простонала она однажды. – Я хочу быть с тобой, Гор! Мне так одиноко.
– Не тревожь меня по пустякам, императрица, – прогромыхал он в ответ, улыбаясь. – Если для этого дела не требуется моя печать, оно не заслуживает моего внимания.
Слова эти каким-то образом приобрели мистическое значение. Тейе зацепилась за них, повторяя их многократно, ступая по водам Дуата, глядя, как священная барка с Осирисом Аменхотепом, неподвижно сидящим среди своих божественных предков, медленно проплывает мимо. Мертвые вокруг нее жалобно просили света. Я еще не совсем умерла, – думала она. – Я еще могу чувствовать боль. И теперь барка покидает нас, вплывая в следующую залу. Ледяные мутные воды сдавили ее тело, и оно онемело от поясницы до пальцев ног, холод сделался еще сильнее, когда врата затворились за баркой и пала тьма. Мертвые завыли от ужаса. Тейе широко открыла глаза, пытаясь разглядеть хоть слабый проблеск света. Так она тужилась целую вечность, пока вдруг ей не показалось, что в пещеру сочится слабый серый свет. Врата открывались вновь. Но как это возможно? – думала она в изумлении. – Барка не может повернуть назад.
Затем внезапно окружающие предметы приобрели четкие очертания и цвет, и она осознала, что лежит на своем ложе, повернув голову к окну, на котором тихо колышутся от ветра жесткие папирусовые занавеси. Она с усилием перекатила голову по подушке и увидела, что Хайя улыбается, склонившись над ней.
– Говори, – удалось прошептать ей.
– У тебя сын, императрица. Но ты потеряла много крови и пять суток бродила в мире теней.
Она была слишком слаба, чтобы испытывать хоть какие-то чувства.
– Воды, – прошептала она одними губами. – Мой муж…
Он щелкнул пальцами, и появилась Пиха, осторожно приподняла ей голову и поднесла чашу к ее губам. Теплое молоко, смешанное с бычьей кровью, просочилось в горло. Я прошла обряд очищения, – подумала она, попробовав его. – Я чиста.
– Фараону отправили сообщение, – продолжал Хайя. – На днях можешь ожидать посыльного с выбранным именем. Ребенок здоровенький, хотя такой же измученный, как и ты. Я нашел для него кормилицу. Принести его?
Она слегка качнула головой в знак отказа. Она уже погружалась в здоровый сон. Ребенок не так важен, как прощение Амона. Ей оставили жизнь. Это было помилование.
В следующем году, десятом году правления Эхнатона, Нефертити снова родила девочку, Нефер-неферу-Ра. Течение времени и победа в состязании смягчили неприязнь Тейе к племяннице. Она могла даже сочувствовать женщине, которая страстно желала родить царственного сына, однако рожала только девочек. Ей было интересно, что последние три года сделали с царицей, ослабело ли тугое, безупречное тело от постоянного вынашивания детей, и прочертили ли обманутые надежды линии раздражительности на гладком лице. Однако у нее не было желания встречаться ни с Нефертити, ни с сыном. Она сидела на крыше своих покоев под балдахином, безразлично глядя за реку, на дрожавшие в горячем воздухе очертания Фив, приходящих в упадок, уже понимая, но еще не беспокоясь о том, что живет в искусственном мире, в обители, существовавшей только для нее, как капля воды в ладони. Будто она попала в безвременье мертвых, чьи гробницы теснились в пустыне вокруг Малкатты. Подобно им, она была недвижна, глядя, как время медленно разрушает и изменяет все вокруг, пока она остается неизменной. Только Сменхара и малыш тонкой нитью связывали ее с будущим – будущим, к которому у нее не было интереса.
После рождения сына Тейе поправлялась медленно, и скоро она начала осознавать, что никогда не обретет прежней силы. Понимание этого не огорчило ее, и через некоторое время она уже могла ходить по дворцу и саду, есть, обсуждать с управителями дела – всего лишь насущные проблемы ее маленького мирка, зная, что усталость, заставляющая ее каждый вечер рано отправляться ко сну, останется с ней до конца жизни. Врачеватель готовил ей укрепляющие снадобья, прописал ежедневный массаж, и эти средства помогали, но дни ее деятельной власти миновали. Тутанхатон, как отец повелел назвать его, был здоровым и рос под присмотром кормилицы и слуг. Эхнатон регулярно посылал депеши, интересуясь его благополучием и упорно намекая, чтобы Тейе привезла его на север, но Тейе придумывала различные отговорки, чтобы не ехать.
С раздражением, приправленным мрачным юмором, она наблюдала, как сама становится суетливой старой вдовой: жаловалась, если утром ей не так нарезали фрукты, раздраженно покрикивала на слуг, если те недостаточно усердно выполняли свои обязанности, огорчалась, если покрывало на постели было откинуто небрежно. Прекрасно зная свою натуру, она понимала, что ей недостает свежего, бодрящего дуновения мужского общества. Хайю и своих управителей она не рассматривала как мужчин, потому что это были слуги, которые приближались к ней с почти женским подобострастием. Поэтому она приказала, чтобы уроки Сменхары проходили в ее присутствии, и день ото дня стремилась подольше побыть в его обществе, надеясь, что его расцветающая мужественность уравновесит ее досадное старение. Распознав глубокую потребность матери в его дружбе, он был неожиданно добр к ней, отвечал на ее вопросы с небрежной жизнерадостностью, которой она так жаждала. Но его разум пока еще отдыхал. Сменхара в свои одиннадцать лет не мог рассуждать, как зрелый мужчина.
В конце года она получила письмо от Эхнатона. Она сидела в кресле у широких ступеней, что вели в залу для общественных приемов, глядя, как слуги собираются вокруг фонтанов перед дворцом, и слушала письмо, стиль которого, после высокопарных приветствий, стал сумбурно неформальным, оживив в памяти голос сына. «Это неправильно, что мать солнца живет, уединившись, во дворце, принадлежащем старым временам тьмы, – писал он. – Семья Атона должна быть вместе. С тебя, дорогая Тейе, началось движение Египта к истине, однако твоя сила скрыта в тени Амона. Священная красота наполняет Ахетатон, как божественное сияние, но, как и прежде, когда ты была вдовой, и мое ложе еще не знало твоего божественного тела, сияние это слабее без тебя. Приди, заклинаю, чтобы снова дать мне силу. Я строю три магических навеса в великом храме Атона, один для себя, другой для тебя, и еще один – для моей дочери Бекетатон, которую нежно люблю, чтобы, встав под ними, мы могли возродить свое могущество. Я не могу приказывать той, которая произвела на свет само солнце, но я умоляю ее услышать мои слова и хорошо их обдумать».
Вряд ли это идея Эйе, – сообразила Тейе, когда писец свернул свиток и отложил его в сторону. – Эйе написал бы мне сам, если бы считал, что мне нужно приехать. Эхнатон чувствует угрозу, но откуда? Боится за свое здоровье, его снова тревожат видения? Более вероятно, что он понимает, что его царица не подарит ему сына, и хочет, чтобы Тутанхатон был рядом с ним.
– Что дальше? – бросила она.
Писец потянулся за следующим свитком.
– Есть еще послание от носителя опахала по правую руку.
– Читай.
Может быть, Эйе объяснит, что хотел сказать своим письмом его хозяин. Тейе откинулась назад, готовясь, как всегда, защищаться от волны ностальгии, которую приносили слова Эйе.
Писец перескочил официальное приветствие.
– «Насколько я могу понять, в Нухаше[44] произошло восстание против их вождя, Угарита. Он призывал на помощь Суппилулиумаса. Мне очень трудно выяснить правду. В палате Туту всегда беспорядок, а сам он – невежественный подхалим, который, однако, очень усерден до всяческих религиозных обрядов. Я пробовал выспросить у кого-нибудь из его помощников, но Туту ревностно охраняет свои исключительные права писца внешних сношений. Если то, что я узнал, правда, не может быть сомнений, что Суппилулиумас ответил на призыв Угарита».
Тейе стиснула зубы. Нухаше находился так близко, что его правители всегда были союзниками Египта, и множество соглашений было подписано и скреплено брачными союзами за долгие годы. Тот факт, что Угарит не обратился за помощью к фараону, чтобы усмирить волнения своего народа, лучше всего подтверждает нарастающее бессилие Эхнатона и Египта. Суппилулиумас может послать солдат, и, когда уляжется пыль, он будет ближе, чем когда-либо прежде, к непосредственным границам Египта. Давно Тейе не размышляла в категориях империи. Теперь под угрозой был и сам Египет.
– Приготовься писать к царевичу Суппилулиумасу, – устало сказала Тейе.
Она понимала, что это не намного улучшит ситуацию, потому как Суппилулиумас, конечно, отдает себе отчет, как мало. У нее осталось власти, но, по крайней мере, это послужит ему напоминанием, что хоть кто-то в Египте следит за его действиями зоркими очами, в которые ему не удалось напустить пыли своей ложью.
Она также написала и фараону, ее слова были резкими, и, несмотря на то, что из донесений ее людей в разных частях Египта складывалась совершенно ясная картина, она требовала ответа на вопрос, почему он не предпринял немедленных действий против своих врагов. Она обвиняла Туту в искажении информации, но воздерживалась расценивать его поведение как предательство. Внутренний голос предупредил ее, что, если она не предъявит свои обвинения лично, Туту постарается опровергнуть ее, и она потеряет и ту малую толику доверия, которой еще располагала. Она не стала упоминать Эйе, не желая давать его врагам возможность представить их переписку как измену фараону. На составление письма у нее ушел целый день, она зачеркивала и правила его, пока не осталась довольна. Наконец закончив, она прилегла и тут ощутила, как сильно тоскует по сыну. Несмотря на свои нападки на бедного Туту, она знала, что, для того чтобы распутать сложный клубок дипломатической ситуации в стране, нужна гениальность сына Хапу. У Египта больше не было таких людей. Разве что Эйе, опытный и хорошо знающий старую систему правления, но он теперь был связан по рукам и ногам теми, кто больше не жил в реальном мире, чьи суждения были подчинены искаженной атмосфере фантазий и видений фараона. Может быть, это всего лишь скоропреходящая буря, вихрь пустыни, от которой можно закрыть лица и спрятаться в ближайшем укрытии, – думала Тейе. – Да будет воля богов на то, чтобы она утихла сама собой! Тогда мы выберемся из заносов, отряхнемся, омоем песок и пыль, подведем глаза и встанем снова. Если только мы сможем выдержать, Сменхара взойдет на трон и империя будет восстановлена. Еще не все потеряно. О, Эхнатон, сын мой! Хапу был прав. Тебе следовало умереть. Ты не убил своего отца, но ты разрушаешь все, что он создал своим божественным величием. Может быть, не стоит препятствовать желанию сердца Сменхары и отправить его в Ахетатон с остальными детьми, а самой уехать в Джаруху. Там я всегда была счастлива. Я не буду скучать по детям. Они – тоже часть той магии, которой я так и не сумела овладеть, они ~ мои тщетно произнесенные заклинания. От таких мыслей хотелось выпить вина и погрузиться в блаженное оцепенение. Вино приносило сон, однако рассвет и новое пробуждение не рассеивали ее обреченности.
Со временем желание перестать изображать, будто она еще что-то значит, все усиливалось. Наконец она принялась строить планы оставить Малкатту шакалам в новом году и обосноваться в Джарухе как раз к началу сева. Она могла уехать немедленно, таким образом, избежав самого пика летней жары, но где-то глубоко у нее таилась смутная мысль о последнем испытании, о том, что следует терпеть день за днем почти невыносимое пекло как искупление за последние десять лет своей жизни. Боги не требовали от нее такого испытания. Жертвоприношения никогда не совершались ради искупления, только как мольба или благодарение, но Тейе знала, что хочет облегчения ради себя самой, не ради богов.
Медленно текли дни знойного месяца мезори, она тяжело дышала в редкой тени деревьев, часто окуналась в озеро, ее разум был таким же вялым и разбитым свирепостью Ра, как и ее тело. Однажды среди дня она лежала в своей опочивальне, пытаясь уснуть, ее опухшие глаза были устремлены на полоски белого света между планками оконных занавесей, когда Хайя попросил позволения войти. Она безразлично смотрела, как он приближается, полный, когда-то красивый мужчина, которого теперь часто мучила одышка и беспокоили боли в суставах. Он остановился, поклонился, и она позволила ему говорить.
– Прошу прощения, что нарушаю твой покой, богиня, – начал он, – но из Ахетатона прибыла твоя племянница и желает, чтобы ее приняли незамедлительно.
У Тейе оборвалось сердце, она села.
– Племянница? Которая из них, болван?
– Царевна Мутноджимет. Я проводил ее в твою приемную и приказал подать ей холодной воды.
– Скажи, что я уже иду. Пиха! Подай просторное платье и причеши меня.
Это одиночество заставило Тейе вскочить от счастья при мысли снова увидеть девушку, и только в галерее, под белыми страусовыми перьями опахал, которые несли за ней слуги, она задумалась, что могло привести Мутноджимет собственной персоной в Малкатту.
Стражники открыли дверь залы, и Тейе вошла. В дальнем конце залы, где колонны разделяли поток белого раскаленного света, льющегося на пол, как расплавленный металл, прислонившись к стене, стояла Мутноджимет, карлики шумно возились у ее ног, ее четкий профиль казался черным на фоне слепящей яркости полдня. Услышав, как вестник выкликает титулы Тейе, она повернулась и, щелкнув хлыстом по головам карликов так, что те взвыли и выскочили в сад, зашагала навстречу тетушке.
Цветущая женственность сквозила в каждом исполненном сладостной неги движении длинных ног, свободном покачивании рук, увешанных браслетами. Знакомое лицо было озарено томной чувственностью. Тяжелые веки Мутноджимет были смазаны маслом и посыпаны золотой пудрой. Глаза, в темной глубине которых всегда таилась искра насмешки, были жирно обведены черной краской. Серьги из золота с розовато-лиловым оттенком, характерным для митаннийской ковки, свисали от мочек ушей к смуглым лопаткам, и на тонкой золотой цепи, обвитой вокруг обритой наголо головы и пропущенной под детским локоном, на лбу был подвешен золотой диск. Она не надела ожерелья, но на обеих щиколотках позвякивали браслеты. На ней было алого цвета платье с многочисленными складками, опоясанное золотым кушаком, завязанное на одном плече и оставлявшее открытым другое плечо и грудь, сосок которой был обведен золотой краской. Когда Мутноджимет опустилась на колени, целуя ее ноги, Тейе мельком взглянула за колонны и увидела свиту племянницы – разряженную, блестящую группу молодых мужчин и женщин в колышущихся одеждах и сверкающих украшениях, их лица были густо покрыты краской для защиты от солнца. Мутноджимет поднялась, дожидаясь, пока Тейе заговорит.
– Я вяжу, у тебя новый хлыст, – начала Тейе, вдруг растеряв все слова. Ей хотелось с нежностью обнять Мутноджимет, но вместо этого она лишь едва коснулась ее выкрашенной желтым щеки.
Мутноджимет кивнула.
– Белая бычья кожа, серебряная рукоять, – нараспев протянула она. – Не из кожи белого быка, конечно, крашеный Старый мне больше нравился, но тот совсем истрепался. Рада видеть тебя, тетушка.
Что-то заставило Тейе спросить:
– Как я выгляжу? – но она тотчас пожалела о минутной слабости.
Мутноджимет раздумывала, склонив голову набок.
– Лучше, чем я ожидала, после таких тяжелых родов. Я знаю, это было давным-давно, но все в Ахетатоне были обеспокоены твоим здоровьем, все время жадно ждали вестей из Малкатты.
– Не верю!
Ей всегда казалось, что те, кто оставил дворец, переехав в новый город, так же оставили и свои воспоминания, но слова Мутноджимет убеждали ее, что это не так.
– Это правда. Когда нам сообщили, что ты родила, но, скорее всего, умрешь, фараон заставлял нас всех часами стоять во дворе храма Атона, пока сам молился внутри, а потом он долго был болен.
– Но он не приехал. Несмотря на всю свою озабоченность, он не приехал.
– Нет. – Мутноджимет взглянула ей в глаза. – Он не приехал. Весь город пропах царицей, как благовониями. Ее запах стоит у нас в ноздрях день и ночь. Если мы не падаем ниц перед Атоном, мы молимся ей.
Тейе вгляделась в лицо племянницы, ища в нем признаки сарказма, приглушенного из соображений благоразумия, и нашла то, что искала.
– А мой брат? Как он?
– Он постарел, но здоров, как всегда.
– Как твой муж?
Мутноджимет заколебалась.
– Хоремхеб могуществен и пользуется огромной милостью. В том смысле, в котором ты спрашиваешь, моя богиня, у него все хорошо.
– Вот и славно. У нас еще будет время обсудить семейные дела. Как же я изголодалась без новостей! Как матушка?
– Я не слишком часто вижу Тии. Она не бывает при дворе. Но она довольна поместьем, которое Эйе выстроил для нее.
– А ты, Мутноджимет? Ты, как всегда, прекрасна!
– Я знаю. – Мутноджимет рассмеялась. – Я сделалась объектом желания всех молодых придворных. Разве это не скучно? Хоремхеб смеется, но мне не смешно. Я утомилась от жаркого шепота и жадных рук на праздниках фараона. Меня тянет к прежним друзьям, к мужчинам, с которыми спала прежде, к женщинам, с которыми делилась секретами в прошлом. Мне двадцать восемь, тетушка. Молодежь начинает раздражать меня.
– Остепенившаяся Мутноджимет? Это невозможно!
Мутноджимет расхохоталась.
– Конечно, нет. Но я не хочу начинать все сначала. Видишь это платье? Одна грудь обнажена, такое милое дразнящее одеяние. В Ахетатоне подобные вещи вызывают бешенство. Там всюду притворство, трепет ресниц, глупое кокетство. Двор моего дядюшки здесь, в Малкатте, может быть, был в какой-то мере развращенным, но это была открытая, честная порочность. Беспутный образ жизни Ахетатона – лишь жалкое подобие.
Ты всегда была проницательна, – подумала Тейе, – но никогда не произносила вслух того, что думала.
– Ты приехала сюда оттого, что тебе стало скучно? – мягко спросила она.
Мутноджимет покачала головой. Громко хлопнув в ладоши, она позвала:
– Хой!
Подбежал один из ее слуг с маленьким сундучком. По сигналу Мутноджимет он поставил его на ступеньку трона и, кланяясь, попятился.
– Будь добра, отпусти свою свиту, тетушка, – попросила Мутноджимет. – Это только для твоих глаз.
Тейе немедленно исполнила просьбу, и женщины встали, глядя друг на друга в ожидании, когда уйдут слуги. Наконец дверь закрылась, и они остались одни. Мутноджимет, колеблясь, положила руку на крышку сундучка.
– Ты должна понимать, что для меня это не представляет интереса, – спокойно начала она. – Но тебя это может расстроить. Если нет, я вернусь в Ахетатон и сочту нашу договоренность расторгнутой. Хотя ты очень хорошо обошлась со мной, императрица! Если да, муж мой наказал передать тебе, что ты можешь рассчитывать на него.
– Понимаю.
Тейе с любопытством смотрела, как племянница приподняла крышку и вытащила из-под нее то, что оказалось маленькой скульптурной группой из нескольких обезьян. На первый взгляд в этом не было ничего особенного. В Египте было много младших богов в образе обезьяны, и бабуины считались священными животными. Мутноджимет взяла статуэтку в руки.
– Это особенно дорогой образчик, сделанный из алебастра и тщательно раскрашенный, но копий с него предостаточно по всему Ахетатону, самых разных – побольше и поменьше, из дерева и из камня, или из глины – для бедняков. Они продаются в каждой лавке. – Не дожидаясь позволения, Мутноджимет повернулась и присела на ступеньку трона.
Тейе склонилась над фигурками. Это были четыре разных обезьяны. Самая большая стояла на полусогнутых ногах позади остальных, ее груди свисали, толстые ноги были широко расставлены. Однако это была не самка, а самец, потому что из-под толстого живота у фигурки виднелся непропорционально огромный пенис. Хвост самца вился между ног и сворачивался между ногами самки, которая стояла на коленях рядом с ним, ухватившись обеими руками за пенис. Толстые губы самца вытянулись в сторону маленькой обезьянки, стоящей слева, а рука ее обвилась вокруг шеи малышки, покоясь на ее груди. Другая рука большой обезьяны была просунута между ног маленькой обезьянки справа. Половые органы всех животных были выкрашены ярко-красным, уши, огромные глаза, хвосты и шерсть – серым. Вся композиция говорила о кричащей непристойной похотливости, но не это заставило Тейе, тихо вскрикнув, отшвырнуть ее. Самая большая обезьяна была увенчана двойной короной, нахлобученной на ее торчащие уши, а следующая по размеру обезьяна – высоким конусообразным шлемом. Мутноджимет наклонилась и быстро подняла ее, потом бросила обратно в сундучок и захлопнула крышку.
– Никто не знает, кто это вырезал, – сказала она. – Но даже до того, как она появилась, уже ходили слухи о том, что фараон спаривается со своими мартышками, о том, что он проводит ночи с царицей и обеими старшими дочерьми одновременно. При дворе всегда ходило много шуток, но это нечто иное. Здесь чувствуется злоба. Фараон окончательно утратил уважение граждан Ахетатона, и скоро такие вещи – она кивнула на сундучок, – можно будет найти по всему Египту. В Фивах они будут пользоваться особым спросом.
Тейе сглотнула и, ошеломленная, присела рядом с Мутноджимет. Руки у нее дрожали.
– А что говорит фараон? Он рассержен, он стыдится…
– Фараон не испытывает ни того ни другого, – спокойно ответила Мутноджимет. – Он улыбается. Он говорит, что его люди только начинают понимать истинную любовь, и когда они поймут, статуэтки исчезнут. Однако царица вне себя от гнева. Она запретила скульптуру, но, конечно, простой народ не обращает внимания на ее запреты. Ей следовало с самого начала пренебречь этим.
– Да, – прошептала Тейе.
Нефертити всегда не хватало интуиции, так необходимой правителю. Ее любовь и ненависть всегда были слишком нарочитыми, слишком явными. Однако Тейе никогда еще не жалела ее больше, чем теперь. Нефертити и ее беззащитного, безрассудного мужа – бога Египта.
– Это из-за того, что они показаны в обнимку на Бенбене в храме Атона? – спросила она.
– Отчасти. В конце концов, фараон и царица ведут себя не как боги, которым следует поклоняться. Но это также и оттого, что они пожелали показать себя перед своими подданными как семья, поглощенная только друг другом и своей любовью. Прости меня, императрица. Говорить так о фараоне – богохульство, однако я подумала, что ты захочешь узнать, а мой осведомитель не смог бы передать тебе всю извращенность ситуации. Дело ведь не только в этих фигурках. Люди громко приветствуют его на улицах, и хотя в их приветствиях звучит насмешка, он не слышит ее. Хоремхеб…
Тейе подняла руку.
– Хватит, – спокойно сказала она. – Поужинай со мной сегодня, когда я отдохну и подумаю. А сейчас оставь меня, Мутноджимет.
Молодая женщина покорно поднялась, низко поклонилась и, покачивая бедрами, пошла к выходу. Я не приказала, чтобы для нее приготовили покои, – подумала Тейе. – Но, вероятно, она откроет дом Эйе. Хлыст извивался белой змейкой, волочась за босыми пятками, и Тейе, как зачарованная, смотрела на него. Еще долгое время после того, как Мутноджимет ушла, она не могла оторвать взгляда от пола. Наконец она вызвала Пиху и направилась к себе.
Ярость раскаленного солнца немного поутихла, но было очень душно. Тейе приказала приготовить ванну, а потом попыталась уснуть, но в ушах у нее звучал голос Мутноджимет, а перед глазами стояло видение уродливых красных гениталий, и от этого всего сердце отказывалось биться ровно. Но я хотела уехать домой, в Джаруху! – молчаливо протестовала она. – Я приняла решение! Я ничего не могу сделать, я слишком стара, уже слишком поздно. Она с болью вспоминала прохладное, заросшее лилиями озеро перед синими колоннами ее портика там, на ласковом севере, влажный воздух. Я скучаю по матери, по отцу, – думала она и, когда уже больше не могла себя сдерживать, тихо заплакала. – На этот раз я скучаю не по тебе, Осирис Аменхотеп. Я скучаю по безопасности в сильных руках Иуйи, по улыбке, с которой Туйя будила меня каждое утро. О, постой! – выругала она себя. – Нет ничего более смешного и жалкого, чем стареющая женщина в слезах. Пусть они оскверняют ложе, которое устроили для себя сами. Я поеду домой! Но она уже знала, что больше никогда не увидит Джаруху.
В сумерках она сидела на помосте большой залы, Мутноджимет устроилась рядом с ней, их управители и слуги расположились внизу вокруг низких, уставленных цветами столиков. Тейе приказала, чтобы в зале было много света, и золотое пламя сотен факелов и ламп нервно плясало на сквозняках между высокими колоннами. Рабы, выносившие подносы, вереницей подходили к специальным слугам, пробовавшим каждое блюдо, и направлялись дальше, к позолоченному столу; слуги время от времени склонялись, чтобы наполнить чаши вином. Возле помоста сидели музыканты, создавая завесу из звуков, за которыми разговор двух женщин был не слышен гостям. Между столиками кружились танцовщицы. Тейе пыталась положить что-нибудь в рот, но ее тошнило от одного вида обильной еды, и, в конце концов, она просто глядела, как Мутноджимет поглощает поднесенные кушанья. Проглотив очередной огромный кусок, племянница бросала взгляд на царевича Сменхару, сидевшего у подножия помоста вместе с Бекетатон, и Тейе улыбалась про себя, несмотря на сумятицу в мыслях. Мутноджимет была вовсе не столь политически нейтральной, как притворялась. Или, скорее всего, ситуация в Ахетатоне была настолько серьезной, что каждый там мог прослыть подающим надежды оракулом. Когда с едой было покончено и началось то небольшое представление, какое удалось организовать Тейе, она поманила Мутноджимет.
– Кто послал тебя ко мне с этой омерзительной штукой? Хоремхеб или отец?
Мутноджимет сделала знак, и слуга отодвинул низенький столик. Удовлетворенно вздохнув, она откинулась на подушки.
– Я и забыла, какой вкусной может быть говядина, когда бог не пялится с укором через плечо. Нам при дворе не запрещено есть мясо, но сам фараон, конечно, не прикоснется к нему. Отвечу на твой вопрос, богиня. Я здесь по собственному желанию. Хотя Эйе и Хоремхеб одобрили его. Им нужна твоя помощь. Они не могли сказать тебе об этом в своих посланиях, и действительно, едва ли можно говорить о таких вещах, ведь в городе полно доносчиков, людей, которые надеются заронить слушок в уши фараону и обрести его благосклонность. Брату моему легко внушить любую мысль, если она подана на языке обожания и поклонения Атону.
Каждое слово Мутноджимет пронзало сердце Тейе, на мгновение она возненавидела и своего брата, и Хоремхеба, и всех лизоблюдов, которые пытались втереться в доверие и вызвать к себе теплые чувства, тогда как их сердца оставались холодными. Безразличная честность Мутноджимет была бесконечно предпочтительнее.
– Тогда скажи мне, чего же ждут от меня главный носитель опахала и могущественный военачальник.
Мутноджимет ухмыльнулась ее насмешливо-язвительному тону.
– Они хотят, чтобы ты поселилась в Ахетатоне, где могла бы видеть фараона каждый день и придавать весомость их советам. Самая насущная проблема – это соседние государства. Туту говорит фараону одно, мой муж другое, и фараон колеблется, потому что он просто не способен поверить в людское вероломство.
– Нефертити сделает все возможное, чтобы выставить меня в дурном свете, возможно, даже попытается убить. Туту всегда таил обиду на меня. Мутноджимет, я устала. Для меня это равносильно тому, чтобы забраться в гнездо с гадюками, единственное желание которых – видеть мою смерть. Кроме того, мне пришлось бы сражаться со стаей льстецов, которые незамедлительно соберутся вокруг Сменхары. У меня не будет друзей, не будет никого, кому я смогла бы доверять. – Она замолчала, потрясенная картиной будущего, которую сама же нарисовала.
Острая боль в животе, которая всегда одолевала ее в минуты сильного волнения или усталости, подступила без предупреждения, и она задержала дыхание, пока спазм не прошел.
– Тогда поезжай в Джаруху и жди, когда боги призовут тебя, – тихо сказала Мутноджимет. – Я всегда любила тебя. Но пойми меня правильно. Я говорю тебе о своей любви не для того, чтобы ты приняла мои слова за предложение активной поддержки в том случае, если ты решишься приехать в Ахетатон. Я слишком хорошо себя знаю. Я всего лишь хочу видеть тебя счастливой. Ты заслужила право на отдых.
– Я не была счастлива с тех самых пор, как умер Осирис Аменхотеп Прославленный, – просто ответила Тейе. – Смогу ли я наслаждаться покоем в Джарухе после всего, что услышала от тебя? Думаю, нет. Я родила фараона на свет, и, похоже, я теперь должна защитить от него этот свет и его от света, если смогу. Как, должно быть, веселится сын Хапу!
– Так ты приедешь?
Вопрос рассердил Тейе. Боль пронзила ее снова, и она почувствовала, как по спине побежал пот.
– Конечно, приеду! – выдавила она. – Как же я смогу отказаться от такого трудного дела?
Мутноджимет задумчиво потягивала вино, медленно скользя взглядом по шумной зале. Сменхара хлопал в такт музыке, не сводя глаз с обнаженных танцовщиц. Бекетатон шлепнулась на подушки лицом вниз и быстро уснула. Женщины гарема, раскрасневшиеся от вина и возбужденные неожиданным развлечением, скрасившим их тоскливое существование, хихикали и повизгивали. Все было сказано. Тейе поднялась. Воцарилась тишина. Гости пали ниц перед ней. Вестник схватил свой жезл и бросился вперед, и вместе с Пихой и Хайей она покинула залу, стараясь идти прямо, невзирая на боль, пока не добралась до уединения своих покоев. Бросившись на ложе, она послала за врачевателем. Тейе лежала в ожидании, подтянув колени к груди и сжав кулаки, мышцы сводило от боли и гнева на судьбу.
На следующий день Мутноджимет отплыла в Ахетатон. Днем Тейе продиктовала письмо для фараона, потом послала за Сменхарой. На этот раз он явился сразу, его худенькие бедра облегала свободная юбка, ноги были в песке, и на них еще поблескивали капли озерной воды. Он поклонился матери, небрежно поцеловал протянутую руку и поднял на нее взволнованный взгляд.
– Мы едем в Ахетатон, правда, матушка?
– Да, откуда ты знаешь?
– Слуги только об этом и шепчутся весь день. Когда мы отправляемся? Не могу поверить, что снова увижу Мериатон. Благодарю тебя, матушка.
– Думаю, ты будешь скучать по Малкатте, когда поживешь немного в новом городе фараона, – спокойно сказала Тейе. – Здесь ты наслаждался свободой, которой тебе никогда не доведется испытать. Но у тебя есть еще несколько месяцев, чтобы наслаждаться ею. Мы отправимся, когда река поднимется до высшей отметки. Иди, расскажи Бекетатон.
Она хотела порадоваться вместе с ним, но поняла, что неохотно принимает его благодарность и возбуждение. Она заметила, что его глаза вмиг потухли. Он поджал губы, небрежно поклонился ей и вышел. Он вдруг стал олицетворять для нее ответственность, которая уже давила ей на плечи тяжким грузом.
17
В конце первого зимнего месяца Тейе покинула Малкатту. Когда новость о ее решении достигла Ахетатона, она получила восторженное письмо от фараона, осторожные приветствия от Эйе и ни слова от Нефертити. Царица решительно не хотела заглядывать в будущее. Пока управляющие целеустремленно шагали по коридорам дворца со свитками в руках, озабоченно хмурясь, а бесчисленные слуги носили и таскали, паковали и перепаковывали вещи, Тейе в последний раз поддалась очарованию Малкатты, растворившись в своих воспоминаниях. Сидя под балдахином у озера, она вспоминала, как ее, маленькую царевну, недавно избранную для уже тогда огромного гарема фараона, переправили через реку, чтобы она могла взглянуть на неокрашенные комнаты, взрыхленную, вперемешку с камнями землю, на надсмотрщиков с хлыстами, громко раздающих указания, и напряженные спины феллахов. Она стояла вместе с юной, стройной Тиа-ха и другими царевнами посреди удивительного великолепия покоев императрицы, пока еще никем не занятых, заложив руки за спину и устремив в потолок обведенные черной краской глаза, а Херуф описывал планы фараона относительно его нового дворца. Многие женщины были молчаливы и скованны, стараясь не думать о близости мертвых и о тех ночах, которые им предстояло провести отделенными только стеной от тех, кто лежал, упокоившись навеки в своих саркофагах. Тейе тоже молчала, но не от страха. Она размышляла, зачем ее супруг решил перенести двор с его древнего и почитаемого места на восточном берегу недалеко от Карнака. Человек с такой безграничной властью и богатством мог делать все, что ему захочется, однако это казалось бесцельной, нерациональной тратой золота и сил. В этот момент она спиной почувствовала взгляд и, обернувшись, увидела, что молодой фараон, окруженный своими управителями, смотрит на нее. Ей следовало немедленно отвести взгляд, но вместо этого она в свою очередь принялась рассматривать его. Хотя брачный договор был скреплен печатью, и она находилась в гареме уже больше месяца, она еще не подходила к своему супругу ближе, чем на расстояние, которое пролетит брошенный камень. К тому же они виделись лишь на официальных торжествах. Теперь он повелительно поманил ее пальцем. Она храбро подошла к нему, рухнула на землю у его ног и не двигалась, пока палец ноги легонько не подтолкнул ее в ухо. Поднявшись, за спиной фараона она увидела отца. Он важно подмигнул ей.
– Царевна Тейе, что там такого интересного на потолке? – поинтересовался фараон.
– Вовсе ничего, божественный Гор, – ответила она, застигнутая врасплох. – Я даже не думала о потолке.
– Ясно. И о чем же думают маленькие девочки, глядя в небеса с раскрытым ртом?
Его свита засмеялась.
Тейе вспыхнула. Проявляй с ним твердость, наставлял отец в те дни, когда ее готовили стать царской женой. Не будь покорной. Ты не так красива. Если хочешь пленить его, ты должна показать свой характер.
– Я размышляла, Могучий Бык, почему это великий правитель захотел построить дворец здесь, когда у тебя уже есть вполне хороший дворец на восточном берегу. Ты доставляешь своим женщинам, своим управителям и всем иноземным посланникам огромные хлопоты с переездом.
– Да, и при этом наслаждаюсь каждым моментом. Херуф! – Хранитель дверей гарема протиснулся вперед и поклонился. Аменхотеп указал на Тейе. – Сегодня эту, но прежде лучше заткни ей рот. Иуйя, не знаю, как ты ее воспитывал, но, верно, не много истратил на обучение. Она дерзкая.
Однако, когда дворец был успешно закончен и готов к заселению, именно Тейе переехала в роскошные покои императрицы. Теперь она улыбалась, снова слыша его голос, вспоминая и свою робость, и решительность. Если богам будет угодно, Сменхара переедет обратно, когда наступит его время стать воплощением бога, и, возможно, Мериатон будет распаковывать свои сундуки там, где маленькой непокорной девчонкой стояла сама Тейе. Мысль о пустой и медленно разрушающейся с годами Малкатте была чересчур болезненной. Задолго до того, как наступил день отправления, она до дна осушила чашу воспоминаний, живущих в каждой комнате, и ступила на сходни ладьи, не оглянувшись.
Она путешествовала в одиночестве. Сменхара и Бекетатон плыли на ладье, идущей следом, и Тутанхатон с няньками – в следующей. За царскими ладьями тянулись друг за другом в быстром течении дюжины судов со слугами и домашним скарбом на борту. С обеих сторон располагались военные ладьи, в которых плыла стража Тейе. День был прохладный и ясный. Приятный ветерок задувал с севера, натягивая паруса и высушивая весла, он перебирал короткие зеленые колосья и шелестел в свежей зимней листве. Музыка и щебетание женщин гарема, наблюдавших за отбытием императрицы с крыши своих покоев, вскоре стихли, сменившись плеском воды о борта и ритмичными покрикиваниями надсмотрщика, задававшего неспешный ритм гребцам. Тейе, удобно устроившись на палубе под навесом, взглянула на восточный берег и позвала Хайю.
– Почему толпы собрались на пристанях Фив? Сегодня день бога? Я не слышу, чтобы они кричали что-то.
– Сегодня не день бога, если только нет праздника в честь какого-нибудь местного божества, – ответил Хайя. – Они собрались посмотреть на твой отъезд, царица.
Тейе задумчиво посмотрела на них. Воздух был туманным от зимней влажности, а ее ладья держалась западного берега, поэтому она не могла разглядеть в толпе отдельные лица, но все они были, без сомнения, печальны. Несколько маленьких ветхих суденышек были пришвартованы у пристани, но большинство причалов были пусты, и некоторые, как заметила Тейе, уже подгнили, накренившись к воде. Много времени прошло с тех пор, как она отваживалась покидать пределы Малкатты.
– Опусти занавес, – велела она. – Я перейду внутрь. У них нет права так разглядывать богиню.
Но не успела она откинуться на подушки, разбросанные в золотистом полумраке кабины, как услышала громкий окрик, и ладья остановилась. Она подождала. Через некоторое время сквозь занавес к ней обратился кормчий:
– Царица, это лодка из Карнака. Верховный жрец просит принять его.
– Пусть поднимется на борт.
Я отказываюсь считать себя виновной за судьбу Фив, – думала она, слыша, как Мэйя взбирается на ладью. – Городу просто нужно подождать немного.
На занавес упала тень.
– Можешь поднять занавес и встать на колени там, – сказала она. – Почему ты не приехал в Малкатту, Мэйя? Я недовольна.
Занавес поднялся, и она увидела бледное, удрученное лицо верховного жреца.
– Императрица, мы в Карнаке не могли поверить, что ты действительно покинешь нас. Если ты уедешь, чья же божественность будет хранить нас? Амон, несомненно, спит!
– Может быть, ему нужно отдохнуть, – неприветливо бросила Тейе, но потом отругала себя за легкомыслие. – Мэйя, – мягко сказала она, – фараон нуждается во мне. Ты не понимаешь всей сложности ситуации. Все, что ты видишь сейчас, – это пустой храм и обнищавшие Фивы. Я приказываю тебе набраться терпения и преданно заботиться об Амоне. Я не отзываю свое покровительство. Это все.
Он склонил голову и опустил занавес. Она слышала, как он перебрался на храмовую ладью, потом кормчий отдал приказ, и судно закачалось. Но еще много тысяч локтей она тягостно размышляла, представляя себе удрученное лицо верховного жреца и страдания многих несчастных, которых она бросала на произвол судьбы.
И все же она наслаждалась видом своего любимого Египта, проплывающего мимо во вдохновенном блаженстве новой зимы. Иногда ладья шла на веслах, но чаще течение само быстро несло их вперед, и нужно было только участие кормчего. На ночь они приставали в пустынных бухтах. Зажигали факелы, расстилали ковры, и она ужинала с детьми под громкое пение лягушек, прячущихся в иле, и отдаленный рев бегемотов на болотах. Ночи были прохладные. Тейе хорошо спалось под грудой одеял в маленькой кабине, куда все же проникал свежий, чистый воздух. Врачеватель предупреждал ее, что не стоит купаться в зимней реке, поэтому каждое утро она сидела на палубе в шерстяном плаще, вкушая раннюю трапезу и глядя, как Сменхара, ловя ртом воздух, плещется на мелководье, прежде чем присоединиться к ней.
– Вот так и нужно жить, – иногда бормотала она, но посмеивалась над собой, даже произнося эти слова. К тому времени, как вдали показалась первая пальмовая рощица у подножия утесов, почти у самой воды, она уже страстно желала роскоши, которую мог обеспечить Ахетатон.
У реки, в тени деревьев, была маленькая таможня с несколькими причалами, утопавшими в нильском иле, где суда, пришедшие с юга, выгружали свои товары. Таможня была не так велика, как та, что располагалась на въезде в город с севера, но, однако, важна, потому что здесь товары из Нубии – золото, рабы, страусовые перья, кожа, слоновая кость и черное дерево – разгружались, пересчитывались и складывались на временное хранение. Здесь также были казармы солдат, охранявших южные утесы и узкий перешеек Нила. Тейе не ожидала, что ее ладью окликнут, потому что она плыла под сине-белым флагом, но, когда судно скользило мимо неподвижных пальм и заполненной работающими людьми пристани, от берега отделилась узкая лодочка. На носу ее балансировал человек в синем шлеме колесничего, на обоих плечах у него поблескивали серебряные повязки военачальника. Это был Хоремхеб. По приказу Тейе гребцы подняли весла и выпрямились, тяжело дыша. Лодка ткнулась в борт ладьи, и матросы бросились помогать человеку взобраться на корабль. Хоремхеб подошел прямо к ней и упал на колени.
– Поднимись, военачальник, – холодно сказала она. – Я полагаю, тебе действительно есть что мне сказать. Я устала от воды и неудобств. – Он поднялся, последовав за ней в тень навеса. – Присядь.
– Какая неожиданная радость видеть тебя снова, богиня, – сказал он. – Ты должна верить, что, хотя моя жена и по своей воле ездила в Малкатту, я бы приехал сам, если бы нашел подходящий предлог.
– О, конечно, я верю тебе, – вежливо сказала Тейе, быстро окинув взглядом его смуглую грудь, раздавшуюся вширь за те годы, что она не видела его, лицо, ставшее красивым зрелой, суровой мужской красотой, приятную, мужественную линию обернутых льном бедер и длинных ног. Его присутствие на расстоянии протянутой руки, слабый запах мужского пота и аромата мандрагоры, исходивший от него, убедительно напомнили ей о том, как долго она жила в окружении стариков и женщин. На одно безумное мгновение ей захотелось стать моложе на двадцать лет. – Но я удивлена, что тебе требуется предлог, чтобы навестить меня. Разве в Ахетатоне живут одни трусы и рвачи?
Он помедлил, прежде чем ответить. Она чуть кивнула Хайе, тот принес вина и удалился на приличное расстояние, чтобы не слышать их разговор.
– Ты была права, а я ошибался, божественная. Прими мои извинения, – проговорил Хоремхеб.
– О, но ты не ошибся, дорогой Хоремхеб, – пренебрежительно ответила Тейе. – Разве ты не получил монополию на нубийское золото в обмен на твою преданность моему сыну?
Он вспыхнул.
– Я заслужил это. Но, императрица, я все же предан фараону. Не только жажда обогащения привела меня в Ахетатон.
Тейе смягчилась.
– Я знаю, военачальник. Как и мной движет не только она. Я не стану устраивать заговоры против своего сына или затевать интриги ради будущего Сменхары. Я здесь, потому что я, как и ты, ощущаю угрозу безопасности Египта и хочу помочь фараону противостоять ей.
– Он вне себя от восторга по поводу твоего приезда. Послезавтра день, когда мы принимаем дань от иноземцев, и в это же время он будет оказывать тебе почести. Однако я хотел поприветствовать тебя первым и проводить к дому Эйе. Это на западном берегу, напротив дворца, и там такая тишина, что тебе должно понравиться. Тии приготовила для тебя комнаты, ведь ты еще не одобрила поместье, которое построил фараон. Завтра будет официальная церемония встречи.
– А где Эйе?
Хоремхеб отвел взгляд.
– Фараон вызвал его к себе на рассвете, и с тех пор я не видел его.
Множество вопросов вертелось у Тейе на языке, но она прикусила язык. Лучше получить на них ответы на основе собственных наблюдений, со временем.
– Хорошо. Пусть твой кормчий поднимется на борт и возьмет рулевое весло. Твой челнок можно привязать сзади. Потом возвращайся ко мне, расскажешь, что где, когда мы будем проплывать южную часть города.
Выполнив указания Тейе, Хоремхеб подошел и почтительно остановился, а она, склонившись к перилам, впервые взглянула на город мечты Эхнатона.
– В скалах за таможней алебастровые карьеры, – сказал он, когда ладья вышла на середину реки, – но отсюда ты их не увидишь. Вон там стеклянные и фаянсовые мастерские. Зрелище не очень привлекательное, и, к счастью, они расположены на городских задворках, выходящих в пустыню, а не тянутся вдоль берега. О! Вот и первое поместье. Оно принадлежит Панхеси, а то, что рядом с ним, – Раннеферу. Мой дом пятый, рядом с домом скульптора Тутмоса, вообще он не должен жить среди управителей, но пользуется благосклонностью царицы.
Интонация Хоремхеба заставила Тейе внимательно взглянуть на него, но он не отводил глаз от берега, продолжая указывать на что-то пальцем. Тейе запомнила обрывок информации, и ее внимание вновь обратилось к развертывающимся перед ней чудесам Ахетатона. За долгие годы она привыкла к грязи и нищете Фив, ныне и вовсе пришедших в запустение, и теперь при виде совершенной красоты юрода ее сына у нее перехватывало дыхание. Особняки знати, на которые показывал ей Хоремхеб, едва виднелись сквозь окружавшие их пышные заросли пальм и рощи фруктовых деревьев. Тут и там сквозь изобилие растительности проглядывали пруды. Через одинаковые промежутки прямо в синие глубины Нила сбегали ступени из белейшего мрамора, и около них покачивались на воде белые позолоченные суда, изысканные ладьи с мачтами из ливанского кедра; на борту у каждого был диск Атона, богато украшенный блестящим электрумом. На протяжении почти четырех тысяч локтей один дом сменял другой, перед каждым был пруд, все утопало в зелени и буйстве цветов. Потом строения закончились, но зеленые насаждения не исчезли, потянулись лужайки, сады и заросли цветов. Между ними петляли дорожки, порой приводящие к вымощенным площадкам, на которых были установлены стела и жертвенник. Она почувствовала, что ладья сменила курс.
Хоремхеб откашлялся.
– Видишь островок? – спросил он. – Фараон приказал засадить его цветами и кустарником. Можно разглядеть мостик, соединяющий его с берегом, где построен Мару-Атон, летний дворец. Я не могу описать тебе его, но ты, несомненно, скоро увидишь дворец сама. Это любимый уголок царицы. Там еще есть царский храм, дома наслаждений, перед ними – два озера, здесь есть все удовольствия, которыми славен Египет. Сейчас мы свернем к западу, но, как ты можешь увидеть даже отсюда, сады и аллеи тянутся до самого города.
Когда ладья начала постепенно удаляться от островка, Тейе обратила внимание на западный берег. Там из деревьев были только пальмы, посаженные вдоль оросительных каналов, а остальная земля была густо засеяна злаками.
– На западном берегу живет только Эйе?
– Только он. Фараон не позволил никому, кроме Эйе, селиться там. Он хочет, чтобы его подданные обитали как можно ближе к храму и дворцу. В половодье река заливает только западный берег, поэтому, хотя у нас совсем близко поля, где выращивают урожай для города, строить дамбу и рыть каналы для защиты дома носителя опахала от наводнения оказалось довольно дорого. Эйе, однако, радуется, потому что Тии пока не выказывает желания улизнуть обратно в Ахмин. – Он улыбнулся, и Тейе рассмеялась. – Вот ступени причала. Теперь, богиня, соизволь обернуться. Там центр Ахетатона.
Тейе ожидала увидеть такое же скопление кривобоких трехэтажных домов с плоскими крышами, которыми была застроена большая часть Фив, но не обнаружила никаких традиционных сооружений. Берег реки был густо засажен пальмами и сикоморами, и позади них из-за стен возвышались белые колонны, рядами уходящие вдаль. Ей почудилось, что она разглядела широкую дорогу, ведущую к Мару-Атону. Хоремхеб заметил ее замешательство.
– Это большой дворец и гарем, – пояснил он. – Дальше, напротив царской дороги – храм. За ним – палаты управителей и дома мелких вельмож. И у самой пустыни за всем этим, конечно, лачуги бедноты и дома иноземцев. Я уверен, что фараон сам покажет тебе город.
Едва Тейе успела бросить взгляд на восточный берег, как ладья уткнулась носом в причал Эйе. Перед домом, во внешнем дворе, полностью укрытом в тени деревьев, слуги Эйе уже распростерлись перед ней ниц на розовых камнях. Сбросили сходни, но, прежде чем сойти на берег, Тейе попросила Хоремхеба присмотреть за размещением ее вещей и слуг. Он поклонился.
– Я вернусь к вечеру, – пообещал он. – Эйе сегодня устраивает небольшой праздник в твою честь. Семейное торжество. Мутноджимет, конечно, явится. Фараон не хочет приветствовать тебя лично, до того как состоится встреча со всеми подобающими формальностями. Добро пожаловать в Мару-Атон, прекраснейшая.
Она сошла на берег.
Тии поднялась и несколько раз поклонилась.
– Императрица, какая честь для меня, – сказала она, и Тейе, растроганная, заметила, что женщина была необычайно аккуратно одета и накрашена. На Тии было бледно-голубое платье с узким кроем и закрытой грудью, много лет назад вышедшее из моды, но очень приличное. Ее парик, шея, руки и щиколотки были увешаны украшениями собственного изготовления. Тейе и забыла, насколько привлекательна жена брата.
– Счастлива видеть тебя, – сказала она. – Прошу, Тии, иди впереди с моим вестником, а я пойду следом.
Мой сын превратил раскаленную дикую пустыню в часть благословенной Дельты, – думала Тейе, проходя между распростершимися ниц слугами. Птицы с ярким оперением пикировали к земле, выводя трели над ее головой. Куда бы она ни бросила взгляд, повсюду виднелась темная зелень деревьев, смыкавшихся кронами над головой. Слева от переднего двора находилось озеро, густо поросшее розовыми и белыми лилиями. По берегам чуть колыхались листья папируса, а меж ними голубели цветки лотоса.
В таком месте фараон действительно мог забыть о существовании внешнего мира, – снова подумала Тейе. – Несмотря ни на что, силой своего желания Эхнатон воплотил в жизнь свою придуманную реальность. Это и вызывает мое восхищение.
Она прошла по ступеням, искрящимся всеми цветами мрамора, какой только добывали в каменоломнях Асуана, – белым, розовым, черным, но не успела она остановиться, чтобы оценить эту красоту, как уже очутилась между двумя рядами колонн, ведущих в приемную залу. Справа стоял открытый небольшой жертвенник Атона и рядом с ним – жертвенник Мина. Стол был уставлен фруктами, пирожными и вином, в высокой золотой курильнице рядом курился ладан. Тии с поклоном предложила ей сесть, Тейе улыбнулась.
– Ты тоже садись, моя дорогая Тии. Как хорошо здесь! Мне кажется, будто я пробудилась ото сна. – Но едва слова сорвались с губ, она поняла, что оставила тихий, одинокий сон лишь для того, чтобы глубоко погрузиться в другой, еще более причудливый, который одурманивал и притуплял чувства.
– Я приказала, чтобы детям накрыли у озера, а потом отвезли на ту сторону реки в зверинец, – сказала Тии. – Надеюсь, ты оценишь, о богиня.
Хайя склонился над ней, предлагая сладости, но Тейе покачала головой.
– Ты счастлива здесь, Тии? Если бы я побилась об заклад, останешься ты здесь или нет, то могла бы потерять много золота. Сдается мне, Ахмин больше не прельщает тебя.
Тии колебалась.
– Я здесь даже не работаю, – сказала она. – Здесь прекраснее, чем в раю. Стоит мне чего-нибудь захотеть, как Эйе уже кладет это к моим ногам. Но мое сердце в Ахмине. Я здесь ради мужа. Я нужна ему.
Его нужда в тебе, должно быть, очень велика, – подумала Тейе, отмечая мягкость кожи и чистоту рук; раньше, когда Тии работала, они всегда были огрубевшими, обожженными, испачканными. Из прозрачных глаз Тии, глаз ювелира, казалось, исчез тот неясный огонь вдохновения, что прежде горел в их глубине.
– Это счастье, когда ты так нужна, – заметила Тейе более едко, чем хотела, вдруг почувствовав себя одинокой, но Тии мягко ответила:
– Ни один мужчина никогда не нуждался во мне так, как сейчас в тебе нуждается Египет, императрица. Помоги Эйе, дорогая. Ахетатон – это мираж, видение, вызванное к жизни злыми духами тлена, для того чтобы уничтожить нас.
Потрясенная, Тейе посмотрела в глаза жене брата. Так многое изменилось, пока я бродила по Малкатте, мечтая удалиться на покой в Джаруху, – подумала она. – Мутноджимет, Хоремхеб и теперь эта женщина, которую я считала неспособной осмыслить что бы то ни было, разве что пылающее сердце драгоценных камней, которым она поклоняется.
– Я сама составлю свое мнение, – сказала она, с трудом уняв дрожь в голосе. – Теперь скажи мне, какой урожай ожидается в Ахмине в этом году. Должно быть, некоторые лозы очень старые и не могут больше плодоносить.
Тии просияла, и они оживленно заговорили на излюбленную тему. Когда Тейе осознала, сколько прошло времени, оказалось, что пора мыться и одеваться, оранжевое солнце уже зависло над западными холмами.
Торжественная семейная трапеза по случаю приезда Тейе была устроена в обнесенном стеной саду напротив озера. Она устроилась в кресле на траве, и Хайя преподнес ей чашу с вином. Спустился сумрак. Она сидела, удовлетворенно вдыхая аромат вина, глядя, как снуют принаряженные слуги. Было новолуние, и луна тонким полумесяцем висела в темно-голубом небе; ее слабое сияние было почти незаметно в свете факелов, укрепленных на стене, и тех, что держали неподвижно стоящие под деревьями факельщики. Повсюду были расставлены цветы. В дальнем конце сада виднелись силуэты музыкантов Эйе, которые настраивали свои лютни, переговариваясь и тихо посмеиваясь. Было довольно прохладно, и Тейе надела шерстяной плащ поверх простого гофрированного платья, которое легкими складками лежало на коленях и спадало на траву. Порывистый ветерок поднимал с плеч волны ее золотисто-каштановых волос, в которых поселилась седина, и ласково обдувал лоб. Пока наложницы Эйе подходили одна за другой, опускались на колени и целовали ее выкрашенные хной ступни, чтобы потом учтиво занять свои места в стороне от членов семьи, она наблюдала за Сменхарой и Бекетатон. В пути Сменхара быстро вернулся к кипучему отрочеству, он плавал, бегал, ликуя и беззаботно смеясь надо всем, но сегодня сознание того, что Мериатон – где-то близко, за рекой, придавало ему серьезности. Он сидел на траве, скрестив ноги, свободно положив руки на колени, и рассеянно следил за суетой слуг. Хотя в свои тринадцать он официально еще не считался мужчиной, недавно он срезал свой детский локон, и теперь его гладко обритую голову стягивала красная лента. Тейе задержала на нем взгляд. Без парика и шлема, изменявших решительные черты его лица, он более чем когда-либо походил на своего отца. Бекетатон гладила одного из бабуинов Эйе, а смотритель удерживал того на поводке. Уверенный звонкий голосок девочки разносился по всему саду. Довольная, Тейе заметила, какое ладное у нее тело в ее десять лет, как она привлекательна в том возрасте, когда девочки делаются нескладными, как аисты. Тейе потягивала вино, наслаждаясь прекрасным вечером. Из кухни на задней стороне дома стали доноситься соблазнительные ароматы, и музыканты уже заиграли, то и дело переходя от одной мелодии к другой.
Она заметила движение огней на переднем дворе, а потом по траве зашагал сам Эйе, его лицо сияло. Он горячо поцеловал ее ноги, и она растаяла в его объятиях.
– Ах, Эйе, я так по тебе скучала! Сколько раз я тосковала по твоей улыбке! Кажется, будто мы не виделись целую вечность. Дай посмотреть на тебя.
Повинуясь, он с добродушным видом отступил. Эйе постарел на целую жизнь с тех пор, как они виделись в последний раз. Его всегда массивное тело теперь совсем раздобрело. Лицо обрюзгло, сделалось дряблым, появился двойной подбородок. Нездоровые темные мешки скрадывали глаза.
Заметив ее удивление, он печально улыбнулся.
– Знаю, дорогая императрица, – сказал он. – На упражнения больше нет времени. Мой слуга накладывает краску и причитает про себя, но старость не скроешь.
– Ты здоров? – спросила она встревожено, когда он со вздохом опустился рядом с ней.
– Совершенно здоров, хотя все время чувствую усталость. Врачеватель прописал мне очищение голоданием два раза в месяц вместо одного, и, сдается мне, это помогает. – Она видела, что он быстро смерил ее смеющимся взглядом. – Ты тоже постарела.
– Знаю. Порой я готова возненавидеть свое отражение. Тутанхатон отнял у меня остатки молодости. – Она говорила без горечи.
– Но мне нравится то, что говорит о тебе прежней, – мягко сказал он. – Плоть сдает, но дух неизменен. Неужели этот юноша, так задумчиво обрывающий цветы на моей лужайке, и есть Сменхара? Он уже почти мужчина, Тейе.
Тейе видела, что лицо брата при взгляде на племянника приобрело знакомое ей сонное выражение, понимала, что сейчас он взвешивает Сменхару на династических весах.
– Наш будущий Гор? – без нажима произнесла она.
– Да даруют нам боги свою милость, чтобы было так.
– Все так плохо?
– Хуже, чем ты можешь себе вообразить. Будь готова к изменениям, произошедшим в твоем сыне. Когда мы впервые приехали сюда, я был преисполнен надежды. Казалось, Эхнатон сделался более вменяемым, чем когда-либо прежде, едва остались позади нездоровые воспоминания о Малкатте. Но это длилось недолго. Вместе с воспоминаниями он оставил позади все сдерживающие начала. По сути, я не смог сегодня поприветствовать тебя раньше из-за его очередного неосторожного поступка. На рассвете прибыл Азиру.
– Что?
– Он, наконец, решил ответить на призыв фараона, хотя ради блага Египта я желал бы, чтобы он не подчинился приказу. Я провел весь день с ним, фараоном и Туту, пытаясь смягчить и сгладить впечатление, которое произвел на него Эхнатон. Боюсь, он покинет Египет, посмеиваясь втихомолку, развеяв последние опасения. Благодарение Амону, ты приехала! Но давай сегодня не будем говорить о государственных делах. – Ему стоило немалых усилий успокоиться. – Хоремхеб тоже здесь. Я смотрю, Мутноджимет сегодня принарядила своих карликов. Будем есть, пить и делать глупости, кто нам запретит?
Тейе кивнула, пережидая почтительные поклоны присутствующих, борясь с усталостью, которая всегда одолевала ее на закате. Я должна собраться с силами, – думала она, чувствуя, как губы Хоремхеба коснулись ее ступни. – С этого момента у меня не будет возможности расслабиться.
Однако ближе к ночи уныние отступило. Они болтали и предавались воспоминаниям, а музыканты наполняли воздух сладостной музыкой. Вскоре протестующую Бекетатон увели спать, Сменхара, зевая, последовал за ней. Взрослые продолжали сидеть. Тейе и Эйе – в креслах, Тии – у ног Эйе, обхватив колени руками, Мутноджимет и Хоремхеб – развалясь на траве среди подушек, непринужденно разговаривая, как часто бывало прежде в доме Эйе в Малкатте, когда семья собиралась вместе. Несмотря ни на что, мы все еще дружная семья, – думала Тейе. – Ничто не разорвет связывающие нас узы. Мы больше не марианну, однако сила, заставившая наших предков крепко держаться друг за друга в борьбе за землю, куда они попали как пленники, остается. Тии и Хоремхеб вошли в семью, вместо того чтобы увести из нее ее членов. Сегодня я чувствую себя счастливой и защищенной.
Когда глаза стали совсем слипаться от усталости, она перестала поддерживать беседу и ушла в заботливо приготовленную для нее опочивальню. Уснула она сразу, убаюканная шелестом листьев за окном и уханьем совы.
Утром она вяло стояла в уборной Тии, а слуги тщательно одевали ее для встречи с сыном. Она выбрала белое платье с множеством мелких складочек, которое приказала перекроить так, чтобы оно открывало одну грудь, в соответствии с последней модой. По крайней мере, другая закрыта, – кисло думала она, пока рабыни прилаживали тонкую ткань. – Моей грудью уже нельзя гордиться. Платье было оторочено роскошной каймой, объемные гофрированные рукава украшены серебряными сфинксами, и такие же серебряные сфинксы свисали с пояса. Седеющие волосы она спрятала под официальным париком, его локоны свисали до самой талии. Придирчиво изучив свое отражение в зеркале, Тейе осталась довольна, заметив, что темно-зеленая краска для глаз удачно скрадывает нависающие веки, а черная краска затушевывает морщинки, лучами расходящиеся к вискам. Браслеты из электрума, кольца с аметистом и лазуритом и пектораль из сфинксов дополнили наряд, и она встала перед хранителем царских регалий, который на коленях подполз к ней, вынул из сундучка большую корону императрицы с двойным пером и благоговейно надел ей на голову. Она уже устала от сборов. Пока сопровождающие в коридоре распределялись согласно иерархии, она неподвижно сидела на табурете и не шевелилась до тех пор, пока Хайя не объявил о прибытии стражи фараона, которая должна была сопровождать ее через реку.
Ее переправили через Нил на роскошной ладье Эхнатона. Она сошла на берег южнее окраин города, и ее сразу проводили к богато украшенным носилкам, золотые занавеси которых были приподняты, открывая трон с высокой спинкой. Впереди и сзади стояли золотые колесницы. Вдоль царской дороги по обе стороны выстроились солдаты в шлемах и со скимитарами у пояса. Хоремхеб, одетый в свое лучшее платье, поклонился, приветствуя ее, когда она взошла на трон. Сменхара и Бекетатон приготовились следовать за носилками пешком, а Тутанхатон сидел на коленях у няньки в носилках, замыкавших шествие. Тейе кивнула, Хоремхеб отдал приказ, и процессия тронулась с места. Спицы колесниц сверкали на солнце, и дети весело болтали. День стоял ясный. Высоко в небе темными пятнами в глубокой лазури кружили соколы, и деревья вдоль дороги трепетали на свежем ветру, отбрасывая ажурную подвижную тень.
Несколько минут носилки мягко покачивались. Потом Хоремхеб скомандовал, и кавалькада остановилась. Тейе посмотрела вперед и увидела группу людей, собравшихся на дороге рядом с первыми ослепительно белыми низкими зданиями Ахетатона. С замиранием сердца она узнала царский паланкин. Носильщики опустили ее носилки на землю, но она не вышла, и на мгновение множество придворных и солдат замерли. Она сидела, силясь собрать все свое мужество. Она видела, что Нефертити смотрит на нее, поразительно прекрасная, но с совершенно непроницаемым лицом под жесткой конусообразной короной, а три старшие царевны, накрашенные, все в драгоценностях, одетые, как и их мать, в тончайший лен, сидят, развалясь и тихо переговариваясь, под балдахином.
Наконец фараон выступил вперед, и слуги бросились подставлять плечи Тейе, чтобы она могла опереться на них; Тейе шагнула на дорогу и направилась навстречу сыну. Эйе шел рядом с Эхнатоном, держа над ним опахало из алых страусовых перьев. Впереди Эхнатона, спиной к Тейе, осторожно пятился жрец, монотонно бубня торжественные песнопения и окропляя землю перед фараоном очистительной водой. Еще издалека Эхнатон начал улыбаться ей. Она протянула руки. Он схватил и поцеловал их, потом притянул ее ближе, прижался оранжевыми губами к ее шее, обеим щекам и, наконец, к губам.
– Матушка, императрица, это великий день! – выдохнул он, обнимая ее. – Весь город ждет, чтобы приветствовать тебя. Солнце воссоединилось со своей матерью!
– Славно снова прикасаться к тебе, Эхнатон, – ответила она, но под волной любви, охватившей ее, шевелился холодок мрачного предчувствия.
Его голос не изменился, был таким же высоким и резким, как всегда. Не изменились и черты его лица: прекрасная, чистая линия носа, кроткие миндалевидные глаза, обведенные мерцающей черной краской, длинный выступающий подбородок. Но сквозь свободное, прозрачное женское одеяние, которое болталось на нем, ей было видно, какой хилой и впалой сделалась его слабая грудь, каким отвислым и объемистым – мягкий живот, насколько белее и толще стали бедра. Она ожидала, что возраст возьмет свое. Чего она не могла предвидеть, так это развития у него молочных желез, ставших теперь необычайно большими, их соски были густо намазаны яркой оранжевой краской. Она усилием воли заставила себя оторвать свой взгляд от груди. Она подала знак, дети подошли и распростерлись перед ним ниц.
– Встаньте! – радостно взвизгнул Эхнатон. – Не может быть, чтобы это был мой братец Сменхара! Такой большой, такой мужественный! Иди же, поцелуй своего фараона!
Сменхара покорно шагнул в раскрытые объятия, и Эхнатон пылко поцеловал его в губы. Тейе видела, как на щеках мальчика сквозь желтую краску проступил румянец смущения. Фараон повернулся к Бекетатон. Он нежно погладил ее руки.
– Моя царевна, – сказал он. – Ты тоже выросла большая. И у тебя по-прежнему небесно-голубые глаза, как у моей императрицы. Как ты прекрасна!
Наклонившись, он тоже поцеловал ее, и Тейе поймала взгляд брата. Выражение лица Эйе было напряженно-непроницаемым. Тутанхатон стоял нетвердо, держась за руку няньки, его круглые черные глазки были устремлены на отца. Эхнатон поднял его, и пухлые ручонки обвились вокруг его шеи, одна потянулась к яшмовой сережке в ухе фараона.
– Так вот он, мой сын, царевич моего тела. Наконец-то! Он здоров, Тейе? Он хорошо себя чувствует? Я хотел обручить его с одной из его сестер. Мы все, взявшись за руки, образуем неразрывный круг! Давайте же укреплять его. Пришло время получить ежегодные подати и потом вместе отпраздновать.
Жрец ринулся вперед и снова принялся окроплять землю, когда фараон повернулся, передав Тутанхатона няньке. Тейе поклонилась, с облегчением заметив, что Эхнатон и не думал приказать Нефертити с царевнами приветствовать ее, но она не смогла не заметить многозначительных радостных взглядов, которыми обменялись Сменхара и Мериатон. Не все сразу, – подумала она, взбираясь на трон и глядя, как тяжелый царский паланкин плавно поднимают на плечи носильщики фараона. Сменхара начал прибавлять шагу, тогда как Мериатон едва плелась, но Тейе резко прикрикнула на сына, и он угрюмо двинулся рядом с Бекетатон.
Во время медленного шествия к дворцу у Тейе была возможность как следует рассмотреть и сына, и его царицу, и достопримечательности Ахетатона. Над сверкающими золотом спинками кресел паланкина конус и синий объемный парик почти постоянно сдвигались. Она видела, как Эхнатон и Нефертити целовались, глядя друг другу в глаза. Видела, как голова Нефертити время от времени прижималась к плечу мужа. Царевны шли, бежали вприпрыжку или пританцовывали рядом с паланкином, часто брались за руки или обнимали друг друга, не обращая внимания на суету вокруг. Тейе огляделась. Царская дорога была довольно широкой, вдоль нее стояли солдаты, сдерживая ревущую толпу. Она бы с удовольствием опустила занавеси, чтобы простолюдины не разглядывали ее лицо, но, очевидно, так поступать здесь было не принято. Когда фараона проносили мимо, народ в давке пытался припасть к камням дороги, но, завидев ее, все поднимались с радостными криками приветствия. Боковые улочки, примыкавшие к главной улице города, тоже были забиты людьми. Взглянув поверх голов, Тейе увидела прелестные участки, засаженные деревьями, и фасады аккуратных маленьких домиков, которые хотя и не шли ни в какое сравнение с усадьбами Хоремхеба или Эйе, были, однако, довольно просторными, с зелеными внутренними двориками за высокими стенами. Только однажды она увидела откровенно неприглядную картину. Одна из улиц, что случайно открылась ее взгляду, вела прямо в пустыню. Там, где она заканчивалась, в песке пустыни, окруженные грудами мусора, теснились глинобитные лачуги.
Город был чудесно изукрашен: флаги, изящные пилоны, аккуратно ухоженные деревья, синие, желтые, красные и белые колонны, устремленные в раскаленное небо. Всюду, где только можно, красовались нарисованные или вырезанные картины, изображающие яркое великолепие живой природы, но Тейе не могла не заметить, что самые большие стены и пилоны были украшены огромными изображениями царицы. На них Нефертити стояла или шла по Ахетатону, иногда с поднятым цепом в руке, иногда совершающая подношения Атону вместе с Мериатон – очень маленькой фигуркой у ее колена, – но всегда в простой мужской юбке и конусообразной короне, скрывающей следы женственности. На каждом углу стояли жертвенники – маленькие каменные плиты с углублениями для благовоний и даров. К тому времени, как процессия приблизилась к центру города, тонкий, слабо пахнущий туман благовоний начал окутывать Тейе. Испытывая головокружение от ароматов, оглушенная шумом, она пыталась ухватить самое главное впечатление от Ахетатона, но так и не смогла. Позже – она знала это – город откроет ей свои секреты, но сегодня сущность его ускользала.
Царская дорога тянулась прямо на север. Вдали Тейе увидела, что огромный дворец слева от дороги соединялся со зданием, расположенным справа от нее, переходом, проведенным высоко над дорогой, на который с каждой стороны поднимался пандус. В середине перехода виднелось огромное окно, откуда открывался вид на дорогу, сверху над переходом была крыша, поддерживаемая колоннами. Устроенные под переходом два небольших квадратных портала по бокам и один высокий – в центре позволяли проезжать колесницам и проходить пешим.
Достигнув арок, кавалькада остановилась. Солдаты быстро окружили Тейе с детьми защитным кольцом. Сойдя на землю, она последовала за Хоремхебом через пилон, украшенный флагами, и начала подниматься по пандусу вслед за фараоном, Нефертити и царевнами. Внизу на дороге собиралась толпа, все лица были обращены вверх. Эхнатон подошел к окну и высунулся из него, одной рукой обнимая Нефертити за плечи. Царевны перегибались через резные оконные переплеты, махали людям внизу и хихикали, прижимая к губам накрашенные ладошки.
– Люди священного города! – воззвал Эхнатон, перекрикивая толпу. – Сегодня благословенный день в истории Египта. Сегодня императрица почтила нас своим царственным присутствием. Также сегодня, в знак моего благоволения к нему, благородный Центу снова получает из моих рук золото милости. Центу! – Он весело взмахнул рукой, указывая на человека, который благоговейно стоял внизу на коленях, протягивая руки, приготовившись ловить золотой дождь, который прольется на него. – Это в третий раз, не так ли?
– Воистину, наищедрейший!
– За твою преданность Атону, за твои пожертвования и молитвы я делаю тебя персоной золота!
Нефертити отодвинулась, когда он снял со своей шеи массивную золотую пектораль, стряхнул золотые браслеты и кольца и принялся радостно бросать их из окна. Пенту, изгибаясь, пытался поймать их. Толпа взревела. Эйе встал рядом с сестрой.
– Это окно явлений народу, – прошептал он ей на ухо. – Каждый день, когда фараон идет из дворца в храм, он останавливается здесь, чтобы поговорить со своими подданными и раздать золото тем, кто заслужил его.
– Но это же пародия! – гневно прошептала Тейе в ответ. – Его отец удостаивал золотом милости только четырежды за всю свою жизнь, и то это была награда только за высшую преданность или храбрость в сражениях! Неслыханно так обесценивать ритуал!
Фараон шутил, пока Пенту ползал, собирая рассыпанные сверкающие сокровища.
– Я тоже был удостоен такой чести, но только однажды, – также шепотом продолжал Эйе. – Фараон сейчас щедр только с теми, чью преданность он хочет купить. Когда Хоремхеб получал золото милости, он остался стоять, позволив своим слугам собирать золото. Посмотри, как пресмыкается Пенту!
– Он выставляет себя напоказ простолюдинам каждый день?
Тейе пришлось подавить свой гнев, когда, последний раз помахав толпе, царская чета продолжила путь. Тейе вздрогнула от приветственных возгласов, раздавшихся, когда она в свою очередь проходила мимо окна.
Дворец Эхнатона стал воплощенной мечтой, пристанищем, достойным властелина целого мира. Малкатта была изящным подобием этого лабиринта роскошных пилонов, дворов с высокими колоннами, перетекающих один в другой, деревьев по берегам озер, фонтанов, пандусов, ведущих в сады и из садов в комнаты, размеры которых вызывали благоговейный трепет. Дворец, казалось, был весь наполнен движением, его стены украшали изображения плавающих уток, скачущих быков, рыб, мелькающих в зеленой воде. По фасаду павильона царицы шли украшенные пальмовыми ветками колонны, выложенные мозаикой из блестящих глазурованных изразцов. Между симметрично разбитыми террасами садов и залой для приемов фараона было более сорока колонн, и более двадцати располагались рядами в самой зале, откуда открывался вход в личные покои царской четы.
– Здесь есть даже личный храм, в точности повторяющий Большой храм, который находится через дорогу, – сказал ей Хоремхеб, когда она попыталась сориентироваться в этом великолепии. – Он называется Хат-Атон, и войти туда могут лишь члены царской семьи. За всю историю мира еще не было дворца, подобного этому.
Тейе казалось, что фараон сознательно ведет процессию в главную залу обходным путем, выставляя напоказ свое волшебное творение. Неудивительно, что моему сыну понадобились сокровища Амона, – думала Тейе. – Неудивительно, что он забрал из Малкатты все, что мог. Насколько истощена казна? Надо спросить у Апи. И это все возведено так быстро! К тому времени, как процессия достигла цели, Тейе была уже без сил. На помосте стояли три трона. Наконец она смогла сесть и дать отдых усталым ногам, поставив их на табурет. Гости, упавшие ниц, поднялись, и она почувствовала, что их взгляды вопрошающе устремились на нее. Она пытливо оглядела их и успокоилась. Это был день податей, и зал пестрел разноцветными одеждами, звенел разноязыкой речью всех уголков империи. Она ожидала унылого ритуала, но была поражена, когда увидела, что даже хетты прислали своего представителя.
Однако ее спокойствие улетучилось вскоре после того, как началась уплата дани. Многие посланники произносили тщательно заготовленные речи и многократно целовали ноги Эхнатону, но их руки были пусты. Они прибыли снова только как наблюдатели, и Египет не мог больше заставить их приносить товары, как прежде. Фараон радостно сиял, когда они ползали перед ним, гордо поглядывая на нее время от времени. Он говорил с ними любезно и снисходительно, в это время Нефертити обнимала его за талию и иногда целовала в щеку.
Тейе оглядела толпу более внимательно и заметила Азиру, выделявшегося парчовым нарядом, богато украшенным кистями, он стоял, прислонившись к колонне, в окружении своих разбойничьего вида телохранителей. Он поймал ее взгляд, низко поклонился ей и медленно улыбнулся. Рядом с ним стоял посланник Хеттского царства, очень смуглый, с настороженным ястребиным взглядом, – тот самый человек, который так давно в Малкатте сидел, дерзко положив ноги на обеденный стол и тиская танцовщиц. Теперь он заматерел. По сравнению с этими двумя мужественными иноземцами фараон смотрелся карикатурно – рыхлый, мягкий и женоподобный. Тейе закрыла глаза. О, Аменхотеп Прославленный, – взмолилась она мысленно. – Помоги мне. Дай мне мудрости.
Традиционные вассалы Египта, южная Сирия и Нубия, прислали обычные дары – лошадей, колесницы и диковинных животных, слоновьи бивни и оружие, драгоценные камни и слитки золота. Торговые партнеры, независимые народы, которые не принимали участия в войнах Египта, привезли рабов, вазы, страусовые перья и другие диковинные штучки просто в знак признательности за многолетнюю успешную торговлю. День уже клонился к вечеру. Тейе непроизвольно сжалась от мучительного стыда, когда увидела, что в свитки занесен такой ничтожный список товаров, тогда как в дни правления ее мужа и зала в Малкатте, и коридор, и передний двор, и сокровищницы были забиты данью.
Вечернее празднество проходило в этой же зале, теперь здесь звучали музыка и громкий смех гостей. Сменхаре, наконец, удалось поговорить с Мериатон, они сидели бок о бок за столиком среди других детей, и хотя Тейе предпочла бы глядеть на них, ей пришлось давиться куском под ледяным взглядом Нефертити. Эхнатон усадил Тейе на почетное место на помосте по правую руку от себя, а Нефертити сидела за отдельным столиком сзади него, где фараоны усаживали обычных жен. Сама Тейе часто сидела на таком месте в Малкатте, когда ее супруг развлекался с новой женой, и это не волновало ее, но Нефертити явно снедало уязвленное самолюбие, и каждый раз, когда Тейе поворачивалась к сыну, она краем глаза ловила на себе злобный взгляд племянницы. Этот мрачный взгляд заставлял Тейе держать спину прямо, хотя она и была очень утомлена.
Вино текло рекой, к ночи в зале сделалось еще более шумно. Придворные то и дело вставали со своих мест и, пробираясь сквозь галдящую толпу, среди брошенных цветов, синих бусин, мартышек, прыгающих и орущих, с кусками снеди в крошечных лапках, приближались к помосту, чтобы выказать свое почтение императрице, поздравить ее с прибытием в Ахетатон. Любимцы фараона сидели у его тарелки, под креслом, иногда повизгивая или настойчиво потягивая хозяина за платье, выпрашивая угощение. Надменно шествовали кошки, презрительно поглядывая на соблазны в виде жареного мяса, их усыпанные сердоликами ошейники поблескивали в свете ламп.
Закончив трапезу, дети ушли с помоста, смешавшись с гостями, остались только Сменхара и Мериатон, которые шептались и счастливо улыбались друг другу. Тейе заметила, как десятилетняя Мекетатон в диадеме из бирюзовых незабудок и с голубыми лентами, спадающими по спине с детского локона, пробралась к оживленной группе и нерешительно остановилась рядом с женщиной, в которой Тейе не сразу узнала Тадухеппу. Когда старшая женщина заметила присутствие девочки, она взяла Мекетатон за руку и, усадив рядом с собой, обняла ее. Она что-то сказала малышке, и это вызвало слабую улыбку на бледном лице девочки. Тейе повернулась к сыну и увидела, что он тоже смотрит на дочь.
– Мекетатон бледна, – сказала Тейе. – Многих ли этим летом коснулась лихорадка?
– Атон защищает свою семью, – коротко ответил Эхнатон. – Мекетатон ничего не коснется.
18
Тейе провела еще одну ночь в покое и тишине дома Эйе, но потом ей все же пришлось осмотреть приготовленное для нее поместье и сказать, что оно ей подходит. Дом с садом, сбегавшим к реке, был выстроен к северу от дворца, его территорию от покоев фараона отделяла только стена с прорезанным в ней проходом. Напротив, через дорогу, стоял Большой дворец. Тейе предпочла бы нечто более удаленное от города, некое убежище, где она могла бы скрыться в любой момент, но, видя, с какой гордостью и волнением Эхнатон показывает ей комнаты, не посмела возразить. Он явно сам занимался выбором отделки и мебели в доме, он постарался, чтобы бордюры и рельефы на стенах напоминали те, что она любила в Малкатте. Но, несмотря на все его старания, едва перешагнув порог этого дома, Тейе поняла, что могла бы провести здесь долгие годы и так никогда и не развеять дух напыщенного великолепия, которым был пропитан весь город, и которое она все больше и больше начинала ощущать на себе.
Приказав Хайе распаковывать вещи, она отправилась в храм на церемонию освящения ротонд, которые построил фараон. За два дня, проведенные в городе, Тейе уже начала привыкать к грандиозному стилю, поэтому внутреннее убранство храма не удивило ее. Здесь не было череды дворов, перетекающих друг в друга, которые, уменьшаясь, становились все более уединенными и заканчивались маленьким святилищем, в полумраке которого хранится божница. Хотя здание было так велико, что Тейе чувствовала себя маленькой и незащищенной – и это почти физически давило на нее, – оно состояло всего из двух дворов: огромного наружного, сплошь уставленного жертвенниками, куда попадали, миновав три пилона и обсаженную деревьями аллею, и еще более огромного внутреннего, где жертвенников было еще больше, их белые сверкающие ряды вели к главному алтарю. Хотя дворец был переполнен статуями Эхнатона и в городе они стояли везде, здесь, в храме, не было ни одной. Разумеется, – думала Тейе, пот скапливался у нее под париком и в подмышках, пока она стояла с Бекетатон в удушающем фимиаме, который курился по всему храму, – нет, если фараон и его семья – это сам Бен-бен. Единственным местом, где можно было укрыться от солнца, оказались небольшие, сложенные из камня ротонды, которые Эхнатон повелел возвести для обновления волшебной силы – для себя, для императрицы и Бекетатон, и, когда первая часть церемонии подошла к концу, Тейе с облегчением шагнула под каменный свод. Стоя в благословенной тени, она смотрела, как фараон, окруженный жрецами, поднялся по ступеням к высоко расположенному алтарю, и полуденная служба началась. С наружного двора доносились стройные хоровые песнопения. Звенели кимвалы и трещали систры. Языки пламени, почти невидимые при ярком солнечном свете, взвивались от факелов в руках сотен служителей, которые ждали перед жертвенниками, чтобы зажечь груды пищи и цветов. Эта ротонда, конечно, – важный и священный предмет, – размышляла Тейе, взглянув на Бекетатон, стоявшую с широко раскрытыми глазами чуть впереди, под богато украшенным навесом своей ротонды, – но здесь я бы предпочла свой собственный балдахин и пару носителей опахал, чтобы отгоняли мух. Видя, как Эхнатон воздевает отягощенные золотом руки к безжалостному небу, а жрецы вскрикивают и падают вокруг него на горячие камни, она гораздо сильнее прониклась достоинством и благородством, которое всегда проявлялось в ее сыне во время богослужения, чем суровым великолепием своего окружения.
В этот вечер, когда ее впервые омыли и одели под высоким, украшенным звездами потолком нового дома и отнесли в залу для личных приемов фараона, он показал ей золотую погребальную раку.
– В скалах за Ахетатоном для тебя, матушка, украшают гробницу, – пылко произнес он. – Ты будешь покоиться под его защитой. Взгляни! – Он обошел вокруг согнувшихся слуг, У которых дрожали руки под тяжестью ноши. – Я повелел, чтобы на ней выгравировали твое изображение – твое бесценное тело, окутанное тончайшим прозрачнейшим льном, а перед тобой – мое собственное царственное изображение, чтобы после смерти защищать тебя от демонов. Здесь наши имена, сплетенные вместе.
– Эхнатон, – тихо произнесла она, в горле стоял ком, – благодарю тебя за этот великий дар, но гробница ждет меня в Фивах, рядом с моим первым мужем. Я бы предпочла лежать там.
– Этот человек умер с верой в неправильного бога, – выпалил он, заливаясь краской гнева. – Я не позволю, чтобы ты была осквернена его присутствием!
– Как хочешь, – спокойно ответила она, про себя решив издать собственный указ и передать его Хайе.
Эхнатон обиженно сделал знак, и слуги, пошатываясь, вынесли раку. Он вновь уселся рядом с ней.
– Я провел много времени, присматривая за ее изготовлением, – пожаловался он.
Она поцеловала его в щеку и произнесла успокаивающим тоном:
– Это великий подарок. Я бесконечно благодарна. Пей вино, Эхнатон. Ты же хотел, чтобы я приехала? – Но он сидел с мрачным видом, навалившись на стол, часто дыша. – Музыка до сих пор звучит в ушах, – заметила Тейе, помолчав. – У тебя здесь талантливые композиторы.
– Я сам написал ее, – буркнул он. – К ней есть и слова, но они не подходят для праздника. – Он выпрямился и начал тихо напевать высоким дискантом: – Сколь многочисленно творимое тобою и скрытое от мира людей, Бог единственный, нет другого, кроме тебя! Ты был один – и сотворил землю по желанию сердца твоего, землю с людьми, скотом и всеми животными, которые ступают ногами своими внизу и летают на крыльях своих вверху. Как многообразны твои деяния! Они сокрыты от людей, о, единственный Бог, с которым никто не сравнится. Ты сотворил землю в согласии со своим сердцем, когда ты един: и люди, и стада скота и антилоп; все, что на земле… – Он не отрывал взгляда от своей тарелки и тихо раскачивался в ритм мелодии. Когда он закончил, Тейе увидела, что он плачет.
– Это прекрасно, – тихо сказала она, обнимая его за шею. – Почему ты плачешь?
Он покачал головой.
– Не знаю. Я живой бог. Я не знаю…
Вскоре он ушел. Тейе продолжала сидеть, перед ней на неубранном столе стояло вино, ее настроение было созвучно тихим непринужденным разговорам нескольких избранных гостей с теми членами царской семьи, которых пригласил фараон. С уходом фараона от напряженности не осталось и следа. Сменхара и Мериатон, уже неразлучные, были поглощены серьезным разговором. Мекетатон, сидевшая в стайке юных жен гарема, играла в бусины с Тадухеппой. Нефертити вовсе не появилась. Тейе с любопытством подумала, а была ли она вообще приглашена. Тейе медленно допивала свое вино, собираясь уходить, когда увидела, как Пареннефер подошел к Мекетатон, поклонился и что-то прошептал ей. Девочка склонила головку, поднялась и вышла. Наступила тишина. Все глаза были устремлены на нее, и озадаченная Тейе поманила пальцем Хайю.
– Пришли ко мне Пиху. Пора уходить. Попробуй выяснить что-нибудь о царевне Мекетатон от слуг из детской. И пошли вестника в дом, где остановился Азиру. Прикажи ему явиться ко мне завтра поутру.
К тому времени, как Хайя дошел до двери, разговор возобновился. Что-то беспокоит мою маленькую внучку, – размышляла Тейе, ожидая Пиху, – и это достаточно серьезно, судя по реакции всех этих людей. Полагаю, в скором времени я узнаю, что это, но сейчас мне нужно отдохнуть.
Хайя пришел к ней на рассвете, когда будившие ее музыканты ушли, и Пиха принесла ей утренние фрукты и разбавленное вино. Тейе сидела в постели, опираясь на подушки, и аккуратно ела арбуз. Комната постепенно наполнялась светом.
– Ну? – нетерпеливо произнесла она. – Ты расторопен, Хайя. Выкладывай. Мне надо обдумать, что сказать Азиру.
Он кивнул.
– Царевна Мекетатон больше не живет в детской, – сказал он. – У нее теперь собственные покои в гареме. Я был там, но смотритель не впустил меня.
– Ты хочешь сказать, что этот ребенок спит с моим сыном? – Тейе отпихнула остатки арбуза.
– Императрица, я еще не успел достаточно сблизиться с прислугой, чтобы убедиться в правдивости слухов, но, похоже, что так.
У Тейе перед глазами вдруг возникла гротескная скульптурная группа, которую ей вручила Мутноджимет.
– Ты интересовался состоянием здоровья девочки?
– У меня не было такой возможности, божественная.
– Пришли ко мне писца.
Когда писец положил свою дощечку на колени, Тейе быстро начала диктовать:
– «Мерире, хранителю дверей гарема, приветствие. По праву императрицы и первой царской жены, я, Тейе, Богиня Обеих земель, принимаю в свои царственные руки заботу и управление гаремом Могучего Быка и назначаю своего управляющего Хайю хранителем дверей гарема. А ты уволен». Пусть вестник объявит это немедленно, Хайя. А сейчас ступай к Нефертити и испроси позволения для меня встретиться с ней сегодня после полудня. Азиру намерен сделать то, что ему сказано? – переведя дыхание, спросила она.
Хайя улыбнулся.
– Он будет здесь через два часа.
– Хорошо. Ты свободен. Пришли ко мне Пиху.
Когда Пиха вошла, Тейе уже встала с постели и держала зеркало, вглядываясь в него и перебирая пальцами волосы.
– Пиха, думаю, настало время скрыть всю эту седину, – сказала она. – Скажи моим людям, пусть купят хны и завтра приходят красить мне волосы. Сегодня я надену парик.
Когда объявили о приходе Азиру, Тейе, уже накрашенная, в парике, в короне императрицы с диском и двойным пером, восседала на троне под балдахином в зале для приемов, окруженная чиновниками. Она позволила ему подойти и протянула ему руку для поцелуя, высокая фигура сложилась почти вдвое в глубоком поклоне. Телохранители Азиру, сдавшие оружие ее свите, стояли по обе стороны двери, сложив на груди руки. Комната постепенно наполнилась едва уловимым, но узнаваемым козлиным запахом. Азиру выпрямился, и писцы Тейе взялись за перья.
– Итак, ты, наконец, сподобился ответить на призыв своего господина, – сухо начала Тейе. – Должно быть, ты привез целую гору дани, Азиру. Наверное, поэтому ты путешествуешь с такой огромной свитой. Сколько лет прошло с тех пор, как ты получил вызов фараона?
– Императрица, ты не могла видеть мои письма к фараону, объясняющие задержки, вызванные моими войнами против его ужасных врагов, – громыхнул Азиру по-египетски с сильным акцентом. – Я примчался к нему на крыльях братской любви при первой возможности. – Его глаза дерзко сверкнули.
– Ты ошибаешься, – ответила Тейе. – Я читала твои письма, будучи еще в Малкатте. И не только твои. Риббади тоже было о чем поведать, так же как и Абимилки.
– Этот сброд… эти вероломные псы! – Голос Азиру дрожал от возбуждения. – Я славлю богов, что фараон в своей безграничной мудрости не поверил в их ложь. Их злоба и зависть были безмерны. Они жаждали наслаждаться выгодными отношениями, которые сложились у моего народа с Египтом.
– Твоя преданность делает тебе честь и может сравниться только с твоими актерскими способностями, – с сарказмом ответила Тейе.
– Императрица несправедлива ко мне. Разве я не защитил Египет ценой жизни своих людей? Разве я не дал убежище этой плачущей бабе Риббади, когда тот не смог удержать свой город и вынужден был бежать?
Тейе увидела, что Азиру понял свою тактическую ошибку, как только слова слетели с его губ. Он замолчал, потупившись.
– Я верю, что наш дорогой союзник Риббади наслаждается защитой и миром нашего брата Азиру, – невозмутимо сказала она, наклонившись вперед. – Я удивлена, что он не сопровождает тебя и даже не послал с тобой письма фараону. В дни оные он написал много писем. Полагаю, он мог бы передать их нашим осведомителям в Амурру, но, конечно же, его друг Азиру предложил доставить их лично? Или Риббади разучился пользоваться языком и руками?
Азиру поднял глаза и изучающе оглядел ее. Тейе почти читала его мысли. Были ли на самом деле в Амурру египетские осведомители? О чем они докладывали фараону? Мог ли острый взгляд императрицы пронзить покровы лжи, защищавшие его от невнимательных глаз фараона?
– Действительно, Риббади в безопасности, – ответил он после паузы, и Тейе откинулась назад, выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.
– И мы оба знаем, что это за безопасность. Мой покойный муж Осирис Аменхотеп Прославленный сделал то же самое с твоим отцом, и я бы настоятельно рекомендовала тебе поразмыслить о его кончине. Ахетатон теперь мой дом. Над этим тоже поразмысли. Как надолго ты намерен задержаться?
Азиру поклонился.
– Гостеприимство фараона безгранично, и оно искушает меня продлить свой визит на неопределенный срок.
– Его гостеприимство, может быть, и безгранично, но мое терпение – нет. Как и снисходительность моей страны. Ты свободен.
Он быстро поклонился и удалился с важным видом, его телохранители затопали следом. Он не уедет, пока не узнает, насколько велика моя власть над сыном, – подумала Тейе, когда двери со стуком закрылись. – И это то, что мне еще предстоит выяснить. Но Эхнатон теперь должен прислушиваться ко мне, иначе Азиру перестанет колебаться между Суппилулиумасом и Египтом, решит заключить соглашение с Суппилулиумасом и покинет нас совсем. Прежде это было бы не так важно, но сейчас для нас ценен каждый союзник.
В полдень Тейе велела подать носилки и отправилась в пышные покои Нефертити. Она бы предпочла послать за царицей, но знала, что в семье сейчас нить любви и взаимопонимания натянута до предела, и любая настойчивая попытка заявить о своих исключительных правах могла оборвать ее Нефертити полулежала на своем ложе, над ней безмятежно шелестели опахала, в комнате тихо играли музыканты. Ее беременность уже близилась к концу, и она уже не стремилась на людях или дома скрывать выступающий живот, она надевала просвечивающие одежды, которые подчеркивали ее манящую чувственность. Нефертити исполнилось тридцать два года – знойная пора зрелости женского тела, в котором, казалось, сочеталась горячая спелость без признаков увядания и обещание чувственных наслаждений. Постепенно проявляющиеся приметы возраста на ее лице скорее подчеркивали природную красоту совершенно правильных черт, чем вредили ей, и в гримасе неудовлетворенности ее поклонники могли усмотреть лишь намек на легкомыслие, что низводило ее с вершин недосягаемой божественности, манило, но не давало возможности приблизиться к ней как к земной женщине. Она легким кивком ответила на чопорный поклон Тейе, не отнимая рук у слуг, благоговейно втирающих в ее кожу ароматные масла.
– Прости, что не могу опуститься перед тобой, тетушка, – сказала она. – У меня болят спина и ноги, и, кроме того, мне довольно трудно наклоняться. – Обведенные сурьмой серые глаза холодно воззрились на нее.
Тейе не обратила внимания на колкость.
– Я желаю говорить с тобой наедине, – сказала она. – Я оставила свою свиту в саду. Отошли и ты своих людей.
Нефертити слегка поморщилась.
– Вы почти закончили? – обратилась она к слугам, склонившимся над ее длинными пальцами. – Тогда оберните мне руки салфетками и подождите за дверью.
Тейе стояла. Юноши поклонились и выскользнули из покоев. Она подошла к ложу и опустилась в кресло; некоторое время женщины молча смотрели друг на друга. Тейе ожидала, что племянница будет поддерживать легкий разговор, чтобы иметь возможность лавировать, скрывая свои мысли за ничего не значащими словами, но ее, как всегда, поразило, что совершенство лица и тела Нефертити отнюдь не распространялось на ее мыслительные способности. Племянница была так же неосмотрительна, как в свое время Ситамон.
– Ты не имела права увольнять Мериру с должности хранителя дверей гарема, – начала она. – Он долгое время был моим управляющим, и, учитывая его деловитость, я вверила ему управление гаремом. Женщины были им довольны. Фараон любит его и доверяет ему.
– Фараон всех любит и всем доверяет, – спокойно ответила Тейе. – Пока я жила в Малкатте, ответственность за дела в гареме лежала на тебе. Но ты прекрасно знаешь, что фактически это моя обязанность – по праву императрицы и первой жены. Я просто назначила другого хранителя, и это мое право.
Она поначалу не помышляла восстанавливать против себя племянницу, надеясь договориться с ней мягко и тактично, возможно, переиграть ее, разоружить, заверив, что ее ревность была беспочвенна. Очевидно, Нефертити сочла такой стиль беседы невозможным, и Тейе пришлось отказаться от видимой задушевности и занять совершенно иную позицию, которая не предполагала снисхождения и уступок.
– Не могу представить, зачем ты обеспокоилась этим делом, если, конечно, не имеешь прежнего вожделения к телу своего сына и не хочешь управлять очередью женщин к его постели, – заявила Нефертити. – Полагаю, что женщине твоих лет не пристало такое откровенное проявление дурных наклонностей. Ты не можешь больше соперничать за ложе фараона.
Тейе улыбнулась в ее угрюмое лицо.
– Я совершенно не имею желания отстаивать свои супружеские права в опочивальне, – твердо ответила она. – Если тебе невдомек, почему я так скоро решила проявить интерес к делам гарема, ты более глупа, чем я предполагала. Меня беспокоит Мекетатон.
Нефертити отвела взгляд.
– С Мекетатон не происходит ничего дурного. Ее немного лихорадило этим летом, только и всего.
Тейе захотелось встряхнуть ее.
– Вижу, мне придется говорить с тобой, как с младенцем, чтобы ты понимала. Ты не возражала, когда фараон взял свою дочь к себе в гарем?
– Нет. Почему я должна возражать? Это его право.
– Но Мекетатон еще ребенок, хрупкая и нескладная, как мальчик.
– Нет. Она стала девушкой шесть месяцев назад. Фараон повелел, чтобы она не срезала детский локон. Ему так нравится.
Безразличие, прозвучавшее в словах Нефертити, заставило Тейе вздрогнуть.
– Она твоя дочь, и в ней течет моя кровь! Тебе не приходило в голову, что, если она забеременеет, она может умереть? Посмотри на нее, Нефертити! Разве может неоформившееся детское тельце выносить ребенка?
Нефертити принялась нервно теребить льняные полоски, которыми были обмотаны ее руки.
– Она уже беременна.
Теперь Тейе уже не пыталась сдерживать себя. Удар пришелся Нефертити в висок, и та глухо вскрикнула. Тейе потерла костяшки пальцев и положила руку на свое колотящееся сердце, пока Нефертити стонала и раскачивалась.
– Прекрати! – зашипела Тейе. – Я не больно тебя ударила. Похоже, Киа – лучшая подруга для твоей дочери, чем ты. Она хотя бы пытается утешить девочку.
Некоторое время Нефертити сидела неподвижно, потом откинула голову на подушку.
– Мекетатон понимает, что это семя Атона, – огрызнулась она. – Бог должен брать в жены тех, кто близок ему по крови. Это его долг.
– Ты веришь в это не больше, чем я! Долг священного Гора – порождать свое воплощение, но ведь не так же! Почему он не выбрал Мериатон?
Нефертити настороженно посмотрела на нее.
– Правда, тетушка, я не знаю. Но ты еще не понимаешь, к чему приводят споры с твоим сыном. Он начинает плакать, демоны одолевают его голову, и я ничего не могу с этим поделать.
– Ты – самая прекрасная женщина, какую когда-либо видел Египет, – горько сказала Тейе. – Но у тебя сердце гадюки.
– Нет, – сверкнула глазами племянница. – Кобры! Королевской кобры,[45] тетушка. Весь Египет поклоняется мне. Не вставай у меня на пути.
Тейе начала окутывать пелена усталости.
– На твоем месте было бы мудрее впредь не враждовать со мной открыто, Нефертити. Потому что, как бы ты ни царапалась и ни плевалась, я куда безжалостнее, чем ты. От меня не так легко избавиться, как от Ситамон. Я пришла к тебе сегодня, чтобы попытаться убедить тебя помочь мне доказать фараону необходимость безотлагательной войны против Сирии. Но теперь я не убеждаю, я требую. Зарони сама эти слова в уши фараону, иначе ты увидишь Египет на коленях.
– Это просто смешно. – Глаза Нефертити сверкнули в темноте. – Ни один народ не смеет бросить нам вызов.
– Это ты не смеешь бросить вызов фараону, сказав ему правду. Не его правду, а жестокую правду действительности. Тебе по нраву его милость, его богатые дары. Но все это закончится, и скорее, чем ты думаешь, если окончательно иссякнут подати и доказательства преданности иноземцев.
– Ты забыла об одном, – зловеще прошептала Нефертити. – Эхнатон обожает меня. Если я решу хранить молчание, ты бессильна что-либо сделать.
– О, думаю, ты сделаешь, как я сказала. В противном случае одному скульптору перережут его прекрасное горлышко.
Тейе с удовлетворением увидела, как побледнело безупречно гладкое накрашенное лицо Нефертити. Это был случайный выстрел, стрела, пущенная при внезапном воспоминании о коротком замечании Хоремхеба, и сама Тейе удивилась, что попала в цель.
Фараон знает, в чью сторону устремлены помыслы его прекрасной жены? Очевидно, нет. Мне, конечно, не нужно убивать его. Стоит только начать распространять некие пикантные слухи. Но я бы предпочла убить его, дорогая племянница, и убью, если ты не прекратишь заботиться только о своем личном благополучии.
– Ты демон, – прошептала Нефертити. Льняные полоски валялись на простынях, изорванные в клочья, ее натертые маслом руки дрожали от ярости. – Ты отвратительная старая ведьма. Забери тебя Себек!
Тейе поднялась.
– Как? Ты не доверишь отмщение Атону? Как был бы разочарован фараон, услышав о том, что тебе недостает благочестия. Подумай об этом, Нефертити, когда успокоишься. Наслаждайся тем, что у тебя осталось. – Она поклонилась, слуги тотчас широко распахнули перед ней дверь.
Ну вот, основные линии прочерчены, и гораздо быстрее, чем я того хотела, – думала Тейе, уходя. – Надеюсь, Нефертити не хватит ума сообразить, что она всегда может одержать верх, изобретя подходящую ложь. А теперь я должна встретиться с Туту. Угрожать племяннице и запугивать слюнтяя-управителя – совсем не тот стиль дипломатии, который мне так нравился и за которым ты наблюдал с таким удовольствием, о муж мой, Аменхотеп. Так небрежно, походя, на бойне режут быков, и мне это претит. Какие ничтожные настали времена!
Палата внешних сношений в Ахетатоне располагалась в конце дороги, между Большим и Малым храмами, неподалеку от лабиринта дворов, обнесенных стенами, отгораживающими поместья управителей, которые не имели права селиться на берегу реки. Пока Тейе несли по пыльной улице в закрытых носилках, ее ноздри даже сквозь плотные занавеси улавливали сильный запах фимиама, висящего в воздухе, смешанного со зловонием отбросов и прочего мусора с улицы. С территории храма доносились размеренные песнопения и звон систр, чистый и прекрасный, паривший в воздухе над хриплыми криками торговцев и грубым смехом крестьянок. Услышав барабанную дробь, Тейе поняла, что движется мимо танцовщиц. Она слегка приоткрыла занавеси, ожидая увидеть нагих блудниц, выставляющих напоказ свои прелести, но женщины оказались храмовыми танцовщицами, гибкими и непорочными, увешанными гирляндами цветов. В танце они торжественно поднимали вверх руки, обращая лица к солнцу. Ахетатон – это определенно не Фивы, – размышляла она, опустив занавеси. – И как это похоже на моего сына – разместить палату внешних сношений так ужасно далеко от дворца.
В палату доносились звуки улицы, хотя она и была защищена стенами с воротами и высоко прорезанными окнами и окружена кустарником. Лари и сундуки были забиты свитками. Повсюду валялись дощечки писцов. В одном углу она увидела группу людей, которые стояли, что-то обсуждая, и, наконец, отыскала глазами самого Туту, склонившегося над плечом писца, он что-то ему диктовал. Тейе подождала, стоя в окружении молчаливых носителей балдахина, пока вестник вошел в палату и объявил ее титулы, и, когда она шагнула через порог, все присутствующие уже распростерлись на полу лицом вниз. Тейе медленно оглядела комнату, давая возможность людям в полной мере осознать ее присутствие, потом приказала:
– Туту, на колени!
Молодой человек приподнялся и встал на колени, склонив голову.
– Я – твой раб, императрица, – взволнованно промямлил он.
Тейе сделала несколько шагов вперед, пока ее ноги с кроваво-красными ногтями, позолоченные ремешки сандалий и кайма украшенного драгоценными камнями одеяния не оказались у него перед глазами.
– Скажи мне, – спросила она вкрадчиво, – сколько раз ты был персоной золота?
В замешательстве Туту резко дернул головой.
– Четыре раза, священная богиня.
– Тогда ты получил больше, чем тебе причиталось, потому что определенно ты не нуждаешься в золоте фараона. – Она сделала ударение на слове «фараона», внимательно наблюдая за реакцией. – Так сколько тебе платят иноземцы за то, чтобы ты скрывал от ушей фараона правду об их хищениях? Азиру платит тебе рабами или серебром? А Суппилулиумас, должно быть, сыплет золото тебе в руки, как песок, в обмен на то, чтобы ты незаметно уничтожал послания от его врагов. Удивительно, что ты еще не поселился у реки, но, полагаю, тебе не стоит хвастаться своим богатством. Твоя гробница богата? Отвечай!
Быстрый, как вспышка, удар носком сандалии пришелся ему по горлу.
– Императрица, я – грязь под твоими ногами! – прохрипел он, судорожно сглатывая. – Я пресмыкаюсь! Я подобен навозу!
– Это не ответ. Встань! – Тейе оглядела кабинет и подавила желание рассмеяться. И не потому, что ее рассмешило опущенное долу лицо Туту, или застывшие вокруг фигуры, или Хайя, быстро спрятавший усмешку. Просто ей было смешно прибегать к таким ребяческим уловкам. – Можешь смотреть на меня.
Он неохотно поднял на нее глаза, и она попыталась что-нибудь прочесть в них. Туту выглядел несчастным, сбитым с толку и растерянным, но не виноватым.
– Теперь отвечай.
Туту пожал плечами с видом оскорбленной невинности.
– Я почитаю своего фараона. Я никогда бы не предал его. Когда он приходит в палату, я зачитываю ему все послания.
– Ты не старался убедить его, что это послания первостепенной важности? Ты зачитывал их ему, не давая советов, не истолковывая, не предостерегая? Что ты за управитель?
– Богиня, я простой человек…
– Будь проклята твоя простота! Тебя следовало бы задушить твоим золотом!
Она хотела потребовать его немедленного увольнения или, по крайней мере, настаивать на том, чтобы в будущем он приносил ей всю корреспонденцию, но оба эти указа должны были исходить от Эхнатона. В отчаянии она задумалась, что случилось с тайными донесениями осведомителей, разбросанных по всей империи, которые тщательно отслеживал его предшественник, и решила, что, возможно, их деятельность прекратилась. Она развернулась, глубоко вздохнув, вышла на солнечный свет и потянулась к руке Хайи.
– Помоги мне сесть в носилки, – велела она. – Я намеревалась сегодня вечером еще поговорить с Хоремхебом, но слишком устала. Пусть меня отнесут в мой дом, Хайя, а к Хоремхебу пошлешь завтра.
Она улеглась в носилках, согнувшись от ноющей боли в животе и борясь с чувством одиночества, которое всегда усиливалось от усталости. В этот вечер она трапезничала одна, отказавшись принять Эйе, который приходил справиться о ее самочувствии, и велела рано загасить лампы. Хайя занимался делами в гареме. Это еще не все, – думала она, засыпая. – Я должна поговорить с Тадухеппой. Мне следовало привезти ее тетушку из Малкатты. Должна навестить Мекетатон. Я не спросила об Анхесенпаатон, не поговорила с Мериатон и просто оттягиваю момент встречи с Эхнатоном наедине. Так много нужно сделать, попытаться понять, прежде чем я смогу начать спасать хоть что-нибудь.
Вечером следующего дня она встретилась с братом и Хоремхебом в своем саду, подальше от любопытных ушей. Мутноджимет пришла вместе с мужем и теперь, пока они разговаривали, лежала, грациозно разметавшись на траве и полуприкрыв глаза. Тейе знала, что молодой женщине можно доверять, и на самом деле молчаливое присутствие Мутноджимет как-то успокаивало ее. Меня раздражает собственная дочь, и я не выношу свою вторую племянницу, – думала Тейе, поглядывая на неясно вырисовывающиеся формы Мутноджимет, – но к этой женщине испытываю глубокую привязанность. Хоремхеб говорил тихо, подавшись вперед в кресле и уперев локти в смуглые колени.
– Я убежден, что фараон не станет слушать никого из нас. Он верит, что с его приходом к власти в облике воплощения Атона на земле начинается возвращение к истинной Маат не только в Египте, но и во всем мире. Волнения за пределами наших границ он истолковывает просто как борьбу менее просвещенных против этого знания. По существу, он уверен, что все это постепенно затихнет само собой, когда Атон явит всем свое могущество. Ему самому не нужно ничего делать. Атон восторжествует, как только из Ахетатона его сияние распространится по всей земле, чтобы захватить и просветить всех людей.
– Думаю, что моей дочери тоже нравится в это верить, – вставил Эйе. – Она безрассудно смела и мстительна, но она распознает власть, когда видит ее, и идея мирового господства, воплощенная в Атоне, пьянит ее. Ты говоришь, царица, что припугнула ее убийством скульптора Тутмоса, но Нефертити без колебаний пожертвует им, чтобы удержать твоего сына.
– В таком случае не будем ждать. Нет нужды сейчас лишать юношу жизни, но было бы полезно сказать фараону об интрижке жены. Если нам не удается убедить Нефертити действовать с нами заодно, тогда чем скорее мы вобьем клин между нею и фараоном, тем лучше.
Тейе говорила спокойно, но ее сердце, вопреки здравому смыслу, сжималось от жалости к Эхнатону. Она не могла отрицать его неспособность вести за собой, его неумение держаться отстраненно и с достоинством – жизненно важные качества для фараона, но мысль о том, что придется лишить его веры в Нефертити, была горька. В своем простодушии он купил любовь управителей, но даже Хоремхеб, к которому он сначала относился по-дружески, не мог дать ему ту слепую преданность, которой он жаждал. И ты, Эйе, – задумчиво рассуждала про себя Тейе, глядя на брата. – Хотя я люблю тебя, я думаю, что сейчас не вверила бы тебе свою жизнь. Ты предал меня, когда покинул Малкатту, и теперь обсуждаешь, как предать своего фараона. В твоих глазах Эхнатон – не более чем фишка, а Египет – игральная доска. Ты будешь сидеть между Эхнатоном и мной, не доверяя в полной мере никому из нас, пока не увидишь, в чью сторону качнулись весы.
– Полагаю, такой план может быть опасен, – возразил Эйе. – Если доверие фараона к Нефертити пошатнется, он с еще большей страстью обратится к Атону за утешением. Атон запрещает насилие над человеком. Азиру ухватился за это, едва успел приехать. Несмотря на мои попытки опорочить его, он заискивал перед Эхнатоном и отрицал свою вину, хотя о ней свидетельствовали немногие оставшиеся верными наместники Египта, что еще есть за границей.
– То, что я предлагаю, не такой уж и опасный план, как ты думаешь. Я ставлю себя на место Нефертити. Конечно, сын повернется к матери после такого сокрушительного разочарования.
– Или муж к жене? – криво усмехнулся Эйе. – Сейчас ты можешь надеяться повлиять на него только как мать.
– Я не собираюсь снова ложиться с ним в постель, – устало сказала Тейе. – Я горько сожалею о своей слабости, сожалею, что позволила ему вообще разделить со мной ложе.
– Думаю, было бы лучше оставить все подобные интриги и просто отобрать у него Египет.
Это был голос Хоремхеба. Теперь он откинулся в кресле, в сгущающейся темноте сада невозможно было разглядеть выражение его лица, он сидел, закинув ногу на ногу и обхватив руками подлокотники кресла. Тейе скорее почувствовала, чем увидела, как он напряжен. Они с Эйе повернулись к нему в повисшей тишине, и, наконец, Тейе тихо сказала:
– Продолжай, военачальник.
– Его презирают жрецы всех богов, кроме жрецов Мемфиса и Она. Над ним смеются все придворные, живущие от его щедрот. Он сделался объектом насмешек во всем мире, вождей различных племен и народов, которые снова начинают гордиться своей военной мощью. Твой сын лишил нас империи, богиня. Нельзя допустить, чтобы он лишил нас и страны.
При словах Хоремхеба Тейе обнаружила, что до боли крепко сжимает подлокотники кресла и почему-то не может их отпустить.
– Он – воплощение Амона, царевич царской крови, истинный сын фараона, – горячо ответила она, инстинктивно бросаясь на защиту сына, – верит он в это или нет. И поднять на него руку – значит погрешить против Маат.
– Я не говорю об убийстве. – Низкий голос Хоремхеба зазвучал умиротворенно. – Пусть царствует, пока не будет готов принять правление царевич Сменхара. Но отстраните его от командования армией и используйте ее, чтобы начать войну за возврат утраченного.
– И, я полагаю, ты возглавил бы такую армию? – невозмутимо отозвался Эйе. – Ты и вправду так наивен, Хоремхеб?
Победив в этой войне, неужто ты смог бы устоять перед искушением возложить двойную корону на свою голову? Не забывай, что, хотя мы и расцениваем всемогущество Атона как его заблуждение, есть много людей – как в армии, так и среди жрецов и царедворцев, – кто истинно уверовал в это. Полагаю, пытаясь вырвать военную мощь из рук фараона, мы, возможно, развяжем гражданскую войну. Мы, в конечном счете, победим, но ценой большой крови. Предположим, мы отдадим корону Сменхаре. Как много времени пройдет, пока его благодарность не иссякнет и он не начнет с подозрением глядеть на тех, кто сверг его предшественника? Или, если корона перейдет к одному из нас, Сменхара как законный наследник сможет заручиться поддержкой простого народа и затеять войну против нас. Кроме того, нам следует помнить: что бы ни случилось, мы останемся запятнанными своей близостью с Атоном. И даже когда страна вернется к истинному состоянию Маат, мы будем пользоваться дурной славой. Есть только один ответ на вопрос, что делать: мы должны действовать окольным путем.
Я не забуду эти слова, – подумала Тейе. – Он много раз уже говорил нечто подобное, но сегодня он произнес их лишь для того, чтобы проверить меня. Нужно непременно завести осведомителей в обоих домах.
– Хоремхеб, насколько безнадежна ситуация в Сирии? Существует ли там непосредственная угроза для Египта?
– Сейчас нет, – неохотно ответил он. – Иноземцы с удовольствием воюют между собой, освободившись от столь долгого мирного давления Египта. Они пока еще пребывают в страхе перед ним и предпочитают убивать друг друга, чтобы проверить свое умение и силу. Когда-нибудь Суппилулиумас поведет хеттов на нас войной, но не сейчас.
– Благодарю тебя, – сказала она спокойно. – Тебе не обязательно было отвечать с такой прямотой. Ты мог бы быть и понастойчивее в попытке произвести на меня впечатление, однако ты не очень старался.
Он коротко рассмеялся:
– Было бы неумно тебе лгать, императрица.
– Да, наверное. Поэтому я предлагаю сначала очернить племянницу, для того чтобы я могла начинать постепенно влиять на сына. Должна добавить, что нечего даже помышлять об убийстве царицы. Аменхотеп лишится рассудка, если она умрет при подозрительных обстоятельствах. Это священный приказ, – подчеркнула Тейе, заметив, что Эйе и Хоремхеб обменялись взглядами в темноте. – Нарушите его – я вам не защита. Ты спишь, Мутноджимет?
– Нет, тетушка, – донесся спокойный голос. – Это был очень интересный разговор.
– Тогда вызови свои носилки. Хочу лечь спать. Мутноджимет поднялась, оправила платье и позвала слуг.
Хоремхеб тоже поднялся и, запечатлев поцелуй на руке Тейе, пробормотал слова почтения. Потом они поклонились и исчезли в ночи.
– Как давно Хоремхеб имеет виды на трон Гора? – прямо спросила она Эйе, когда факелы, освещавшие дорогу для супругов, скрылись из виду.
Эйе пододвинул ближе свое кресло.
– Не думаю, что он на сегодняшний день вынашивает такие честолюбивые замыслы, – ответил он. – Но это большое испытание для прирожденного командира – видеть, как его солдаты год за годом слоняются без дела, в то время как страна рассыпается из-за отсутствия элементарного порядка.
– А ты, Эйе, у тебя есть такие замыслы?
– Тейе, – побранил он ее мягко, – боги благословили меня прожить пятьдесят восемь лет. Я слишком стар, чтобы лелеять глупые и кружащие голову мечты юности. Моя сестра – богиня, моя дочь – царица. Чего еще желать старику?
Интересно, – задумалась Тейе, когда он ушел. – Честолюбивые замыслы, которые преспокойно дремали бы при сильном Горе, неизбежно пробуждаются во времена, подобные нынешним. Не хотелось бы мне дожить до того дня, когда они окрепнут!
Тейе пришлось выждать несколько дней, прежде чем ей удалось поговорить с сыном, потому, что возбуждение от ее прибытия послужило причиной сильнейшего приступа головной боли, которая сопровождалась рвотой, ставшей такой модной при дворе. Тем временем она получила послания из Фив. Мэйя писал, что в Ниле стали находить истощенные тела умерших от голода жрецов. Управитель города тоже писал ей, его письмо было одной большой жалобой на рост насилия среди безработных, осквернение пустых жертвенников Амона невежественными феллахами и нехватку запасов продовольствия, вызванную приказом фараона о том, что все товары должны сначала проходить через таможни в Ахетатоне. Тейе бесстрастно слушала монотонный голос писца. Она ничего не могла поделать, и поэтому изводить себя понапрасну было бессмысленно. Послушная долгу, она дважды в день ходила в Большой храм и выстаивала службы в своей волшебной ротонде, глядя, как Нефертити и жрец Мерира отправляют обряды для выздоровления больного фараона.
Коротая время до встречи с сыном, она вызвала одного из жрецов Атона и заставила его читать ей свиток учения. Так же как в тот раз, когда Эхнатон пел для нее свою песню, она снова поразилась безыскусной красоте его веры. Его бог не был величественным вершителем людских судеб, он был кроток и человеколюбив, как и сам Эхнатон.
«Ты сотворяешь семя в мужчине, Ты даешь жизнь сыну во чреве матери его, Ты успокаиваешь дитя – и оно не плачет, Ты питаешь его во чреве, Ты даруешь дыхание тому, что Ты сотворил… Лучи Твои кормят все пашни: Ты восходишь – и они живут и цветут. Ты установил ход времени, чтобы вновь и вновь рождалось сотворенное Тобою, – установил зиму, чтобы охладить пашни свои, жару, чтобы они могли познать Тебя… Из Себя, единого, творишь Ты миллионы образов Своих…Ты единственный, Ты восходишь в образе Своем, Атон живой, сияющий и блестящий. Вся земля во власти Твоей десницы, ибо Ты создал людей; Ты восходишь – и они живут, Ты заходишь – и они умирают. Ты время их жизни, они живут в Тебе. До самого захода Твоего все глаза обращены к красоте Твоей… Ты в сердце моем…»
Такие чувства были столь необычны, что Тейе задумалась, чем же они были вызваны. Когда они вместе с первым мужем сознательно поощряли поклонение Атону в дипломатических целях, ни один из них не проявлял настоящего интереса к Ра как Зримому Диску. Другой отрывок учения, просто озаглавленный «Откровение царю», гласил: «Нет другого, познавшего Тебя, кроме сына Твоего Эхнатона. Ты даешь ему постигнуть предначертания Твои и мощь Твою». Она узнавала натуру своего сына, глубоко погруженного в видения, понятные только ему одному и непостижимые для окружающих.
Искренне опечаленная, Тейе явилась в личные покои фараона, и вестник объявил ее титулы. Она знала, что Нефертити с Анхесенпаатон были в Мару-Атоне, где позировали Для скульптурного изображения, которое выполнялось с натуры, и фараона можно было застать одного в этот час. Она уверенно шагнула через порог.
На лице Эхнатона отразилась бурная радость, он с широкой улыбкой подбежал к ней и заключил в объятия. Она ответила на его поцелуй и слегка отстранилась, разглядывая его. Он был бледен, под глазами залегли темные тени, но, в общем, выглядел довольно неплохо.
– Рада, что ты поправился, сын мой, – сказала она. – Я опечалилась при мысли, что мое прибытие послужило причиной твоей болезни.
– Я ослабел от возбуждения. – Он улыбнулся в ответ. – Ты здесь, со мной! Это прекрасно. Теперь я чувствую себя в безопасности.
Он выпустил ее из объятий и пригласил садиться, сам вновь опустился в кресло, расправив на полных коленях складки своего пышного одеяния. В дальнем конце комнаты на деревянном насесте, очевидно построенном специально, сидели три мартышки. Под насестом стояла большая золотая чаша, наполненная перезрелыми фруктами. Тейе в ноздри ударил запах обезьяньего помета и подгнивших фруктов. Когда фараон предложил ей вина, она поискала глазами Пареннефера, но сын сам наполнил ее чашу.
– После приступов божественного прикосновения я люблю побыть в одиночестве, – пояснил он в ответ на ее немой вопрос. – Часто бог говорит со мной или являет мне видения, и мне порой не удается все хорошенько расслышать, если Пареннефер или кто-нибудь из прислуги постоянно околачивается рядом. Боль эта ужасна, императрица, но награда за нее велика. О! – Он потер оранжевые ладони. – Видеть семью воссоединившейся и растущей – это блаженство.
– Ты говоришь о малышке Мекетатон и ребенке, которого она носит?
– Конечно. Все мои дети через меня должны получить благословение Атона, только так наш круг может оставаться нерушимым. Но я также говорю и о ребенке дражайшей Нефертити, который скоро должен родиться. Атон всем несет плодовитость.
Его высокий, охрипший от волнения голос был едва слышен, ибо мартышки, завидев незваную гостью, вдруг заверещали и, покинув насест, принялись с громкими криками скакать вокруг нее, нахально выпрашивая угощение. Эхнатон бросил им по финику с тарелки, стоявшей на столе. Тейе держала свою чашу двумя руками.
– Я читала твое учение, – продолжала она. – Оно прекрасно, Эхнатон.
– Я диктовал слова, идущие от бога, – горделиво ответил он, – но музыку для него я написал сам. Когда болезнь стала одолевать меня, во мне открылось много нового. Это священный дар. Вчера, пока я лежал слабый и измученный, глядя, как Мерира воскуряет фимиам в жертвеннике рядом с моим ложем, в дыму я увидел твое лицо, молодое и прекрасное, такое, каким я помню его с детства. Это был очень счастливый знак!
Тейе заметила, что он вспотел. Его лоб под белым шлемом вдруг покрылся бисером испарины, и влага струйками потекла по длинной шее. Он беспрестанно потирал руки.
– Я всегда буду той матерью, которая заботилась о тебе и пыталась облегчить дни твоего заточения, – мягко сказала она. – Поэтому я и пришла к тебе сегодня. Я не допущу, чтобы моего сыночка обижали.
Он нахмурился.
– Этот тон я тоже помню, – сказал он, сразу почувствовав недоброе в ее словах. – Ты собираешься сказать мне что-то такое, чего я не хочу слышать. Зачем ты выгнала Мериру с должности хранителя дверей гарема?
У Тейе возникло знакомое ощущение, будто она пробирается без дороги сквозь высокие заросли тростника.
– Я заменила его на Хайю, потому что Мерира с большим рвением служил царице, чем тебе, божественный, – сказала она, осторожно подбирая слова. – Он не сказал тебе, что Нефертити слишком часто видят в обществе ее скульптора Тутмоса.
Он захлопал глазами.
– Ну да, – быстро сказал он, – это потому, что Нефертити заказала ему много своих изваяний для украшения Ахетатона и воодушевления подданных.
– Надеюсь, ты прав, – ответила Тейе. – Тем не менее, ты знаешь, что это мое право старшей жены – назначать того, кого я сама выберу. Поскольку твой гарем очень велик, я решила доверить этот пост Хайе.
Взгляд темных, беспокойных глаз метнулся по ее лицу.
– Я помню его. Херуф оставил службу у тебя, он решил, что мы нарушили закон, ты и я, но Хайя остался верен. Я пожалую ему гробницу в северных утесах.
– Это щедро с твоей стороны. Могу я рассчитывать на твое великодушие и просить об увольнении Туту? Он здесь справляется со своей работой не лучше, чем в Малкатте.
– Малкатта принадлежит прошлому, к которому я испытываю презрение! – громко прервал он ее. – Матушка, почему ты снова пытаешься превратить меня в маленького мальчика?
В Ахетатоне все хорошо. Я правлю справедливо, я люблю свой народ, я делаю все, что подобает богу. Туту остается!
– Очень хорошо, – поспешно уступила она, потрясенная внезапной переменой, произошедшей в сыне.
Теперь пот лился с него градом. Дрожащими руками он приподнял юбки своего одеяния и обтер лицо, тихо похныкивая, его дыхание сделалось частым и хриплым. Потом он внезапно вскочил и забегал по комнате, беспрестанно то хватая себя за грудь, то нервно переплетая пальцы; полы его одеяния разлетались.
– Все будет хорошо! – взвизгнул он. – Пока я повинуюсь богу и не причиняю зла людям, Египет будет процветать.
Встревоженная, Тейе подошла к нему, окликнув Пареннефера. Мартышки ринулись за ней, и, запнувшись, она пинком отшвырнула их с дороги.
– Эхнатон, – тихо заговорила она, обнимая его влажную, горячую шею. – Прости, что огорчила тебя. Я люблю тебя. Я хочу только помочь тебе.
– Этого хочет и Туту. Он верный сын Атона, а Нефертити – моя скала, земля, на которой прочно стоят мои царственные ноги! Ее дыхание сладостно, как лотос, ее улыбка божественна. Ее прикосновения – сама чистота! Вот, мне опять плохо!
Он стряхнул ее руки и зарыдал. От этого хриплого, скрипучего звука у Тейе по телу побежали мурашки. Двери открылись, Пареннефер быстро заглянул в комнату и снова исчез. Она подвела Эхнатона к столу и заставила выпить вина, поднеся чашу к его накрашенным губам. Весь дрожа, он выпил вино большими глотками.
– Фараон, может быть, все действительно так, как ты думаешь, – настойчиво сказала она, – но факт остается фактом, Нефертити не следует так часто появляться в обществе скульптора. Она царица. Это неприлично.
Вино потекло у него по подбородку. Он прислонился к ней, покачнувшись, и закрыл глаза.
– Как трудно быть богом, – невнятным шепотом произнес он. – Они не любят меня, они все. Я осыпаю их золотом и ласковыми словами, но за их улыбками прячется тьма. Только Нефертити. Только ее…
Он обмяк, и Тейе, не в состоянии удержать его, помогла ему опуститься в кресло. У нее самой ладони сделались влажными, колени дрожали. Дверь отворилась, повернувшись, она увидела Хоремхеба, который угрюмо поклонился ей и обратился к фараону.
– Мой дорогой владыка, – сказал он, опускаясь на колени перед фараоном и несколько раз поцеловав судорожно подергивающиеся пальцы его рук. – Ты помнишь наше путешествие в Мемфис, когда ты впервые покинул гарем? Как мы молились вместе вечерами в твоей прекрасной палатке, а снаружи плескалась река и на болотах пели птицы? Мы пили вино, и ты расспрашивал меня о Мемфисе. Я по-прежнему с тобой, Эхнатон.
Он говорил успокаивающим тоном, потирая при этом схваченные серебром запястья фараона и осторожно массируя зажатые плечи. Личные слуги фараона и Пареннефера наблюдали, не шевелясь.
– Я не ребенок, Хоремхеб, – устало пробормотал Эхнатон. – Пареннефер здесь? Я хочу спать. Прости меня, матушка. Я не могу больше говорить. Может быть, завтра…
Дворецкий помог ему подняться на ноги, и слуга, поддерживая, повел его к ложу.
Тейе схватила Хоремхеба за руку.
– Ты не предупредил меня! – гневно прошептала она, вся дрожа.
– Богиня не поверила бы мне, – тихо ответил он. – Теперь, должно быть, ты поймешь, почему тогда у тебя в саду я говорил так. Возможно, я единственный друг твоего сына. Не могу сказать, бог ли насылает на него эти припадки, или это приступы безумия. Я люблю человека, которого знаю так давно. Но я хочу свергнуть правителя.
В этот момент они оба отбросили условности и заговорили начистоту.
Тейе сильнее впилась ногтями в его руку.
– Ты прекрасно знаешь, что фараона-человека нельзя отделить от фараона-бога! – быстро ответила она. – Не заставляй меня убивать тебя, Хоремхеб! Ты нужен мне!
– Я знаю это, но Египту я нужен тоже. – Он наклонился и поцеловал ее пальцы, вцепившиеся в его руку. – Императрица, делай, что можешь. Я подожду.
Она отпустила его, хладнокровно глядя на следы, оставленные ее ногтями.
– Как давно он уже такой… такой непредсказуемый?
– Такое с ним случается все чаще и чаще. Он никогда никому не причиняет вреда, но мы все научились следить за тем, что говорим, иначе слова могут вызвать то, что ты видела. Я не могу отойти от него далеко. Он мне доверяет, и я умею успокаивать его.
– О боги! – горько рассмеялась она. – Значит, он сказал правду. Вы все не любите его. Придется добиваться бесчестья Нефертити, но никакой фимиам не очистит меня от содеянного. Возьми Сменхару под свое крыло, военачальник. Настало время ему прекратить порхать золотистым мотыльком и научиться мужским искусствам.
Он коротко поклонился и повернулся, чтобы уйти. Тейе стояла неподвижно, слушая, как сопят и почесываются мартышки, снова глядя назад сквозь годы, к источнику ее растущей с каждым днем вины, к тому моменту в саду Мемфиса, когда она согласилась стать женой собственного сына, пока перед ее мысленным взором не встало надменное лицо сына Хапу. Ее чаша было полупуста. Она быстро допила вино и вышла.
19
Употребив всю силу убеждения, Тейе снова попыталась уговорить Нефертити. Она отчаянно старалась избежать необходимости очернить имя царицы, но в ответ слышала все те же избитые обвинения в ревности и злобе, Нефертити твердила их еще в Малкатте. В конце концов, Тейе сдалась. Поговорив с Хайей один на один, она в мельчайших подробностях изложила ему историю, которую следовало распространить в гареме, среди личных слуг фараона и – в более цветистых выражениях – на рынках города. Будь она моложе, она могла бы быстро и ловко втереться между супругами своим телом и чувствовала бы себя намного чище, чем теперь, когда ей пришлось использовать обходные пути. Но поскольку Нефертити лениво попустительствовала гибельной политике фараона, вместо того чтобы пытаться повлиять на него, Хоремхеб, по-прежнему преданный, все сильнее беспокоился за судьбу страны, а Эйе испытывал глубокое разочарование, ни на что другое у Тейе не было времени.
Хайя хорошо выполнил свою работу. Он знал, что слухи питаются ничем более, как вовремя оброненным невзначай словом, легким подъемом брови, затаенной улыбкой. Он имел репутацию немногословного и деловитого человека и был достаточно мудр, чтобы не рисковать ею. Его вкрадчивый голос быстро забылся, когда волна возбужденных домыслов захлестнула сначала дворец, а потом и весь город. Фигурки обезьянок по-прежнему пользовались спросом, но теперь царица представала в новом облике, поскольку репутация неверной супруги приятно возбуждала всеобщий интерес. Все знают, что царица сама просила фараона позволить Тутмосу поселиться у реки, тогда как более достойные мужи довольствовались домами, обнесенными стенами, на задворках дворца. Разве не удалялась она почти ежедневно в Мару-Атон, где позировала скульптору, который лепил с нее одну скульптуру за другой? В то время как сплетня распространялась все шире, царица, казалось, проявляла на людях еще большую любовь к своему супругу, приникая к нему в двойных носилках, лаская его во время пиршеств, но ни от кого не ускользнуло, что с ними вместе теперь всюду появлялась императрица – маленькая, державшаяся очень прямо, надменная женщина, всегда роскошно и официально одетая, всегда со сверкающим диском, рогатой короной с двойным пером, подобающими ее священному сану. Были такие, кто, глядя в бесстрастное лицо с проницательными голубыми глазами, полными губами и глубоко прорезанными складками недовольства, благоговейно кланялись, втайне задумываясь над совпадением: слухи поползли одновременно с приездом императрицы. Но для большинства Тейе была тенью старых времен, напоминанием о том стиле правления, который исчез так внезапно, что они и не заметили. Чем ближе были роды Нефертити, тем больше грядущее событие становилось источником развлечения: все гадали, кто отец ее будущего ребенка, и когда царица наконец возлегла на ложе, лихорадочное напряжение толпы достигло пика. Хайя рассказывал Тейе, что, хотя он сам не видел этого, ему стало известно, что придворные заключали пари, будет ли это еще одна девочка, и, значит, скорее всего, она дочь фараона, или это будет мальчик. Такая возможность не приходила в голову Тейе. Теперь она оказалась в ловушке собственной лжи и инсинуаций. Она не хотела смириться с возможностью того, что Нефертити носит сына. Было необходимо убедить Эхнатона объявить Сменхару своим наследником, ибо она была уверена, что, если Нефертити произведет на свет мальчика, ее собственный сын от Осириса Аменхотепа может лишиться права наследовать трон. Какая была бы насмешка, – мрачно размышляла она бессонными ночами – если бы в конце концов двойную корону получил сын простого скульптора. Но я не верю, что Нефертити зашла дальше романтических мечтаний о своем каменотесе. И можно ли корить ее за это? Тело моего бедного сына становится все менее и менее привлекательным.
Но, опровергая слухи, Нефертити разрешилась от бремени еще одной девочкой, шестой по счету, и те придворные, которые заносились в своих фантазиях слишком далеко, лишились немалой доли золота. Фараон был трогательно счастлив, как и после рождения Мериатон, и назвал ребенка Сотпе-эн-Ра – Избранная Ра. Слухи быстро утихли, но Тейе, пристально наблюдая за фараоном, была уверена, что они сделали свое дело. Она не знала, что произошло между царственной парой в уединении опочивальни Эхнатона, но Нефертити не один раз появлялась на людях с красными, опухшими глазами, тогда как ее супруг стоял отдельно от нее, обнимая хрупкую, уродливо раздувшуюся Мекетатон.
Азиру еще оставался при дворе, тихо проживая в посольских покоях дворца и настороженно следя за мельчайшими сдвигами равновесия власти. Миссия Хеттского царства вернулась в Богаз-Кёй ни с чем: фараон не предпринял ни одной попытки договориться с Суппилулиумасом – царевичем, который сделался теперь таким же могущественным, как сам фараон. Тейе едва не поддалась искушению отправить ему письмо с предостережениями, но решила, что, если она, в конечном счете, не сумеет добиться своего при дворе, такой ход послужит только дальнейшему разрушению давно пошатнувшегося престижа Египта среди азиатов.
Новый год начался с недели хвалебных песнопений Атону. Песни, написанные Эхнатоном, постоянно распевались по всему городу, а царская семья четырежды в день отправляла ритуалы в храме. Фараон постился и молился. Тейе, часами выстаивая в святилище, беззащитная, как и все, перед немилосердным, слепящим жаром солнца, думала о Ра в облике сфинкса, вечно бодрствующего и настороженного бога, чья доброта могла в любое время обернуться кровавой мстительностью. Тебе следует остерегаться, сын мой, – думала она, когда смотрела, как он поднимает лицо к солнцу, закрывая глаза. – Ра – Зримый Диск – действительно бог добра и красоты, но теперь, в такой день, как сегодня, разве можешь ты не замечать, что он может явиться в облике разрушителя? Я знаю, что солнце, как и Хатхор, в своих иных воплощениях способно убивать. Было бы мудро не навлекать на себя его ревность, возвеличивая одну его ипостась как Атона за счет других его воплощений.
В конце первого месяца нового года, месяца тота, Мекетатон уложили на ложе. Ранним душным утром Хайя разбудил Тейе, зажег лампу и принес холодной воды, пока она пыталась проснуться.
– Фараон прислал сообщение императрице, он приглашает тебя на роды, если пожелаешь, – объяснял он, пока Пиха промокала прохладной салфеткой ее лицо и причесывала гребнем волосы. – Они с царицей уже там.
– Далеко до рассвета? – Тейе стояла, пока Пиха надевала на нее тонкий халат, потом села, давая ей надеть на свои ноги сандалии.
– Не больше двух часов.
– Где Тадухеппа? Она с царевной?
– Нет. Фараон не пустит ее туда. Он позволяет присутствовать только особам истинно царской крови и независимым свидетелям родов.
Тейе поджала губы.
– А кто же тогда митаннийская царевна, как не особа истинно царской крови? Прикажи привести ее из гарема, Хайя. Я желаю, чтобы ей позволили присутствовать. Если мой эскорт здесь, я готова идти.
Ее проводили не в гарем, в покои Мекетатон, а через калитку на территорию дворца. Стояла густая и душная тьма. Тейе обрадовалась бы дыханию даже самого горячего ветра, но деревья стояли недвижно, сгустки черноты на фоне чернильно-синего неба, на котором виднелись несколько бледных звезд. Плиты под ногами были теплыми, трава ломкой. Во дворце, куда воздух поступал из ветроловушек, было хоть немного свежее, а высокие потолки создавали иллюзию прохлады. В сопровождении эскорта Тейе дошла до самых покоев фараона. Дверь в опочивальню была приоткрыта, и легкий дым благовоний струился в коридор. Тейе отпустила стражу и вошла.
Мекетатон лежала, обложенная подушками, рядом с ней на ложе Тейе увидела доску для игры в сенет. С одной стороны у ложа сидел Эхнатон, на нем были только гофрированная юбка и белый шарф. Нефертити сидела рядом в кресле, держа в одной руке игральный конус. Тут же, у ночного столика, суетилась повитуха. Тейе поклонилась и подошла ближе. Девочка подняла к ней бледное, испуганное личико и попыталась улыбнуться, но в ее миндалевидных глазах читались смятение и страх. Тейе взяла холодную руку внучки и поцеловала ее.
– Я смотрю, ты приятно проводишь время, – сказала она, быстро взглянув на открытый жертвенник Атона, из которого над ложем струился удушающий дым. – Если ты выиграешь в сенет у матушки, я подарю тебе пару золотых сережек. Как тебе нравится мое предложение?
Окно было плотно занавешено, и в комнате было очень душно. Тейе поискала глазами амулеты, но не увидела их. Было бы лучше, – подумала она, – отвлечь девочку игрой в собаку и шакала. Сенет – магическая игра, зловещая своими предзнаменованиями, магическими формулами и проклятиями. Надеюсь, у Нефертити хватит здравого смысла позволить Мекетатон выиграть. Она поклонилась фараону.
– Сын мой, я желаю поговорить с тобой наедине. Выйдем за дверь.
Эхнатон согласно кивнул, широко улыбнулся дочери и направился в коридор, Тейе последовала за ним.
– Это великий день, – сказал он. – Ты согласна?
– Эхнатон, почему вокруг ложа нет амулетов, нет жрецов, чтобы читали заклинания? И ты полагаешь, это правильно – воскурять перед царевной столько фимиама, когда ей и без того трудно дышать?
– Ты говоришь, что читаешь учение, а сама задаешь такие глупые вопросы! – Он снисходительно погладил ее по голове. – Атон дарит свое благословение просто так, его не нужно приманивать заклинаниями или песнопениями жрецов. Между богом и людьми – только я. Все молитвы воздаются мне, а я передаю их богу. Мекетатон понимает это.
– Тогда хотя бы подними занавеси на окнах.
Он слегка пожал плечами.
– Хорошо.
– И я послала за Тадухеппой. Умоляю тебя, божественный, позволь ей прийти. Царевна любит ее и доверяет ей, ее присутствие подбодрит девочку.
– Но моя малышка Киа так мягкосердечна, – возразил он. – Она станет плакать.
– Я так не думаю, и даже если станет, Мекетатон будет приятно просто увидеть ее. Пожалуйста, Эхнатон.
– Ну, хорошо. Пусть Апи внесет ее в список свидетелей.
Внезапно раздался крик, и Тейе, взглянув в дверь, увидела, как доска для сенета свалилась на пол, а Нефертити схватила взметнувшиеся руки Мекетатон, удерживая их.
– Роды будут долгими и трудными, – сказала она, на мгновение рассердившись на Эхнатона, который безмятежно смотрел, как мечется его дочь. – Сейчас я вернусь к себе, но пришли за мной, если она будет меня звать, и постоянно сообщайте, как идут дела. А вот и Тадухеппа.
Царевна робко поклонилась несколько раз, ее нерешительный взгляд перебегал с фараона на императрицу, пока Эхнатон жестом не пригласил ее войти. Тейе посмотрела, как она прошла в опочивальню, выполнила ритуальный поклон перед царицей и присела у ложа на табурет, принесенный слугой. – Киа! – воскликнула Мекетатон, схватка уже миновала. Тадухеппа взяла ее руку. – Ты останешься со мной? Мне хочется спать. Я закрою глаза, а ты расскажи мне еще о Митанни.
Тадухеппа взглянула на Нефертити – та кивнула. Тейе отвернулась. В коридоре стали появляться заспанные придворные, вокруг них, зевая, сновали слуги. Они тащили свитки, игральные доски, кувшины с вином, косметические ящички – все необходимое, чтобы занять время, которое им предстояло провести в комнате в ожидании исхода царственных родов. Один за другим они опускались на колени, прикладывались губами к босым ступням фараона и исчезали внутри. Тейе коротко поклонилась ему и ушла.
Она вернулась в постель, велела погасить лампы и попыталась уснуть, но сон не шел. Наступил рассвет, гимн Атону прозвучал как-то вымученно и нелепо для утомленного слуха Тейе. В доме началось движение: раздавалось шлепанье босых ног, дребезжание посуды, тихое бормотание слуг, возносивших утренние молитвы. Было еще слишком рано ждать каких-нибудь новостей, поэтому Тейе оделась и вышла в сад. Солнце уже невыносимо пекло непокрытую голову. Она примостилась в тени, поела немного фруктов и велела писцу читать ей «Воскрешение в Абидосе», но не смогла сосредоточиться. Пиха помогла ей войти в воду, Тейе погрузилась в see до подбородка и стояла так в тени балдахина, который стоически держали над ней слуги.
В полдень пришел посыльный с сообщением, что роды продвигаются медленно, царевна в хорошем настроении, а фараон с царицей ушли в храм на полуденную службу. Посыльный заверил ее, что с малышкой осталась царевна Тадухеппа. Тейе безучастно отпустила его. Остаток дня она провела, лежа на подушках под сикоморами, истекавшие потом слуги беспрерывно обмахивали ее, а Пиха время от времени поливала ее водой и подавала свежее платье.
В сумерках, когда она уже собиралась возвращаться в дом, она с удивлением увидела Сменхару и Мериатон, шедших по лужайке в окружении слуг. Тейе пока не удалось как следует пообщаться со старшей дочерью Эхнатона, и теперь, глядя на тринадцатилетнюю девушку, грациозно и плавно приближающуюся к ней, она поразилась, как Мериатон похожа на свою мать. В полутьме ее можно было принять за саму Нефертити. Сероглазая и гибкая, она опустилась на колени поцеловать ноги императрицы.
– Рада видеть тебя, царевна, – обратилась к ней Тейе, приглашающе похлопывая по подушкам рядом с собой.
Сменхара, радостно поцеловав мать в щеку, присел на корточки. Мериатон изящно опустилась на подушки, легкими движениями оправляя платье.
– Надеюсь, ты здорова? Хайя говорит, что в детской участились случаи лихорадки, и у врачевателей много забот. Но конечно, у тебя теперь отдельные покои.
– Я не впускаю к себе никого из детской, – беспечно ответила Мериатон, улыбаясь Сменхаре. – И хорошо, что ты велела отселить царевича Тутанхатона. Много детей умерло. – Она откинула с лица прядь волос. – В детских будто поселились демоны лета. Прорицатель фараона мог бы прогнать их своими песнопениями, ведь он имеет власть над ними и должен постоянно бороться со злыми силами, которые хотят погубить отца и уничтожить культ Атона во всем мире.
– Тогда странно, что Мерира не присутствует при родах твоей сестры.
– Но ведь рождение происходит силами плоти, а не духа, – быстро ответила Мериатон. – Отец обещал, что Мекетатон получит полное покровительство Атона.
Тейе повернулась к сыну.
– Нравится ли тебе заниматься с Хоремхебом? Ты полюбил военное дело?
Он ответил ей озорной открытой улыбкой. С тех пор как они прибыли в Ахетатон, он изменился. После встречи с Мериатон его угрюмость, которая так раздражала мать, улетучилась, и с его лица исчезло капризное выражение избалованного ребенка.
– Мне нравится военачальник, – сказал он, – но я не вижу особой прелести в умении натягивать лук или, ругаясь, размахивать тяжелым скимитаром. Колесницы привлекают меня больше. Однажды я смогу править ею так же умело, как мой божественный брат. – Он взял Мериатон за руку. – Но, матушка, я пришел не для того, чтобы просто поприветствовать тебя. Я знаю, ты беспокоишься о Мекетатон. Все о ней беспокоятся.
Кроме вас двоих, – подумала Тейе. – Вы увлечены только друг другом, и вам нет дела до всех остальных. Сменхара был без шлема, его бритую голову стягивали только сине-белые ленты, из одежды на нем была только белая тонкая юбка, низко сидящая на бедрах. Это мое воображение или обман зрения из-за тусклого света, но мне чудится, будто у него над ремнем выступает живот?
Тейе поспешила прогнать наваждение.
– Ну же, рассказывай, – благосклонно поторопила она.
Дети переглянулись.
– Мы хотим обручиться, – начал сын. – Ты часто говорила мне, что, поскольку у царицы нет сыновей, меня рано или поздно провозгласят Гором-в-гнезде. Кровь Мериатон столь же царственно чистая, как и моя. Значит, не должно быть препятствий для нашего брака. Мне четырнадцать. Через два года я по закону стану мужчиной, и я им уже сделался физически. Мериатон уже достаточно взрослая, чтобы вынашивать детей.
Тейе не ожидала, что эта просьба прозвучит так скоро, хотя знала, что, в конце концов, она услышит ее.
– Ты обращался к фараону?
– Еще нет. Не думаю, что царице понравится эта мысль, потому что она ненавидит тебя и будет пытаться убедить фараона, что мы не подходим друг другу. Поэтому мы просим тебя донести до бога нашу просьбу.
– Но я… – Тейе помедлила. Она собиралась сказать, что убеждена, что фараон иначе видит будущее Мериатон, что долгие годы она верила, что царевна станет женой своего отца, как Ситамон была женой Осириса Аменхотепа. Однако в царскую постель суждено было лечь Мекетатон. Возможно, Эхнатон примет от нее прошение. Она тепло улыбнулась. – Не обещаю, но попытаюсь.
– Благодарю тебя! – В сгущающейся темноте зубки Мериатон блеснули в улыбке. – Теперь я должна пойти помолиться за сестру. Ты идешь, Сменхара? Можно, мы пойдем?
– Идите.
Они вскочили и, взявшись за руки, быстро исчезли в темноте. Тейе почувствовала себя странно успокоенной при виде столь бесхитростной и счастливой любви в таком странном месте.
Она немного поспала. Проснулась, когда из покоев фараона принесли сообщение о том, что там пока без перемен. Первые роды всегда проходят долго, – говорила она себе, лежа с открытыми глазами в удушающей темноте опочивальни. – А для такого незрелого тела, как у Мекетатон, еще дольше. Она снова уснула, а когда открыла глаза, поняла, что рассвет давно наступил и солнце уже два часа как взошло. Никаких новостей по-прежнему не было, и снова она провела беспокойный, тревожный день, заполняя время несущественными мелочами. Но на закате явился вестник, поклонился ей и сказал, что, хотя схватки у Мекетатон следуют одна за другой очень быстро, ребенок продвигается плохо и царевна слабеет. Тейе послала за Хайей.
– Найди статуэтку Таурт, – приказала она. – Она должна быть где-то среди моих вещей. Потом приведи ко мне кого-нибудь из жрецов, который молился бы любому другому богу, кроме Атона. Мне все равно, кому он служит, если он знает молитвы для рожениц.
– Это займет некоторое время, божественная. За ним придется послать в город.
– Ну, так посылай! И поскорее.
Он вернулся лишь на рассвете, принеся маленькую статуэтку раздутой богини в облике самки гиппопотама, и привел испуганного жреца, который расставил чаши с фимиамом и начал свои молитвы, искоса почтительно поглядывая на Тейе, которая стояла рядом, пока он отправлял короткий ритуал. Когда он закончил, Тейе дала ему золота и, поблагодарив, отослала, потом приказала Хайе положить Таурт обратно в сундук. И только после этого она отправилась во дворец.
Перед дверью толпились слуги и младшие управители, они молча расступились, пропуская Тейе, но собравшиеся в комнате не заметили ее появления. Тадухеппа сидела на полу, обхватив безвольные пальчики царевны. Фараон держал на коленях спящую мартышку. Его голова клонилась на грудь. Нефертити выжимала тряпицы и прикладывала их ко лбу Мекетатон, девочка стонала. Воздух в комнате был невыносимым – зловонная смесь перегоревшего фимиама, человеческого пота и страдания. Мекетатон начала корчиться, тихо вскрикивая, и Тейе с ужасом поняла, что царевна так ослабела, что уже не может кричать громко. Она вышла.
Ее вызвали перед самим рассветом, и еще до того, как мрачный вестник завершил ритуальный поклон, она уже поняла, что Мекетатон умерла. Молча закипая от гнева, Тейе направилась во дворец. Весть уже разнеслась среди слуг, и, проходя по коридору, она спиной чувствовала пытливые взгляды. Собравшись с силами, она шагнула через порог.
Тадухеппа уже ушла. Фараон стоял спиной к ложу, сложив руки на груди. Нефертити рыдала, стоя на коленях. Повитуха осторожно подняла какой-то сверток с окровавленных простыней, и Тейе быстро отвела взгляд. Вельможи, которым пришлось все это время провести в опочивальне, уже тихо улизнули, остались только Эйе и Хоремхеб, они сидели на полу в дальнем углу комнаты. Повитуха поклонилась императрице и вышла. Тейе медленно приблизилась к ложу. Никто не закрыл растерянно глядевших глаз, не омыл посеревшего, забрызганного пеной лица. Мекетатон прокусила насквозь нижнюю губку, кровь засохла на подбородке и размазалась по мелким зубам. Она лежала, раскинув тонкие ручки, простыня едва прикрывала трогательно неразвитую грудь, и плечи были мучительно сведены. Тейе протянула руку и тихо закрыла невидящие глаза. Должно быть, в этот момент она громко застонала, потому, что Эхнатон обернулся и посмотрел на нее. По его щекам текли слезы.
– Это был мальчик, – прошептал он, медленно и с трудом выговаривая слова, будто пьяный. Его взгляд переместился на Нефертити, которая теперь громко завывала, воздевая руки. – Ты опечалила и разгневала бога, – с усилием выдавил он, – и он наказал меня. Ты нарушила магию со своим скульптором. Ты ослабила могущество бога. Ты виновна! – На последних словах он перешел на визг, и Тейе скорее почувствовала, чем увидела, как поднялся Хоремхеб. – Моя дочурка. Моя Мекетатон!
Пареннефер торопливо подошел к нему, а Хоремхеб шагнул вперед, бормоча что-то успокаивающее. Вместе они увели фараона.
Собрав всю свою решимость, Тейе подошла к Нефертити.
– Царица, тебе надо отдохнуть, – сказала она, взяв ее застывшие в напряжении руки в свои и с силой опуская их. – Поспи. Это не горе в нем кричит, а безумие. Эйе, отведи царицу в ее покои. – Она повернулась к слугам, жавшимся у двери. – В городе есть Обитель мертвых? Приведите жрецов-сем, но сначала омойте и приведите в порядок царевну.
Тейе пришлось прикрикнуть, чтобы они вышли из оцепенения и поняли, что от них хотят. Когда она уходила, солнце нового дня уже безжалостно, будто раскаленными кулаками, било в стены комнаты.
Женщины гарема уже голосили; проходя через царский сад и минуя калитку в стене, Тейе слышала их бестолковые вопли. В последнее время им часто приходилось оплакивать умерших, когда из детской выносили одно маленькое тельце за другим, но на этот раз плач в гареме стоял такой громкий, что становилось жутко. Тейе поспешила в свои покои, ей хотелось поскорее спрятаться от этого воя, но, даже закрывшись в своей опочивальне, она слышала его. Хотя утро едва началось, она приказала подать вина и оставалась в постели весь день; потом, ближе к вечеру, она призвала к себе Хайю.
– Все попытки заставить фараона уснуть оказались тщетны, – сказал он в ответ на ее вопрос. – Он лежит перед алтарем в храме, под палящим солнцем. Управители опасаются за его здоровье. Весть о смерти царевны разнеслась по городу, и все лавки закрыты. Царица спит. Я взял на себя смелость донести новость до царевича Сменхары. Мериатон была с ним.
– Тело уже унесли?
– Да.
– Мекетатон, – тихо проговорила она, когда он ушел. – Какой грех, какое безумие. Когда же иссякнет терпение богов, и они по-настоящему покарают моего сына?
Как обычно, по царевне и ее мертворожденному сыну был объявлен семидесятидневный траур. На взгляд Тейе, церемония похорон была спокойной и очень скучной. Она сидела в своих носилках под балдахином и наблюдала, как фараон молится своему богу о спасении ка Мекетатон. Она отвлеклась от ритуалов, когда разглядела на лицах придворных напряженно-ошеломленное выражение. Не печаль по царевне вызвала его, а что-то похожее на страх. Многие неосознанно потихоньку перемещались к тому месту, где стояли Сменхара и Мериатон, будто молодой царевич мог дать им защиту, в которой они вдруг ощутили острую нужду. Возможно, то наваждение, во власти которого они пребывали долгое время, теперь начинает рассеиваться, – подумала Тейе. – Атон не оправдал их ожиданий. С этого момента в их вере появится привкус сомнения. Но, очевидно, это сомнение было чуждо фараону. Он плакал и усердно молился, его тонкий голос временами тонул в громких рыданиях Нефертити. Ритуалу недоставало надлежащего достоинства, и к себе Тейе вернулась с облегчением. Оказавшись дома, она дала указания Хайе: – Поставь жертвенник Амона в покоях царевича Сменхары. Поклонение иным богам, кроме Атона, не было запрещено безоговорочно. Сделай это достаточно открыто, не таясь, и постарайся, чтобы жители Фив, особенно Мэйя и его жрецы, узнали об этом. Кроме того, думаю, пришло время Сменхаре начать строительство своей гробницы. Если он пожелает, то сделать проект можно и здесь, но строить ее непременно следует в Долине мертвых в Западных Фивах, и нужно поднять при этом как можно больше шума и возни. Присмотри за этим.
Она хотела немедленно отправиться к Эхнатону, чтобы уладить вопрос с помолвкой Сменхары и Мериатон, но Эйе предупредил ее, что настроение фараона все время меняется. Он закрылся в своих покоях, постится, молится и никого не принимает. Ей пришлось смириться с тем, что с просьбой придется подождать, но неделя проходила за неделей, а скорбь фараона все не убывала.
Через месяц после погребения, когда она как раз собиралась переправиться через реку, чтобы навестить Тии, один из офицеров Эйе попросил позволения переговорить с императрицей. Его сопровождали несколько встревоженных личных стражников фараона, да и сам он выглядел явно взволнованным.
– Божественная императрица, твой брат умоляет тебя тотчас же прийти в покои фараона, – сказал гонец. – В тебе нуждаются. Фараон очень страдает.
Тейе кивнула, с сожалением глядя на лодку, которая маняще покачивалась на сверкающей голубой воде.
– Кормчий и гребцы могут быть свободны. Хайя, тебе лучше немедленно разыскать для меня эскорт из солдат Хоремхеба.
Не прошло и часа, как она была уже у входа в то крыло дворца, где располагались личные покои фараона. Направляясь к приемной сына, она издалека услышала его визгливый истеричный крик. Вестник Эхнатона вежливо преградил ей дорогу.
– Прости меня, божественная, но с оружием к фараону входить нельзя. Пожалуйста, скажи своим солдатам подождать здесь, со мной.
Она не обратила на него внимания и, сделав знак своим телохранителям, прошла мимо него в приемную. Позади нее возникла суматоха, и солдаты стражи фараона со скимитарами двинулись следом, едва не наступая на пятки людям Хоремхеба. Она хотела обернуться, чтобы успокоить людей, но ей помешала Нефертити; бледная, с горящими глазами, она бросилась ей навстречу, яростно тыча в нее пальцем. Она плакала. Сурьма растеклась по скулам и от нечаянного прикосновения руки размазалась на виске.
– Это ее вина! – выкрикнула она дрожащими губами, ее прекрасное лицо исказила гримаса страдания. – Она в ответе за эту гнусную ложь! Ты не сомневался в моей любви, пока она не явилась сюда! Пусть она скажет правду, посмотри, хватит ли у нее храбрости отрицать это!
Тейе быстро оценила ситуацию. Ее сын стоял, раскачиваясь, быстро и шумно дыша, обхватив себя руками за плечи, будто от боли. Хоремхеб, мрачный и на сей раз бессильный помешать чему-либо, держался рядом. Вокруг них в страхе и смятении суетилась свита, пытаясь не привлекать к себе внимания. Эйе наблюдал из дальнего конца комнаты. Нефертити расхаживала по приемной, а ее служанки жались в стороне.
– Как можешь ты говорить о правде? – дрожащим голосом воскликнул Эхнатон. – Ты обманула меня, ты сделала меня посмешищем в глазах моего народа. Я доверял тебе. Я изливал на тебя свою любовь, а ты все это время пренебрегала моей преданностью.
Он силился совладать с голосом, от волнения его слова звучали невнятно. Нефертити придвинулась вплотную к Тейе.
– Скажи ему! – зашипела она ей прямо в лицо. – Если ты любишь его, то как ты можешь спокойно смотреть на его мучения? Ты и Хайя, этот коварный прихвостень, который по каплям вливает твой яд в раскрытые уши. Что ты выиграешь, если уничтожишь моего мужа?
Тейе перевела взгляд с разъяренного лица царицы на Эхнатона, который глядел на нее, напряженно подавшись вперед, открыто моля об утешении. Повернувшись, она встретилась взглядом с Эйе.
– Отойди, царица, – холодно произнесла она. – Царственная кобра на твоем лбу не может грозить диску императрицы. Всему причиной твоя похоть. Будь я на месте фараона, я бы немедленно наказала тебя.
– Я знал! – взвыл Эхнатон. Он упал на колени, закрыв лицо дрожащими руками. – Мекетатон умерла из-за тебя. Атон никогда не одобрял мой выбор, но я был слаб, и я любил тебя и сделал тебя своей царицей. Если бы Ситамон была жива, корона досталась бы ей и Мекетатон бы не умерла. Это кара за мое своеволие!
Нефертити подошла к нему, мертвенно-бледная, ее ярость утихла под ливнем его безжалостных слов.
– Если положить на весы мое сердце против пера Маат, Гор, клянусь, что я любила дочь так же сильно, как и ты, – произнесла она охрипшим голосом. – Я бы никогда не причинила ей вреда. Мекетатон умерла из-за твоей страсти, не из-за моей. Подумай об этом, прежде чем судить меня. Я поддерживала тебя еще в дни твоего заточения и не заслуживаю этого публичного унижения. Да, я вспыльчива и часто веду себя глупо. Но если ты накажешь меня за то, чего я не совершала, то потеряешь своего самого верного союзника.
В комнате сделалось так тихо, что можно было расслышать плеск весел на реке и пение, доносившееся издалека. Лениво кружили мухи, их привычное жужжание казалось здесь странно неуместным. В тишине хриплое дыхание фараона действовало на нервы, он молчал. Его глаза были закрыты, ноздри подрагивали. Давая указания Хайе, я не могла вообразить, что все так обернется, – с ужасом думала Тейе. – Я хотела создать напряжение, добиться охлаждения, некоторой отчужденности между ними, чтобы я могла просунуть в образовавшийся зазор свою направляющую руку, но я не хотела этой огромной пустоты, которая может поглотить нас всех. Что если он прикажет казнить ее?
– Великий фараон, – начала она, но, услышав ее голос, он завизжал:
– Молчать! – Фараон поднялся, в каждом движении его неуклюжего тела таилась угроза. Повернувшись к Нефертити, он прошептал: – Ты потеряла право принадлежать семье бога. Убирайся с моих глаз. Забирай с собой своего любовника. Я не причиню тебе вреда, потому что Атон – великодушный бог. Ты изгнана в северный дворец.
С Нефертити мгновенно слетело все царственное величие. Рухнув на пол, она обхватила его колени и зарыдала.
– Эхнатон, я не причинила тебе зла, я родила тебе прекрасных детей, я разделяла твои видения. Не отвергай меня, заклинаю тебя! Кто будет ухаживать за гобой, когда ты заболеешь? Кто будет стоять рядом с тобой, когда ты встанешь ночью для молитвы? Я сделаю все, что ты попросишь, я посыплю голову землей, я состригу волосы и буду носить траур, я прикажу убить скульптора Тутмоса, только намекни, но не отдавай себя еще раз в лапы стервятников, которые ненавидят тебя.
При первых словах ее бурной тирады Эхнатон заметно смягчился, он слушал ее, беспрерывно сглатывая, но бестактно упомянутое ею имя Тутмоса заставило его напрячься. Его взгляд переместился к окну, и рукой, унизанной кольцами, он нетерпеливо взмахнул страже. Начальник стражи немедленно подошел, поднял царицу – почтительно, но твердо – и повел ее к двери. Оцепенелая, она не сопротивлялась, пока не поравнялась с Тейе. В этот момент она вырвалась и погрозила Тейе сжатым кулаком.
– Ты умрешь за это, – проговорила она так тихо, что Тейе пришлось напрячь слух, чтобы расслышать. – И не важно, каким способом я это сделаю. Я уже обесчещена. Мне больше нечего бояться.
Тейе, взглянув в заплаканное, перекошенное лицо, положила руку на плечо женщины.
– Я не раскаиваюсь, царица, – ответила она тихо, зная, что ее слова могут быть истолкованы по-разному. – Уходи достойно.
Нефертити трясло. Она бросилась на Тейе, но императрица плавно шагнула в сторону, стража фараона проворно встала на ее защиту, и вскоре двери за царицей закрылись. Взглянув на царя, Хоремхеб принялся выпроваживать остальных.
Эхнатон продолжал сонно смотреть в окно, приподняв брови и слегка улыбаясь, но при этом его тело конвульсивно подергивалось, волна судорог пробегала по всем его членам.
Эйе взял сестру за локоть.
– Ты победила, но цена, по-моему, слишком велика, и мне это не нравится, – выдохнул он.
Тейе повернулась к нему.
– Мне очень хочется вернуться в Малкатту, где мне вообще-то и следовало остаться, и позволить вам всем грызть здесь друг друга, – с горечью сказала она.
Она хотела продолжить, но, почувствовав спиной взгляд, обернулась и увидела, что сын смотрит на нее не мигая, неестественно блестящими глазами. Эйе поклонился ей и ушел. Хоремхеб хотел подойти к фараону, но тот неистово замахал на него, и он тоже поклонился и, поджав губы, вышел. Тейе и Эхнатон остались одни.
– Ты хищная птица? – спросил он. – Ты будешь клевать мои внутренности?
Он попытался поднести к губам чашу с вином, но рука его судорожно дернулась, и жидкость расплескалась на пол. Сделав глубокий вдох, Тейе шагнула к нему, помогла поднести чашу ко рту и усадила его в кресло. Почувствовав ее прикосновение, он вдруг обмяк и вцепился в нее, зарывшись лицом в ее колени.
– За несколько недель я потерял и дочь, и жену, – прорыдал он. – Конечно, теперь Атон успокоится! Мне больно, матушка! Обними меня. Поклянись, что всегда будешь со мной!
Тейе обняла его, пытаясь уклониться от его судорожной хватки. Он скоро перестал рыдать, и она смогла высвободиться, потом осторожно уложила его в постель и укрыла. Он натянул покрывало до подбородка и лежал с открытыми глазами. Она спросила, можно ли ей уйти, но он не ответил. Через некоторое время она коротко поклонилась и вышла.
На следующий же день Нефертити гордо переехала в северный дворец, оставив своих слуг паковать вещи. Придворные, падкие на дворцовые интриги, были разочарованы, увидев, что царица уезжает подавленная и бледная, но с высоко поднятой головой. Большинство слуг, однако, полагали, что разлад между царицей и фараоном временное дело. Вина Нефертити не воспринималась ими всерьез. Фараон действовал поспешно, впоследствии он мог пожалеть об этом, и тогда царица тихо вернулась бы в свои покои. Императрица уже слишком стара, чтобы занять место Нефертити, а никакие наложницы не могли дать фараону той близости, которая была у него с прекрасной племянницей императрицы. Двор также ждал изгнания скульптора, и некоторые управители пытались намекнуть фараону, что их преданная служба дает им право заполучить поместье на берегу реки, некогда пожалованное Тутмосу, но Эхнатон странным образом настойчиво винил в вероотступничестве только жену, а не красивого и талантливого юношу. Она была одной из просветленных учением; ей следовало знать границы дозволенного. Тутмосу даже не запретили появляться в северном дворце. Фараон просто отвернулся и от царицы, и от скульптора.
Но те придворные, что ожидали примирения по прошествии определенного времени, не понимали всех тонкостей религиозной философии Эхнатона. Один из членов священной семьи Атона изменил той привязанности, которая скрепляла защитное кольцо вокруг фараона и делала его столь прочным. Теперь же ценность Нефертити как волшебного звена в цепи была, по мнению фараона, поставлена под сомнение.
Прошел месяц азир, потом хояк. Нил разлился и превратил западный берег в спокойное озеро, в котором отражалось по-зимнему бледное небо. Императрицу, надменную и неприступную, каждый день видели в залах для приемов и в храме, она сопровождала сына всюду, куда бы он ни шел, и, хотя царственные супруги улыбались друг другу и разговаривали, они не обнаруживали тех нелепых проявлений физической любви, к которым двор уже так привык. Даже ближайшие слуги фараона не знали, насколько близки мать и сын, а Пареннефер был слишком хорошо вышколенным слугой, чтобы проболтаться о том, что фараон и императрица не разделяют ложе.
С удалением царицы Туту понял, как шатко его собственное положение, и попытался навести в своей палате некое подобие порядка, но проходили недели, и становилось очевидным, что императрица не собирается настаивать на своем. Фараон был непредсказуем, любые попытки воздействовать на него он или упорно не замечал, или отвечал на них пылкими тирадами. Эйе, Тейе и Хоремхеб, наконец, поняли, что отказ фараона от действий за пределами Египта основывался на глубокой убежденности, что бог сам наведет желанный порядок, надо только усердно молиться. И тогда они изменили свою тактику. Ни дня не проходило без упоминания при нем имени Сменхары: какой он религиозный, как предан фараону и как хорошо он подходит царственной семье солнца. Снова и снова упоминалось их кровное родство, но тщательно замалчивался тот факт, что отцом Сменхары был человек, которого Эхнатон ненавидел до сих пор. Фараон слушал, благосклонно улыбался, но ничего не говорил.
Тейе наняла новых осведомителей из числа солдат Хоремхеба, попытавшись внедрить их в северный дворец, но добывать новости там было трудно. Нефертити совершенно замкнулась в себе, и ее обслуга преданно хранила молчание. Движение через ворота в высокой двойной стене, отделявшей северное поместье от остального города, было незначительным, и стражники усердно отмечали каждого проходившего. По реке было легче пробраться туда, но даже в этом случае люди Тейе сильно рисковали, потому что западный фасад дворца возвышался над садами, которые террасами спускались к широкому причалу. Так что, стоя у окна, можно было прекрасно видеть все, что происходит на воде. Осведомители Тейе в доме Хоремхеба преуспели больше. Тайно добытая информация стекалась в ее дом, но, поскольку большая ее часть не представляла никакой важности, Тейе пришлось признать, что Хоремхеб уже раскрыл ее людей, но не стал их трогать. Более пристального внимания заслуживали две попытки покушения на жизнь Тейе. Один из ее дегустаторов скончался в агонии, а управляющий жестоко заболел после того, как тайком попробовал пиво, приготовленное для доставки в опочивальню императрицы. Несмотря на старательные поиски, Тейе не смогла выследить преступников, поэтому, хотя и любила пиво, вынужденно стала пить только вино, требуя, чтобы его распечатывали в ее присутствии.
Она не боялась умереть и все чаще ловила себя на том, что с радостью думает о смерти. Ей все тяжелее было вставать с постели по утрам, держаться прямо во время бесконечных дней официальных мероприятий, находить время просто полежать у воды и ни о чем не думать. Она знала, что стара, что уже давно должна по праву наслаждаться медленным и почтенным скольжением в объятия смерти, которое приличествует богине, императрице и матери фараона. Но вместо этого ей приходилось выносить услужение парикмахера, который регулярно приходил красить ей волосы, служанок, которые с помощью косметики умело скрывали признаки старения на ее лице, портных, которые делали все возможное, чтобы замаскировать потерявшее форму тело. В самом Египте внешняя сторона жизни теперь не имела большого значения, но иноземцы, зная, что Тейе все еще сидит на эбеновом троне, остановятся и дважды подумают, прежде чем ввязываться в новую войну. Они могли не знать или только догадываться, опираясь на какие-либо сомнительные домыслы, что она больше не обладает реальной властью, служит миру напоминанием о более счастливых временах Египта. Я буду держаться, пока не обеспечу будущее Сменхары, – говорила она себе. – Эйе слишком стар, чтобы что-нибудь сделать для него, но Хоремхеб поведет Сменхару обратно в Фивы. Испытывая почти неловкость и смущение, она принялась молиться Хатхор, богине молодости и красоты, со страстью, которой никогда не испытывала прежде при отправлении религиозных обрядов, умоляя богиню сохранить ей силу до тех пор, пока она, Тейе, еще нужна Сменхаре.
20
Сменхара каждый день ждал вызова от матери или от фараона, ждал сообщения, что договор о помолвке между ним и Мериатон одобрен, но время шло, а ни один из вестников не приносил ему слов, которые он хотел услышать больше всего на свете. Иногда он успокаивал себя тем, что потрясение от смерти Мекетатон и последующее изгнание царицы отвлекают Тейе от вопроса о помолвке, но, зная ее, сомневался в этом. Ему хотелось думать, что она просто выжидала, пока не представится подходящий момент для того, чтобы подступиться к фараону, и в своем нетерпении много раз решался отбросить осторожность и пойти к брату самому. Они с Мериатон каждый день только об этом и говорили, встречаясь в ее личных покоях, но Мериатон всякий раз старалась унять его, напоминая о том, что, если они уже прождали так долго, было бы глупо рисковать своим счастьем, предпринимая опрометчивые шаги. Его энергия искала выхода – и Сменхара хотя и без особого желания, но занимался военными искусствами под руководством Хоремхеба, довольствуясь лишь тем, что виделся с царевной так часто, как только возможно.
Но однажды, когда он шел к ней, как обычно, стража Мериатон завернула его от дверей. Изумившись этому, он попытался с ними спорить. Они молча почтительно слушали, но всякий раз, как он пытался протиснуться мимо, ему преграждали путь.
– Вы все обезумели! – наконец крикнул он, уходя. – Я хожу сюда почти ежедневно. Я потребую, чтобы царевна заменила вас!
Через час он отыскал неохраняемый участок стены, укрывавшей ее маленький садик, и через минуту уже подходил к пруду, где она сидела.
– Что случилось с твоей стражей, царевна? – сердито спросил он, потирая колени. – Они отказались впустить меня, и мне пришлось перелезать через стену. Смотри, как я оцарапался. – Он опустился на циновку рядом с ней и наткнулся на диадему, – Это корона царицы! – воскликнул он. – Твоя мать здесь? – Он быстро оглядел сад. – Изгнание отменено?
Она проворно выхватила у него корону.
– Нет, – быстро проговорила она. – Сегодня рано утром мне принес ее отец. Уходи, Сменхара.
Он подвинулся ближе, схватил ее за волосы, вгляделся в лицо.
– Что за скверное настроение у тебя! Я думал, мы пойдем на рыбалку на закате. Клев должен быть хороший, на реке будет свежо. Я заслужил свободный вечерок. Я целый день стрелял из лука с Хоремхебом. Ну же, Мериатон, в чем дело?
Она раздраженно дернула головой, и ему пришлось отпустить ее волосы.
– Ты не можешь больше обращаться ко мне по имени, – холодно произнесла она, хотя губы у нее дрожали. – Для тебя я теперь великая царская супруга. А ты еще всего лишь царевич, Сменхара.
В первый момент он ничего не понял. Потом, выругавшись, резко притянул ее к себе и проговорил прямо в лицо:
– Фараон сделал тебя царицей, так? Не могу поверить. Но ведь моя мать обещала! Скажи же, что изменился только титул!
Ее губы дрогнули.
– Нет. Не только. – Она отодвинулась. – Вчера отец повел меня в Мару-Атон. Мы гуляли там в саду. Он предложил мне корону царицы, и когда я отказалась, из-за тебя, он сказал, что у меня нет выбора. – Она говорила ровным голосом, неотрывно глядя ему в глаза. – Он сказал, что, в отличие от моей матери, я в полной мере царственная дочь солнца, и я более нее достойна носить кобру. Завтра я переезжаю в покои матери. Я повинуюсь воле Диска.
Вместо ответа он неистово впился губами в ее рот, боль предательства и гнев захлестнули его. Она сопротивлялась, пытаясь высвободиться.
– Прекрати! Ты укусил меня до крови! – воскликнула она. Он оттолкнул ее. Она осторожно потрогала губы. – Если ты сделаешь это снова, тебя могут казнить, – пригрозила она. – Я приказала солдатам не подпускать тебя ко мне. И не приходи больше.
– Какая ты спокойная! – презрительно отметил он. – Я и не знал раньше, какое честолюбие скрывалось под этой обворожительной улыбкой. Надеюсь, что сознание своего всемогущества – достойное возмещение за прикосновения дряблой плоти твоего отца. Но возможно, тебе это нравится. Царица Египта! Любым путем стать царицей – хоть женой собственного отца, хоть позже моей, если все пойдет хорошо. В своем простодушии я недооценил тебя, царевна. – В последние слова он вложил все презрение и сарказм.
Мериатон вздрогнула, опустила голову и, когда он поднялся и повернулся уходить, пронзительно вскрикнула:
– Сменхара!
Он недоверчиво обернулся, но, увидев выражение ее лица, упал на колени и широко раскрыл руки. Она упала в его объятия, и они долго стояли, крепко обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону, пока ее слезы не иссякли. Потом они сидели, держась за руки и не глядя друг на друга.
– Египет благословит меня, если я убью его, – прошептал Сменхара, и она сжала его руку, отрицательно мотая головой.
– Он мой отец, и я люблю его, – ответила она. – Тебе лучше уйти. Атон рассказывает ему обо всем. Может быть, бог скажет ему, что мы были здесь с тобой сегодня. Прощай, Сменхара.
Она нащупала корону и надела ее на лоб. Кобра угрожающе сверкнула на него своими хрустальными глазами. Он почтительно поклонился и ушел.
В тот же вечер Хайя, сопровождавший раба, который нес императрице запечатанный кувшин вина, увидел, как царевич выскользнул через задний вход в коридор, по которому рабы доставляли из кухни кушанья в личные покои фараона. Благополучно передав вино своей госпоже, он прошел за ним, подозвав по дороге людей из охраны Тейе, и нашел Сменхару, который стоял в тени, укрывшись от глаз стражи у дверей фараона. Он поклонился.
– Как хорошо, что я нашел тебя, – учтиво обратился он к царевичу. – Матушка желает, чтобы ты дождался в ее покоях.
Сменхара вздохнул:
– Хорошо. Но она, вероятно, еще несколько часов пробудет на празднике. Я подойду позже.
– Прошу прощения, царевич, но она не захочет ждать. Я попросил этих людей проводить тебя к ней.
На лице Сменхары появилось выражение покорного понимания.
– Ты назойливая старуха, Хайя. Вот возьми. – Он снял с пояса маленький скимитар и бросил его управляющему.
Хайя невозмутимо поймал его, и меч исчез в объемных складках его одежды.
– Царевич может скоротать время, обсуждая с солдатами текущее состояние обороны Ахетатона, – сказал он. – Императрица подойдет через некоторое время.
Хайе понадобилось всего лишь несколько осторожных слов, чтобы объяснить ситуацию Тейе, как она тут же покинула зал и устало направилась к себе. Сняв парик и драгоценности, она облачилась в ночную сорочку, велела удалиться Пихе и служанкам и приказала проводить к ней Сменхару. Сын вошел и поклонился, а потом робко стоял, держа руки за спиной. Тейе смиренно взглянула на него.
– Хорошо, что у Хайи такой зоркий глаз, иначе ты был бы уже мертв сейчас, – сказала она с раздражением. – Какое невероятное ребячество! Почему ты никогда не видишь дальше своего носа?
– Ты говорила, что Мериатон будет моей! – выпалил он гневно – Ты просила меня быть терпеливым! Я был терпелив, как никто другой, и что из этого вышло? Я вручил тебе свое будущее, а ты разрушила его.
– Я не говорила, что Мериатон будет твоей, – спокойно напомнила она. – Я сказала, что однажды ты станешь фараоном и тогда сможешь жениться на ней. Подумай, Сменхара! Твой дядюшка, и Хоремхеб, и я каждый день расточаем тебе хвалы перед фараоном. Твое время еще придет. Тогда у тебя будет и царевна, и все, что пожелаешь.
Он сжал кулаки и непокорно уставился на нее.
– Я не хочу ждать! – воскликнул он. – Я не хочу больше выслушивать эту болтовню о терпении! Я потерял ее, и это твоя вина!
Тейе шагнула вперед и, взяв его за плечи, сильно встряхнула.
– Хорошо же, тогда смотри, сможешь ли ты подобраться к фараону достаточно близко, чтобы убить его! – выкрикнула она в ответ. – Ты – капризный, испорченный ребенок, и твой царственный отец отвернулся бы от тебя, если бы услышал тебя сейчас. Я говорю с тобой вовсе не ради того, чтобы слушать собственный голос. Меня тошнит от тебя. Египет достоин лучшего выбора, чем угрюмый избалованный мальчишка, который ждет не дождется, чтобы ему бросили конфетку. Иди, проверь, сколько времени потребуется страже фараона, чтобы вспороть тебе живот. Так тебе и надо!
Он стряхнул с плеч ее руки.
– Я ненавижу тебя, потому что ты всегда права! – выкрикнул он в ответ. – Ты права, и ты бессердечна. Неужели моя боль ничего не значит для тебя?
– Конечно, значит. – Она отвернулась от него в изнеможении и повалилась на ложе. – Но ты не станешь мужчиной, пока не научишься скрывать любую боль, справляться с любым разочарованием и продолжать идти избранным путем. Боги не доверяют рабам.
– Тебе следовало бы стать жрецом – Он скривил губы. – Можно я пойду?
– Ступай, дурачок.
Она не стала ждать, пока за ним закроются двери, а со вздохом выпрямила на ложе свое ноющее тело и почувствовала, как мышцы медленно расслабляются. Для нее решение фараона тоже было ударом. Весть о внезапном решении Эхнатона взять в жены свою дочь была горьким потрясением, но она, в отличие от Сменхары, понимала, что, в конце концов, это ничего не значит. Гораздо важнее было, кто будет наследником, и Тейе знала, что должна направить слабеющие силы на это, и ни на что другое.
Мериатон быстро привыкла к диадеме царицы и к новым обязательствам и привилегиям, которые сопутствовали царскому венцу. Более зрелая, чем юноша, которого она любила, она глубоко спрятала свои чувства, пытаясь обрести удовольствие в управлении. Теперь уже это были отец и дочь, которые целовались и ласкали друг друга, тесно прижимаясь, перешептывались, стоя в колеснице или сидя под балдахином в носилках. Мериатон стояла рядом с ним у окна явления – более хрупкая, более юная копия Нефертити, – улыбалась и махала толпе горожан, пока Эхнатон делал заявления, выражал любовь к своему народу и осыпал золотом милости тех управителей, которым довелось незадолго до того восхвалять его. Обладание Мериатон, казалось, принесло ему зыбкое успокоение. Его здоровье улучшилось, и в храме он публично возблагодарил Атона за возвращение жизненной силы.
С Мериатон не произошло таких заметных изменений. Внешне она оставалась красивой, жизнерадостной девушкой, заботливой со своим отцом-супругом, надменной с прислугой и любезной с придворными, и только доверенные слуги знали, что она разговаривает во сне и часто просыпается в слезах. Осведомители донесли Тейе, что свергнутая царица в северном дворце истерично хохотала, узнав, что ее место заняла ее собственная дочь, и радовалась, что не все вышло так, как хотела императрица. Тейе никому не сказала об этом весьма ценном сообщении. Она рассматривала ситуацию как временную. Как и многие другие, она полагала, что Эхнатон со временем может смягчиться и освободить царицу, определив для Мериатон место в гареме, которое прежде занимала ее сестра Мекетатон.
Но однажды, когда она направлялась вместе с Бекетатон к своей ротонде в храме, она услышала глухие тяжелые удары молота по камню. Носильщики замедлили ход, и она нетерпеливо подняла занавеси, готовая прикрикнуть, чтобы они поторапливались, но увидела, что они вместе с солдатами эскорта оказались затерты в густой толпе. Белая каменная пыль облаком вздымалась над ними так, что было трудно дышать. Бекетатон, чихнув, изящно прикрыла ротик, но Тейе, снедаемая любопытством, не беспокоилась об удобствах.
– Растолкай этот сброд, хочу видеть, что там происходит, – повелела она начальнику стражи и, опустив занавеси, стала ждать, слушая, как солдаты с криками рассыпают удары.
Вскоре дорога опустела. Пыль висела в воздухе, как белый туман, и сквозь нее было видно каменотесов, не замечающих ее присутствия. Их огромные кувалды поднимались и опускались, нагие спины побелели от пыли, прилипшей к вспотевшей коже. Кроме них еще несколько человек выполняли более тонкую работу резцами и молотками меньшего размера, они иногда прерывались и начинали кашлять. Взмахом руки Тейе удержала вестника, собиравшегося было скомандовать всем припасть лицом к земле.
– Пойди и спроси надсмотрщика, что они делают, – велела она.
Она смотрела, как ее безупречно одетый слуга осторожно пробирался между обломками, прижимая к лицу край юбки. Надсмотрщик низко поклонился несколько раз, мужчины обменялись словами, и вестник, осторожно ступая, пробрался обратно и опустился перед ней на колени.
– Сегодня утром фараон издал указ, – объяснил он, – уничтожить все изображения царицы Нефертити в Ахетатоне и стереть ее имя со всех надписей. Когда это будет выполнено, на их месте будут высечены имя и титулы царицы Мериатон.
Тейе уставилась на него.
– Хорошо. Поехали дальше. – Когда подняли носилки, она откинулась на подушки и даже не заметила, что носильщики двинулись с места.
Бекетатон надула губки.
– Счастливая Мериатон, – сказала она. – Как ты думаешь, фараон когда-нибудь может взять меня в жены и отдать приказ нарисовать мое лицо по всему Ахетатону?
– Не говори глупостей! – прикрикнула на нее Тейе, не особенно слушая. Это не только знак великой милости к дочери, – быстро пронеслось у нее в голове, – это окончательное унижение для Нефертити, попытка не только выразить жестокое недовольство ею, но и, в сущности, отнять у нее жизнь. Имя имеет магический смысл! Если имя живет после смерти, боги даруют его носителю загробную жизнь. Фараон должен понимать, что он не сможет стереть все надписи с ее именем, – думала Тейе. – Оно было высечено в камне столько раз и в стольких местах. Это поступок или огорченного ребенка, или малодушного и опасного мужа.
– Не хочу сегодня молиться, – захныкала Бекетатон. – У Анхесенпаатон новая кошка и целый ящик игрушечных крокодильчиков, они щелкают зубами, когда тащишь их по земле.
– Как интересно, – рассеянно пробормотала Тейе.
Она ужаснулась при мысли: что если за неприступной стеной, отделяющей северный дворец от города, Нефертити уже мертва? Грохот молотов все еще звучал у нее в ушах, и Тейе вдруг поверила, что во имя своего бога ее сын был способен на все.
Она с трудом дотерпела до того момента, когда удалось вызвать брата и Хоремхеба. Уже глубокой ночью они выполнили перед ней ритуальный поклон. Она высказала им свои опасения.
Хоремхеб немедленно решительно покачал головой:
– Нет. Царица жива.
– То есть ты поддерживаешь с ней связь, может быть, даже встречался с ней лично, – резко сказала Тейе. – Ты только что допустил тактическую ошибку, Хоремхеб.
– А твои осведомители плохо работают, императрица, – парировал он. – Она тайно вызывала меня.
– С какой целью? Должно быть, ты хотел рассказать мне, иначе вовсе не стал бы упоминать об этом.
– Она хотела убедиться в моей преданности. Спрашивала мое мнение о возможности успешного дворцового переворота.
Удивленная и рассерженная, Тейе посмотрела на лицо брата – бледное расплывчатое пятно в неярком дальнем свете факелов.
– Ты знал об этом?
– Нет, Тейе, – спокойно ответил он. – Но я ожидал этого.
– Я тоже. Чего она хочет, Хоремхеб? Двойную корону для Сменхары? Или для маленького Тутанхатона, хоть это и маловероятно? Верховной власти для себя или, может быть, даже для тебя? Глупость и недальновидность этой женщины безграничны!
Хоремхеб безрадостно рассмеялся:
– Власти для своей царственной особы с моей помощью. Она терпеть не может твоих сыновей от Осириса Аменхотепа, царица, и, вероятно, рада была бы избавиться от обоих. Она готова сочетаться браком со мной или с Тутанхатоном.
Мысль была такой нелепой, что Тейе не удержалась от смеха.
– Ты разубедил ее?
– Я сделал все, что мог, используя доводы, которые мы с вами обсуждали много недель назад. Думаю, она начинает видеть результаты пагубной политики своего мужа, но она никогда не будет действовать заодно с тобой или со своим отцом. У нее было много времени для размышлений. Она злая женщина.
– Но она сама виновата. Дворцовый переворот, конечно же! Время перемен не наступит, пока фараон жив. В этом я убедилась. Любое новое правление, связанное с возвращением Египту его былой силы, будет нуждаться в доверии и поддержке жрецов Амона.
– Я понимаю. – Голос Хоремхеба звучал ровно. – Я немало думал обо всем этом и пришел к такому же заключению.
Они еще немного поговорили, и мужчины ушли. Тейе осталась сидеть в благоухающей темноте. Я сердита, потому что мне самой следовало замыслить и осуществить переворот, – думала она. – У Нефертити не хватит смелости привести его к успешному завершению. Именно эта ее нерешительность удерживает Хоремхеба от того, чтобы заключить с ней союз. Но я не могу причинить вред своему сыну. Слишком много воспоминаний связано с ним.
Последующие недели были для Тейе безрадостными. Смирившись с осознанием того, что ее влияние на все важные сферы управления сводится к советам, к которым не прислушивались, она с грустью размышляла о своих былых ошибках и теперешнем бессилии. Она знала, что не в ее натуре мириться с поражением, но, просыпаясь каждое утро и снова и снова изобретая, чем заполнить часы томительного ожидания, уже была близка к отчаянию. Иногда она навещала Тии, но вечно погруженная в себя жена брата совсем не интересовалась тем, что происходит за пределами ее мирка. Тейе диктовала письма своей старой подруге Тиа-ха, от которой регулярно приходили свитки, полные забавных описаний жизни в ее сонном поместье в Дельте. Императрица пыталась заставить себя не думать о судьбах Египта, для которого она ничего не могла сделать, но ее беспокойство не ослабевало.
Одним из событий, только усиливших унылое настроение Тейе, был отъезд Азиру из Ахетатона. На прощание фараон устроил ему великолепный праздник, на котором танцоры, певцы, акробаты и дрессированные животные час за часом развлекали гостей, пока одно за другим выносили сочные дымящиеся блюда и лучшие выдержанные вина. Эхнатон усадил Азиру рядом с собой на помосте по левую руку, что было исключительной честью. Мериатон, ослепительная в желтом одеянии, вся в золотых украшениях, сидела справа от него, а Тейе пересадили на место позади фараона, где она с растущим беспокойством слушала разговор иноземца со своим сыном. Азиру не следовало жаловать привилегию сидеть на помосте, – думала Тейе, – его нужно было посадить на полу в зале, с другими послами, оттуда фараон выглядит надменным и могучим в своих драгоценностях и царственном сиянии двойной короны. Его нужно было удостоить надменной аудиенции, во время которой фараон мог бы потребовать возобновления соглашения между ними и намекнуть на возмездие, если Азиру позволит себе и дальше разжигать войны. Но большую часть вечера Эхнатон только ублажал свою новую царицу, с удовольствием описывал проекты строительства, истолковывал желание Атона, чтобы все люди могли жить во всеобщем мире. Тейе молилась, чтобы эту тему не поднимали, но Мериатон сама подхватила ее.
– Надеюсь, тебе понравилось мирное пребывание в Египте, – любезно сказала она. – Должно быть, теперь трудно будет возвращаться в ту часть империи, где все охвачено голодом и войной.
Азиру посмотрел на нее ничего не выражающим взглядом.
– Мирная жизнь Египта действительно благословенна, – ответил он. – Обитатель этой благодатной земли, живущий в полном довольстве, может никогда не столкнуться со всеуничтожающей яростью огня и скимитара.
Как он бесстыден и дерзок, – подумала Тейе. – Он чувствует себя в абсолютной безопасности, напоминая фараону о состоянии империи.
– Но у Египта лучшая в мире армия, – льстиво продолжал Азиру. – Чего ему бояться?
– Я мечтаю о том дне, когда армия будет распущена, – с жаром вмешался Эхнатон, – и на земле будет править мир Атона во главе с его началом – Египтом. Бог, дающий жизнь всему, не имеет ничего общего со смертью. Послушай, Азиру, слова, которые он внушил мне: «До самого захода Твоего все глаза обращены к красоте Твоей. Останавливаются все работы, когда заходишь Ты на западе. Когда же восходишь, то даруешь процветание для царя. Все спешат с тех пор, как Ты основал земную твердь. Ты пробуждаешь всех ради сына Твоего, исшедшего из плоти Твоей…»
Мериатон с улыбкой смотрела на мужа, Тейе слушала, не шевелясь, неотрывно глядя на резкий профиль Азиру. Он вежливо, даже сердечно кивал, но Тейе могла легко представить, какие презрительные мысли кружились в его черноволосой голове. Стыд горячей волной окатил ее.
– Эти слова исполнены очарования, – изрек Азиру, когда Эхнатон закончил и выжидательно посмотрел на него. – У тебя истинный дар поэта, божественный дар. Слышали ли эти слова твои солдаты или только придворные?
Тейе застонала, заметив, что Эхнатон кивнул.
– Конечно. Всему Египту доступны откровения, которые мне ниспосылает Атон. Не хочешь ли ты взять с собой в Амурру жреца Атона, чтобы он просветил твой народ?
Тейе решительно отказалась присутствовать при завершении разговора. Чуть позже, извинившись, она отправилась отдыхать. Она не приняла Азиру перед отъездом, и ее не было среди тех, кто вышел на ступени причала пожелать ему доброго пути. Что бы она ни сказала ему теперь, это не будет иметь значения, потому что решение он уже принял. Он наблюдал ее прибытие в Ахетатон, видел бесчестье Нефертити, поразмыслил над восхождением звезды Мериатон вместо звезды сына Тейе и сделал свои выводы. Фараон одарил его на прощание множеством дорогих подарков, это сопровождалось слезами и братскими объятиями. Я бы проткнула копьем его черное сердце и послала его изувеченное тело Суппилулиумасу, – думала Тейе. – Времена, когда Египет мог вернуть его в ряды своих союзников, давно миновали.
Тейе и Мериатон почти не виделись с тех пор, как девушка сделалась женой фараона, они встречались только в храме или иногда во время праздников, поэтому Тейе была удивлена, когда в середине месяца фаменос вестник царицы объявил ей о приглашении, которое, по сути, являлось царским приказом. Взяв с собой Хайю, Тейе отправилась в покои царицы. Она не была там после стычки с Нефертити, и память об этой исполненной желчи встрече ожила, снова наполнив ее разочарованием. Мериатон ответила на ее учтивый поклон улыбкой и, подойдя ближе, поцеловала бабушку в щеку. Она выглядела свежей и прелестной в белом платье, бирюзовых сережках и ожерелье. На ее прямых черных волосах покоилась царская диадема, с которой свисала тонкого плетения золотая сетка, усыпанная мелкими бусинами из бирюзы. Тейе подумала, что Мериатон будет еще красивее, чем ее мать, потому что ее безупречное личико сияло кротостью и добротой, недоступными Нефертити. Оглядев комнату, императрица пришла в недоумение, увидев рядом с троном Мериатон простой письменный стол, где аккуратными рядами были разложены свитки, и нескольких писцов, которые занимались переписыванием или сидели, подняв наготове перья, в ожидании повелений царицы. Царица указала на кресло, и Тейе села.
– Как поживает царевич Сменхара? – прозвучал первый вопрос Мериатон.
Тейе подметила горячий интерес, который девушка пыталась скрыть.
– С ним все хорошо, он продолжает свои занятия, – ответила она. – Учеба дается ему по-прежнему нелегко, не думаю, что он когда-нибудь достигнет настоящего мастерства в обращении с оружием, но ему нравятся лошади, и он каждое утро катается в пустыне за городом на своей колеснице.
– Я знаю, – сказала Мериатон, залившись румянцем. – Благодарю тебя, императрица, за то, что ты не сочла мой вопрос назойливым. Все знают о моих чувствах к нему. Но хотя придворным известно о моей преданности отцу, теперь, когда я стала царицей, многие считают мою любовь к Сменхаре недостойной.
– У тебя отважное сердце.
– У меня нет выбора, – печально возразила Мериатон. – Но я вызвала тебя не для того, чтобы скоротать время. Ты была больна?
Тейе улыбнулась.
– Не больна, просто возраст дает о себе знать. Вдруг заболело все. Но неделя в постели, ежедневный массаж и легкое воздержание восстановили мои силы.
Это было не совсем правдой. Она уже забыла, как это – просыпаться по утрам бодрой и полной сил, но хуже было осознание того, что эти дни уже никогда не вернутся.
– Помолись Диску! – участливо предложила Мериатон. Она кивнула своему главному писцу, тот поднялся с пола и подал свиток. – Как тебе известно, моя мать несла некоторую ответственность за ведение переписки с иноземцами. Она выслушивала послания и составляла ответы, а если вопрос был серьезный, то советовалась с Туту и представляла послание на суд супруга. Но Эхнатон не проявляет интереса к свиткам, которые мешками доставляются в палату Туту каждый день, поэтому я пытаюсь разобраться в них сама, чтобы лучше послужить своему фараону. Мне нужна твоя помощь, бабушка.
Тейе в удивлении широко раскрыла глаза, ее окатила волна возбуждения. Оружие, способное победить упрямое, своевольное невежество фараона в государственных делах, нашлось там, где его не искали.
– Мериатон, ты знаешь, что фараон не внемлет доводам, исполненным здравого смысла, если это касается дел империи. Твоя мать не хотела рисковать, опасаясь вызвать его неудовольствие, и просто говорила ему то, что он хотел слышать, или же отказывалась выслушивать послания. Ты готова к тому, что придется постоянно беспокоить и злить его?
– Я не думала об этом. Я просто пришла в замешательство от количества свитков, врученных мне Туту, и не знаю, что с ними делать. Но, конечно, истина важнее всего.
Тейе вдруг поняла, что она видит перед собой лучший и чистейший результат учения своего сына. Мериатон не знала иного бога, кроме Атона, ее помыслы и поступки подвергались постоянному влиянию откровений отца, однако же, были свободны от его собственных терзаний и сомнений, которые были уделом всех тех, кто вырос под властью Амона и множества других богов Египта. Она была новорожденным символом, обещанием того, что могло быть. Что могло бы быть, – поправила себя Тейе. – Ореол неудачи сопутствовал моему бедному сыну еще до того, как этот город волшебным образом вырос среди пустыни.
– Да, конечно, – согласилась она задумчиво. – Я сделаю все, что смогу. Что там у тебя?
Мериатон подала ей свиток. Это была копия таблички, полученной от Азиру, уже переведенная с аккадского. Тейе быстро прочла его. Цветистые неискренние слова лести, самоуничижительные обороты, рассчитанные на то, чтобы смягчить императора, были отброшены. «Стремясь защитить свой народ, я сегодня пришел к решению заключить соглашение с царевичем Суппилулиумасом, – писал Азиру. – Рука Египта больше не простирается над всем миром в своем могуществе. Речи его царя пусты, как ветер в камышах, а его обещания невесомее самых несерьезных слов любви». С возгласом отвращения Тейе бросила свиток на стол.
– Это не все, – сказала Мериатон, подавая ей следующий. – Этот прислали сегодня из Ретенну.
Свиток был коротким – простое изложение неприкрашенных фактов. Азиру, несомненно, с полного согласия и одобрения своего нового союзника, напал на Амки, вассала Египта.
– Если я отправлюсь с этими свитками к фараону, ты пойдешь со мной, чтобы поддержать меня? – спросила Тейе.
Мериатон кивнула.
– Он не захочет огорчать меня, – сказала она, опустив голову. – Я ношу ребенка.
Она с трудом подбирала слова, и Тейе с приливом жалости увидела, как тень воспоминания о Мекетатон пробежала по тонким чертам девушки.
– Это хорошая новость для Египта, – сказала она. Сделав знак Хайе, чтобы тот помог ей подняться с кресла, она подошла ближе. – Тебе нечего опасаться, – тихо добавила она. – Тебе уже тринадцать. Твое тело сильнее и более развито, чем тело твоей сестры. Ты будешь жить.
– Но я не хочу этого ребенка, – с нажимом ответила Мериатон, отвернувшись. – Он не от Сменхары.
Тейе не могла убеждать ее запастись терпением, как она убеждала Сменхару. Она не могла сказать ей, что, возможно, Эхнатона ожидает ранняя смерть и однажды царица сможет удовлетворить желание своего сердца. Почтительно взяв Мериатон за руку, она поцеловала ее в оранжевые губы.
– Я – твой друг и твоя бабушка, – мягко сказала она. – Помни об этом, богиня.
Тейе хотела поскорее сообщить новости, пока память о пребывании Азиру еще свежа. Поскольку Эйе был постоянно при нем, на следующее утро она вызвала Хоремхеба, и вместе с Мериатон они явились к Эхнатону. Оба свитка нес главный писец Мериатон. Фараон радостно приветствовал их всех. Он только что вернулся из храма, и его кожа и одежда были пропитаны запахом ладана и цветов. Пророк Мерира очищал комнату, как он делал каждый день, разбрызгивая вино и молоко на пол и на стены, и его тихие песнопения вплывали в речь Эхнатона.
– Какая счастливая случайность! – воскликнул он. – Все мои дорогие люди вместе почтили меня своим вниманием. Мериатон, прелесть моя, иди же поцелуй меня. Ты хорошо отдохнула?
Он потянулся к ней, заключил ее в объятия и беззастенчиво крепко поцеловал в губы. Обняв ее одной рукой, он удостоил легким сердечным поцелуем Тейе и ждал, пока Хоремхеб совершит ритуальный поклон. Эйе стоял рядом, с опахалом на плече.
– Чем я могу вас наградить сегодня? – продолжал шутливо вопрошать Эхнатон. – Небольшая прогулка по реке? Чтобы укрепить нашу дружбу?
Тейе почувствовала, как за благодушием в нем нарастает беспокойство. Подведенные сурьмой глаза метались от одного к другому. Императрица молчала. Если и был малейший шанс, что фараон выслушает их, начать говорить должна была Мериатон. Она незаметно кивнула девушке, которая мягко высвободилась и, взяв свитки, благоговейно вручила их Эхнатону.
– Я умоляю тебя, муж мой и бог, прочти это, – сказала она. – И знай, что мы, твоя семья, праведно возмущены их содержанием. Помни, когда будешь читать, что я – твоя покорная дочь и верная жена, я не сделаю ничего, чтобы навредить тебе или опозорить тебя или Диск, твоего могущественного отца.
Он нахмурился, глядя на нее, потом развернул папирус, озадаченно выпятил нижнюю губу и, отступив к трону, сел. Эйе незаметно подал знак, и тут же для Тейе подвинули кресло, в которое она с благодарностью опустилась. В комнате наступила тишина, слышалось лишь монотонное бормотание Мериры. Эхнатон прочел свитки, велел жрецу замолчать, потом прочел их снова. Закончив, он уронил их на пол. Он уже тяжело дышал. Его взгляд скользнул по застывшим в ожидании лицам, вдруг он закрыл один глаз и поморщился, но судорога прошла.
– Как может Азиру так поступать? – жалобно спросил он. – Разве он ничему не научился за месяцы пребывания здесь? Когда он уезжал, я обнимал его, как брата, я проливал слезы любви в его объятиях! И не успели рабы прибраться в доме, который я предоставил ему, как он уже обратился к хеттам. – Он закрыл рот рукой, и его вытянутые черты исказились от боли.
Мериатон подошла к нему и мягко отняла его пальцы от лица, целуя их.
– Отец, несмотря на твою великую веру, мир не понимает тебя, – произнесла она. – Возможно, никогда не поймет. Азиру не способен видеть воплощение Диска. Он видит только правителя, который был прежде могучим защитником, а теперь возлюбил мир, тогда как только война с хеттами спасет Амурру от разграбления. Ты не должен винить его.
– Как может он стоять в храме и не слышать голоса Атона, вещающего моими устами? Это наказание мне. Снова я согрешил против бога, но не знаю, в чем!
В его последних словах звучало сознание вины. Эхнатон выпрямился на троне, потом склонился, уперев локти в рыхлые колени и спрятав лицо в накрашенные ладони.
Мериатон неуверенно взглянула на Тейе.
– Если позволишь, божественный, я могу сказать тебе, в чем, – произнесла Тейе. – Ты воздерживался от действий, потому что не желал причинить зло никому из живых существ под властью Атона, но, поступая так, ты подвергал опасности обитель самого бога. Стая голодных львов тайно бродит вокруг Египта, и скоро они перепрыгнут границы и придут сюда, в Ахетатон. Если Египет падет, свет Диска померкнет. Сейчас не время для мира. Твой бог сейчас нуждается в защите!
– Нет! – Эхнатон выпрямился и высвободил руку из рук дочери. Пальцы потянулись к пекторали, висевшей на его груди, и он принялся дергать и крутить золотые нити. – Дело в Нефертити. Я бессердечно прогнал ее, я поспешил. Я должен вернуть ее, восстановить ее, я ошибся…
– Божественный, ты не ошибся. – Хоремхеб выступил вперед. – Послушай свою императрицу, богиню, которая всю твою жизнь делилась с тобой своей мудростью. Азиру вторгся на землю Амки, без сомнения, с людьми и оружием, предоставленными ему Суппилулиумасом, этим безжалостным врагом всей истинной религии. Между Амки и самим Египтом лежит только Ретенну. Ради бога, который почтил Египет своим первым откровением, который снизошел сам, чтобы воссесть своим воплощением на троне Гора, не позволь иноземцам осквернить эту землю!
– Египет еще силен, – раздался низкий, хорошо поставленный голос Эйе. – Наши солдаты разжирели и обленились, но через несколько месяцев они будут готовы выступить в поход. Есть еще офицеры, способные повести их за собой. Не шли Азиру никаких сообщений, Гор! Нанеси удар немедленно и неожиданно. Дай этим зверям ощутить вкус настоящей войны.
Мериатон склонила голову ему на плечо.
– Послушай их, муж мой! Они говорят истину.
Он обнял ее и уткнулся в ее шею.
– Я так устал. – Голос звучал приглушенно, но в нем слышалось неприкрытое страдание. – Ночью мои сны полны ужаса. Смерть идет ко мне, демоны отмщения, ужасной тьмы Дуата. Лицо Нефертити склоняется надо мной, и я тянусь к ней, и просыпаюсь, дрожа от страха. Днем я вижу согбенные спины своих подданных. Их лица скрыты, но я знаю, что если застать их врасплох, прежде чем они поднимутся, то я увижу, что окружен существами без сердец и без лиц. Если я подведу бога, я долго не проживу.
– Так не подводи его. – Тейе старалась, чтобы ее голос оставался спокойным, глядя, как Мериатон по-детски старается утешить отца. – Проснись, Эхнатон. Возьми свой скимитар.
– Я не знаю как!
– Хоремхеб сделает это за тебя. Прикажи ему!
Он скорчился.
– Я не могу!
– Дорогой племянник, ты должен, – с нажимом сказал Эйе. – Пожалуйста.
– Уходите все. Я подумаю об этом. Убирайтесь! Мериатон, приведи врачевателя!
Хоремхеб пожал плечами. Тейе глубоко, протяжно вздохнула и с трудом поднялась. Теперь, когда его любовь принадлежит Мериатон, они будут неустанно повторять попытки и, в конце концов, победят. Если боги будут милостивы и дадут им достаточно времени.
21
В первый месяц нового года, четырнадцатого года правления Эхнатона, Мериатон родила девочку. Фараон назвал ее Мериатон-Ташерит – Мериатон-младшая, и отметил благополучие матери и дочери торжественными церемониями во дворце и храме. Мериатон вскоре поднялась с постели и снова появилась рядом с фараоном, но теперь она будто утратила часть своей живости. Она была бледна и задумчива, подвержена внезапным приступам раздражительности, которые заканчивались слезами, она не проявляла интереса к дочери. Девочка была здоровая, пухленькая, похожая на нее, но Мериатон, назначив нянек присматривать за ней, спокойно отвернулась от младенца. Она снова делила ложе с фараоном, и Тейе, пристально наблюдая, как во время вечерней трапезы Эхнатон покрывает ее чело поцелуями и заталкивает фрукты в печально искривленный ротик, задумалась: что если Мериатон почему-то вообразила, что рождение ребенка знаменует конец ее супружеских обязанностей?
Вскоре после родов в палату внешних сношений пришло сообщение о том, что Суппилулиумас подписал дружественное соглашение с Шаттивасой, наследником Тушратты в Митанни, и теперь затаился, без сомнения, удовлетворенный еще одним завоеванием. Он мог себе позволить ждать и тщательно планировать дальнейшие действия. А Тейе чувствовала, что Эхнатон слабеет. Он отгораживался от нее участившимися изнурительными приступами головной боли и тошноты. Они с Мериатон, Хоремхебом и Эйе все-таки вырвали у него позволение привести армию в полную боевую готовность, хоть он бранил их, обвинял в предательстве. Пограничные отряды по-прежнему осуществляли постоянное патрулирование, но подразделения регулярных войск давно сократились в численности и потеряли боеспособность. Хоремхеб объявил воинский призыв, строительство новых казарм, принялся приводить в порядок оружие и колесницы, и скоро его командиры уже смогли начать муштровать новобранцев. Тейе с удовлетворением понимала, что весть о том, что Египет зашевелился, очень скоро достигнет ушей Суппилулиумаса. Как эхо давно отзвучавшего голоса, ей стали приходить письма из Фив с просьбами лично подтвердить слух о реорганизации армии. Тейе выслушивала послания с чувством, которое было сродни страху. Малкатта казалась ей не только далекой, но и уже погребенной в прошлом. Я тоже была покорена необыкновенным очарованием, пронизывающим Ахетатон, – осознавала она. – Как давно я в последний раз беспокоилась о благополучии других городов? Время, кажется, остановилось здесь, но что происходит в Ахмине, Джарухе, Мемфисе? Чары, которые заканчиваются за чертой, там, где трава уступает место враждебной пустыне, сделали меня пленницей, слепой и глухой к нуждам внешнего мира. Я намеревалась заняться казной, но так и не сделала этого. Я тревожилась о тонком ручейке податей, который с тех пор высох совсем. Что случилось со мной? Держа в руках свитки, скрепленные печатью Амона, она будто увидела призрак. Императрица тут же послала за казначеем.
– Казна истощена, но ни в коем случае не опустела, – надменно ответил он на ее вопрос. – Египет еще ведет торговлю с островами Великого Зеленого моря.
– Только с ними? А как же Нубия и Ретенну?
– Царица, наши позиции в Нубии довольно слабы в настоящее время, как тебе, должно быть, известно.
– Нет. Мне это неизвестно. Нубия не является нашим вассалом; она – часть Египта. Почему тогда наши позиции там слабы?
– Это меня не касается. Я всего лишь хранитель сокровищ своего владыки. Но я полагаю, что нубийские племена были неспокойны в последнее время, и несколько египетских сборщиков дани просто исчезли.
– Ну а что с нубийскими копями? Как золотые пути?
– Военачальник Хоремхеб имеет монополию на сборы, полученные от нубийского золота, богиня. Прости меня, но в этом случае тебе лучше адресовать свой вопрос ему.
– Я так и сделаю. Что в Ретенну?
– Мы уже год ничего не получали из Кадеша.
– Тогда почему казна не опустела?
– Фараон каждый год постепенно поднимал налоги, особенно с феллахов, и, кроме того, все подношения в Египте, что прежде были адресованы другим богам, теперь поступают прямо в Ахетатон.
Отпустив его, она сидела, кусая губу и яростно соображая, феллахи чернь, но чернь не бесполезная, без них страна не смогла бы существовать. Если налоги, взимаемые с них, превысят пределы разумного, Египет будет сломлен любым бедствием, угрожающим их выживанию: если, например, будет объявлена война и продлится она слишком долго, если в Дельте начнется падеж скота, если погибнет урожай винограда, если Исида не заплачет. Наша стабильность хрупка, как стебель тростника, – рассуждала она. – Золото, сыплющееся на эти улицы, драгоценности, которыми обвешаны придворные, лакомства, экзотические кушанья, постоянный поток новых нарядов, не говоря уже об артистах, привозимых из-за Дельты, – все это так же незыблемо, как дуновение песчаного ветра. На какие средства мы будем воевать? Она послала за Хоремхебом, но на ее краткие вопросы он отвечал так, будто она уже выжила из ума.
– Конечно, поток золота немного уменьшился, – говорил он. – На копях каждый день умирают рудокопы, я терплю убытки, но в последнее время они еще и бегут. Золотой путь сделался довольно опасным, поэтому я плачу солдатам, которые охраняют шахты и сопровождают золото в Фивы, откуда оно баржами переправляется на север.
– У тебя есть собственные солдаты? Ты платишь им золотом, которое они охраняют?
– Разумеется.
– Хоремхеб, ты помнишь те времена, когда шахты охраняли всего несколько надсмотрщиков, когда золото прибывало в Фивы и меджаи только следили за его доставкой?
– Нет, царица.
Он испытывал неловкость и, похоже, искренне недоумевал, чем вызвана ее внезапная паника. Сознавая бесполезность дальнейших расспросов, она отпустила его.
Новый год в Ахетатоне праздновали с обычным приливом оптимизма. Слухи о войне временно поутихли, так как фараон уклонялся от издания указа о призыве, которого так отчаянно добивалась Тейе. Здоровье Эхнатона улучшилось, и, слабый, но улыбающийся, он лично распределял золото милости своим врачевателям и разным мелким чиновникам, стоя рядом с Мериатон у украшенного гирляндами окна явления. Все уже ждали, когда Атон возвестит о подъеме воды в Ниле, думая о мешках с зерном в закромах, приготовленных для сева.
Но разлив все не наступал. Прошел месяц тот, а река оставалась узкой лентой мутной воды, протекавшей далеко внизу под пыльными, растрескавшимися берегами. Это послужило некоторым поводом для беспокойства, но не для тревоги, потому что половодье запаздывало и прежде. Атон всемогущ, он не мог обмануть ожиданий своего послушного сына. В ожидании ответа на молитвы жрецов о половодье службы в Ахетатоне сделались более усердными. Толпы людей слонялись перед Большим храмом, и в три раза больше их собиралось вокруг маленьких жертвенников на углах улиц, где они приносили умиротворяющие дары.
Пришел и миновал фаофи, но уровень воды в Ниле не изменился. Раздраженные придворные приказали вытащить на берег свои прогулочные лодки, потому что от реки поднималась вонь. Чиновники, в обязанность которых входило докладывать о скорости и уровне ежегодных разливов, сидели под балдахинами, неотрывно глядя на зарубки каменных пластин, вкопанных в берега, но маслянистая, зловонная вода по-прежнему плескалась у первых меток. Прошел азир. Наступил хояк, месяц, когда всегда отмечался самый высокий уровень воды в реке. Вместо этого выявилось его снижение, потому что в сухом воздухе речная влага начала испаряться. Воздух сделался зловонным и кишел жалящими насекомыми. Феллахи в смятении доедали свои скудные запасы. С окраины селений они смотрели на трещины на полях, которые, углубляясь, превращались в зияющие маленькие овражки, выжженная земля была слишком горячей, чтобы ступить на нее. На деревьях не было листьев. Бурые стволы пальм недвижно застыли в воздухе, безжизненные и ломкие, и ветки сикомор отламывались при легчайшем прикосновении.
В начале мехира, когда крестьяне обычно шли по полям по щиколотку в черном иле, разбрасывая семена, Ахетатон начали наводнять змеи, скорпионы искали прохлады в трещинах, появившихся в земле повсюду. Утром и вечером жилище Тейе обыскивали слуги с палками, и на полу для змей оставляли спасительное молоко.
Но к концу фармуси все смирились с тем, что в этом году разлива не будет. Грязные и сухие причалы вдоль набережной на всем протяжении Ахетатона нависали на несколько футов над густой, отказывавшейся подниматься водой. Шадуфы, которыми поднимали воду для полива садов, доставляли густую жижу, которая кишела различными червями и омерзительными насекомыми. Фараон велел слугам загрузить бадьи в лодки и вручную доставать воду из реки для полива садов, он разрешил вычерпывать озера. Тейе, сидя на крыше своего дома и глядя в долину, думала, что садами тоже придется пожертвовать для того, чтобы обеспечить водой поля на том берегу, чтобы вырастить хоть какой-то урожай для дворца. Но Эхнатон де пошел на этот шаг, все еще веря в то, что вода прибудет.
– Это испытание, – говорил он Тейе, сидя в зале для приемов. – Нашу веру испытывают.
Оба истекали потом. Шелест метелок наполнял комнату тонким монотонным шуршанием. Мухи облаком висели под потолком. Из Дельты не прислали ранних плодов, и овощи, с таким наслаждением поедаемые в это время года, сделались едкостью и имели привкус ила. Все имеет привкус ила, пахнет илом, – думала Тейе, чувствуя, как кожу головы покалывает от ары. Она взглянула сквозь тень от входных колонн на мертвую бурую лужайку, где уже проступили островки сухой земли. – Ты послал на север за зерном? – спросила она. – Ретенну, должно быть, сможет продать нам немного. – Ей нестерпимо хотелось почесаться. В ее купальне больше не лилась каскадом вода, чистая и прохладная. Та жидкость, которую Пиха бережливо цедила на нее тонкой струйкой, была с песком и такого же бурого цвета, как и ее кожа.
– В этом нет необходимости, – ответил он. – Наши амбары полны запасов прошлогоднего урожая.
– Но, Эхнатон, а как же Фивы, как остальное население? Сборщики налогов отняли у них все. У людей не осталось запасов. Скоро они начнут умирать от голода.
– Мне нет дела до Фив, – сказал он. – Что до феллахов, им просто надо подождать. Бог еще проявит свою силу.
– Если феллахи умрут, на следующий год некому будет сеять, – мрачно проговорила Тейе. – Страна всегда переживала засуху только потому, что каждый фараон тщательно следил за тем, чтобы в каждом городе был неприкосновенный запас. Твои сборщики налогов давно опустошили их закрома.
Эхнатон вдруг ощутил позыв рвоты. Склонившись и прижав одну руку к животу, он неистово замахал другой, делая знак слуге, и тот метнулся к нему с чашей в руках. Его вырвало, и, переведя дыхание, он откинулся на спинку трона. Другой раб опустился на колени, подавая влажное полотенце Фараон обтер губы.
– Это всегда причиняет мне боль, – сказал он, все еще тяжело дыша, – но боль длится недолго. – Он отдал полотенце и медленно выпрямился. – Ты видела террасы северного дворца, императрица? Они все такие же сочно-зеленые. Нефертити не страдает от пересыхания садов.
Она предугадала ход его мыслей.
– Нет, Эхнатон, ее земли плодородны не потому, что Нефертити наслаждается защитой бога, – сказала она. – Вода из ее озера проливается на верхнюю террасу и потом просто стекает вниз на остальные.
– Время молитвы. – Он поднялся, оттянув влажное платье с колен. Мерира шагнул вперед, ладан уже курился у него в руках. – Матушка, ты знаешь, что в городе люди открыли жертвенники Исиды? Если Атон увидит такое попрание его веры, он накажет их еще больше.
– Они боятся, – предположила она, видя, что его изможденное лицо немного порозовело. – Они хотят, чтобы Исида начала плакать.
– Здесь нет Исиды, – нетерпеливо бросил он. – Я поговорю с ними об этом из окна явления по пути к храму. Идем со мной. Где Мериатон?
Он раздраженно взмахнул рукой, и она поспешила вперед. Они вышли из залы, пересекли широкий передний двор и подошли к пандусу. За стеной царская дорога была необычайно тиха. Солнце набросилось на них со слепой яростью, высушивая губы, заставляя слезиться глаза, обжигая ступни сквозь подошвы сандалий. В воздухе стояла пыль. Ветер уже не был таким приятным, потому что малейшее движение его за городом поднимало песок; рассеянный на улицах, он смешивался с висевшей в воздухе пылью, в которую превратился верхний слой рассохшейся земли, набиваясь в легкие, прилипая к влажной коже, проникая под одежду. Зажмурившись от внезапно ударившего в глаза невыносимого сияния, Тейе увидела, как рука Эхнатона скользнула в руку его царицы, а другую руку он поднял, чтобы отмахнуться от мух, ползавших по шее. Никто не придет сегодня поклониться ему, – подумала она, когда они всходили на пандус под легкую тень крытого окна. – Люди лежат по домам и мечтают о воде. Когда они остановились перед окном и посмотрели вниз, Тейе была поражена, потому что дорога от стены до стены была заполнена молчаливой толпой. Эхнатон поднял руку. Толпа чуть заволновалась, и головы склонились, но люди не опустились на землю.
– Глупцы! – крикнул фараон добродушно. – Вас гложет чувство вины? Я слышал, как вы отвернулись от своего истинного защитника при первом же испытании вашей веры и забормотали молитвы другому богу, в то время как Диск ярко сияет над головой, наблюдая за каждым вашим движением. Не бойтесь. Я, и только я, стою между вами и богом. Я буду умолять Атона, и он услышит сына своего и пошлет паводок. Я, Эхнатон, обещаю вам.
Радостных возгласов не последовало Тейе, выхватив полотенце у Хайи и вытирая шею, видела на поднятых кверху лицах сомнение и страдание.
– Дай воду, фараон! – возмущенно крикнул кто-то. – Ты бог! Заставь реку подняться!
Эхнатон воздел крюк и цеп, но гул голосов не затих. Когда он шагнул в тень и пошел к храму, толпа подхватила этот выкрик.
– Заставь подняться воду, фараон! – кричали они, в их голосах слышалась явная насмешка. – Заставь подняться воду, божественное воплощение!
Мериатон сжалась от стыда, поторапливая фараона, пока они не вошли под сень иссушенных деревьев храмового сада. Под пилоном он внезапно остановился и, прислонившись к его неровным камням, согнулся пополам. Снова слуга с чашей поспешил ему на помощь, но спазм прошел. Эхнатон выпрямился, его лицо осунулось от боли, но он продолжил путь к храму.
Тейе наблюдала из благословенной тени каменного навеса, как Мериатон стояла одна на огромном пространстве святилища, ее маленькая черная головка в короне с золотой коброй, возвышающаяся над полем жертвенных столов, чуть покачиваясь, клонилась от невыносимой жары. Ее супруг поднялся по ступеням к алтарю и начал молиться. Его слова, хотя и невнятные, отозвались мучительным и умоляющим эхом от высоких стен. Он распростерся ниц, потом встал на колени, ухватившись за края заставленного пищей стола, и прижался лбом к камням. Мерира обошел вокруг него с курильницей и пролил масло ему на голову. Эхнатон застонал. За алтарем возвышался Бен-бен, изображение фараона на нем улыбалось. Масло медленно скользило по шее, ползло по спине, поблескивая в ослепительном свете. Во дворе перед храмом то громче, то тише звучали голоса певчих. Для Тейе в этой сцене было что-то древнее и варварское: скрюченный в мучениях человек, ряды курящихся жертвенников, жрецы в белых одеждах, неестественно застывшие, худенькая, роскошно одетая царица, слабо раскачивающаяся, в полуобморочном состоянии, одна на огромном пространстве, и плывущее надо всем этим бесплотное пение, звучащее, будто неодолимые, бесстрастные голоса демонов. Свирепость солнца была почти невыносимой, и у Тейе в голове внезапно возник образ, будто Атон, долгие годы питаясь неистовым поклонением своего сына, раздулся, но не насытился им, его все возрастающая сила, наконец, вытянула из Эхнатона всю животворную доброту, которой он учил, и разнеслась, наводя ужас на Египет. Казалось, чем больше Эхнатон молился и стонал, тем больше усиливалась жара. Тейе, с затекшими ногами и ноющей болью в спине, опустилась на стул, который по ее приказу был поставлен в ротонде. Уловив движение за спиной, Мериатон обернулась, ее лицо было бледным. Тейе кивнула ей, подзывая к себе, но после минутного колебания Мериатон покачала головой, не осмеливаясь обидеть отца или бога, укрывшись в тени.
Снова взглянув на сына, Тейе застыла. Он лежал, навзничь раскинувшись перед алтарем. Голова его была неестественно запрокинута, он издавал сдавленные крики. Мерира стоял у него в ногах, раскачивая над ним курильницу. Тейе без колебаний шагнула на солнце и направилась к нему, по пути скликая жрецов. Торопливо взбежав по ступеням, она склонилась над ним.
– Принесите носилки, быстро! – приказала она. – Но сначала балдахин. Царица, найди Панхеси, пусть он пошлет за врачевателями.
– Но, императрица, – запротестовал Мерира, – носильщикам запрещено входить в святилище! Это невозможно!
Она не обратила на него внимания. Другие жрецы бросились выполнять ее приказания, носилки фараона уже несли по проходу. Зубы Эхнатона были стиснуты, невидящие глаза широко раскрыты. Из уголка рта стекала рвота.
– Прикажи замолчать этим женщинам на переднем дворе! – закричала она Мерире. – Слишком жарко для пения!
Он удалился, мертвенно-бледный, и вскоре песнопения прервались. Носильщики осторожно подняли фараона, над носилками раскрыли балдахин. Тейе последовала за ним в его покои.
К тому времени, когда Эхнатона уложили в постель, мышцы его расслабились, он принялся бормотать, время от времени выкрикивая слова молитв, отрывки любовных песен. Она оставила фараона на попечение врачевателей. Они с Мериатон ждали в коридоре, в проходе встревоженно толпились Пареннефер, Панхеси и другие слуги. Через несколько минут один из врачевателей вышел из опочивальни и поклонился.
– Что с ним? – спросила Тейе.
– Похоже на удар, императрица, – объяснил он. – Фараону уже гораздо лучше, но он очень слаб.
– Вы способны вылечить его?
Врачеватель старательно подбирал слова.
– Нет, – наконец сказал он. – Если бы фараон был простым человеком, а не богом, я бы сказал, что в него или вселились демоны, или он пострадал от безумия, которое, согласно закону, гарантирует человеку полную защиту. Но раз фараон – божественное… – Он предусмотрительно не закончил фразу.
Тейе отпустила его и, сделав знак Мериатон следовать за ней, вошла в комнату. Эхнатон лежал на подушках. Временами его била мелкая дрожь, после жестокого приступа лицо было все еще серого цвета, но глаза прояснились. Мериатон опустилась на колени и поцеловала его руку, Тейе поклонилась и присела на край постели в изножье.
– Они запретили мне выходить на солнце, – сказал он.
Он схватил руку Тейе и крепко сжал ее.
– Значит, ты должен повиноваться, сын мой, – ответила она. Внезапно ее осенило: – Бог говорил с тобой? С тобой уже случалось такое, но никогда прежде ты не был болен так сильно.
Он опустил тяжелые веки.
– Нет, бог не говорил. Видения не было.
Тейе погладила его длинные пальцы.
– Фараон, я хочу, чтобы ты подумал о том, что случится, если когда-нибудь бог пошлет тебе болезнь, от которой ты не сможешь оправиться, если видения, в которых он заставляет тебя блуждать, не закончатся. Я не говорю о смерти, – поспешно добавила она, видя, как он напрягся при этих словах. – Но пришло время объявить наследника.
– Я думал об этом, – медленно ответил он, к ее большому удивлению. – Это должен быть ребенок моих священных чресел. Тутанхатон – единственный, кого я вижу. – Он произносил слова отчетливо и разумно, будто припадок прояснил его сознание.
Тейе старалась, чтобы на ее лице не проступило полнейшее изумление таким поворотом событий, опасаясь, что любая ее реакция может совершенно изменить ход его мыслей.
– Думаю, нет, – мягко возразила она. – Тутанхатон еще слишком мал. Он может стать игрушкой для бесчестных людей, которые воспользуются им для того, чтобы разрушить все, что ты сделал для Диска.
– Ты могла бы стать регентшей, – предложил он.
Тейе улыбнулась, глядя в его простодушное, доверчивое лицо.
– Эхнатон, я не собираюсь жить вечно. Как и ты. Сменхаре уже шестнадцать, он стал мужчиной. Ему не потребуется регент, только советники. Он не твой сын, но он – моя плоть, и он твой брат. Объяви его, чтобы я могла спать спокойно.
Она внимательно следила за выражением его лица, ловя признаки огорчения, но он оставался спокойным, тихо лежа под тонким покрывалом, только дрогнувшие теплые пальцы в ее руке выдавали его реакцию. Его лицо сохраняло выражение печального достоинства. Мериатон внезапно замерла, не мигая глядя на Тейе.
– Мне следовало бы сделать его полноправным членом семьи Диска, – задумчиво произнес он, – но, возможно, это предопределено. Он очень похож на меня, матушка, ты заметила? У него такая же форма головы. – Эхнатон мягко отнял у нее руку и положил ее себе на грудь. – Я понял то, о чем люди говорили сегодня, – продолжал он. – Я притворялся, что не понимаю, но я понял. Они просили тщетно. Атон не даст нам воды. Я знаю. Это, должно быть, мой грех, потому что бог не слышит мои молитвы. Может быть, ему наскучил его сын, и он обратил взоры к новому воплощению. – Его голос был полон раскаяния и истинной печали. – Хорошо. Пусть подготовят свиток, я подпишу его и поставлю печать, но не сегодня. – Тонкий голос сделался хриплым от усталости. – Я должен поспать. Мериатон, останься со мной Мне страшно.
Едва осмеливаясь признать свою победу, Тейе призвала писца и надиктовала документ, дающий Сменхаре право носить двойную корону после смерти брата. Она держала его при себе, решив немедля получить печать фараона. Потом она послала за Сменхарой. Несколько часов он не являлся, но потом пришел, и вяло поклонился.
– Если мне нельзя плавать или быть с Мериатон, я еще могу пить, – сказал он мрачно в ответ на ее колкое замечание о том, что нельзя злоупотреблять вином. – Мы с друзьями были в Мару-Атоне. Листвы почти не осталось, но в павильоне прохладно.
Она бросила ему свиток.
– Прочти это.
Он равнодушно развернул его, прислонившись к стене. Прочитав, он бросил свиток на ложе.
– Пора бы уже, – сказал он, – но это сейчас ничего не значит. Фараон проживет еще долго, к тому времени Мериатон состарится и станет толстой, а я зачахну от тоски и скуки.
– Что же я сделала такого, что боги наказали меня таким угрюмым, невежественным, себялюбивым, неблагодарным сыном? – возмутилась Тейе. – Я только что добыла для тебя трон Египта, однако ты еще смеешь жаловаться. Послушай меня. С сегодняшнего дня фараон будет пристально наблюдать за тобой. Ты должен быть почтительным в храме. Закрой свой жертвенник Амона. Не проводи слишком много времени с друзьями. Никто не должен думать, что ты захочешь завладеть короной прежде, чем она перейдет к тебе по закону. Мне больно это сознавать, Сменхара, но не думаю, что фараон проживет долго. Тебе следует решить, что ты станешь делать с Египтом, когда он уйдет.
Сменхара пожал плечами, и Тейе, глядя, как он, развалясь, подпирает стену, видя сутулые, худенькие плечи и слегка выпуклый живот, почувствовала внезапный укол настоящего страха.
– Мне нравится Ахетатон, – ответил он. – Ты слишком долго не пускала меня сюда. Я останусь здесь, и пусть Малкатта сгниет. Женюсь на Мериатон и буду наслаждаться своими правами фараона.
– Не важно, где ты будешь жить, если предпримешь шаги для упрочения нашего господства на иноземных территориях и восстановишь почитание Амона.
– Звучит не слишком интересно. Полагаю, мне придется разослать гонцов. У тебя здесь есть вино, матушка?
– Подумай о том, что ты будешь делать, но помни, что ты еще не фараон. Если станет очевидно, что ты слишком стремишься стать им, фараон может передумать.
– Чем передумать? – рассмеялся Сменхара.
К своему изумлению, Тейе почувствовала, что на глазах у нее выступили слезы.
– Передумать головой, в которой рождаются такие видения, которые тебе никакой бог не соблаговолит послать, – сказала она хрипло. – Я не позволю тебе смеяться над ним и повелеваю тебе заткнуть богохульные рты своим так называемым друзьям. Он мой сын, и я люблю его. Убирайся с моих глаз.
– Он был также и твоим мужем, пока ты могла его использовать, – грубо парировал Сменхара, отделился от стены, небрежно поклонился и нарочито медленно направился к двери – Не думай, императрица, что и меня ты сможешь использовать. Вот когда двойная корона будет на моей голове, а Мериатон – в моей постели, я буду тебе благодарен, но не раньше. – Не дожидаясь ответа или позволения уйти, он захлопнул за собой дверь.
Тейе легла и заплакала. Не только об Эхнатоне, но и о себе: внезапные беспомощные слезы старухи, для которой жалость к себе простительна. Сменхара оказался бессердечным, корыстным человеком, который еще не сознавал, что его презрение к брату вызвано тем, что он видел в нем себя.
На следующий день фараон, как и обещал, утвердил документ о наследовании. По дворцу пробежала волна облегчения, некоторые не утратившие наивности придворные и большинство горожан вышли к реке посмотреть на жалкий ручеек, в который теперь превратилась река, ожидая, что Атон ознаменует свое удовлетворение началом подъема воды. Но остальные были слишком озабочены скверными вестями, чтобы беспокоиться о том, какой Гор может оказаться в гнезде. Из Дельты пришло известие о том, что там начался падеж скота, поскольку пастбища стали оголяться Придворные суетливо обменивались посланиями со своими управляющими в поместьях Дельты, но все знали, что поделать ничего нельзя.
В Джарухе дела обстояли не так плохо, как в других поместьях. В собственное ги у Тейе было два больших озера, и по ее приказанию их воду использовали для опрыскивания полей, чтобы хоть немного травы выросло на прокорм скоту. Также у нее было зернохранилище, и управляющий открыл его для селений, где жили ее работники. Она хотела избежать смерти своих феллахов, чтобы было кому работать, когда вода в реке действительно начнет подниматься. Эйе такими же мерами пытался поддерживать жителей в своем поместье в Ахмине, но рабам в поместьях знати повезло меньше.
Медленно тянулись пахон и паини, и вот уже под ступенями причала в самом Ахетатоне начали находить истощенные тела умерших крестьян, выброшенные на берег, вперемешку с тушами быков и разлагающихся коз. Придворные были потрясены, и Эйе отрядил солдат, чтобы непрерывно осматривали реку около южного таможенного поста и крюками вылавливали тела из воды прежде, чем те доплывут до города. Но невозможно было выловить каждое тело, поэтому знать держалась подальше от Нила, чтобы не видеть трупов и не слышать запаха смерти, распространявшегося по Египту. Горожан, пользующихся его благосклонностью, фараон поддерживал зерном. Ахетатон был магическим, священным городом, местом жительства бога и его избранной семьи, и никому из его жителей не позволено было голодать. Горожане перешли на хлеб и прошлогоднее вино, пока пламя шему пожирало землю, и Египет лежал, как бесплодная пустыня, оживляемая единственно слезами и причитаниями плакальщиц.
Сочные террасы Нефертити начали чахнуть. То ли свергнутая царица отказывалась от любых контактов с городом, отгородившись оскорбленной гордостью, то ли сам фараон приказал не поддерживать связи с ней, Тейе не знала. Она послала Хайю в северный дворец убедиться в том, что племянница пребывает в добром здравии. Он вернулся, сообщив, что озеро пересохло. Нефертити здорова, хотя во дворце стали болеть слуги.
– Царица очень немногословна, – рассказывал он, – а если говорит, то очень язвительно. Она немного поправилась, но это только добавляет ей очарования. Лицо у нее очень печальное.
Тейе почувствовала себя спокойнее, узнав, что Нефертити здорова, и, кажется, успешно правит своим маленьким царством. Она решила освободить ее, если Сменхара станет фараоном. Нефертити не сможет сильно повредить управлению.
Болезнь из северного дворца очень скоро перекинулась в центральную часть города. Тяжелейший удар в царском дворце пришелся на детские. Заболели старшие служанки в гареме. Хайя, взволнованный и озабоченный, поскольку на его плечи легли все трудности, связанные с вызовом врачевателей, уходом за умирающими, своевременным выносом тел, посоветовал Тейе совсем удалить из дворца Тутанхатона и Бекетатон. Тейе немедленно приказала перевезти детей за реку, в дом Тии. Фараон, которого поддерживала мысль о том, что он умиротворил Диск, сделав Сменхару наследником, был убежден, что вспышка болезни скоро утихнет. Хотя лето было уже в разгаре, он ходил по покоям гарема, – впереди него шел Мерира, читая молитвы, – упрекал больных и умирающих за недостаток веры и обещал, что скоро река разольется и их тела очистятся. Но, глядя снизу вверх на влажные оранжевые губы своего царя, его дрожащие руки, лихорадочный блеск в глазах, больные видели за его плечом оскал смерти.
Жрецы-сем и служители дворцовой Обители мертвых работали не покладая рук, чтобы подготовить для погребения умерших во владениях фараона, но место бальзамирования простых обитателей Ахетатона вскоре заполнилось разлагающимися трупами. В храме Обители жизни пришлось издать специальный указ, предписывающий упростить бальзамирование тел перед быстрым погребением в пустыне. Осиротевшие семьи отправляли ритуалы непременного семидесятидневного траура по родным, которые уже были зарыты в песок. Хуже того, многие умершие разлагались так быстро, что к тому времени, как бальзамировщики приходили осмотреть тела, их уже невозможно было сохранить.
Зловоние смерти висело над дворцом и городом, где разгуливала болезнь. Тейе не выходила из своих покоев и заставляла слуг жечь ароматическое масло, чтобы отбить запах разложения, но от него невозможно было избавиться. Каждый день она посылала вестника за реку в дом Эйе с приказанием доставить полный отчет о состоянии Бекетатон и Тутанхатона и не находила себе места до тех пор, пока он не заверял ее в том, что все дети здоровы. Так было пять дней, но на шестое утро вестник доложил о болезни среди слуг Тии и принес страшную новость о том, что царевна Бекетатон простудилась. Тейе немедленно решила отправить детей на север в Джаруху.
Она почти закончила приготовления к путешествию, но в полдень следующего дня Хайя пришел к ней с помрачневшим лицом.
– Императрица, – поклонился он, – царевна Тии умоляет, чтобы ты приехала вместе со своим врачевателем. Бекетатон слишком слаба, чтобы отправляться в путь.
У Тейе упало сердце, но она поборола ужас, овладевший ею.
– Хорошо. Пришли Пиху одеть меня и пусть подготовят мою ладью. Тутанхатон здоров?
– Да. Но вчера умерли две служанки Тии.
Тейе спустила ноги с ложа, сердце вдруг заколотилось, ее бросило в пот. Жара стояла невыносимая.
– Пойди и сообщи фараону, – велела она.
– Императрица, бога тошнило все утро, и его врачеватели не разрешают ему вставать.
– Ну, тогда скажи Панхеси.
Пиха одела ее в тонкое льняное платье, но без грима пришлось обойтись. Тейе уже не могла выносить прикосновение краски к воспаленной коже или тяжесть парика. Осталось чуть больше месяца до Нового года, – думала она, медленно выходя на солнечный свет, – и еще через месяц река начнет подниматься. Снова наступит зима. Исида, я молюсь каждый день, чтобы ты отвела от нас свой гнев. Смилуйся, и пусть прольются твои слезы. – Она шла медленно, одной рукой опираясь на плечо Пихи, от слабости у нее кружилась голова. – Бекетатон, я любила тебя, когда ты была ребенком, – мучительно неслись ее мысли, – но в последнее время я совсем не уделяла тебе внимания. Тебе было одиноко? – Но эта новая вина не заслонила старой, что была страшнее и неизбывнее. – Она сестра своего отца. Боги, наконец, наказывают меня. Бекетатон умрет.
Река так обмелела, что лодочнику приходилось отталкиваться шестом от корявых, полузатопленных деревьев и даже от скал, зловеще выступавших над поверхностью воды. Тейе, сидевшая в кабине с поднятым пологом, чтобы уловить хоть малейшее дуновение ветра, вдруг увидела, как мимо проплывает раздутая туша огромного крокодила, от сильного толчка шестом она стала медленно поворачиваться. Тейе отвернулась; это было дурное предзнаменование. Они достигли западного берега, выбросили сходни, чтобы привязать их наверху, у первой ступеньки причала. Тейе пришлось опереться на руку кормчего, чтобы не упасть. Запах белесой воды доставлял почти физическую боль. Она поднесла к носу кайму надушенного платья и поспешила через безжизненный высохший сад в тень портика. Тутанхатон выбежал ей навстречу, и, прежде чем набраться решимости войти в дом, она наклонилась и обняла мальчика, внезапно испугавшись за него. Бесполезно отправлять его в Джаруху, – подумала она, чувствуя, как сильные ручки сжимают ее. – Чума повсюду. Может быть, Нефертити возьмет его к себе. Похоже, болезнь отчасти пощадила ее дворец. Наказав ему оставаться в своей комнате, она поцеловала его и решительно шагнула в душный дом.
У Тии хватило здравого смысла поднять оконные занавески в комнате Бекетатон и поставить у окна носителей опахала, чтобы те гнали воздух внутрь. Бекетатон лежала на боку, обессиленная лихорадкой. Прикоснувшись к ней, Тейе отпрянула. Кожа девочки была сухая и горячая, как жаровня. Атон пожирает ее. Ее собственный отец съедает ее, – истерично подумала она, но быстро овладела собой. Чаши с речной водой стояли на столике у ложа, и врачеватель постоянно омывал девочку. По знаку Тейе ее собственный врачеватель быстро осмотрел малышку, но Бекетатон не откликалась на его прикосновения. Она бормотала и иногда вскрикивала в бреду. Врачеватели совещались, пока Тейе стояла, потрясенная, глядя на плод любви ее и фараона.
– У царевны нарыв на пояснице, вскрывать еще рано, – тихо сказал ее врачеватель. – Это, должно быть, причиняет ей сильную боль. Как известно императрице, с лихорадкой ничего нельзя поделать. Это должно пройти само. Заклинания могут помочь. Заклинания. – Тейе закрыла глаза. – Имею ли я право сдерживать гнев богов? Да, имею, потому что их гнев должен быть направлен на меня, а не на моего ребенка.
Она повернулась к Тии, нерешительно стоящей в глубине комнаты.
– Не слишком ли смело – надеяться, что в Ахетатоне есть маги, знающие старые заклинания против демонов лихорадки, Тии?
Тии казалась задумчивой.
– Может, мастеровые знают. Я сейчас же спрошу их.
Когда она вышла, Бекетатон начала пронзительно вскрикивать, и врачеватели подбежали к ней. Она билась в судорогах, спина выгибалась, ноги одеревенели, и мужчинам потребовалась вся их сила, чтобы удержать девочку. Когда приступ прошел, Тейе наклонилась утешить ее, но, хотя глаза Бекетатон были открыты, сознание не вернулось.
В уютной гостиной Тии Тейе подали вино и немного сухих фруктов из урожая прошлого года. Еда внушала ей отвращение. Немного погодя вслед за Тии вошли три смуглых, босоногих, испуганных человека в груботканых юбках. Они торопливо распростерлись ниц перед Тейе.
– Это работники из моей мастерской, – извиняющимся тоном объяснила Тии. – Не думаю, что в Ахетатоне есть кто-нибудь из старых жрецов-магов, да и на то, чтобы отыскать их, потребуется слишком много времени. Мои люди не жрецы, но они знают заклинания. Лихорадка – постоянная спутница мастерового.
Тейе посмотрела на крепкие спины и неопрятные черные головы у своих ног. Это правда, время было на исходе. К чему пришел Египет, – подумала она покорно, – если дочь фараона должна выносить присутствие трех грязных феллахов?
– Встаньте, – сказала она, преодолевая неприязнь. Они поднялись и встали неуклюже, отводя глаза. – Вы будете петь заклинания против демонов, поселившихся в теле моей дочери. Стоять будете спиной к ложу. Когда все закончится, я награжу вас месячным запасом зерна. Идемте со мной.
Она подвела их к Бекетатон. Девочка теперь плакала без слез, каждый звук жалобного хныканья вонзался в самое сердце Тейе. Ступая как можно тише, мужчины отошли к дальней стене и повернулись к ней, потом прокашлялись и помычали, настраиваясь на нужный тон. Они принялись петь. Резкий, неприятный звук, хотя и очень отдаленно, все же напомнил слушателям о давно прошедших днях. Тейе ощутила легкое движение за спиной, стремительно развернулась и увидела вестника, стоящего на коленях.
– Ну?
Он протянул ей свиток.
– Фараон очень опечален здоровьем дочери, – прошептал он. – Он приказал положить это ей на грудь. Сам он приехать не может.
– Что это?
– Это молитва Атону на исцеление.
– Ступай.
Когда его выпроводили, она развернула свиток и неторопливо разорвала его пополам. Бросив куски на пол, она вышла из комнаты вслед за вестником. Работники будут петь, пока лихорадка не стихнет или царевна не умрет. Больше Тейе ничего не могла сделать.
Бекетатон умерла четыре часа спустя, ослабев от лихорадки и от судорог. Попытки врачевателей снять жар были тщетными. Явился Хайя, и Тейе дала ему указания относительно того, как приготовить к погребению маленькое тело. Она не пошла сама взглянуть на дочь. Она не вынесла бы вида еще одного трупа, еще одной безжизненной оболочки, даже той, которой дало жизнь ее собственное тело.
– Немедленно отнесите ее к моим бальзамировщикам, – приказала она. – Бальзамирование следует начать до того, как ее отец даст свои собственные указания. Если бы я могла, я отправила бы ее в Карнак для погребения с соблюдением всех ритуалов. Хайя, на эту ночь я останусь здесь, с Тии. Не хочу сейчас возвращаться в город.
Хайя колебался.
– Императрица, когда я собирался приехать сюда, пришло письмо, адресованное тебе, из Дельты, из поместья царевны Тиа-ха.
Тейе не спрашивала, что в письме. Ее наказание началось, и с этого момента ничто не остановит безжалостную месть богов.
– Она умерла, да?
Хайя кивнул.
– Во сне, божественная. Она оставила тебе много драгоценностей и обещание похлопотать о тебе перед богами.
Богиня не нуждается в заступничестве простых людей, но Тиа-ха понимала нужды своей императрицы. Связь с моим прошлым оборвалась, – думала она, нетвердым шагом следуя в комнату, которую ей предоставила Тии. – Моя дорогая подруга, моя веселая наперсница, я не смеялась с тех пор, как мы расстались. Нет одиночества мучительнее, чем это. Я не могу горевать по собственной дочери так сильно, как скорблю по тебе, ты – единственная, кто разделял мою жизнь со времен моего девичества и кто унес с собой мои воспоминания. Она легла на постель, глядя, как закат заливает стены красным светом, прежде чем омыть их темнотой, и, сознавая, что остаться в живых после того, как ушли все, кого она любила, – это достаточное наказание за любые прегрешения.
22
Похороны Бекетатон проходили под раскаленным солнцем в самый разгар лета, и не было ни единого цветка, чтобы положить его поверх позолоченных саркофагов. Рука бога тяжело давила на тех, кто стоял снаружи гробницы, выдолбленной в скале, и слушал, как Мерира и другие жрецы цитируют отрывки из учения. Нигде в прекрасных словах не было и намека на наказание или возмездие, однако Египет едва дышал, сморщенный, умирающий под гнетом голода и болезней. Погребальной трапезы не было, и участники церемонии быстро разошлись, тщетно ища утешения.
Празднование Нового года проходило с тем же настроением покорности судьбе, что и в день погребения. Оно больше напоминало сборище бездомных или убогих, чем демонстрацию мощи Египта. Не было иноземных миссий, стремившихся засвидетельствовать почтение фараону и представить богатые дары.
Немногие придворные смогли набраться храбрости демонстрировать новые моды в день, когда по традиции каждый мало-мальски важный чиновник являл свою власть, а честолюбцы жаждали показать себя. Не было управителей, жаждавших передать добрые пожелания и щедрые подарки от своих городов, один за другим они прислали извинения за свое отсутствие. Каждое утро они пытались справиться с новым урожаем мертвых тел, которые приходилось собирать на улицах; с эпидемией болезней, слепотой и параличом; со стычками между феллахами, которые оставили свои земли, несущие только смерть, и горожанами, которые имели немного, но не желали делиться последним. Даже Хоремхеба не было, его срочно вызвали в Мемфис по поводу мятежа в казармах. Мутноджимет, такая же невозмутимая и безразличная, как всегда, поцеловала ноги фараона, положив традиционные искусственные цветы. Молчаливая Мериатон сидела рядом с отцом, ее глаза были накрашены сверкающей золотой и синей краской. Тейе не участвовала в церемонии. После известия о смерти Тиа-ха она сильно ослабела, небольшая лихорадка, сопровождаемая ломотой в суставах и возобновившимися болями в животе, удерживала ее в постели. Эйе держал опахало у правого колена своего повелителя, как всегда внешне уверенный, он, однако, предпочитал ни с кем не встречаться глазами.
Пиршество, которым всегда заканчивался праздник, было немноголюдным, хотя и проводилось, как обычно, со множеством представлений; смех гостей звучал скорее принужденно, чем весело. К полуночи на помосте за столом с остатками угощения остался один фараон. Огромный зал опустел, только Сменхара сидел у своего столика, скрестив ноги и уронив голову, и задумчиво подбирал оставшиеся на тарелке крошки сухарей. Слуги неподвижно стояли вдоль стен, утопавших во мраке, свет угасающих факелов не мог рассеять сумрак. Царица, извинившись, ушла намного раньше, сославшись на дурноту от жары. Носитель опахала, управляющий и дворецкий Эхнатона стояли за его спиной и терпеливо ждали, когда он соизволит уйти, но он не шевелился, временами открывая рот, будто собираясь заговорить. В неподвижном воздухе ароматы от сброшенных колпачков с благовониями смешивались с запахами несвежей еды.
Сменхара был погружен в мрачную задумчивость, только его пальцы двигались среди крошек и кусочков черного хлеба. Сначала он не расслышал, что его позвали по имени, но фараон окликнул его снова, и, встрепенувшись, Сменхара поднял взгляд.
– Да, великий царь?
– Подойди сюда, царевич.
Сменхара покорно поднялся и взошел на помост, низко поклонившись несколько раз. Эхнатон указал на свободное кресло Мериатон. Вначале он смотрел на брата без всякого выражения, потом медленно улыбнулся.
– Сменхара, – прошептал он, – что случилось с самым счастливым народом под небесами? Повсюду, куда я ни посмотрю, – боль и смерть. Даже здесь, в месте, которое Атон выбрал для своего обитания, и здесь зло. Я истощен, я сделался похожим на дырявый горшок. Я беспрестанно молюсь, но мои молитвы имеют вкус голода. Мое дыхание, как хамсин; оно приносит только смерть. – Переведя дух, он продолжил, и Сменхара услышал в его голосе волнение, с которым он пытался совладать. – Я, тот, кто стоит между богом и людьми, я не знаю, что делать. Мои мольбы не доходят. Бог больше не указывает мне путь. – Толстые, накрашенные оранжевым губы затряслись, обтянутые золотой тканью плечи поникли. – Я думал, когда сделаю тебя наследником, бог будет удовлетворен, но этого не случилось. Этого оказалось недостаточно. – Он стиснул ладони, и Сменхара увидел, как медленно и мучительно переплелись тонкие пальцы. – Существует некая причина, неведомая мне, по которой мой божественный отец отрекся от меня. Он больше не любит меня. Моя бессмертная миссия должна перейти к тебе.
Сменхара услышал, как за спиной фараона кто-то шумно вздохнул, и подумал, что это, должно быть, Эйе.
– Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
– Я должен передать тебе свои божественные силы. Атон уже изменяет твое тело, формируя его по образцу, по которому он пожелал создать меня. Ты будешь совершать богослужения в храме и передавать людям волю бога.
– Но, Гор, я не хочу! – Сменхара запнулся, внезапно похолодев. – Бог не указывал ничего подобного для меня! Я всего лишь царевич, Гор-птенец. Я не знаю ничего из учения!
– Как ничего не знал и я, пока бог не выбрал меня, чтобы просветить. – Эхнатон говорил глухим голосом, в глазах стояли слезы. – В следующем месяце река должна начать подниматься, если я поступил правильно с точки зрения Диска.
Сменхара смотрел на него.
– Ты отдаешь мне трон Гора? Ты спускаешься по священным ступеням? Фараон не может передавать свою божественную миссию другому при жизни!
– Нет, я останусь правителем на троне, божественным воплощением в Египте. Я не отдаю тебе власть правления, ты лишь будешь молиться от моего имени. Однажды ты станешь воплощением Атона, но он желает ввести тебя в свою семью сейчас. Он станет слушать только тебя. Хранитель, возьми корону и регалии, Пареннефер, очисти проходы. Мы пойдем в мою опочивальню. – Он разжал пальцы и потянулся к щеке Сменхары, и что-то в его миндалевидных глазах, внезапно ставших томными, заставило юношу быстро отпрянуть. – Идем, Сменхара, – настаивал фараон, когда хранитель снял с него корону и заменил ее белым льняным шарфом, положив крюк и цеп рядом со скимитаром в золотой сундучок. – Я удостою тебя чести стать истинным членом моей семьи.
– Но я уже и так член царской семьи! – выпалил Сменхара, испугавшись не на шутку. – Моя мать – императрица, мой отец…
Он умолк, поймав на себе суровый взгляд Эйе из-за плеча Эхнатона. Это было явное предупреждение. Еще секунда, и Сменхара бросился бы с помоста, чтобы искать убежища в своих покоях, но вместо этого он нетвердо поднялся вместе с фараоном. Эхнатон обнял его за плечи, притянув к себе. Он тяжело задышал, легко касаясь ногтями голого тела Сменхары с потеками масла. Вестник принялся выкрикивать предупреждения всем, кто мог встретиться на пути владыки всей жизни.
Фараон отпустил царевича, лишь когда они оказались за закрытыми дверями царской опочивальни, но и тогда он отнял руку только для того, чтобы взмахом выпроводить слуг. Казалось, он оправился от своего мрачного настроения. Он снисходительно и ободряюще улыбался, глаза его сверкали. Налив вина, он протянул чашу Сменхаре, который схватил ее и залпом выпил, серебряный край чаши стучал о его зубы. Он покрылся испариной. Эхнатон подошел ближе и начал снимать сине-белые ленты с головы юноши, проводя руками по гладкой коже головы, по щекам, по похолодевшим губам.
– Ты очень красив, – проговорил он.
Сменхара не мог смотреть ему в глаза. Он стоял, дрожа, повесив голову, как жертвенный бык. Эхнатон снял с него ожерелье, браслеты и кольца, целуя каждый палец. Он тяжело дышал, узкая грудь быстро вздымалась и опускалась. Он сбрызнул свои пальцы ароматным маслом, которое вытекло из колпачка с благовониями Сменхары и размазалось по его груди, потом принялся растирать его. Сменхара крепко зажмурился, неистово пытаясь уйти в воспоминания, представляя Мериатон и благоуханные дни, которые они вместе проводили в Малкатте, хихикая и попивая пиво в саду; свою ладью на полноводной реке, удочку в своих руках; новых друзей, которые стайками ходили за ним.
Но он не мог скрыть отвращение, которое испытывал к прикосновениям фараона. Руки теперь касались его шеи. Ароматное дыхание Эхнатона било ему в ноздри. Он открыл глаза и увидел, что длинное лицо приближается к его лицу, толстые губы слегка приоткрыты. Я не должен бежать – мрачно думал он. – Если я убегу, то утрачу возможность взойти на трон. Если я вызову его недовольство, фараон, может быть, изберет в наследники Тутанхатона вместо меня, и я навсегда останусь царевичем, а Мериатон никогда не будет моей.
Губы фараона нашли его губы, отстранились, потом снова прижались уже более уверенно, а руки все сильнее прижимали его к мягкому телу бога. Ищущие руки фараона скользнули вниз по прямой спине Сменхары, нашли край юбки и, развязав ее, сбросили на пол. Скользкие от масла пальцы впились в крепкие ягодицы, губы скользили вниз по шее Сменхары. Несмотря на свое отвращение, юноша почувствовал, что у него внутри все расслабилось.
– Смелее, царевич, – пробормотал Эхнатон, отстраняясь с сонной улыбкой. – Это необходимо. – Он сел на край ложа и притянул Сменхару к себе.
Позже он лежал, обняв брата, голова Сменхары покоилась у него на плече. Поднялся ветер, и пыль залетала в комнату сквозь прорези под потолком и клубилась вокруг оконных занавесей. Почти рассвело, но комната была погружена во мрак, только ночник разливал рядом с ложем тусклый желтый свет.
– Ты хороший юноша, очень старательный, – сказал фараон. – Можешь быть уверен в милости Атона. Моя милость тебе уже обеспечена. Позволь мне сделать тебе подарок, Сменхара. Чего бы тебе хотелось?
Мне бы хотелось побежать к реке, нырнуть в нее и мыться, мыться, – горько думал Сменхара, исполненный стыда и унижения. Но тут ему пришла мысль, и он приподнялся на локте, глядя сквозь темноту в умиротворенное лицо.
– Если я доставил тебе удовольствие, божественный брат, если ты любишь меня и истинно хочешь наградить меня, отдай мне Мериатон.
Лицо Эхнатона сделалось непроницаемым.
– Это невозможно.
– Почему? У тебя власть. Я теперь твой наследник. Разве ты забыл, как твой предшественник отказался отдать тебе царицу Ситамон, твою сестру, как он заставил тебя ждать, пока он не умрет? Не заставляй меня таким же образом ждать Мериатон.
Угроза в его словах была очевидной, на самом деле он хотел сказать: Если ты заставишь меня ждать, я буду презирать тебя так же, как ты презирал Осириса Аменхотепа. Сменхара, внимательно глядя на него, видел отражавшуюся в его глазах борьбу между ненавистью фараона к отцу и чувством собственника. Он напряженно ждал; наконец фараон вздохнул.
– Я не забыл. Как я мог забыть? Хорошо, Сменхара, мы будет делить ее. После всего, что было, мы – одна семья.
– Нет! Нет, теперь я в твоей власти и клянусь, что буду покорным и послушным долгу. Но поскольку я следующее божественное воплощение, Мериатон только моя, по праву. Бекетатон мертва.
– Есть Анхесенпаатон.
Сменхара бессовестно решил рискнуть.
– Это правда, – прошептал он, – но Атон уже показал мне, что я твой наследник. Он приходил ко мне во сне прошлой ночью и сказал, что ты отдашь мне Мериатон.
Эхнатон лежал неподвижно. Постепенно выражение огромной печали смягчило его лицо, и он умоляюще посмотрел на Сменхару.
– Бог говорил с тобой? О Сменхара, какой ты счастливый! Я истосковался по голосу, который слышал прежде. Хорошо. Если это воля Диска, я отдам ее тебе.
Сменхара широко раскрыл глаза. Он не мог поверить, что фараон так легко сдался.
– Благодарю тебя, – сказал он, не в силах скрыть радость в голосе.
Эхнатон улыбнулся.
– Если ты истинно благодарен, тогда поцелуй меня.
Несколько мгновений Сменхара рассматривал выжидательно раскрытые губы фараона, но затем, набравшись решимости, наклонил голову и поцеловал их.
Эхнатон не делал попыток скрывать свои отношения с братом; он счел бы неестественным делать так. Он известил всех, что посвятил Сменхару в служение богу с помощью своей плоти, даровав ему власть единственным образом, который считал приемлемым. Жителям Ахетатона и придворным было уже все равно. Один раз подозрительно взглянув на пару, шествующую по дворцу рука об руку, лаская друг друга, и заметив, как они при каждой возможности прижимаются друг к другу губами и телами, все обращали тревожные взгляды к реке. Время половодья пришло и минуло снова, но уровень воды не изменился, и к этому моменту река действительно пересохла, оставшаяся вода постепенно испарялась из нее в сухом горячем воздухе.
Эхнатон был по-прежнему беззаботен.
– Скоро придет полноводье, – заверял он. – Сменхара общается с богом.
Долгими иссушающими ночами Сменхара с надлежащим вниманием предавался любовным утехам со своим владыкой, а после становился все более велеречивым, когда Эхнатон спрашивал его о желаниях Атона и его заявлениях. Полноводье придет, отчаянно убеждал его Сменхара, но оно будет поздним. Египет должен научиться терпению.
Скоро Эхнатон начал называть брата любовным прозвищем, которым когда-то удостоил Нефертити, Нефер-неферу-Атон – Прекрасны совершенства Атона, и Сменхара также позволил обращаться к себе как к «возлюбленному Эхнатона», потому что фараон изливал на юношу всю свою любовь. Эхнатон даже заказал художникам Кеноферу и Ауте две статуэтки: на одной царь левой рукой обнимал царевича, а правой ласкал его лицо, на другой, которая так и не была закончена, они сливались в поцелуе. Обе статуэтки изображали царственные тела в сильно искаженных пропорциях. Сменхара с ужасом смотрел, как они появлялись из камня. Ему не нравилось, когда ему напоминали о постепенном удлинении его черепа, о растущем слое жира на животе, согнать который, казалось, не могли никакие упражнения. Для фараона же такие физические изменения в его теле были знаком божьей милости. Для Сменхары они были ужасающим видением будущего, которое подталкивало его все более пылко искать радости в настоящем.
Миновали хояк, тиби и мехир. Кратковременная надежда, вдохнувшая некоторое оживление во дворец, что в этом году разлив все же наступит, начала угасать. Фараон еще шествовал к храму и обратно рядом со Сменхарой, останавливаясь у окна явления, чтобы улыбаться и подбадривать немногих горожан, которые еще собирались на дороге взглянуть на него. Он еще играл со своими детьми, сидел на общественных приемах и возглавлял праздники, но выглядело это так, будто он страдает какой-то внутренней слепотой, из-за которой был неспособен видеть реальность, неумолимо сжимающуюся вокруг него. Вид, открывавшийся из окна явления, был суров. Бесчисленные деревья были мертвы, прекрасные лужайки исчезали под вторгающимся в город песком пустыни, и люди, хотя еще выстраивавшиеся каждый день в очередь к царским зернохранилищам, были малочисленны и молчаливы. В городе стоял запах болезни и испражнений. Дочери фараона приветствовали его в тихой, полупустой детской. Его приемы проводились для призраков. Все иноземные миссии покинули Ахетатон.
Но еще оставались некоторые официальные церемонии. Фараон, теперь встревоженно пытавшийся сделать что-нибудь, чтобы отвести проклятие Атона от Египта, наконец, продиктовал и скрепил печатью договор о бракосочетании Сменхары и Мериатон. В ночь, когда юноша получил свою жену, он ждал ее в своих покоях. Он был очень спокоен, почти холоден, время, когда он трепетал от волнения, давно прошло. Его сердце не дрогнуло, даже когда он увидел ее, стоящую в дверях, ее слуги отступили назад, а его рабы, низко кланяясь, закрывали двери. На ней было простое желтое гофрированное платье, скрепленное на одном плече. В черных прямых волосах вилась золотая лента, тонкие золотые звенья цепочек охватывали запястья и щиколотку. Сменхара смотрел, как она плавно идет по запыленному полу. Он не чувствовал ничего, только неопределенная печаль разливалась там, где прежде жила его огромная любовь. Они долго стояли, глядя друг на друга. Наконец он широко раскрыл руки, и она шагнула к нему. Ему было приятно держать ее в объятиях, зарывшись лицом в ее волосы, вдыхая тепло и аромат ее крепкого молодого тела, он закрыл глаза, когда к горлу подступили слезы, и почувствовал, что готов разрыдаться. Она отстранилась и попыталась улыбнуться ему, ее губы дрожали, слезы текли по накрашенным щекам. Плача, он сцеловывал слезинки, потом нашел ее губы. Она не сильно изменилась. После рождения ребенка ее бедра чуть раздались. Груди сделались полнее, глаза спокойнее. Однако, хотя он продолжал целовать ее, он по-прежнему ничего не чувствовал. Даже нежность ушла. Осталась только ужасная, болезненная печаль. Он бережно уложил ее на постель, раздвинул одежды, говоря себе, что теперь наконец он волен касаться ее, где хочет. Он дождался и добился ее. Она принадлежит ему. Она лежала тихо, легко обвив его шею одной рукой, глядя на него, все еще плачущего. Через несколько минут он отстранился.
– Я не могу! – сдавленно выкрикнул он. – Амон, помоги мне, я не могу! – Он сел, глядя на свои руки. – Это бесполезно. Мы стали другими.
Она отвернулась.
– Да, – прошептала она. – Мы стали другими.
Эхнатон вошел в комнату Анхесенпаатон. Его третья дочь год назад покинула детскую, став девушкой, и гордо совершила обряд перехода в девичество. Ей состригли детский локон, и волосы начали отрастать, так что теперь они достигали подбородка, черные и блестящие, обрамляя милое личико с огромными глазами. Новое положение позволяло ей занимать анфиладу комнат во дворце и иметь собственных слуг. Она уродилась счастливым, легким ребенком, от отца ей передалась любовь к природе. Услышав, как вестник объявил о его приходе, она вскочила с пола, где приводила в порядок свои безделушки, и бросилась в его объятия. Он ласково обнял ее.
– Ты выглядишь очень свежо сегодня, – сказал он. – Вижу, что ты носишь венец из ониксовых цветов, который я прислал тебе. Ты сама как цветок, Анхесенпаатон. Хорошо ли ухаживают за тобой твои служанки?
– Ну конечно! Сегодня приходил дедушка. Принес мне эти браслеты. Их сделала Тии. Как тебе нравится? – Она схватила их с пола и бросила ему.
– Они чудесные, но я хотел бы принести тебе живые цветы лотоса. – Эхнатон отдал ей браслеты. – Даже водяная лилия была бы чудом сейчас.
– Не волнуйся. – Она коснулась его щеки. – Атон возвестил царевичу Сменхаре, что его гнев почти иссяк. Все ведь не так ужасно у нас, правда, папочка? Египет силен!
– Ты права. Теперь, дорогая, прикажи служанкам выйти. Я желаю говорить с тобой наедине.
Анхесенпаатон отдала приказание, и служанки, одна за другой, вышли из комнаты. Эхнатон взял ее за руки и подвел к ложу. Усевшись, он потянулся к ней.
– Иди ко мне на колени, – улыбнулся он, – и слушай внимательно. Ты знаешь, что твоя сестра теперь принадлежит Сменхаре?
– Да, конечно. Женщины болтали об этом. Они говорили, что царевич добивался Мериатон очень долго.
– Думаю, это правда. Но я теперь остался без царицы.
– Бедный папочка! А как насчет царевны Тадухеппы?
– Киа очень любит меня, но она только вторая жена. Ты не хотела бы стать моей царицей, Анхесенпаатон?
Она серьезно посмотрела ему в лицо.
– Если это сделает тебя счастливым, Великий.
– Хорошо. – Он снял венец с ее головы и, взяв ее личико в ладони, сочно поцеловал в губы; потом поднял ее со своих колен и положил на ложе. – Меня трудно сделать счастливым в эти дни, – сказал он. – Я рад, что ты готова попытаться.
Тейе медленно поправлялась после болезни, которая сразила ее после похорон Бекетатон, она пыталась возобновить работу с Мериатон в палате внешних сношений, но обнаружила, что девушка впала в уныние. В любом случае, количество посланий сократилось до жидкого ручейка несущественной информации, формальных приветствий фараону от немногочисленных еще оставшихся мирными народов и просьб о золоте. Она знала, что даже номинально не может больше контролировать никакие сферы правления. События во дворце приводили ее в смятение и пугали, особенно беспокоило ставшее явно безумным поведение сына, но она была слишком утомлена и немощна, чтобы обсуждать это, не говоря уже о том, чтобы возражать ему. Эйе тоже сделался удивительно молчаливым. Она надеялась, что он будет требовать большей власти для Сменхары, мобилизации армии, даже убийства фараона, замучившего Египет, но длительная засуха и голод иссушили его желания, так же как и желания почти каждого управителя, даже Хоремхеба После усмирения солдат в Мемфисе он уехал на север в свое родное селение Хнес навестить родителей и, вернувшись в Ахетатон, уединился с Мутноджимет в своем поместье. Может быть, он замышлял переворот, но Тейе было уже все равно.
По дворцу носились слухи о дождях в Ретенну, об огромных колосьях, вызревающих там, об изобильном урожае в Вавилоне, тогда как Нил сделался ядовитым от гниющей рыбы и его крутые бурые берега кишели лягушками. Начались разговоры о том, что река сама заражена чумой, потому что те несчастные, которые случайно сваливались в нее, или дети, пытавшиеся охладиться в ее маслянистой, стоячей воде, немедленно обнаруживали сыпь, струпья и волдыри, которые приводили к лихорадке и неминуемой смерти.
Но Ахетатон продолжал цепляться за последние обрывки своей прежней сияющей мечты. В Египте, страдания которого давно перешли границу человеческой выносливости, этот город все еще считался благословенным. Еды было мало, но все же хватало. Двор укрывался за удобными внешними атрибутами ритуалов и протокола. Эхнатон проводил дни в храме со Сменхарой, стеная и взывая к жалости своего свирепого пылающего бога, а ночи – предаваясь любви с царевной Анхесенпаатон или с царевичем. Девочка была беременна – факт, который рассеянные придворные едва заметили, и Эхнатон сам не испытывал от этого никакой радости. Бог будто насмехался над ним, одарив такой плодовитостью его самого и его семью солнца. Хотя дела правления были на грани остановки, управители и придворные бросили свои обязанности, рутинные дела их слуг остались без изменений. Фараон, его семья и бесчисленная знать, обитавшие во дворце, по-прежнему требовали ежедневной заботы.
Никто из мелких чиновников не был занят больше, чем Хайя, который теперь тратил меньше времени на свои прямые обязанности в гареме, потому что почти все его силы забирали заботы о слабеющей императрице. Хотя в основном Хайя передал свои обязанности помощнику, сегодня он лично осмотрел детские и теперь стоял перед фараоном, который только проснулся. Рядом с ним еще спал Сменхара, тяжело дыша и бормоча во сне. Эхнатон поднес палец к губам.
– Не буди его, – зашипел он. – Ему мало удалось поспать. Чего ты хочешь, Хайя?
Хайя поклонился и тихо заговорил:
– Великий царь, думаю, тебе лучше пройти в детскую. Маленькие дочери Нефертити серьезно заболели. Я послал к ним твоего врачевателя.
Он с трудом выдержал взгляд испуганных глаз.
– Все дочери? У них лихорадка?
– Я не уверен. Определенно, они в жару, но, сдается мне, у них еще и синяки на теле.
Эхнатон силился подняться.
– О нет! – неистово прошептал он. – Я не вынесу этого. Что я сделал такого, что все эти напасти должны были свалиться на меня? Даже бог не может страдать бесконечно.
Хайя постарался взять себя в руки.
– Может, срочно вызвать сюда их мать? – предложил он.
Эхнатон уже стоял, опираясь на ночной столик, его глаза опухли от жары и недостатка сна, остатки сурьмы и хны размазались по телу.
– Нет, – ответил он. – Я не хочу снова видеть ее. Прикажи моим личным рабам прийти и одеть меня.
– Фараон, – осторожно настаивал Хайя, – они умирают.
Нелепая фигура тяжело опустилась на ложе. Одну руку фараон с силой прижал к глазам, будто пытаясь заслониться от боли. Потом он кивнул. Хайя тут же вышел, на ходу отдав приказание рабам фараона. Он уже известил Тейе, но та только поджала губы и отвернулась. Пока фараона одевали, Хайя приказал личному вестнику царя отправиться в северный дворец, а сам вернулся к девочкам.
К тому моменту, как фараон направился в детские, младшая его дочь, Сотпе-эн-Ра, была уже мертва.
– Тело выглядит так, будто оно начало разлагаться еще до того, как дыхание покинуло ее, – прошептал Хайе испуганный врачеватель. – Это самая опасная форма чумы. Не позволяй фараону смотреть на тело.
Но Эхнатон и не просил показать тело Другие две девочки лежали в соседних комнатах, куда он нерешительно вошел. В недвижном воздухе висел запах разложения. Никто из слуг не заботился о мечущихся, кричащих в бреду царевнах. Служанки толпились у двери, зажав носы подолами платьев, врачеватели со своими помощниками беспомощно стояли рядом. Нефер-неферу-Атон-Ташерит попросила пить, и, помедлив мгновение, фараон сам взял чашу и подошел к ложу. Один из врачевателей быстро двинулся вперед, чтобы приподнять безвольную голову больной, но девочка в бреду оттолкнула чашу и продолжала стонать. На ее шее обнаружились большие черные пятна, и Эхнатон, осторожно потянув вниз покрывало, увидел такие же пятна у нее на груди. Он отпустил ткань и стоял, безвольно опустив руки, борясь с подступающей рвотой. Два часа спустя в детские влетела Нефертити, но к тому времени все три царевны были уже мертвы. Заслышав шорохи и шепот у двери, Эхнатон обернулся и, увидев царицу, заплакал и бросился ей навстречу.
– Нефертити, – захлебывался он, – я так скучал по тебе, я так безутешен, помоги мне…
Но она с угрюмым видом протиснулась мимо него. Слуги уставились на Нефертити. Ее не было во дворце так долго, что для многих она превратилась в эфемерный образ трагичной, одинокой женщины, доживающей свои дни в заключении, но решительная царица, шагнувшая в комнату, не имела ничего общего с бледным плодом их воображения. Нефертити сорвала покрывало с тела Сотпе-эн-Ра. Она долго смотрела на него без всякого выражения, потом прошла через дверь в другую комнату и еще дважды повторила свое действие. Закончив осмотр, она гордо прошествовала обратно к фараону и швырнула к его ногам испачканную простыню.
– Ты убил моих детей, – произнесла она.
Эхнатон потянулся к ней.
– Я тоже страдаю, – захныкал он.
Она отшвырнула его руку.
– Ты держал меня вдали от детей четыре года, а потом убил их! – Она побелела от горя и ярости. – Принести бы всех умерших в Египте детей и положить у твоих ног. Знаешь, как люди называют тебя? Преступник Ахетатона, а твою мать – блудницей. Это вы, вы навлекли проклятие богов на эту обреченную страну! Ты раскаиваешься? Нет! – Она принялась колотить друг о друга сжатыми кулаками. – Ты нагромождал одно зло на другое. Мекетатон, Мериатон, а теперь уже и твой брат в твоей постели! Я требую свидания с Анхесенпаатон!
Все изумленно посмотрели на нее, потом их взгляды обратились к фараону, они ожидали, что царственный урей на его лбу изрыгнет в нее пламя в ответ на богохульство. Но Эхнатон только обхватил себя руками за плечи и тихо завыл, а потом у всех на глазах сполз на пол и начал раскачиваться взад-вперед. Бросив на него презрительный взгляд, Нефертити вышла, ее свита бросилась за ней.
Когда в дверях возникла мать, Анхесенпаатон, сидевшая в своей комнате, слушая лютниста, подскочила от неожиданности и с радостным криком бросилась к ней. Обняв дочь, Нефертити покрыла поцелуями черноволосую головку. Анхесенпаатон отступила назад, ее глаза сияли.
– Матушка! Он освободил тебя? Ты возвращаешься во дворец? Слушай! – Подскочив к столу, она схватила свиток. – Царь Вавилона, Бурнабуриаш, писал фараону, называя меня Госпожой Дома, и обещал прислать мне кольца с печатью из ляпис-лазури! Я теперь настоящая царица!
Нефертити взглянула на кобру, вздымающуюся над тонким золотым венцом надо лбом дочери. Ее взгляд опустился ниже, к мягкой округлости под прозрачной тканью одеяния девочки. Она резко развернулась и вышла, не сказав ни слова.
Когда ее несли обратно в северный дворец, Нефертити оцепенело сидела за закрытыми занавесками носилок в таком глубоком потрясении и ярости, что не осознавала, где она. Царица пришла в себя, лишь миновав массивные ворота в стене, которая отделяла ее жилище от южной части города. Носильщики двинулись наверх по длинной лестнице, ведущей к входу во дворец. Всю дорогу она молчала, боясь разрыдаться, и когда носильщики опустили паланкин, она смогла лишь молча отослать их. Она вошла в прохладу полутемной залы и только там, обернувшись к свите, вновь обрела способность говорить.
– Оставьте меня в покое. Расходитесь по домам. Я не хочу никого видеть и слышать по крайней мере несколько часов.
Через несколько мгновений она осталась одна. Стиснув руки, она металась по огромным, тихим комнатам дворца, горе требовало выхода в движении, будто, шагая, она могла убежать от своей боли. Постепенно она успокаивалась, и гнев, который не давал пролиться слезам, начал стихать. В конце концов, она вошла в приемную и, бросившись в кресло, закрыла лицо руками и зарыдала.
В тот вечер она долго сидела у окна в темнеющей зале и пила вино, мрачно глядя на опустошенные террасы, слабо освещенные светом убывающей луны, когда у нее за спиной вежливо кашлянул вестник. Она нетерпеливо обернулась, все еще охваченная горечью и гневом.
– Я не заметила, что уже так стемнело, – сказала она. – Пусть зажгут лампы. В чем дело?
– Царица, твой отец ждет за дверью.
Нефертити удивленно подняла брови.
– Удивительно, что он вообще вспомнил, что у него есть дочь, – язвительно бросила она. – Проводи его.
Вестник поклонился и вышел, махнув слугам, чтобы зажгли лампы. Слуги бесшумно пошли по комнате со свечами в руках. Нефертити ждала, полуобернувшись в кресле и поставив чашу на подоконник. Некоторое время спустя Эйе поклонился ей и приблизился, держа за руку ребенка.
– Я не рада тебе, – холодно сказала она, когда они остановились перед ней. – Я не получила от тебя поддержки, когда нуждалась в ней, носитель опахала. Ты не можешь рассчитывать на мое гостеприимство.
– Я ни о чем не прошу, – хрипло сказал Эйе. – Ты права, царица, и я знаю, что бесполезно падать на колени и умолять о прощении.
– Даже если бы у тебя хватило на это сил. – Нефертити улыбнулась ледяной улыбкой. – Ты ужасно постарел, отец.
– Знаю. Но я еще довольно крепок. Послушай меня, дочка. Ты теперь можешь вернуться во дворец, если пожелаешь. У Эхнатона не хватит мужества возражать. Он сломлен.
– Нет уж, благодарю. После того, что я вынесла сегодня…
– Так я и думал. Тогда окажи мне услугу. – Он подтолкнул мальчика вперед. – Возьми Тутанхатона под свою защиту.
Размышляя, Нефертити внимательно посмотрела на царевича долгим взглядом.
– Объясни, – приказала она, но теперь в ее голосе не было холодности, она не сводила глаз с Тутанхатона. – Царевич, если ты выйдешь в коридор, ты найдешь там моего управляющего. У него припрятано немного меда, и если ты прикажешь ему, он позволит тебе окунуть туда пальчик.
– Да? – Мальчик неуверенно улыбнулся. – Это будет замечательно, но я правда хочу домой.
Эйе наклонился к нему.
– Царевич, туда нельзя. Завтра я пришлю тебе твои игрушки и слуг и сам буду часто приходить к тебе.
Тутанхатон вздохнул для виду и вышел. Нефертити жестом пригласила отца садиться.
– Не думаю, что фараон долго протянет, – задыхаясь, сказал он, – а Сменхара будет плохим наследником. Он слаб, жаден и невежествен. Но он совсем не глуп. Если он решит, что Египет может попытаться отнять у него корону и отдать ее единокровному брату, не сомневаюсь, что он может убить мальчика.
– А Египет может?
– Еще немного, и он сможет. Сменхара с каждым днем все больше напоминает своего брата. Он даже не пытается использовать свое влияние на фараона в благих целях. Тутанхатону тут будет безопаснее. У тебя хорошая охрана.
Нефертити подняла чашу и задумчиво отпила, неотрывно глядя в лицо Эйе.
– Понимаю. И если придет время возложить двойную корону на его голову, кто будет его императрицей и кто регентом?
– Диск и двойное перо можешь получить ты, если пожелаешь, а регентом буду я.
– Вот как. А что будет делать Хоремхеб?
– Он будет воевать в Сирии.
Нефертити коротко рассмеялась и подалась вперед.
– А он знает об этом? А Тейе?
– Мы с ним говорили об этом. Но Тейе стара, Нефертити. После смерти Бекетатон и Тиа-ха она сделалась нелюдимой. Она часто болеет и не хочет говорить ни о чем, кроме прошлого. Я переживу ее.
– Ты так бессердечно говоришь о таких вещах, хотя она всегда занимала место в твоем сердце как друг, сестра и императрица. Сдается мне, твое честолюбие пережило ее амбиции. Как странно!
– При условии, что я буду повиноваться будущему регенту.
– Конечно.
– Я предлагаю тебе еще одну возможность вернуться к власти и стать настоящей правительницей, на этот раз как императрица.
Улыбка понимания озарила все еще прекрасные черты Нефертити.
– Ты так красочно описываешь эту дорогу, какая она широкая и прямая, но на ней немало невидимых колючек. И не забывай, что я обязательно приду на твои похороны, отец. – Она снова расслабилась, откинувшись в кресле, и подняла чашу. – Я оставлю мальчика у себя. Он развлечет меня. Но что скажет Тейе, когда ты объявишь ей, что ее драгоценный царевич находится у меня?
Эйе с трудом поднялся на ноги.
– Вряд ли я сообщу ей об этом. Она больше не проявляет интереса к своим детям. Они не принесли ей ничего, кроме горя. Она не будет скучать по нему. Никто не будет. Во дворце все поглощены собственными бедами.
– Так же как и я. Ты свободен, носитель опахала. И вели принести себе грудные притирания. Тебе будет легче дышать.
Он поклонился и вышел в ночь.
Тейе повернулась на бок и, примяв подушки, уставилась в темноту опочивальни. В дальнем конце комнаты сидела Пиха, склонившись над шитьем на своей циновке, в ореоле света от ночника, стоявшего у ее колен. От ее легких движений по стене мягко скользили тени, и тишину нарушал только звук ее голоса – она тихо напевала за работой. Глядя на нее, Тейе завидовала ее покою. Она знала, что через некоторое время служанка аккуратно свернет ткань и подойдет к ложу спросить, не нужно ли чего госпоже, но до этого момента она будет поглощена своей работой. День выдался небогатым на события, пришло только сообщение из дворца, что фараон вот уже четыре дня как закрылся в своих покоях, отказывается от пищи и питья, сидит на полу опочивальни и часто не узнает своих слуг. Тейе, все еще слабая после приступа лихорадки, особенно не переживала за сына. Она сделала для Египта и для сына все, что было возможно, и могла позволить себе больше ни о ком не беспокоиться.
Она уже дремала, когда вдруг услышала шум, и открыла глаза. Пиха уже отложила шитье и шла к двери. Вошел брат, жестом указав Пихе подождать в коридоре, и, прежде чем Тейе смогла приподняться в постели, он был уже рядом с ложем. Он не поклонился.
– Тейе… – начал он, но, увидев крайнее возбуждение на его лице, она прервала его:
– Принеси лампу и поставь ее на столик.
Она уже окончательно проснулась и встревоженно смотрела на него. Его руки дрожали, и пламя лампы дрожало в его руках. Она кивнула, разрешая ему говорить.
– Фараон только что отдал приказание всем своим вестникам, – сипло проговорил он, – и пригрозил им расправой, если оно не будет выполнено без промедления. Они должны посетить каждый город, каждый храм, даже святилища маленьких селений, взять с собой каменотесов и повсюду выдолбить резцами, уничтожить… – Он запнулся, сжимая дрожащие руки. – Уничтожить имя Аменхотепа Третьего и все его титулы всюду, где только можно их найти. – Он судорожно сглотнул. – Даже в каменоломнях, где могли остаться незаконченные надписи.
Тейе отшатнулась, сидя в постели.
– Но зачем? – прошептала она. Эйе опустился на ложе у нее в ногах.
– Он говорит, что Аменхотеп не умер, хоть и лежит забальзамированный в своей гробнице, он еще плывет в священной барке, и его присутствие там оскорбляет Атона. Он верит, что поэтому бог навлек на Египет такие огромные бедствия и сомневался в его, Эхнатона, преданности. Если имя Аменхотепа останется, его ка сможет жить. – Он посмотрел ей в глаза. – Он сознательно убивает своего отца. Пусть боги помилуют нас, чтобы он поскорее умер! Он открыл путь в Египет огромному злу. Маат уничтожена.
Тейе, которая никогда прежде не видела, чтобы он терял способность мыслить здраво и непредвзято, ощутила под ложечкой холодок страха.
– Это не только его вина, – с трудом произнесла она. – Я тоже виновна. Как легкомысленно я легла в его постель! Не верю, что проклятие будет снято прежде, чем я умру. – Она вдруг рассмеялась горьким, безрадостным смехом. – Теперь ты понимаешь, что сын Хапу, в конце концов, оказался прав? – продолжала она. – Дважды прав. Эхнатон вырос, чтобы убить обоих отцов – и бога, и человека. Мне следовало позволить расправиться с ним. Мне следовало послушать сына Хапу, но я была горда и ревновала к его власти над моим мужем. Но я заплатила за это. – В горле мучительно пересохло. – Я знаю, как люди теперь называют меня.
Эйе начал приходить в себя.
– Вестники, вероятно, не смогут отыскать все надписи, – мягко ответил он, беря ее за руку. – Ты каждый день носишь на руке имя Осириса Аменхотепа, выгравированное на твоих кольцах. Не отчаивайся, Тейе. Мы предпримем все, что возможно, со всей мудростью, на которую способны, а чего еще от нас требовать?
Он наклонился и поцеловал ее, но она отвернулась.
– Ты больше не делишься со мной своими замыслами, – обиженно сказала она, – и ты не успокоил меня. Ты сделался чужим, носитель опахала. Делай, что должен. Меня больше ничего не заботит. – Но, несмотря на свои слова, она приникла к нему, когда он поднялся, чтобы уйти, и ей пришлось задержать дыхание, чтобы не расплакаться.
Когда он ушел, она встала, преодолевая боль в ногах, пересекла комнату и подошла к большому сундуку, где хранились ее самые дорогие вещи. Остановившись на мгновение, она прислушалась к разговору Пихи со стражником, потом подняла крышку. «Исповедь отрицания», завернутая в простую полотняную тряпицу, лежала там, куда она положила ее. Возвратившись с ней на ложе, она развернула свиток и принялась медленно читать, проводя пальцем по имени и длинному списку титулов, которые она собственноручно записала много лет назад. Дочитав до конца, она плотно скатала его, взвесила в руках, потом громко позвала. Вбежала Пиха.
– Отнеси это в кухню и брось в огонь, – приказала Тейе. – И не уходи, пока он не сгорит дотла.
Служанка кивнула. Тейе отпустила ее и со вздохом откинулась на подушки. Я не заслуживаю исповеди, – думала она, – и это недостойно меня – пытаться обмануть богов. И уже не важно, являюсь ли я одной из них – богиня, не нуждающаяся в оправданиях, – или нет. Что бы ни случилось, я готова.
Несмотря на жару, она спала крепко и на следующий день почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы передвигаться по дворцу, но то, что она увидела, весьма огорчило ее. Она никогда не чувствовала себя здесь как дома по-настоящему. Теперь, переходя из одной роскошно убранной комнаты в другую, она натыкалась взглядом на картины с изображениями уток, прячущихся в густых прибрежных зарослях, влажных виноградных гроздьев, тяжелеющих на лозах, рыб, мелькающих в искрящейся голубой воде; буйство красок было повсюду. Но стоило лишь слегка повернуть голову и взглянуть в окно, как перед глазами оказывался реальный мир. Истрескавшаяся, выжженная земля, безжизненные скелеты деревьев, почти безводное ущелье, где виднелся тонкий ручеек реки, казались бесплотным миражом. Даже ее собственное имя казалось ей чужим, когда она шепотом произносила его. Она с облегчением вернулась в опочивальню.
Но в эту ночь уснуть не удалось. Ее выводил из себя шелест опахал; несколько часов она терпела, потом с раздражением отослала слуг и лежала, слушая тишину. От реки не доносилось ни звука. Ни плеска весла, ни скрипа мачты, ни пения рыбаков, возвращающихся с ночным уловом, ни приглушенного смеха любовников в тростниковых зарослях. Не слышалось даже обычных звуков, которые издают насекомые, ибо сад погиб. Только печальное завывание шакала где-то высоко в восточных скалах тоскливым эхом доносилось из-за долины. Пиха тихо посапывала в своем углу. Иссохшая, утомленная луна проливала на пол бледный свет. Тейе приказала оставить поднятыми занавеси на окнах. Проходили часы, а она все лежала в постели, подложив под спину подушки, свободно положив руки поверх покрывала, ее длинные, волнистые волосы были влажными от пота, дыхание спокойным.
Она понимала, что ждет чего-то, и, боковым зрением уловив какое-то движение в комнате, не удивилась. Она лишь слегка повернула голову и продолжала лежать спокойно, глядя в темноту. Сначала Тейе решила, что ей это почудилось, потому что после того единственного движения комната, казалось, снова погрузилась в неподвижность, но через некоторое время длинная, тонкая тень волнообразными движениями стала продвигаться от окна к двери, пересекая квадрат лунного света на полу. Сердце Тейе заколотилось. Она села. После того, как нашествие змей в прошлом году закончилось, молока в блюдцах на полу уже не оставляли. Эту змею привлекло что-то другое. Возможно, обещание прохлады. Вымощенный плиткой уголок, в котором можно свернуться, – подальше от земли, хранящей дневной жар, будто раскаленная печь. Опершись на локоть, Тейе попыталась проследить, куда она ползет. Нужно немедленно позвать стражу, – подумала она. – Она может быть ядовита. Но что-то удержало ее от того, чтобы закричать.
Чувство неотвратимости происходящего и ледяное спокойствие постепенно овладевали ею, умеряя бешеное сердцебиение; пальцы, комкавшие покрывало, расслабились. Змея могла исчезнуть в щели под дверью, а могла и остаться в опочивальне. Она могла найти Пиху, а могла и не найти. Она могла повернуть к ней, а могла и не заметить… Она ощутила слабое подергивание покрывала под рукой и замерла. Потом медленно, слегка покачиваясь, над краем ложа начала подниматься темная голова. У Тейе перехватило дыхание. Змея поднималась все выше, пока не оказалась почти на одном уровне с лицом Тейе, тонкий столбик ее тела таил мрачную угрозу. Императрица по-прежнему не испытывала страха, но потом ее локоть нечаянно соскользнул и она качнулась назад. От резкого движения змея раскрыла темный пятнистый капюшон, и Тейе поняла, что перед ней кобра. Было темно, и она не могла разглядеть цвет змеи, только лунный свет вспыхивал в блестящих глазах.
Внезапно Тейе осознала, что это и есть то, чего она ждала. Кобры были почти неизвестны далеко на юге, в Фивах, и почти так же редко встречались в Ахетатоне, потому, что они предпочитали изобильные земли Дельты. Но в Дельте сейчас стало засушливо, и эта магическая хранительница власти фараонов, должно быть, вышла на охоту. Нет, не на охоту, – подумала Тейе, снова совершенно успокоившись, не отрывая взгляда от величавого создания. – Слишком наивно полагать, что она оказалась здесь, в моей комнате, совершенно случайно. Она явилась за мной. Тейе пошевелила рукой. Змея продолжала плавно раскачиваться, ее капюшон колыхался, и Тейе могла поклясться, что видела, как кобра на миг показала свой раздвоенный язык. Змея терпеливо ждала, и это чувство передалось и Тейе. Она будет ждать до тех пор, пока я не буду готова, – думала она. – Защитница царей, Уаджет, Владычица заклинаний, ты пришла ко мне, облеченная властью, чтобы сплести вокруг меня последнее, величайшее из всех заклинаний.
Осознание близкого конца сначала вызвало у нее панику. Нет, – неистово думала Тейе. – Я не готова к смерти! Но такая ее реакция была вызвана всего лишь инстинктом самосохранения, потому что тут же на нее нахлынула волна облегчения. Я устала жить. Я несу груз вины и печали, который со временем будет становиться только тяжелее. Все, кого я любила, ушли, все, кроме моего сына, да и для него было бы лучше, если бы он умер много лет назад. Моя любовь принесла ему только страдание. Египет разрушен. Я обитаю в этом разлагающемся теле, будто тень в погребальной колеснице. Пришло время предстать перед богами. Кобра продолжала смотреть на нее пристальным взглядом, живой символ всего, чему она поклонялась, всего, что ее первый муж так восторженно защищал, всего, чем следовало бы стать их сыну. Вздохнув, она протянула руку. – Ну же, кусай, – прошептала она. – Я готова. На короткий миг Тейе прикоснулась к ней, кожа змеи была сухой и прохладной. Развернув ладонь, она подставила внутреннюю сторону запястья. Она улыбалась.
Змея бросилась. Тейе увидела вспышку света на крошечных, острых ядовитых клыках прежде, чем они глубоко вонзились в ее плоть. Невольно она отпрянула, потянув за собой кобру, прикусив язык, чтобы не вскрикнуть, но потом почувствовала, как змея сползает с нее. Надо разбудить кого-нибудь, – подумала она. – Никто не пожелает убить ее, потому что она священна, но она может причинить кому-нибудь вред. Она пощупала запястье, потом прижала его к груди и легла на спину. Медленно обводя взглядом комнату, она находила успокоение в узнавании знакомых предметов, в легком шевелении Пихи во сне, в лунном свете, который теперь поднимался по дальней стене, в клекоте охотящегося сокола. Тихо утекали минуты. Кожа на запястье начала распухать, образуя болезненные волдыри.
Через час Тейе почувствовала, что ее сердцебиение участилось, и попыталась глубоко вздохнуть, снова на мгновение испытав ужас. Вдруг к горлу подступила тошнота, она резко наклонилась вперед, ее вырвало, потом она, задыхаясь, легла снова. Она ждала такой реакции и была готова к ней, но боги были милостивы, и это больше не повторилось. Она бы задремала, если бы не сумасшедшее сердцебиение. Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Когда наступил рассвет, дышать сделалось тяжело, и, уже в самом конце, она села в постели, мучительно силясь втянуть воздух; ее глаза были широко раскрыты, но уже ничего не видели. У нее не было никакой сознательной последней мысли. Оставалось только томительное ощущение прилипших к промокшему от пота телу простыней и невыносимая боль в сердце.
Эйе явился со своего поста у дверей фараона, как только Хайя вызвал его. Он стоял, глядя на маленькую, изящную фигурку с массой рыжевато-каштановых волос, разметавшихся по подушке. Смерть разгладила властное лицо, будто вернув ему часть нежности, присущей Тейе в юности. Полные губы были чуть приоткрыты в спокойной улыбке. Под полуприкрытыми веками голубые глаза отражали дневной свет, и казалось, будто они насмешливо поблескивают. Подняв обмякшую руку, лежащую поверх покрывала, он перевернул ее ладонью вверх. На запястье ясно проступали следы укуса, окруженные багровыми волдырями. За его спиной всхлипывала Пиха.
– Я ничего не слышала, господин, совсем ничего! Я бы спасла ее, если бы могла. Я плохая служанка!
– О, успокойся! – бросил он, не оборачиваясь. – Никто не обвиняет тебя, Пиха. Закрой дверь и скажи жрецам-сем, пусть подождут. Когда придет фараон, можешь впустить его.
Он присел на корточки перед ложем и долго рассматривал неподвижное лицо. Он не знал, что хотел отыскать, но постепенно им овладела некая странная уверенность. Украдкой взглянув через плечо, он удостоверился, что Пиха чем-то занята в дальнем конце комнаты. Хайя смотрел в окно. Тогда Эйе вытащил из-за пояса короткий нож, быстро и бесшумно срезал вьющийся локон и спрятал его в складки одежды.
– В твоей жизни было очень мало случайного, – прошептал он в смуглое ухо. – Я не верю в так называемый несчастный случай. Да живет твое имя вечно, дорогая Тейе. – Он быстро поцеловал безответные губы и вышел в коридор.
Он уже закрывал за собой дверь, когда подбежал Эхнатон, едва не наступая на пятки вестнику, который возглашал его титулы. Все придворные приникли к полу. Фараон схватил своего носителя опахала за руку.
– Этого не может быть! – закричал он. – Скажи мне, что это не так! Я хочу увидеть ее!
Эйе не успел ответить – фараон уже протискивался в дверь. Эйе поспешил рывком закрыть ее прежде, чем раздадутся жуткие завывания Эхнатона, но безумные стоны преследовали его долго после того, как он выскользнул из прихожей и зашагал со своим эскортом обратно через царскую дорогу.
Эйе очень хотелось поискать утешения в обществе Тии, но, прежде чем он смог урвать драгоценный часок в тишине собственного поместья, ему еще предстояло исполнить одно поручение. Эйе больше не ездил в колеснице. К северному дворцу его отнесли в закрытых носилках наиболее доверенные солдаты, терпеливо сносившие свирепую жару летнего полдня. Обычной тени, которую давали путникам деревья, растущие вдоль широкой дороги, соединявшей дворец с центральной частью города, больше не было. У стены стража Нефертити признала его и пропустила. Он вышел из носилок, и Мерира проводил его внутрь. Северный дворец был таким просторным, что даже в такую невозможную жару сквозняки постоянно гуляли по его комнатам с высоченными потолками, и пот сразу начал охлаждать кожу Эйе.
Нефертити, разговаривавшая со служанками, приветствовала отца с учтивым равнодушием. Эйе попросил, чтобы к нему привели Тутанхатона, и отвернулся, в ожидании задумчиво глядя в окно. Нефертити молчала. Когда мальчик с радостной улыбкой пробежал по выложенному плиткой полу, она жестом приказала служанке выйти. Эйе медленно наклонился и обнял его.
– Рад видеть тебя снова, царевич. Ты счастлив здесь?
– Да, – ответил Тутанхатон. – Я не думал, что мне здесь понравится, но это правда. Я могу делать, что мне хочется и когда хочется. Царица часто играет со мной.
Эйе улыбнулся про себя. Нефертити не теряла даром времени и добилась благосклонности мальчика.
– Я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно, – сказал он, глядя в глаза Тутанхатону и отчетливо произнося слова. – Твоя матушка умерла. Было бы правильно, если бы ты стал горевать о ней, но она не хотела, чтобы твоя печаль была слишком сильной. С сегодняшнего дня твоей матушкой будет царица Нефертити.
Нефертити сдавленно вскрикнула и прижала руки к щекам. Доверчивое личико Тутанхатона поворачивалось от одного взрослого к другому.
– Матушка ушла к Атону? – спросил он, мужественно пытаясь справиться с дрожью в голосе.
Эйе обнадеживающе улыбнулся.
– Ну конечно. Ее оправдание обеспечено, и она теперь счастлива. Я принес тебе локон ее волос. – Он вытащил локон и вложил его в детскую ладошку. – Ты должен немедленно пойти и хорошенько спрятать его. Лучше всего в маленькую шкатулочку с плотной крышкой. Храни его бережно. Считай его священным талисманом, амулетом на счастье. Ты должен пообещать мне, что никогда никому не отдашь его.
Тутанхатон зажал локон в кулачке. Эйе перехватил встревоженный взгляд Нефертити.
– Это правда? – шепотом спросила она, и Эйе быстрым движением бровей заставил ее замолчать.
– Я положу его вместе с луком моего братца Осириса Тутмоса, который она подарила мне, – благоговейно сказал Тутанхатон.
– Тебе лучше сделать это прямо сейчас, – подстегнул Эйе. – Ни один волосок не должен упасть на землю. Ты поймешь это лучше, когда подрастешь.
Мальчик кивнул и выбежал из комнаты, торжественно вытянув перед собой руку с зажатой в кулачке драгоценной ношей. Нефертити стремительно повернулась к отцу.
– Это правда? Она покончила с собой? Если да, то боги не смогут узнать ее!
От внимания Эйе не укрылась злая нотка в ее голосе.
– Никто никогда не узнает этого наверняка, – устало сказал он, – но я думаю, что это так. Она не искала кобру, но наверняка могла позвать на помощь и не сделала этого.
– Думаю, что приду на похороны, – подытожила Нефертити, улыбаясь, когда провожала отца до двери.
Эйе возвращался от нее, раздумывая, не уступил ли он Тутанхатону вместе с локоном и свою собственную удачу. Волосы самоубийцы приносили счастье владельцу.
23
Через семьдесят дней Тейе положили на вечное упокоение в гробницу, которую сын приготовил для нее в скалах за Ахетатоном. Было начало атира. Река должна была начать подниматься уже несколько недель назад, но высокие берега оставались по-прежнему безводными. Похороны Тейе проходили на глазах всех придворных города. Нефертити в окружении своей стражи сидела под балдахином немного в стороне от толпы и смотрела на своего супруга. Его голос ясно слышался сквозь бормотание Мериры. Между приступами громких рыданий Эхнатон опускался на колени в песок, черпая его обеими руками и посыпая им голову. Временами он стоял, обнимая Анхесенпаатон и уткнувшись лицом ей в плечо, сотрясаясь всем телом от рыданий, а когда он переставал плакать и посыпать свою голову песком, то начинал ласкать ее и целовать. Она сносила это со стойким безразличием, ее руки оберегающим жестом покоились на раздутом животе; она старательно избегала взглядов собравшихся.
Ближе к концу церемонии Эхнатон шагнул к гробу, положил на него руку и, ласково смеясь, заговорил с телом. Сменхара и Мериатон сидели рядом, держась за руки и опустив взгляды. Эйе и Хоремхеб переглядывались. Детский истеричный голос фараона многократным эхом отдавался от скал и возносился вверх над песками, будто бессмысленное бормотание множества демонов.
Когда, наконец, тело внесли в сырую гробницу, не нашлось живых цветов, чтобы положить в гроб. Один за другим члены семьи клали на тело искусственные золотые, серебряные ветки и драгоценности, а Эхнатон стоял над гробом и перебирал дары, склонив голову набок и шепча что-то себе под нос, его глаза неестественно блестели.
Немногие дождались окончания церемонии запечатывания гробницы. Придворные разошлись, Мерира с жрецами остались доделывать работу. Не сказав никому ни слова, Нефертити увела Тутанхатона обратно в северный дворец. Сменхара и Мериатон в окружении приближенных вернулись в свои покои. Эхнатона осторожно оторвали от дочери, усадили в носилки, отнесли во дворец, а затем уложили в постель. Остался только Эйе. Трудно дыша, он сидел под балдахином и смотрел, как круглая печать вжимается в глину, которой скрепляли узлы на дверях гробницы. Когда все было закончено, он приказал доставить себя в дом Тейе, и вместе с рыдающим Хайей медленно прошел по пустым комнатам. Пиха, немногословная, с красными глазами, руководила рабами, которые мыли и убирали покои. Эйе подошел к туалетному столику и осторожно прикоснулся к вещам, которые еще хранили дыхание жизни сестры. Пустой алебастровый горшочек из-под сурьмы, маленькие голубые бусины от какого-то порвавшегося ожерелья, медное зеркало, торчавшее из футляра. Отпечатки пальцев Тейе четко выделялись на полированной поверхности металла. Он поднял его и посмотрел на свое отражение, потом вздохнул и отдал зеркало Хайе на память. Наконец он вышел в пламенеющий красный вечер и отправился искать тихого утешения у жены.
На этой же неделе заболела Мериатон-Ташерит, маленькая дочь Эхнатона, рожденная от дочери его, Мериатон. Матери пришлось забрать ее в свои покои и сидеть, держа ее за ручку и тихо напевая. Двухлетняя малышка плакала и металась. Скоро сделалось очевидным, что Мериатон-Ташерит страдает от той же страшной лихорадки, которая унесла трех младших дочерей Нефертити. Сменхара беспокойно слонялся вокруг комнаты, где лежала больная, неуклюже пытаясь утешить Мериатон, но не находил в себе сил проявить сочувствие к малышке, которая была для него олицетворением его собственной, самой драгоценной награды, украденной распутником. Он почти с облегчением откликнулся на вызов в опочивальню фараона.
Эхнатон лежал совершенно голый, неуклюже разметавшись на постели и, когда Сменхара поклонился, протянул к нему трясущуюся руку. Сменхара взял ее, быстро оглядел желтое лицо, его настроение упало, когда он увидел, что на этот раз фараон в здравом уме. Со дня похорон Тейе жизнь Эхнатона превратилась в череду приступов рвоты и рыданий. Его замотанные слуги делали все возможное, чтобы он был вымыт и накормлен, при этом стараясь не прислушиваться лишний раз к его бормотанию. По просьбе Пареннефера пришел Хоремхеб, но и он не смог успокоить его, а испуганная Анхесенпаатон, заливаясь слезами, отказалась откликаться на бессвязные призывы Эхнатона. Он почти не спал, только временами проваливаясь в забытье, от которого пробуждался, вздрагивая, час или два спустя, уже с молитвами на устах; им сразу же овладевало беспокойство. Но в этот вечер он вел себя тише, глаза были налиты кровью, но спокойны.
– Нефер-неферу-Атон, возлюбленный, – прошептал он, обвивая руками царевича и судорожно прижимаясь к Сменхаре всем телом. – Поцелуй меня. Ты подходишь ко мне, и я будто вижу перед собой самого себя в молодости. Я вижу, как сила Диска пульсирует в твоих чреслах и сиянием проливается из уст.
– Фараон, ты знаешь, что дочь твоей дочери умирает? – проговорил Сменхара прямо в его толстогубый рот.
Не дав ему ответить, тот вдавил свои губы в рот брата с жестоким, извращенным наслаждением, безжалостными руками прижимая его худые лопатки к матрасу. Эхнатон захныкал, но Сменхара знал из опыта, что это было выражение вожделения, а не реакция на его слова.
– Тебя это не заботит сейчас, верно, мой бог? Да и меня тоже. Хочешь, я поцелую тебя еще?
Он смотрел прямо в опухшие глаза, сам исполненный лютой ненависти, выведенный из своей обычной пассивной мрачности откровенной физической нуждой Эхнатона в нем. Фараон смотрел на него со страстью, слабо кивая, притягивая Сменхару все ниже и ближе к себе. Губы Сменхары уже снова касались его губ, но продолжения не последовало – двери вдруг распахнулись и ворвался Панхеси, падая на колени перед ложем. Он дрожал от возбуждения. Сменхара оттолкнулся от Эхнатона и сел.
– Что случилось?
– Наметился небольшой подъем уровня воды! Исида плачет!
Сменхара уставился на него, горячая волна захлестнула его грудь.
– Насколько велик подъем?
Панхеси показал, что на высоту пальца. Эхнатон нащупал талию Сменхары и приник к нему.
– Проклятие снято, бог умиротворен, – запинаясь, проговорил он. – Позже я пойду в храм и возблагодарю его, но сейчас… Сменхара, ты куда? Умоляю, останься со мной!
Но Сменхара вырвался из объятий брата и выбежал за дверь, уже не слыша ни просьб, ни приказаний. Он ринулся по коридорам, замечая улыбки на лицах, неясными пятнами мелькавших по сторонам, когда он проносился мимо, руки, благодарно воздетые к небу, слыша возгласы, звуки счастливых рыданий, пение молитв. Позади него, громко топая, неслись его охранники, носитель сандалий, вестник и управляющий. Пробежав мимо стражи у входа в покои Мериатон, он бросился к дверям опочивальни и ворвался внутрь.
– Царица, Исида плачет! – выкрикнул он, но тут же и замолчал.
Мериатон даже не взглянула на него. Она сидела, повесив голову, сжимая обеими руками обмякшие пальчики ребенка. Мериатон-Ташерит была мертва.
Приготовления еще одного царственного погребения прошли почти незамеченными, потому что все внимание горожан было приковано к каменным зарубкам столбов, которые через одинаковые промежутки располагались вдоль берегов реки. Чередование дня и ночи уже не имело значения. Когда пеленали дочь Эхнатона и спешно готовили саркофаги, толпы людей сидели или лежали у реки в тени наскоро сделанных навесов. Время от времени они начинали петь или танцевать, но чаще сидели тихо, напряженно вглядываясь в поверхность еще стоячей, зловонной воды. Живо наверстывая упущенное, по берегу сновали торговцы, предлагая дешевые безделушки для даров благодарения. Продавцы вина быстро распродавали свои запасы. Весь город радостно пировал, на улицах было полно пошатывающихся, веселых людей. Ночью горели факелы. Никто не спешил по домам. Во дворце только Мериатон тихо горевала о своей дочери. Придворные закатывали грандиозные пиры, гости, пошатываясь, покидали разоренные столы и торопились на следующее пиршество, где еще не кончилось вино и не устали музыканты. Мутноджимет приказала наскоро соорудить огромный плот, который украсили гирляндами из белых лент и пришвартовали к причалу Хоремхеба. Она приказала также, чтобы к одной из опор прибили шкалу с метками, и ее карлики по очереди сползали вниз к воде и громко сообщали об изменениях ее уровня. При повышении на каждый дюйм раздавались приветственные возгласы, и толпа, набившаяся на плавно покачивающийся плот, поднимала заздравные чаши за Исиду, которая, наконец, смягчилась. По всему Египту люди стояли, в оцепенелом изумлении глядя на медленно наполняющиеся берега, похожие на души из ужасной тьмы Дуата, которым вдруг подарили вторую жизнь. Египет восставал из мертвых на гребне вспухающих чудесных темных вод Нила.
В суматохе праздника о похоронах Мериатон-Ташерит почти забыли. Сменхара и Мериатон стояли обнявшись все время, пока отправляли ритуалы и маленький гробик уносили во тьму. Фараон присутствовал на похоронах, но сидел в молчании, временами кивая или начиная покачиваться, и никто не знал, действительно ли он понимал, что случилось с его ребенком.
В конце хояка, когда Нил начал выходить из берегов и покрывать жаждущие воды поля, Анхесенпаатон разрешилась от бремени девочкой. Избранные аристократы, заполнившие опочивальню, чтобы свидетельствовать Египту о рождении царственного дитяти, все еще пребывали в праздничном настроении. Сидя на полу, придворные шутили и смеялись, заключая пари или играя в настольные игры, в то время как маленькая царевна кричала и тужилась. Ее роды были почти такими же длительными, как роды Мекетатон, и когда они закончились, девочка была слишком слаба, чтобы осознать поздравления Эйе или поцелуи Мериатон. Эхнатон, хотя его известили о близких родах, не пришел, и слуги Анхесенпаатон втайне этому были рады.
В минуты просветления, когда фараона отпускало безумие, он посвящал себя Сменхаре. Он превратил юношу в амулет, в счастливый талисман, прикипев к нему и душой и телом, но здоровье его все ухудшалось. Он приказал, чтобы царевича переселили в анфиладу комнат, примыкающих к царским покоям. Сменхара уступил, надеясь, что брат теперь будет чувствовать себя более спокойно и ослабит, наконец, свою хватку, которая постепенно сводила царевича с ума, но фараон только крепче цеплялся за него. Анхесенпаатон была еще слишком слаба, чтобы разделить царское ложе, даже если бы Эхнатон и желал ее. Казалось, что он, как прежде его отец, подпитывался некими таинственными силами, которые вытягивал из тела юноши. Сменхара испытывал мучительный стыд, появляясь в обнимку с фараоном у окна явления во время все более редких шествий царя к храму, но в остальное время он скрывался в полутьме своих тесных покоев, огрызаясь и набрасываясь на любого, кто приближался к нему. Однажды к нему пришла Мериатон, но даже на нее он накричал с такой злобой, что она ушла в слезах. И хотя уже феллахи наскребали по амбарам чудом сохранившиеся семена, готовясь к севу, и деревья уже вспыхивали свежей зеленью, которой люди не видели почти три года, и шадуфы снова проливали живительную влагу на иссушенные царские лужайки, в сердце Египта все еще лежала губительная тьма.
Хоремхеб обошел вставших на его пути стражников Сменхары, обругав их, с грохотом захлопнул за собой тяжелые кедровые двери и небрежно поклонился царевичу. Сменхара стоял у окна, сложив руки на груди, глядя поверх крытой колоннады на залитый солнцем садик. Хотя в комнате было тепло, он зябко кутался в плотные белые одежды. Он не подал виду, что услышал, как кто-то вошел в комнату. Хоремхеб подождал некоторое время, потом учтиво произнес:
– Царь…
– Убирайся, военачальник.
Хоремхеб подошел к нему и снова поклонился.
– Прошу прощения, но я не могу уйти, не получив твою печать на этом документе.
Сменхара мельком глянул на свиток и снова отвел взгляд.
– Ты уберешься прямо сейчас, вместе со своим документом.
Взгляд Хоремхеба задумчиво скользнул по вздутым, опухшим губам, бледной багровой отметине блекнущего кровоподтека на длинной шее, напряженным пальцам, впившимся в измятую ткань. Он шагнул вперед, вставая между царевичем и окном, и Сменхара отступил.
– Фараон не будет жить вечно, – мягко начал Хоремхеб.
Он хотел было продолжить, но лицо Сменхары вдруг исказилось злобной гримасой.
– Да как смеешь ты жалеть меня! – зашипел он. – Меня, царевича крови и наследника трона! Я заставлю наказать тебя, солдат!
Хоремхеб равнодушно перенес оскорбление.
– Я не жалею тебя, Птенец-в-гнезде, – сухо ответил он. – Настало время готовиться к новому правлению.
– Если ты пришел тереться об меня, как ласковый кот, иди сам поиграй со своим дружком. – Он употребил особенно непристойное выражение, но Хоремхеб не дал втянуть себя в ссору.
– Это приказ о немедленной мобилизации армии, – резко сказал он, поднимая свиток. – Я хочу, чтобы ты дал ему официальное одобрение, чтобы от Египта осталось хоть что-то, чем ты мог бы править.
– Мне наплевать на Египет.
– Я знаю. Но если ты хочешь получить двойную корону и будешь вести себя достаточно умно, то мое содействие тебе обеспечено.
– Угрожаешь? – презрительно фыркнул Сменхара. – А ведь, в самом деле, военачальник, стоит мне поднять палец, и тебя пронзят копьями и бросят в Нил.
– Не думаю, что ты сможешь так поступить, царевич, – тихо ответил Хоремхеб. – Так или иначе, в твоих интересах заручиться моим доверием. Твоя мать хотела добиться трона для тебя, и если ты захочешь заполучить его, тебе понадобится моя помощь.
Не знавшие солнца щеки Сменхары запылали.
– Твоя дерзость непростительна, Хоремхеб! Я его, считай, уже заполучил!
– Не совсем. Под защитой царицы Нефертити подрастает твой единокровный брат. Если бы наследование было только вопросом крови, его притязания были бы сильнее твоих.
Глаза Сменхары сузились.
– Ты осмеливаешься заявлять, – тихо сказал он, – что, если я не сделаю так, как ты хочешь, ты перенесешь свою преданность на незаконнорожденного отпрыска от противозаконного брака? Моим отцом был Аменхотеп Третий, величайший фараон, какого только видел Египет. Ни у кого нет больших прав на трон, чем у меня.
– Царевич, не думаю, что притязания крови будут иметь большое значение, когда фараон умрет. Казна пуста, управители развращены бездействием и взятками, страна в целом почти безнадежно доведена до нищеты. Власть перейдет к тому, кто сможет удержать ее, а не к тому, чья кровь самая чистая. Тебя должны считать достаточно сильным, чтобы признать твое право на трон. Я любил твоего отца и восхищался им, а твоя мать была для меня богиней. Помоги мне помочь тебе.
Сменхара внимательно посмотрел ему в лицо.
– Твои глаза лгут, – сказал он. Его пальцы коснулись кровоподтека на шее, и он рассеянно потер его. – Если ты хочешь помочь мне, убей моего брата.
– В этом нет необходимости. Я уверен, что он и так умирает. Мы можем издавать любые указы, какие пожелаем, и он не станет вмешиваться. Его дни свелись к мрачной череде видений и кошмаров. Он утратил связь с миром.
– Ты не был бы так уверен в этом, если бы это тебя он целовал и ласкал с таким вожделением. – Голос Сменхары дрогнул. – Я думал, ты ему друг. Я не могу доверять тебе.
– Это не важно. Я тебе тоже не доверяю.
– Твои речи – богохульство. А что же Эйе?
Хоремхеб улыбнулся:
– Носитель опахала очень стар.
– О боги, ты отвратителен. – Сменхара резко отвернулся от него.
Рядом с ложем стояло вино, он налил себе и жадно выпил, вытирая губы тыльной стороной ладони.
– Давай свиток. Мобилизация?
– И война. – Хоремхеб отошел от окна и, протянув документ Сменхаре, настойчиво сказал, глядя в лицо юноше: – Я гордился своей страной, царевич. Когда я был маленьким мальчиком в Хнесе, мой отец учил меня служить богам, чтить царя и каждый день возносить благодарение за счастье родиться египтянином. Все люди завидуют нам, говорил он, потому что Египет – процветающая страна и его законы справедливы. У меня не было причин сомневаться в его словах. – Он отступил и, подойдя к окну, устало прислонился к стене. – Он много и усердно работал, но у нас была хорошая жизнь. Наша земля приносила неплохие урожаи, и даже после уплаты ежегодных налогов сборщикам фараона у нас оставалось достаточно зерна, чтобы отец мог обменять его на пару безделушек для матери. Хнес был благословенным местом. Даже беднейшие крестьяне не нуждались в подаянии. Жаль, царевич, что ты не видел моего родного города теперь. – Он отвернулся и уставился на сад. – Он обнищал. Я посылал золото местному жрецу, чтобы он раздал его людям, но они ожесточились от нужды, и, хотя золото может помочь им наполнить желудки, на него нельзя купить утраченное достоинство. – Он невольно повысил голос и теперь замолчал, стараясь успокоиться. – Будучи ребенком, я не сознавал, что Хнес расположен слишком близко от границы. Никто не задумывался об этом. Но теперь Хнес полон страха. Какие ужасные слова! Жители Египта на египетской земле засыпают в страхе проснуться и найти свое селение кишащим иноземными солдатами! Какой позор! – Он внезапно обернулся и снова внимательно посмотрел на Сменхару. – Я никогда не был таким, как другие мальчишки Хнеса, – сказал он. – Я всегда знал, что мне судьбой уготованы большие деяния. Я был умен и исполнен честолюбия, но больше всего я горел желанием служить своей стране и богу на троне Гора, чье благосклонное всемогущество давало возможность мне и моей семье каждый вечер ложиться на соломенный тюфяк, не страдая от голода, и спать, не беспокоясь ни о чем.
– Это, конечно, милая история, – прервал его Сменхара, – но мое терпение кончается. Все знают, что ты по рождению простолюдин и поднялся в чинах. Ближе к делу.
Хоремхеб напрягся.
– А дело в том, – невозмутимо продолжал он, – что я все еще люблю Египет и почитаю достоинство его божественного правителя. Больше всего на свете я желаю, чтобы и то и другое вернулось в то состояние, которое определила для них Маат. Я видел распад всего того, что дорого каждому истинному египтянину. Однако осталось еще немного времени, чтобы повернуть вспять поток несчастий, охвативший нас, с тех пор как твой брат взошел на трон, если только ты, царевич, поддержишь меня. Прежде всего, нам необходимо стабилизировать положение в Сирии. Я намерен войти с армией на наши былые вассальные земли и начать там войну за возвращение утраченного.
Сменхара смотрел на него с задумчивой полуулыбкой.
– Умный и честолюбивый мальчик превратился в умного и честолюбивого мужа, – холодно произнес он. – Не сомневаюсь, что твои торжественные заявления о самоотверженной любви к своей стране не лишены правдивости, но я также мог бы побиться об заклад на все мое золото, что сам ты не отправишься в Сирию со своей армией. – Он подошел к зажженной свече, стоявшей у ложа, и поднес к пламени кусочек воска для запечатывания свитков. – Отправившись туда, по возвращении ты можешь столкнуться с такими изменениями власти при дворе, которых уже не сможешь контролировать, а, военачальник? – Он искусно накапал воск на края свитка и, сняв кольцо, вжал печать в воск. – Вот. – Он бросил свиток Хоремхебу. – Проливай столько египетской крови, сколько хочешь. Только постарайся вести свои войны подальше от Ахетатона.
Наступила короткая пауза, которую вдруг прервал голос фараона.
– Сменхара! – пронзительно верещал он. – Где ты?
Сменхара поднял выщипанные брови.
– Мой царственный любовник скулит без меня, – сказал он. – Интересно, что сказала бы об этом моя матушка, если бы была жива.
Хоремхеб не ответил, он стоял с бесстрастным видом, вертя в руках свиток. Зависть вдруг исказила красивое лицо Сменхары, он взглянул на Хоремхеба и сплюнул на пол.
– Убирайся, – прошептал он. – В глазах богов я добродетельнее тебя, солдат.
Эхнатон позвал снова, в его пронзительном голосе звучало страдание. Хоремхеб поклонился и вышел.
Несколько дней спустя слух о соглашении Хоремхеба со Сменхарой достиг ушей Эйе. Встревожившись, он попытался попасть на прием к самому царевичу, желая выяснить, в какой степени он мог еще влиять на племянника, но Сменхара уединился в своих тесных комнатках и отказывался видеть кого бы то ни было. Эйе послал слугу найти Хоремхеба, и несколько часов спустя, когда его не впустили в покои царевича, получил сообщение о том, что военачальник находится в воинской палате. Вызвав носилки, Эйе отправился на задворки дворца, туда, где управители фараона обычно занимались делами государственного правления. Большинство помещений были пусты, но Эйе встретил нескольких писцов с писчими дощечками и свитками. Толкнув дверь, он вошел.
Хоремхеб сидел один за заваленным свитками столом, перед ним стояли остатки трапезы. Он поднялся навстречу Эйе, и мужчины поклонились друг другу. Хоремхеб опустился обратно в кресло и предложил Эйе последовать его примеру. Эйе подвинул стул ближе к столу.
– Я хочу услышать от тебя подтверждение или опровержение слухов о том, что Сменхара дал тебе разрешение начинать военную кампанию, – начал Эйе. – И если он сделал это, почему ты не посоветовался со мной? В конце концов, у меня звание носителя опахала по правую руку.
– Я бы сказал тебе через некоторое время, – с извиняющимся видом произнес Хоремхеб, – но я не хотел, чтобы фараон преждевременно узнал о моих намерениях во время одного из периодов просветления рассудка и отменил мои приказания. Теперь это уже не имеет значения. Вчера командирам уже отправлены мои распоряжения.
– Ты хочешь сказать, – протестующе воскликнул Эйе, – что ты не посвятил меня в свои планы из страха, что я немедленно расскажу о них фараону?! Конечно, я бы рассказал! То, что ты сделал, – это кощунственно, Хоремхеб.
Хоремхеб стукнул кулаком по столу.
– Кто-то должен хоть что-нибудь предпринять! – яростно воскликнул он. – Да, я поступил кощунственно, и я испытываю чувство вины из-за этого, но я устал от бездействия, устал давать советы, которые не принимаются во внимание, устал от нескончаемых споров с тобой, которые вращаются в замкнутом круге. Это не государственная измена! – Он скривился и со злостью взглянул на свои сжатые кулаки.
– Я не говорил об измене, – вставил Эйе, немного помолчав, – но это решение, принятое поспешно, без должного обсуждения. Ты позволил своему отчаянию взять верх над здравым смыслом, военачальник. Сколько частей участвуют в кампании?
– Четыре сейчас на пути в Мемфис для того, чтобы запастись провизией, и они вскоре перейдут границу.
– А они подготовлены к сражениям? – Эйе ждал ответа, но Хоремхеб молчал, по-прежнему глядя на свои руки, которые он прижимал теперь к гладкому дереву столешницы. – Так подготовлены или нет? – настаивал Эйе; он уже стоял на ногах, наклонившись к Хоремхебу. – Ты знаешь не хуже меня, что большая часть наших войск бездействовала больше сорока лет. Им нужно три месяца на то, чтобы потренироваться в учебных сражениях, время, чтобы закалиться, оправиться от голода, узнать, чего можно ждать от хеттов и от пустыни! Если они будут разбиты, это ускорит нашествие на Египет. Хоремхеб вскинул голову и взглянул Эйе в лицо.
– Ты всегда больше говорил, чем делал, – ответил он, – и чем заканчивались твои долгие речи? Ничем! Кроме того, прошли годы с тех пор, как ты удалился от дел и перестал заниматься конницей, и ты полностью превратился в придворного. Ты не знаешь, о чем говоришь.
– Возможно, – резко парировал Эйе, – но твои офицеры должны были тебя предостеречь.
– Я не советовался с ними. – Хоремхеб поднялся и коротко улыбнулся Эйе. – Я верховный военачальник царя, и я говорю, что армия готова к войне. Не беспокойся. – Он обошел вокруг стола и приобнял Эйе за плечи. – Мы слишком много дорог прошли вместе, чтобы перестать доверять друг другу, носитель опахала. Я поделюсь с тобой сведениями, которые будут поступать ко мне с полей сражений, обещаю тебе.
– Не надо относиться ко мне так снисходительно, Хоремхеб, – отодвигаясь, сказал Эйе, все еще сердитый. – Я более расположен к тебе, чем ты думаешь, но умоляю тебя помнить, что я – тот, кто вынужден стоять за дверью опочивальни фараона, видя и слыша, как погибает человек, которого я когда-то поклялся чтить и защищать. Для тех из нас, кто находится постоянно у него в услужении, это очень болезненно. – Я помню об этом, – тихо ответил Хоремхеб. – Я тоже многим обязан фараону, но, конечно, Египту мы с тобой обязаны большим.
Когда его несли обратно во дворец, Эйе обдумывал слова Хоремхеба, и внезапно они заставили его остро ощутить свое одиночество. Он хотел бы пойти прямо к дому Тейе, чтобы обсудить с ней создавшееся положение, но это удовольствие уже никогда не вернется. Тоска по ней жила в нем постоянной тупой болью, которая усиливалась каждый вечер, когда ему приходилось руководить празднествами во дворце Эхнатона, потому что внучка Тейе Анхесенпаатон, будучи великой царской женой, теперь сидела рядом с фараоном на том самом месте, где некогда восседала императрица, оглядывая присутствующих своими бесстрастными голубыми глазами.
Хотя сам Эхнатон ничуть не интересовался своей самой младшей дочерью Анхесенпаатон-Ташерит, Эйе чувствовал жалость к юной царице и часто посылал своего управляющего в детскую справиться о здоровье малышки. Оно было очень скверным. Девочка плохо ела и слишком много спала. Однажды, набравшись сил навестить ее самолично, он встретил там Анхесенпаатон; она сидела на полу с дочерью на коленях. Она кивнула, и он подошел и поклонился. С трудом улыбнувшись, Анхесенпаатон взяла ребенка и протянула девочку ему так доверчиво, будто это была сломанная кукла.
– С ней что-то не так, дедушка, – сказала она. – Посмотри, какая вялая у нее правая ножка, какие слабые у нее ручки. Няньки говорят, что она не плачет, а только хнычет.
Эйе осторожно взял ребенка, глядя на мертвенно-бледное личико, которое было так поразительно похоже на отцовское, почти ожидая, что Анхесенпаатон спросит, как в детстве, может ли он починить ее.
– Царица, – печально сказал он, – думаю, ты должна быть готова к тому, что потеряешь дочь. Врачеватели не знают, что именно с ней не так, как не знаю этого и я. Ты должна любить ее, пока можешь.
Анхесенпаатон с серьезным видом взяла у него девочку и принялась ее покачивать.
– Когда я была маленькой, отец говорил нам, что мы не можем болеть, и умирать нам будет легко, – сказала она. – Моя дочка умирает, и он тоже умирает, да? – Ее глаза наполнились слезами, и она прижала ребенка к груди. – Придворные по-всякому обзывают его, а простолюдины говорят, что он преступник, но он – мой отец, и я люблю его. Они не должны так говорить о фараоне. Теперь он болен, и они все покинули его, но ты же не сделаешь так, носитель опахала?
Эйе присел перед ней на корточки.
– Нет, моя дорогая. – Он обнял ее. – Ты скучаешь по матушке?
– Да, и он тоже скучает. Когда мы были вместе в постели, он иногда называл меня Нефертити.
Исполненный жалости, Эйе поцеловал ее нежную щечку.
– Когда придет время, хотела бы ты жить с ней в северном дворце?
Она опустила голову.
– Думаю, да. Если ты будешь часто навещать меня.
Они еще немного поговорили, и Эйе вернулся в покои фараона. Было бы мудро возвысить маленькую царицу, – думал он. – Сменхара станет фараоном, но если он не будет искусным правителем, взоры многих, не исключая и меня, обратятся к Тутанхатону. Я пользуюсь доверием маленького царевича, и Анхесенпаатон тоже верит мне. Хоремхеб поступил бы правильно, добиваясь доверия Тутанхатона, если хочет сохранить свою власть.
Время сева и всходов пьянило в тот год, как никогда. Придворных, которые прежде зажимали носы, завидев корову, щеголей, за которыми носили ковры на случай, если им придется ступить в грязь, можно было теперь видеть стоящими на коленях среди молодых зеленеющих колосьев на западном берегу, благоговеющими перед восхитительным изобилием, которое, оказывается, может быть таким драгоценным. Зрелище цветущих куртин в садах вызывало возгласы восхищения. Каждое дуновение влажного, благоухающего воздуха казалось чудом.
Когда зеленые поля стали постепенно приобретать золотистый цвет, а приятное тепло зимы начало уступать место летней безветренной жаре, начался сбор первого за три года урожая. Но человек, которого прежде приводили в такое восхищение смены времен года и все плоды земли, теперь, ничего не замечая, лежал на ложе, погруженный в свои последние фантазии Эхнатон умирал. Немногие верные слуги, оставшиеся с ним, среди которых были и Эйе с Хоремхебом, наблюдали за процессом окончательного разрушения его разума и тем, как быстро слабело его тело. У Эхнатона еще случались приступы возбуждения, которые заканчивались изнуряющими судорогами, но с течением времени они становились все реже. Казалось, он вступал в мир, внутренняя реальность которого оставалась тайной для окружающих. Атмосфера в тихой комнате была наполнена ожиданием, заставляя ухаживавших за фараоном людей невольно понижать голос. Иногда фараон вдруг принимался ходить по комнате взад-вперед, потом внезапно останавливался и произносил совершенно разумные вещи. Однажды он остановился перед Хоремхебом и, глядя прямо ему в глаза, сказал:
– Но я провел свою жизнь, делая все, что велел мне бог. Я не стыжусь. Я не могу сказать, что было бы лучше, если бы я не родился.
– Разумеется, великий, – ответил Хоремхеб, прежде чем осознал, что Эхнатон обращался не к нему и на самом-то деле вообще его не видел.
Но вскоре Эхнатон слишком ослабел, чтобы ходить. Он лежал в постели, сложив руки на покрывале, почти не шевелясь. Он отказывался от еды, хотя иногда пил воду, продолжая свой нескончаемый внутренний диалог, который, как было ясно, он вел на протяжении уже многих дней. Эйе невольно вспомнились давние времена, когда царевич собирал вокруг себя молодежь двора и говорил гак авторитетно, как никогда больше не говорил после этого. Но он явно слабел, его дыхание становилось все менее глубоким, тело все больше худело, и лицо приобретало ту особую прозрачность, что служит предвестницей надвигающейся смерти.
К концу долгого дня, когда Эхнатон тихо лежал в постели и то засыпал, то пробуждался лишь для того, чтобы невнятно что-то прошептать себе под нос, он вдруг забеспокоился, принялся плакать и звать мать. Эйе и Хоремхеб переглянулись.
– Мы позовем Мериатон или пошлем за Нефертити? – прошептал Хоремхеб. – Нефертити уже отказывалась прийти, но мы можем попытаться снова.
Эйе покачал головой.
– Найди Тадухеппу, – решил он. – Она всегда была предана ему. И пусть придут Мериатон и Анхесенпаатон, если захотят.
Скрипнула дверь, и он повернул голову. Сменхара вошел в комнату через дверь, соединявшую его комнату с покоями фараона, он прислонился к косяку, сложив руки на груди и глядя на ложе. Хоремхеб вышел и заговорил с вестником. Они ждали, наблюдая, как Мерира бесшумно двигался вокруг ложа, медленно описывая курильницей круги и что-то бормоча Эхнатон не глядел на него.
Тадухеппа, как всегда, выглядела застенчиво-нерешительно. Несмотря на то, что она по праву была царской женой и царевной, она все-таки отвечала на ритуальные поклоны легкими кивками, прежде чем подойти к ложу и сесть на подвинутый ей стул. Взяв руку фараона, она поднесла ее к губам и с любовью поцеловала его пальцы. Эхнатон повернул голову в ее сторону, и она утерла слезы.
– Какие у тебя теплые руки, матушка, – прошептал он. – Я попросил Херуфа разжечь все жаровни, но мне все еще холодно. Они хотели убить меня. Теперь я знаю это. Никому, кроме тебя, нет до меня дела.
– Я всегда буду любить тебя, мой дорогой владыка.
– Будешь ли? Но слова уносятся прочь и исчезают в туманах времени. – Шепот сошел на нет, он силился вдохнуть. – Это не важно, – продолжал он через некоторое время, сонно открывая и закрывая глаза. – Ты здесь, и я могу чувствовать себя в безопасности. Ты помнишь ту ночь в Мемфисе, когда луна была полной и воздух теплым, и мы лежали в лодке, притворяясь, что считаем звезды? Нет, ты, наверное, забыла, но я помню.
– Тише, Эхнатон, – успокаивала Тадухеппа. – Не надо разговаривать. Тебе нужно беречь силы.
Он впал в молчание, дыша неглубоко и неровно, слезы усталости и печали полились снова. Потом вдруг он выдернул у нее свою руку и попытался подняться.
– Я стремился делать все, что нравится богу! – закричал он. – Я так старался!
Испугавшись, Тадухеппа встала и попыталась уложить его на подушки. Некоторое время он сопротивлялся, но потом откинулся на спину. Его глаза широко раскрылись, он вдруг полностью пришел в сознание и удивленно уставился на нее.
– Малышка Киа! – сказал он. – Разве я посылал за тобой? Прости, я не смогу сейчас поговорить с тобой, я слишком устал. Думаю, мне надо поспать.
Его глаза закрылись. Тощая, впалая грудь трижды поднялась и опустилась, потом сделалась совершенно неподвижной. Тадухеппа обернулась, и Хоремхеб подбежал к постели. Наклонившись над царем, он послушал сердцебиение, но вскоре выпрямился.
– Гор мертв, – сказал он. – Пусть его дочери войдут, если хотят.
Он занял свое место рядом с Эйе, когда Мериатон и Анхесенпаатон с рыданиями пробежали мимо них и прилегли рядом с бездыханным телом.
Сменхара безразлично взирал на происходящее, по-прежнему сложив руки на груди. Он не пошевелился даже тогда, когда все, кто был в комнате, отвернулись от бесформенного тела и пали к его ногам. Лишь только весть разнеслась по дворцу, через окна стало слышно, как послушно запричитали плакальщицы.
– Снимите с него кольцо с печатью и передайте мне, – отрывисто приказал Сменхара. Эйе повиновался, Сменхара задумчиво покатал на ладони кольцо и надел его себе на палец. – Я поживу в своих покоях, пока не будут готовы эти, – продолжал он будничным тоном. – Хорошенько убери здесь, Панхеси. Мериатон, подойди. – Она встала и подошла к нему. Он грубо задрал подол ее платья и вытер ей лицо. – Это последние слезы, которые ты пролила по отцу, – сказал он. – Ты поняла? Я голоден. Мы поедим в саду.
Она безмолвно последовала за ним мимо ряда склоненных голов и распростертых рук. Эйе поймал взгляд Хоремхеба и поднял брови. Наступили новые времена.
Книга третья
24
Нефертити расхаживала по темной опочивальне, склонив голову и задумчиво потягивая ленты белого халата, завязанные под полной грудью. Стояла глубокая ночь. Мягкий желтый свет, разливавшийся от единственной горевшей на ночном столике лампы, почти не рассеивал окружающую темноту. В душном неподвижном воздухе слышалось ровное дыхание служанок, спавших глубоким сном на циновках в дальнем конце комнаты. Иногда Нефертити останавливалась, вглядываясь сквозь тьму в огромные серебряные рельефы на стенах, где была изображена она сама – в юбке и солнечной короне, украшенная анхами и сфинксами, гордо шагающая над почтительно склоненным перед ней Египтом. Иногда она рассеянно подходила к окну и устремляла взор на террасы, сбегающие к мерцающей полноводной реке, снова покрытые буйной зеленью, но сейчас слабо бледневшие в свете убывающей луны. Ее глаза блуждали по исполненному покоя пейзажу, но она едва замечала его. Разжав пальцы, она легко провела ими по каменному подоконнику, не чувствуя гладкости прохладного камня.
Он мертв, мертв. Она шептала его имя, но в голосе не было печали по утраченной любви, только некое злобное недоумение. Он дал ей возможность испытать настоящую власть здесь, в Ахетатоне, он был отцом ее детей, этот странный человек, с которым она делила ложе и который вызывал у нее двойственные чувства: щемящую любовь матери к капризному ребенку и презрение женщины к мужчине, лишенному твердости характера истинного правителя, образ которого она лелеяла в своих детских мечтах. Невзирая на высокое положение, она так и не получила корону императрицы, ради которой она рискнула пойти на убийство своей двоюродной сестры Ситамон. Вопреки детским мечтаниям, она так и не нашла любви. Всю жизнь она боролась с условностями, которые, в конце концов, была вынуждена принять. Ее необычайная красота сослужила ей плохую службу. Пока Эхнатон был жив, была жива и надежда, что это изгнание, отчасти добровольное – из гордости и страха пережить еще большее унижение, – могло закончиться полным прощением, но теперь он ушел, не важно, к какому богу, и она навсегда была низведена до почетного, но безвластного положения вдовствующей царицы. Сменхара, ее двоюродный брат, теперь становился правителем. Правда, его жена – дочь Нефертити, но между Нефертити и возможностью влияния на царственную чету стояли носитель опахала по правую руку и верховный военачальник царя – два человека, которые всю жизнь неуклонно поднимались к вершинам власти, выверяя каждый свой шаг, и которые совершенно точно не позволят ей проводить какую бы то ни было собственную политику.
Оставался еще Тутанхатон. Нефертити остро осознавала присутствие в своих владениях блаженно спящего восьмилетнего мальчика, чьи права на престол были столь же сильны, как и притязания Сменхары. Я могла бы заключить с ним брачный союз, – думала она, беззвучно ступая по прохладным плитам пола, – но мне нужна поддержка сильных мужчин, которые могли бы противостоять могуществу отца и Хоремхеба. Эйе хочет, чтобы все покинули мой город, а Хоремхеб добивается власти с помощью армии. Если я заключу этот союз с Тутанхатоном, отец и Хоремхеб сделают все возможное, чтобы я всего лишь носила корону царицы и ходила следом за своим маленьким мужем, пока они будут управлять страной. Египет созрел. Я хочу сорвать этот плод. Я хочу вернуться в царский дворец во всем великолепии, подобающем императрице, и взять, наконец, то, что принадлежит мне по праву. Тейе поступала так же, значит, я тоже могу. Но как это сделать? Я постарела здесь. Мои дни так же однообразны и похожи один на другой, как медленно падающие капли воды в часах. Без помощи сильного мужчины я ничего не смогу добиться. Но где он, такой мужчина? Никто из придворных не станет помогать мне. Люди Амона слишком слабы, их силы подорваны. У Хоремхеба есть армия. Она остановилась и прижала руки к пылающим векам, борясь с подступившей тревогой: она вдруг увидела себя со стороны – почти забытой всеми безмолвной тенью, тихо доживающей свой век в заточении прекрасного дворца, тогда как за его пределами мир изменяется вновь и вновь без ее участия. Нет! – подумала она, прислонясь к окну. – Лучше я убью себя. Тейе была умна. Она предвидела свой конец, она сама приблизила его – ей ничего больше не оставалось, и она не упустила случая, но мне, конечно, еще рано думать об этом, мой конец еще не настал. Не в тридцать пять лет! А если выйти замуж за маленького Тутанхатона и рискнуть все изменить? Но я могу проиграть. У меня слишком много врагов, которые станут поддерживать Сменхару. Сильный мужчина, царевич…
Вдруг решение само предстало перед ней, и от его дерзости у нее на голове даже волосы встали дыбом. Она метнулась от окна, усталость отступила. О нет! – думала она, затаив дыхание. – Если это откроется, я рискую жизнью. И потом, слишком мало времени. Траур по Эхнатону уже начался, осталось всего шестьдесят девять дней до того, как наследник совершит обряд отверзания уст. Но мысль все яснее вырисовывалась в ее сознании, и она поймала себя на том, что улыбается в темноту. Я попытаюсь, – возбужденно думала она. – Это стоит того. В противном случае меня до конца жизни ожидает участь вдовствующей царицы, увешанной регалиями, но начисто лишенной остроты настоящей власти. Одним ударом я смогу и перехитрить отца с Хоремхебом, и лишить наследства Сменхару, и навсегда оставить Тутанхатона в царевичах. Я еще не так стара, я еще смогу иметь детей, сыновей… Но слишком мало времени.
Она подбежала к дверям и распахнула их. Стражник вытянулся перед ней, а дремавший на табурете вестник торопливо вскочил.
– Приведи ко мне писца, – приказала она, – и начальника моей стражи. Да поскорее!
Она закрыла дверь и, слабея от страха, подошла к креслу, налила воды и залпом выпила. Собрав все свое мужество, она вышла в приемную и отпустила стоявших у дверей стражников. Когда начальник стражи и писец вошли и поклонились, она стояла у трона, и от волнения сердце едва не выпрыгивало у нее из груди.
– Достаточно ли здесь света? – спросила она. Писец сел перед ней, скрестив ноги, кивнул, обмакнул перо в чернильницу и замер в ожидании. – Тогда пиши. – Она говорила шепотом, от возбуждения в горле пересохло. – «Его величеству царю Суппилулиумасу, владыке Хеттского царства». Тебе известны остальные его титулы; впиши их сам. Потом напиши: «Мой супруг умер, и у меня не осталось сыновей. Говорят, что твои сыновья уже достаточно взрослые. Если ты пришлешь ко мне одного из них, он станет моим мужем, потому что я не желаю брать в мужья никого из своих подданных». Как будет «царица» по-аккадски?
– Дахамунзу.
– Значит, подпиши «Дахамунзу». Ну и что вы уставились? – Мужчины смотрели на нее в немом изумлении. – Я прекрасно знаю, что делаю. Если Суппилулиумас согласится на мое предложение, угроза со стороны хеттов нам будет уже не страшна. Ты хотел что-то сказать? – обратилась она к начальнику стражи.
– Но, царица, они же наши враги! Ты хочешь посадить хетта на трон Гора?
– Да. – Теперь, когда опасные слова были уже сказаны, к ней возвратилось хладнокровие. – Подумай! Брачный союз, после заключения которого угроза вторжения хеттов в Египет исчезнет навсегда. Иноземный царевич не будет облечен настоящей властью, потому что вся она останется в моих руках. – Внезапно ощутив дрожь в коленях, она опустилась на трон. – И вообще, я не обязана объяснять тебе мотивы своих поступков. Я просто приказываю, а ты делай то, что тебе говорят. Ты лично отвезешь свиток в Богаз-Кёй, и смотри никому не проговорись по дороге, в чем состоит твоя миссия. В Мемфисе будь осторожен – у Хоремхеба там полно солдат, которые следят за движением по реке и патрулируют идущую по пустыне дорогу в Сирию. Если тебя спросят, скажи, что везешь приказы для Мэя от Птенца-в-гнезде Сменхары.
– Но, царица, – настаивал начальник стражи, все еще мертвенно-бледный, – наша армия уже выступила в страну хеттов. Я могу оказаться в самой гуще сражения, в котором Египет может одержать победу!
Я не хочу, чтобы Египет победил, – холодно подумала Нефертити. – Победа в этом сражении может сделать Хоремхеба самым опасным человеком в стране.
– Не думаю, что наши войска уже встретились с войсками хеттов, – ответила она. – Но даже если и так и они победят, переговоры, которое я открываю, послужат укреплению наших позиций. Отправляйся сегодня же. Сколько времени занимает дорога до Богаз-Кёя?
– По меньшей мере, три недели.
От мрачных предчувствий у Нефертити закрутило в животе. Нет, – думала она. – Нельзя начинать считать дни, иначе за это время я сойду с ума.
– Сделай все, чтобы обернуться как можно скорее. Возьми золота для подкупа хапиру в Синае и покупки лошадей. Возьми с собой охрану, но не слишком много, чтобы не бросалось в глаза. Если ты справишься с этим поручением, солдат, тебя ждет большая награда и хорошее продвижение по службе. А тебе, писец, отрежут язык и переломают руки, если ты проронишь хоть слово о своей сегодняшней работе. Ты понял? – Тот кивнул, подавая свиток, она прижала свою печать к теплому воску и бросила документ посланцу. – Реквизируй по дороге любые средства передвижения, какие понадобятся. На это у тебя есть полномочия.
Не успели они завершить поклоны, как она, вся дрожа, покинула их. Скользнув в постель, Нефертити натянула покрывало до подбородка и закрыла глаза. Уснуть не удавалось. Она лежала, представляя себе, как начальник стражи направляется к пристани, где стоят ее суда, разговаривает со смотрителем в свете пылающих факелов, потом поднимается на борт ладьи. Она изо всех сил старалась отвлечься от тревожных мыслей. Задуманный ею план приведен в действие, теперь оставалось только ждать.
Хоремхеб тоже положил начало некой цепочке событий, однако, в отличие от Нефертити, он не делал попыток отвлечься от мыслей об их последствиях. Когда начался траур по фараону – время, когда традиционно проходили лишь официальные процедуры, не терпящие отлагательств, и темп жизни двора замедлялся, – он удалился в свое поместье, чтобы поразмыслить о последствиях отданного им приказа о мобилизации и о возможной политической стратегии нового правления Сменхары. По мере того, как войска медленно продвигались в южную Сирию, ему начали поступать донесения от офицеров, которые он, как и обещал, передавал Эйе. Он очень хотел бы оказаться вместе со своими солдатами, зная, что они уважают его не только за то, что он был хорошим командиром, но также и за то, что он не ставил себя выше их, разделяя с ними трудности, которые несла с собой воинская служба, – плохую еду, жесткий тюфяк и изнурительные марши, каких было немало в жизни солдат. Без него боевой дух армии может упасть. А теперь в войсках еще могут начаться разговоры, что военачальник остался в Ахетатоне, потому что не верит в успех предстоящей битвы с хеттами, мало ли какое оправдание он для себя придумал.
Он не осмелился оставить город до коронации Сменхары, потому что, хотя он и заверял Эйе в нерушимой дружбе и доверии, их отношения быстро ухудшались. Эйе не верил, что спасение Египта лежит в укреплении его военной мощи. Он с подозрением смотрел на возможность возвышения офицерской элиты. Привыкший всегда справляться с трудностями посредством дипломатии и косвенного воздействия, он считал упадок империи и угрозу со стороны Суппилулиумаса результатом неспособности Эхнатона наладить должным образом дипломатические отношения с остальным миром и видел выход из создавшегося положения в прежнем традиционном налаживании связей посредством посланников и дипломатических миссий. Хоремхеб горячо противился этому и был убежден, что ему следует держаться как можно ближе к новому фараону, чтобы убедить его продолжать войну, на тот случай если Эйе преуспеет, снискав расположение Сменхары. Пока что царевич не проявлял интереса ни к одному из них, но Хоремхеб не хотел рисковать.
Прогуливаясь по саду с Мутноджимет или сидя рядом с ней во время вечерней трапезы на тихой террасе и любуясь восходящей луной, он рассуждал о пустяках, касающихся рутинных государственных дел, а сам все думал о своем визите к Сменхаре и последующем разговоре с Эйе, с беспокойством спрашивая себя снова и снова, действовал ли он истинно в интересах страны, или в нем говорила личная неудовлетворенность. В любом случае, пути назад уже не было.
После полудня он сидел в тени сикомор, окружавших его маленький бассейн, глядя на жену, легко и без усилий плававшую туда и обратно, когда ему принесли ежедневное донесение. Поблагодарив и отпустив вестника, он сломал печать. Свиток был необычно длинным, и, пробежав его глазами, он принялся читать снова, медленно и внимательно. Потом он уронил свиток себе на колени и задумчиво уставился на него. Он не заметил, как к нему подплыла Мутноджимет; лишь ощутив прохладное прикосновение, он вздрогнул и пришел в себя. Она прислонилась к мраморному бортику бассейна, положив подбородок на руки, и смотрела на него снизу вверх.
– Ты погрустнел, – заметила она. – Или тебя просто разморило от жары? С тобой трудно разговаривать эти дни. Может быть, ты влюбился?
Он улыбнулся:
– Прости, Мутноджимет. Я был очень занят, с тех пор как вернулся домой.
– Я заметила. – Одним гибким движением она скользнула из воды на каменный бортик. Торопливо подбежала служанка с полотенцем, и, подняв руки, Мутноджимет дала вытереть себя, потом опустилась на циновку перед креслом Хоремхеба и принялась распутывать свой детский локон. – Если бы я только знала раньше, как сильно ты будешь занят, я бы не отказалась от двух вечеринок на реке и поездки на север, ради того чтобы побыть с тобой. – Она разгладила пальцами длинную вьющуюся прядь и легла, опираясь на локоть. – Я вижу, ты получил очередное донесение. Плохие вести?
Он со вздохом положил свиток на траву и опустился рядом с ней. Ее смуглое бедро было прохладным.
– В Урусалиме много солдат страдает от лихорадки, – посетовал он, – но это не самое худшее из того, с чем столкнулись мои офицеры. По сведениям наших разведчиков, хетты продвигаются на юг, а ассирийцы уже на полпути в северную Сирию. Если я отдам приказ армии двигаться дальше на север, она может сразиться с ними раньше хеттов. Если я прикажу ждать, и хетты начнут сражение с ассирийцами, то армии Египта придется сражаться с теми, кто победит.
Мутноджимет кивнула.
– Полагаю, ассирийцы снова пытаются вторгнуться в страну Амки. Каждый раз, когда там сталкивались мощные силы, они использовали в своих интересах возникшую неразбериху, чтобы попытаться вырвать у нас Амки. Но сейчас, когда хетты захватили нашу маленькую Амки, ассирийцы вполне могут попытаться сразиться с ними. Бедная страна Амки! Что ты будешь делать, Хоремхеб? Прикажешь своим офицерам оставаться там, где они есть, и позволишь хеттам и ассирийцам вступить в бой друг с другом?
– Если армия продолжит движение на север, первой ей придется захватить Амки, прежде чем к ним на помощь прибудет Суппилулиумас – Он погладил ее ногу, но его мысли были далеко. – Откровенно говоря, Мутноджимет, я боюсь, что Эйе был прав. Наша армия неповоротлива и не испытана в деле, она окажется неспособна к быстрому маневрированию – ведь надо будет захватить Амки и успеть развернуться, чтобы выступить против хеттов или ассирийцев. Пожалуй, я прикажу войскам продвинуться еще немного на север, дойти до Ретенну и ждать там.
Она села, повернувшись к нему.
– Хоремхеб, что ты станешь делать, если Египет потерпит поражение? – тихо спросила она. – Твое влияние при дворе может так сильно пострадать, что у тебя не останется ни единого шанса что-то советовать Сменхаре в дальнейшем.
Он откинул с ее лица мокрые волосы и поцеловал ее.
– Нельзя решать все проблемы сразу, – ответил он. – Сейчас мне нужно пойти в дом и надиктовать письмо своему заместителю. – Он взял свиток и поднялся. – Может быть, тебе лучше сегодня навестить друзей или отправиться за реку и провести вечер с родителями. Понимаю, что я не очень веселая компания, Мутноджимет.
Она рассмеялась.
– Вряд ли стоит труда наряжаться и краситься. Я прикажу устроить ужин для нас здесь, у бассейна. Иди, Хоремхеб. Я еще поплаваю.
Уходя, он услышал всплеск за спиной – она прыгнула в воду. Что я буду делать, если Египет потерпит поражение? – повторял он про себя, ступая в прохладу передней. Он не хотел думать об этом.
Ахетатон тихо проживал дни траура по фараону. Урожай был собран, и все приготовились к засушливому зною середины лета. Народ еще понемногу собирался на переднем дворе храма Атона под ослепительным солнцем, когда Мерира проводил службы в святилище, но величавым движениям и торжественным молитвам недоставало прежнего воодушевления. Человек, стоявший между Атоном и людьми, который требовал, чтобы каждый верующий обращался непосредственно к нему, а он бы передавал молитвы своему богу, умер. С его уходом город, казалось, утратил свое очарование. Он был построен с единственной целью – стать огромным святилищем, в котором бы обитало живое воплощение бога, его существование было результатом стремления воплотить видения в реальность. Присутствие Эхнатона придавало городу значимость; его гармония покоилась на том поклонении, которое его граждане воздавали царю и Атону. Но теперь царя не стало, и к маленьким алтарям Атона, стоявшим на улицах города почти на каждом углу, быстро присоединились жертвенники других богов, возлюбленных простолюдинами, которым поклонялись наряду с богом почившего фараона. Город вдруг осиротел, и эта неприкаянность ощущалась много острее, чем обычно бывало в период безвластия. Невидимое основание Ахетатона пошатнулось.
В самом дворце, однако, большинство придворных по-прежнему возносили свои утренние и вечерние молитвы одному Атону. Это поклонение было для них не только делом привычки, они видели в нем также некую выгоду: наследник ведь еще не объявил, от кого исходит его божественность – от Амона или от Атона.
Сменхару, казалось, не заботило вообще ничего. В эти дни напряженного ожидания они с Мериатон были неразлучны, стараясь возродить друг в друге былую радость, но она посещала их лишь мимолетно. Они пытались вспомнить ее, временами с довольно неловкой скрупулезностью перебирая яркие воспоминания детства, но тщетно: любовь, связывавшая их, принадлежала невинной юности, их хрупкие чувства безвозвратно погибли, разрушенные безжалостными руками Эхнатона. Прошлое связывало их нерушимыми узами, но это не было союзом состоявшейся зрелой любви.
Атмосфера неуверенности и утраты смысла бытия, окутавшая город и дворец, не затронула Нефертити. Несмотря на решимость наполнить свои дни различными отвлекающими событиями, она каждое утро пробуждалась после пережитых ночных кошмаров, вся напряженная от мрачных ожиданий и взмокшая от пота. Много раз она проклинала себя за поступок, который казался ей опасно безрассудным, но гораздо чаще представляла себе будущее, которое при неизменном течении событий было так же предсказуемо, как рассвет завтрашнего дня, и радовалась, что решила осуществить свой план. Долгие, невыносимо жаркие дни она проводила у окна, глядя поверх заросших зеленью террас, до рези в глазах высматривая на реке судно и следя за движением у своих причалов. Вечером она присматривала за тем, как Тутанхатона готовили ко сну, потом гуляла в саду, потом возлежала на ложе, а танцоры неторопливо извивались перед ней, их нагие тела были увиты цветами, в руках звенели кимвалы, но вожделение, которое разжигали в ней молодые слуги, не могло прогнать из души холодного страха. Что если ее посланца перехватили, а отец и Хоремхеб теперь играют с ней перед тем, как арестовать. Суппилулиумас походя казнил его и забыл и думать о ней. Гонец заблудился в пустыне и умер от жажды. Непрерывное капанье воды в часах раздражало. От тревоги у нее ныло в груди и совсем пропал аппетит, она с трудом заставляла себя съесть что-нибудь.
Дважды приходил отец, проводил несколько часов с Тутанхатоном, потом угощался вином и пирожными, которые она предлагала ему без особого радушия. Она пыталась обходиться с ним с учтивостью, но не умела скрыть свою озабоченность. Она интересовалась здоровьем дочерей, терпеливо выслушивала его сетования на то, что Хоремхеб относится к нему все более непочтительно, но понимала, однако, что ее беспокойство не укрылось от отца, потому что каждый раз он уходил от нее озадаченный. Ей это было безразлично, и она с облегчением возвращалась на свой наблюдательный пост.
Без малого через шесть недель после отъезда гонца тревожный сон Нефертити прервал управляющий Мерира. Она вскочила, тут же окончательно проснувшись.
– Он вернулся, – прошептал Мерира. – Велеть ему подождать в зале для приемов?
– Нет. Выпроводи моих служанок. – Она откинула покрывало и поднялась, прижимая руки к груди, сердце бешено колотилось. – Немедленно веди его сюда.
Он поклонился и исчез в темноте. Нефертити сама зажгла ночник, ощупью отыскав ночную сорочку, надела ее через голову. Дрожащие пальцы с трудом слушались ее. Мне следовало умыться и одеться, надеть парик и накрасить лицо, – думала она. – Я не спросила Мериру, один ли пришел гонец. О боги, как мне страшно!
Начальник стражи опустился на колени и распростерся перед ней, подползая, чтобы поцеловать ее босые ноги. Она сдавленным голосом приказала ему подняться.
– Где он? Ты привез царевича? Что случилось?
– О, великая, я не дипломат, – тихо заговорил он. – Я не знал, какими словами мне следовало подтвердить истинность документа. Суппилулиумас не верит, что он настоящий. Он думает, что Египет просто хочет получить заложника. Он прислал со мной своего управляющего, чтобы тот выяснил истину. Было нелегко обойти караулы Хоремхеба на границах и проплыть ночью мимо Мемфиса. Мы оба очень устали.
Нефертити овладела горькая досада.
– Разве ты не сказал этому хетту, что решение вопроса не терпит отлагательств? Царевич нужен мне здесь до погребения Эхнатона, или все будет кончено! Где этот управляющий?
Начальник стражи кивнул на дверь. Нефертити увидела, что от темноты отделилась длинная фигура и вступила в тусклый круг света от ночника.
– Я Хаттусазити, управляющий Суппилулиумаса Могучего, – сказал приятный низкий голос – Ты дахамунзу Нефертити?
– Да, это я.
Он слегка поклонился, и некоторое время они молча рассматривали друг друга. Полагаю, он храбрец, – думала Нефертити, глядя снизу вверх в жесткое лицо, почти скрытое бородой и длинными, густо смазанными маслом черными волосами. – У него нет уверенности в том, что я не являюсь участницей какого-то большого заговора, так что он каждую минуту рискует головой. И какой головой! Неужели у этих мерзких азиатов воины той же породы, что и этот?
– Мой царь думал, что ты мертва, – наконец проговорил он. – Печать на свитке соответствует отпечаткам на других посланиях, но твоим кольцом мог воспользоваться кто-нибудь другой.
– Мой муж сделал все возможное, чтобы убить меня, не прикоснувшись к моему телу, – едко сказала она. – Он уничтожил все надписи с моим именем, которые смог отыскать, но, как видишь, умирать я пока не собираюсь.
Она сняла кольцо с печатью и протянула ему. Он вгляделся в него и положил обратно в ее протянутую ладонь.
– В таком случае, царица, почему же ты договариваешься с моим господином в такой тайне? Ты говоришь, у тебя нет сыновей. Мой царь сомневается, что это правда. Но если это так, тогда кому предстоит стать фараоном, и почему ты хочешь попытаться посадить на трон хеттского царевича?
Она жестом разрешила ему садиться и сама опустилась на край ложа.
– Пусть нам принесут подкрепиться, – велела она начальнику стражи и взглянула в глаза иноземцу. – Если мой план провалится, двойную корону заполучит брат моего мужа. Он никчемный человек. Если он узнает, что я начала переписку с твоим хозяином, он прикажет арестовать меня. Возглавляемый Сменхарой Египет проиграет в войне с твоим народом. Но если вы отдадите мне царевича, не будет нужды нести потери людьми и золотом, выдерживая противостояние, в которое вступили наши страны. Египет станет вассалом Хеттского царства, ведущим независимую внутреннюю политику, и будет платить дань Суппилулиумасу.
– А какие гарантии того, что твои враги просто не убьют его, как только он приедет? Полагаю, ты захочешь, чтобы его охраняли солдаты из хеттов?
Нефертити обрадовалась, что как раз в этот момент внесли угощение и принялись бесшумно расставлять перед ними. Она не предполагала, какие сложности повлечет за собой исполнение ее плана. Сразу придя в уныние, и уже сожалея о том, что ей приходится сидеть здесь, под пристальным испытующим взглядом врага, чья могучая энергия подавляла ее и внушала ей благоговейный страх, она заставила себя улыбнуться.
– Воспрепятствовать мне может только военачальник Хоремхеб. Сменхара будет дуться какое-то время, но все будут счастливы, что хоть кто-то борется с угрозой Египту со стороны хеттов.
В его глазах промелькнуло удивление с примесью какого-то другого выражения, которое, она подозревала, было насмешкой. Она подняла свою чашу, и он тут же потянулся за своей.
– Если мой господин вверит своего сына сомнительной благосклонности Египта, он пожелает убедиться в его безопасности, заручившись твоим согласием на присутствие хеттских солдат в Ахетатоне. Фараон силен ровно настолько, насколько сильно его поддерживают.
– Это может быть истинно для правителей твоей страны, но не для Египта. Фараон, однажды надевший корону, становится богом, и его неприкосновенности не так просто угрожать.
Он улыбнулся, его кривые белые зубы блеснули в полумраке, и снова на его помятом лице промелькнуло выражение легкого презрения.
– Хетт – бог? Какое многообещающее будущее! Так, значит, твой народ терпел несостоятельность твоего покойного супруга лишь потому, что он был богом?
Ее оскорбил его иронический тон.
– Трудно ожидать, что невежественный иноземец сможет разобраться в тонкостях Маат, – холодно ответила она. – Это как раз то, чему я буду учить царевича, которого пришлет твой хозяин.
– Это я уже понял. – Смирение в его голосе было слегка насмешливым. – Я вернусь к своему господину и расскажу ему о твоих намерениях.
– Отправляйся этой же ночью. – Она встала, и он тоже учтиво поднялся. – Из-за недоверчивости Суппилулиумаса потрачено драгоценное время. Если в течение месяца я не заполучу мужа, мы все будем пресмыкаться перед Сменхарой, ибо если корона будет возложена на его голову, то только его смерть освободит трон для следующего фараона. Мерира проводит тебя в комнату, где ты сможешь немного поспать, пока я буду диктовать новое послание твоему царю, и на этот раз я отправлю с тобой посланника. Ты свободен.
Он склонил свою львиногривую голову и повернулся уходить, но уже в дверях резко обернулся, будто его внезапно осенила мысль.
– Ты позволишь мне еще раз заговорить? – подобострастно спросил он. Она кивнула. – Мне пришло в голову, что посланники Египта путешествуют не так быстро, как осведомители царицы. Поэтому царица может не знать, что мой господин отразил нападение египетской армии и полностью захватил страну Амки. Особого кровопролития не было, но войска египтян теперь здорово рассеяны. Доброй ночи, царица.
Он выскользнул из круга слабого света, и только по тихому звуку закрывающейся двери она поняла, что хетт вышел из комнаты. Вошел Мерира и остановился, ожидая дальнейших указаний. Нефертити почувствовала, что у нее невыносимо болит голова, а руки прижаты к пылающим щекам. Она с силой отняла руки от лица. Армия Египта потерпела поражение. Она понимала, что это радует ее, потому что теперь влияние Хоремхеба ослабеет, и все египтяне будут благодарны ей за предотвращение вторжения, которое обязательно последовало бы, если бы не она. Но за испытываемым ею облегчением глубоко в сердце она ощущала жгучий стыд и печаль, боль за свою страну и слепую ярость при мысли о покойном супруге, который предал их всех. Повернувшись спиной к терпеливо ждущему управляющему, она подавила желание постыдно разрыдаться. Египет – всего лишь стадо тупоголовых животных, которых гонит правитель, – напомнила она себе. – Конечно, эти животные будут ставить свою безопасность превыше какой-то неосязаемой любви к земле и воде. Она подавила свою боль и, наконец смогла, спокойно посмотреть в лицо Мерире.
– Драгоценное время упущено, – сказала она. – Теперь нельзя допустить ни одной ошибки. Мне нужен посланник, Мерира, кто-нибудь из тех, кто любил моего мужа и предан мне, кто-нибудь, кто не жаждет оказаться во власти фараона, чья преданность Атону сомнительна. Такого человека можно будет убедить действовать на моей стороне и помалкивать, если дать ему понять, что хетты – солнцепоклонники и что фараон из страны хеттов будет лучше для нас, чем человек Амона.
– Царица также могла бы предложить ему какую-нибудь более определенную награду за его старания, – учтиво ответил Мерира. – Возможно, пообещать ему должность «глаза-и-уши» нового фараона и приличное количество золота. Хани мог бы подойти. С тех пор как Осирис Эхнатон сократил внешние сношения, многие томятся в праздности, и они не получают платы. Хани всегда был очень честолюбив. Такое сочетание прекрасно подойдет.
– Напомни мне наградить также и тебя, Мерира, – сказала она. – Очень хорошо. Пошлем Хани. Сделай сначала ему предложение о повышении по службе, чтобы у него потекли слюни, а потом объясни, что он должен делать, да пригрози ему, но очень мягко. Мы же не хотим напугать его так, чтобы он перебежал к Эйе. Если он станет отказываться или покажется тебе слишком рьяным, прикажи сразу же убить его. Разбуди его и отправь вместе с Хаттусазити, не дав ему ни с кем поговорить. Теперь я продиктую новый свиток Суппилулиумасу. Запиши его сам.
Мерира взял дощечку и опустился на пол возле лампы. Нефертити принялась диктовать.
– Начни с перечисления его титулов, как и раньше. Потом пиши: «Твой управляющий Хаттусазити передал мне, что ты решил, будто я умерла, и не веришь, что у меня нет сына. Почему ты обвиняешь меня в том, что я обманываю тебя? Тот, кто был моим мужем, теперь мертв, и у меня нет сына. Если бы у меня был сын, разве стала бы я писать в чужую страну, чтобы придать огласке свои трудности и трудности своей страны? Будь уверен, что я не писала никому, кроме тебя. Все знают, что у тебя много сыновей. Отдай мне одного, с тем чтобы он мог стать моим мужем и правителем Египта!»
Она хотела сказать больше, излить на папирус не только свою горечь и гордость, но потом замолчала и, подождав, пока Мерира запечатает свиток, велела ему удалиться. Опустевшая комната была наполнена безрадостным унынием предрассветного часа. Устало подчиняясь старой привычке, за которую презираешь себя, но не в силах с ней расстаться, она подтащила кресло к окну, хотя там еще ничего не было видно, кроме темноты.
25
Когда Эйе вошел в комнату, Хоремхеб поднялся ему навстречу, поднял руку извиняющимся жестом и кивком головы указал носителю опахала на кресло. В передней было душно и темно, горела только одна лампа, которую Хоремхеб сам зажег и вынес из опочивальни. Эйе двигался медленно, еще одурманенный тяжелым, беспокойным сном, мучительно пытаясь сообразить, чем могла быть вызвана эта странная просьба, однако пока что сознавал только свое затрудненное дыхание. Он пожал тонкие пальцы военачальника и опустился в предложенное кресло, вытирая пот с лица. Его глаза жгло; во рту пересохло и чувствовался отвратительный привкус. Его сознание еще полнилось кошмаром, мучившим его перед тем, как управляющий разбудил его, и сердце его еще бешено колотилось от ужаса. В последнее время ему часто снился один и тот же сон, иногда он резко просыпался, будто от толчка, чтобы коснуться успокаивающе теплого тела Тии, но чаще сон продолжался до наступления серого рассвета, оставляя его измученным и напуганным.
– Здесь есть вода, если хочешь, – тихо предложил Хоремхеб, усаживаясь в кресло. – Прости, что беспокою тебя среди ночи, носитель опахала, но дело не терпит отлагательств, и, хотя мы редко виделись с тобой в последнее время, в таком серьезном деле я не хочу действовать в одиночку.
Удивившись, Эйе внимательно посмотрел на воина. Было жарко, и Хоремхеб был без одежды. Его черные волосы, доходившие до плеч, прилипли к смуглой шее. Без краски его лицо показалось Эйе еще красивее; сейчас оно было напряженным и встревоженным, и Эйе почувствовал себя старым, дряхлым и слабым. Я умру раньше тебя, – думал Эйе. – Я знал это, но никогда раньше не задумывался об этом по-настоящему. Наверное, я всегда завидовал тебе, мой властолюбивый зять.
– Говори, – коротко сказал он.
Хоремхеб вручил ему свиток и пододвинул лампу. В любое другое время Эйе усмотрел бы в этом жесте оскорбительный намек на его возраст, но сейчас он просто развернул папирус и принялся читать.
Когда он закончил, ему не нужно было просматривать его снова. Он осторожно скрутил папирус, положил его на стол, потом сложил на груди руки, чувствуя на себе напряженный взгляд Хоремхеба. Долгое время он сидел не двигаясь, но, наконец, нашел в себе силы поднять глаза и встретить взгляд военачальника.
– Как этот свиток попал к тебе? – дрожащим голосом спросил он.
– Мэй прислал его мне из форта, в котором стоят солдаты, патрулирующие дорогу через пустыню в северную Сирию, – ответил Хоремхеб, глядя на Эйе и тоже не двигаясь. – По ней из Египта продвигался небольшой отряд – один из наших посланников и иноземец, который назвался ханаанитом и сказал, что направляется домой в Аскалон, чтобы помочь договориться о продаже зерна нашей стране, но Мэю он показался подозрительным, и он приказал обыскать вещи путешественников, пока те спали. – Он кивнул на свиток на столе. – Оригинал остался в сумке этого ханаанита. Мэй не знал, нужно ли ему задержать путников, или мы при дворе тоже причастны к этому, помогая твоей дочери вести сложные переговоры с хеттами, поэтому он отпустил их. Хорошо еще, что Мэй прислушался к своей интуиции.
Потрясенный, вдруг почувствовав слабость, Эйе опустил глаза.
– Это не просто попытка царственной жены заполучить в свою пустую постель нового любовника, – наконец отважился он. – Моя дочь, царица Египта, тайно вступила в сговор с врагом, что есть настоящая измена. – Он знал, что не должен спрашивать Хоремхеба, что теперь делать, и тем самым ставить себя в положение слабого. Преимущество и так было на стороне военачальника, и Эйе не следовало укреплять его. – Нефертити всегда любила власть и могущество, но ей никогда не хватало сил удержать то, чего она, в конце концов, добивалась, – произнес он так твердо, как только смог. – Но я не могу поверить, что она способна воспринимать свой заговор как хладнокровную измену. Наверняка для нее все это – лишь отчаянная попытка снова получить активную роль в управлении страной.
– Согласен, – ответил Хоремхеб. – Но меня удивляет, что она вообще оказалась способна задумать и осуществить такое, Эйе. Если бы Мэй не проявил бдительность и ее посланник прошел незамеченным…
– Но он не прошел, – прервал его Эйе, все еще силясь совладать со своими чувствами, которые грозили обезоружить его. Моя дочь. Моя родная кровь, пожелавшая отдать весь Египет в руки врага в то время, когда страна корчится в агонии. Неужели она не чувствует ни малейшего раскаяния? Неужели не борется со стыдом?
– Да, не прошел, – медленно повторил Хоремхеб. – Поэтому мы должны решить, что делать. Я в высшей степени потрясен, потому что царица не могла знать об исходе сражения с Суппилулиумасом, когда начинала свою игру. Поэтому она не может быть оправдана даже тем, что это была единственная возможность сохранить мир после поражения нашей армии. С ее стороны это всего лишь самая что ни на есть непростительная попытка заполучить власть.
– Какая добродетельная самоотверженность из уст человека, который сам заглядывается на двойную корону! – бросил Эйе, нелогично вставая на защиту дочери, для которой – теперь он был вынужден это признать – не было оправдания. – Я хорошо знаю тебя, Хоремхеб, как и ты знаешь меня. Если на твоем пути появится такая возможность, ты ведь не откажешься от нее, правда?
– Мне надоело, что могущество Египта раз за разом попадает в зависимость от тех, кто недостоин или неспособен эффективно управлять страной! – рявкнул в ответ Хоремхеб. – Много лет назад мне, как и тебе, следовало рискнуть всем, чтобы свергнуть Эхнатона и посадить на трон верного сына Амона. Мы тоже изменники, потому что позволяли величайшей в мире империи медленно умирать, пока мы спорили о законности права Атона управлять Египтом через твоего племянника!
Хоремхеб откинулся назад, тяжело дыша, и Эйе медленно оглядел его.
– Ты думаешь, что ничем не рискуешь, открывая мне сейчас свои устремления, потому что я стар и мои дни сочтены, – мягко проговорил он. – Но ты ошибаешься, военачальник, поэтому следи за тем, что ты говоришь. Твое положение никогда еще не было таким шатким. Твоя попытка добиться влияния на Сменхару, проведя успешную военную кампанию, не увенчалась успехом. – Он почувствовал жажду, но не захотел тянуться за кувшином. – Но мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о наших личных обидах. Нам нужно разрешить эту дилемму.
– Это не дилемма, – возразил Хоремхеб, отклонившись назад в кресле, так что его лицо оказалось в тени. – Она заслуживает казни.
– Заслуживает она казни или нет, мы не можем ее убить. Доверие и почитание, оказываемое царственным особам, никогда еще не были так подорваны. Египет изнурен эгоизмом своих правителей и жаждет утешения. Если царицу пронзит лезвие ножа, доверие будет полностью уничтожено. Как могут верующие казнить свою богиню? Нельзя позволять, чтобы простолюдины когда-нибудь задавались этим вопросом. Кроме того, Хоремхеб, Нефертити – это не Тейе. Она не в состоянии всецело отвечать за те действия, последствия которых не может предвидеть.
– В тебе говорит слепая отцовская любовь! – презрительно проговорил Хоремхеб. – Она могла сохранить свою власть над Египтом, когда Эхнатон восхищался ею и верил ей, но она была слишком самовлюбленной и глупой, чтобы попытаться сделать хоть что-нибудь. Она заслуживает смерти. Но ты прав, говоря о политической необходимости. Поэтому я предлагаю послать сообщение Мэю и приказать ему подстеречь этого царевича на границе, и когда он пересечет ее, сразу же убить его и всех, кто будет с ним.
– При условии, что Суппилулиумас согласится. – В процессе разговора Эйе уныло осознавал, что Хоремхеб совсем не нуждался в его советах. Он мог решить все сам и сослаться на то, что это главным образом военный вопрос, который касается лично его, ознакомив впоследствии Эйе с тем, что удалось предпринять. Подвинув к себе кувшин, он жадно выпил воды. Интересно, – мрачно размышлял он, – как скоро Хоремхеб осознает, что Нефертити можно убить и тайно и затем специально для крестьян распространить какую-нибудь невинную историю. Она так долго тихо жила в северном дворце, что многие, наверное, думают, что она уже умерла.
– О, он согласится, – убежденно откликнулся Хоремхеб. – Несмотря на сомнения, он не станет пренебрегать возможностью одержать бескровную победу. Он уже так долго нависает над Египтом, что мы начали приписывать ему божественные свойства, но он все же человек, и у него есть слабости. Да, он обратил в бегство нашу армию, но если бы наши солдаты были хоть немного лучше подготовлены, все сложилось бы совсем иначе. Когда-нибудь мы победим его.
– Но мы не можем сидеть сложа руки и мечтать о том, когда этот день наступит. Мы должны думать, что станем делать в следующий час, – сухо напомнил ему Эйе. – Сменхара знает об этом?
Глупый вопрос, – еще не договорив, понял Эйе. – Разумеется, Хоремхеб явился прямо к царевичу, чтобы получить разрешение действовать, а Сменхара, должно быть, настоял на том, чтобы военачальник посоветовался со мной. В противном случае, – заключил Эйе, – я никогда бы не узнал об этом.
– Да, – ответил Хоремхеб. – Он милостиво согласился подождать, пока мы посоветуемся, и, конечно, если мы не придем к соглашению касательно плана наших действий, последнее слово остается за ним. Идем к нему?
Эйе поднялся из кресла, постоял немного, чтобы унять сердцебиение, и вышел из комнаты вслед за Хоремхебом.
Сменхара, как и Хоремхеб, был обнажен, только синяя, с пятнами пота, лента стягивала его лоб, да маленькое бирюзовое Око Гора висело на тонкой золотой цепочке на шее. Он сидел, развалившись на троне в своей приемной, подложив под себя подушки, задрав ногу высоко на край позолоченного сиденья и свободно положив руку на поднятое колено. Они опустились перед ним на колени, затем поднялись, ожидая, пока он разрешит им заговорить. Горело множество ламп, казалось, Сменхара ничего не имел против того, что от них в комнате становилось еще жарче, а от их удушающих ароматов было не продохнуть.
– Ну, дядюшка, – едко заговорил он, – моя царственная сестрица на этот раз превзошла самое себя в глупости. Есть ли какие-нибудь причины, препятствующие тому, чтобы казнить ее или выслать? Может быть, нам стоит послать ее к хеттам, видя, как она жаждет оказаться в их обществе.
Это был личный упрек, и Эйе приготовился ответить, но неожиданно Хоремхеб опередил его:
– Мы ничего не выиграем от смерти царицы. Мы с носителем опахала предлагаем устроить засаду в северной Сирии и затеять там небольшую потасовку с участием иноземца, который наверняка прибудет. Если мы будем действовать разумно, даже Суппилулиумас не сможет прямо обвинить Египет в его убийстве.
– Ничего не выиграем? – яростно оборвал его Сменхара, повышая голос. Вялая рука, покоившаяся на колене, вдруг сжалась в кулак. – Моя мать обещала мне двойную корону. Она обещала! Я желаю получить ее. Она моя по праву рождения, а Нефертити хотела забрать ее у меня!
Эйе с любопытством смотрел, как кровь прилила к удлиненному лицу, как его впалая грудь начала вздыматься от негодования. Он не осмеливался встретиться взглядом с Хоремхебом, зная, что военачальник тоже увидел в этом бледную тень Эхнатона. Впервые за много месяцев между ними на миг промелькнуло молчаливое взаимопонимание, и, будто почувствовав это, царевич почти защитным жестом быстро провел рукой по своей выбритой голове.
– Полагаю, это не имеет значения, – продолжал он уже спокойнее. – Эхнатона скоро похоронят, и тогда я стану фараоном, а Мериатон – моей царицей. Что тогда сможет поделать сестрица? – Он немного подался вперед и холодно воззрился на посетителей. – Вы оба прекрасно понимаете, что, если вы устроите засаду на иноземца, вы должны быть уверены, что вам удастся убить всех его спутников, включая и любого из посланцев Нефертити. В противном случае об этом станет известно Суппилулиумасу.
Хоремхеб кивнул:
– В этом можно всецело положиться на меня. Сменхара метнул на дядюшку пронизывающий взгляд.
– У носителя опахала есть возражения?
Эйе поклонился:
– Нет, Птенец-в-гнезде.
Сменхара выпрямился, встал и, не удостоив их взглядом, зашагал в темноту. Эйе медленно выдохнул. Хоремхеб улыбался ему озорной улыбкой.
– Мы будто вернулись на десять лет назад, а? – проговорил он.
– Используй конницу, военачальник, – сказал Эйе, не ответив на его замечание, – и переодень людей под пустынных хапиру. Эскорт хеттского царевича, без сомнения, будет на лошадях, тут нельзя допустить ошибки. Все знают, как небезопасно сделалось на дорогах в пустыне. У нас должно получиться.
– Хорошая мысль. – Глаза Хоремхеба мгновенно прояснились. – Не хочешь ли получить копии моих указаний Мэю?
– Нет. Просто дай мне знать, когда все будет кончено.
Эйе удалось изобразить неглубокий учтивый поклон, потом он повернулся и медленно побрел прочь. Никогда еще он не чувствовал себя таким усталым.
Траур по Эхнатону подходил к концу. День за днем Нефертити молча сидела у окна, вглядываясь в раскаленную серебряную поверхность реки, в мерцание факелов, которые она повелела ночью зажигать вдоль берега. Каждый день она просыпалась на рассвете после короткого беспокойного сна с покрасневшими, воспаленными глазами и дрожью в руках, которую была уже не в силах унять. Когда к ней обращались с каким-то вопросом, она отвечала резко или разражалась слезами, и глаза воспалялись еще больше. Врачеватель прописал ей мазь, от которой слипались ресницы, и она часами сидела, отгоняя мух, привлеченных резким запахом, но, по крайней мере, снадобье охлаждало веки и приносило небольшое облегчение. В конце концов она заставила себя оторваться от проклятого окна и вместо этого проводила дни лежа на постели в затемненной комнате. Никто не подходил к ней. Даже Тутанхатону, спокойному и послушному мальчику, надоело слушать ее вопли и сносить ее тумаки, и он старался не покидать своих комнат или прогуливался по опустевшим садам. Нефертити вкусила одиночество и нашла его вкус горьким.
Утром в день похорон супруга она нашла в себе силы присесть у туалетного столика и позволить накрасить себя. Она не стала пользоваться мазью, чтобы можно было нанести на веки краску, но лицо приходилось снова и снова ополаскивать водой, потому что глаза слезились неимоверно. Хеттский царевич не приехал, хоть и мог бы успеть. Видимо, что-то случилось с ним или с Хани: может, захромала лошадь, или они поехали в объезд, чтобы их не обнаружили, или он мог заболеть. Может быть, как раз в эту минуту они приближаются к Ахетатону. При этой мысли она открыла глаза, слуга, подавив раздраженное восклицание, вновь потянулся за влажной салфеткой. Сменхара будет наречен божественным только завтра. Еще оставалось несколько часов, и каждый час мог принести избавление. Ей на голову водрузили тяжелый парик. Его украсили золотой сеткой с ляпис-лазурью, которая была аккуратно прикреплена к диадеме с возвышающейся над ней коброй с раскрытым капюшоном. Она была увенчана этой диадемой, когда сделалась царицей. За ней стояли служанки, готовые обрядить ее в траурное синее узкое платье, золотые сандалии и прозрачную синюю накидку. Под ослепительным солнцем покачивалась ладья, мягко тыкаясь в причал, где все прожилки в камне, каждый уголок ступеней были ей знакомы, как черты собственного лица.
– Мне надо выпить вина, иначе я не переживу этот день, – проговорила она, задохнувшись, чувствуя, как снова начинают слезиться глаза, и слуга, тотчас же опустившись перед ней на колени, поднес серебряный кубок. Она быстро, без удовольствия, осушила его. Я сама положила начало этой муке, – думала она, – ноне в силах положить ей конец. Повернувшись к слуге, она подставила лицо, чтобы он вытер черные потеки с ее щек. Когда пришло время отправляться, она поняла, что слугам придется осторожно поддерживать ее.
Пока ее несли на западный край города, откуда начиналась траурная процессия, Нефертити не открывала занавесей своих носилок. Хотя она слышала, как вестник оглашает ее появление, и стражники расталкивают толпу собравшихся по обе стороны царской дороги в надежде взглянуть на нее, она не пожелала удовлетворить их любопытство, как не пожелала, и глядеть на тянущиеся вдоль дороги дома и сады, на которые когда-то взирала с ощущением дивного счастья. Однако с удалением от центра города гомон толпы простонародья стал затихать, и она подняла занавеси, заслонив глаза от яркого солнца и ослепительно белого песка. К ней подошел распорядитель протокола, поклонился и указал ее носильщикам место, которое ей следовало занять. Когда ее вынесли вперед, Мериатон и Анхесенпаатон отделились от своих свит. Носилки остановились. Поколебавшись, Нефертити высунулась наружу, и дочери в слезах преклонили колени, чтобы обнять ее. Коротко прижав их к себе, она сделала знак управляющему трогаться с места и отстранилась, снова опустив занавеси. Она не хотела видеть, как гроб с телом ее супруга поволокут по песку к бесплодному, окруженному скалами оврагу, который он выбрал для своей гробницы. Она слышала сзади всхлипывания Мериатон и Анхесенпаатон, за ними слышались завывания плакальщиц, но ее глаза были сухими. У нее не осталось слез для Эхнатона. Они все были пролиты очень давно. Эхнатон сам сотворил ритуал погребения, вложив восторженное отношение к своему богу и чувство прекрасного, которым был наделен. Пение Мериры, предписанные танцовщицам движения, музыка, парящая в неподвижном воздухе, все вместе создавало впечатление – одновременно и грандиозное, и патетическое – той эры, которая теперь закончилась. Даже многочисленные враги Эхнатона среди придворных на время забыли, что они хоронили фараона, который вел их всех тропой своих заблуждений, а помнили только, что он был добрым человеком. Во время церемонии Нефертити сидела под балдахином, иногда тайком обращаясь за помощью к слуге, ведавшему ее косметикой. Она пыталась скрыть нервное дрожание рук. Несмотря на свою решимость сохранять спокойствие, она не могла удержаться от частых взглядов туда, где овраг переходил в пустыню и за ним, невидимая, текла река. Но песок мерцал, скала дрожала в раскаленном мареве, а посланника все не было.
Сменхара выступил вперед для совершения обряда отверзания уст. Это был самый торжественный момент погребения, и все глаза должны были обратиться к наследнику, но Нефертити все сильнее ощущала, что внимание собравшихся приковано к ней. Это не так, это все мне кажется, – пыталась она убедить себя. Но, взглянув на толпу из-под полуопущенных век, она увидела, что отец смотрит на нее немного сонным взглядом, а у него это всегда было признаком серьезного раздумья. Затем она наткнулась на холодный и твердый взгляд Хоремхеба, стоявшего рядом с ним. В ней поднялась паника, в пересохшем горле запершило, и ей ужасно захотелось вина. Отведя взгляд, она стала наблюдать за церемонией как раз в тот момент, когда Сменхара вручил Мерире священный нож и обернулся. Ей показалось, что он тоже смотрит на нее обличительным взглядом. Вдруг она почувствовала, будто все глаза устремлены к ней, они сверлят ее, враждебно и осуждающе. По лицу заструился пот. Потупившись, она постаралась не обращать на них внимания. Закололо в груди, и она внутренне сжалась, подавив стон. Яне должна ничего показывать, – прорвалась сквозь панику смутная мысль. – Если я убегу, я дам им повод еще больше презирать меня. Но даже когда эта мысль пришла ей в голову, она поняла, что неосознанно пытается подняться.
– Куда вы таращитесь, вы, святотатствующие крестьяне? – закричала она. – Я – царица! Отведите глаза!
Мерира прекратил пение, и ритуал прервался. Теперь она действительно увидела, что все воззрились на нее в полнейшем изумлении. Слезы застилали ей глаза. Нефертити почувствовала, как чья-то рука крепко сжала ее запястье.
– Успокойся, царица, – прошептала ей на ухо ее единокровная сестра. – Ты же не хочешь, чтобы они сочли, что ты лишилась рассудка, и начали бы думать – это от горя. А может, ты заболела?
Нефертити выдернула руку из ладони Мутноджимет, но тут же другая рука мягко коснулась ее плеча, и, даже не открывая глаз, она узнала Тии.
– Я хочу домой, – прошептала она в гнетущей тишине.
Мутноджимет посмотрела на мужа. Хоремхеб кивнул и велел Мерире продолжать. Мутноджимет и Тии быстро провели Нефертити к носилкам сквозь перешептывающуюся толпу. Краем глаза Нефертити увидела Тутанхатона – он был великолепен: сверкающая яшма и снежно-белые одежды, черный детский локон был заплетен и стянут синими лентами. Он с любопытством смотрел на нее. Анхесенпаатон шагнула к матери, но Эйе удержат ее. Мериатон, тревожно нахмурившись, осталась рядом со Сменхарой.
– Пусть тебе сделают массаж, потом полежи, – попыталась успокоить ее Тии, поддерживая перед Нефертити занавеси. – Я пойду в гробницу с твоими цветами. Твое затворничество бессмысленно, царица. Приходи сегодня вечером в дом отца. Траур закончился. У нас будут музыка и танцы, тебе станет легче.
Нефертити погладила ее щеки и отвернулась.
– Мне как-то нехорошо, – сдавленно произнесла она, злясь на себя за несдержанность и потерю достоинства. – Может быть, позже, Тии.
Тии доброжелательно поклонилась и отпустила занавеси. Носилки тронулись с места. Нефертити слышала, как пение возобновилось, потом постепенно стало затихать. Сгорая от стыда, она свернулась на подушках, закрыв лицо руками. Хеттский царевич не приехал. Эхнатон похоронен. Ее попытка спасти хоть что-нибудь в своей жизни провалилась, и горячие слезы хлынули сквозь пальцы.
Лишь только село солнце, управляющий объявил о приходе Эйе. Вернувшись в северный дворец, Нефертити сразу отправилась в постель, заставив передвинуть кровать таким образом, чтобы можно было лежать, опираясь на подушки, и смотреть в окно, хотя это было уже совершенно бессмысленно. В розовом вечернем свете она лежала, безразлично поигрывая кольцами. Отец приветствовал ее, остановившись перед ложем. Он поклонился, тяжело дыша, и она жестом позволила ему сесть.
– Раньше я мог бегом подняться по этим ступеням, – задыхаясь, сказал он, – но сегодня я преодолевал их, сидя в носилках. Время беспощадно, царица.
Она вскинула на него взгляд, на его побагровевшем, вспотевшем лице было ласковое выражение.
– Если ты пришел справиться о моем самочувствии, мне уже лучше, – сказала она. – Это все от жары и от горя.
– О, – он понимающе закивал, – это прискорбно, но не волнуйся так из-за этого, Нефертити. Все знают, как ты была предана Осирису Эхнатону, даже несмотря на то что он плохо обошелся с тобой.
Она снова пристально взглянула на него и на этот раз разглядела его полуулыбку.
– Его задело бы, если бы он услышал, что ты называешь его Осирисом, – улыбнулась она в ответ. – Я достаточно великодушна, отец, чтобы надеяться, что Атон воздаст ему по заслугам.
– Возможно, Атон попытается, но другие боги, вероятно, придут в ярость, зная, на какую судьбу он обрек Египет, и не позволят божеству Эхнатона даровать ему блаженство.
Она откинулась на подушки и закрыла глаза, борясь с желанием потереть их.
– Я прикажу принести чего-нибудь? – тихо предложила она. – Как хорошо, когда снова есть виноград, гранаты. Дыни уродились в этом году. Мои хранилища полны. Так странно, похороны в сезон урожая.
– Не надо угощения, благодарю, царица.
Она расслышала нотку неуверенности в его голосе и, открыв глаза, повернула голову.
– Ты же пришел не затем, чтобы справиться о моем здоровье или обсудить урожай, – сказала она. – Так для чего, отец?
Эйе наклонился к ней, и последний луч красного света, упавший на ложе, коснулся его.
– Могу я отпустить твоих женщин?
– Конечно.
Он отдал приказание, и служанки, собрав свои игры и безделушки, одна за другой вышли из комнаты. Когда они удалились, Эйе некоторое время сидел молча, сложив пальцы пирамидкой и уперев в них подбородок, и Нефертити, глядя на его задумчиво полуприкрытые глаза, внезапно напряглась. Потом он расслабил руки.
– Я заберу Тутанхатона из северного дворца, – проговорил он. – Как единственный мужчина, оставшийся в семье по линии Аменхотепа, он должен получать воспитание и образование, соответствующие его положению.
– Понимаю, – медленно ответила она, не отводя взгляда от его лица. – Но не слишком ли рано? Разве Сменхара и моя дочь не смогут произвести на свет сына? Они молоды. У них может быть много детей. Любой из их сыновей сможет унаследовать трон.
Эйе вздохнул.
– Я не могу ждать, чтобы посмотреть, что нас ожидает в будущем. Я должен подготовиться сейчас к любым непредвиденным обстоятельствам. Если бы Сменхара пришел к власти в другое время, когда Египет был силен и его управление надежно, его характер не имел бы такого значения. Но он испорченный, злобный и слабый. Он ничего не предпринимает для того, чтобы навести порядок в том управленческом хаосе, который оставил твой супруг. К нему подлизывается молодежь, которая ищет власти, но не ответственности. – Он помолчал, и Нефертити заметила, что сумерки уже наполнили комнату и черты отца становится трудно различить. – Надежда на спасение Египта, которая вспыхнула, когда умер твой муж, будет жива ровно до того момента, когда страна увидит, что Сменхара не способен править и больше не осталось людей, которые могли бы осуществить действенное правление. В такие времена, как теперь, собираются шакалы: убийцы, люди, жадные до власти, корыстолюбцы без чести и совести. Если Сменхара умрет или его убьют, должен остаться явный, не вызывающий сомнений наследник.
Нефертити принялась перебирать кольца, россыпью лежавшие на покрывале.
– Я вижу, ты много думал над этим, – сухо сказала она. – А что заставляет тебя полагать, что Тутанхатон будет подходящим наследником для Египта? В конце концов, он – живое напоминание о проклятии, которое навлекла на нас моя тетушка, когда вышла замуж за собственного сына. – Она вглядывалась в него, стараясь определить выражение его лица, но не видела ничего, кроме бледного овала.
– Я должен быть уверен, что он взращен в старой традиции, как слуга Амона, что он любит истинных богов Египта, почитает слуг Амона в Карнаке. Если со Сменхарой что-нибудь случится, Тутанхатон станет представителем Маат – древнего справедливого порядка вещей и возвращения Египта к здоровью и процветанию.
Нефертити повернула голову и посмотрела в окно. Далеко внизу, на пристани, где стояла ее ладья, оранжевым пламенем горели факелы, их отсвет дробился на мелкие осколки, отражаясь в покрытой рябью поверхности Нила.
– А что Хоремхеб? – тихо спросила она. – Ты ведь только его боишься, разве не так? Ты боишься, что он возьмет власть над Сменхарой, а потом, возможно, и над маленьким царевичем, и однажды ты проснешься и узнаешь, что он сделался регентом – человек, которым всю жизнь двигало огромное честолюбие. Ты думаешь, что, вкусив настоящей власти, он сможет удовлетвориться местом регента позади трона?
Эйе теперь сидел в полной темноте, и единственным признаком того, что он все же слышал ее, было его участившееся дыхание. Через некоторое время он сказал:
– Хоремхеб любит Египет. Он всегда чувствовал себя в долгу перед своей страной. Однако я не знаю еще, как далеко он может зайти, отдавая свой долг. Конечно, его мальчишеская вера во всемогущество фараона пошатнулась.
– А ты не боишься быть со мной таким откровенным? – Нефертити отодвинула кольца и спустила ноги с кровати. Коленом она задела колено отца. – Я – царица. Я правила, а моя дочь Мериатон – нет. Что если я пойду к Хоремхебу и предложу ему брачный союз? Он легко расторгнет брак с Мутноджимет или сделает ее второй женой. Люди сочувствуют мне. Я – несчастная царица, изгнанная бессердечным супругом. Вместе мы сможем низложить и изгнать Сменхару.
Она не знала, откуда у нее возникла уверенность, что Эйе улыбается в темноте.
– Моя дорогая Нефертити, – отозвался он с оттенком насмешки в голосе, что подтвердило ее уверенность. – Меня восхищает твое упорство. Мне жаль тебя, потому что твоя жизнь была полна страданий, и я люблю тебя, потому что ты была когда-то моей маленькой девочкой, бегавшей в садах Ахмина, но по-настоящему я не доверяю тебе. Ты думаешь, я говорил бы с тобой так откровенно сегодня, если бы считал, что Хоремхеб согласится хотя бы выслушать тебя? – Он неожиданно отыскал в темноте ее руку и пожал ее, и Нефертити, вздрогнув, ответила на его пожатие. У него были сухие и очень горячие пальцы. – Прости меня, если можешь, царица, за то, что я скажу тебе. С тех пор как Мэй перехватил на границе твоего посланника, мы с Хоремхебом и Сменхарой знаем, что ты замыслила заполучить в Ахетатон хеттского царевича. Для Хоремхеба ты – изменница.
Нефертити похолодела от ужаса. Отняв руку у Эйе, она вскочила и подбежала к двери.
– Зажгите свет! – воскликнула она, и слуги поспешили к ней в комнату с лампами, которые были уже зажжены и стояли в коридоре, расставили их по комнате, после чего поклонились и вышли.
Теперь она увидела Эйе, который сидел в кресле, глядя на нее вполоборота, с участливым и извиняющимся выражением.
– Ты знал и ничего не сказал мне! – закричала она на него, окаменев от боли. – Ты позволил мне страдать, ты позволил мне надеяться, верить – даже сегодня я еще надеялась… – Она сглотнула. – Никогда не думала, что ты можешь быть таким жестоким.
– Но тогда было уже слишком поздно остановить твой заговор, – ответил он. – Было проще устроить засаду на царевича Зеннанзу и убить его так, чтобы Суппилулиумас поверил, что это дело рук хапиру. Теперь ты понимаешь, почему Хоремхеб не захочет иметь с тобой никаких дел?
– Значит, на мою просьбу ответили. – Она почувствовала, как слезы унижения полились из глаз, уже мучительно покалывая ее воспаленные веки. – Суппилулиумас послал его, царевича Зеннанзу. – Она подошла к ложу и опустилась на него, аккуратно оправляя на коленях платье и не глядя на Эйе. – Во что бы то ни стало забери Тутанхатона, – закончила она тихо. – Тогда у меня не будет необходимости больше говорить с тобой.
Он встал и поклонился.
– Я защищал тебя перед Хоремхебом, – сказал он. – Несмотря ни на что, я твой отец, и я верен тебе. Но, Нефертити, настало время принять ту участь, что выпала на твою долю, и успокоиться. Утром я пришлю за Тутанхатоном.
Он подождал немного, но она не ответила ни на его поклон, ни на его слова, тогда он повернулся и вышел. Дверь тихо закрылась за ним.
Была почти полночь, когда Эйе устало поднялся по ступеням своего причала и в сопровождении стражи прошел через шелестящий темный сад к дому. Он знал, что откровенность с Нефертити ничем не грозит ему. У нее не осталось средств, с помощью которых она могла бы снискать благосклонность какого-нибудь влиятельного лица, и было совершенно очевидно, что Хоремхеб не станет иметь с ней никаких дел. Он и мне больше не доверяет, – подумал Эйе. Войдя в опочивальню, он приказал слугам раздеть его. – Наши мнения о том, как восстановить порядок в этой стране, всегда были несхожи, но сейчас разногласия между нами очень быстро растут, и дело может дойти до открытого соперничества. Надеюсь, что этого все же не случится. Сейчас он сбит с толку и не знает, как ему действовать дальше, но, как бы там ни было, я не должен позволить ему получить власть над Тутанхатоном. Мне необходимо сохранить свое влияние при дворе; придется наносить визиты Сменхаре, не выпускать из поля зрения Тутанхатона и пытаться сдерживать нетерпение Хоремхеба.
Он стоял, запрокинув голову и прикрыв глаза, покорившись умиротворяющим, благоговейным прикосновениям слуг, которые омывали его ароматной водой, одевали в свежее платье, обмахивали опахалами. Все лампы в комнате погасили, горел только один ночник. Слуги поклонились и пожелали ему доброй ночи. Он лежал в жаркой комнате, утомленный, но неспособный расслабиться, думая об убийстве иноземного царевича, которое было совершено по его приказанию. Сменхара уже забыл о нем, а Хоремхеб расценивал его как политическую необходимость. Мы могли бы просто схватить его и отослать домой к отцу, – думал он. – Возможно, Суппилулиумас счел бы подобные действия слабостью, но это могло предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между нашими странами.
Он уже задремал, когда услышал, что дверь отворилась, и, приподнявшись на локте, увидел в свете ночника свою жену. Тии куталась в желтый халат. Она была босая, седые волосы были небрежно откинуты, открывая высокий лоб. Мягкий свет ночника скрадывал морщинки.
– Уже так поздно, я думал, ты спишь, – улыбнулся он, жестом приглашая ее на ложе.
Тии села, поджав губы.
– Я слышала, как ты пришел, – ответила она. – Я ждала тебя. – Как обычно, она не спросила, где он был. Она никогда не вмешивалась в его дела, не спрашивала, о чем он думает, и само это ее безразличие делало ее как-то ближе. – Я хотела сказать тебе, что, как только ты ушел, прислали весть из дворца, что ребенок Анхесенпаатон умер.
Эйе вздохнул.
– Бедная царевна. У нее все же отняли ее куклу. Нужно будет навестить ее утром.
– Киа на время взяла ее в свои покои. Члены священного семейства солнца Эхнатона гибнут один за другим. Похоже, проклятие еще действует.
– Может быть. – По интонации ее голоса, по тому, как она покусывала губы, он понял, что это еще не все. – Продолжай, дорогая.
– Эйе, завтра я уезжаю домой в Ахмин. Слуги запакуют мои вещи и пришлют их позже. Ты сделал все, чтобы я была счастлива здесь, но я больше не могу выносить чувства обреченности, которое витает над городом. Ахетатону конец. Сон закончился.
Он не улыбнулся тому, какие она подобрала слова. Город действительно был похож на сон, но видевший этот сон уже умер.
– Ты не останешься, даже если я буду умолять тебя?
– Нет. – Она взяла его за руку. – Между нами многое изменилось, Эйе. Любовь осталась, но есть разница между тем браком, который существовал у нас с тобой прежде, когда мы жили врозь и все же были вместе, и тем, во что он теперь превратился. Я – египетская жена, не варварская рабыня, не наложница для утех. Ты отдавал мне свое тело, но твои мысли уже давно неведомы мне. Ты не так открыт для меня, как раньше. С тех пор как умерла Тейе, ты замкнулся в себе. Я чувствую себя такой одинокой, как никогда прежде, и все, что я делаю здесь, мне не нравится. В Ахмине я буду работать, снова стану ходить замарашкой, но буду испытывать радость от своей жизни.
Он поднес ее руку к губам. Он чувствовал себя несчастным, однако понимал, что она говорит правду.
– Я должен остаться. Я нужен здесь. Прости меня, – прошептал он. – Мне следовало попросить тебя о помощи, Тии.
– Но ты не попросил, и, кроме того, не думаю, что смогла бы чем-нибудь помочь тебе. Одного моего присутствия здесь было недостаточно, чтобы сделать тебя счастливым. Поэтому прощай, муж мой. Приезжай в Ахмин, как в былые дни, неожиданно, когда захочешь.
– Я буду приезжать к тебе, Тии, – хрипло проговорил он, – и ты, конечно, ни в чем не будешь нуждаться.
Она наклонилась и легко поцеловала его, но у него была своя гордость, и он не позволил себе притянуть ее и уложить рядом на ложе. Долго еще после того, как она ушла, аромат ее духов оставался у него на коже, на простынях, и он не мог прогнать поток воспоминаний, нахлынувших с жестокой силой, оставляя за собой такую острую тоску, которая, он знал, не притупится со временем.
26
Через несколько недель после коронации Сменхары Эйе поймал себя на том, что его мысли возвращаются к словам, сказанным Тии на прощание. Сон Ахетатона еще не закончился. Действующие лица, населявшие его, цеплялись за обрывки, будто боялись, проснувшись, обнаружить, что все исчезло. За пределами города Египет разрушался, борясь с последствиями голода, нехваткой чиновников, которые могли бы эффективно работать в условиях фактически рухнувшей системы управления, разгула преступности, мародерства и насилия, но в самом Ахетатоне все было славно и радостно.
– Что же такое держит их в Ахетатоне, что они сидят здесь, подобно умирающим от голода крестьянам, которые не в силах отойти от пустого амбара? – спросил однажды Эйе Хоремхеба в порыве отчаяния.
Мужчины заключили нелегкое негласное перемирие, когда сделалось очевидным, что при новом режиме оба они утрачивают власть.
Хоремхеб невозмутимо пожал плечами.
– Страх того, что за его пределами, – ответил он. – Только в Ахетатоне ничего не изменилось. Каждый житель города боится куда-либо ехать, боится увидеть, что случилось с Египтом, во что теперь превратились Фивы. – Он мрачно улыбнулся. – Сменхара знает, что неспособен управлять страной, однако ужасно боится передать кому-нибудь необходимые полномочия. Он знает, что недостоин быть фараоном, и это еще больше пугает и злит его. Ты смотрел трезвым взглядом на нашего фараона, носитель опахала? – Эйе покачал головой. – Тогда советую тебе сделать это. Когда ты решишь, что пора что-нибудь с этим делать, приходи в мой дом.
Эйе решил не обращать внимания на вызов в глазах военачальника. Он надеялся, что ему никогда не придется действовать заодно с Хоремхебом. Эйе страшился, что его вынудят стать причастным к замыслам, которые, возможно, потребуют от него отречься от своей веры в неприкосновенность персоны фараона. Но пока не было острой необходимости в таком сговоре, он все больше времени проводил с Тутанхатоном. Царевич был послушен и равнодушно перенес переезд во дворец, где Сменхара почти не обращал на него внимания. Для многих придворных Тутанхатон являл собою неудобное напоминание о кратком безумии, которое внезапно охватило царственных особ Египта, и о котором было лучше всего забыть, но священная кровь, текущая в его жилах, служила для некоторых поводом добиваться его расположения. Время было смутное, и, возможно, маленький царевич сможет стать фараоном. Эйе сам выслушивал, как мальчик повторял свои уроки, присматривал, как он молится и упражняется с колесницей, склонялся рядом с ним над игральной доской и рассказывал ему о матери. Царевич носил на шее рыже-каштановый локон матери в крошечном золотом медальоне, и Эйе часто задавался вопросом, так ли простодушен Тутанхатон, каким кажется. Возможно, он знал, как ему нужна сила этого амулета, и никогда не снимал его. Эйе отчаянно боролся за его доверие и был счастлив, видя, как он радуется обществу Анхесенпаатон. Осиротевший мальчик и одинокая царевна нравились друг другу. Эйе знал, что в этом союзе таятся большие возможности и чья-нибудь беспощадная рука могла ловко воспользоваться ими.
По-прежнему не было никаких признаков того, что Сменхара и Мериатон собираются произвести на свет наследника. Хотя они были неразлучны, спали, ели и играли вместе, вовлеченные в круговорот удовольствий, они напоминали двух капризных детей, для которых область взрослой ответственности была неведомой страной. И все же от них, казалось, веяло мрачным унынием, будто тьма давила на них днем и ночью, а они пытались во что бы то ни стало прогнать ее. Их смех звучал визгливо и принужденно, а нечастые минуты тишины были исполнены страха. Веселость Сменхары в любой момент могла обернуться приступом гнева, а Мериатон всегда была готова разрыдаться.
Хотя Эйе теперь только назывался носителем опахала, тем не менее, племянник часто вызывал его, спрашивал совета, и, хотя советы его никогда не принимались, дядюшка, однако, не упускал возможности напомнить племяннику о том, чего от него ждут. Проблема, остро стоявшая перед страной и требовавшая незамедлительного разрешения, которая вызывала наибольшее беспокойство Эйе, была связана с поставками золота. Казна была постыдно и угрожающе пуста, а за памятники, однако, нужно было платить, крестьяне едва бы выжили, если бы продолжали выращивать пищу и одновременно работать на строительстве, а иноземных сановников нужно было содержать и развлекать. Посольства начали возвращаться в город, который оставался все таким же нереально прекрасным, ко двору, который еще мог претендовать на звание самого роскошного в мире, и к молодому фараону с его царицей, которые выступали в роли самовлюбленных божеств. Но они прибывали, не привозя дани, и уезжали, не заключив соглашений, потому что у Египта не осталось ничего, чем можно было бы подкрепить эти соглашения. Хоремхеб старался удерживать открытыми золотые пути Нубии, но богатство только из одного этого источника не могло наполнить казну. Все чаще караваны, которые прежде доставляли в Египет горы экзотических и дорогостоящих товаров, теперь направлялись в Вавилон или Хеттское царство, а корабли, которые когда-то приходили из-за Великого Зеленого моря, страшась пиратов, увозили свои грузы в другие страны, зная, что Египет не в состоянии больше обеспечить им надежную защиту. И при этом фараон не мог обратиться к храмам, потому что его брат довел их все до полного обнищания.
Сменхара, вынужденный изыскивать средства для оплаты государственных долгов, начал продавать за границу зерно из закромов, которые снова были наполнены. Никто из его молодых друзей – теперь членов нового правления – не пытался отговорить его от этого опрометчивого шага в страхе впасть в немилость, и, наконец, за несколько дней до начала хояка Эйе набрался мужества и попросил фараона принять его. Почти закончился ахет, сезон половодья, и в воздухе веяло прохладой. Люди с радостью в сердцах ждали перет и начало сева.
Сменхара с видимым облегчением принял ритуальный поклон дядюшки. Когда Эйе вошел, фараон бесцельно прохаживался между столиками, на которых были разложены сладости, и лениво отщипывал кусочки то тут, то там, отгоняя при этом мошкару, роившуюся во влажном воздухе, его свита ходила следом. Он стоял, пока Эйе целовал его накрашенные хной ступни, потом поднялся по ступенькам трона. Усевшись, он указал жестом на эбеновый табурет у подножия. Эйе сел, и с едва слышными вздохами свита опустилась на подушки на полу.
– Ненавижу ахет, – сказал Сменхара. – Первая половина его слишком жаркая, и ничем не хочется заниматься, а вторая половина слишком влажная. Повсюду одна вода, и течение реки слишком быстрое, чтобы плавать по ней в лодке. Кому-то нравится охотиться за городом, но я не люблю убивать животных. Когда я был маленьким, то с нетерпением ждал, пока вода в реке спадет, потому что тогда бывает потрясающая рыбалка, но, конечно, теперь, когда я сделался фараоном, мне нельзя ни ловить ее, ни есть. Эхнатон ел рыбу, но он не признавал бога Хапи, живущего в Ниле, которого он мог бы оскорбить этим.
– Великий царь всегда может поплавать на лодке по озеру или прогуляться по Мару-Атону.
– Нет, не всегда. Например, сегодня я должен сидеть здесь и выслушивать жалобы жрецов.
О, – подумал Эйе. – Вот в чем причина его недовольства.
– Не соблаговолит ли великий царь рассказать мне, о чем они просят?
– Если хочешь. – Сменхара потянул за свою болтающуюся золотую серьгу. – Подношения скудеют. Все меньше верующих приходит в храм, и жертвенники на улицах убирают. Короче говоря, дядюшка, им стало нечего делать, и они начинают скучать.
– И что великий царь ответил им?
– Пойти и развлечься чем-нибудь.
Эйе смотрел на длинные пальцы с накрашенными ногтями, теребившие серьгу.
– Не сочтет ли благоразумным великий царь закрыть несколько мелких храмов Атона и послать жрецов в селения, чтобы поправить и снова открыть дома других богов?
Сменхара уставился на него.
– Ты сошел с ума? Кто же будет их кормить, пока они притворяются, что работают? И, кроме того, жрецы не любят грязной работы.
– У них не будет выбора. Их можно было бы поддерживать из запасов нового урожая во владениях Дельты, которые прежде принадлежали Амону.
Сменхара рассмеялся.
– Ты хочешь, чтобы я вернул Амону его земли? Конечно, я не верну их. Мои феллахи даже сейчас ждут, когда схлынет вода, чтобы начать засеивать эти земли для меня. Мне нужно зерно.
Много раз Эйе хотел обратить внимание фараона на вопрос величайшей важности, но более подходящего момента, чем теперь, до сих пор не случалось. Разговор об Амоне дал ему возможность приступить к этому делу.
– Великий Гор, – пылко заговорил Эйе, – настало время послать официальную миссию посланников к Мэйе в Фивы, жалуя ему позволение снова открыть Карнак, и направить управляющего во дворец, чтобы он сделал все необходимое, чтобы снова сделать его пригодным для жизни. Ты не знаешь нравов своего народа. Поверь мне…
Сменхара поднял руку. Улыбка исчезла с его лица.
– Я уже сделал то, о чем ты просил, и поднял большой шум, когда строил свою гробницу в западных холмах близ Фив. Я нарочито громко произносил свои молитвы у жертвенника Амона здесь, во дворце. Я даже назначил Пва, – он взмахом указал на юношу, стоявшего позади него в белых жреческих одеждах, – писцом подношений Амону во дворце Анхеперура. В моем дворце. Моем. Я не намерен отдавать Амону обратно никаких земель в ущерб себе. Как не намерен и покидать Ахетатон. Долгие годы я ждал в Фивах, в пустом дворце со своей упрямой матушкой, тоскуя по Мериатон, печалясь, а здесь не смолкала музыка. Я презираю Фивы. Если там некогда было шумно и грязно, то сейчас там грязнее вдвойне. Поговорим о чем-нибудь другом!
Его голос сделался высоким, и покатые плечи в складках золотой ткани ссутулились от гнева.
Эйе вспомнились слова Хоремхеба, и, глядя на племянника, он с содроганием осознал, что впервые трезвым взглядом оценивает фараона.
Когда это началось? – в отчаянии думал он. – Когда боги наслали проклятие на Египет? Когда Тейе легла в постель со своим сыном? Или намного раньше, когда она предотвратила его убийство вопреки предупреждению оракула? Толстый зад Сменхары расплылся по сиденью трона, что было заметно даже под его просторным малиновым одеянием. Хотя он был еще молод, его живот уже начал обвисать.
– Великий царь, – с трудом вымолвил Эйе, почувствовав внезапную слабость, – хотя бы отправь визиря Юга в Фивы, чтобы он объявил людям, что они могут снова поклоняться кому пожелают.
Сменхара дернул головой.
– Нахтиаатон! Не хочешь ли отправиться в Фивы и поговорить об этом с народом?
Визирь подполз к нему, подобострастно коснувшись лбом царственной ступни.
– Полагаю, в этом нет необходимости, священный. Люди всегда втайне поклонялись кому хотели.
– Но им нужно открыто объявить об этом, их нужно заверить, иначе…
Эйе поднялся. Сменхара наклонился к нему.
– Иначе что, дядюшка? Ты намерен угрожать мне, как это делал Хоремхеб, когда я был еще царевичем? Я уступил ему, но поклялся себе, что никогда больше не стану слушать ни единого его слова. Если ты закончил, можешь идти.
– Еще одно, с твоего позволения. – Эйе знал, что не должен еще сильнее возбуждать гаев Сменхары, но он был исполнен решимости обсудить с ним вопрос, который первоначально привел его сюда. – Это касается продажи нашего зерна иноземцам. Еще в древности фараон запасал зерно на случай голода. Твои предшественники опорожняли закрома в обмен на золото, и когда случался голод, многие умирали. Египет еще не оправился после засухи, и он еще уязвим. Умоляю тебя, Гор, придержи зерно!
– Ах, оставь ты меня в покое. – Сменхара сердито взглянул на Эйе. – Ты просто назойливый старик. Пусть Египет голодает, мне это безразлично. Земля принадлежит мне, так же как и все, что на ней произрастает или живет. Я – хозяин и бог. – Он угрюмо избегал взгляда Эйе. – Сдается мне, ты находишь удовольствие в том, чтобы заставлять меня гневаться, дядюшка. Ты недостаточно почтителен со мной как с фараоном. Ты больше не будешь принят при дворе.
Это была прямая отставка. Эйе выполнил ритуальный поклон и вышел из зала.
Оцепенело сидя на палубе своей ладьи, пока матросы боролись со стремительным течением, стараясь переправить его через реку, Эйе все сильнее чувствовал, как его окутывает аромат Ахетатона, еще более тяжелый из-за влажности воздуха. Запахи цветов, раскрывающихся почек на деревьях, благовоний смешивались с резким запахом илистой воды, самым древним ароматом Египта. Смех и нежный звон кимвалов донеслись до его слуха, и на удаляющемся берегу промелькнули загорелые тела и белые одежды стайки молодежи, пробегавшей под пальмами. Он ужасно похож на своего брата, но в нем также много и от Тейе, – думал Эйе, – поэтому я испытываю к нему некоторое сочувствие. Он ничего не сделает, чтобы перевязать раны Египта, но и не причинит ему вреда в будущем. Это немного утешает.
Когда он проходил по прохладным коридорам своего дома, ему послышался смех Тии из ее покоев. Он остановился и повернул на звук, но потом понял, что это всего лишь служанка. Он смирился с тем, что жена уехала по его вине, но никогда еще он не нуждался в ней больше, чем теперь.
В эту ночь он не пытался уснуть, а сидел в своей опочивальне, завернувшись в шерстяной халат, и смотрел на отсветы пламени жаровни, плясавшие на потолке. Несколько раз он был близок к тому, чтобы вызвать управляющего и продиктовать письмо к Хоремхебу, но всякий раз отказывался от своего намерения. Это было невозможно. Он знал, что Хоремхеб ждал от него этого шага, хотел объединиться с ним, искал его поддержки, а он не мог согласиться на это. Я не человек действия, – размышлял он, – я слишком созерцательная натура для того, чтобы снова убивать, и я слишком уж египтянин в старом смысле этого слова, чтобы замышлять убийство юноши, ставшего ныне богом. Стать сообщником Хоремхеба в этом деле означает также навсегда оказаться у него в кулаке. Пусть несет ответственность, и пусть несет ее в одиночку.
Он поставил лампу на туалетный столик, взял маленькое медное зеркальце и взглянул в него. Ты глупый старик, – сказал он себе, придирчиво оценивая черные мешки под слезящимися глазами, огрубелую, обветренную, дряблую кожу, лоб, изрезанный глубокими морщинами, и сухую, туго натянутую кожу на бритой голове. – Брось все, выйди в отставку, отправляйся домой в Ахмин. Но он знал, что не сделает этого. Не сейчас. Пока члены его семьи продолжают существовать, чтобы навсегда сохранить власть, за которую они боролись в течение нескольких поколений. Он имел обязательства и перед Тутанхатоном, и перед своей внучкой Анхесенпаатон. Он угрюмо улыбнулся зеркалу.
– Ты лжешь себе, глупый старик, – прошептал он. – Ты надеешься, что Хоремхеб совершит то, о чем невозможно и помыслить, и тогда тебе будет позволено править регентом за спиной Тутанхатона, если смерть не призовет тебя раньше.
Узнав о безуспешном и унизительном разговоре Эйе со Сменхарой, Хоремхеб ожидал, что дядюшка фараона вот-вот согласится принять участие в его заговоре, но дни проходили, а от него не было никаких известий. Несмотря их на соперничество, Хоремхеб ценил политическую дальновидность Эйе и в глухие ночные часы, лежа в тишине без сна, раздумывал, почему Эйе не хочет действовать. Может, он что-то упустил? Причины, неочевидные для его собственного, прямолинейного ума, но ясные для Эйе с его дипломатическим мышлением. Почему убийство фараона может быть нецелесообразным? Хоремхеб пытался представить себе все последствия подобного заговора. Он не испытывал недостатка в поддержке, хотя и знал, что он не в фаворе при дворе, как и все люди Эхнатона, за небольшим исключением. Он с пристрастием расспрашивал своих офицеров. Доверие солдат к нему несколько пошатнулось, после того как он столкнул их с Суппилулиумасом, но это, казалось, не должно было лишить его их поддержки, если он захочет получить корону.
Он пытался припомнить, когда у него окончательно оформилась идея, что он может стать фараоном. Когда умерла императрица и с ней вера Египта в неограниченную власть, которая всегда была связана с царствующей семьей? Когда он угрожал фараону в бытность его царевичем? Или это случилось многими годами раньше, когда он посмотрел на фараона и впервые увидел в нем всего лишь неуверенного, страдающего египтянина, зависимого от него и ищущего его дружбы? Он знал, что для Эйе возвращение стабильности Египта должно начаться с восстановления владычества Амона и постепенного возобновления дипломатических отношений с теми странами, что еще оставались верны империи. Он сам был не согласен с этим. Прежде всего, необходимо было укрепить защиту границ от хеттов, попытаться снова наложить руку на бывшие вассальные сирийские провинции, стабилизировать положение в Нубии и только тогда возвращаться к внутренним проблемам страны, для разрешения которых потребуется очень длительный срок. Не было времени ждать, пока Эйе попытается действовать по-своему. Казалось, у того нет ощущения крайней необходимости решительных действий в связи с угрозой вторжения хеттов, которое могло начаться буквально завтра, и означало потерю независимости Египта на вечные времена. Тогда все рассуждения, касающиеся сохранения божественности фараона и узаконивания Амона как главного божества Египта, стали бы бессмысленными. Сначала спасти Египет, – думал он, беспокойно ворочаясь рядом со спокойно спящей Мутноджимет, – даже если это значит разрушение могущественной династии, которая началась от божественного предка Сменхары Тутмоса Первого многие хенти назад, когда гиксосы были изгнаны с этой земли. Величайшая угроза безопасности Египта – это сам Сменхара, средоточие всей наследственной власти. Его нужно убрать. Но если я убью его, на трон взойдет Тутанхатон, и за ним будет стоять Эйе, упорно отказываясь от любых военных решений наших бед. Чего можно добиться убийством? Будет ли Эйе более сговорчивым, когда Сменхары не станет? Это были вопросы, ответы на которые появятся, лишь когда дело будет сделано.
Готов ли я навлечь на себя проклятие богов за такое деяние? – спрашивал он себя ночь за ночью в неподвижные глухие часы. – Конечно, они знают, что я всю свою жизнь верно служил бы своему царю, если бы он был того достоин. Но он был недостоин. И Сменхара такой же. Но египтяне служат своему фараону не потому, что тот достоин того, чтобы ему служили, – напомнил он себе. – Они отдают свою преданность неизменной искре бога в человеке, той вечной сущности, переходящей неизменно от царя к царю. Однако Эхнатон нарушил эту связь. Существует ли она еще? Я не знаю.
Много дней он боролся с собой. Мутноджимет с друзьями уехала на север, в Джаруху и Дельту, праздновать завершение сева. Он стоял в своей колеснице за городом, наблюдая за тем, как упражняются его солдаты; солнце вспыхивало на полированных остриях тысяч копий, и свет его с трудом пробивался сквозь тучи висевшей в воздухе удушающей пыли. Часто, слушая донесения осведомителей, которых он давно внедрил в поместье Эйе, он боролся с желанием пойти к носителю опахала, признаться в своих колебаниях и спросить совета у старика. Он знал, что ему хочется раскрыть свои планы, как-то избавиться от постоянного чувства вины за деяние, которого еще не совершил. В какой-то момент он даже решил подойти к Нефертити с предложением о заключении брака, но отверг эту идею с презрением, которого она и заслуживала. Вдовствующая царица давно утратила его доверие и уважение.
Наутро первого дня фаменоса он проснулся с уже созревшим решением. Он спокойно позволил слугам одеть себя, съел немного сушеных фиг и выехал на плац. С тех пор как армия потерпела постыдное поражение, он приказал проводить постоянные маневры, марш-броски и военные учения. Этим утром он сидел под балдахином, придирчиво наблюдая за тем, как ударные подразделения на колесницах огибают препятствия. День был приятно теплый, задувал легкий ветерок, небо было васильково-синее, и полукруг скал отбрасывал на песок прохладную тень, но Хоремхеб пребывал в тяжелых раздумьях, безразличный к окружающей его красоте. Когда промокшие от пота, обессиленные солдаты повернули к конюшням, он подозвал к себе начальника, который пользовался его наибольшим расположением. Нахт-Мин поклонился и опустился на ковер, стягивая с головы синий льняной шлем и вытирая им лицо.
– Я все еще недоволен солдатами из части «Сияние Атона», – сказал он, кивая с благодарностью, когда Хоремхеб пододвинул к нему вино. – Похоже, они думают, что если они элита, то это ниже их достоинства – учиться управлять колесницей, так же как и уметь сражаться. Я указал им, что возниц всегда убивают первыми, и кто тогда будет править лошадьми этих самодовольных идиотов? Да, нам всем надо было учиться.
– Так мы и учились. – Хоремхеб улыбнулся. – И многие из нас до сих пор носят шрамы от тех учений. – Он подождал, пока молодой человек осушил свою чашу, потом проговорил: – Нахт-Мин, я хочу, чтобы ты послал кого-нибудь в Тжел с моим поручением. Мне требуются услуги наемного убийцы из меджаев.
Нахт-Мин невозмутимо кивнул. Он знал, от кого зависит любое его продвижение по службе.
– В наших отрядах пустынной полиции служит много меджаев, а это гораздо ближе, – возразил он. – Маху может быстро доставить одного из них из Синая.
– Нет. Я не тороплюсь и хочу, чтобы это был человек, который хорошо показал себя в деле и, более того, который никогда не бывал в окрестностях Ахетатона. Я хочу, чтобы его доставили ко мне в дом, а не поселили в казармах. Сколько это займет времени?
Нахт-Мин немного подумал.
– Тжел – наш самый удаленный форпост на азиатской границе. Возможно, месяц. Некоторые меджаи служат наемниками у хапиру. Ты хочешь, чтобы это был иноземец?
– Да, – помедлив, ответил Хоремхеб. – Иноземец очень бы подошел. Не стоит говорить, что это личное дело.
– Я понял.
Хоремхеб знал, что Нахт-Мину не нужно было повторять указания дважды. Он тут же сменил тему и, поговорив еще несколько минут о пустяках, отпустил его.
В последующие несколько недель Хоремхеб и ел, и спал лучше и временами даже забывал, что его план приведен в действие. У него были достаточно крепкие нервы, чтобы спокойно ждать, что теперь судьба пошлет ему. Мутноджимет вернулась из Дельты бледная и пресыщенная, устало поцеловала его и четыре дня провалялась в постели. Он устроил вечеринку на ладье для высших чинов. Он молился местному божеству своего родного селения Хнес и еще Амону.
Он не удивился, когда однажды вечером, на первой неделе фармуси, сидя в саду, увидел, что его управляющий ведет Нахт-Мина и какого-то чужестранца. Меджай был во многом таким, каким он ожидал его увидеть: высоким, длинноволосым, под ниспадающими плотными одеждами явно скрывалось крепкое тело без капли лишнего жира. Фараон Аменхотеп Третий когда-то использовал именно такого, чтобы убить отца Азиру. Не впервые Хоремхеб пожалел, что египетская армия не состоит из меджаев. Он радушно принял гостей, за угощением и вином они говорили о пограничных фортах и их обеспечении, потом Хоремхеб поднялся и проводил Нахт-Мина к причалу. Когда он вернулся к своему гостю, они еще немного побеседовали, потом он проводил его в комнату, повелев оставаться в ней и ни с кем не разговаривать. Человек не возражал.
Теперь все зависит от удачи, – говорил себе Хоремхеб, отправляясь в опочивальню. – Я знаю, где Сменхара будет спать завтра ночью. Я знаю время, когда он любит ложиться, и сколько стражников охраняют его, потому что я сам назначаю их и размещаю по постам. Больше я ничего не могу сделать.
Утром во время учений под дробь барабанов и громкие команды он дал Нахт-Мину дальнейшие указания.
– Сегодня вечером приведи ко мне в сад двух офицеров из своей личной охраны, – сказал он. – Меджай пойдет от причала к входу в дом. Вы должны убить его на этом участке пути, но будьте осторожны. Помни, он сам обучен убивать и при этом оставаться в живых. Если все обойдется тихо, привяжите к телу камни и сбросьте в реку. Если кто-нибудь из моих слуг заметит вас, скажите, что явились получить приказ и поймали вора в саду. – Его голос утратил твердый, повелительный тон. – Ты веришь мне, Нахт-Мин, что я люблю Египет и предан ему?
– Конечно, – ответил тот, встретившись глазами с военачальником. – Я знаю, как выполнять свой долг.
Хоремхеб встретился с меджаем после полудня. Мутноджимет, не подозревая о присутствии чужака в доме, взяла телохранителей и отправилась в город; в доме было тихо.
– Надеюсь, ты не скучал, – заговорил Хоремхеб, шагая по испещренным солнечными пятнами плитам и усаживаясь перед кроватью, на которой лежал гость, заложив руки за голову.
Меджай повернул смуглое, худое лицо к египтянину и улыбнулся.
– Скучал – нет, – ответил он по-египетски с гортанным акцентом. – Но я давно уже не спал на матрасе и настоящих льняных простынях. Не мог расслабиться. Я завернулся в свой плащ и спал на полу.
Хоремхеб с сожалением отметил, что человек начинает нравиться ему.
– Сейчас мы сядем в мою лодку, – сказал он, – и я покажу тебе, куда ты отправишься сегодня вечером. Как ты попадешь туда позже, это твое дело, но моя ладья будет ждать тебя, чтобы привезти обратно. Я хочу, чтобы ты убил человека, не используя ни ножа, ни веревки.
Черные глаза продолжали спокойно разглядывать его.
– Конечно, я понял, что тебе нужен убийца, но зачем столько хлопот? – ответил он. – Почему не яд?
– Потому что яд оставляет следы, и причина смерти тогда становится очевидной. Впоследствии подозрение падет на меня, но и на других оно падет тоже. Не души его.
– Очень хорошо. Ты заплатишь мне.
– Золотом, завтра. Если с ним будет женщина, убей и ее тоже.
Человек пожал плечами.
– Я люблю женщин, – ответил он. – Такое расточительство. Заплатишь больше.
– Как хочешь. Это не важно.
Хоремхеб вздрогнул от внезапно подступившей тошноты, и с ней нахлынуло безрассудное желание приказать наемнику убить их всех – Тутанхатона, Анхесенпаатон, смести прочь всю царственную семью, чтобы эта кровь смогла, наконец, отмыть страну. Но он быстро распознал в своем страстном желании одну из разновидностей паники и овладел собой.
– Фараон знает, о чем ты просил меня? – как бы ненароком поинтересовался меджай.
Хоремхеб покачал головой.
– Нет, и никогда не узнает. Идем, я хочу вернуться раньше жены.
Он сам орудовал шестом, борясь с течением и стараясь держаться подальше от любых случайных глаз на берегу, которые могли бы узнать его, и направлял лодку мимо южной части города, пока они не поравнялись с Мару-Атоном. Там он описал меджаю павильон среди деревьев, время смены караула, расположение комнат. Пока он говорил, глаза человека медленно сужались, и Хоремхеб с досадой заметил, как в них промелькнула догадка, но он знал, что меджай преданы только своему непосредственному командиру. Большинство из них ничего не знают о Египте, кроме самих его границ, и мысль о служении богу, которого они никогда не видели, не вызывала у них интереса. Их независимость была одновременно и силой Египта, и угрозой для него. Каждый египетский военачальник знал это и признавал их особое положение в армии. Когда Хоремхеб повернул лодку обратно, он попросил человека повторить все, что было сказано, и тот сделал это без особых усилий. Оставалось только вернуться в дом и дождаться наступления темноты.
В этот вечер Сменхара рано отправился в постель и некоторое время лежал без сна, слушая, как шумит ветер в листве деревьев у стен павильона. Он никогда не разделял неприязнь Мериатон к Мару-Атону, и обладание им наполняло его радостью собственника. Он рос с ненавистью к своему брату, но нехотя признавал, что гениальность его творения намного превосходила пределы слабых человеческих сил фараона. Эхнатон страстно любил живую природу и реализовал свою любовь, сотворив этот летний дворец. Для Сменхары дворец был воплощением чистоты, которой он больше не находил в себе самом. Он знал, что брат развратил и его, и Мериатон, что они оба уже мертвы, как мертва их ушедшая юность, но здесь, среди ароматов лотоса и журчания чистой воды, он мог еще притворяться, что однажды они смогут исцелиться.
Но в эту ночь он долго не мог уснуть. Он лежал, хмуро глядя в темноту, и, хотя тепло от жаровен навевало сон, и он снова задремал, час спустя он вновь проснулся, одолеваемый смутным беспокойством. За окном двигались тени. Сонно вскрикивали птицы. Стражники вышагивали туда и обратно, сам вид их темных силуэтов приносил успокоение. Как часто бывало в последнее время, его мысли обратились к матери, он вспомнил холодный блеск ее голубых глаз, когда он раздражал ее, тепло ее рук, обнимающих его в те редкие моменты, когда между ними возникала нежность. Ему чудилось, что он слышит пряный мускусный аромат ее духов. Она никогда по-настоящему не любила меня, – думал он, переворачиваясь и натягивая на плечи покрывало. – Единственным человеком, которому были отданы все ее чувства, был отец. Каким он был, бог, о котором люди говорят с таким благоговением? Сменхару по-настоящему не интересовало это, потому что, в конце концов, они все использовали и предали его – и отец, и мать, и нелепый братец. Однако в беззащитные ночные часы в его мыслях они нередко становились более человечными, заставая его врасплох и размягчая стену одиночества, которой он отгораживался от всех. Он пожалел, что не повелел Мериатон спать с ним сегодня вместе. Он любил чувствовать рядом с собой тепло другого тела. Слушая вздохи и сонное бормотание своего слуги, спавшего в дальнем конце комнаты, он готов был уже позвать его, но мысленно вздрогнул и передумал. Слуга не мог дать ему то, что ему было нужно. Как не могла ни Мериатон, ни услужливый юноша, которого он иногда заманивал в свою постель. Он снова уснул.
Он не проснулся, когда меджай бесшумно скользнул в окно и припал к полу около ложа. В это время Сменхара стоял у реки в тени финиковой пальмы, глядя на себя, безмятежно спящего у подножия дерева в жаре летнего дня, и, хотя он не мог видеть сквозь деревья, он знал, что находится где-то в Малкатте. С растущим облегчением он видел, как его спящее «я» начало улыбаться, улыбка становилась все шире и натянутее, пока накрашенный рот не разорвался до ушей. Крови не было, и он увидел, что его другое «я» не проснулось. Огромное чувство блаженства разлилось в нем, и, хотя он знал, что спит, он мог распознать в этом благое предзнаменование. Иногда он боялся, что ему придется оправдываться перед богом. Утром я отнесу подношения Амону, – сказал он себе во сне. – Я должен побежать и рассказать матушке.
Он не проснулся, когда меджай вытащил подушку из-под его головы и сгреб простыни в кучу. Меджай действовал без спешки. Только однажды он заколебался, склонившись со скомканной простыней над раскрытым ртом Сменхары, чувствуя его теплое дыхание на своих пальцах. Это не было моментом нерешительности, скорее, он собирался с силами. Глаза расширились, когда он затолкал простыню в рот и придавил лицо подушкой. Это был самый опасный момент. Сдавленное хрипение умирающего могло разбудить слуг, судорожно бьющиеся руки могли создать слишком много шума. Меджай сел верхом на грудь Сменхары, подмяв под себя дергающиеся руки, чтобы тот ногтями не исцарапал его до крови. Ему не нравилось убивать таким образом; это слишком долго. Он давил своим весом на подушку, прижимая коленями бешено вырывающиеся руки, пока сопротивление не начало ослабевать и, наконец, не прекратилось. Только он подсунул подушку под безвольную голову и вытащил простыню изо рта, как сонный голос спросил:
– О, великий, ты звал меня?
Меджай быстро опустил веки своей жертве и скользнул на пол около ложа, но слуга так и не подошел. Он почувствовал, как тот сел, прислушиваясь, но через минуту со вздохом снова лег. Меджай все еще не шевелился. Начинало светать. Ра проходил последний зал своего перерождения.
Наконец он поднялся, наклонился над телом Сменхары и тщательно осмотрел его. Молодой человек был мертв. Меджай постоял некоторое время, размышляя, и, только приняв твердое решение, выскользнул в окно и растворился. Он убил бога, и он знал это. Даже если бы вопрос слуги не подтвердил его собственных подозрений, он бы дважды подумал, прежде чем вернуться в дом военачальника. Он выскользнул из Мару-Атона и направился прочь от реки, в темную пустыню, к спасительным скалам.
Смерть Сменхары, хотя и ставшая потрясением для придворных, которые знали, что фараоны погибали только в преклонном возрасте или в результате известной всем болезни, последовала так скоро за другими трагическими событиями в царственном доме, что волнение, которое она вызвала, вскоре улеглось. Но более суеверные обитатели города втайне перешептывались, что мрачную судьбу молодого фараона невозможно было предотвратить. Проклятие, навлеченное правящей династией на Египет и его несчастных подданных Осирисом Эхнатоном и его матерью, еще продолжало действовать, и гнев богов, однажды разбуженный, трудно было унять. Фараона поразила какая-то сверхъестественная сила, ибо разве не было глубокого смысла в том, что царские врачеватели не могли найти подозрительных следов на теле царя, хотя лицо его было раздутым и бледным? В домах и на рынках пересуды были полны страха.
Осведомители Хоремхеба доносили, что двор отнесся к смерти фараона равнодушно, горожане перепуганы. Разговоры не взволновали его, потому что обвинения адресованы богам, а не живым людям. После короткого разговора с Нахт-Мином, который всю ночь зря прождал человека у военачальника в саду, Хоремхеб понял, что его вторая жертва сбежала, но это не имело значения. Меджай будет помалкивать. Хоремхеб сделал то, чего от него ждали. Он приказал жестоко высечь и прогнать слугу Сменхары и дал нагоняй стражникам, которые ничего не видели и не слышали. Ни его действия, ни слова не вызвали подозрений.
Только двое полагали, что знают правду о смерти Сменхары. В первых лучах рассвета Эйе стоял рядом с Хоремхебом, глядя на распростертый перед ними труп фараона, у его ног кричала и рыдала Мериатон, а личный слуга лежал, распростершись на полу и трясясь от страха перед толпой заполнивших комнату придворных и жрецов.
– Тебе следовало убить и Тутанхатона тоже, – тихо сказал он Хоремхебу, зная, что его больше никто не услышит в общем шуме. – Теперь, если ты хочешь получить корону, тебе придется подождать. Твой план был недостаточно хорош, военачальник.
– Я замарал свои руки кровью и за тебя тоже, – мягким голосом ответил Хоремхеб. – У тебя не хватило мужества сделать это самому. Посмотри на него! – Он указал на коченеющий труп. – Он был никчемным человеком. Египет в агонии, а боги посылают нам это! Мы достаточно страдали. Поверь мне, Эйе, я не изменник. Корона, конечно, перейдет Тутанхатону как законному наследнику.
– У тебя нет выбора, – ответил Эйе, отводя Хоремхеба от ложа. – Еще одна царственная смерть, и указующий перст обвинения будет направлен прямо на тебя. Я останусь вне подозрений. Разве я не дядюшка обоих богов? Если бы ты убил их одновременно, то, учитывая нынешнюю атмосферу суеверного страха в Ахетатоне, это еще сошло бы за недовольство богов. Ты не страшишься гнева богов, Хоремхеб?
– Да, я их боюсь, – помедлив, ответил Хоремхеб, тень улыбки промелькнула на его лице, – но я боюсь Амона, и Ра, и Хонсу, а вовсе не того припадочного бога оставшихся в живых членов этой безумной династии. После Осириса Аменхотепа в Египте не было истинного фараона. – Он наклонился ближе к Эйе и еще больше понизил голос. – Меня радует твоя новая самоуверенность. Тутанхатон любит и почитает тебя. Возрадуйся и ты возрождению своей власти. Если используешь ее на благо Египта, тебя не тронут.
Эйе не успел ответить на колкость, потому что двери отворились, и наступила тишина, все присутствующие плотнее закутались в свои одежды и отвернулись: в комнату вошли жрецы-сем. Липкое зловоние смерти тянулось за ними всюду, куда бы они ни шли, и даже те из них, кто был наделен особым правом выносить тела богов, считались нечистыми. Они гуськом вошли в комнату, склонив головы, и собравшиеся один за другим торопливо ускользнули за дверь. Пва и другие жрецы Амона ждали с курильницами, чтобы очистить комнату, когда они унесут Сменхару.
Только Мериатон не обратила внимания на появление жрецов. Сжавшись у ложа, она обхватила обеими руками ноги мужа и уткнулась в них лицом, люди из Обители мертвых неловко мялись в сторонке. Потом они благоговейно помогли ей подняться на ноги.
– Служители Маат, – внезапно заговорил Хоремхеб, обращаясь к жрецам-сем, – бог, к которому вы собираетесь прикоснуться, выглядит как существо мужского пола, поэтому вы могли бы бальзамировать его, уложив руки вдоль тела. Но этот Гор на самом деле был женского пола, он был возлюбленным Осириса Эхнатона. Посему он мог пожелать, чтобы его положили в гроб в позе женщины, с вытянутой вдоль тела правой рукой и с левой, лежащей на груди, чтобы в нем можно было распознать женщину в другом мире. Вы поняли?
Жрецы закивали, не осмеливаясь осквернить комнату своим дыханием. Эйе взглянул на Мериатон. Хотя она больше не плакала, ее тело продолжало сотрясаться от рыданий, а огромные серые глаза в ужасе были прикованы к Хоремхебу. Прежде чем она успела что-то сказать, он снова кивнул, и служанки вывели ее из комнаты.
– Думаю, нет необходимости выдерживать труп пять дней перед тем, как перенести его в Обитель мертвых, правда? – спросил Хоремхеб, поворачиваясь к Эйе. – Даже если Сменхара был больше женщиной, чем мужчиной, я не могу представить ни одного похотливого жреца-сем, желающего осквернить его, прежде чем он начнет гнить.
Эйе едва смог ответить.
– Я должен немедленно пойти и очистить себя, – пробормотал он, поворачиваясь к двери. Он не знал, был ли это неприятный запах от присутствия жрецов-сем, заставивший его неистово желать очищения, или необъяснимая свирепость Хоремхеба.
Придворные Ахетатона были готовы смириться с тем, что Сменхара принял смерть от рук богов, и потому не требовали, чтобы дело было расследовано дальше. Однако Хоремхебу угрожало не раскрытие его заговора убийцей или собственным военачальником Нахт-Мином, ему угрожали душевные муки царицы. Мериатон беспрестанно извергала обвинения в адрес Хоремхеба, будто слова могли облегчить боль ее тяжелой утраты, однако сами слова только еще больше обостряли ее страдания. Она никому не позволяла утешать ее. Эйе было запрещено являться в ее покои. Анхесенпаатон, еще скорбящая о своей дочке, приходила к сестре и безмолвно сидела часами, пока Мериатон пила и плакала, призывая все проклятия, какие знала, на голову Хоремхеба и его семью.
Хоремхеб ждал, что буря утихнет, но прошел пахон, начался сбор урожая, а Мериатон становилась все несдержаннее. Ее слезы прекратились, но обвинения продолжались, и на людях они становились еще громче. Хоремхеб видел, что у окружающих зарождаются подозрения, и понимал, что Мериатон нужно заставить замолчать. Доказательств против него не было, но постоянно льющийся поток злобных обвинений неминуемо подорвет доверие тех, кто сочувствовал ему. Самым опасным было то, что Тутанхатон, хотя он встречался с Хоремхебом лишь по официальным поводам, уже начинал подозрительно смотреть на верховного командующего всех войск фараона.
Несколько недель Хоремхеб сомневался, не зная, что предпринять против Мериатон, разрываясь между жалостью к ней и инстинктом самосохранения. Он начал избегать официальных празднований, в которых участвовал Тутанхатон, но не мог совсем устраниться от них из страха привлечь слишком много внимания к своему поведению. Поэтому однажды вечером, ближе к концу траура, он присутствовал на обеде в огромной пиршественной зале Эхнатона вместе с Тутанхатоном и его окружением. Маленький наследник сидел на помосте рядом с Эйе, его единокровная сестра Анхесенпаатон сидела слева от него. Она подарила Тутанхатону нового живых членов этой безумной династии. После Осириса Аменхотепа в Египте не было истинного фараона. – Он наклонился ближе к Эйе и еще больше понизил голос. – Меня радует твоя новая самоуверенность. Тутанхатон любит и почитает тебя. Возрадуйся и ты возрождению своей власти. Если используешь ее на благо Египта, тебя не тронут.
Эйе не успел ответить на колкость, потому что двери отворились, и наступила тишина, все присутствующие плотнее закутались в свои одежды и отвернулись: в комнату вошли жрецы-сем. Липкое зловоние смерти тянулось за ними всюду, куда бы они ни шли, и даже те из них, кто был наделен особым правом выносить тела богов, считались нечистыми. Они гуськом вошли в комнату, склонив головы, и собравшиеся один за другим торопливо ускользнули за дверь. Пва и другие жрецы Амона ждали с курильницами, чтобы очистить комнату, когда они унесут Сменхару.
Только Мериатон не обратила внимания на появление жрецов. Сжавшись у ложа, она обхватила обеими руками ноги мужа и уткнулась в них лицом, люди из Обители мертвых неловко мялись в сторонке. Потом они благоговейно помогли ей подняться на ноги.
– Ты скоро станешь воплощением Амона-Ра, Великого Гоготуна, – обратилась она к нему. – Гусь – это символ твоей божественности.
В этот вечер гусь занимал все их внимание. Ему сделали толстый золотой ошейник, и гусь сидел на столе, хватая кусочки пищи, которые ему подносили дети, и злобно шипел на слуг. Радостно слышать, как они смеются, – думал Эйе. – Малкатта всегда была полна смеющимися людьми. Как печальны и подозрительны мы все стали!
Его взгляд случайно упал на Хоремхеба, ковыряющего поставленное перед ним кушанье. Он сидел, наклонив стянутую синими лентами голову, а Мутноджимет что-то шептала ему на ухо. Эйе почувствовал, как у него на душе потеплело при взгляде на младшую дочь. Несмотря на праздный и беспутный образ жизни, время было милостиво к ней, и в тридцать пять ее все еще окружали толпы восхищенных молодых колесничих, что начинало утомлять ее. В этот вечер детский локон, который она до сих пор носила, был заплетен и подвязан к голове, с него свисали серебряные колокольцы. Глаза подведены серебряной краской, и рука, которой она слегка поддерживала супруга под руку, увешана серебряными амулетами. Она смешала серебряную пудру с хной для губ, поэтому ее зубы казались слегка желтоватыми, кожа тоже желтоватой, и глаза были с желтым оттенком. Как и любая новая мода, которую она диктовала при дворе, наряд ее был эксцентричным, но, так или иначе, в ней это скорее очаровывало, нежели отталкивало. Глядя, как она прервала поток соленых словечек, которые, очевидно, нашептывала Хоремхебу, и прихватила острыми зубками мочку его уха, Эйе внезапно почувствовал прилив тоски по дням своей давно прошедшей бурной молодости. Какое право она имеет оставаться незамаранной ни в чем? – подумал он. – Почему боги пощадили ее, когда все мы брошены молодыми и невинными в темные коридоры нужды, чтобы выйти оттуда искалеченными и запятнанными?
Она почувствовала, что отец смотрит на нее, и, улыбаясь, взглянула в его сторону. Но он не успел улыбнуться ей в ответ, потому что внезапно наступила тишина. Эйе проследил за взглядами публики: они были устремлены в дальний конец залы. Из теней, где между колонн сочилась ночь, вышла Мериатон. Отступив от каменной колонны, на которую опиралась, она качнулась вперед. Горячий сквозняк подхватил и приподнял ее белые гофрированные одежды, разметал черные, неубранные волосы вокруг ненакрашенного лица. Она была босая. В одной руке она сжимала диадему царицы с коброй, в другой – кубок вина. Собравшиеся неуверенно опускались перед ней, когда она с чрезмерной осторожностью стала пробираться между столиками. Дойдя до помоста, она поклонилась Тутанхатону, и от этого движения ее качнуло вперед. Споткнувшись о ступеньку, она несколько мгновений сидела, качаясь, ее свита неуверенно и испуганно поглядывала на Эйе. Анхесенпаатон схватила гусенка и в страхе прижала его к себе. Тутанхатон наклонился к дядюшке.
– Следует ли мне приказать, чтобы для нее принесли стол, или велеть им увести ее? – шепотом спросил он. – Она выглядит так, будто ее сейчас стошнит.
Эйе колебался. Мериатон поставила кубок на ступеньку рядом с собой и, взяв диадему обеими руками, водрузила ее себе на лоб. Стражники свиты посмотрели на Хоремхеба, который было приподнялся, и Мериатон сразу же повернула к нему голову.
– Вас, придворные, кажется, не беспокоит, с каким демоном вы обедаете, – произнесла она заплетающимся языком, вставая. – Вы все знаете, что сделал верховный военачальник. Его присутствие здесь придает кислый вкус вашему вину и отравляет ваши кушанья, но вы разговариваете и смеетесь, будто это не имеет значения. О, будущий царь, – обратилась она к Тутанхатону, не отводя глаз от Хоремхеба, – чьи руки невидимо обовьются вокруг твоих рук, когда ты поднимешь крюк, цеп и скимитар? Мы сделались проклятым народом! – Она повысила голос, и он разнесся эхом, отразившись от темного потолка, ее обнаженные руки были подняты вверх, и кулаки сжаты.
Хоремхеб встал и начал спокойно приближаться к ней.
– Царица, тебе нужно поспать, – успокаивающим тоном произнес он. – Ты утомлена.
Повернув к нему обезображенное лицо, она принялась плакать. Она расставила ноги, чтобы сохранить равновесие. От нее разило вином, немытым телом и неосушенными слезами, но поблескивающая кобра на лбу придавала ей достоинства.
– Утомлена? – неприятным голосом сказала она. – У меня вырвали сердце, а ты осмеливаешься стоять здесь передо мной и богохульствовать? Интересно, о чем думает твоя жена, лежа в объятиях богоубийцы? А мои руки пусты. Пусты!
Слезы душили ее. Хоремхеб подхватил ее, когда она чуть не свалилась на пол. Он отдал приказ, и ее служанки взяли ее под руки и вывели из залы. Рыдания постепенно утихли.
Никто в зале не осмеливался смотреть по сторонам, стояла тишина, слышалось только тихое клохтанье гуся, который пощипывал яшмовую сережку Анхесенпаатон. Тутанхатон сильно побледнел. Наконец он поднялся, и тут же застывшие гости ожили, распростершись перед ним ниц. Мальчик покинул помост вместе со своей свитой и исчез. Ради приличия Хоремхеб побыл еще немного, беседуя с Нахт-Мином и другими офицерами, чьи столики стояли рядом с его собственным, все время чувствуя на себе откровенно напуганные взгляды придворных. Он пожелал доброй ночи жене и друзьям и нырнул в темноту коридора, ведущего к покоям царицы.
Стража Мериатон вежливо попыталась не впустить его. Как их начальник, он мог просто оттолкнуть их с дороги, но он говорил с ними терпеливо и благоразумно, сознавая их безотчетный страх, и, в конце концов, они пропустили его. У дверей опочивальни Мериатон ему снова преградили путь ее вестник и управляющий. Он безропотно ждал, пока управляющий ходил справляться, позволено ли будет ему войти. Хоремхеб ожидал, что ему откажут, но вскоре его проводили в покои, которые прежде занимала Нефертити. Она еще незримо присутствовала в комнате. Ее изображение надменно улыбалось со стен, прекрасное и величественное под тяжестью солнечной короны. Ее золотые руки, унизанные кольцами, еще совершали подношения Атону, пока ее супруг подносил анх – ключ жизни – к ее улыбающимся губам, и сам Атон касался ее своими лучами. Все это уже принадлежало бесконечно далекому прошлому. Хоремхеб медленно прошел к внушительному ложу с ножками в форме львиных лап и рамой, украшенной сфинксами. Маленькая фигурка, кажущаяся совсем крошечной на огромном ложе, наблюдала за ним. Он поклонился.
– Почему ты позволила мне прийти? – спросил он.
– Ты не почитаешь меня как свою царицу, – устало отозвалась она. – Если бы ты почитал, ты бы подождал, пока я заговорю первой. Но пока Тутанхатон не коронован, я еще царица Египта. Не знаю, почему я позволила тебе прийти. В любом случае, не думаю, что смогла бы остановить тебя, убийца.
Она говорила громче и более внятно, Хоремхеб подумал, что ее, должно быть, вырвало вином.
– Божественная, ты знаешь, что твой отец уничтожил Сменхару задолго до того, как это сделал я, – спокойно ответил он. – Мне не следовало приходить к тебе сегодня. И мне не нужно оправдываться перед тобой. Ты была его женой. Ты лучше меня знаешь, как он стал все больше и больше походить на твоего отца. И он тоже знал это.
– Это не причина, чтобы убивать его.
Она лежала неподвижно, свободно положив на покрывало бледные руки, ее щеки были еще мокрыми, и Хоремхеб вдруг осознал, что она уже не молода. В его сознании она оставалась девочкой, которая встретила Сменхару в Ахетатоне, – спокойная, улыбчивая дочь Атона. Она с презрением посмотрела на него снизу вверх.
– Ты можешь не оправдываться передо мной, Хоремхеб, но будь уверен, что Атон уже осудил тебя. Сменхара сделал бы все, что ты от него хотел, если только ты оставил бы нас в покое. – Ее голос дрожал. – Но ты отнял у нас единственный шанс на счастье.
– Было уже слишком поздно, – грубо прервал он. – И ты тоже это знаешь, царица. Сменхара намеренно препятствовал мне. Он также препятствовал и Эйе. Он хотел, чтобы его оставили в покое в то время, когда Египет нуждался в исцеляющей силе бога. – Не спросив позволения, он присел на край постели. – Через несколько дней его похоронят. Я даю тебе право выбирать, Мериатон. Я не хочу причинять тебе вред. Ты можешь закрыть свой рот и спокойно жить здесь. Человеческая память коротка. Если ты не замолчишь, мне придется сослать тебя.
– Египет уже не исцелить, если какой-то вельможа может угрожать богине и оставаться безнаказанным, – прошептала она. – Ты не думал об этом, военачальник? Несмотря на власть, которую ты постепенно прибираешь к рукам, пропасть между нами непреодолима. Ты веришь, что для меня имеет значение – буду я продолжать жить или нет, но твои угрозы бессмысленны. Мне все равно. Это делает меня опасной, не так ли?
Трогательный вызов, прозвучавший в ее словах, взволновал его. Взяв ее холодную руку, он проговорил:
– Вначале, царица, я был другом твоего отца. Мы все были его друзьями. Мы жаждали перемен. Осирис Аменхотеп правил слишком долго. Но твой отец подпал под странные чары и привел нас к краху. Мы стали людьми, которые делают то, что должны делать, и не задумываются о моральной стороне своих деяний. Вот что твой отец сотворил с нами. Твой бог-муж был таким же. Я хотел бы, чтобы ты это поняла.
Мериатон не отняла своей руки, но она лежала в его руке безжизненно.
– Ты сделался порочным и еще не осознаешь этого, – прерывающимся голосом произнесла она, отвернувшись. – У меня даже нет ребенка от него, чтобы он напоминал мне о нем, когда пройдут годы.
Хоремхеб вздохнул и поднялся.
– Мне жаль. Ахетатон стал гробницей для всех наших надежд. Только в другом мире могут исцелиться все наши раны.
– Ты лицемер. Да горят твои слова у тебя в глотке и обжигают твои лживые уста! – Она неистово взмахнула рукой.
Он поклонился и быстро зашагал к двери. Такие речи, размышлял он, лучше подошли бы ее матери. Ее проклятия остались крошечным пятном холода в его сердце.
Мутноджимет не спала, когда, наконец, он устало закрыл за собой двери своего дома. Она лежала на ложе в ночной сорочке со свежеотмытым лицом и развлекалась, наблюдая за возней своих карликов. Когда Хоремхеб вошел, они поспешно выкатились из комнаты.
– Я думал, ты закроешься сегодня в своих покоях, – сказал он, когда его личный слуга отогнул покрывало, и он с удовольствием скользнул в постель рядом с женой.
Слуга поклонился, выходя, и мерцающий свет лампы, которую он унес, постепенно сменился полоской тусклого лунного света. Мутноджимет пошевелилась, и ее голос зазвучал из темноты тепло и близко.
– Любовь – удивительная вещь, – сказала она. – Хатхор не только похожа на корову, я иногда думаю, что у нее и ум тоже коровий. Мы, ее поклонники, бредем слепо вслед за ней, му-у, му-у, еще долгое время после того, как острые наслаждения, которые может предложить Бает, начали приедаться. Немного осталось от того грубовато-честного молодого военного, за которого я выходила замуж, Хоремхеб. Ты до сих пор самый красивый мужчина в Египте, но то, что я вижу внутри, за этими твоими черными глазами, не так привлекательно, как твоя наружность. Но я, наверное, все же не стану разводиться с тобой, потому что ты оплачиваешь мои ужасные долги.
В ответ он притянул ее к себе и поцеловал, исполненный глубокой благодарности к покойной императрице за эту ленивую, взбалмошную женщину, которую та зачем-то навязала ему. Пока Мутноджимет со мной, – думал он, – я знаю, что боги еще не приговорили меня.
27
Тело Сменхары перевезли на юг, в Фивы, чтобы похоронить в приготовленной для него гробнице. «Хаэм-Маат» плыла, преодолевая неторопливое течение летней реки, гроб, который сопровождали жрец Пва и молчаливая, постоянно пьяная Мериатон, был занавешен пологом от нечестивых глаз. На следующей ладье плыли Тутанхатон, Анхесенпаатон и Эйе, за ними вереницей тянулись ладьи придворных. Урожай был собран. Выжженный Египет лежал, распластанный под навалившейся на него тяжестью свирепого неба, и тем, кто тащился по медленно текущим бурым водам Нила, казалось, будто они спустились с небес вечнозеленого благоденствия к тяготам жалкого земного существования. Вдоль берегов не стояли плакальщицы, простирающие руки к проплывающей мимо погребальной процессии. Виднелась только узкая полоска иссохшей, чахлой поросли, отделявшей реку от пустынных полей, простирающихся вдаль до горизонта. Селения будто вымерли. В редкой тени запыленных пальм неподвижно стояли волы, спасаясь от зноя, ослы опускали головы к воде на мелководье, но погонщиков – замызганных деревенских мальчишек – нигде не было видно. Только крокодилы жарились на песчаных отмелях.
Исполненная страха тишина постепенно начала окутывать флотилию. Тутанхатон сидел на раскладном походном кресле под навесом, настороженно взирая на проплывающую мимо древнюю землю, принадлежащую ему по праву рождения.
– Египет отвратителен, – сердито заключил он, обращаясь к сидевшему рядом Эйе. – Почему все говорят мне, что он прекрасен?
– Просто сейчас середина лета, вот и все, – возразил тот спокойно, понимая, что ребенок не мог помнить ничего, кроме искусственно созданной красоты Ахетатона. – Скоро заплачет Исида, и земля превратится в озеро, а когда вода спадет, Египет снова будет прекрасен.
– Но это не просто лето, – ответил Тутанхатон. – Египет – он какой-то заброшенный.
Царевичу нравилось трудное слово, и он улыбнулся своей находчивости, а Эйе с болью признал про себя, что не по годам развитый мальчик нашел очень точное определение. Теперь они проплывали мимо маленького храма, и было видно, что одна из его колонн упала, а остальные заметно покосились. Мощеный передний двор почти совсем зарос бурой травой. Им уже встречались такие развалины. В святилищах на веревках сушилось белье, чернели кострища, вокруг разбитых изображений местных божеств валялись грубые игрушки крестьянских детей. Задача слишком трудна, – думал Эйе, сердце его билось неровно от жары и внезапно нахлынувшего страха. – Египет мертв. Я не хотел это видеть. Никто из нас не хотел. Страшно представить, в каком состоянии сейчас Фивы.
На одну ночь они остановились в Ахмине, и Эйе приехал в носилках в дом Тии. Когда он шел знакомой дорожкой через сад к дому, ему вдруг стало казаться, будто его ка вернулось назад, в другое время, и он бы не удивился, если бы Тейе выбежала ему навстречу из тени портика вместе с Аненом, следующим за ней по пятам. Переживание наполнило его ужасом. Те годы, теперь такие далекие, погребены под целой жизнью, но воспоминания о них казались ему более живыми и яркими, чем воспоминания о других, более поздних визитах, когда он приезжал сюда из Малкатты решительным, уверенным в себе мужем, чтобы немного отдохнуть от своей кипучей и деловитой сестры. Тии встретила его приветливо, но без бурных восторгов. Они провели вечер в разговорах о том, что он видел на реке, и через некоторое время ему пришлось признать, что он сам не многим отличался от тех мужчин и женщин, с которыми вместе путешествовал: он тоже каким-то образом оказался среди тех, кто поддался сонным чарам Ахетатона и не хотел просыпаться.
Узнаваемые очертания древних Фив казались символом неизменности и постоянства. Хотя флотилия пришвартовалась у причала Малкатты, даже издалека было видно, что город на восточном берегу, теперь съежившийся, со множеством полуразрушенных строений на окраинах, не сильно изменился за эти годы. Всюду, куда бы Эйе ни бросил взгляд, он встречал знакомые силуэты: маленькие островки на самой середине Нила, островерхие башенки Карнака на фоне глубокой синевы полуденного неба – и всюду лежал тонкий слой родной пыли. Склады у самой воды были почти разрушены, на многих не было крыш, большинство торговых причалов исчезло совсем, но все-таки это были Фивы! Эйе с облегчением почувствовал, как его подавленность отступает. Пока его ладья, удаляясь от города, плыла к западному берегу, он смотрел с улыбкой даже на толпу шумных бранящихся горожан. Казалось, они не испытывали к гостям ни неприязни, ни дружелюбия, а просто изголодались по зрелищам, которых были лишены все эти годы.
Однако Малкатта стояла в руинах. Канал, соединяющий озеро с царским дворцом, превратился в узкую канаву, забитую илом, причал сделался склизким от зеленой тины, фонтаны высохли, огромное озеро превратилось в застоявшуюся лужу. Постаревший Мэйя и десяток жрецов Амона бросились к ногам Тутанхатона, многие из них прослезились, но Эйе смотрел не на них, а выше, на внушительный лес белых колонн, обрамлявших фасад дворца Аменхотепа. Калитка сада, где прежде гуляли женщины гарема, болталась на одной петле. Лужайка вновь сделалась песчаной пустошью. Многие деревья уже погибли, а те, что еще остались, торчали обнаженными корнями над заросшими сорняками клумбами. За пустыми комнатами никто не присматривал, слугам не платили, и они, должно быть, все давно разбежались, – думал Эйе, – и только страх перед мертвыми удерживал жителей Фив от того, чтобы разграбить здесь все.
Эйе с Тутанхатоном и вереницей жрецов, бодро шагающих позади, вошли в залу для приемов. Несмотря на сухость воздуха, в ноздри ударил запах плесени и нежилого помещения. Под ногами шуршали опалые листья и непонятного происхождения сухой мусор. Эйе уверенно прошел через залу, обогнул трон, бордюр над которым, украшенный кобрами и сфинксами, еще поблескивал золотом, и вышел через огромные двери с противоположной стороны залы. Он шел, и воспоминания, похороненные в пыли под его ногами, оживали, и разные голоса шептали что-то у него за спиной, так что к тому времени, как он добрался до опочивальни Аменхотепа, он уже с трудом мог выносить их безмолвные голоса. В опочивальне до сих пор все дышало огромной силой личности фараона. Изображения Беса, жирного и похотливого, все так же плясали на стенах, на лозах, обвивающихся вокруг деревянных колонн, висели крупные гроздья, краска на них даже не поблекла.
– Я что, должен спать здесь? – запротестовал Тутанхатон. – Здесь же повсюду валяется помет летучих мышей!
– Нет, царевич, – хриплым голосом успокоил его Эйе. – Я бы предложил тебе оставаться на ладье. Сейчас мы должны вернуться в Карнак и совершить жертвоприношения Амону.
Тутанхатон недовольно скривился, но возражать не стал, охотно вернувшись к привычному удобству ладьи. Его доставили к причалу храма, где навстречу вышла другая группа жрецов, покрыв его ноги поцелуями, их приветственные возгласы едва не переходили в истеричные вопли. Карнак тоже пострадал. Из-под ног резво разбегались козы, пока они шли через передний двор и, пройдя под пилонами, входили во внутренний. Эйе видел, что повсюду имя Амона было варварски затерто, надписи выглядели теперь незаконченными и бессмысленными. В нишах, где когда-то стояли статуи бога, было пусто. Запустение и хаос царили повсюду.
– Нас было слишком мало, чтобы поддерживать должный порядок в Карнаке, – прошептал жрец, обращаясь к Эйе, глядя, как Тутанхатон и Мэйя исчезли в святилище, – и после того, как фараон фактически приказал закрыть храмы и распустить жрецов, мало кто осмеливался приходить сюда. Благодарение Амону, что теперь есть молодое воплощение, который восстановит заповеди Маат!
И как ему это удастся? – хотелось с сарказмом возразить Эйе. – Разве он способен превращать камни в золото? И все же радость охватила его, когда он стоял под сенью балдахина, глядя на тонкий столб курящегося ладана, что поднимался над стенами святилища, и в голове у него постепенно прояснялось.
Той ночью Тутанхатон повелел Эйе поставить свою кровать рядом с царским ложем, и они вместе лежали за занавесями, а стражники шагали по палубе и толпились на берегу. Эйе знал, что Хоремхеб не спит, проверяя караулы, и был благодарен военачальнику за бдительность. Лишь только зашло солнце, Фивы погрузились во тьму, только слабые проблески оранжевого света мерцали вдоль улиц. Шакалы завывали так громко, что Эйе мог бы поклясться, что звери не бродили в пустыне, а рыскали по городу. Иногда он начинал дремать, но постоянно просыпался, вздрагивая от пьяных криков и воплей, доносимых ветром из-за Нила.
– Я никогда сюда не вернусь! – наконец презрительно фыркнул в темноте Тутанхатон. – Бог не должен обитать в таком месте. Неудивительно, что мой отец покинул его.
– Оно было не таким, когда твой отец начинал строить Ахетатон, – ответил Эйе. – Здесь была столица мира.
– Оно отвратительно, – пренебрежительно сказал Тутанхатон, – как и вся страна. Я – бог нищеты.
Эйе благоразумно не стал возражать. Он был удручен не меньше Тутанхатона.
Похоронная процессия была малочисленной, за гробом Сменхары шли только члены царской семьи да несколько придворных. Плакальщиц набрали из женщин сильно поредевшего гарема, который остался единственным обитаемым местом в Малкатте. Некоторые еще помнили Сменхару младенцем, но большинство женщин облачились в синие одежды и исполняли поминальные песни, посыпая головы землей, совершенно равнодушно. Жрецы Амона – изможденные и оборванные, но с загоревшимися надеждой глазами – замыкали шествие или стояли небольшими группами вдоль дороги, по которой двигалась процессия. Эйе, задыхаясь от жары и вытирая стекавший из-под парика пот, вдруг подумал, что жрецов собралось так много, что церемония меньше всего походила на ритуал воздания последних почестей и чтения магических заклинаний почившему фараону. Скорее это напоминало празднование вновь обретенной жрецами уверенности. Эта мысль вызвала лишь слабые угрызения совести. Новое возвышение Амона было на самом деле гораздо более значимым для всех, чем жалкие останки несчастного юноши. Процессия, извиваясь, двигалась в сторону долины Западных Фив. Сквозь завывания женщин гарема пробивались разговоры и смех. Эйе раздвинул занавеси своих носилок и прямо перед собой увидел гигантское изваяние сына Хапу; с содроганием взглянув вверх, на широко открытые, бесстрастные каменные глаза, он задернул занавеси. Сын Хапу, без сомнения, обладал нечеловеческими способностями.
Маленькая гробница Сменхары была еще не закончена. Он начал ее строительство без особого желания, просто уступив уговорам Эйе, и совсем не интересовался тем, как продвигались работы. Пол был еще не выровнен, стены не расписаны, только приготовленный саркофаг стоял у скалы, рядом с отверстием, выдолбленным для входа. Ритуалы отправляли торопливо, без должного почтения. Присутствующие – слезы, которые они выжимали из себя, давно высохли – один за другим вставали на колени, чтобы поцеловать изножие. Только Мериатон вцепилась в саркофаг, забившись в истерике, прижимаясь щекой к крашеному дереву. Когда Тутанхатон как наследник трона совершил обряд отверзания уст, погребальные танцовщицы без воодушевления принялись исполнять ритуальный танец. Ближе к завершению церемонии даже Эйе захотелось, чтобы это лицемерное действо поскорее закончилось.
Саркофаг внесли в крошечный погребальный зал и опустили в золотую раку, которую Эхнатон подарил своей матери. Эйе страшился, что с Мериатон снова случится истерика, но она стояла спокойно и величественно, сжимая в руках цветы. Он огляделся вокруг, и ему стало стыдно. Он приказывал, чтобы погребальную утварь для гробницы отобрали из палаты, в которой поколениями хранились семейные реликвии для захоронения. Частью это были предметы, с которыми они хотели быть похороненными, а частью – те, что могли понадобиться на церемонии. Приказание Эйе было выполнено без должного усердия. Люди, отвечавшие за ритуальные принадлежности, не особенно старались. Реликвии просто-напросто зашвырнули в гробницу, и они валялись теперь там беспорядочной кучей. Немного наградного оружия с картушами Аменхотепа Третьего, несколько чаш, принадлежавших Тейе, драгоценности умерших детей гарема, сундук с вырезанным на крышке именем, которого Эйе даже не смог разобрать, – с такими оскорбительными предметами обихода Сменхаре и предстояло отправиться в загробный мир – при условии, конечно, что боги захотят его принять. Тут Эйе заметил, что в стены залы было наспех вставлено по кирпичу с магическими знаками. Слушая песнопения Мэйи, он незаметно наклонился в надежде прочесть на них имя Сменхары, но увидел, что на кирпичах выбиты картуши Осириса Эхнатона. Должно быть, – удрученно размышлял Эйе, – они были изготовлены в те годы, когда Эхнатон еще готовил для себя гробницу в Фивах и не имел возражений против того, чтобы его имя было связано с иным богом помимо Атона. Как имя Эхнатона может защитить этого бедного юношу от демонов? Мериатон шагнула вперед и положила цветы на саркофаг, после чего раку должны были закрыть. Эйе подошел ближе, опустив глаза к изножию гроба, чтобы не видеть ее слез. И там, куда упал его взгляд, он заметил полоску листового золота, на которой было что-то нацарапано. Приглядевшись, он увидел неровные строчки наспех написанных иероглифов. Заинтригованный, он подошел еще ближе. «Я вдыхаю сладчайший аромат твоего дыхания, – прочитал он. – Пусть северный ветер доносит до моего слуха благостный звук твоего голоса. Дай мне твою руку. Только отвори уста и позови меня, и я приду к тебе, мой возлюбленный брат, ты всегда будешь рядом со мной перед лицом вечности». Пораженный и тронутый до глубины души, он поднял глаза. Мериатон смотрела на него, гордость и любовь внезапно преобразили ее подурневшее от горя лицо, она слабо улыбнулась и опустила взгляд.
Эйе с трудом смог высидеть до конца жалкую пародию на погребальную трапезу, что была устроена на коврах перед гробницей, но ради благополучия ка Сменхары он все же заставил себя проглотить кусок. Хоремхеб и Тутанхатон обсуждали охоту на львов, запланированную на следующий день. Придворные и женщины гарема сидели, развалясь, под своими балдахинами, бросали в песок гусиные кости и заигрывали друг с другом. Анхесенпаатон стояла на коленях рядом с сестрой, уговаривая Мериатон съесть гранат или выпить сладкого вина, но, отщипнув только кусочек, предписанный ритуалом, та села, уперев подбородок в колени, прикрытые прозрачной синей тканью, и принялась смотреть, как жрецы запечатывают гробницу Сменхары. Когда собравшиеся наконец начали возвращаться к своим ладьям, Эйе с огромным облегчением поднялся со своего места. Ему было стыдно за собравшихся, и за себя в том числе.
Он проснулся, едва рассвело, все еще с напряжением в груди, и в сером утреннем свете увидел перед кроватью своего управляющего, стоящего на коленях. Ладья была неподвижна. За парчовым пологом каюты ровно дышал во сне Тутанхатон. Эйе с трудом поднялся и сел в постели, чувствуя жжение в глазах.
– В чем дело?
– В гареме что-то случилось, носитель опахала, – тихо проговорил слуга. – Военачальника разбудил хранитель дверей гарема, и он просит тебя прийти.
– Хорошо. Подними моего личного слугу. Если фараон проснется, скажи, что я вернусь так скоро, как только смогу.
Сонный слуга одел его, и, взяв с собой стражника, Эйе по сходням спустился на берег и пошел вдоль канала. Войдя через подгнившую садовую калитку, он пересек лужайку гарема. В свете раннего утра она казалась не такой заброшенной. Обширное озеро напоминало запыленную чашу, но за большим садом и еще одной стеной взгляду открывался маленький зеленый оазис: слуги до сих пор ухаживали за участком земли гарема. Здесь остались женщины, брошенные Эхнатоном за ненадобностью, они лениво влачили свое существование, тускло проживая пустые, бесконечно тянущиеся дни. Большинство из них были пожилыми, некоторые совсем старухи, оставшиеся в гареме со времени правления их господина, Аменхотепа Третьего; они жили все эти годы на средства, присылаемые из Ахетатона. Никто из них уже не рисковал уходить далеко от своих покоев.
Хранитель рассеянно приветствовал Эйе у входа и проводил в покои, спешно приготовленные для Мериатон и ее сестры. Не успел он дойти до комнаты, как ему навстречу с пронзительным криком выбежала Анхесенпаатон. Бросившись к нему, она спрятала лицо у него на груди.
– Мериатон умерла, – рыдала она. – Они отрезают ее волосы!
Хотя Эйе и не собирался останавливаться и утешать ее, ноги вдруг отказались повиноваться ему. Он живо вспомнил, как сам стоял на коленях перед ложем, Тейе и рука его тянулась за ножом, чтобы срезать ее рыжий локон. Он разом понял все. Отпустив пальцы внучки, он сдержался, чтобы не оттолкнуть ее.
– Отведите ее куда-нибудь, где потише, и дайте выпить вина, – приказал он хранителю и, не обращая внимания на крики Анхесенпаатон, поспешил по коридору.
Дверь в опочивальню Мериатон была открыта, и оттуда доносился возбужденный гул женских голосов. Испуганная служанка, увидев его в дверях, бросилась к его ногам.
– Не наказывай меня, о великий владыка! – рыдала она. – Царица не позволила мне спать вместе с ней в комнате! Она прогнала меня!
Эйе больше не мог себя сдерживать. Он отшвырнул девушку с дороги и принялся с проклятиями расталкивать размахивающих ножами женщин. Многие уже сжимали в кулаках срезанные пряди волос Мериатон. Когда он пробрался к ложу, в нос ему ударил сладковатый запах крови, и он ощутил, что его сандалии прилипают к полу. Женщины отступили.
Мериатон лежала на спине. Сначала Эйе подумал, что ее ночная сорочка испачкана землей, но секундой позже он понял, что она в крови. Простыня тоже была в кровавых пятнах, матрас пропитался кровью. Кровь залила всю подушку и стекала с руки на пол. Эйе никогда еще не видел такой жестокой кровавой сцены. А в центре ее было лицо Мериатон, покрытое бурыми пятнами, однако безмятежно спокойное. Эйе подошел ближе. Из-под кровати виднелась рукоятка ножа слоновой кости. Он взглянул на руки покойной. Она не перерезала себе вены. Присев на корточки, он приподнял то, что осталось от ее черных волос, и увидел на шее чуть пониже уха аккуратный глубокий разрез. Он не смог подняться сам, пришлось опереться на матрас возле ее бледной щеки. Внезапно наступила тишина. Эйе обернулся и увидел, что в комнату вошел Хоремхеб и женщины одна за другой, кланяясь, выскальзывают за дверь.
– Тебе следовало оставить здесь охрану! – закричал на него Эйе. – Посмотри, что они сделали с ее волосами!
– Я вышел только на несколько минут, – ответил Хоремхеб. – Я не привел своих людей, потому что не ожидал такого. Гарем охраняет лишь горстка стражников, и я выскочил, чтобы удостовериться, что никто не покидал этих покоев. – Он перевел дыхание и, сделав над собой усилие, продолжил: – Ты сам видишь, что это похоже на убийство.
– Она была плотью от плоти моей! – взвыл Эйе. – Кровь моей семьи пропитала эту комнату! Это твоих рук дело!
Хоремхеб был явно ошарашен.
– Я не причинял ей вреда, – горячо запротестовал он. – У меня не было на то причин.
– Ты довел ее до этого. – От подступившей дурноты его взгляд затуманился, он силился выпрямиться. – Надеюсь, ты удовлетворен. Она – самоубийца. Ее нельзя бальзамировать. Ее ка потеряно. Ее нельзя даже хоронить. Хоремхеб…
Со стыдом он осознал, что плачет.
Хоремхеб подошел к нему и взял его под локоть. Услышав звук открывающейся двери, они оба подняли головы и увидели широко раскрытые глаза и разом побледневшее лицо Тутанхатона. Эйе, спотыкаясь, шагнул вперед. Хоремхеб бросился к мальчику, со стуком захлопывая за собой дверь, но было слишком поздно. Тутанхатон повернулся к стене, и его вырвало. Никто не осмеливался прикоснуться к нему. Он вытер губы подолом юбки.
– Меня разбудили крики Анхесенпаатон, – прошептал он. – Женщины, которые кланялись мне у входа, держали пряди волос. – Он положил дрожащую руку на плечо Эйе. – Дядюшка, – глухо сказал он, – поэтому я ношу на шее локон своей матушки? – Не найдя, что ответить, Эйе кивнул. Тутанхатон было захныкал, но быстро взял себя в руки, сознавая, что мужчины молчаливо наблюдают за ним. – Я начал свое правление в крови, – сказал он. Убрав руку с плеча Эйе, он, пошатываясь, вышел из комнаты.
Тело Мериатон обернули в белое полотно и предали реке. Жрецы, как ни сочувствовали и ни стремились угодить юному богу, от которого зависело, вернутся ли к ним их богатства, не осмелились захоронить ее по обычаю. Стоя на берегу рядом с теми, что собирались бросить в воду цветы вслед телу с привязанным к нему тяжелым грузом, Эйе осознал, что никогда не простит этого ни Хоремхебу, ни себе. Потому что, несмотря на слова, которые он в отчаянии бросил военачальнику у постели мертвой Мериатон, он понимал, что должен разделить с ним ответственность за ее смерть. Он хотел избавиться от Сменхары так, чтобы при этом не пострадали его принципы. Он оказался трусом, неспособным практически осуществить свои намерения, и втайне испытал облегчение, когда Хоремхеб взял на себя риск совершить деяние, которое не осмелился совершить он сам. Он почему-то решил, что все трудности закончатся с уходом Сменхары. Теперь же последствия содеянного Хоремхебом устрашали его, и, глядя, как Анхесенпаатон, пытаясь утешить, обнимает Тутанхатона за плечи, а Хоремхеб подходит к берегу, чтобы тоже бросить в воду свои цветы, он начал задумываться, какие еще непредвиденные события повлечет за собой преступление, в которое он оказался втянутым, когда пожелал избавиться от племянника. Эйе ненавидел военачальника за горе, которое тот причинил его семье, он осознавал свою вину, но еще он страшился хладнокровия Хоремхеба, благодаря которому тот был способен на подобные деяния. Уверится ли он еще больше в своей безнаказанности, избежав возмездия? – размышлял Эйе. Он едва мог выносить присутствие этого человека, и, как только Тутанхатон повернул к своей роскошной ладье, Эйе, сбежав от всех, последовал за ним.
В конце мезори двор отплыл на север, в Мемфис, и в день Нового года Тутанхатона короновали на царство с соблюдением всех древних ритуалов. По совету Эйе он взял себе все традиционные титулы фараона – Могучий Бык, Гор Золотой, Прекрасный Бог, Владыка Обеих Земель, – и, хотя он ни дня не служил в храме Птаха верховным жрецом, как делал прежде каждый наследник трона, он с исключительным почтением принес жертвы создателю мира. Однако в Он Тутанхатон не поехал.
– Ты сможешь поклониться Ра в его городе позднее, – сказал ему Эйе, – сейчас тебе еще слишком рано появляться в храмах солнца.
Тутанхатон не возражал. Он наслаждался тем, что граждане Египта и жрецы поклонялись ему, и с удовольствием возглавлял церемонии приношения даров и всевозможные пиршества. Он не возражал и тогда, когда через несколько недель после коронации Эйе составил брачный договор для юного фараона и Анхесенпаатон. Двор счел это хорошим выбором: ее все любили, она была добра, красива и уже доказала, что может вынашивать детей. Эйе же внучка привлекала тем, что любила его и готова была сделать все, о чем бы он ни попросил. Теперь у власти не останется никого, – с облегчением думал Эйе, – на кого мог бы оказывать влияние Хоремхеб. И если он действительно лелеет надежду заполучить корону, это дело ему будет непросто провернуть, если он решит искать поддержки у кого-либо из высших сановников. Для этого ему придется пойти еще на один акт насилия, а я не думаю, что его честолюбие простирается так далеко, что он снова осмелится рискнуть всем ради этого.
Память о страшной засухе еще жила в умах египтян, все с тревогой ждали половодья, и когда Исида начала плакать в конце фаофи, началось бурное празднование. Но Эйе едва заметил начало нового сезона. С тех пор как двор вернулся из Мемфиса в Ахетатон, он был занят выстраиванием политики, которая постепенно вернет Египту его былое могущество. День за днем слуги приносили ему отчеты о состоянии дел в Карнаке, о сокращении количества поклоняющихся в храме Атона, об оттоке и притоке золота в казну, каждую ночь он подолгу совещался с представителями номов, которые рассказывали ему о чаяниях простых людей. Он наблюдал за супружеством Тутанхатона и Анхесенпаатон и с радостью отмечал, что они довольны обществом друг друга. Он знал, что должен быть абсолютно уверен в правильности того курса, которым он хочет заставить следовать фараона, и понимал, что, прежде чем явиться на прием к Тутанхатону и представить ему на суд свои предложения, следует тщательно выверить каждый довод и предусмотреть любые возможные возражения. Необходимо также попросить фараона, чтобы на приеме присутствовал и Хоремхеб.
И вот сверкающим зимним утром он распростерся ниц перед фараоном, поцеловал царственные ноги и прижался губами к гладкой коже на голени Анхесенпаатон. Хоремхеб уже явился, тщательно накрашенный и одетый в желтое платье, он стоял со сложенными на груди руками среди своих приспешников и нескольких военных. В зале для приемов собрались управители, вельможи и молодые друзья фараона. Тутанхатон сделал знак, и Эйе поднялся. Улыбаясь, мальчик указал на кресло у подножия трона.
– Ты можешь сесть, дядюшка, – сказал он. – Ты тоже, военачальник. Надеюсь, сегодня мне скажут, что я должен делать.
Встретив его пытливый взгляд, Эйе с тревогой осознал, насколько проницателен мальчик.
– Нет, Драгоценное Яйцо, – быстро возразил он. – Ни один человек не осмелится указывать божественному воплощению, что он должен делать. Однако сердце мое болит о судьбах Египта, и я умоляю с благосклонностью выслушать мои предложения.
Хоремхеб остался стоять, но Эйе не стал возражать. Военачальнику сегодня понадобится любое преимущество. Тутанхатон кивнул, и он продолжил:
– Как, без сомнения, известно царевичу, пропасть между божественным воплощением и людьми никогда не была шире, чем теперь. Твой предшественник не только удалился из священного города Амона, но еще и лишил людей их богов, их средств к существованию и их империи. Только тебе принадлежит право вернуть им то, что отнял твой отец. – Тутанхатон вежливо слушал, но Анхесенпаатон нахмурилась. – У тебя есть не так много управителей, к которым можно обратиться за советом, – осторожно продолжал Эйе. – Прежде всего, я обратил бы внимание на то, что казна истощена. И поэтому в настоящее время невозможно одновременно сделать все, что, я уверен, желает сделать Владыка Обеих Земель. – Хоремхеб улыбнулся, и Эйе понял, что военачальник догадался, куда он клонит. – Посему тебе предстоит решить, какие вопросы имеют для нас первостепенное значение. – Он быстро взглянул на Хоремхеба. – Военачальник станет убеждать тебя в том, что, прежде всего, мы должны восстановить империю. Я согласен, каждый египтянин со стыдом и болью думает о том, что весь мир больше не склоняется перед нами. Но сейчас принятие мер по восстановлению империи вряд ли порадует твоих подданных. Семьям придется проводить мужчин, которые уйдут на войну, а святилища богов останутся прибежищем сов и шакалов. Война только увеличит страдания людей.
Тутанхатон поднял руку.
– Это действительно то, что ты хотел предложить, военачальник?
Хоремхеб кивнул.
– То, что говорит твой дядюшка, правда. Я верю, что, только восстановив империю, мы наполним казну и вновь добьемся процветания Египта. Первая, и самая важная, задача на этом пути – снова закрепиться в северной Сирии, Ретенну, Амки и Амурру. Царевичи этих народов теперь стали союзниками Суппилулиумаса. В любой момент хетты могут вторгнуться на нашу землю, и тогда мы потерпим поражение.
– Если бы Суппилулиумас планировал вторжение в Египет, думаю, к этому времени он бы уже предпринял попытку, – быстро вмешался Эйе. – Но Египет находится далеко от страны хеттов, а империя Суппилулиумаса уже и без того очень обширна. Думаю, он не решается на вторжение, потому что знает, что пока ему не под силу удержать захваченные у нас земли. А значит, у нас есть время для решения других, более важных задач. Если Египет начнет войну, твое золото не сможет пойти на исцеление Египта.
– Тогда что ты посоветуешь?
Ясные глаза внимательно рассматривали его. Эйе твердо встретил взгляд фараона.
– Прежде всего, отстрой заново Карнак и дай Мэйе полномочия назначить новых жрецов. Позволь людям увидеть, что бог, который принес процветание Египту, снова почитаем. Потом разошли своих архитекторов по всей стране для того, чтобы восстановить местные святилища. Позволь восстановить дворец в Малкатте и вернись в Фивы.
– Но, Эйе, – неуверенно вставила Анхесенпаатон, – мой отец учил нас, что есть только один бог, Диск Атон. Если мы отвергнем его, нас постигнет наказание.
– Моя дорогая, – мягко ответил Эйе, глядя в искреннее юное лицо, – я не предлагаю запретить поклонение Атону и закрыть его храмы. Пусть те, кто желает, продолжают приносить ему жертвы. Но простые люди никогда не понимали чистоты Атона, они не чувствуют себя в безопасности без покровительства древних богов. Пришло время твоему мужу заявить о себе как о воплощении Амона на земле.
– И кто заплатит за всю эту суету вокруг богов? – горячо перебил Хоремхеб. – Ты сам сказал, что казна пуста. Все эти меры потребуют длительного времени. Война же за объединение империи – мера быстрая и решительная, и она принесет немедленную компенсацию в виде трофеев и дани!
– В том случае, если мы победим, – сухо сказал Эйе. На мгновение их глаза встретились. Эйе знал, что Хоремхеб еще страдает от стыда за поражение Египта в сражении с хеттами и стремится восстановить свое доброе имя. – А если нет, то народу придется терпеть еще большие тяготы и лишения, и любая возможность вернуть себе наших вассалов будет навсегда утрачена. Египет сам станет вассалом Хеттского царства. Ты хочешь пойти на такой риск?
– Прекратите! – отрывисто сказал Тутанхатон, и они оба, только что почти забывшие о его присутствии, замолчали и повернулись к нему. – Военачальник дело говорит, дядюшка. Восстановление власти богов потребует и времени, и много золота. Откуда мы возьмем сейчас такое богатство?
– Из сундуков твоей знати и царевичей, – ответил Эйе. Он был вынужден повысить голос, чтобы перекричать негодующий ропот, пронесшийся по залу. – Твой отец забрал себе земли Амона в Дельте, отнял его скот и рабов, чтобы платить за подношения Атону. Некоторые наделы он раздал тем, кто хорошо служил Диску. – Он ступил на зыбкую почву, не желая перед сыном обвинять его отца в том, что тот покупал дружбу за золото. – Я предлагаю, чтобы ты вернул Амону его земли в Дельте и обеспечил служителей бога скотом из поместий знати в количествах, достаточных для разведения. Дай им также семян для посева и отбери виноградники Амона у тех, кто приобрел их в последнее время. В этом случае Мэйя и его жрецы смогут восстановить благосостояние Амона собственными силами.
– И надо полагать, ты хочешь восстановить также и казну бога? – презрительно фыркнул Хоремхеб.
– Отчасти, да. Богатства были несметными, и большая часть была потрачена на строительство нового города, но я прошу от имени Амона опорожнить часть сундуков Атона. Жрецы Диска смогут жить на средства от подношений верующих. Но ты не должен останавливаться только на восстановлении Амона. – Он повернулся к Тутанхатону и побелевшей Анхесенпаатон. – Наделы земли, принадлежавшей местным божествам, были переданы в собственность управителей твоего отца, Гор. Если ты вернешь их, ты завоюешь любовь всех своих подданных. – Он теперь стоял, повернувшись лицом к помрачневшим придворным. – Я обращаюсь ко всем вам! Вы знаете, что это должно быть сделано. Вы – богатейшие мужчины и женщины Египта, сыны и дочери управителей Осириса Эхнатона. Если вы думаете встать на сторону Хоремхеба и таким образом сохранить свое богатство, вы ошибаетесь. Он отберет его у вас для своих войн. Отдайте его богу, который никогда не обманывал надежд своего народа, и в конце концов вы будете процветать. – Выражение их лиц не изменилось, но ропот затих. Он понизил голос так, чтобы его могли слышать только Хоремхеб и царственная чета. – Военачальник, ты покинул свою императрицу, мать фараона, для того, чтобы переехать в Ахетатон, потому что Осирис Эхнатон отдал тебе монополию на нубийское золото, которая прежде принадлежала Амону. Если ты вернешь ее в руки Мэйи, это ускорит восстановление святилищ.
– Ты распутный старый лицемер, – зашипел в ответ Хоремхеб. – Я был не единственным, кто тогда переметнулся к фараону. Ты тоже оставил императрицу, свою родную сестру. Нубийское золото было не единственной причиной, по которой я остался рядом с воплощением Атона!
– Да, я знаю. – Эйе посмотрел на Тутанхатона. – Учителя восхищаются тем, как быстро ты все схватываешь, – сказал он. – Я полагаю, что фараон начинает постигать суть стоящих перед нами проблем. Я хотел бы добавить, что необходимо немедленно остановить начатую Осирисом Сменхарой продажу зерна иноземцам. Следует прекратить всю торговлю зерном. Мы должны снова наполнить свои зернохранилища. Египет должен жить только от собственных щедрот, нужно запасать все, что можно, до тех пор, пока мы не будем готовы пригласить остальной мир нести нам свои товары в обмен на богатства восстановленной страны.
Рука Тутанхатона завладела рукой царицы.
– Это все, дядюшка?
– Нет, Гор. – Эйе помедлил. – Я бы хотел, чтобы ты подумал о том, чтобы сменить свое имя.
После его слов в зале повисла напряженная тишина, потом все возмущенно загудели. Имя было священным, оно считалось магическим символом, защитой для того, кто носил его, оно имело власть взывать к помощи бога, чье имя было в него вплетено. Ни один ребенок не получал имя без долгих совещаний с оракулами и продолжительных молитв, и это священнодействие было вдвойне сложнее для фараона, воплощения самого бога.
Потрясенный Тутанхатон раскрыл рот, не находя ответа.
– Почему ты советуешь мне это? – наконец смог вымолвить он.
– Потому что независимо от того, как ты чтишь Амона перед людьми, они будут слышать в твоем имени имя Диска со всей горечью воспоминаний, которую оно несет с собой. Они никогда не забудут об этом, и поэтому никогда не будут всецело доверять тебе.
– Мне нет дела до доверия быдла, рабов! – резко возразил мальчик. – Ты слишком непочтительно говорил о моем отце. Он дал мне это имя. Это имя священно!
Эйе предвидел его страх, но к этому времени он уже хорошо знал своего маленького племянника. Тутанхатон обдумает его совет и, еще лучше, спросит мнения Анхесенпаатон. Эйе уже признал рассудительность юной царицы. Он встал на колени в знак извинения.
– Прости старика, который любит тебя, – сказал он.
– Великий царь, я прошу позволения ответить на предложения носителя опахала моими собственными доводами, – начал Хоремхеб, но к этому времени Тутанхатон уже нетерпеливо ерзал на троне и болтал ногами в золотых сандалиях.
– Не сейчас, военачальник, – сказал он. – Меня утомили все эти разговоры, я хочу поплавать. Как-нибудь в другой раз. Вы все свободны.
– Отец прав, – сказала Хоремхебу Мутноджимет в тот вечер, когда они сидели у маленького декоративного бассейна у себя в саду.
Смеркалось. Когда опустилась темнота, густые ароматы цветов стали еще сильнее. Закружились ночные мотыльки, привлеченные светом между колоннами у входа. Тихую гладь бассейна иногда нарушали всплески золотых рыбок, привлеченных висевшей над водой мошкарой. Хоремхеб смотрел на воду, в которой отражались пурпурные краски заката.
– У Эйе, – помолчав, продолжила она, – нет необходимости бороться за безраздельную власть. Он и теперь располагает достаточным влиянием на фараона. Тутанхатон – ребенок, он относится к тебе с детской враждебностью, но это пройдет, когда он повзрослеет. Как только Египет снова воспрянет, его мысли обратятся к войне, и Амон снова тебе улыбнется.
Он подозрительно взглянул на нее, уязвленный сарказмом в ее голосе. Она надела белый шерстяной плащ, но, поскольку в воздухе еще не чувствовалось вечерней прохлады, одеяние свободно свисало с ее плеч, распахиваясь на голом животе. Она сидела в свободной позе, поджав под себя ногу.
– По крайней мере, ему следует совершить поход в Газу, – ответил он. – Египет удерживал ее со времен могущественного Тутмоса Третьего, и она наш самый важный морской порт.
– Он позволит, когда у нас будет что-нибудь, чем мы сможем торговать. – Она отпила вина, облизнув край чаши. – Не такая уж и страшная потеря, военачальник, – утратить монополию на золото. Вероятно, придется продать несколько десятков рабов, хотя бог знает, кто может позволить себе купить сейчас что-нибудь. Возможно, придется закрыть один из наших домов. У меня есть еще земли в Джарухе, пожалованные императрицей. Старые торговые связи нарушены, но если все пойдет хорошо, то ситуация скоро наладится.
Из-за стены, отделявшей их сад от лужаек наложниц Хоремхеба, раздался взрыв смеха, потом послышался радостный визг карликов Мутноджимет.
– Императрица не была бы такой малодушной, – горько сказал Хоремхеб. – Уж она-то нашла бы способ одновременно и усилить Египет изнутри, и развязать войну.
– Я так не думаю. Ты очень восхищался ею, не правда ли, хотя и предал ее? Я часто думаю, что ты был немного влюблен в нее.
Хоремхеб выдавил улыбку.
– Я родился слишком рано, Мутноджимет, или слишком поздно, не знаю. Из меня бы вышло великолепное воплощение.
– К несчастью, твоей крови не хватает божественного огня, – парировала она.
– Может быть. Но поскольку ты – единокровная сестра женщины, которая когда-то была царицей, твоя кровь содержит немного этого драгоценного сияния.
Они замолчали. Отсвет на воде стал темно-синим, и из темноты начали выступать размытые очертания сада. Мутноджимет осушила свою чашу и бросила ее на траву.
– Самоубийство Мериатон – ужасно, – тихо сказала она через некоторое время, – и люди о нем не забудут. Будь осторожен, муж мой, и жди.
Он не ответил и не взглянул на нее. Между ними повисло напряженное молчание, потом Хоремхеб вдруг поднялся и вызвал носильщиков.
– Пойду, сыграю в кости с Нахт-Мином, – сказал он.
28
В течение следующей недели Эйе сдерживал нетерпение, зная, что фараон обсуждает с Анхесенпаатон сделанные ему предложения. На восьмой день его вызвали для оглашения решения. Как Эйе и предполагал, Тутанхатон согласился со всеми его доводами.
Тутанхатон назначил его регентом, тем самым наделив законной властью, которой Эйе никогда прежде не имел за всю свою жизнь придворного, советника и царского наперсника.
Новое назначение придало ему энергии. Он понимал, что выносливости молодости уже не вернуть, но научился разумно распределять свои силы и, насколько это было возможно, проявлял в управлении свою мудрость и опыт. По его просьбе фараон назначил Хоремхеба царским представителем – эта почетная должность имела силу ровно до тех пор, пока царица не произведет на свет наследника, и являлась эффективным средством для того, чтобы удерживать военачальника при дворе, не выпуская из поля зрения. Нахт-Мину был пожалован титул носителя опахала по правую руку.
Было решено, что Малкатта будет восстановлена за три года, и все это время Эйе трудился над осуществлением своих планов. Под его заботливыми руками Египет начал воскресать. Он без сожаления вернул исконным владельцам золото и земли, забранные у жрецов Амона и других богов. Мэйя стал появляться при дворе, он часто совещался с фараоном и регентом. Скоро выяснилось, что в Египте не хватает жрецов для служения в восстановленных храмах. Эйе говорил с людьми Атона, особенно с теми, кто прежде служил Амону, но перешел к Эхнатону, никого не принуждая, но разъясняя, что возврата к годам ереси не будет и никто из жрецов, желающих жить прилично и обеспеченно, не должен поклоняться другому богу.
Посланцы Мэйи путешествовали по номам, набирая в жрецы местных жителей и обучая их в родных селениях. Священные танцовщицы назначались из дворца, и им платили жалованье из личных сундуков фараона, средства казны также использовались для восстановления изображений богов и их святилищ. Вестники приезжали в каждое селение, публично объявляя недействительным запрет Эхнатона служить другим богам, кроме Атона. Началось уничтожение жертвенников Атона, и Эйе с тревогой следил за тем, как бы не возникла обратная реакция и дух насилия не привел бы к кровопролитию по всей стране. Однако, хотя еще многие месяцы на общественных зданиях продолжали появляться оскорбительные надписи, обличающие Эхнатона как преступника, который навлек проклятие на свою страну, негодование людей вскоре улеглось.
Пытаясь усилить преемственность с прошлым Египта, фараон принялся усиленно подчеркивать свою родственную связь с Аменхотепом Третьим. Эйе уже посоветовал ему посадить своих архитекторов и каменщиков за работу, чтобы закончить строительство храма Аменхотепа Третьего в Солебе, и сделать так, чтобы имена обоих фараонов стояли в текстах надписей рядом и на видных местах. В надписях на каменных львах, изваянных для храма, Тутанхатон обращался к нему как к своему отцу. Тутанхатон также взял на себя завершение южного Дома Амона в Луксоре – проект, которому Аменхотеп уделял так много внимания, что впоследствии его стали связывать больше с именем умершего фараона, нежели с именем самого Амона. Эйе со всем возможным тактом предложил Тутанхатону подтвердить свое внешнее сходство с Аменхотепом Третьим, стараясь при этом не оскорбить память мальчика об отце. Если Тутанхатона это и задело, он не показал виду. С живым интересом рассматривая чертежи, которые расстилали перед ним мастера, он наслаждался каждой деталью и сам вносил множество предложений.
С позволения фараона Эйе обложил крестьян сокрушительным налогом для того, чтобы восстановить Малкатту, построить новые причалы в Фивах и начать реконструкцию в городе. Он издал указ, повелевающий, чтобы урожай каждого вельможи был подсчитан после сбора, и часть зерна из его владений была засыпана в амбары селений, соседствующих с его поместьем. Состоятельные придворные ворчали, однако они понимали, что в конечном итоге, когда экономика стабилизируется, это приведет к их обогащению.
Несмотря на вереницы управителей, ежедневно приходивших в его палату, Эйе чувствовал себя одиноко. Он диктовал пространные письма Тии в Ахмин и по многу раз перечитывал ее путаные ответы. Он все больше ненавидел ночи в Ахетатоне. Хотя фараон начал устраивать большие пиршества, похожие на те, что внушали трепет иноземным посланникам в дни былой славы Египта, их веселье не могло сдержать потоки мрачных воспоминаний о минувших несчастьях, которые, казалось, только и ждали, когда разойдутся гости, чтобы затопить все многочисленные тихие закоулки дворца. Эйе спал чутко и часто просыпался. Временами он вызывал своего писца и лежал, слушая его чтение, но гораздо чаще он просто выходил из своих покоев и отправлялся бродить по коридорам, иногда встречая других придворных, которых тоже тревожили скорбные и кровавые сновидения.
Эйе знал, что проклятие будет действовать до тех пор, пока город останется обитаем. Помешанный молодой фараон, из безумной мечты которого родился Ахетатон, и после своей смерти удерживал город в мрачных путах своего безумия. Иногда Эйе ловил себя на том, что сдерживает дыхание, стоя при свете факелов в каком-нибудь заброшенном уголке дворца, в страхе ожидая чего-нибудь ужасного. По ночам его звала Тейе, а в тенях рыдали мертвые дети Эхнатона. Солдатам, которые охраняли гробницы в скалах за городом, уже платили в два раза больше обычного. Тейе никогда не нравилось это место, – снова и снова повторял себе Эйе. – Задолго до основания Ахетатона она говорила, что это несчастливое место, что скалы ревностно охраняют его девственную чистоту.
Но Тутанхатона не посещали подобные видения. Он становился привлекательным юношей с веселым нравом, и хотя порой он, как и Тейе, был подвержен вспышкам гнева, те, кто тайно следил за ним, пытаясь обнаружить любые признаки неуравновешенности, видели перед собой только фараона, который не любил сидеть на месте, громко смеялся, с удовольствием охотился и поздно и неохотно отправлялся в постель. Он напоминал Эйе Тутмоса, первого сына Тейе, который некогда ярко блистал при дворе. Царица тоже расцвела. Тутанхатон, хотя на третьем году правления ему было всего четырнадцать, не по годам рано вступил в брачные отношения и уже принялся собирать собственный гарем, отпустив на покой многих старых женщин отца и набрав для себя помоложе. Анхесенпаатон была беременна. В свои семнадцать она являлась олицетворением нового духа возрождения, который постепенно передавался двору.
За четыре дня до празднования по случаю окончательного отъезда из Ахетатона он сидел, облаченный в пышные одежды, перед Мэйей и заполненной до отказа залой, надо лбом его возвышалась двойная корона, в руках он держал крюк, цеп и скимитар и торжественно диктовал документ об изменении своего имени. Его имя прежде означало «Живой Образ Атона», но в тот момент, когда он прижал свою печать к свитку, он стал называться Тутанхамоном – Живым Образом Амона. Анхесенпаатон последовала его примеру, с болью услышав впервые, как ее назвали Анхесенамон – Живущая для Амона. Для нее это означало предательство отца и бога, поклоняться которому ее учили всю жизнь. Она сидела бледная и молчаливая, трепетно поглаживая раздутый живот, когда люди вокруг громко выражали одобрение, но теперь она уже научилась скрывать от всех свою печаль.
На следующий день Тутанхамона, Анхесенамон и Эйе отнесли по царской дороге в северный дворец, охваченный шумом и хаосом грядущего переезда. Повозки, уже нагруженные скарбом, заполонили аллеи. Перед царской кавалькадой метались домашние животные, уворачиваясь от яростно гоняющихся за ними голых мальчишек. За высокой дворцовой стеной и садами, спускающимися к реке, ясно слышались звуки команд кормчих. Нил был забит судами всех размеров, у причалов некуда было приткнуться. Эйе понимал, что и выше по течению, за стоящими особняком поместьями знати, творится то же самое. Он знал, что Хоремхеб сегодня самолично выехал на улицы города, сопровождаемый отрядом местного племени мазои, пытаясь предотвратить стычки на переполненных улицах и обеспечить защиту зажиточным горожанам. Спокойно было только внутри храма Атона, опустевший передний двор опаляли свирепые лучи Ра. Те немногие жрецы, среди которых был и Мерира, которые решили остаться, укрылись от зноя в святилище. Пыль золотистой завесой висела в воздухе. Тучи мух клубились повсюду над кучами отбросов и мусора, выброшенного из домов во время сборов. Некогда прекрасные жертвенники Атона, что красовались на каждом углу, стояли теперь ободранные и оскверненные, их почерневшие курильницы давно остыли. В тени тяжело пыхтели собаки, откуда их уже не гнали, глядя на заметаемые песком небольшие мощеные площадки, где прежде кружились танцовщицы. Прикрывая нос надушенным платком, Эйе радовался, что занавеси носилок царевны спущены. Ахетатон напоминал город, которому угрожало вторжение чужеземной армии, жители которого обратились в бегство.
Ворота в стене, отделявшей северный дворец от города, были закрыты, но едва вестники успели подойти, как стража Нефертити распахнула их, и носилки пропустили внутрь. Эйе приготовился к долгому подъему по длинной лестнице, представляя, как тяжело будет носильщикам. Он сидел, глядя на открывающиеся взгляду террасы. Политая трава блестела. Повсюду было много цветов всевозможных оттенков, кроны деревьев, растущих на каждой террасе, нависали над следующей, как пышный занавес. Здесь не было пыли, не было какофонии звуков, слышался только мелодичный звон падающей воды в фонтанах, и ветер доносил ароматы цветов.
Носилки опустили на землю, каменные плиты перед ними торопливо опрыскали молоком и вином, чтобы царственные ноги фараона могли ступить на них, и все трое вышли из носилок. Далеко внизу серебрился Нил, завихряясь у свай причала Нефертити. Ее ладья вспыхнула золотом, закачавшись на волне от пробегавшего мимо судна. Анхесенамон вздохнула.
– Здесь ничего не изменилось, – задумчиво сказала она.
– Я думал, что уже позабыл здесь все, – отозвался фараон, – но сейчас я все вспомнил опять. Вот дерево, по которому я лазил, с него было видно все террасы. Однако туда было довольно трудно взобраться.
Слуги смиренно ждали, пока он насладится видом садов и реки, лентой струящейся вдаль. Эйе задумался над тем, почему Тутанхамон не заходит в дом: то ли он давал его дочери время справиться с волнением, то ли, наоборот, бесчувственно продлевая ее мучения, но, в конце концов, он соизволил повернуться к распростертой ниц у открытых дверей фигуре управляющего Мериры.
– Вставай и веди нас к своей госпоже, – приказал он. Мерира поднялся и несколько раз поклонился.
– Какая великая честь для нас, Могучий Бык, – торжественно произнес он, и они вслед за ним вошли в манящую прохладу маленького царства Нефертити.
Приемная зала была полна статуй. Поспевая за Мерирой, Эйе изумленно поглядывал по сторонам. Нефертити важно взирала на них со всех сторон, застывшая то в темной маслянистости эбенового дерева, то в сиянии слоистого мрамора, то в теплоте песчаника. Здесь были и бюсты, и просто головки, но больше всего было статуй, выполненных во весь рост. Некоторые изваяния были парадными – с париком на голове, увенчанной коброй, или в мужском одеянии, с солнечной короной, на них Нефертити представала в строгих, напряженных позах, с руками, плотно прижатыми к бокам, с фигурой, от сандалий до головы закутанной в гофрированное платье. Но многие скульптуры были очень естественные, с плавными мягкими изгибами тела: царица будто застыла, не закончив грациозного движения. Талант скульптора, которого когда-то неуклюже пытался поощрять Эхнатон, здесь раскрылся в полной мере – ваятель посвятил его женщине, которую боготворил. В каждой скульптуре был ярко отражен характер Нефертити. Тутмос не питал иллюзий на ее счет. Она была красива и чувственна, но вместе с тем надменна, мелочна и странно беззащитна, и все скульптуры в зале передавали зрителям это ощущение. Это все моя дочь, – думал ошеломленный Эйе. Перед одной статуей все невольно остановились. Нефертити, вырезанная из белого известняка, чуть склонялась в сторону, раздавшиеся бедра, отяжелевшая грудь и обвисший живот выдавали ее возраст. В руке она держала лотос. На губах играла легкая улыбка. Глаза были закрыты, ноздри трепетали, вдыхая аромат раскрывшегося цветка. Ее прямые волосы спадали на плечи, на них лежала тонкая диадема с анхом посередине лба. Кольца с анхами унизывали ее руки, ожерелье тоже было из анхов. Вся скульптура дышала истомой и воспевала радость земного бытия.
– О боги! – с отвращением воскликнул Тутанхамон. – Скульпторы всегда были чем-то вроде слуг, но этот вообще, похоже, простой раб. Он, наверное, голодал, пока не обрел покровителя.
Эйе оторвал взгляд от статуи и пошел дальше.
Коридор, ведущий в личную приемную Нефертити, тоже украшали ее резные изображения, и, похоже, Тутмос оказался еще и художником, потому что на стенах самой приемной красовались ее огромные изображения. Здесь он обратился к традиционной манере исполнения, но Эйе заметил, что тело раскрашено красным – этот цвет обычно использовался для изображения мужских фигур, а волосы – синим, как лазуритовые волосы богов.
Мерира привел их в приемную, где на низком столике стояли цветы и легкие закуски. Когда они подошли, Нефертити и скульптор поднялись со своих мест. Тутмос что-то прошептал на ухо Нефертити, и она вслед за ним упала на колени и распростерлась ниц, потом с его помощью поднялась и стояла без улыбки на лице и сжав руки. На ней было простое белое узкое платье, ниспадавшее многочисленными складками, с застежкой из оникса под горлом. Еще один оникс украшал ее пояс. Руки охватывали толстые браслеты. Парик на ней тоже был простой: его прямые черные волосы спадали на плечи, лоб венчала золотая диадема из крошечных дисков. Она выглядит так, – подумал Эйе, – будто она из другого времени. Ее лицо было сильно накрашено, но краска не могла затушевать тонкую сеточку морщин вокруг глаз и носогубные складки. Тутмос тоже был накрашен, в парике и с лентами, но под официальным нарядом угадывалось худое, изящно сложенное тело, а взгляд был проникновенным и благородным. Анхесенамон улыбнулась матери, но Нефертити, казалось, не заметила ее. Она не встретилась глазами и с отцом, когда ее взгляд скользнул по его лицу. Тутанхамон без приглашения уселся в кресло и сказал:
– Рад видеть тебя снова, Нефертити.
Остальные тоже сели; огорченная невниманием матери, Анхесенамон обиженно потупилась.
– Ты очень вырос с тех пор, как я видела тебя в последний раз, – сказала Нефертити, – а ты, отец, ты растолстел!
Эйе взглянул на нее с любопытством, потому что он на самом-то деле похудел с тех пор, как принял регентство. Лихорадочный огонь потух в ней, тело, прежде такое подвижное, было удивительно спокойным, движения – плавными. В том, как Тутмос наклонился к Нефертити, Эйе почудилась уверенность собственника. Эйе взял Анхесенамон за руку.
– Ну, уж нет, – ответил он. – Я исхудал на службе у моего царя. – Он повернулся к Анхесенамон, делая ей знак молчать. – Нефертити, прости, что твоя дочь не смогла сегодня прийти. Ты ждала ее, но она нездорова.
Нефертити приоткрыла рот. Казалось, некоторое время она прислушивалась, склонив голову набок, потом холодно улыбнулась.
– Ты совсем одряхлел, регент. Анхесенпаатон, ты ведь хорошо себя чувствуешь?
– Ты ослепла, правда? – мягко спросил Эйе, прежде чем девушка успела ответить. – О Нефертити, нельзя быть такой гордой! Если бы мы знали…
– Если бы вы знали, – фыркнула она срывающимся голосом, – мне пришлось бы терпеть всеобщую жалость. Бедная Нефертити, когда-то такая влиятельная, а теперь стареющая, слепая изменница, которая и шагу не может ступить без посторонней помощи. Давайте подкинем ей немного нашего сочувствия, хотя, конечно же, боги не ждут этого от нас. В конце концов, она согрешила, и поделом ей! – Она быстро провела рукой перед своими глазами. – Нет, я не совсем ослепла. Я могу различать свет и темноту.
Повисло тягостное молчание. С плачем Анхесенамон вскочила с кресла и бросилась к матери. Руки Нефертити обвились вокруг нее.
– Ты должна тотчас же уехать отсюда! – воскликнул фараон. – В Малкатте у тебя будут свои покои и слуги, и мои врачеватели будут пользовать тебя. Поедем с нами, Нефертити.
Она слепо водила пальцами по лицу Анхесенамон.
– Малкатта? – тихо повторила она. – Нет, для этого слишком поздно. Я не вынесу ежедневных насмешек придворных за спиной. Здесь я еще царица. Мой муж умер, все мои дочери, кроме одной, тоже мертвы, не мой сын восседает на троне Гора. И я, наконец, в какой-то мере обрела долгожданный покой. Станешь ли ты разрушать его ради того, чтобы показать свое милосердие?
Уязвленный ноткой осуждения в ее голосе, Тутанхамон пылко возразил:
– Мы не обязаны выказывать тебе милосердие! Мы внимаем мольбам нашей царицы!
Нефертити мягко отстранила от себя Анхесенамон и кивнула.
– Мой муж дал мне божественность, – сказала она. – Город Ахетатон – это хвалебный гимн Атону и мне. Здесь все – для меня. Я никогда отсюда не уеду.
– Я не могу поручиться за твою безопасность, когда уйдут мазои, – встревоженно напомнил ей Эйе.
Она пожала плечами.
– У меня есть солдаты. Четыре моих дочери лежат здесь в скалах, отец. Я не покину их.
– Но ты должна быть рядом с Анхесенамон, единственной оставшейся в живых!
– Анхесенамон? Твой отец зарыдал бы, услышав имя этого бога. Что до моих обязанностей, Эйе, я их выполнила.
Она позволила своим воспоминаниям деформироваться, измениться, чтобы они соответствовали ее честолюбивым устремлениям и скрывали ее несбывшиеся мечты и обманутые надежды. Здесь, в северном дворце, думал Эйе, ее мечты в некоторой степени обратились в реальность. Дворец сделался для нее божницей, святилищем, где ей поклонялись, и мужчина, державшийся с таким самообладанием, наконец, дал ей любовь, по которой она всегда томилась. Теперь она больше не вызывала жалости.
Некоторое время они посидели, разговаривая о пустяках, пока Мерира сервировал на столе угощение, повинуясь ненавязчивым указаниям Тутмоса. В поведении скульптора не было ни заискивания, ни позерства. К тому времени, как они поднялись уходить, для Эйе стало очевидным, что любовь Тутмоса к Нефертити была искренней, бескорыстной и преданной. Они распростерлись ниц перед Тутанхамоном, и вышли вслед за ним в сияние позднего солнца, Нефертити держалась за локоть Тутмоса. В последний момент, когда фараон шагнул в свои носилки, царица обернулась и обняла мать.
– Я прикажу каждый день воскурять ладан за твое здоровье перед сыном Хапу, – пообещала она, всхлипывая, – и буду часто присылать тебе письма.
Нефертити повернула в ее сторону лицо с невидящими серыми глазами.
– Роди Египту сына, Анхесенамон, и не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются. Я люблю тебя.
Все еще рыдая, Анхесенамон села в носилки. Последнее, что она увидела, было неподвижное лицо Нефертити, ее величественная фигура, облепленная белым платьем на ветру, и вспышка солнечного света в ее кольцах, когда она потянулась рукой к руке Тутмоса.
Через два дня, свежим ранним утром, фараон и Анхесенамон сидели на палубе «Хаэм-Маат», которую в последний раз отталкивали шестами от ступеней дворцового причала. Царица, глядя на проплывающую мимо центральную часть города, пыталась представить, будто они всего лишь выехали на речную прогулку, а вечером снова возвратятся домой. Но иллюзия давалась ей тяжело, потому, что Ахетатон уже отгораживался от них. Шелестели на свежем ветру зеленые пальмы, выстроившиеся рядами вдоль берега, светились в утреннем свете увитые лозами белые стены, брызги яркого света сквозили в буйно зеленеющей листве деревьев, однако атмосфера начавшегося разложения уже повисла над пустыми домами и покинутыми садами. За опечатанными дверями и заколоченными окнами многие комнаты были торопливо оставлены как есть: с креслами, еще ожидавшими возвращения своих хозяев, со столами, уставленными вазами, полными увядающих цветов, с измятыми постелями и лампами, еще не остывшими с ночи в сумрачных опочивальнях. Было в этой спешке и страстное желание поскорее убраться из населенного призраками и дурными предзнаменованиями места, и неуверенность в будущем: а вдруг фараон не приживется в Фивах и вернется обратно. Вдруг он станет тосковать по красоте города и его пышной зелени; вдруг закат Атона будет недолгим и в зрелые годы фараон вернется к богу своего отца. Печаль пряталась в садах и пропитывала ностальгией опустевшие улицы.
Когда царская ладья скользила мимо усадьбы Хоремхеба, Анхесенамон вскрикнула и повернулась к мужу.
– Тутанхамон, смотри! Что там делается?
С белых ступеней причала Хоремхеба с радостными воплями прыгали в воду голые смуглые дети. Возле нарядного декоративного бассейна на коленях стояла какая-то женщина и стирала; рядом с ней возвышалась куча грязного тряпья. К колоннам у парадного входа были привязаны две козы. Бездомные начали стекаться в город, даже не дождавшись, когда обитатели покинут его.
Фараон с озадаченным видом наблюдал эту картину.
– Полагаю, мне следует приказать вышвырнуть их оттуда, – сказал он. – Но сегодня я великодушен. Все равно это бессмысленно. Не думаю, что мы когда-нибудь вернемся, и, кроме того, мы не можем себе позволить платить солдатам за то, чтобы они охраняли пустой город. Стеклянные и фаянсовые мастерские еще работают. Я полагаю, эти крестьяне хотят наняться туда на работу.
Анхесенамон встала и подошла к поручням. Мимо проплывал воздушный дворец наслаждений Мару-Атон, и ей почудилось, что за деревьями промелькнул тенистый павильон. Потом и он остался позади. В прошлом. Они почти поравнялись со строениями южной таможни и краем длинной гряды высоких скал, охранявших Ахетатон. Анхесенамон оглянулась. Город казался безмолвным миражом: белизна, зелень и золото, колышущиеся в раскаленном мареве; с настоящим его связывала лишь тонкая пуповина сверкающих на солнце ладей, которые тянулись сзади вереницей. Анхесенамон не отводила взгляда, пока изгиб реки и гряда скал не скрыли город из виду.
Флотилия медленно продвигалась к Фивам, унося с собой тела Эхнатона и Тейе, которых Эйе решил перезахоронить в Фивах. Путешествие начали в бодром расположении духа, с вечеринками, которые устраивали прямо на борту ладьи под балдахинами, чтобы скоротать долгие часы безделья в пути, но в скором времени от присутствия двух императорских саркофагов и тревоги о том, что ожидает их в Фивах, веселости у придворных поубавилось. Сон их сделался отрывочным и беспокойным. Наиболее впечатлительные женщины начали во всем видеть несчастливые предзнаменования, и многих одолевало тягостное предчувствие беды. Было бы лучше, перешептывались они между собой, оставить проклятого фараона и его мать-жену среди раскаленного безмолвия скал. Наверняка они несут с собой отголосок проклятия, которое может заразить Малкатту. Тревожить мертвых – дурной знак.
Задолго до того, как ладья фараона ткнулась в ступени причала Малкатты, берега реки стали заполняться народом. Люди благоговейно простирались под пальмами, потом поднимались и приветствовали фараона радостными возгласами, и когда кормчий отдал приказ заворачивать флотилию к западу, на восточный берег вышли все обитатели Фив. Они кричали и толкались, опьяневшие от безумной радости и облегчения. Ладьи повернули в канал. Его углубили, обширное озеро очистили и заполнили водой, причал тоже починили. Перед внушительным фасадом дворца на деревянных флагштоках волновались бело-синие флаги. Когда Тутанхамон и его свита спустились по сходням, жрецы в струящихся белых одеждах принялись воскурять ладан, столбы ароматного дыма поднимались к небесам, плиты причала окропили молоком и вином. Перед переносным алтарем терпеливо ждал ножа фараона украшенный гирляндами жертвенный бык.
Это было не просто возвращение домой. Это было возвращение к здравомыслию, к неизменным путям Маат, и ритуалы отправлялись с беспечной веселостью. Придворные со смехом и песнями хлынули по освеженному дворцу. Из кухонь доносились восхитительные ароматы. В гареме новые женщины селились вперемешку со старыми, в их покоях царил беспорядок, слуги пролагали себе путь между сваленными кое-как вещами, а их владелицы высыпали в сад и кинулись к озеру. Шумная радость жителей Фив не стихала еще много часов, звуки всеобщего веселья долго доносило ветром из-за Нила. Над Карнаком поднимались густые столбы благовоний. Пиршество, во главе которого восседал Тутанхамон, продолжалось всю ночь до рассвета, это было шумное, наполненное музыкой выражение радости и благодарения. Сразу после полуночи фараон удалился в свои покои, рухнул на широкое ложе Аменхотепа и почти сразу провалился в сон. Когда он проснулся, Ра уже показался на горизонте, а Мэйя и его прислужники начали хвалебный гимн за дверью опочивальни.
– Слава божественному воплощению, восходящему, как Ра на востоке! Слава бессмертному, чье дыхание есть источник жизни Египта!
Днем Тутанхамон стоял в полном облачении в темноте святилища Амона. Перед ним возвышался бог, изваянный личными скульпторами Тутанхамона и облаченный в его золотые одежды. Он был увит гирляндами цветов, а у его ног были разложены блюда изысканнейших кушаний. Он снисходительно улыбался своему послушному сыну, жрецы держали курильницы, и великолепный Мэйя в жреческой леопардовой шкуре благоговейно склонялся перед ним.
– Солнце того, кто познает тебя, не зайдет никогда, о Амон! – пели храмовые певчие на переднем дворе – Храмы того, кто смеялся над тобой, скрывает тьма!
В этих словах звучало торжество. Тутанхамон серьезно слушал. У него теперь не было другого отца, кроме Амона.
Когда тела Тейе и Эхнатона положили на вечное упокоение рядом друг с другом в наспех приготовленной гробнице в долине Западных Фив, все, кто видел, как служители города мертвых завязывают веревку на входе, верили в тот момент, что стали свидетелями окончательного погребения прошлого. Узлы залепили толстым слоем глины, служители прижали к ним печать и торжественно прочли заклинания, защищающие от осквернения и разграбления. На скромной церемонии присутствовали только царственная чета и горстка избранных придворных. Возвращаясь к носилкам, они чувствовали, будто сбросили тяжкое бремя. Последняя нечестивость обреченного правления была исправлена.
На обратном пути во дворец Анхесенамон остановилась у погребального храма сына Хапу, чтобы принести дары прорицателю и ревностно помолиться за восстановление зрения матери. Глядя, как нежные царственные пальчики сыплют в курильницу зерна ладана, Эйе предавался мрачным раздумьям о том, что покойный будет испытывать злобное удовлетворение, игнорируя пылкие просьбы Анхесенамон. Его не послушали, и, как следствие, сбылись его ужасные пророчества. Он не стал бы просить богов о снисхождении к жене царевича, которого он давным-давно намеревался убить, а в полной мере насладился бы последствиями неповиновения своего царственного хозяина.
Однако надежды тех, кто видел в погребении императрицы и ее сына признак того, что в Египте теперь все наладится, угасли, так как вскоре Анхесенамон разрешилась от бремени мертворожденной дочерью. Придворные наблюдали за ее страданиями с понимающими улыбками.
– Царская кровь слишком жидкая, – перешептывались они. – Ее мать рожала Египту одних дочерей, и она тоже недостаточно плодовита, чтобы родить сына. Боги утомились от этого немужественного, изнеженного рода.
Многие тайком следили за Хоремхебом, когда он бывал во дворце. Царский посланник был хорош собой, мужествен и талантлив, среди детей и стариков он казался единственным человеком действия, но в жизни Малкатты, все более благополучной и размеренной, политика считалась не самой занимательной темой, и вскоре люди принялись обсуждать более легкие и приятные вещи.
Хоремхеб, казалось, очень добродушно воспринимал свое зависимое положение. Когда он не был занят своими прямыми обязанностями царского посланника, его можно было встретить в палате писцов собрания или в казармах. Эйе с радостью освободил бы его от командования личной стражей фараона, если бы осмелился; но он понимал, что, поскольку боги теперь снова обретают могущество, доводы, с помощью которых он однажды взял верх над Хоремхебом, с каждым проходящим годом становятся все менее убедительными. Эйе признавал в глубине души, что боится этого человека. Хотя Египет получил в лице Тутанхамона молодого фараона, которого все одобряли, тем не менее в стране произошли глубокие изменения по сравнению со славными временами Осириса Аменхотепа, когда фараон был непостижим в своей божественности, когда за строгими правилами протокола стоял истинно правящий бог – не важно, какие у него были человеческие слабости, – и он был непогрешим. Но прошло время, и Египет был наказан фараоном, который показал себя не только заблуждающимся, но и в высшей степени преступным человеком, против которого ополчились сами боги и чья болезненная подверженность ошибкам сделалась очевидной даже самому последнему нищему крестьянину.
Лишившись однажды своей традиционной неуязвимости, фараон утратил ореол неприкосновенности. Разве один из правителей Египта уже не умер от рук убийцы? Нельзя, – размышлял Эйе, заканчивая повседневные дела, – чтобы фараон утратил свою божественность. Его божественность теперь облечена плотью, а каждый знает, что плоть после удара ножом кровоточит. Никто не знает этого лучше, чем Хоремхеб. Какую цель преследует он в своих честолюбивых мечтах? Снится ли ему двойная корона, или он просто хочет, чтобы Египет снова стал могущественной империей? Если второе, тогда он будет терпелив, и Тутанхамону нечего страшиться, но если его цель – корона, тогда он просто выжидает своего часа, чтобы нанести удар, и если он не откажется от своих намерений, я буду бессилен предотвратить трагедию.
Позже в этом же году Эйе получил свиток из Ахетатона. Он развернул его и рассеянно прочел, но потом вдруг будто прирос к месту, потрясенный его содержанием.
«Она умерла, – говорилось в свитке. – Я проснулся однажды утром рядом с ее остывшим телом. Я похоронил ее в скалах. Я покинул северный дворец, взяв с собой только свои личные вещи. Долгой жизни тебе и счастья, регент». На свитке была подпись: «Тутмос, скульптор». Эйе уронил свиток на стол, вместе с тихим звуком упавшего папируса на Эйе нахлынул поток воспоминаний. Вот Нефертити-ребенок, она сидит голенькая у ног Тии в саду в жаркий летний день в Ахмине, у нее в ручках дешевые бусы, ее испуганные темные глаза вопрошающе обращены к нему, когда он зовет ее. Он не знал, почему эта незначительная сцена так ярко сохранилась в его памяти. Вот Нефертити с надутым видом пытается затеять ссору с Мутноджимет, которая никогда не поддавалась на ее провокации. Вот она возвышается над головами своих поклонников, холодная и прекрасная в солнечной короне, на ее оранжевых губах играет легкая улыбка. А теперь она тихо лежит в темноте, погребенная простолюдином. Эйе знал, что, когда ему действительно станет тяжело, он будет скорбеть по той девчушке в саду. Он подобрал свиток и пошел в покои царицы, вестник объявил о его приходе, и ему позволили войти. Анхесенамон, обернутая в белое покрывало, радостно приветствовала его, ее волосы были влажными после купания. Смуглая кожа блестела от свежего масла.
– Пожалуйста, садись, дедушка, – пригласила она. – Я только что из купальни. Фараон говорит, что я трачу больше времени на омовения, чем любой жрец. Этим утром он прислал мне новые серьги. Тебе нравится? – Она протянула ему подарок, и он кивнул, стараясь выдавить улыбку. Она перестала смеяться. – Ты принес мне дурные вести?
Вместо ответа он протянул ей свиток, глядя в молчании, как она пробегает его глазами. Она отложила папирус и села на край ложа, плотнее кутаясь в покрывало обеими руками.
– Ненавижу эти покои, – проговорила она через некоторое время. – Я ненавижу их с того момента, как вошла в эти двери. Они темные и старые, и здесь все пропахло грехами прошлого. Тутанхамон думает, что они мне нравятся и я довольна, потому что императрица Тейе жила здесь, но я думаю только о том, что моя матушка спала на этом ложе и входила в эти двери. – Ее голос дрожал. – Я плохо сплю.
– Тогда, ради Сета, скажи ему! Он обожает тебя, царица. Он пристроит для тебя новое крыло!
– Новые покои – это не то, что мне нужно, – горько сказала она. – Я пришла в постель к своему отцу, когда мне было одиннадцать лет. Я была невинна, Эйе, я не понимала ничего. Даже рождение дочки не сняло пелену с моих глаз.
То, что мой отец сделал со мной, с моими сестрами, не противоречило законам Маат, предписанным для фараона, однако здесь, в Малкатте, я вдруг ясно поняла, что его толкала на это не только династическая необходимость. Осознав всю эту гнусность, я теперь чувствую себя измученной старухой, чьи светлые воспоминания в одночасье обернулись обыкновенной ложью. – Ее глаза наполнились слезами. – Почему Тутмос не прислал нам известие раньше, когда было еще не поздно поехать туда, скорбеть, стоять рядом с ней! Я не понимаю!
Эйе не сделал попытки утешить ее, зная, что она из гордости не примет его утешений.
– А я понимаю его, – ответил он. – Она была его, не наша. Он хотел, чтобы она принадлежала только ему до самого конца. Ему невыносимо было думать о том, что северный дворец вдруг наполнится шумными придворными, что скорбная тишина будет нарушена, и я думаю, он был прав. Я попрошу фараона построить для нее здесь погребальный храм.
Она вскинула подбородок.
– Это не то. Малкатта – унылое место, и теперь, когда я знаю, что она ушла, здесь сделалось еще тоскливее.
Он обнял ее хрупкие плечи.
– Анхесенамон, тебе только семнадцать лет, а ты уже царица, прекрасная и любимая. Будущее так много сулит нам всем! Не оглядывайся назад.
Она отвернулась.
– Я ничего не могу поделать, – холодно сказала она. – Прошлое не отпускает меня.
29
Когда Тутанхамон достиг совершеннолетия, Эйе оставил свой пост регента, но взаимоотношения с молодым царем, которые он выковал в бытность Тутанхамона ребенком, оставались такими же прочными. Фараон советовался с Эйе по всем вопросам и всегда принимал его советы – так что он фактически продолжал удерживать высшую власть в Египте. Царедворцы изумлялись его долголетию, усматривая в этом знак милости богов, которым он возвратил их былое могущество. Однако в то же самое время в них закипало возмущение, потому что единственный путь к фараону лежал через его дядюшку, а Эйе отказывался передать другим какие-либо полномочия. Хотя различные управители были восстановлены в правах, им было отказано в самостоятельности; посему цветок Малкатты, так сказать, уже распустился, но еще не зацвел.
Анхесенамон зачала снова и родила еще одну мертвую девочку. Она храбро сносила свое унижение, чему способствовало еще и то, что ни одна из младших жен или наложниц Тутанхамона не могла зачать вообще. Теперь разговоры придворных часто сводились к заботам о преемнике. Египет нуждался в наследнике как обещании того, что Маат сохранится и ее только-только восстановившееся хрупкое равновесие со временем все более упрочится. Не было никаких признаков того, что в гареме могут появиться царственные наследники или народится новое поколение Горов-птенцов, на которых мог бы остановиться взгляд встревоженных управителей. Вместо этого все взоры неосознанно обращались к Хоремхебу, который, как это положено царскому представителю, следовал на шаг позади царя. Сам тот факт, что это место по традиции должен был занимать наследник трона, напоминал всем и каждому о том, что будущего у династии нет.
Хоремхеб отлично понимал, что означают испытующие взгляды, которые люди бросали ему вслед. Он также осознавал, что Эйе боится его по причинам, которые, как говорил себе Хоремхеб, пока были безосновательны. Тутанхамон хорошо служил Египту, хотя и не тем способом, который избрал бы сам Хоремхеб, и он был готов признать, что Эйе правильно понимал нужды страны и принимал правильные решения. Он был доволен своей должностью царского представителя – даже когда стало очевидным, что это Эйе убедил фараона назначить его, для того чтобы не выпускать военачальника из поля зрения, – полагая, что здесь он имеет такой же доступ к фараону, как и регент. Он был доволен, потому что надеялся, что со временем Тутанхамон обратит свое внимание на военные дела, как предрекала Мутноджимет.
Но время шло, Египет набирал силу, а фараон по-прежнему не желал слышать от своего посланника иных слов, кроме тех, которыми тот выражал почтение, и тех, что предписаны протоколом. Хоремхеб несколько раз пытался дать Тутанхамону оценку происходящего в армии, но тот отклонял попытки заговорить о мобилизации. С растущим раздражением Хоремхеб начал понимать, что в действительности это Эйе, а не фараон последовательно пресекает любые шаги для восстановления могущества империи. Эйе все больше обращал свой взор в прошлое, в то далекое время, когда Египет был вполне самодостаточен, когда он торговал с другими народами, но не мечтал ни о каких завоеваниях и жил гордо и обособленно от остального мира. Регент так уверовал в правоту собственной политической линии и нецелесообразности завоевания любых территорий на много лет вперед – возможно, навсегда, – что продолжал с еще большим рвением склонять на свою сторону молодого и уступчивого племянника.
Хоремхеб находил некоторое утешение в мысли, что, совершив убийство Сменхары, он, по крайней мере, добился одной цели – восстановления Амона и возвращения правительства в Фивы. Но его надежда на то, что, может быть, будущее поколение царевичей обратит внимание на другое его заветное желание, исчезла, когда царица разрешилась от бремени второй мертворожденной дочерью. Если в ближайшие годы у Тутанхамона не будет наследника, он должен будет указать на какого-нибудь знатного юношу из числа управителей, которых назначал Эйе, и, несомненно, это будет человек, разделяющий миролюбивые устремления, которые фараон перенял у дядюшки, и Египет навсегда останется в незавидном положении. Эта мысль была невыносима, однако до тех пор, пока еще сохранялась надежда, что фараон когда-нибудь примет его совет, Хоремхеб не допускал и мысли об ином разрешении проблемы.
И вот однажды знойным вечером месяца мезори, когда фараон прогуливался у озера, Хоремхеб направился к нему и остановился в ожидании. Рядом с царем шел Нахт-Мин с опахалом из пушистых страусовых перьев на плече, а Эйе шагал в тени его балдахина. Следом шли, тихо переговариваясь, наиболее приближенные – царедворцы.
– Сверните балдахин, – повелел Тутанхамон слугам. – Ра приближается к горизонту. Через минуту я отправляюсь купаться. – Он обратил безразличный взгляд к посланнику. – Сейчас не время обсуждать государственные дела, Хоремхеб. Еще слишком жарко, чтобы думать.
Хоремхеб уже совершил ритуальный поклон и теперь твердо смотрел в лицо фараону.
– Тогда не почтит ли меня Могучий Бык своим вниманием завтра?
Тутанхамон вздохнул и опустился в подставленное ему кресло, взмахом руки позволив своему окружению располагаться на траве.
– Нет. Завтра мы с Нахт-Мином собираемся на охоту, а после нужно обсудить приготовления к празднованию Нового года. Изложи свои проблемы моему дядюшке.
Хоремхеб уселся на землю, скрестив ноги, и взглянул на Эйе. Солнце располагалось как раз за спиной регента, и на его лице было трудно что-либо прочесть.
– Я уже сделал это, о бессмертный, – ответил он сдержанно, – но мы никак не можем договориться с регентом. Я – твой посланник и военачальник твоей верноподданной армии. Моя просьба совсем ничтожна.
– Но настойчива, я полагаю. Хорошо, излагай скорее.
Внимательно, но почтительно Хоремхеб разглядывал красивое лицо. В девятнадцать лет у Тутанхамона были чувственные губы и красивой формы нос – черты, которые он унаследовал от своей матери, как и ее жесткую манеру говорить, но от отца ему достались большие миндалевидные глаза, которые редко обнаруживали глубину мысли. Он был бы хорошим царедворцем – у него была приятная наружность, легкий нрав, природный дар ладить со всеми и опыт ведения непринужденной беседы. Хоремхеб считал его совсем незрелым и винил Эйе в том, что он освободил юношу от всякой ответственности.
– Божественный, я желаю испросить твоего позволения взять половину войска на север и захватить Газу. Как известно, Египет снова готов начать выгодную торговлю, а без Газы мы не можем этого сделать. Мы должны вернуть ее.
– Великий царь, – вмешался Эйе, – Хоремхеб прекрасно знает, что хетты могут истолковать нападение на Газу как начало наступательных действий со стороны Египта. Мы еще не готовы к этому.
– Я обращаюсь к Гору, не к тебе! – в запале сказал Хоремхеб. – Не вмешивайся, Эйе! Ты думаешь и говоришь как слюнявый старый дурак.
Как только слова слетели у него с языка, он пожалел об этом. Я становлюсь несдержанным, – сердито ругал он себя. – Может, это и впрямь высокомерие, в котором меня обвиняет Мутноджимет? Он видел снисходительную улыбку, озарившую оплывшее лицо Эйе. Во внезапно наступившей тишине Тутанхамон быстро огляделся. Собравшиеся слушали с жадным любопытством, надеясь стать свидетелями скандала.
– Ты недостаточно почтителен ко мне, если позволяешь себе швыряться оскорблениями в моем священном присутствии, – сухо сказал фараон. – Я согласен со своим дядюшкой.
Слишком рано помышлять о каких-либо военных операциях. Такие действия могут снова пробудить страхи людей. Они сейчас только начинают верить в то, что в стране снова наступает благоденствие, которое несем им мы. Война отнимет у них эту веру.
– Я не говорю о войне, – хрипло возразил Хоремхеб. – Захват Газы стал бы быстрым, маленьким набегом. Этим бы все и ограничилось.
– Так уж и ограничилось бы? – Тутанхамон проницательно посмотрел ему в глаза. – Я знаю, чего тебе хочется. И я не готов позволить тебе реализовать это желание.
Хоремхеб в бешенстве понимал, что бог снова повторяет слова Эйе.
– Если Могучий Бык не желает внять моему совету, тогда, по крайней мере, посоветуйся с другими своими управителями. У них тоже есть право голоса.
Скрытая критика в его словах задела Тутанхамона. Он наклонился вперед и хлестнул Хоремхеба по щеке своей метелкой.
– Если ты не желаешь быть уволенным со своего поста, военачальник, тебе сейчас лучше убраться с моих глаз, – отрывисто проговорил он. – Ты никогда мне не нравился. Убирайся.
Тишина едва ли не гудела от молчаливого ликования зрителей. Побелевший от унижения, Хоремхеб встал, сухо поклонился и, вскинув голову, зашагал прочь, чувствуя, как взгляды прожигают ему спину.
Остаток дня Хоремхеб провел в пустыне за дворцом, нахлестывая лошадей, волокущих по барханам его колесницу, но, когда он к наступлению сумерек вернулся домой, его гнев так и не прошел. Он отказался от еды. Небрежный шлепок метелки фараона продолжал жечь лицо, как будто по нему полоснули хлыстом. Хоремхеб мерил шагами опочивальню, поглаживая пальцами невидимый след на щеке.
– У меня от них уже колики в животе, Мутноджимет, – говорил он. – Мое терпение иссякло. Эхнатон, царевич, которого я удостоил своей дружбы, кем он оказался? Преступником. Сменхара – испорченным развращенным слюнтяем. Тутанхамон – игрушкой в чужих руках. Он ударил меня. Меня! Я не заслуживаю такой награды за свою преданность.
– Ты говоришь о богах, – предупредила Мутноджимет.
Она растянулась на животе поперек кровати, нагая, повернув лицо к ветроловушке.
– Боги, – презрительно фыркнул Хоремхеб. – После Аменхотепа в Египте не было богов. Этот щенок ударил меня!
– Я уже поняла это. – Она лениво перевернулась на спину. – Но я думаю, он ударил тебя по самолюбию, а не по лицу. Какое это имеет значение? Я не понимаю твоего гнева, Хоремхеб. Лучше иди и докажи, как ты меня любишь.
– Ты такая же, как все женщины. Вы можете думать только своим причинным местом, – резко ответил он. – Где твое сочувствие?
Мутноджимет со вздохом села, подтягивая под спину подушки.
– Я боюсь за тебя, – сказала она. – Тебя больше ничто не радует. Ты слишком много пьешь, ты бьешь слуг, ты кричишь на всех. Зачем? Ведь жизнь так хороша.
– Жизнь хороша? Нет, Мутноджимет, она не хороша. У меня связаны руки. Я – пленник. Ты слышишь меня?
Он уставился на нее, потом вдруг запустил свою чашу через всю комнату. Ударившись о хрупкую алебастровую лампу, она вдребезги разбилась о стену. Осколки разлетелись по полу, масло брызнуло на постель. Мутноджимет даже не вздрогнула, она лишь продолжала невозмутимо рассматривать его. Он шумно задышал, ссутулив плечи, потом подошел к ложу, улегся поперек него и сгреб ее под себя.
– Ты ошибаешься, – горячо зашептал он ей в самые губы. – Вот это еще радует меня.
С минуту она терпела поцелуй, потом холодно оттолкнула его и соскользнула с ложа.
– Это уже не радость, – сказала она, – и я не испытываю желания этой ночью играть с тобой в жестокие игры, Хоремхеб. Я иду спать на крышу. Если хочешь помучить кого-нибудь, вызови наложницу. – Одним плавным движением подобрав свою ночную сорочку, она вышла, покачивая бедрами.
После ухода Мутноджимет Хоремхеб долго лежал с открытыми глазами, раскинув руки и зарывшись лицом в простыни, которые пропахли ее духами и насыщенным ароматом пролитого масла. Он боялся думать. Время от времени его обдувало волнами горячего воздуха из открытой пасти ветроловушки, отчего его снова бросало в пот. Она, наверное, сидит там наверху, среди подушек, дремлет, упиваясь каждым нежным прикосновением этого же ветерка к своей гладкой коже, ее полуприкрытые глаза лениво отражают свет звезд, ее чувства обнажены навстречу каждому движению ночи. Может быть, она слушает музыку. Может быть, уже послала за своими ночными подружками, чтобы скоротать летнюю ночь в играх или болтовне, или за дружком, чтобы в его объятиях еще острее ощутить необыкновенно сладостный вкус горячей темноты. Он позволил себе вообразить ее с мужчиной там, наверху, слышать их приглушенный смех и шепот, видеть два темных силуэта, но наконец его разум справился с этой безумной фантазией, и ему сразу сделалось холодно от проблемы, которую, он знал, следует обдумать.
Он устало приподнялся и сел на постели. Неуважение, проявленное сегодня Тутанхамоном, было не просто гневом бога на своего подданного, который слишком много себе позволяет, – думал он. – Нет. Это право фараона – принимать или прогонять людей. Этот шлепок метелкой был знаком его полнейшего неуважения к моему положению и моему мнению. Я не могу больше надеяться, что фараон когда-нибудь обратит свое внимание на меня, чтобы, наконец, позволить мне вернуть Египту его честь. Теперь я знаю, что если стерплю все это, то отправлюсь в свою гробницу в Мемфисе, не сделав ничего ни для себя самого, ни для страны, которую люблю. Фараон никогда не начнет войну. Если бы он имел возможность прислушиваться к моим словам, я бы сумел постепенно завоевать его доверие и заручиться его поддержкой. Но этого юношу уже настроили против меня. Напряжение, вызванное этими мыслями, требовало выхода. Он встал, подошел к окну, оперся руками о подоконник и высунулся, глядя на бледное расплывчатое пятно клумбы внизу.
Я не жестокий человек. Не важно, что об этом думает Мутноджимет, но неизбежные жестокости войны не имеют ничего общего с извращенным желанием выворачивать суставы и ломать кости, желанием, которого во мне нет и которое ни один военачальник не может себе позволить. Тогда чего же я хочу? Я предал императрицу ради золота, а также потому, что верил, что смогу усилить свое влияние на ее сына. Я убил Сменхару, чтобы спасти Египет от еще одной напасти. Но его убийство не приблизило меня к цели – влиянию на трон Гора. А что еще могло бы помочь? В моих жилах нет царственной крови, которая могла бы обеспечить мне уважение и внимание фараона. О, но в Мутноджимет… Так вот чего, оказывается, я хочу на самом деле! Двойную корону? Возможность делать с Египтом все, что пожелаю? – Он застонал, потирая лицо горячими ладонями. – Я не хочу снова убивать, хотя Амон, конечно, должен с презрением смотреть на жалкие остатки своего божественного семейства. Я более достоин быть его сыном, нежели Тутанхамон, сама кровь которого превратилась в грязь по вине его грешных родителей.
О, как ты умеешь сочинять оправдания, – насмешливо сказал он сам себе, грустно улыбаясь в темноту. – Что за благочестивую бессмыслицу ты можешь изобрести! Ты хочешь быть фараоном просто потому, что хочешь этого, других причин нет. Предположим, ты убьешь Тутанхамона. Это будет сделать легче, чем в прошлый раз. Боги не покарали тебя за то, что ты совершил. А если я действительно убью его, станет ли Эйе претендовать на трон? Это вполне вероятно, а я не могу убить их обоих. Царедворцы смирились бы с одной смертью, но не станут закрывать глаза на две. Я не могу продолжать в том же духе – ждать, ждать, гадать, что же случится с Египтом, когда я умру и фараон умрет. Гадать? Но я знаю. И это гложет меня. Я знаю. Наступят хаос, нищета и кровопролитие. Пусть Тутанхамон отпразднует годовщину явления в следующем месяце Нового года. К тому времени я продумаю какой-нибудь план, но на этот раз буду полагаться только на себя.
Приведя мысли в порядок, он вдруг проголодался и, вызвав слугу, приказал принести поесть и еще вина. Дожидаясь, когда принесут еду, он подумал о Мутноджимет. Имеет ли смысл довериться ей? В этот нет необходимости. Она и так поймет.
В церемонии традиционного представления даров на праздновании Нового года на этот раз участвовала не только миссия из Нубии, но также и посланники из Алашии и Вавилона – первые иноземцы, приехавшие добиваться возобновления торговых соглашений, прерванных на двенадцатом году правления Эхнатона. Эйе, который месяцем раньше попробовал наладить отношения, направив послания к правителям этих стран, был вне себя от радости. Впервые с тех пор, как Тутанхамон унаследовал от предшественников разоренную страну, казна была открыта, и золото тратилось в огромном количестве.
Через шесть недель, в середине фаофи, фараон был настроен так весело и беззаботно, что принял приглашение своего посланника на четырехдневную львиную охоту. Хоремхеб с должным смирением положил традиционный ежегодный дар поклонения к ногам владыки. Его искусственный венок был сделан из электрума, цветы на нем – из ляпис-лазури. Он преподнес фараону новый лук, украшенный узором из цветов и окаймленный золотом, и метательную палицу из слоновой кости, инкрустированную серебряными листьями папируса. Он был осторожен, не проявляя слишком большого подобострастия в своем поклонении. Он сам организовал охоту разослал приглашения всем управителям, приготовил десятки парчовых палаток, выбрал колесницы и лошадей из конюшен своих ударных подразделений, пригнал множество рабов, которые готовили корзины с провизией и подавали вино, доставленное из Дельты. Он также нанял музыкантов и подобрал танцовщиц. Единственная неудача постигла его с Мутноджимет, которая отказалась ехать.
– Я ненавижу жить в палатках, – сказала она. – Все заканчивается тем, что ешь пищу пополам с песком и просыпаешься по утрам с болью во всем теле от этих походных кроватей. Если бы ты пригласил фараона на речную прогулку – другое дело. Отправлюсь навестить матушку в Ахмин, пока двор будет потеть в палатках, пить вино с песком и притворяться, что им это нравится.
– А что скажет царица? Она будет твоей гостьей.
– Нет, муж мой, – беззаботно ответила она. – Анхесенамон будет твоей гостьей. Она хорошо меня знает. Она поймет, почему меня там не будет, и, несомненно, пожалеет о том, что не поехала со мной.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты слишком крепко сжал мне руку, – отозвалась она, и он отпустил ее запястье, бормоча извинения. – Я имею в виду только то, что сказала. Анхесенамон тоже любит удобство. – Она странно посмотрела на него. – Поосторожней там на охоте, Хоремхеб. Несмотря на твой скверный характер, я все же люблю тебя.
Она быстро ушла, будто знала, что он хотел воздержаться от ответа. То, что она сказала, было совершенной правдой. Все знали об ее отвращении и к охоте, и к походной жизни, и никто бы не счел странным ее отсутствие на охоте. Тем не менее, Хоремхеб был раздосадован. Позже ее отъезд к матери могли истолковать превратно.
В день отправления блестящее общество медленно выдвинулось в пустыню за западные скалы, поднимая рыжие облака пыли. Хоремхеб ехал в своей колеснице рядом с колесницей фараона, на почетном месте, внешне любезный и улыбающийся, внутренне напряженный от предвкушения и страха Он не смог разработать детальный план и знал, что придется ухватиться за любую представившуюся возможность. Тутанхамон был в бодром расположении духа, он весело разговаривал и смеялся, с прирожденной ловкостью управляя своей колесницей, а Нахт-Мин держал над ним маленький балдахин. Эйе следовал за ними в носилках, и на этот раз на него не обращали внимания. Дальше беспорядочной вереницей продвигались в своих носилках придворные. В хвосте процессии телохранители сопровождали пустые колесницы и сундуки с оружием для тех, кто позже пожелает испытать свое умение. После целого дня неутомительного путешествия толпа добралась до палаток, уже натянутых над разровненным и приглаженным песком. Жертвенники были расставлены, в походных кухнях готовилась еда, и скучающие рабы томились в ожидании, сидя на корточках и играя в кости.
После того как вечером были вознесены молитвы за удачную и безопасную охоту, собравшиеся приступили к пиршеству и развлечениям. Над пустыней неслись звуки барабанного боя и завывания флейт. Танцовщицы кружились вокруг мерцающих костров, а гости бродили от палатки к палатке с чашами в руках. Фараон пригласил Хоремхеба в свою палатку. Эйе с ним не было. Молодой царь и угрюмый военачальник несколько часов проговорили о прошлом и настоящем, о надеждах Тутанхамона на будущее. Хоремхеб поймал себя на мысли, что ему почти нравится этот поверхностный и импульсивный юноша, но в то же время он не испытывал раскаяния за то, что должен совершить. Для этого было слишком поздно.
Прошло два дня охоты, а он все ждал. Он заранее ослабил шпильки, которыми крепилось к оси одно из колес колесницы Тутанхамона, зная, что так оно будет держаться на оси на медленном ходу, и был уверен, что фараон не заметит легкого дрожания ослабленного колеса при движении по зыбкому песку. Оно могло отвалиться только при очень быстрой езде.
Хоремхеб приготовился к тому, что удобного случая может не представиться и охота так и закончится без происшествий. Охотники просто катались по песку вдоль скал, не выследив никого в первый день, а на второй упустив льва, который показался высоко в скалах и тут же исчез.
Но наутро третьего дня золотогривый зверь выскочил из-за камней у подножия скал и помчался через песчаную равнину. Тутанхамон, как он часто делал, решил, что будет сам править своей колесницей. С гиканьем он хлестнул коней кнутом. Колесница рванулась вперед. В горле у Хоремхеба внезапно пересохло, он расставил ноги, чуть наклонился вперед и понесся в своей колеснице вслед за фараоном. Остальные охотники – шестеро или семеро придворных – последовали за ними чуть медленнее, потому что первая добыча по традиции предназначалась фараону.
– Ломайся, ломайся же, – бормотал Хоремхеб сквозь стиснутые зубы, щурясь от горячего ветра и чувствуя, как юбка бьет по ногам.
Направив своих лошадей немного правее, чтобы в глаза не летел песок из-под копыт лошадей Тутанхамона, он продолжал нестись за фараоном.
Потом его сердце подскочило. Одно сверкающее колесо царской колесницы зашаталось, отвалилось от колесницы и покатилось по песку в сторону. Он услышал восклицание царя, скорее удивленное, чем испуганное. Ось одним концом уткнулась в песок. Тутанхамон отпустил поводья. Пронзительный испуганный вопль раздался сзади, когда его тело взлетело вверх, покатилось кувырком, ударилось об испуганных лошадей, которые уже остановились, и рухнуло на песок. Хоремхеб оглянулся. Они с фараоном далеко оторвались от основной группы охотников. Резко натянув поводья, он спрыгнул на землю и подбежал к фараону, упал на колени, чувствуя, как его на мгновение бросило в пот от страха. К его изумлению, Тутанхамон открыл глаза. Он лежал на боку, его шафранного цвета юбка разорвалась, шлем наполовину сполз с головы, он часто и неглубоко дышал. Он был просто оглушен ударом. В этот момент у Хоремхеба был выбор: он мог бы подождать следующей представившейся возможности расправиться с фараоном или принять чудесное избавление его от смерти за знак того, что бог защитил его. Но тут ему на глаза попались два предмета. Земля вокруг была усыпана небольшими камнями, а на расстоянии вытянутой руки валялась, злобно сверкая на солнце, одна из шпилек, которыми колесо крепилось к оси. Он не колебался. Люди уже неслись к нему, размахивая руками и что-то крича. Схватив шпильку и камень, он перевернул Тутанхамона на живот. Пальцем он нащупал впадину у основания черепа, открывшуюся под сдвинутым шлемом. Голова лежала неудобно. Он слегка подвинул ее, приставил острие золотой шпильки к углублению и ударил по другому концу камнем. Шпилька сначала упиралась, но потом проскользнула внутрь. Фараон издал тихий стон, похожий на мяуканье котенка. Ругнувшись, Хоремхеб торопливо выдернул шпильку. Из раны медленно выступила кровь, впиталась в песок, потом хлынула снова. Он вымазал камень кровью, натянул шлем на место и перевернул тело на спину. У него не было времени убедиться, мертв ли Тутанхамон. Бросив камень и затолкав шпильку в песок поглубже, он обернулся. Люди уже спрыгивали со своих колесниц и бежали к нему. Бегом приближались носильщики Эйе. Сам Эйе сидел, выпрямившись, подгоняя их хлыстом.
– Здесь есть врачеватель? – закричал Хоремхеб, удивленный твердостью своего голоса. – Нужно унести фараона в тень. Думаю, он серьезно ранен.
Хрипло дыша, Эйе спрыгнул на землю, протиснулся сквозь толпу придворных и замер, несколько мгновений слышалось только его неровное дыхание. Увидев след свежей крови на шее и на плече Тутанхамона, он поддел носком испачканный кровью камень, опустился на колени и приложил ухо к груди фараона.
– Он не ранен, он мертв! – прошептал он. – Это случилось слишком быстро. Я не верю в это. Эй вы! – Он указал трясущимся пальцем на носильщиков, поднявшись на ноги. – Положите его в мои носилки. Как с царевичем Тутмосом, много лет назад, – сказал он Хоремхебу слабым голосом. – Так быстро…
Хоремхеб шагнул к нему. Сам он тоже был бледен и пошатывался.
– Мы должны успеть к царице раньше этой толпы, – выдавил он. Последние слова утонули в потоке причитаний, когда занавеси носилок опустились и тело подняли. – Постарайся держать себя в руках, Эйе.
Эйе кивнул. Вместе они добрели, спотыкаясь, до колесницы Хоремхеба и взобрались на нее. Стражники отвязывали лошадей от сломанной колесницы Тутанхамона и осматривали ось, которая согнулась от удара о землю. Хоремхеб взялся за поводья, и тут на него обрушилась волна облегчения. Он сделал это. Фараон мертв.
Новость вскоре настигла Анхесенамон, и, когда мужчины остановились у ее палатки, она выбежала оттуда, уклоняясь от рук Эйе, ее глаза были полны ужаса. Бросившись к носилкам, она рванула занавеси, потом упала на колени и принялась рвать на себе волосы.
– Все его дети были прокляты! – рыдала она. – И боги не успокоятся, пока я тоже не умру. Я последняя! Тутанхамон, брат мой, любовь моя!
– Нет, царица, это глупое заблуждение, – сказал Эйе успокаивающим тоном, склонившись над ней.
Но она отказывалась от утешения. Еще долго после того, как носилки исчезли вдалеке, направляясь к Обители мертвых, и молчаливые слуги свернули палатки, она стояла на коленях в песке и голосила, набирая горстями песок и посыпая им голову. Мурашки пробегали по телу у тех, кто видел это. Было что-то первобытно-трагическое и безысходное в облике молодой царицы, ее искаженных тонких чертах, ее длинных черных волосах, засыпанных песком и развевающихся на горячем полуденном ветру. Она стояла на коленях и раскачивалась, а за ней дрожали в мареве бурые скалы, и над головой простиралось безжалостное и глубокое синее небо, бесконечно огромное. Ее крики, казалось, заключали в себе все слезы, пролитые членами ее обреченной семьи, однако боги повернулись спиной к этим исступленным мольбам.
Когда начался семидесятидневный траур, потрясение Египта уступило место огромной скорби. Мирные реформы Тутанхамона снискали ему любовь всех жителей Египта, при его правлении они начали ощущать себя в большей безопасности. Теперь это чувство было уничтожено, и их печаль смешивалась с тревожными ожиданиями. В Малкатте убитые горем придворные разошлись по своим покоям. Только Эйе, с тревогой, причину которой он не мог четко определить, расспрашивал врачевателя, который благоговейно осматривал тело.
– Его со страшной силой швырнуло на острый камень, – отвечал тот на расспросы Эйе. – Об этом говорит глубокая дыра у основания черепа. Как ужасно, что удар пришелся именно в это место, хотя я не могу взять в толк, почему Гор умер так быстро. Немедленную смерть обычно вызывает удар в висок.
Поскольку фараон был уже мертв, когда его принесли во дворец, было очевидно, что врачеватель не осмотрел тело с такой тщательностью, как он сделал бы это, если бы Тутанхамон выжил после ранения, и его ответ не удовлетворил Эйе. Он продолжал возвращать в памяти картину, как Хоремхеб склоняется над фараоном, заслоняя собой его тело, но говорил себе, что его подозрение невероятно. Эйе видел этот момент даже во сне, терзался им в своих мыслях на протяжении всех дней траура, и чем дольше он обдумывал этот вопрос, тем чаще возникало одно любопытное предположение: если бы Тутанхамон не шлепнул военачальника метелкой в тот день, он бы не погиб.
Но внимания Эйе требовали более неотложные вопросы. Тутанхамон, с самонадеянностью молодости, не подумал о наследнике. Эйе и Мэйя проводили долгие, беспокойные часы, совещаясь друг с другом и с визирями Юга и Севера.
– Не имеет значения, кого мы выберем, – говорил он. – Мы все знаем, что над всеми нами маячит фигура Хоремхеба. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы корона досталась ему. Амон не хочет, чтобы его новое богатство тратилось на войну, как не хочет этого и народ. Под началом Хоремхеба армия, и я боюсь, что он воспользуется ею, чтобы занять трон, если мы не примем решения. Но что если он поступит так же, если у нас будет новый фараон? Это вопрос.
Ни один фараон не пожелает править с помощью силы, без поддержки Карнака, – думал Эйе. – Не теперь, когда ужасные воспоминания о том, как Амон отвернулся от нас, еще столь свежи. Любое божественное воплощение, не получившее благословления Мэйи, будет пребывать под страхом проклятия, обвинительного перста оракула, мятежа, поддержанного жрецами. Этого не захочет даже Хоремхеб. Эйе откашлялся.
– Предлагаю возложить корону на мою голову, – проговорил он. – Вы все знаете, что под моей рукой Египет процветал. Амону нечего опасаться меня. Я старый человек, и мне недолго осталось, и в мою пользу говорит то, что я всегда был предан правителям Египта с тех пор, как моя сестра сделалась супругой великого Аменхотепа. – Он намеренно решил напомнить им о своем близком родстве с фараоном. Он внимательно наблюдал за ними, пока они обдумывали его предложение. Он знал, о чем они думают. Он гордо вскинул голову. – По крайней мере, это даст вам время подыскать подходящего наследника, – сказал он. – Ты сам немолод, Мэйя. Ты хорошо помнишь императрицу. Жить и тебе и мне осталось недолго. Ветер, который принес столько горя Египту, почти затих. Мы стоим на пороге нового времени. Мы должны сохранить все, что сможем. Поддержи меня и позволь мне принять вызов.
Мэйя скользнул по нему встревоженным, усталым взглядом и отвел глаза, потом, наконец, он встал на колени и поцеловал ноги Эйе. Но этот жест почитания не наполнил ликованием сердце Эйе. Перед его мысленным взором вставало ясное лицо Тутанхамона, он думал об угрюмой беспомощности Сменхары, о безумных поисках Эхнатоном его истины. Он наследовал корону, которая придавит его незримым грузом разрушенных надежд и упадка.
В этот вечер, после нескольких часов, проведенных над составлением брачного договора в обществе своего писца и двух визирей, Эйе прошел через тихий дворец в покои Анхесенамон. Он не мог объяснить появившегося у него чувства, что теперь, когда решение уже принято, нужно срочно воплотить его в жизнь. Он знал только, что этой ночью его внучка должна стать его женой; печати уже поставлены, и вестники разосланы. Обитатели Малкатты уже знали, что должно произойти, и те, кого он встречал по дороге в темных коридорах, кланялись ему с излишним подобострастием. Исполненный внезапного отвращения, он не стал отвечать на поклоны.
У кедровых дверей Анхесенамон ее управляющий учтиво приветствовал его, предупредив, что царица никого не принимала, и исчез в комнате. Возвратившись, он с поклоном проводил Эйе внутрь. Анхесенамон поднялась с кресла около ложа и чуть склонила голову в ответ на его поклон. Она стояла перед ним, очень прямая, свободно опустив руки вдоль тела, ее белое одеяние изящно спадало на пол. Она была ненакрашена, волосы неубраны, руки и пальцы без украшений. Она плакала, и глаза у нее опухли, но слез уже не было. Она взглянула на свиток в его руках, потом ему в лицо.
– Говори, что у тебя за дело, и уходи, – безжизненным голосом произнесла она. – Ты регент, Эйе. Не мог бы ты избавить меня от государственных дел?
– Боюсь, только не от этого, моя дорогая госпожа, – ответил он, шагнув к ней сквозь дым курящегося в жертвеннике ладана. – Видишь ли, я больше не регент.
В ее глазах не было удивления. Так мягко, как только мог, Эйе рассказал ей о том, какое принято решение и с какой целью. Потом он протянул ей свиток.
– Мне нужна твоя печать на этом брачном договоре, а также твои титулы и подпись. Это будет, конечно, формальное бракосочетание, Анхесенамон, только чтобы я был признан законным правителем. Я слишком стар, чтобы думать о постели с двадцатидвухлетней женщиной.
Она равнодушно взяла свиток, развернула и прочитала.
– Ты знаешь так же, как и я, что в этом случае у меня нет выбора, – сказала она без всякого выражения. – Меня это не очень заботит. Всю жизнь меня, как игрушку, передают из рук в руки. Твои ничем не отличаются от остальных. Мне не следовало ожидать, что боги позволят мне испытать хоть немного счастья с Тутанхамоном.
При упоминании имени мужа голос у нее дрогнул, но она быстро справилась с собой. Подойдя к столу, она взяла перо, обмакнула его в чернила и старательно вписала свое имя и титулы. Разогрев воск и накапав немного на папирус, она взяла кольцо, лежащее рядом с лампой, и прижала его к свитку.
– Вот. – Она бросила его Эйе. – Надеюсь, Египет будет доволен. Тии, наверное, не очень.
– Это не будет иметь большого значения ни для нее, ни для тебя. Обещаю тебе.
– Прошу тебя, уходи, великий царь. – И она повернулась к нему спиной.
Царь, – изумленно подумал он. – Да, теперь я великий царь. От чувства абсурдности происходящего, оттого, что царственным титулом так легко наградили старика, кровь прилила к его лицу. Он поклонился ее сведенным лопаткам и вышел.
Завернув за угол, он почти налетел на Хоремхеба.
– Куда это ты направляешься? – выпалил он от неожиданности.
Хоремхеб поднял брови под черно-белым полосатым шлемом.
– Я собираюсь выразить свои соболезнования царице, разумеется.
Чудовищное подозрение овладело Эйе.
– Она виделась только со мной и больше никого не примет сегодня. Наверняка Мутноджимет больше подойдет для излияния твоей скорби.
– Возможно. – В темных глазах промелькнуло мимолетное изумление. – Так или иначе, дорогой тесть, я вижу, ты достиг цели раньше меня. Я только что услышал новость о том, что ты станешь богом. Мои поздравления.
Теперь в лице Хоремхеба не было ничего, кроме доброжелательности и теплоты, и подозрения Эйе вдруг обернулись уверенностью. Он прислонился к стене, почувствовав дурноту.
– Конечно, конечно, – невнятно бормотал он. – Ты перехитрил меня, военачальник. Ты и в самом деле убил Тутанхамона там, в пустыне.
Хоремхеб быстро огляделся вокруг. Коридор был пуст. Он шагнул ближе к Эйе.
– Ты прав, я убил, и хорошо, что ты об этом знаешь, великий царь. Хорошенько это запомни. И не думай, что сможешь тихо избавиться от меня. Ты ничего не можешь предъявить мне. И нет руки в Египте, которая поднимется на меня сейчас. Подумай. – Его палец потянулся к шраму на квадратном подбородке. Его беспокойные черные глаза разглядывали лицо Эйе почти с сочувствием. – Только я теперь стою между твоим правлением и хаосом, который последует за твоей смертью. Каждый, кто любит эту страну, знает об этом. Я даже в большей безопасности, чем ты.
– И ты не тронешь меня, не так ли? – медленно проговорил Эйе. – Тебе это не нужно. Я умру с миром, в этом ли году, в следующем ли, и ты свободно взойдешь на трон. – Его губы презрительно скривились. – Солдафон!
Хоремхеб натянуто улыбнулся прямо в слезящиеся глаза Эйе.
– Я оправдан перед богами. Все нечестивцы мертвы, и я жду, чтобы вымести из Египта остатки их ненавистного присутствия. Долгой жизни и процветания тебе, великий царь.
Он поклонился, развернулся и медленно зашагал прочь. Он выражал желание двора, утомленного безответственным правлением, смертями и бедствиями, и Эйе знал это. Это была горькая истина, горчайшая из всех, которые он когда-либо осознавал.
Когда Хоремхеб вернулся в свой дом, Мутноджимет спала. Он не стал будить ее. Опустившись в кресло у ложа, он то прислушивался к ее спокойному дыханию, то погружался в дрему. На рассвете дом начал просыпаться. Захлопали двери, загорелись огни в кухнях, послышалось пение жреца на утренней молитве в домашней часовне Хоремхеба. Но Мутноджимет продолжала крепко спать, пока управляющий не постучал в дверь и не вошел с подносом, полным фруктов и хлеба. Хоремхеб сам взял у него поднос, дождался, пока жена неуверенно села в постели, потом поставил поднос ей на колени и вернулся в кресло.
Мутноджимет зевнула, сонно уставившись в пространство перед собой, провела языком по зубам и состроила гримасу. Она глотнула холодной воды, которую ей налили из большого кувшина, всегда стоявшего в коридоре. Хоремхеб ждал. Наконец она кивнула, он встал и поднял занавеси на окнах. В комнату полился стремительный поток чистого утреннего воздуха, наполненный сверкающим светом и птичьими криками. Мутноджимет зажмурилась и отвернулась.
– Я уснула, пока тебя ждала, – сказала она. – Прости.
– Ничего.
Он снова сел в кресло, сложив на груди руки, глядя, как она рассеянным изящным жестом, так хорошо ему знакомым, отщипывает ягоды. Мутноджимет на глазах оживала, как оживает поникший цветок под брызгами воды. Он знал, что недавно напугал ее и вывел из себя, однако с характерным терпением и бесстрашием она отказалась пугаться. Он не знал, почему он еще любил ее. Не только за эту ее разнеживающую, почти животную чувственность, которая сквозила в каждом ее движении. Возможно, за ее погруженность в себя, безразличие ко всему на свете, кроме собственных желаний, что создавало вокруг нее ореол независимости, который и мужчины, и женщины ошибочно принимали за надменность.
– Мутноджимет, ты теперь совсем проснулась? – спросил он. – Сможешь воспринять то, что я скажу?
– Надо же, так серьезно в такую рань? – Она отпихнула поднос и откинулась, наградив его кривой улыбкой. – Я предпочитаю обсуждать дела по вечерам.
– Это не дела. Я хочу, чтобы ты сообщила слугам, что нужно паковать вещи. После похорон Тутанхамона мы уезжаем в наше поместье в Мемфис.
– Почему?
– По двум причинам. Эйе будет фараоном, и я хочу исчезнуть из его поля зрения. Прошлой ночью он назвал меня солдафоном. Да я и есть солдафон, невзирая на мое богатство и титулы, и я буду вести себя соответственно. Я буду объезжать границу, обучать солдат в северных частях, а в свободное время присматривать за своими полями и стадами и развлекать местных царьков. В конце концов, Дельта – это земля, где жили мои предки.
– Все это звучит ужасно скучно. – Она испытующе посмотрела на него. – Ты боишься отца?
– Нет. Если он государственный человек, каковым я его и считаю, он понимает, что не следует идти на ненужный риск. Он не тронет меня.
– Значит, ты решил активно добиваться поддержки офицеров, которые редко видят тебя. Ты замышляешь развязать гражданскую войну, Хоремхеб?
Он рассмеялся, удивленный.
– И опять мимо. Это правда – я хочу, чтобы армия знала не только как зовут военачальника, и вместе с тем пришло время ненадолго оставить свой пост при дворе. Мутноджимет, ты бы хотела стать царицей?
Она изумленно уставилась на него, потом разразилась хриплым смехом.
– Нет, благодарю тебя, дражайший братец! Корона царицы будет криво сидеть на моем детском локоне, и, кроме того, цариц за неверность наказывают слишком сурово. Хотя сомневаюсь, что в провинции найдутся занимательные любовники. Ты собираешься объявить наши поместья независимым царством?
Он невольно улыбнулся ее веселью.
– Мне не следовало говорить – царицей, – исправился он. – Я имел в виду – императрицей. Я говорю очень серьезно, Мутноджимет.
Ее смех затих.
– Я поняла, почему ты убил беднягу Сменхару, – спокойно сказала она, – хотя последствия этого были ужасны. Я знаю, что на твоих руках и кровь Тутанхамона тоже, хотя я никогда не спрошу тебя прямо, был ли ты виновен в его смерти. Ты дважды богоубийца, Хоремхеб. Если ты убьешь снова, я вынуждена буду оставить тебя, забрать все свое имущество и уехать в Ахмин или Джаруху. Эйе – мой отец. Я не смогу закрыть глаза на его убийство.
– Я всегда был жестоким человеком, – ответил он, – но я не был безрассудно жестоким. Клянусь Амоном, я не причиню вреда твоему отцу. В этом нет необходимости.
– Да, я надеюсь, что нет. Но если бы она была, ты бы не колебался, правда?
Он осторожно покачал головой.
– Если бы мне пришлось выбирать, не знаю, как бы я поступил. Но думаю, что важнее всего для меня было бы удержать тебя.
– Мне хорошо знаком этот твой обманчиво невинный взгляд, – резко сказала она. – Как бы то ни было, ты избавлен от этого выбора, потому что отец очень стар. Тебе не нужно больше ничего объяснять. Я все поняла.
Он поднялся, быстро поцеловал ее в лоб и подошел к двери. Помедлив, он обернулся, его лицо светилось озорством, которого она не видела в нем вот уже столько лет.
– В любом случае, пора тебе уже сбрить свой детский локон, – поддразнил он. – В нем слишком много седины.
– А ты, мой тщеславный военачальник, должен прекратить растрачивать состояние на краску для лица и смириться со своими морщинами! Пожалуйста, прикажи слугам согреть воду, я буду мыться.
Он знал, что может доверять ей, знал это еще до того, как начал задавать свои двусмысленные вопросы, но на сердце у него почему-то вдруг стало легче, и он вышел между забрызганными солнцем колоннами портика в свежесть утра. Они могли бы поехать на север и поселиться в том запущенном, беспорядочно выстроенном доме за Мемфисом, который он принялся строить, когда только принял командный пост. Он мог бы уделить внимание своей незаконченной гробнице в Саккаре, обходить каналы, питающие его поля, прохладными, благоухающими мемфисскими вечерами, спорить со своими офицерами по вопросам тактики, возможно, даже вновь открыть для себя некоторые простые радости жизни, которыми он наслаждался прежде, пока его честолюбивые устремления не стали для него важнее всего. Но всего этого ему было бы мало, он знал это. Ему всегда хотелось большего. Но пока что он бы довольствовался этим.
30
Хранитель царских регалий встал на колени, чтобы принять крюк, цеп и скимитар и благоговейно поцеловать их, прежде чем осторожно положить в золотой сундучок. Согнувшись почти вдвое, слуга поднялся по ступеням трона и, бормоча извинения, промокнул пот с лица бога и аккуратно подправил черную сурьму вокруг его глаз. Огромная зала медленно наполнялась пышно разодетыми придворными, посланниками и управителями, утомленными церемониями, длившимися все утро. У подножия помоста застыли воины отряда личной стражи, настороженно оглядывая зал, и вестники с белыми жезлами в руках терпеливо ждали, когда нужно будет призвать собравшихся пасть ниц. Носитель сандалий стоял на коленях рядом с пустым ящичком. Справа и слева от трона носители опахал держали подрагивающие белые символы неотъемлемого права фараона на защиту, а перед троном великолепный в своей жреческой леопардовой шкуре, ворчливый и постаревший Мэйя воскурял ладан.
В зале слышались обрывки разговоров, накрашенные глаза в ожидании часто устремлялись к помосту. Хоремхеб заставлял всех ждать. Повернувшись, он улыбнулся Мутноджимет, движения которой сковывало одеяние из льняной ткани с золотыми нитями и множеством драгоценностей; рогатый диск короны императрицы тускло поблескивал над ее головой. Ладонью, выкрашенной рыжей хной, он взял ее за подбородок, на руке вспыхнули кольца, и губы ее растянулись в ответной улыбке. Он настоял, чтобы она приняла корону императрицы во время церемонии, не потому, что империя была уже отвоевана, – корона была знаком, обещанием привилегированным собравшимся, что это непременно случится. Он уронил руку и поманил пальцем Нахт-Мина. Носитель опахала склонился к нему.
– Что желает великий царь?
– Сегодня время начинаний, – сказал Хоремхеб. – Старые управители уволены, новые назначены, розданы титулы знати, вручены награды. Это моя божественная воля, чтоб ты был освобожден от поста носителя опахала по правую руку, Нахт-Мин.
Нахт-Мин старался скрыть свое огорчение. Это была самая желанная должность в Египте, за ней неизбежно следовала такая должность, как «глаза и уши» фараона, или же звание личного царского писца. Улыбаясь про себя, Хоремхеб наблюдал за его усилиями совладать с собой.
– Как будет угодно фараону, – с трудом выдавил, наконец, Нахт-Мин.
Хоремхеб рассмеялся.
– У меня есть для тебя другой пост. Разве четыре года службы у фараона Осириса Эйе заставили тебя позабыть, кто ты есть на самом деле?
Лицо Нахт-Мина прояснилось.
– Конечно же, нет, Великий Гор.
– Вот и славно. Я хочу поручить тебе командование армией. В Дельте сосредоточены войска. Пора выдвигать их в южную Сирию. Это – первый указ моего правления. Я собираюсь назначить молодого Рамзеса визирем Юга, но хочу, чтобы он был пока твоим заместителем. Звание визиря поможет ему сохранить бодрость духа. Он хороший солдат.
Он отмахнулся от изъявлений благодарности Нахт-Мина, его взгляд задумчиво проследовал вглубь залы, где собрались члены иноземных посольств. Они съехались сюда, в Мемфис, чтобы прощупать почву нового правления. Хоремхеб заметил хмурое лицо представителя хеттов, присланного их новым правителем, сыном Суппилулиумаса Мурсилисом. Он снова улыбнулся про себя. Мурсилис скоро получит более чем учтивые приветствия от Египта. Он снова обратился к Нахт-Мину:
– Пусть твоим последним поручением на посту носителя опахала будет отдать приказ архитекторам подготовить проект моего триумфального пилона в Фивах. Храм Нефертити в Карнаке следует разрушить, чтобы обеспечить подвоз камня для строительства. Храм Эхнатона в Карнаке тоже будет разрушен до основания, и ты можешь объявить, что любой, кому нужен камень для памятников, может беспрепятственно забрать все, что ему понравится, из мертвого города Ахетатона.
Он сделал знак вестникам, те немедленно подняли свои жезлы и принялись выкрикивать его титулы. Люди распростерлись ниц.
Хоремхеб со спокойным удовлетворением обозревал поклоняющуюся ему толпу. Так я сотру воспоминания о них с лица земли, – думал он, – и боги простят мне все. Завтра мы вернемся в Малкатту, и над Египтом наступит новый рассвет. Я избавлю останки императрицы Тейе от оскверняющего соседства с ее сыном и положу ее в священную гробницу истинного супруга. А Эхнатон? Его я сожгу, я стану очистительным огнем его Атона. Моя воля – закон, потому что, наконец, я сделался богом. Он почувствовал, как рука Мутноджимет коснулась его руки, и вышел из задумчивости. Люди поднялись и терпеливо ждали. Пора было начинать. Хоремхеб ощутил тяжесть двойной короны на своей голове. Он откашлялся.
– Мэйя, выйди вперед! – приказал он. – Слушай мое желание для Дома Амона…
Примечания
1
Скимитар – арабская сабля; упоминание об этом оружии восходит к 1600 г до Р X, времени правления XVIII династии фараонов Древнего Египта.
(обратно)2
Бес – бог веселья и пляски; изображался в виде уродливого карлика с мордой льва.
(обратно)3
Иштар – богиня плодородия и плотской любви у шумеров; у семитов – Астарта.
(обратно)4
Митанни – древнее государство, существовавшее во II в. до н. э. в северной Месопотамии (территория современной северной Сирии).
(обратно)5
Солеб – храмовый комплекс в Нубии («Воссиявший в Истине»).
(обратно)6
Себек – божество с головой крокодила.
(обратно)7
Арзава – государство на территории нынешней Палестины.
(обратно)8
Кардуниаш – «страна халдеев» в области устьев Тигра и Евфрата на северо-западном берегу Персидского залива.
(обратно)9
Алашия – древний город на юго-востоке острова Кипр.
(обратно)10
Основой могущества Митанни была армия, передвигавшаяся на колесницах, укомплектованная воинами – марианне.
(обратно)11
Регалии царской власти.
(обратно)12
Уасет – древнеегипетское название Фив.
(обратно)13
Праздник Опет – праздник Амона. Центром праздника Амона был храм в Опете (Ипет-сут, совр. Карнак).
(обратно)14
После 33 лет правления и далее каждые три года проходил праздник Сед (или Хеб-Сед) – юбилей, знаменующий магическое восстановление сил состарившегося фараона. Во время этого ритуала фараон должен был доказать, что он умный правитель, храбрый воин и сильный мужчина.
(обратно)15
Эриба-Адад – царь Ассирии.
(обратно)16
Кадашман-Энлиль – царь Вавилона из Касситской династии.
(обратно)17
Ладья Амона представляла собой плавучий храм длиной от ста двадцати до ста тридцати локтей, гораздо крупнее большинства нильских судов. Построенная из пихты, она вполне годилась для плавания, несмотря на тяжесть отделки из золота, серебра, меди, бирюзы и лазурита. Корпус украшался наподобие храмовых стен рельефами, на которых фараон совершал ритуальные обряды в честь Амона. На палубе посередине ладьи возвышалась большая кабина, целый дом под балдахином, где хранились переносные ладьи, статуи и священные принадлежности для храмовых церемоний. Перед этой кабиной, как перед настоящим храмом, стояли два обелиска и четыре мачты с лентами. Две гигантские бараньи головы украшали нос и корму.
(обратно)18
Баран и гусь – священные животные бога Амона.
(обратно)19
Вообще хвост привязывали львиный, и имел он отношение к юбилею фараона, а не к празднику Амона. В силу тех же представлений, по которым на этапе развития родового общества племенной вождь считается ответственным за силы природы, полагают, что ослабевший, больной, стареющий вождь не может обеспечить благосостояние племени, так как в таком случае производительность и самого племени, и окружающей его природы также ослабевает. Отсюда происходит широко распространенный обычай убийства царя, имеющий целью замену слабеющего вождя полным сил преемником, могущим магически обеспечить благосостояние племени. Следы обычая ритуального убийства вождя сохранились в Древнем Египте в ряде пережитков, одним из которых является так называемый праздник хвоста. Слово «хеб-сед», собственно, значит «праздник хвоста», вероятно потому, что царю, как бы вновь начинающему царствование, снова привязывали одно из главных отличий власти – львиный хвост.
(обратно)20
Джед – столб, считавшийся символом Осириса. В канун юбилея фараона происходила церемония поднятия столба джед, которая должна была обеспечить фараону долгое и благополучное царствование. Во время церемонии фараон и жрецы сами тянули канаты.
(обратно)21
Каждая столица имела свою патронессу, или богиню-покровительницу: на севере – богиню-змею Буто, а на юге – богиню Нехбет в образе коршуна. Здесь имеется в виду символ объединения Северного и Южного Египта.
(обратно)22
Жрец-сем – бальзамировщик.
(обратно)23
Локоть – старинная линейная мера длины, равная 45 см, т. е. длине локтевой части руки человека.
(обратно)24
Во времена Аменхотепа Четвертого наряду со старым изображением солнечного бога с головой ястреба появляется новое, изображающее само солнце в виде диска с раскинутыми лучами, каждый луч заканчивается рукой, несущей символ жизни.
(обратно)25
Имеются в виду царевичи династии Тао – Камее и Яхмес, изгнавшие гигсосов из Египта и объединившие страну под властью Фив.
(обратно)26
Ляпис-лазурь – минерал синего цвета с вкраплениями пирита Название «лазурит», или «ляпис-лазурь», происходит от латинского «ляпис» – камень и арабского «азул» – небо, синева. В Древнем Египте синий цвет считался священным, и поэтому лазурит почитался как частица божественного. Символы власти и украшения фараонов изготовлялись из золота и ляпис-лазури, чтобы предоставить их носителю защиту солнца и неба.
(обратно)27
Согласно одному из мифов, Ра появился на свет из яйца, которое снес гусь Великий Гоготун.
(обратно)28
Дворец в Малкатте на древнеегипетском языке назывался Техен-Атон «Сияние Атона».
(обратно)29
Храмовый комплекс «Обитель Тейе» в Седеинге, в Нубии.
(обратно)30
Великая царская супруга являлась земным воплощением богини Хатхор.
(обратно)31
По верованиям древних египтян, когда умерший попадает в загробное царство, в зале суда Анубис берет сердце умершего и кладет его на чашу загробных весов истины. Весами владеет Маат. На другой чаше – ее перо, символ истины. Если сердце оказывалось тяжелее или легче пера, покойный солгал, если чаши оставались в равновесии – покойного признавали оправданным.
(обратно)32
По легенде, Бен-бен – первородный холм, земля, возникшая из пучины вод океана.
(обратно)33
Канопа – сосуд в Древнем Египте.
(обратно)34
Обряд «отверзания уст» имел целью оживить для будущей вечной жизни мумию умершего.
(обратно)35
Опечатывание проводилось так: шнур или нить протягивали поперек камня у входа в гробницу и прилепляли с двух сторон к поверхности скалы с помощью специальной глины.
(обратно)36
«Анубис и девять пленников» – изображение на печати Обители мертвых.
(обратно)37
«Исповедь отрицания» – одна из глав «Книги мертвых», своего рода моральный кодекс древнего египтянина, исповедь, которую умерший произносит перед взвешиванием сердца в Чертоге Суда.
(обратно)38
Решеп – сирийский бог войны.
(обратно)39
Хенти – период времени, равный 120 годам.
(обратно)40
Семитское и египетское название Нахарин означает «область рек».
(обратно)41
Дуат – загробный мир.
(обратно)42
Месектет – так называли Ладью вечности, когда ночью по загробному миру на ней перевозили солнечный диск.
(обратно)43
Амурру – государство, возникшее в начале XIV в. до н. э. в горах между Финикией и Сирией.
(обратно)44
Нухаше – город в северной Сирии.
(обратно)45
Здесь имеется в виду разновидность змей.
(обратно)

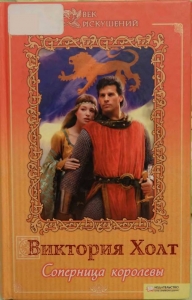


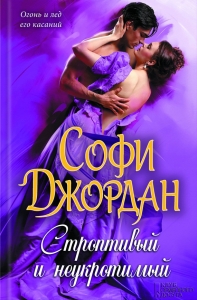
Комментарии к книге «Проклятие любви», Паулина Гейдж
Всего 0 комментариев