Лев Кожевников
Смерть прокурора
Часть 1 СМЕРТЬ ПРОКУРОРА
Глава 1
По пути на разъезд Андрей Ходырев завернул к старику Устинову под окна. Крепко ударил в облупленный ставень.
— Дед? Эй! Не помер еше?
В окно высунулась широченная, сивая борода,-- будто кто подал из избы добрый навильник с сеном.
— А-а... Андрюха,— Устинов широко зевнул, перекрестил рот. — Ходи в избу, что ли?
— Некогда, дед. В другой раз.
Ходырев перевесил с занемевшего плеча рюкзак, Звякнуло железо.
— Чего нагрузил в мешок-то?
— Замки, пять штук,— соврал Андрей, хотя старику Устинову можно было не врать.
Дед помолчал, обдумывая, и не согласился.
— Кабы хужей не было. Озлишь поганцев замками, они тебя вовсе спалят.
— Давно не был в Волковке? — Ходырев посмотрел на часы, не опоздать бы. Но дед жеста не заметил.
— Ваньку Кривого знал ли? Последний двор по Нагорной, пчеловод тоже.
— Кузнецов?
— Помер он, две недели как... Я у евонной старухи будку на тракторных санях купил. Насыпуха. Распродает вдова все Ванькино хозяйство задарма, считай, ну, взял. На хорошавинской дороге пасека. Там стоит.
— Та-ак! с тобой ясно, дед. Наложил в мотню,— Андрей Ходырев со злостью кинул кепку на глаза.
— Э, пустое мелешь, погоди-ка...
Устинов исчез в глубине и через минуту появился назад с плоской, жестяной банкой из-под карамели.
— В бога веришь? Аль нет? — Задал он неожиданный вопрос, пытаясь подковырнуть крышку толстым корявым ногтем. Наконец это ему удалось.— Так веришь? Или как?
«Старообрядец хренов,— ругнулся про себя Ходырев.— Без бога и на горшок не сядет, чтобы задницу не перекрестить». Однако вслух сказал:
— Так себе. От случая к случаю.
— И то дело.
Устинов добыл из коробки оловянный нательный крест на засаленном гайтане и поманил Андрея под окно.
— На-ко. Повесь на шею.
Ходырев знал, что старик с Богом шуток не терпит. Замялся:
— Зачем это?
— Бери. Бери. Завтра спасибо скажешь.
Андрей хмыкнул и повесил крест на шею, лишь бы отвязаться. Снова задал вопрос, ради которого завернул к старику:
— Давно там не был?
— Ден десять как...
— Ну?
— Дак я о чем толкую тебе битый час? Как оттудова приехал, сразу к ванькиной вдовице побег. Будку взял у ней.
— Ну, дед! Ты темнила... еще тот.-- Андрей рубанул ладонью воздух и повернул прочь, жалея о потерянном напрасно времени.
— Во-во. побегай, послушай, как петухи по ночам орут. Посля приходи, поговорим!
— С кем это ты, Афанасей? — услышал дед за спиной женин голос.
— Андрюха прибегал, Ходыренок. На Волковку снарядился.
Старуха сзади заохала.
— Ты сказал ему, нет? Афанасей? Про Волковку-то?
— Дураку скажешь,-- хмыкнул Устинов.— Зубы-то скалить с такими же. Пусть сам понюхат вначале.
Он грузно опустился на лавку.
-- Ну. чего вытаращилась? Ставь самовар, така-сяка...
Андрей Ходырев, сухой, жесткий мужик лет тридцати пяти с глубоко запавшими глазами и постоянной щетиной на лице, которая вылезала сразу же после бритвы, сидел на скамье подле железнодорожной избушки с путевой связью. Ждал пассажирский. В самой избушке с закопченными стеклами сердитая баба неопределенного возраста в сером ватнике, в сером, грязном платке, время от времени что-то хрипло выкрикивала в телефонную трубку, эта сердитая баба сидела тут всегда, сколько Андрей себя помнил.
Со стороны города показался пассажирский — два зеленых, обшарпанных вагончика с побитыми стеклами и дверями. В кабине дизеля Ходырев издалека разглядел знакомого машиниста и на ходу забросил в кабину рюкзак, вскочил на подножку. На разъезд медленно втягивался встречный состав с лесом.
— Далеко рубят?
— На тридцать третьем. Недорубы подбирают.
— Остатки?
— Ну.
Лес шел плохонький, тонкомер, большей частью осина и березняк. Из-за многократного переруба лесоучастки, разбросанные вдоль узкоколейки, некогда многолюдные, начали хиреть, а некоторые были давно брошены и зарастали бурьяном. Печать запустения коснулась железной дороги тоже — плясали костыли в подгнивающих шпалах, шпалы меняли редко, наспех и без всякой пропитки. Давно заросли кустами противопожарные просеки, а на полосе отчуждения поднялся лиственный подрост, и зеленые ветви то и дело хлестали по кабине бегущего локомотивчика, скребли по вагонным стеклам.
В Волковке, кроме Ходырева, никто не сошел, поселок был мертв. Затих вдали перестук колес, и Андрей остался на шпалах в одиночестве.
Майская яркая зелень еще резче подчеркивала провалившиеся, черные крыши бараков, оседающих в землю. В оконных глазницах кое-где сохранились стекла, и вечернее, низкое солнце плавилось в них отраженным заревом. Кладбищенская, гнетущая тишина вокруг обессмысливала любое созидательное усилие и самое жизнь со всеми ее тщетами.
В окружающем пейзаже явно чего-то недоставало. Андрей пригляделся — еловый синий массивчик на горизонте за зиму бесследно исчез, и в привычной глазу картине появилась еще одна зияющая пустота.
Андрей закинул рюкзак на плечо и медленно двинулся в гору по обдерневшей дороге, на душе было скверно. Решив сократить путь, он свернул с дороги и пошел напрямую по кустам и бурьянам, бывшим когда-то огородами.
Его изба, купленная в прошлом году за три сотни, стояла на отшибе возле леса. Вернее, это была даже не изба, а целое крестьянское подворье, рубленное встарь из красного леса с большим толком. Леспромхозовские бараки, поставленные сразу после войны для спецпоселенцев, быстро пришли в негодность и теперь догнивали, по словам старика Устинова, чье подворье стояло на другом конце поселка, здесь был раньше крестьянский починок на две семьи с небольшими пахотными клиньями.
Не доходя до избы шагов за полсотни, Андрей Ходырев увидел, что замок на воротах сбит и висит на скобе. В проворе зияла щель.
Он сбросил рюкзак на землю и направился в обход. Дверь со стороны хозяйственных пристроек была нетронута. На сеновал по широкому бревенчатому въезду — тоже. Третья дверь, в ограду с задворок, оставалась на запоре. Андрей подобрал палку и вернулся к воротам, встав за столбом сбоку, он уперся концом палки в щеколду и толкнул дверь от себя. Дверь на смазанных солидолом петлях подалась легко, без скрипа. Он помедлил несколько и ступил во двор. Встал, давая глазам привыкнуть к полумраку. Затем по-прежнему с опаской поднялся по высокой лестнице в сени. Стоя на пороге, помахал палкой перед собой, поводил по темным углам.
Наконец шагнул в избу.
Смрадный запашок ударил ему в нос. На обеденном столе возле окна в суповой тарелке лежал темным завитком кусок говна с воткнутой в него алюминиевой общепитовской вилкой. Рядом с тарелкой стоял граненый стакан, до краев наполненный желтой, отстоявшейся мочой, на выскобленной столешнице углем была накорябана надпись:
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Ходырев выбросил «угощение» за окно. Дверь и окна оставил открытыми. Огляделся.
«Угощение» у Пакостника, как он про себя его окрестил, входило в обязательную программу каждого визита, сверх того следовало ожидать какого-либо сюрприза. Возможно, не одного. В избе на сей раз, кажется, ничего тронуто не было. Стекла целы. Железная кровать... Матрас, набитый соломой. Кстати, матрас мог бы изрезать. В прошлое лето Пакостник изрезал оставленную на виду детскую раскладушку, загодя привезенную для дочери, семилетней Машеньки.
Ходырев обошел печь в центре избы. Комнат и перегородок в избе не было. Подергал задвижки, печные дверки, убрал заслонку... Вроде порядок. Даже дрова в плите остались нетронуты с марта, как он их туда сложил. Он постоял в раздумье и двинулся на двор. По опыту Андрей знал, что пакостник малым не ограничится, и лучше обнаружить сюрприз сразу, чем быть застигнутым врасплох.
В прошлом году, приехав сюда вдвоем с дочкой, Андрей открыл ворота и слегла замешкался в створе, втаскивая во двор привезенный с собой алюминиевый бак для воды. И это его спасло.
Из-под крыши что-то оборвалось, и прямо у него перед носом в землю вонзились тяжелые навозные вилы. Придя в себя, он обнаружил на черене обрывки кордной нити. Такая же нитка была пропущена через скобу засова и привязана к воротам, стоило надавить на дверь, как вилы упирались череном в поддерживающую балку крыши на высоте около пяти метров. Еще усилие -- нить лопалась и...
Андрей представил на мгновение, что Машенька мимо него могла проскользнуть вперед, и белый как мел без сил опустился на бак. Дочь, оставив на дороге берестяной кузовок, присела на обочине на корточки среди ромашковой белой россыпи.
С тех пор ни жену, ни дочь Андрей с собой не брал. По сути между ним и пакостником началась война. Дважды после вил Андрей Ходырев просидел в засаде по два дня кряду, незаметно пробираясь в дом и стараясь не выдать признаков своего присутствия, но пакостник не появился, однако спустя неделю Ходырев вновь нашел на столе «угощение» и безнадежно изрубленные десять мешков с картошкой, весь собранный урожай. Очередная засада ничего не дала, и Ходырев на неделю запер в ограде двух собак.
О том, что произошло в его отсутствие, он узнал от Устинова. Старик переметывал разваленный стожок, когда услышал на другом конце поселка злобный лай. Так лают собаки обычно на человека, на чужака. Пошел проведать. Пока шел, грохнул выстрел. Один, потом другой. Опасаясь, как бы самому не нарваться на заряд дроби, Устинов двинулся в обход через подступающий к усадьбе лесок, но когда старик добрался наконец до цели, пакостник успел скрыться. На подкошенной меже валялись перевернутые четыре улья, которые старик на днях продал Ходыреву по «льготной», как он подшучивал, цене. Ульи старик поставил обратно на колья и заглянул в ограду. Обе собаки оказались застрелены. У одной еще подергивались задние лапы, но и она вскоре вытянулась и затихла.
На следующий день он доложил о случившемся Ходыреву. Андрей закопал собак в лесочке, забрал все, что могло представлять какую-никакую корысть, а для стрелка «забыл» на подоконнике пачку патронов, заряженных тройной порцией пороха, калибр стволов он знал доподлинно, поскольку ружье было украдено у старика Устинова в то же примерно время.
Больше Андрей Ходырев в Волковке не появлялся. Все было недосуг, да и охота к обустройству у него как-то пропала. Зато старик Устинов отлучался с Волковской пасеки нечасто. Лето для пчеловодов в тот год выпало на редкость удачное, с богатым взятком, поэтому старик сидел там почти безвылазно. Но в редкие свои приезды исправно докладывал обстановку. Рамки, как будто, на месте, окна тоже целы. Вроде после тебя никто с тех пор не бывал.
За лето с двадцати ульев старик Устинов накачал две тонны меду. Можно сказать, озолотился при нынешних-то бешеных ценах. Одну флягу с медом по осени он привез Ходыреву — в счет тех четырех пчелосемей, которые Андрей счел за лучшее оставить у старика под присмотром.
Такой оборот дел раздразнил Андрея и вызвал новый прилив деятельности. В марте он раздобыл и доставил на грузовой платформе в Волковку несколько мешков с цементом. На санях по насту свозил мешки на двор. В тот же приезд обошел догнивающие бараки, наковырял из печей пару тыщ кирпича и сложил на обдуве под навесом. Заодно убедился самолично — в доме с осени никто не бывал.
И вдруг — очередное «угощение», с пожеланием приятного аппетита. Пакостник открывал новый сезон.
Глава 2
С тяжелым сердцем Ходырев вышел из провонявшей избы на волю. Глубоко вздохнул. Нельзя сказать, чтобы он не ждал возобновления боевых действий вовсе, мешки с цементом, например, он позаботился запрятать подальше в темный закоулок между двумя хлевушками, а сверху забросал деревянным гнильем и слегка притрусил опревшим сеном. Схоронено было надежно, и за цемент Ходырев не беспокоился. Зато кирпич — лежал на виду.
Он обошел подворье и заглянул под навес. Штук с полсотни кирпича сверку было разбросано и разбито, однако кладь уцелела. Затея скорее всего показалась пакостнику чересчур трудоемкой, надрываться не стал.
И все же по прошлогоднему опыту Андрей Ходырев знал, что такой мелочевкой пакостник ни в коем разе не ограничится. Стоило ли ради «угощения» и полусотни битого кирпича в такую даль «хлебать киселя»? Он перекидал битый кирпич на кладь — пригодится забутить фундамент, и пошел проверить мешки с цементом. На всякий случай.
Во дворе было темно, а за хлевушками вовсе — глаз выколи. Но едва он сунулся в закут, как сразу понял — его захоронка безнадежно разорена, под ногу подвернулась гнилая доска и глухо хрястнула. Выругавшись, он сходил за электрическим фонарем и осветил очередное разорение. Все мешки до одного были вспороты и залиты водой. Цемент схватился, и теперь весь угол оказался завален каменными глыбами.
Тяжело ступая, Ходырев отправился в избу. Сел на кровать. В памяти сама собой всплыла фраза, то ли прочитанная мимоходом, то ли где-то услышанная: «Нет человеку спасения от человека». Андрей не умел сформулировать это словами, зато всегда чувствовал: вся российская бестолочь до донышка исчерпывается этой коротенькой и емкой фразой, застрявшей в памяти.
Он вяло, без аппетита сжевал кусок пирога и запил молоком из полиэтиленовой фляжки. Долго сидел в сумерках, курил, повесив меж колен широкие костлявые кисти рук.
Потом встал закрыть окна и двери. Смрадный душок из избы выветрился без следа, к тому же к ночи стало изрядно холодать. Он снял с гвоздя старенькую, изношенную лопотину, чтобы укрыться, и лег на кровать.
Вдруг ему пришло в голову, что на мешки с цементом пакостник наткнулся вовсе не случайно, он их искал целенаправленно. Ради них он бросил возиться с кирпичом, чего ни в коем случае не сделал бы, если бы не знал загодя, что сумеет сотворить пакость почище. Стало быть, он видел или знал от кого-то, что Ходырев завез к себе в Волковку мешки с цементом.
Андрей интуитивно почувствовал: мысль эта верная, прошлогодние события полностью его догадку подтверждали.
Три раза он устраивал засады и в общей сложности проторчал в кустах ровно неделю, но ни в один из этих дней пакостник ни разу в Волковке не объявился. Зато четко приходил туда на следующий день после его отъезда, иногда через день-два. Как раз во время дежурств Ходырева на работе. Выходит, Пакостник вполне в курсе всех его дел? Решил, скажем, Ходырев завести пасеку, а через день после отъезда ульи оказались на земле. И ружье прихватил не случайно, а, видимо, знал, что в ограде закрыты собаки. Тем более, что в лес с ружьем еще не сезон. Про цемент и говорить нечего.
Андрей даже вскочил с кровати. Как ошпаренный. Побегал по избе, сердито ероша волосы.
Не иначе этим самым Пакостником был кто-то из числа его знакомых, но причины?.. На кой ляд это понадобилось? Чего ради в течение вот уже года творить пакость за пакостью, рискуя в конце концов тоже нарваться? Если бы знать эти самые причины, или как их?.. мотивы, то, пожалуй, Пакостника он бы в конце концов вычислил.
Андрей с размаху сел на жалобно скрипнувшую кровать, запустил пальцы в волосы, перед глазами одно за другим вставали знакомые лица. Одних он отметал сразу, тех кто не имел даже представления о Волковке. Других просто потому, что не знал, чем он мог им до такой степени насолить. Третьих, четвертых подозревал или реабилитировал по самым разным причинам. Согрешил даже на старика Устинова. Вот уж кто при желании мог удобнее всего терроризировать своего соседа. Эта мысль особенно понравилась ему даже безотносительно к старику Устинову именно своей человеческой низостью. Таков во всяком случае должен быть почерк Пакостника, кто бы он ни был.
Прикинув по мелочам, Андрей нашел несколько существенных несовпадений, и с внутренним облегчением оправдал старика. К тому же, именно Устинов присоветовал ему приобрести эту избу. Даже подсказал адрес, у кого.
Андрей Ходырев перебрал еще несколько человек, но наконец понял, что так ничего не выяснит. Вся его жизнь была на виду — на службе, в соседях, многочисленные знакомые, родня. Многие видели, как он привез домой эти злосчастные мешки с цементом. Потом грузил на платформу, подгадывал к очередному дежурству. Да мало ли... В общем, чтобы вычислить Пакостника, не хватало одного существенного звена — побудительного мотива. Чего ради? Корысть вроде невелика... Из мести? А может, зависть? Или просто так, из любви к искусству? Мало ли придурков.
Андрею вдруг пришло в голову, что не он один оказался в числе пострадавших. У деда Устинова было похищено ружье. В другой раз Пакостник перевернул сметанный под окнами стожок. Правда, Устинов отлучался крайне редко, а потому набеги на его владения носили случайный характер. И не такой опустошительный.
«Так-то оно так,— подумал Андрей,— но дед все же сбежал? В одночасье. Бросил налаженное хозяйство с избой, с покосом. И купил будку на Хорошавинской дороге, десять кэмэ пеши!» Вот этого Андрей Ходырев и вовсе не мог взять в толк. Для расчетливого, хозяйственного старика поступок более чем легкомысленный. Пакостник тут не при чем. Старик далеко не из пугливых, при случае запросто может подстрелить. Да так, что никто знать не будет.
Новая загадка окончательно спутала Андрею весь ход рассуждений. «Чертов дед! Ни слова в простоте, все намеки да подковырки с финтифлюшками, мать его за ногу!» — выругался он, вспомнив недавний разговор, и лег.
Но не спалось. Лежал, курил. Посидел, опять покурил, походил по избе. За окнами непроглядная темень — самая полночь. Андрей взял фонарь и отправился до ветру. Мысли, словно старая кляча на водокачке, ходили по кругу, уже по инерции, ничего к прежнему не добавляя. В рассеянности он повернул в избу. Было зябко, должно быть, близко к минусу, и ощущалось какое-то движение воздуха. Видимо, подымался ветер, и порывы время от времени доносили к нему из темноты обрывки разговора...
Андрей вдруг спохватился. Голоса?! Откуда здесь было взяться голосам? Но нет... он отчетливо их различал! Баба и мужик, кажется, переругивались... И плач ребенка. Временами плач усиливался. И тотчас пропадал, унесенный порывом ветра, потом раздавался снова, совсем близко, где-то в крайних бараках.
До поселка было метров с сотню, и Андрей решил проверить, кто мог сюда забрести, глядя на ночь, да еще с дитем. Он продвигался не спеша, освещая яркий круг у себя под ногами. От этого пятна света ночь вокруг сомкнулась еще плотнее, и он уже ничего по сторонам не различал. Шел долго — на голоса, а они все как будто не приближались. Миновал ближние, незнакомые ночью развалюхи с черными провалами окон. Пробежал лучам света вдоль... Потом дорога пошла под гору, к железке. Выходит, он был где-то посреди поселка, но голоса доносились все так же далеко. Он сделал еще шагов десять, и вдруг явственно услышал перебранку, но уже у себя за спиной. Откуда пришел... И плач.
В недоумении Андрей остановился. Выключил фонарь, надеясь, что глаза привыкнут, и он сможет осмотреться.
Звон разбитого стекла, совсем рядом, заставил его вздрогнуть от неожиданности. Несколько спустя в другом месте куражливый, явно пьяный голос затянул невразумительный мотив. Пять-шесть голосов вразнобой и невпопад подхватили песнопение... На соседней улице, так ему показалось, хлопнула дверь, и женский визгливый голос огласил темноту матом. В ответ раздался недвусмысленный, чмокающий звук и похабный смешок.
Плакал ребенок. Мужик бранил бабу, баба на чем свет крыла мужика.
Взлаяла, загремела цепью собака...
Андрею сделалось жутковато. Он ущипнул себя — не спит ли? Потом, желая развеять наваждение, зычно гаркнул в ночь:
— Эге-гей! Эй!
Постоял, прислушался. Но никто, казалось, не обратил на его крики внимания. Не прекратилась перебранка. Не залаяла собака. Мертвый поселок жил своей обыденной убогой жизнью. Голоса звучали все так же неотчетливо, он не разобрал ни единого слова, о смысле догадывался разве что по интонациям.
Стуча зубами от холода, Андрей добрался наконец до ограды. Круто обернулся, сам не зная почему. Шагах в двадцати, почудилось, из темноты движется за ним белесое пятно, отдаленно напоминающее женский, размытый силуэт.
Андрей шагнул навстречу. Полоснул вдоль дороги лучом света. На обочине фонарь выхватил из темноты криво стоящую бетонную сваю, неизвестно когда и для чего тут забитую.
Андрей зло сплюнул и отправился в избу. Залез под тряпье на кровать, стараясь согреться. Ощущения после случившегося были, конечно, мерзкие. Но Андрей Ходырев, человек сугубо практический, в чудеса сроду не верил, полагая, что у всякого «чуда» имеется свое собственное объяснение. Он вспомнил деда Устинова и крест, который тот повесил ему на шею. Коротко и нервно хохотнул, представляя на своем месте набожного старика. То-то, должно быть, бородища стояла дыбом от страха.
— Тю-тю-уу!
Он даже подскочил. Да не из-за этого ли «чуда» дурной старик бросил все хозяйство? А ведь так и есть, на самом деле. Петухи, говорит, по ночам орали.
Во придурок так придурок! Домолился божий одуванчик. Таких историй «с петухами» Андрей сам мог бы порассказать с десяток, не меньше. Причем, не выдуманных, а действительно бывших, с ним лично, а не в Киеве с дядькой. Однажды, к примеру, это в сентябре было, году в семьдесят девятом, или в семьдесят восьмом? Весь день с утра в ушах орали петухи. Кругом тайга, ближняя деревня в сорока километрах, а то и все полста. А петухи орут. Не близко, правда, но слыхать хорошо. Ну, ладно если бы он один их слышал, а то вдвоем были. Толик Казенных... Кобзоном звали, в напарниках у него болтался — то же самое. Как петух заорет — оба слышат, плечами пожимают.
Ну и что с того? Живы остались, никто не помер.
В другой раз, такое же... Но тогда Ходырев уже один был. Зимой на лыжах. Идет лесом, а в носу откуда ни возьмись — запах свежей выпечки. Причем, сдобной выпечки. И до того отчетливо, что слюнки потекли. Полдня шел отплевывался, потом отстало.
Но самый, пожалуй, диковинный случай произошел с Андреем совсем недавно. В городе началась форменная голодуха, словно в блокаду. Магазины пустые, шаром покати. Даже хлеб с перебоями, с дракой брали. Ну, делать нечего, надо семью кормить. Взял Ходырев посреди зимы отпуск и — в лес. Договорился с хозяином балагана, не за так конечно, обещал поделиться, ну а там дай бог удачи, как говорится. За день добежал до места, все путем. Отдохнул, отлежался за ночь. Наутро снова на лыжи и — вкруговую, петлю километров в тридцать отмахал. Но следы лосиные нашел, в первый же день. И стоянку обнаружил на вырубке в старом ельнике. Семенник когда-то оставили. Прикинул по следам, выходило штуки четыре-пять, с лосятами. С тем и вернулся в балаган. На радостях выпил солдатские сто грамм.
Но везуха на этом закончилась. На следующий день взыграло солнце. Безветрие полное. Снег звонкий, хрусткий, лыжи за три километра человеку слыхать. Чтобы к лосям при такой погоде подобраться на выстрел, нечего и думать. День минул, другой, третий. Погода все не меняется. Так неделя прошла, вторая началась. От безделья глаза на лоб лезли. Целыми днями гонял пустой чай — чагой заваривал. Оброс бородищей, навроде деда Устинова, а когда вовсе делалось тошно, вставал на лыжи и без всякой цели бродил по лесу. Шлепнул попутно пару тетеревов на лунках.
Однажды, в очередной раз собравшись на моцион, как он называл свои вынужденные прогулки, Андрей вышел из зимовья и стал вытаскивать из-под крыши оставленные там на ночь лыжи. Потом обернулся и обмер...
По залитой солнцем, заснеженной поляне, прямо перед его зимовьем, вышли из лесу шестеро охотников. Все в белых маскхалатах, идут гуськом на лыжах, переговариваются. На валенках — белые чехлы. С палками. Даже лица разглядел, вроде знакомые. А вот кто — ни одного не вспомнил.
Первая мысль была — бежать. Если егеря, то за браконьерство в два счета срок влепят, не охнешь. Даром, что в городе жрать нечего. Но потом видит: все шестеро вроде как мимо через поляну идут. Его не замечают. И балаган мимо прошли, не увидели... Охотнички хреновы. И тут Андрей спохватился. Да ведь его ищут! Как-никак две недели уже прошло, жена извелась, поди-ко, дома. Хотя... с чего бы ей? Он и не обещался скоро. И зачем тогда маскхалаты, если на поиски отправились? Нет, что-то тут другое. Скорее всего, начальство по лицензии промышляет. Говядина со свининой надоели, которыми с баз отоваривают, вот решили лосятинкой разговеться... Жирок на боках разогнать. Точно. Только вид сделали, будто не заметили его. Дескать, мы тебя не трогаем, и ты нас знать не знаешь. В глаза не видел. Который впереди — егерь, наверняка.
Но тут Андрею пришла в голову другая мысль. За тридцать верст от дороги никакое начальство на лыжах пеши не потащится. Они лосей с машин бьют; по лесовозным дорогам в делянку заедут — они тут и есть, лоси. В домашних тапочках, считай, охотятся.
Тогда кто? Что за люди такие? Андрей решил окликнуть. В конце концов, мало ли чего он тут делает. Если бы с лосятиной, с мясом застукали, это дело другое. На, вяжи в таком разе. А намерения к делу не пришьешь. Да и любопытство разобрало — не утерпел.
— Эгей! Мужики-и?!
Смотрит, а они идут себе, как шли. Ноль внимания на него. Уходят... Уже и спины показали, да что такое? Неуж не слышали?
Заорал пуще прежнего.
— Стой!!! Портянки размотались! Эй?!
Ни один даже башку не поворотил на голос. А Андрей уже в раж вошел. Да и обидно показалось. Сдернул с плеча ружье. Раз! Раз! В воздух. На поляне с берез даже иней местами посыпался. А эти — хоть бы что... Так и ушли.
Андрей минут пять еще стоял, хлопал глазами вслед, пока вся группа не скрылась между заснеженными деревьями. Потом спохватился и встал на лыжи. «Ну уж дудки! — со злой удалью пробормотал он.— Я в ваши гордые рожи все равно загляну. Далеко не уйдете». Резво так рванул поперек поляны на лыжню. Выскочил на середину и заозирался... Никакой лыжни через поляну не было. Кроме его собственной.
Вот такие дела.. Как говаривала ему, мальчонке еще, бабка-покоенка: «Мало ли че в одиночку-то почудится. Не всякому верь».
Он и не верит. Случай с петухами, надо полагать,— это слуховые галлюцинации. С выпечкой, сдобной — обонятельные. А те шестеро в маскалатах — то ли мираж, по погоде, видать. То ли зрительные галлюцинации, от безделья. Короче, все довольно элементарно.
«Ну, дед, божий одуванчик! Погоди, расскажу в улице, как ты в штаны наложил. Петухов испугался, хрыч старый...»
Эти последние мысли едва уже ворочались в голове, и, наконец, Андрей провалился в сон, как в яму. Наутро, постепенно выбираясь из «ямы», он слышал сквозь забытье какое-то хождение, тихо постанывали половицы. Приснилось, будто бабка-покоенка подошла подоткнуть на нем лопотину, чтобы не мерз. Навалила сверху еще...
И вдруг, как от толчка Андрей проснулся от одной совершенно отчетливой мысли. Старик Устинов, по его словам, был в Волковке десять дней назад. Значит ли это, что все десять дней в поселке продолжалась эта ночная тайная жизнь? Или он, Ходырев, подоспел к очередному представлению?
Если это мираж, то довольно странный.
За окнами брезжил серый рассвет. Андрей зябко передернул плечами. К утру изба окончательно выстыла. Похоже было на заморозок. Он ругнул себя, что не догадался с вечера вытопить печь. Всего-то надо было чиркнуть спичку — дрова в плите были. Встал нехотя, кутаясь в тряпье, и пошел топить.
Пока разгорались дрова, с ожесточением скоблил ножом стол, удаляя надпись, и вдруг — мимо него, едва не задев, мелькнула какая-то тень и с силой ударила в простенок. Вслед за тем в уши рванул грохот, и вся изба разом наполнилась едким дымом и летающими хлопьями сажи и пепла. Андрей метнулся в сторону, к стене, и инстинктивно выкинул в руке перед собою нож. В двух местах на полу сквозь дым увидел — что-то горело.
Поленья!
Наконец сквозь дым и сажу разглядел повисшую на одной шарнире дверцу плиты -- через нее в избу валили клубы едучего с запахом серы дыма... И сразу все понял. Бросил нож. Открыл все окна, наощупь нашарил входную дверь. Толкнул. Горящие поленья выбросил за окно.
Дым потянуло наружу, и его глазам предстала развороченная взрывом плита с оборванной дверкой. Пакостник преподнес очередной сюрприз — нашпиговал плиту порохом. Должно быть, в отместку за патроны. «Что ж, на войне как на войне. Но теперь, сукин сын, охотиться на тебя буду я».
Андрей прямо из окна наломал черемуховых зеленых побегов, на веник. Связал, и сколько мог, насухо, без веды прибрал избу. Затем поправил плиту и заново навесил дверку — единственно, чтобы лишить Пакостника удовольствия.
До пассажирского оставалось часа полтора. Он вытряхнул на стол содержимое рюкзака — четыре амбарных висячих замка и завернутый в мешковину медвежий капкан с тяжелой цепью и пробоем на конце. Капкан Андрей обнаружил в свой мартовский приезд в Волковку среди старого инвентаря, которым время от времени пользовался. Он удивился, что не обратил на него внимания раньше. Правда, капкан изрядно проржавел, и одна из пружин оказалась лопнувшей. Пришлось ее заменять. он опустил капкан на пол. Взвел. Потом самодельным веником слегка придавил тарелочку, лязгнули зубатые дуги, и перерубленные черемуховые прутья брызнули в стороны...
Глава 3
Районный прокурор Хлыбов припарковал «УАЗ» на стоянке возле железнодорожного вокзала. Прибытие поезда, похоже, было объявлено, и основная масса пассажиров оживленно толпилась на посадочной платформе.
Хлыбов, плотный, крупный мужчина с тяжелым, малоподвижным лицом и набрякшими веками, отчего глаза казались сонными, неторопливо вылез из машины и, не глядя по сторонам, двинулся в опустевшее здание вокзала, похожее на опрокинутый аквариум. Молоденький сержант милиции поспешно приветствовал его, столкнувшись в дверях. Хлыбов ответил коротким кивком, прошел к киоску «Союзпечати».
— Сигареты есть? — рявкнул он, наклонись к окну.
Киоскер вздрогнул и выронил из рук раскрытый журнал, вернее, выпустил, а не выронил. И это не укрылось от внимания Хлыбова, как и голая девка, мелькнувшая глянцем на журнальнам развороте.
Киоскеру можно было дать от сорока и до семидесяти — обычный вид выпускника ЛТП с солидным в прошлом питейным стажем. Завидев Хлыбова, он расплылся радостной улыбкой, даже всплеснул руками.
— Ффу... Гаврилыч! Ты так до сроку в могилу столкаешь.
— Неохота?
— Ну, дак...
— Напрасно. Гговорят, там сейчас лучше, чем здесь.
— Вот пусть они, кто это говорит...
— Сигареты есть?
— Какие пожелаешь, Гаврилыч. «Кэмэл». «Мальборо»... есть «Космос». «Астра».
— Хм? Даже так?
— Для хорошего человека...
— У тебя что, табачный киоск? Или «Союзпечати»?
Киоскер с готовностью подхихикнул.
— Ладно, «Кэмэл», пожалуй.
— Семьдесят пять рубликов. Не дороговато?
— Не для себя беру. И прессу... по экземпляру.
— Журналы?
— Тоже. Вот этот не надо. И этот... убери.
Хлыбов рассчитался и напоследок тяжело глянул продавцу в бегающие, мутноватые глаза.
— С наваром работаешь? — он опустил глаза вниз, куда упал журнал.
— Ну... так, иногда ребята подбрасывают, случается,— замялся тот.
— Сколько?
— Дак это, по-всякому бывает...
— Соврешь, проверку устрою.
— К основному если... на круг, ну, рубликов триста случается.
Хлыбов с сомнением хмыкнул.
— Черт с тобой. Живи, бизнесмен. И службу не забывай, понял?
— Все как сказано, Вениамин Гаврилыч. Приглядываю...
— Ну, ну. Бывай.
Во время разговора с киоскером Хлыбов уцепил боковым зрением высокую фигуру парня с кожаным баулом через плечо. Тот топтался под расписанием, пока не тронулся поезд. Теперь он встречал Хлыбова возле «УАЗа» обаятельной белозубой улыбкой.
— Хлыбов? Вениамин Гаврилович? — осведомился он, делая шаг навстречу.
«Ишь ты, Карнеги выискался,— хмыкнул про себя Хлыбов.— Порядочному человеку эти улыбочки ни к чему». Он равнодушно кивнул, бросил кипу газет и журналов на заднее сиденье. Сверху блок «Кэмэла». Жестом пригласил молодого человека в машину.
— Прошу.
Тот нимало не смутился весьма сдержанным приемом. Уже сидя в машине, не таясь, некоторое время с любопытством разглядывал Хлыбова. Затем протянул руку.
— Валяев Алексей Иванович. Прибыл в ваше распоряжение.
— Первомайская районная прокуратура?
— Да.
— Так. А где остальные?
— Остальные? Про остальных, увы, ничего не знаю. Могу отвечать только за себя.
— Понятно,— Хлыбов включил зажигание, положил руку на рычаг. Но трогаться не спешил, о чем-то размышляя.
Валяев Алексей Иванович тоже молчал, но было видно, что молчание не особенно его тяготило.
— Надолго? -- спросил Хлыбов, не поворачивая головы.
— Как ко двору придусь.
— То-то у расписания торчал. На обратный рейс прикидка? Или как?
— Отнюдь. Я не хотел светиться возле вашего джипа.
Хлыбов, недоумевая, поднял на него тяжелые веки.
— Не понял?
Вместо ответа Алексей сунул руку за отворот куртки и вынул костяную рубчатую рукоять, нажал никелированную кнопку, и с десяток сантиметров хищно мерцающей стали с мягким щелчком вылетели наружу.
— Это еще откуда?
— Выкидуха. Купил у проводника. Мордастый такой жлоб. За стольник сторговались.
— Стольник? Надо было изъять, и точка. И оформить привод.
— Ни в коем разе. Я еще на ствол договорился. Через пару недель.
Хлыбов присвистнул.
— Ну, ты лопух, Леша Иванович... Или Попович?
— Иванович.
— Стволами торгуют в темных подворотнях. Это раз. Мимоходом. Это два. Через третьи руки. Три. И чтобы рыло нельзя было разглядеть. Четыре.— Хлыбов фыркнул.— Проводник... хы!
— Я думаю, так и будет, Вениамин Гаврилович,— ничуть не обидевшись на «лопуха», согласился Валяев.
— Ладно. В подробности не вникаю. Готовь акцию.
«УАЗ» неторопливо вырулил со стоянки и покатил по разбитой с остатками асфальта дороге в центр города. Хлыбов отрешенно молчал и только проезжая приземистое здание из светлого силикатного кирпича, обронил:
— Прокуратура.
Через сотню метров кивнул направо.
— РОВД... На соседней улице суд.
Некоторое время машина петляла по старой части города с однообразными старокупечеокими домишками и перерытой в нескольких местах проезжей частью. Мелькнули деревянные корпуса, похожие на больничные, и через минуту Хлыбов с душераздирающим визгом посадил машину на тормоза, как будто наехали на кошку.
— Конечная. Вагон дальше не идет.
«Конечная», судя по всему, располагалась на окраине города, и, пожалуй, это было единственное отрадное для глаза место из всего, что Алексею удалось разглядеть по дороге сюда. С полгектара крупного соснового леса и премилый, рубленый из сосны же коттедж с высокой мансардой-теремом и кирпичными пристройками. В сотне шагов от них сквозь желтеющие стволы отливала закатным блеском узкая полоска воды. В другой стороне маячил еще коттедж, целиком из кирпича, но, кажется, незаконченный — наполовину в строительных лесах.
Хлыбов перехватил взгляд, усмехнулся.
— Местный приходской поп. Жорка Перепехин, это в миру. А в сане — отец Амвросий, ни больше ни меньше. Хва-ат, тот еще. У прокурора власть, связи, а этот божьим словом кормится. И неплохо кормится! Я стороной кой-какие справки навел о доходах. Усопших родственников помянуть — десять, пятнадцать, двадцать пять деревянных в зависимости от поминального списка. Свечку поставить за упокой — трояк. Родины, крестины, свадьба, покойника отпеть — четвертак и выше. Молебен заказной — полсотни с носа. Пожертвования на храм — полпенсии, плюс трудовое участие. Кто уклоняется, тем с амвона гееной огненной навечно грозит. Или стыдит персонально каждого, сам слышал. Грехи ни в какую не отпускает. Словом, разбойник. Зато храм — вот он. Прокурора переплюнул. И личная «Волга», двадцать четвертая. У попенка прихода пока нет, но на храм с гаражом батька со своих прихожан насшибал. Где-то на Белгородчине. Торговлишка у него... Пластмассовый образок — десятка. Крестик, алюминиевая штамповка — пять. Свечи... Ну, и до бесконечности. Как говорится, не сеем не пашем — только ху... пардон! Кадилом машем. Вот так, Леша Попович...
— Иванович.
— А я что сказал? А... ну, да. Конечно. А теперь скажи, на кой ляд русскому мужику еще раз сажать себе на шею этого спиногрыза Жорку Перепехина? С его чадами и домочадцами? Ведь сказано: «Бог не в церквах, а в душах ваших». А потому «молитесь втайне, а не как фарисеи».
Хлыбов забрал прессу, сигареты и распахнул дверь на веранду.
— Проходи. Гостем будешь.
Вслед за хозяином Алексей миновал просторную веранду с набором плетеной мебели и через тамбур попал в полутемную прихожую со множествам дверей, свет в которую проникал через витражное узкое окно с цветными стеклами. Из прихожей наверх в мансарду вела полукруглая лестница с ажурными резными перильцами.
Пока Алексей озирался, Хлыбов исчез. Потом его голос раздался откуда-то из глубины.
— Анна! У нас гость. Принимай!
Алексей почувствовал легкое движение у себя за спиной и обернулся. Одна из дверей справа бесшумно отворилась, и через порог в прихожую ступила роскошная, чуть тяжеловатая шатенка в чем-то длинном, густо вишневого цвета. Возможно, это был просто халат, Алексей не слишком разбирался, но от обычного халата это одеяние отличалось столько же, сколько уссурийский тигр от обычного домашнего кота. Правда, в данном случае не халат украшал хозяйку, а скорее наоборот — это была совершенная северная роза. Мягкая ткань откровенно подчеркивала кустодиевские чувственные пропорции, и Алексей, пожалуй, только сейчас, глядя на хозяйку, до конца прочувствовал смысл небезызвестной фразы: женщине надо уметь одеться так, чтобы выглядеть как можно более раздетой.
По тому, как Анна на мгновение приостановилась в дверях, тоже разглядывая его, он понял, что оценка была взаимной и для него вполне положительной.
Алексей улыбнулся дежурной, ничего не значащей улыбкой, инстинктивно догадываясь, что таких женщин в большей мере задевает мужское безразличие к ним, нежели навязчивый интерес. Представился:
— Алексей. Вечер... добрый.
Хозяйка, неслышно ступая, приблизилась к нему почти вплотную и подала руку.
— Анна... Кирилловна. Очень приятно.
И вдруг на ее липе явилась такая откровенно кокетливая явно вызывающая гримаска, что от неожиданности он смешался. Желая скрыть растерянность, гость поспешно склонил голову и слегка коснулся губами узкой руки с удлиненными, розовыми пальчиками.
«Вот это да,— промелькнуло в голове.— Настоящая танковая атака... Но какого черта?»
Когда он поднял наконец глаза, на губах хозяйки еще дрожала легкой тенью улыбка удовольствия от маленькой победы. «Понятно,— решил он про себя.— Демонстрация боевой мощи. От напускного равнодушия противника не осталось даже следа. Опасная женщина. Пожалуй, следует держаться начеку».
— Что же мы стоим? Право, этот Хлыбов, он ужасный мужик. Мало того, что оставил вас тут в одиночестве, мы еще вынуждены сами знакомиться. Словно на улице.
Голос у Анны был грудной, низкий.
— Да оставьте же вашу ужасную сумку здесь. А может, вы мне не доверяете?
— Ну, что вы!
— Бог ты мой, какая тяжелая...
— Позвольте, я сам.
— Знакомься, Аннушка, это Алексей Иванович Валяев, наш новый следователь.— И с некоторым значением в голосе Хлыбов добавил.— Вместо зарезанного Шуляка.
Мгновенная искра, похожая на электрический разряд, проскочила в воздухе. Гость тоже почувствовал ее. По лицу Анны словно промелькнула тень, а Хлыбов, круто развернувшись, двинулся в гостиную.
— Прошу следовать за мной,— раздался в дверях его голос.
Ужинали молча, обмениваясь изредка незначительными репликами. Декоративная, низкая люстра освещала лишь центр массивного стола с приборами и руки, оставляя лица в тени. Углы просторной гостиной и вовсе терялись в темноте, лишая интерьер каких-либо подробностей. Хозяйка дважды вставала из-за стола за какими-то мелочами, которые находились тут же в гостиной, и настенное бра в одном случае, в другом скрытая подсветка выхватывали из темноты прелестный со вкусом обставленный уголок — словно зеленая лужайка посреди сумеречного леса.
Хлыбов, кажется, совершенно ушел в себя. Иногда пропускал обращенные к нему реплики, или вставлял свои невпопад, Анну это почему-то тревожило, то ли раздражало,— понять Алексей пока не мог. Внезапно Хлыбов уперся в него тяжелым, вопрошающим взглядом. Грубо спросил:
— Они что, не верят мне там? Или за дурака держат?
Алексей салфеткой вытер губы.
— По существу о «них там» я мало что знаю, Вениамин Гаврилович. Но напутственные слова, когда я пришел за направлением, были такие: «В районе в прокурорах сидит небезызвестный Хлыбов». Я сказал: «Я знаю». «Что ж, тем лучше. В прошлом он был отличным оперативником, настоящий волкодав. Имеет на счету десятки опасных задержаний, но законник из него оказался слабоват. Последнее время он вовсе мышей не ловит, на районе повисло несколько тяжких преступлений, в том числе убийство Шуляка, профилактика на нуле, а Хлыбов в оправдание несет какую-то параноидальную чушь с запахом серы и требует людей».
— Кодолов?
— Что?
— Кодолов напутственные речи держал?
— Да.
— Свиной огузок. Его стиль.
— Хлы-ыбов! — с укоризною протянула Анна.— Ф-фу... какой.
— Молчу, молчу! — Хлыбов махнул рукой и действительно надолго замолчал, глядя перед собой невидящими, неподвижными глазами. Хозяйка и гость оказались на неопределенное время предоставлены самим себе, и тотчас последовал расхожий дамский допрос:
— Алексей Иванович, вы женаты?
— Мм? Не уверен.
— О-о!
На милом лице хозяйки впервые за весь вечер появился неподдельный интерес.
— Все предельно просто, уважаемая Анна Кирилловна. За что моя супруга в свое время меня возлюбила, за это же самое после загса стала меня презирать. Тогда я был щедр, после стал мотом. Я человек честный, но уж лучше бы мне быть взяточникам и вором. Я человек необидчивый, покладистый, и она обнаружила, что во мне нет ни капли мужского самолюбия. Раньше я считался человеком деликатным, в меру скромным, теперь я — шут гороховый. Каждый, говорит она, может вытереть о тебя ноги, потом взять взаймы, сколько захочет, и ты сто лет не решишься напомнить негодяю о долге. Тьфу на тебя!
Анна засмеялась так искренне и заразительно, что Алексей, глядя через стол на мрачного Хлыбова, невольно подумал: «Неужели, многоуважаемый прокурор, можно быть несчастным в присутствии такой чудной женщины, как твоя Анна?» Впрочем, ему тут же пришло в голову, что всякое «чудо», становясь привычным, теряет в конце концов свои чудодейственные свойства.
Допрос на этом, разумеется, не закончился.
— Алексей Иваныч, бедненький, и что же теперь? Что вы станете делать дальше? — еще смеясь, продолжала она.
— Мы решили разбежаться. На время. Тем более, что я знал уже, куда и зачем мне бежать.
— Так вы попросту сбежали сюда?
— Ну, можно назвать это так.
— Конечно, вы сделали это из деликатности?
— Да.
— По причине душевной щедрости? Уважая собственную замечательную скромность?
— Мм... да. Кроме того, заметьте, я поступил как честный человек, чья карьера на семейном поприще приказала долго жить.
— Это ужасно как благородно, благородный Алексей Иванович. Но я бы предпочла послушать кроме вас и вашу супругу. Ее версию, как говорит Хлыбов.
— Вот видите, вы тоже не поверили ни единому моему слову.
— Почему тоже?
— Точь-в-точь как моя супруга.
В это время снаружи послышался глухой удар, словно чем-то тяжелым задели по обшиву. Зимой так обычно трещат венцы на крепком морозе. Смех замер у хозяйки на устах, а лицо Хлыбова передернула неприятная гримаса. Он встал и решительными шагами с поспешностью вышел из гостиной. Хлопнула за ним дверь. Гость удивленно посмотрел на хозяйку.
— Что это?
— Не обращайте внимания, Алексей Иванович, это к Хлыбову.
Она чуть приметно усмехнулась.
— Хотите еще кофе?
— Очень.
— А сами из скромности вы бы не решились спросить? Не так ли?
С кофейником в руках она обошла стол и встала у гостя за спиной, наклонилась, чтобы дотянуться до чашки, и Алексей вдруг с трепетам ощутил у себя на плече ее горячее мягкое бедро. Тонкая душистая струя из кофейника медленно наполняла чашку. Он замер, чувствуя, как жар подымается по спине к затылку,— прикосновение было явно намеренным.
Очередная танковая атака оказалась настолько внезапной, что вновь застала его врасплох. Пока он приходил в себя, чудная Анна Кирилловна со своего места с любопытством за ним наблюдала.
— Алексей Иваныч, что же вы не пьете? Вы, кажется, о-очень хотели кофе?
«Баловница, черт бы тебя...» — подумал гость, а вслух, не подымая от чашки глаза, вяло отшутился:
— Вы слишком круто завариваете, Анна Кирилловна. Боюсь, сегодня мне уже не заснуть.
Снова был выброшен белый флаг, и Анна, отметив это, зашлась тихим грудным смехом.
В гостиную вошел Хлыбов, чернее тучи. С порога мрачно взглянул на смеющуюся Анну, затем прошел к столу и набулькал в бокал из-под шампанского с полстакана коньяку. Проглотил. С минуту он стоял, словно прислушиваясь к себе. Затем буркнул что-то... Алексею послышалось: «Каналья, дохлая!» И сел в кресло.
— Алексей Иваныч, ты при деньгах? — вдруг спросил Хлыбов тоном, каким обычно говорят: «руки вверх!»
Гость удивился.
— Ну... до первой зарплаты, разве что.
Хлыбов встал, подвигал в темноте ящиками и шлепнул на стол перед гостем пачку денег в банковской упаковке.
— Взаймы. При случае отдашь.
— Чтобы вернуть такой заем, Вениамин Гаврилович, мне придется, как минимум, брать взятки,— вежливо отказался гость.
Хлыбов фыркнул.
— Не хочешь ли ты сказать тем самым, что взятки беру я?
— Ну... зачем же так?
— Бери! Здесь всего триста, и пусть тебя не смущает эта упаковка.
Гость, не глядя, почувствовал на себе выжидающую улыбку Анны Хлыбовой. Пожал плечами.
— Сто, Вениамин Гаврилович. Единственно, чтобы не наживать себе врага в лице начальника. За сто рублей я продаю вам этот нож,— Алексей выложил на стол свою давешнюю покупку.— Вам проще будет эту штуку оприходовать. Как прокурору.
— Хлыбов, перестань. Алексей Иваныч не любит делать долги, ты же видишь.
— Было бы предложено,— буркнул Хлыбов и тут же забыл о деньгах.
Анна Кирилловна мягкими, точными движениями опытной курильщицы вскрыла пачку «Кэмэла». Щелкнула зажигалкой. Хлыбов вдруг снова замолчал, совершенно уйдя в себя, и Алексей подумал, что программа вечера на сегодня, похоже, исчерпана. Пора и честь знать.
Он встал из-за стола, поблагодарил за прекрасный ужин и просил хозяев о нем больше не беспокоиться. Дорогу до гостиницы он найдет сам. Половина девятого вечера, так что... Хлыбов решительно отмахнулся.
— Анна может не беспокоиться, это ее дело. А мне беспокоиться положено. По штату. Я, Алексей Иваныч, препровожу тебя по месту жительства, а по дороге мы еще поговорим. Без свидетелей, что называется.
— Это значит, Алексей Иванович, мой Хлыбов будет вам всю дорогу хамить,-- немедленно отреагировала Анна Кирилловна. Хлыбов пропустил ядовитую реплику мимо ушей.
— Завтра кошмарный день. Боюсь, нам будет не до разговоров.
Глава 4
В прихожей Алексею бросился в глаза нанесенный мелом крест над входной дверью. Это не была метка, оставшаяся от строительных или ремонтных работ, косая перекладинка внизу вносила однозначный сакральный смысл. «Параноидальная чушь с запахом серы»,— вдруг вспомнил Алексей слова Кодолова из следственного отдела облпрокуратуры.
Что-то удержало его от немедленных вопросов, и он, терзаясь жгучим любопытством, молча вышел наружу в светлые майские сумерки.
Хлыбов махнул рукой.
— Сюда, Алексей Иванович. Напрямую. Немного прогуляемся, а заодно,— он хмыкнул,— я покажу тебе здешние достопамятные места.
Некоторое время шли молча, среди редких сосен в ту сторону, где, как Алексею показалось, блеснула полоска воды. Поискав глазами, Хлыбов вдруг свернул и остановился возле ивового разросшегося куста.
— Здесь, кажется? Да, на этом самом месте в прошлом году лица кавказской национальности, в количестве трех человек, распивали спиртные напитки. В состоянии сильного алкогольного опьянения изнасиловали семидесятилетнюю бабку. Она собирала по кустам пустые бутылки. От бабки в прокуратуру на следующий день поступило заявление. А вечером того же дня бабка заявление забрала, хотя преступники уже были нами установлены. По простоте душевной заявительница объяснила этот шаг следующим образом.
И Хлыбов старушечьим голосом мастерски изобразил ответ заявительницы:
— Дак у меня пензия сорок рублев от мужа досталася. А оне тыщу принесли, кавказцы, в гумажке завернута. Еще в ногах валялися. Нет уж, батюшке, за таки деньги пущай хоть кажин день до самой смерти меня пичужат. Заберу я у тебя заявление-то, давай сюды.
Оба посмеялись.
— И как? Заявление вернули?
— Пришлось войти в положение.
Через полсотни метров Хлыбов снова остановился.
— Вот случай гораздо серьезнее. Группа подростков от пятнадцати до восемнадцати лет в вечернее время остановила на этом месте пенсионера. Как выяснилось позднее, ветеран войны, инвалид, орденоносец. Спросили закурить. Пенсионер давно не курил и посоветовал им это дело тоже бросать. Его сбили с ног, пинали, прыгали на нем, месили ногами. Заключение медицинской экспертизы: «... смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся ушибом головного мозга тяжелой степени с кровоизлиянием под мягкие оболочки. Перелом костей основания черепа и лицевого скелета, перелом подъязычной кости слева, перелом костей носа, переломы верхней челюсти многооскольчатого характера... Многочисленные переломы ребер..». И так далее, там много понаписано. Короче, двое ублюдков держали третьего ублюдка под руки, и тот прыгал на инвалиде, как на батуте.
На другой день милиция оцепила место. Работали криминалисты. Вставную челюсть потерпевшего отыскали за пятнадцать метров от места убийства. Была выбита изо рта ударом ноги. Но самое любопытное, за работой криминалистов с интересом наблюдал один из преступников. Выгуливал утром собачку и остался поглазеть. Даже давал советы. Кстати, из вполне благополучной семьи. Сын главврача местного профилактория при металлургическом комбинате. Мама на суде сказала, что инвалиду через год-другой все равно помирать, а у мальчика вся жизнь впереди.
Они вышли на берег длинного узкого заливчика с разбросанними тут и там низкими деревянными строениями на сваях прямо в воде.
— Лодочные гаражи,— пояснил Хлыбов.— Обворовывают еженощно. Иногда просто жгут. Ради кайфа, надо полагать. Между прочим, преступление для наших ублюдков... пардон, для народонаселения — единственный способ развлечений. Имей это в виду, когда станешь прорабатывать мотивацию. Культура, друг мои, в здешних местах ниже нулевой отметки, самодеятельность, черт бы ее... два притопа, три прихлопа. И хор ветеранов. «Широка страна моя родная». Все.
Под негами словно сама собой появилась асфальтовая дорожка, проросшая по трещинам молоденькой травкой. Навстречу им медленно прогуливалась степенная пожилая пара — квадратный невысокий мужчина в костюме, при галстуке, в новенькой сетчатой шляпе и такая же квадратная женщина в летнем плаще, оба с одинаково сосредоточенными лицами. Поравнявшись с Хлыбовым, мужчина приподнял шляпу и слегка согнул квадратный, негнущийся стан. Хлыбов с преувеличенным почтением изобразил то же самое.
— Моционите, уважаемый Илья Семеныч?
— Да. Видите ли, когда у тебя...
— Прекрасная вещь, эти вечерние моционы! — шумно восхитился Хлыбов, пресекая в зародыше готовый начаться поток словоизвержения.— Я, уважаемый Илья Семеныч, решил взять пример с вас, как видите. Приятной вам прогулки. До свидания. И он решительно потянул Алексея за собой.
— Завфинотделом Возжаев. Редкий зануда. Недавно принес заявление на супругу, просит возбудить уголовное дело. Десять страниц убористым почерком, и все какие-то цифры, колонки. Приход, расход... А в конце сумма: итого, 83 рубля 23 копейки. В чем дело, спрашиваю? Объясните, пожалуйста, доступным мне языком... Самолюбив, к тому же, до поноса. Не дай бог обидеть такого. Оказалось, они с супругой ведут семейный бюджет каждый на особицу. Сходил Илья Семеныч, скажем, в продмаг, а вечером выставляет своей супружнице счет в половину стоимости покупок. В дом отдыха ездят обычно поодиночке, чтобы не оставлять на посторонних квартиру. При этом остающаяся сторона дает отъезжающей стороне ссуду под небольшой процент. По весне супруга уважаемого Ильи Семеныча заболела гриппом и вылежала полторы недели сроку, по выздоровлении Илья Семеныч хладнокровно предъявил любимой супруге счет, куда включил стоимость всех лекарств, расходы на кормежку и по уходу. Его девиз: «За все надо платить!» Оно как будто девиз правильный, но у нас в России, Алексей Иванович, все правильное превращается в совершенную ахинею. Согласись?
— А по какому поводу заявление? — смеясь, спросил Алексей.
— Разные системы счета, как оказалось. Подбили бабки по итогам года, и у Ильи Семеныча баланс не сошелся. 83 рубля 23 копейки! Супруга возмещать убытки решительно отказалась, выставила встречный иск. Разодрались, и наш фининспектор, пылая гневом, написал заявление. Но, в конце концов, ума достало. Отошел сердцем и забрал заявление назад.
— Скорее всего, заставил уплатить.
— Возможно.
Через минуту прокурор Хлыбов остановился на перекрестке двух улиц. С одной стороны углом шел забор, из-за которого виднелись крыши приземистых корпусов — что-то похожее на автобазу или механические мастерские. С другой тянулись деревянные домишки с палисадниками, черемухами и поленицами дров.
— Тоже в известном смысле достопамятное место,— отрекомендовал Хдыбов.— Обрати внимание: фонарь с производственной территории отбрасывает за забор густую, черную тень, так что часть перекрестка всю ночь остается в тени. Постоянно ходит транспорт, в основном грузовые. Так вот, в одно прекрасное утро обитатели этих живописных трущоб обнаружили на дороге под заборам раздавленного колесами мужчину. Транспортное происшествие? Несчастный случай? Отнюдь. Экспертиза установила, что ко времени наезда потерпевший был мертв уже два дня. Естественно, документов никаких. Способ совершения убийства установить тоже не удалось. Тело было буквально расплющено под колесами. Личность опознанию не подлежала по той же причине. Опросы ни к чему не привели. Заявлений о розыске в милицию не поступало. В общем, дело в конце концов приостановили.
От каких-либо выводов Хлыбов воздержался. Он вдруг замолчал и, казалось, забыл про своего спутника. Однако знакомство с местными достопримечательностями на этом не закончились. Как, впрочем, и встречи с интересными людьми.
Едва они вышли на набережную, с Хлыбовым громко, но заискивающе поздоровался неопрятный тип неопределенного возраста с малопривлекательной лисьей физиономией. Хлыбов, едва взглянув, брезгливо сморщился и махнул рукой.
— Иди, иди себе!
— Кто это? — с улыбкой спросил Алексей, ожидая услышать очередной местный анекдот.
— Так себе,— Хлыбов фыркнул.— Вначале изучал экономику развитого социализма, вел даже какие-то курсы при ДК. Потом запил. А теперь развлекается тем, что в подворотнях демонстрирует малолеткам, по преимуществу девочкам, свои половые органы. Через неделю оформляем сукина сына в психушку.
— Действительно болен?
— Не думаю. Очень связно, даже доказательно, и даже с эстетических позиций объясняет, почему он это делает и почему это непременно надо делать. Ну, просто нельзя не делать. В человеке, говорит он, все должно быть прекрасно — и мысли, и душа, и тело. Если что-то естественно, что дано человеку самой природой, то оно не может быть безобразным... Ну, и так далее, полный набор штампов, усвоенных из известных источников, цитируя каковые, наш марксист начинает расстегивать ширинку.
Хлыбов усмехнулся.
— Ты, кстати, не думай, Алексей Иванович, сумасшедших в этом городе нет ни одного. Просто на удивление. Даже напротив — народонаселение отличается удивительным здравомыслием, до утилитарного. К примеру, та мама восемнадцатилетнего преступника. Ведь она точно все высчитала: жить инвалиду год, от силы два. Пользы от инвалида государству никакой — одни убытки. Лечение, инвалидский паек, жилплощадь занимает — вред один. По сути, мальчик избавил общество от вредителя. За что же наказывать? Она даже исторический прецедент вспомнила: у северных народов некогда сын душил престарелого родителя, набрасывая на шею удавку, чтобы не кормить в условиях сурового севера лишний рот. Такая смерть от руки сына считалась почетной. А чем мы хуже, спросила на суде образованная мама? У нас в стране в настоящее время с пропитанием дела обстоят не лучше, и мы это понимаем — перестройка хозяйственного механизма требует от всех нас, советских людей, определенных жертв... Логика железная, в пределах четырех арифметических действий. И что ты ей возразишь на это? Скажешь, нехорошо, мол, старичка было убивать, безнравственно как-то? Она не поймет тебя. Какая, ей-богу, нравственность, если от нее никакой пользы? А завфинотделом Возжаев, который за все желает платить? То же самое, вместо нравственности голая арифметика. Если эту так называемую нравственность нельзя просчитать на калькуляторе и разнести постатейно, сделать бухгалтерскую проводку, стало быть, никакой нравственности в природе нет. Так, баловство одно. При всем том, Возжаев человек честный, на чужое никогда руку не поднимет.
Оставшуюся часть дороги Хлыбов уже не умолкал, одна история следовала за другой с одновременным осмотром достопамятных мест. только на этом маршруте их набралось десятка три, а то все четыре — Алексей давно сбился со счета. К тому же, к центру города публики на улицах становилось больше, и редкий из встречных не обменялся с Хлыбовым сердечным рукопожатием. Хлыбов всех знал, и люди в массе своей все были чрезвычайно интересные.
Поначалу Алексей смеялся от души. Потом замолчал, а к концу в нем созрело и постепенно оформилось некое апокалиптическое ощущение конца...
Мир с подачи Хлыбова, вывернутый своей изнаночной стороной, на глазах превращался в чудовищный паноптикум. Какая-то нечисть крутилась вокруг, выродки улыбались со всех сторон исковерканными лицами и протягивали для рукопожатия искривленные или же сросшиеся пальцы... Безобразно обнажались и что-то убежденно доказывали друг другу, срываясь на визг, требуя возмездия, шельмуя, обличая, негодуя...
Алексей тряхнул головой, прогоняя наваждение. Все, что говорил Хлыбов, было абсолютно верно, было запротоколировано и давно превратилось в документ, но в то же время Алексея не оставляло чувство, что перед ним тяжело больной человек, спустя еще какое-то время он уже не сомневался, что Хлыбов, действительно, болен «прокурорской» болезнью. Та самая изнаночная жизнь постепенно вытеснила здоровые ее формы, и в душе Хлыбова с некоторых пор воцарился этот ужасный паноптикум.
Они остановились перед подъездом пятиэтажного типового дома.
— Пришли,— коротко резюмировал Хлыбов.— Но у меня вопрос, Алексей Иваныч, прежде чем мы расстанемся.
— Хоть два, Вениамин Гаврилович.
— Какого черта тебе здесь понадобилось? В этой дыре? Тебе что, некуда было деваться?.. Ну, чего молчишь?
— Думаю, Вениамин Гаврилович. Если я скажу правду, вы все равно не поверите, поэтому стою вот и думаю, как бы соврать убедительно, чтобы вы удовлетворились.
— Ха! А я помогу, пожалуй. Я тут на днях получил насчет тебя рекомендации. Прямо скажем, великолепные. Расхвалили, у-у! Дальше ехать некуда. Как на похоронах. А когда хвалят, сам знаешь, обычно хотят спихнуть, во что бы то ни стало. Это как цыган на базаре старую кобылу продавал.
Алексей кивнул.
— Все так, Вениамин Гаврилыч. Могу только добавить...
— Ну?
— Первомайский район, вы знаете, в областном центре самый престижный, прокуратура, стало быть, тоже на высоте, кадрами укомплектована на все сто. И работы в меру. Но вот гляжу, с нового года одно дело на меня сверх навесили, второе, третье. И все неподъемные, я чуть дышу. Сроки прохождения начали требовать, а у меня — завал. До десяти вечера каждый день торчу на работе, и так из месяца в месяц. Наконец, зампрокурора Сапожников...
— Знаю такого.
— Вызывает к себе. Давай, говорит, Леша, поговорим начистоту. Тебя отсюда выталкивают, ты, наверное, понял? Не потому, что ты плохой следователь, не подумай. Понадобилось твое место для одного высокопоставленного отпрыска. Только-только закончил московский юрфак и хотел бы иметь работу недалеко от места жительства. Прокурор, сам понимаешь, тут не при чем. Самого в два счета вышибут. Так что не мучай себя и нас, пиши заявление. А уж рекомендации тебе будут, какие хочешь и куда хочешь. Вот такие дела, Вениамин Гаврилович.
Хлыбов фыркнул.
— Я так и думал в этом роде что-то. Ладно, вот ключ... Квартира сто восьмидесятая, четвертый этаж. Две комнаты, так что в любую на выбор заселяйся.
Алексей шагнул в темный подъезд.
— Стой! — раздался сзади голос Хлыбова.— А версия? Насчет соврать... Или не придумал еще?
— Версию, Вениамин Гаврилович, я вам и доложил.
— Ну да? Соврал, что ли?
— До последнего слова.
— От шельма! Молоде-ец... на голубом глазу. Экспромтом! Хлыбова, а?! — шумно восхитился Хлыбов.— А я, голубчик, признаться, поначалу тебя за дурака держал, ты уж извини, но теперь вижу, сработаемся, ха-ха! Кстати... на кой ляд тебе наша дыра? Если по правде? Здесь мухи от тоски дохнут.
— Из любопытства, Вениамин Гаврилович.
— Чего, чего?
— Из любопытства. Это сущая правда, как на духу. Если не слишком торопитесь, я в двух словах объясню.
Хлыбов качнулся с пяток на носки, махнул рукой.
— Ладно. Валяй.
— Все началось с моего студенческого диплома. По статистике правонарушений. С дипломом я разделался скоро, а вот в статистике увяз. Поначалу меня интересовала динамика правонарушений, цикличность, периоды вспышек, затухание, характер преступных действий и тому подобное, но потом я выделил для себя особую группу так называемых нераскрытых преступлений. Не тех, которые были завалены по халатности или по недомыслию следствия, а совершенно особую — в некотором роде таинственных преступлений, из числа тяжких.
— Ну-ка, ну-ка? Садись,— заинтересовался вдруг Хлыбов, и почти насильно усадил Алексея на скамью. Сам сел напротив.
— Несколько таких дел я по архивам раскопал, и ничего из них не понял. Изложено на первый взгляд бестолково, в свидетельских показаниях разнобой. Внятные мотивы отсутствуют, одни домыслы, свидетели все на подозрении. Улик либо нет вовсе, либо одна взаимоисключает другую. В результате с большой натяжкой списывают косвенное соучастие на первого попавшегося. Словом, неразбериха полная, я, правда, попытался установить некую определенную сумму качеств, то общее, что позволяло выделить эти дела в особую группу. Кроме неразберихи, все преступления такого рода относятся к особо тяжким, это раз. Направлены против личности, два. Личность потерпевшего, как правило, образцом для подражания не являлась. Но это дело обычное, я заключений не делаю, В-третьих, все преступления имели характер возмездия. И самое главное, большая часть свидетельских показаний, кроме явных оговоров или попыток свести счеты, по сути совершенная чертовщина, в прямом смысле. Или новейшая наукообразная ахинея: «резонансные орбиты», «лунные фазы», «сверхактивность солнца»... «Полтергейст». «Земная энергетика», «орбитальная». Вплоть до «биополей». Да! Еще одно свойство. Эти преступления носят, как правило, локальный характер. Привязка к определенной местности, к определенному, я бы сказал, социальному градусу.
Хлыбов опустил тяжелые веки, как бы притушив неподвижный взгляд.
— Так. И поэтому ты здесь?
— Да. Я ждал этой вспышки. Может быть, не один год. Следил за всеми оперативными сводками. Из вашего района тоже, Вениамин Гаврилович. Даже читал докладную, помните? «Параноидальная чушь с запахом серы» — довольно точное определение для этого рода преступлений. Но вам, кроме меня, пока никто не верит. Да вы сами, кажется, принимаете происходящее у вас в районе за бред, не так ли?
По каменной неподвижности Хлыбова он вдруг понял, что пробный шар упал-таки в лузу. Похоже, крест над входной дверью появился не случайно.
Некоторое время Хлыбов молча обдумывал сказанное. Потом спросил:
— Имеешь ввиду конкретное дело?
— К сожалению, я не видел в глаза ни одного, пока все выводы только по сводкам.
— Угу.
— Кстати, что за дело такое Золотарева?
Хлыбов хмыкнул.
— Пожалуй, то самое. С запахом серы. Суть вкратце такова. Трое местных ублюдков призывного возраста торчали у видеосалона на набережной, подъехал четвертый, Золотарев, на «девятке». Вышел из машины и присоединился к компании. Минут двадцать стояли, курили, приставали к девушкам с вопросам: за сколько она бы согласилась? Потом Золотарев распрощался и сел в машину. По показаниям ублюдков, мотор вдруг взревел, и с места на скорости, никуда не сворачивая, «жигуль» выскочил на набережную и — прямиком ахнул в воду. Со своего места все трое видели выброс воды, фонтаном. Но когда прибежали, приятель уже пускал со дна пузыри. Никто, разумеется, нырять за ним не стал. Стояли, глазели, пока не приехала милиция, но вот дальше... запах серы делается ощутимее. Один из ублюдков настаивает, что в машине у Золотарева на заднем сидении находилась женщина, или девушка, лица он не разглядел, поскольку стекла были типа «хамелеон», с затемнением. Когда Золотарев сел за руль, она положила ему на плечо руку. Другой ублюдок вроде подтверждает слова первого, но сомневается, потому что заглянул перед этим в салон. В салоне в это время никого не было и, если бы подошла женщина, чтобы сесть, он бы обратил внимание. Третий свидетель вообще ничего не видел.
— Машину подняли?
— Разумеется. Глубина всего четыре метра. Но Золотарев даже не сделал попытки выбраться. Судя по всему, при вхождении автомобиля в воду его сильно ударило головой о лобовое стекло, и он потерял сознание. Когда машину подняли, кроме трупа Золотарева, в салоне никого не было. Все дверцы оказались закрыты. Было приспущено стекло рядом с водителем, и теоретически выбраться через него наружу можно. Но на практике... едва ли. На всякий случай дно вокруг пробагрили вдоль и поперек. Результата никакого, конечно. Версия о самоубийстве тоже — под большим сомнением.
— Может заклинило рулевую колонку?
— Машина в исправности. Проверили первым делом. Течения нет... пруд.
Хлыбов поднялся, давая знать, что разговор окончен. Протянул руку.
— Четвертый этаж. Квартира 180, не забыл?
Алексей кивнул.
— Вчера сделали уборку, сняли печати. Так что все в лучшем виде.
— Квартира была опечатана?
— Ах да! — Хлыбов усмехнулся.— Я уже начал забывать, что ты приезжий. Это хорошо... хорошее качество. В одной из комнат, Алексей Иванович, проживал покойный Шуляк. Там его и нашли, с заточкой в спине. Соседняя комната числилась за одним придурком из агропрома, но он появлялся редко. Пригрела какая-то бабенка, как оказалось. Теперь находится под следствием. Вот так. Завтра, в девять ноль-ноль, быть на службе.
Хлыбов круто повернулся и, не оглядываясь, двинулся прочь. Алексей глубоко вздохнул, передернул плечами. Общение с Хлыбовым явно действовало на психику.
Он взбежал на четвертый этаж. Дважды провернул ключ.
Обычная двухкомнатная квартира с гостиничным набором стандартной мебели в обеих комнатах. Алексей вдруг остро почувствовал, что не хотел бы поселиться в комнате, где был убит следователь Шуляк. На мгновение он ярко до деталей представил себе, как бы сам проводил осмотр места происшествия, мысленно определил положение трупа — почему-то оказавшегося под кроватью. Опрокинутую на истертый палас пепельницу. Даже сладковатый трупный запах почудился в воздухе... И пожалел, что не догадался спросить у Хлыбова, в какой комнате проживал Шуляк. Хотя не исключено, что Хлыбов сам, вполне намеренно, пустил ему под череп этого ежа.
Алексей включил трехпрограммник и открыл окна. Затем отправился в ванную.
...После дороги и освежающего душа он уснул быстро, хотя и прежде на бессонницу никогда не жаловался. Но ближе к утру стали сниться кошмары. Он увидел себя на пожаре, сквозь пламя. Потом языки пламени вдруг ужались в светящуюся точку — огонек сигареты в темном окне мансарды... Чуть отодвинутая штора. Они с Хлыбовым бегом спускаются с веранды. Он оглянулся на окно, но вместо светящейся точки ему в спину глядел темный зрачок ствола, испугаться он не успел — зрачок потух, прикрывшись тяжелым веком, и из тьмы надвинулось малоподвижное лицо Хлыбова. Затем голос Анны с Хлыбовскими грубыми интонациями произнес отчетливо: «Каналья..». И все исчезло...
На стуле возле своей кровати Алексей с удивлением обнаружил широкоплечего, крутолобого блондина в темном блузоне с золотистой шерстью на толстых запястьях. Тот что-то говорил ему, напряженно двигая бескровными губами, но Алексей сквозь сон ничего не мог разобрать.
И вдруг проснулся.
На стуле у изголовья никого не было. Алексей сел, провел по лицу ладонью. Услышал, как в прихожей хлопнула входная дверь. На часах было около пяти утра. Он встал и вышел в прихожую, проверить дверь,— она оказалась на замке.
«Наверное, сосед... из агропрома,— лениво подумал Алексей. И, заглянув на всякий случай в пустующую комнату, отправился досыпать.
На полу возле его стула остались сырые грязные потеки с обуви. Он посмотрел в окно — мелкий дождь стучал звонкими каплями по жестяному карнизу. День обещался быть пасмурным.
Глава 5
В 9.00 Алексей вошел в здание районной прокуратуры. Огляделся. Просторный коридор буквой П, вдоль стен несколько стульев, стол в углу с обсохшей чернильницей, выкрашенные зеленой масляной краской стены и одинаковые дерматиновые двери с безликой нумерацией — типичное присутственное место, при необходимости годное также под склад, под следственный изолятор, музыкальную школу, стоматологическую поликлинику и т.п.
Алексей остановился перед открытой дверью в приемную. За электрической машинкой сидела миловидная женщина в строгой пиджачной паре и бойко выстукивала на клавиатуре.
— Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Секретарша вскинула на мгновение глаза на посетителя и продолжала печатать.
— Мне к Хлыбову, пожалуйста, моя фамилия Валяев. Алексей Иванович.
Ответа не последовало. Алексей помедлил и сел на стул напротив, с добродушной улыбкой уставился на неприступную Людмилу Васильевну. Хлыбовский хамоватый стиль, кажется, вполне укоренился в стенах руководимого им учреждения. Правда, лишенный напрочь обаяния личности самого Хлыбова. Поведение посетителя показалось хозяйке приемной явно бесцеремонным. Она сердито кивнула на дверь.
— Подождите в коридоре.
— Вениамин Гаврилович занят? Или отсутствует? — мягко спросил Алексей, не замечая раздражения, но и не двигаясь с места. Вместо ответа прозвучала пулеметная очередь на машинке. Вторая, третья. Наконец Людмила Васильевна освободила закладку, и Алексей внутренне приготовился к атаке.
— Я же сказала вам: подождите в коридоре. Вы русский язык понимаете?
Обаятельная, белозубая улыбка и добродушнее молчание ставили раздраженную женщину в очень неловкое положение. Алексей видел, что ее уже понесло. Поднявшись со стула, она вонзила в посетителя испепеляющий взгляд.
— Немедленно выйдите. Если не хотите для себя неприятностей!
— Людмила Васильевна, уважаемая, давайте попробуем для начала познакомиться.
— Вас вызвали повесткой? — непримиримо официальным тоном перебила женщина и протянула руку. Алексей сокрушенно пожал плечами.
— Увы. У меня даже повестки нет,— он поднялся.— Хорошо, я подожду в коридоре, с вашего позволения.
В дверях еще раз обернулся.
— Извините. Это надолго?
Ответа, конечно, не последовало. Он сел в коридоре на один из стульев. Сердитая Людмила Васильевна теперь не казалась ему даже миловидной, минут через пять из кабинета Хлыбова в приемную отворилась дверь, и Алексей увидел на пороге знакомого следователя из областной прокуратуры Игоря Бортникова. Поднялся навстречу.
— Валяев... Леша! И ты здесь?
— И я.
— В командировку?
— Определяюсь на службу.
— Ну да? К Хлыбову... в этот гадюшник?! За какие грехи, помилуй?
Сказано было намеренно громко, в расчете, что вышедший следом хозяин кабинета тоже услышит. И Хлыбов услышал.
— Наш гадюшник, молодой человек, производное от вашего. И далее, по восходящей, чем выше, тем гаже.
— Старый кадр,— иронически подмигнул Игорь, обращаясь к Алексею.— Винтик! Ни за что не отвечает. Исполнял приказ, и точка. Все концы в воду.
Он повернулся к Хлыбову спиной, отвел Алексея в сторону.
— Я тут, в гостинице торчу. Забегай ближе к вечеру. Поболтаем.
Хлыбов сидел у себя в кабинете за длинным, полированным столом. Дверь к нему была распахнута настежь. Алексей остановился возле сосредоточенно уткнувшейся в бумаги Людмилы Васильевны, мягко спросил:
— Вы позволите?
— Теперь, пожалуйста,— отчеканила Людмила Васильевна, и в мимолетном взгляде, брошенном на него, Алексей разглядел едва скрытую неприязнь.
— Извините,— он вошел в кабинет и закрыл за собою дверь.
— Не поладили? — усмехнулся Хлыбов.— Она это умеет. Заградотряд. Ладно... к делу. Сейчас познакомлю тебя с коллективом, кто на месте. А с остальными сам, в рабочем порядке.
Он порылся в столе, достал тощую папку.
— Это тебе для начала. Изучи и приступай. На все про все — недели сроку. Ублюдка надо найти.
— Розыскное?
Хлыбов уловил нотку разочарования в голосе следователя. усмехнулся.
— Твой приятель прав на все сто, здесь действительно гадюшник, редкий. Качественно новая криминогенная ситуация. Все сплелось в один клубок, поэтому, Алексей Иванович, за какой конец ни тяни — конца не будет,— Хлыбов взял папку в руки.— Почему такая срочность? Ублюдок, возможно, еще жив. Но появятся основания, а они появятся обязательно, возбуждай уголовное дело. Картина ясна?
— Разберемся.
Спустя полчаса Алексей сидел за столом на новом рабочем месте и, уткнувшись в папку, изучал материалы — «Дело 4279 по факту исчезновения гр-на Суходеева Владимира Геннадиевича. Начато 15 мая 1990 года. РОВД, оперуполномоченный Ибрагимов».
Две фотографии Суходеева, анфас и профиль. Молодое, вполне заурядное лило. Учащийся СПТУ 13... Паспорт, протокол, заявление на пропавшего без вести. Анкетные данные... Предполагаемое время исчезновения — 10 мая. Обстоятельства исчезновения — таковых не имеется, вернее, заявитель не знает. Предполагаемые причины — отсутствуют, вероятные места нахождения — тем более... Хм. Не густо.
Та-ак. Рост... Возраст.... Телосложение... Словесный портрет... Характерные приметы... Описание одежды, обуви, личных вещей на момент исчезновения.
Привлекался ли в прошлом к уголовной ответственности? Привлекался в качестве свидетеля.
Странно. В таком случае, откуда взялись в розыскном деле две судебные фотографии — анфас и профиль? Следует уточнить. Алексей поставил красный крест и продолжал читать.
Сведения о заявителе — Борисенкова Евдокия Семеновна, сожительница... сожительница отца пропавшего Суходеева. 1955 года рождения, место работы — столовая райобщепита.
Протокол допроса Суходеева Г.Я., отца... Хм. Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю.
Протоколы допросов свидетелей по месту учебы... То же самое.
Запрос-поручение в город Мегион Тюменской области по адресу в записной книжке... Протокол допроса следователем г.Мегиона.
Запросы в рай- и горбольницу. В морг — на предмет установления неопознанных мужских трупов на период с 10 мая по 17-е. Еще запрос, в Днепропетровск...
Постановление о возбуждении уголовного дела по факту пропажи гр-на Суходеева В.Г. расследование которого поручить старшему следователю районной прокуратуры Шуляку. Число. Подпись: прокурор Хлыбов.
План расследования по делу...
Алексей отодвинул папку и поднялся из-за стола. Розыскное дело, как почти все дела такого рода, было сляпано наспех, поверхностно, вероятно, в расчете, что разыскиваемый отыщется, сам. Хотя... если исходить из сроков (к тому времени Суходеев отсутствовал почти неделю) можно было бы и озаботиться. Не озаботились. Протоколы допроса даже основных свидетелей составлены крайне примитивно, в лоб. Обычно большая часть допрашиваемых ведут себя совершенно, как дети. На прямые вопросы отвечают путано, невпопад, зато косвенными, наводящими из них можно вытянуть больше, чем они сами подозревают, ибо не имеют склонности к анализу пусть даже хорошо известных им фактов. Папаша Суходеева, кажется, из этого числа.
И все же, какие были основания передавать дело в прокуратуру? Вместо того, чтобы активизировать розыск?
Хлыбов намекал на какую-то уголовщину, кажется. Но почему в деле это никак не отражено? Разве что две судебные фотографии, анфас-профиль. И свидетельство по делу. По какому делу пропавший Суходеев выступал в качестве свидетеля?
Ставим еще крест. Это все надо будет уточнить. А пока, чтобы получить представление, придется начать с нуля. С установления круга знакомых, с допроса свидетелей.
Алексей открыл последний лист в деле — план расследования, составленный, по всей видимости, покойным Шуляком. С первого же взгляда он почувствовал хватку квалифицированного следователя. Круг первоначальных следственных действий во многом совпадал с тем, что он себе мысленно наметил. Та-ак... допросить... допросить... СПТУ. Школа... Изучить документы. Поручить обыск, снова допросить... А вот тут появились новые фамилии, которых в розыскном деле Алексей не встретил. Гражданка Черанева Т.Д.., и вот она, фамилия... Золотарев! Алексей даже присвистнул.
Уж не тот ли самый каскадер-самаубийца? На «Жигулях»... Правда, в свидетели он теперь не годится. Однако круг, кажется, замкнулся. Один круг... Один из... Он вспомнил недавние слова прокурора Хлыбова: «Качественно новая криминогенная ситуация. Все сплелось в один клубок. Поэтому за какой конец ни тяни — конца не будет».
Тогда, быть может, исчезновение Суходеева, прыжок в воду Золотарева и убийство следователя прокуратуры Шуляка... между собою тоже как-то связаны?
Ну, нет! Это было бы слишком. Алексей мысленно над собой посмеялся. Одна фамилия, Золотарев, а как сразу взыграла фантазия!
Из коридора в приоткрытые двери он услышал возбужденные голоса. Вышел взглянуть. К нему тотчас обернулся низенький, плотного сложения следователь Махнев, сосед по комнате, явно в поисках сочувствующей аудитории.
— Валяев, душа, у тебя сколько дел на руках?
— Одно. Розыскное.
— Счастливчик, а? Всего одно! Слушай, бога ради, возьми у меня младенца, а? Возьмешь? Если возьмешь, я прямо счас на колени встану, хочешь?
Круглый Махнев вдруг сделал подозрительное лицо и, придвинувшись вплотную, с оглядкой страшным голосом зашептал:
— Нет, он что, Гаврила, сукин сын, сам их мочит, что ли? Раз в месяц. И мне! И мне! Мне! У меня мальчики кровавые в глазах по ночам. Я забыл, что такое сон.
— Где нашли? — спросил Алексей, догадываясь, что Гаврила — это Вениамин Гаврилович Хлыбов.
— В мусорном баке, на улице Парижской коммуны, угловой дом. В коробке из-под обуви. И ленточкой шелковой розовой перевязана. Бантик! С любовью так, представляешь? Особенно этот бантик,— ужасно как умилительно! Дворничиха увидела: ну, думает, привалило. Импортная, ха-ха! Цап коробку — и к себе. Развязывает бантик, представляешь? открывает коробку, а там сверток спеленутый. Размотала дурочка и в крик. Короче, папа, или мама, что не исключено, взяли младенчика за ножки и головкой о стол... шаррах! Чтобы не мяукал, надо полагать. Крепко так взяли — на ножках следы от пальцев остались. Все пять. И в области шеи, сзади, тоже синяки, правда, странного происхождения, ну? Возьмешь?
Алексей кивнул:
— С Хлыбовым поговори.
— С Гаврилой? Хы! Гавриле где скажешь, там и слезешь.
Импульсивный Махнев вдруг круто обернулся к другому собеседнику, который невозмутимо курил, никак не выражая своего отношения.
— Вы еще не знакомы? Это Вася. Просто Вася, без фамилии. Она ему без надобности. Его и так все в Союзе знают. Душа человек! Если где увидишь на заборе или в сортире имя "Вася", это он. Помнят, любят, уважают, ценят! И по службе — прекрасный специалист! В основном по изнасилованиям. Мне Хлыбов младенцев подбрасывает из месяца в месяц, а ему этих — трахнутых. Я был у него как-то на допросе. Вася — сплошная любезность. Спрашивает потерпевшую: почему вы решили, что вас собираются изнасиловать? Та молчит. Вася дальше: он что начал в вашем присутствии расстегиваться?.. Производил над вами насильственные действия?.. Нет, ты чувствуешь, каков слог? Какая мягкость в обхождении? Не оскорбить, лишний раз не травмировать.
— Ботало коровье,— добродушно отозвался Вася и, бросив в урну окурок, отправился к себе.
Махнев вслед ему восхищенно вздохнул:
— Засмущался скромняга. Не любит, когда хвалят.
Вернувшись в свою комнату, Алексей порылся в телефонном справочнике, набрал нужный номер:
— СПТУ?
— Точно! — хрипло гаркнули в трубку.
— Здравствуйте, мне нужен замдиректора по учебно-воспитательной работе, следователь прокуратуры Валяев говорит.
— Слушаю вас.
— По делу Суходеева, если помните.
— Суходеева? Это какого? А, да-да! Сейчас, одну минуту.
Трубку на том конце провода положили на стол. Алексей различал удаленные голоса. Мужской, хриплый и женский, с кокетливым смешком. Стук каблучков... Прошло минуты три, он начал уже терять терпение, как вдруг трубка ожила.
— Суходеев, говорите, нужен? Суходеев в данный момент на занятиях.
От неожиданности Алексей не нашел что ответить.
— Если есть срочность, пожалуйста, можем снять, но лучше после трех. Устраивает? Алле?!
— Вы можете сказать, когда Суходеев появился на занятиях? С какого числа?
— Минуту...— в трубке, слышно, зашелестели страницы.— Вот, нашел. С десятого мая и по сегодняшний день.
Черт те что! Алексей заглянул в папку на первой странице. Парень с пятнадцатого мая в розыске и в то же время исправно посещает занятия.
— Вас как по имени-отчеству?
— Иван Андреевич.
— Иван Андреевич, этот Суходеев знает, что он в розыске? Почему ни разу не появился хотя бы дома? Не дал знать в милицию?
Трубка хрипло захохотала.
— Много хотите от них. Такой возраст, олигофрены! В голове единственная мысль гвоздем: кому задрать подол? Вторая — выпить!
Алексей молчал, вот и весь розыск. А он собирался туда с опросником. Однако в деле Суходеева содержатся протоколы допросов других учащихся, не меньше трех. И несколько вопросов к заму. Ни из одного не явствует, что Суходеев, отсутствуя, тем не менее присутствует.
— Через полчаса, Иван Андреевич, я буду у вас.
Он положил трубку, похоже, произошла накладка. «Олигофрены», вероятнее всего мудрят — покрывают или скрывают приятеля по неизвестной пока причине. А зам — тот попросту не был в курсе. Или перепоручил. Мало ли может быть вариантов. Плюс халтурная работа органов дознания.
Алексей доложился в приемной, что уходит. Заодно расспросил, где СПТУ 13 расположено, на сей раз, к его удивлению, Людмила Васильевна была очаровательна и исключительно любезна, настолько, что ему показалось, будто он имеет дело совсем с другим человеком. Пользуясь моментом, Алексей выложил перед ней фотографию размером 3х4, только что найденную им у себя в столе.
— Мне кажется, Людмила Васильевна, этого человека я знаю? Недавно видел? -- неуверенно произнес он, пытаясь припомнить, где именно. И не мог.
С фотографии смотрел крутолобый, очень светлый блондин с прямыми, резкими чертами лица и такими же светлыми глазами.
— Это Виталик,— тихо сказала женщина, едва взглянув.— Виталий Шуляк. Он недавно погиб.
Алексей тотчас вспомнил утренний визит незнакомца. А ведь он принял его за соседа по комнате из агропрома? Но грязные потеки под стулом... И дверь! Он отчетливо слышал, как хлопнула за ним входная дверь...
Черт знает что такое! Алексей крепко провел ладонью по лицу и в совершенной прострации вышел на улицу.
Глава 6
В этой части города Алексей был вчера с Хлыбовым. Он вышел на конечной остановке автобуса. До училища оставалось пройти метров триста через пушистый молодой ельник. Здесь, за металлическим сварным забором, располагался целый учебно-производственный комплекс — с общежитием в три этажа, с отдельной столовой и огромным актовым залом. Железные, тоже сварные ворота на территорию училища были смяты неведомой и злой силой. Одна створа с серпом и молотом в центре еще держалась на верхней петле, другая валялась неподалеку, ржавая, с прорастающей сквозь нее яркой щеточкой майской травы. Бросились в глаза разбитые кое-где стекла учебного корпуса и обшарпанные двери с засохшей на ступенях старой грязью. Пустые коридоры, плакаты на стенах выглядели не многим лучше.
Алексей зафиксировал картину лишь краем глаза. Фотография Шуляка в кармане и его утренний визит что-то необратимо сместили в сознании, привычная почва была выбита из-под ног, и в голове заезженной пластинкой крутилась одна и та же фраза: этого не может быть потому, что не может быть никогда. Скорее всего, фокус! И как у всякого фокуса, у этого тоже должно быть очень простое, даже до глупости объяснение. Останется только развести руками, успокаивал он себя.
Ивана Андреевича на месте не оказалось. Директор уже месяц как в отпуске по горящей путевке. Возможно, появится через три дня. Замдиректора по производству? Да, у нас есть такая должность, но человека недавно проводили на пенсию. Место вакантно.
— Будем ждать Ивана Андреевича,— Алексей сел к столу. Кудрявая, пухлая секретарь-машинистка с шестимесячной «химией» на голове и тонко подщипанными, покрасневшими бровками смотрела на товарища из прокуратуры радостно и беспрестанно невпопад улыбалась. Приглядевшись внимательнее, Алексей вдруг понял, что дама попросту пьяна и — улыбнулся в ответ широко и обаятельно, как мог. В ответ она не то мурлыкнула, не то кокетливо хихикнула. Контакт был установлен.
— Я поищу Ивана Андреевича, только ради вас... мужчина,— добавила она и сделала попытку выбраться из-за стола. Покачнулась. Алексей вовремя поддержал ослабевшую даму, и она благодарно привалилась к нему пухлой грудью.
— Какая я пьяная, боже! — с беззащитной доверчивостью пожаловалась она и вышла, задев дверь плечом. «У секретарей-машинисток определенно я пользуюсь сегодня ошеломительным успехом», — хмыкнул про себя Алексей.
Вскоре он услышал в конце коридора голос Ивана Андреевича.
— Я же тебе сказал, меня нет... ни для кого. Прокуратура, прокуратура... заладила. Я плевал на нее, ясно?
С одного взгляда Алексей понял, что перед ним отставной хрипун в чине майора или капитана. Физиономия Ивана Андреевича была багровой, он ковырял в зубах,— судя по всему, его сдернули с места в самый разгар застолья, но мужик он был крепкий и форму держал.
— А-а, прокуратура! Ждем, ждем. Но должен предупредить, уважаемый, э?..
— Алексей Иванович.
— ...Алексей Иванович, неувязочка вышла, честно признаюсь вам, дезинформировал органы, ха-ха-ха! Не по своей вине, разумеется, но... дезинформация прошла. Этот, как его?..
— Суходеев.
— Суходеев, точно. Суходеев на занятиях отсутствует. Вот так. Вопросы еще есть ко мне?
Иван Андреевич явно считал вопрос исчерпанным и повернулся, чтобы уйти.
— Сегодня отсутствует? Или вообще? С какого числа?.. Да вы присядьте, Иван Андреевич, дорогой. Я вас долго не задержу, — Алексей говорил нарочито мягко и вкрадчиво, и хрипун немедленно насторожился. Кто знает, какой финт эта прокуратура через минуту выкинет. Он упер трезвеющий, пытливый взгляд в следователя и мгновенно переориентировался.
— Заходите. Прошу! — толкнул сильно дверь в кабинет.
— Иван Андреевич, скажите, откуда у вас «дезинформация»? Из какого источника?
Алексей демонстративно выложил из «дипломата» бланк протокола, ручку. Отставник ткнул блестящим от жира пальцем в кнопку селектора.
— Зинк... кхм! Зинаида Петровна, зайди.
В дверях не сразу появилась голова с «химией».
— Ну? Чего?
— Журнал. Живо!
— Сча-ас,— лениво зевнула Зинаида, и каблучки неуверенно застучали по коридору. Иван Андреевич молча барабанил крепкими пальцами по столу и глядел в сторону, потом выхватил заляпанный, в пятнах журнал у Зинаиды и энергично начал листать.
— Вот, взгляните. Сведения о посещаемости. Сухо-де-ев... С десятого мая и по сегодня. Полный марафет.
— Кто его наводил?
— Классная дама! — Иван Андреевич весело хохотнул.— Есть у нас такая, есть. Охорзин Кирилл Кириллович, мужик что надо, но с отчетностью хоть плачь. Пример налицо. Вот.
Истину следователь Валяев узнял спустя примерно час от двоих «олигофренов», которых во время большого перерыва затащил в комнату общежития для разговора. Усадил перед собой.
— Гнилой вернется, ему теперь неделю Киряй Киряича водкой поить,— буркнул один.
Другой не согласился.
— Припух Гнилой. С концами. — Гнилой, это кто? — перебил Алексей кое-как разговорившихся «олигофренов», которые, впрочем, были не прочь Гнилого заложить.
— Воха, ну?
— А Воха кто такой?
— Суходеев Вовка, ты че?
— Понятно. А за что вы его так... Гнилой? За какие заслуги?
— А-а... тухляк. Местный.
— Вы с местными не в ладах? Враждуете?
— По-разному. Когда как.
— А Киряй Киряич, это кто?
— Классный... в группе.
— Охорзин Кирилл Кириллович?
— Ну.
— А почему Воха должен поить Киряй Киряича водкой? За что?
— Такса у него. Два дня прогула — с тебя пузырь. Еще два — еще пузырь. А Гнилой две недели уже в отгулах.
— Значит, за пузырь он вас в журнале не отмечает? Так надо понимать?
— Ну. Если хочешь, можно зараньше договориться. Хочешь — потом, без разницы.
— Краснухой не берет.
— У нас иногда полгруппы в бегах, Киряич тогда ваще не просыхает. Целыми днями на бровях.
— А другие преподаватели? Тоже так?
— По-разному.
— Как это по-разному? Иван Андреевич, например, замдиректора, он тоже... водкой?
— Воруют.
— У вас воруют?
— Че у нас-то? В столовой. Еще в общаге, с жильцов навар. Хватает.
Из дальнейшего разговора Алексей понял, что комендант общежития, женщина, с ведома администрации сдает пустующие якобы из-за ремонта комнаты в левом крыле под жилье. Иногда просто на ночь. Жили у них цыгане, например. А в прошлом году с весны и все лето торчали шабашники с Кавказа... Алексей сразу вспомнил о «лицах кавказской национальности», которые изнасиловали в кустах семидесятилетнюю старуху. Уже на следующий день «лица» были установлены. Значит, Хлыбов должен быть в курсе происходящего здесь. К тому же, училище находится почти рядом с его местом жительства.
Алексей расспросил «олигофренов», на какие деньги Суходеев станет поить Киряй Киряича водкой, да еще в течение недели. Разумеется, это его заботы, а все же? Оказалось, деньги у Суходеева иногда водились. Отмазаться от Киряича для него не проблема. Откуда деньги? Ну... порнуха. Кассеты еще записывал... Потом даже слух прошел, будто Гнилой мотоцикл заимел.
Мало-помалу Алексей выяснил, что в прошлом году Суходеев два месяца отработал грузчиком на продуктовой машине. В гор- или райторге, они не знают, и нынче собирался туда же. Насчет мотоцикла полной уверенности у них нет. Суходеев ездил на разных, наверное, одалживал у друзей. В общежитии ночевал, да, довольно часто. Иногда не одну ночь. Тут посторонних много кантуется.
Алексей опросил еще трех «олигофренов», но информацию в том или ином виде получил все ту же, без особых дополнений, что в общем-то говорило о ее достоверности.
Не без внутреннего облегчения он, наконец, покинул территорию учебно-производственной зоны и свернул по тропе через пушистый веселый ельник к берегу пруда. Ему требовалось минут двадцать одиночества и тишины, чтобы осмыслить полученные данные.
Под ноги выбежала узкая асфальтовая дорожка, та самая, на которой вчера они встретили завфинотделом Возжаева с супругой, и Алексей, не спеша, двинулся по ней, но в обратную сторону, наслаждаясь веселым птичьим щебетом и настоянными на хвое весенними ароматами.
...Сбыт мясопродуктов по спекулятивной цене — это не игры на детской площадке. Тут возможны два варианта. Либо со стороны Сухсдеева это мелкое воровство, от случая к случаю, то, что может позволить себе несун-грузчик, либо задействована устойчивая криминальная цепочка «хищение товара — сбыт», за которую придется подергать. И еще важный момент — мотоцикл. В розыскном деле транспортное средство почему-то не фигурирует. Если все так, к поискам необходимо подключать госавтоинспекцию.
Асфальтовая дорожка шла теперь вдоль металлического забора с указателем в виде длинной стрелы с надписью «санаторий-профилакторий Н-ского металлургического комбината», забор был точно такой, как тот, что окружал территорию учебно-производственной зоны. Правда, здешний поблескивал свежей битумной краской, и территория за ним выглядела ухоженной. Вскоре Алексей оказался перед центральным входом с подстриженными кустами акации. Сквозь молодую березовую рощицу в глубине светлело здание профилактория, справа блестела, зеркальной гладью живописная лагуна.
Он повернул назад.
И вдруг на одной из боковых аллей раздались громкие, явно не трезвые голоса. Последующая за тем сценка показалась ему примечательной, и он остановился. Двое изрядно подгулявших мужичков, держась друг за дружку, заступили дорогу трем женщинам. Особенно хорош в своем роде был маленький, тщедушный мужичонка с зычным не по росту голосом. Он с трудом отлепился от приятеля и, растопырив руки, двинулся на женщин.
— Стой, бабы! Я говорю, стой! Мы вас счас е.... будем. Поял? Кому говорю!
В ответ раздались заполошные взвизги, смех, и одна из бабенок, побойчее, задиристой сорокой выскочила вперед.
— Айда-ко, ....! Нас вон трое против вашего. Айда, попробуй!
— Во! Я тя счас, кучерявая, захомутаю...— мужичонка стянул с головы кепку и шмякнул с размаху под ноги.— Ии-ех! — наступил, растер.— Колька-а! Окружай бабье дырявое, не ушла чтобы ни одна, поял?
Он враскорячку двинулся на кучерявую, загребая воздух руками, но та и не думала никуда бежать, а стояла, уперев руки в бока, и дразнила:
— Давай. Пробуй давай, пробуй... стручок немытой.
И когда тот уже готов был облапить, она толкнула его двумя руками с силой в грудь. Но мужичонка, хотя и вдрызг пьяный, успел-таки схватить бойкую бабу за рукав, и оба с визгом и матом повалились в кусты. Собутыльник в это время, исполняя приказ, тоже враскорячку и тоже с матом ловил по кустам двух других бабенок, которые однако, далеко от него не убегали.
Визг, хохот, пьяная возня свидетельствовали, конечно, не о преступлении, а о веселье.
Тщедушный мужичонка оказался-таки хватом. Кучерявая кое-как, на коленках, задом, отбиваясь от домогательств, выбиралась из кустов на аллею. Плащик и юбка на ней были завернуты на голову, а трусы спущены и держались на коленях. Майский прохладный ветерок, должно быть, приятно освежал бело-розовые ягодицы.
Уже удаляясь, Алексей слышал зычный голос «насильника».
— Дак че, бабы? Пошли к нам в номер. Коль, а Коль? У нас там осталось, кажись, а?
— Они не пьют. Ишь, прыткие.
— Айда-ко не пьют! — загалдели возмущенные женские голоса.— И пьем, и это самое... Токо не в кустах.
— Го-го-го!
После всего увиденного и услышанного следователь Валяев, уходя, чувствовал себя совершенным иностранцем.
Глава 7
После училища Алексей зашел на несколько минут в прокуратуру забрать из сейфа папку с делом Суходеева. Затем отправился в райотдел милиции.
Оперуполномоченный Ибрагимов, усатый, смуглый татарин, расположенный к полноте, долго изучал удостоверение работника прокуратуры, выданное Валяеву. Потом, словно бы нехотя, возвратил документ и уставил на Алексея блестящие, навыкате глаза.
— Рафик Хымматович...
— Хамматович,— поправил Ибрагимов, и это были его первые слова с того момента, как Валяев вошел в кабинет и представился.
— Рафик Хамматович, в розыскном деле, которое вы начинали, имеются две сигналетические фотографии гражданина Суходеева. Вот они, анфас-профиль. Здесь же, в графе «привлекался ли в прошлом к уголовной ответственности», вы пишете: привлекался в качестве свидетеля. В связи с этим у меня к вам вопрос: Суходеев привлекался в качестве свидетеля или все же обвиняемого?
После продолжительной паузы последовал односложный ответ:
— Все же свидетеля.
— В таком случае, откуда эти снимки?
Снова последовала пауза.
— Из данных учета.
— Я это понимаю. Но до сих пор свидетелей в фас, в профиль у нас, кажется, не снимали. Обвиняемых, да. Ну, еще трупы для последующего опознания, но свидетеля?..
Рафик Хамматович смотрел на него в упор, не мигая, и... молчал. Алексей почувствовал, что не в силах сдерживать улыбку. Пояснил:
— Я человек здесь новый. В городе второй день. На работе — первый, только-только начинаю входить в курс, так что за глупые вопросы не обессудьте.
— Я вам ответил. Фотографии из данных учета, это все.
— Но как-то они туда попали?
Снова пауза. И расплывчатое начало:
— Среди молодежи от семнадцати до двадцати пяти — двадцати семи лет у нас каждый третий имеет судимость, поэтому в данных учета...
— Вот видите,— перебил Алексей.— У Суходеева, стало быть, судимость имеется. А вы пишете, что проходил свидетелем, и в то же время приобщаете к розыскному делу две фотографии из старого уголовного. Поэтому, Рафик Хамматович, ставлю вопрос уже конкретно: по какому делу гражданин Суходеев проходил в качестве обвиняемого?
Вновь последовала пауза, и лаконичный ответ, с явной опаской в голосе:
— Суходеев проходил свидетелем, а не обвиняемым.
Алексей вздохнул, получалась сказка про белого бычка.
— Ну, хорошо, в таком случае, по какому делу Суходеев проходил свидетелем? Раз уж вы сами на этом настаиваете.
«Восток — дело тонкое,» — усмехнулся он, терпеливо ожидая, пока Рафик Хамматович обдумает свой очередной ответ.
— Почему об этом вы спрашиваете меня?
— То есть? — удивился Алексей, не ожидая такого поворота.
— Дело находится у вас в прокуратуре. Я думаю, будет лучше, если вы сами истребуете его из архива.
— С обстоятельствами дела вы лично знакомы?
— В общих чертах. Насколько я помню, оно квалифицировалось по статьям 117 и 102 Уголовного кодекса, умышленное убийство с целью сокрытия изнасилования.
«Сначала изнасиловали, потом убили, чтобы скрыть. Нет, дорогой Рафик Хамматович, ты, наверняка, не ошибаешься, но кто же, ребята, вас так перепугал, что вы по полчаса обдумываете каждое свое слово? Прямо-таки международная пресс-конференция получилась, по скользким вопросам», — подумал Алексей.
Он встал.
— Все ясно, Рафик Хамматович. Большое спасибо за исчерпывающие ответы. До свидания.— В дверях он обернулся еще раз и улыбаясь, пообещал в шутку: — наш разговор, обещаю вам, останется между нами. Так что не беспокойтесь.
И по тревоге, промелькнувшей в глазах оперуполномоченного, понял, что шутка принята им всерьез.
Тревога и взвешенность в каждом слове вполне объяснимы, если учесть, что после убийства Шуляка все начальство и здесь, и в области до сих пор стоит на ушах. Нагнали в район кучу народа с проверками, с перепроверками, устраивают свирепые выволочки за малейшую небрежность в работе, словом, вовсю ищут «козла отпущения», как это обычно бывает, вместо того, чтобы искать преступника. А тут еще он, Валяев,— свалился неизвестно откуда, неизвестно с какими полномочиями, когда у них, местных работников, уже все морды в кровь разбиты.
Что ж, понять можно. А поняв — простить.
Спускаясь с этажа, он услышал внизу, перед дежуркой, рыкающий голос прокурора Хлыбова. С разносными инновациями.
— ... дерьмо собачье! Я тебя посажу сейчас в камеру к уголовникам. А завтра ты выйдешь оттуда девочкой!
Хлыбов крепко держал за ухо в полуподвешенном состоянии зареванного подростка лет четырнадцати. Тот тихо скулил, цепляясь за карающую десницу руками.
— Что? Не слышу?! Громче... Ах, не будешь больше. Сержант? это первый случай у него, или приводы были?
— Первый. Пока.
— Так вот, юноша, на первый раз мы тебя прощаем. Первый и последний, пшел отсюда, ублюдок!
Хлыбов крепко поддал коленом пониже спины малолетнему правонарушителю, и тот, ударяясь о двери, через тамбур вывалялся наружу.
Заметив Алексея, Хлыбов недовольно буркнул:
— Профилактика. Отбирал у малышни деньги, с мордобоем.
— Надолго урок,— улыбнулся Алексей.
— Не думаю,— на ходу бросил Хлыбов, поворачивая в коридор.
«Кто сказал, что Хлыбов не занимается профилактикой правонарушений? Они глубоко не правы», — подумал Алексей, выходя на улицу вслед за начинающим грабителем. Того уже простыл след.
В прокуратуре прямо с порога Алексей встретился глазами с Людмилой Васильевной. Она прошла мимо него с ворохом бумаг, ослепительно улыбаясь, овеянная изысканными ароматами французских духов, и скрылась в левом крыле здания. У нее оказалась весьма недурная фигура и походка совершенно как у профессиональной манекенщицы. Странно, что он заметил это только сейчас.
Из угла за спиной раздалось насмешливое покашливание. Валяев обернулся. Оба приятеля, Махнев и Вася, окутанные сигаретным дымом, с удовольствием наблюдали его задумчивую физиономию.
— Валяев, душа, ты знаешь, что такое цунами?
— Ну-у...
Подвижный Махнев в отчаянии схватился за голову.
— Цунами, Валяев, это когда женщина еще, или уже не замужем, а возраст поджимает. И вот она, наметив жертву, вдруг ринулась в атаку. Блузка расстегнута, бюст наполовину открыт. Глаза томны, сияют. Она вся внимание и трепет, обворожительна. Но ум холодно-трезв и просчитывает все на несколько ходов вперед. Женщина в атаке! Прекрасное и жуткое зрелище. Кстати... ты женат?
— Теперь уже нет.
— У-у-у! Вася, скоро нам предстоит свадьба, нашего бычка зарежут, разделают, расфасуют на порции, завернут в хрустящий целлофан и на веревочке доставят прямо в загс. И бычок, бедняга, еще будет радоваться, что у него все так здорово получилось. Валяев, душа, поздравляю тебя заранее.
— Ну, спасибо! — Алексей искренне расхохотался, удивляясь, что не сумел сообразить сам, хотя еще утром оставил в приемной для оформления свои документы. Пожалуй, его сбил с толку внезапный переход — от ледяной неприязни к очаровательному вниманию.
Сославшись на дела, он отправился к себе и сразу сел за машинку, но вдруг задумался, не следует ли выяснить для начала, что именно он собирается истребовать, а уж потом... Обругав себя нелестными словами, Алексей выглянул в коридор. Махнева в углу уже не было, но Вася, «специалист по изнасилованиям», продолжал сосредоточенно смолить, даже не поменял позу. «Кажется, это то, что нам сейчас нужно».
— Василий, э-э... Николаевич?
— Ну, если Вася не устраивает, тогда...
— Вполне.
Алексей вкратце изложил нестыковку с фотографиями в розыскном деле и, сославшись на оперуполномоченного Ибрагимова, задал тот же самый вопрос: по какому делу пропавший Суходеев проходил в качестве то ли свидетеля, то ли обвиняемого?
После продолжительной паузы Вася добродушно осведомился:
— Почему ты спрашиваешь об этом меня?
Алексей не выдержал и рассмеялся.
— Извини.
— Дело в том,— невозмутимо проговорил Вася,— что никакого «дела» нет.
— Нет? А, понимаю. Дела нет, а убийство с изнасилованием есть?
— Убийство с изнасилованием есть,-- согласился Вася и надолго замолчал.— Тут как получилось? Твоему Суходееву вначале было предъявлено обвинение в совершении преступления. Затем в ходе следствия обвинение с него сняли, и он уже проходил как свидетель. К сожалению, настоящий преступник установлен не был, поэтому дело приостановили, вот и все. Так что на твоего Суходеева, повторяю, никакого дела нет.
Алексей кивнул и отправился к себе. Но в дверях обернулся.
— Ты знаешь, я как-то не понимал раньше, почему в сортирах рядом с другими нехорошими словами обычно пишут «Вася»? А, скажем, не Леша, не Иван? Но послушал тебя и, кажется, понял.
Вася вздохнул и щелчком отправил окурок в угол.
— Ладно, пойдем поговорим.
Алексей почувствовал, как у него за спиной Вася плотно прикрыл дверь. Желая поддразнить, он посмотрел в окно по сторонам и плотно прикрыл форточку. Понизил голос.
— Сугубо между нами. Обещаю.
Вася добродушно кивнул.
— По крайней мере, на источник не ссылайся.
— Договорились.
В обычной неторопливой манере Вася (Василий Николаевич Соковкин) рассказал следующее:
— В прошлом году, в июне, был обнаружен женский труп возле железнодорожного переезда. В черте города. Труп опознали — Калетина Ирина Георгиевна, пятнадцать лет, школьница. Левая нога отрезана железнодорожным составом ниже колена. Факт изнасилования установили на месте при наружном осмотре. Но была это попытка самоубийства, или потерпевшую убили, чтобы замести следы, мы узнали уже из заключения судмедэкспертизы. В крови трупа Калетиной эксперты обнаружили большое количество алкоголя. Факт изнасилования тоже подтвердился. Повреждена вульва, разрыв девственной плевы. На теле множественные ушибы, ссадины. Но это все не смертельно. Причину смерти показало вскрытие. В легких обнаружена вода. Это поначалу нас озадачило. Одежда на трупе совершенно сухая, кое-где даже со следами утюга, воды в радиусе пяти километров от переезда не найти. Нет хотя бы лужи, куда можно спьяну угодить. Оставалось предположить одно: потерпевшую утопили, погрузив голову в какую-то емкость, например, в ванной. И вынесли в ночное время к переезду. Почему к переезду, тоже не ясно. Место достаточно оживленное, в темное время суток освещено. Хотя рядом, даже не надо переходить линию — небольшой хвойный перелесок. Ну, начали как обычно с опросов. Когда Калетину последний раз видели? С кем? В каком месте?.. В результате, уже к вечеру вышли на трех человек.
— Один из них Суходеев?
Вася кивнул, ногтем выбил сигарету.
— Ты куришь?
— Кури. Проветрим.
— Тебе фамилия Золотарев о чем-нибудь говорит?
— Автородео? Со смертельным исходом? Вчера узнал от Хлыбова.
— От Хлыбова? — Вася с некоторым сомнением, как показалось Алексею, качнул головой.— Ладно. А в масштабе области?
— Неужели... Золотарев Ростислав Александрович?!
— Он самый.— Вася повесил в воздухе безупречное колечко дыма. Полюбовался.— Заместитель председателя облисполкома. Родной папа насильника и убийцы Золотарева. Для полной ясности: наш бывший первый. Сволочь из последних. При нем только права первой ночи не существовало. Не додумались как-то. Но у самого Золотарева в смежной с кабинетом комнате в райкоме партии стоял так называемый «диван распределения квартир». Сколько я знаю, на прием по квартирному вопросу записывались не одни только женщины.
— Мда... своих холопов надо любить на деле, а не на словах, — усмехнулся Алексей.— Ну, и кто был третий?
— Третья, некая Черанева, знакомая Калетиной. Возраст примерно тот же. Год разницы. Вот с нее и с Суходеева мы начали, а младшего Золотарева оставили на потом, тем более, что папа уже ходил в замах, а святое семейство еще раньше перебралось в областной центр. Поначалу Золотарев в деле вообще не фигурировал. Мы решили собрать все возможные доказательства, улики и с ходу загнать его в угол. Сделать папе сюрприз, пока не очухался.
— Кто это мы?
— Шуляк и я. Взяли обоих сразу и начали работать. Сначала Суходеев и Черанева все отрицали. Видно было, что договорились заранее. Но на мелочах начали колоться и на другой день дали показания. Показания мы тут же закрепили с выездам на место, с видеозаписью, с фотосъемкой, с «пальчиками». Нашли бочку с водой, где Калетину утопили. Топил, кстати, Золотарев, в общем-то случайно. А тут и он сам на ловца, что называется. Успел прослышать и приехал в город узнать поточнее. Взяли прямо из машины, в нежном обмороке. Вот здесь, пока допрашивали, три раза сукин сын под себя сходил. Стул пришлось после него выбрасывать. Но хлопот не было никаких; все признал, подписал, анализы стопроцентные. К вечеру мы отправили его в изолятор, а сами до утра всю ночь клепали на машинке и в девять ноль-ноль с обвинительным заключением — к Хлыбову, на подпись. У него даже глаза на лоб. «Мол-лодцы, хвалю!» День, говорит, можете отсыпаться.
Ладно, ушли. Вечером, после семи, Хлыбов присылает за нами «УАЗ». Входим в кабинет, а Хлыбов с порога матом минут на пятнадцать. Стоим, слюной обрызганные, ниче не понимаем. Сплошной мат, как с цепи сорвался. Витя Шуляк, мужик крутой, пообещал Хлыбову дать в зубы, если не заткнется. Но за что люблю Хлыбова — прямой, как бревно, только в сучках и со свилью. Посмеялся, махнул рукой. Ладно, говорит, садитесь, мудаки. Я и сам не меньше вашего виноват. Недоглядел. Вы, спрашивает, марксизм-ленинизм изучали?.. Ну, изучали. Хреново вы изучали. Так вот, раз и навсегда зарубите мудрую ленинскую фразу: «Органы подавления не работают против тех, кто их создал. Не работали, не работают и не будут никогда работать». Если кого-то там, вверху, задвинули, вывели из состава, кого-то даже посадили, то это не значит, что заработал закон. У них там свои дела, свои счеты. Могут выкинуть толпе на растерзание политический труп, чтобы отмазаться. Найти «козла». Могут затеять вонючую перестройку и вонючую демократию «а ля рюс»! Чтобы в результате приватизировать в полную собственность то, что и без того им принадлежит. И заставят оголодавшее быдло хлопать при этом в ладоши и поторапливать приватизацию. Если вы, мудаки от юриспруденции, этого еще не поняли, если собираетесь ссать против ветра, вам хана. Поэтому или вы принимаете их правила игры, или окончательно выпадаете в осадок. Вас достанут из-под земли, и, если выживете, будете доживать век с переломанными костями, как последние ублюдки... Не вякать! Я еще не закончил. Есть, говорит, такой эстрадный номер. «Нанайская борьба». Два человечка борются на сцене. Ну, кидают, ну, ломают друг друга! Того гляди расшибут. А в конце номера артист выпрямляется, и оказывается, что это был один человек. Вот сейчас наши правительственные структуры исполняют перед ублюдками этот эстрадный номер. «Демократы» с «партократами». Но это, зарубите себе на носу, один и тот же человек. Например, Золотарев Ростислав Александрович. Полтора года назад секретарь райкома партии, если вы не знали. Сейчас — самый левый демократ, левее не бывает, плюс к должности зампреда — генеральный директор и совладелец производственно-коммерческого кооперативного объединения «Русь» с оборотам полтора миллиарда рублей в год. Но связи не рвет, боже упаси! Более того, совместно с партийными структурами умело держит быдло в полуголодном, подвешенном состоянии. Чтобы громче хлопали в ладоши нашей «бархатной революции». За это кое-кто из быдла получит право до кровавого пота ковыряться на своем клочке земли. Под чутким руководством, но теперь уже демократов.
— Что с «делом»? — спрашиваю.
— Перед младшим Золотаревым я за вас извинился и вручил ключи от машины. Теперь он дома в объятиях мамочки. А ваши «изыскания» укочевали в облпрокуратуру и сейчас, надо полагать, находятся в сейфе у папы Золотарева.
— Что дальше?
-- По данному факту мы обязаны возбудить уголовное дело. И мы его возбуждаем. Но фамилия Золотарева в нем даже не упоминается. Обвинение вы предъявляете Суходееву, затем вместе с Чераневой делаете его свидетелем, и «дело» на этом придется приостановить. Шуляку задача ясна?.. Я спрашиваю, Шуляку задача ясна?!
— Служу Советскому Союзу.
— Значит, договорились. И чтобы без выкидонов, ибо бороться нет ни капли смысла, ребята. Россия теперь — старая шлюха с морщинистой задницей. Народонаселение — рабы либо воры, операция лоботомии успешно завершена, и каждый держит у другого перед носом свой грязный кукиш. Будет лучше, если вы предоставите ублюдков их собственной участи. Другой они не поймут. Или распнут благодетеля в куче собственного дерьма.
— Ты знаешь, впечатляет,— задумчиво произнес Алексей, когда Вася закончил.— Он меня почти убедил.
— Пожалуй, меня тоже.
— А Шуляка?
Вопрос повис в воздухе. Наконец Вася пожал плечами.
— Не знаю.
— Ладно. Пару слов, Василий Николаевич, о самом преступлении. Где? При каких обстоятельствах? Как говаривал протопоп Аввакум, «пса тянет иногда на свои блевотины».
Вася взглянул на часы.
— Познакомились они на дискотеке. С помощью Чераневой, она в данном случае сыграла роль подсадной утки. Правда, Суходеев знал потерпевшую Калетину раньше. С дискотеки ушли, отправились в видеозал с мороженым, потом в ресторан. Золотарев всегда при деньгах, официанты перед ним ходят на задних лапах, наобещал девочкам какие-то импортные тряпки. Словом, очаровал. А тут пришла «идея» скататься ночью за город. Июнь, светлые ночи, соловьи свищут. Отправили Суходеева по приятелям, у кого есть мотоцикл. А чтобы те были сговорчивей, Золотарев дал деньги. Утверждали потом, будто все складывалось стихийно, без плана.
— Почему на мотоциклах?
— На машине туда не проехать, нет дороги. Только тропа вдоль железки.
— Это где?
— Тридцать второй километр, по УЖД. Бывший поселок Волковка.
— Угу,— Алексей записал.— Гони дальше.
— В ресторане набрали коньяку, закуси. И, хотя под балдой, часам к одиннадцати благополучно добрались. Там есть пара уцелевших изб, даже со стеклами. Вот в одной из них устроили шабаш, девочку, разумеется, споили вмертвую. Насиловал Золотарев на глазах у других. Следы спермы обнаружены также на лице и на губах потерпевшей, в заднем проходе. Но в какой-то момент Калетина очнулась почти трезвая, и с ней случилась истерика. Кричала, билась, потом выскочила на улицу. Одежду ей не отдавали, стала звать на помощь. Золотарев выпрыгнул в окно, схватил Калетину за волосы и сунул головой в бочку под водостоком. Говорит, хотел привести в себя, но передержал.
— Как труп оказался возле переезда? Да еще без ноги?
— Они все, конечно, перепугались. Калетину стали откачивать, но никто делать этого не умел. Наспех одели. Привели помещение в порядок, как им казалось, и вынесли труп к железной дороге. Зачем? Сначала не знали: говорят, растерялись. Но потам Суходеев сказал, что тут ходят составы с лесом и порожняк, можно пристроить труп на платформу. Только надо как-то остановить состав. Суходеев отыскал в кювете обрезок рельса, положили обрезок поперек полотна и набросали старых шпал. Так труп Калетиной доехал до города. Возле переезда состав, надо полагать, сильно дернулся, и тело сползло под колеса.
— Это уже что-то. С меня причитается, дорогой Василий Николаевич.
— Еще бы,— Вася поднялся.— Ну, давай. Крутись.
— Погоди. Золотарев мертв. Погиб при весьма загадочных обстоятельствах. Суходеев исчез. Полагаю, мы попросту ищем его труп. Что если на очереди Черанева, подсадная утка?
— Мотив мести?
— Почему нет?
— Едва ли. Калетина проживала вдвоем с матерью, но после смерти дочери у нее... ну, словом, поехала крыша. Есть, правда, родственники по дальней линии, но... они годами даже не встречались.
После ухода следователя Соковкина Алексей позвонил в горторг и выяснил, что продуктовая, машина марки ГАЗ-53Ф, номерной знак 48-60 КВН, в семь ноль-ноль утра, как правило, выезжает из гаража на мясокомбинат. По пути водитель забирает экспедитора Терехину и грузчика Карташова. Экспедитор и водитель те же, с которыми в прошлом году работал пропавший Суходеев.
Потом Алексей сел за машинку и отпечатал в адрес начальника Н-ского РОВД подполковника Вологжина отдельное поручение с просьбой проверить вероятное местонахождение гр-на Суходеева в бывшем поселке Волковка на 32-м километре УЖД. Кратко изложил обстоятельства.
Глава 8
Участок земли перед домом Суходеева Г.Я. напоминал территорию нижнего склада местного леспромхоза, где он работал последнее время автослесарем. Две машины дров были свалены у ворот. Часть из них испилена, и даже исколота, но осталась лежать в куче, и было видно, что лежат они тут давно, возможно, с осени. Кубометра два горбыля, уложенного в кладь. Жерди. Машина песку, машина щебня. Отдельной кучей разный дровяной хлам, который продают обычно «на слом».
Алексей постучал в дверь, звякнул несколько раз щеколдой. В доме не отзывались, хотя дверь была заперта изнутри на засов.
— Эй! Чего барабанишь, хрен моржовый? Тебе, тебе говорю! — раздался сзади через дорогу хамоватый, сиплый голос.
Алексей обернулся. На крыльце соседнего дома напротив появился хозяин в одних трусах, чрезвычайно живописной наружности. Был он приземист и невероятно толст. Шарообразный живот свешивался ему на колени, поэтому чтобы соразмерить центр тяжести, он заваливал толстые конопатые плечи назад и глядел из-под выгоревших бровей эдаким рассерженным «бонапартом».
Приглядевшись, Алексей увидел, что на «бонапарте» вовсе не трусы, а женские голубые рейтузы с резинками выше колен, вероятно, потому, что мужских трусов такого размера в природе попросту не существует. Пришлось одалживаться у супруги.
Алексей подошел к крыльцу и теперь уже вблизи с явным любопытством разглядел все это живописное безобразие, выставленное напоказ и нимало себя не стесняющееся. «Что позволено козлу,— усмехнулся про себя Алексей,— едва ли позволено Юпитеру».
— Дядя, тебе не кажется, что своим видом ты позоришь отечество?
— Ххы! Чего это... чего боронишь тут?
Алексея обдало запахом водочного перегара и жареного лука.
— Кстати, почему хрен? Да еще моржовый? Ведь ты первый раз меня видишь?
— А кто ты мне такой? — брюхом вперед двинулся дядька.— Кум? Или сват? Может, брат? Хрен и есть... Хрен с горы! Ха-ха-ха!
Конопатый, обросший светлым волосом пуп колыхался у Алексея перед самыми глазами. Хотя Алексей уже понял, что дядька хамит ему не из злого умысла, а по причине дурного воспитания.
— Вот что, дядя. Пожалуй, я тебя сейчас арестую. «Особо циничные действия, совершаемые в общественном месте». Статья 266 часть 2-я, до пяти лет лишения свободы,— он оттянул резинку на рейтузах, и резинка звучно шлепнула по тугому животу.
Дядька сделал шаг назад и величаво ткнул веснушчатым, толстым пальцем в Алексея.
— Ты кто?
— Из прокуратуры.
— Ну да? Еще чего?
— Плюс оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей.
— Из прокуратуры... хы! Так бы и сказал сразу. А то мозгу конопатит тут, хрен не хрен...
Договорить хозяину не позволила супруга. Она вдруг вывернула у него из-за спины, такая же крепкая, дородная, и с бранью выставила его с крыльца в дом.
— И пьют, и пьют! Кажный божий день. Куда чего лезет в паразитов?!
Хозяин однако тут же ее срезал из-за двери:
— А ты, мать твою... не пьешь, и чего тогда? Жизни не видала, дурища!
Женщина захлопнула за ним дверь и с искательной улыбкой повернулась к Алексею.
— Вы уж, молодой человек, не взыщите с дуролома пьяного. Он так-то мужик ниче, хороший. А разговору с людями не понимает, как надо-то. Наговорит, наговорит спьяну, они и отворачиваются.
— Я уже понял,— Алексей примиряюще улыбнулся.— скажите, а соседи ваши... Суходеев, он дома сейчас или нет?
— Ой! Вы из-за Вовки к ним? Отец по времени дома должен быть с работы, а не видала, не знаю. Дуська у него с полдня на огороде крутилась, баню вытопила. Может куда в магазин умелась за хлебом, или еще чего?..
— Дверь изнутри закрыта на засов.
— А она огородами ходит, ближе ей. На два дома живут нерасписаны, туда-сюда бегает.
— Стерва твоя Дуська,— важно обронил в раскрытое окно «бонапарт». Он сидел там с самым победительным видом и решительно сплюнул, выражая презрение.
— А она не каждому дает! Вот и сволочат такие-то, кому не досталося!
Но «бонапарт» не удостоил вспыхнувшую порохом супругу даже взгляда. Проплыл мимо величавый, словно корабль мимо болтающейся на волнах выеденной, арбузной корки. «Надо же, сколько осанки в человеке»,— с изумлением подумал Алексей, чувствуя себя некоторым образом в приемной у важного лица.— И все зря пропадает. Хотя почему же зря? За осанку, должно быть, и полюбила его эта милая женщина. Вот ревнует даже. Совсем как в известной частушке: «Полюбила Феденьку да за походку реденьку».
— Мужа вашего, простите, как звать?
— Федор он. Да вы, молодой человек, не взыщите уж...— вновь начала она привычно заступаться за своего «бонапарта»,— с простой души лепает чего ни попало, а люди, конечно, верят поначалу-то...
Минут через пять на разговор подошли еще три соседские женщины. Остановился послушать древний дедок, у которого на лохмотьях — засаленном, дырявом пиджачишке от плеча и до оторванного кармана красовались многочисленные орденские планки. Разговор покатился сам собой, и Алексей многое успел узнать из тайн этой «растеряевой» улицы, которая с тех достопамятных пор едва ли существенно изменилась, разве что обветшала и сделалась еще гаже, так что классические «растеряевские» времена, если бы здешние обитатели о них знали, показались им золотым веком.
Зато все знали о Суходеевых. Кроме одного — куда исчез Суходеев-младший? Сестры живут здесь же, в городе, их две, обе замужем. Другая родня, знакомые — все тут. И сам... учеба ведь у него, никуда ехать не собирался, знали бы. Целыми днями глаза на углах мозолил, и вдруг на тебе, пропал, как провалился. Утонуть не мог, нет. Другие люди рыбачат, много таких, а у них не заведено. И отец, и дед такой же был, рядом с водой живут, а на берегу не бывали... На мотоцикле куда-нибудь уехать мог, это да. Шею себе, поди-ко, свернул и валяется в канаве... Чей мотоцикл? Да кто его знает? Друг у дружки берут, а своего у Володьки не бывало. Про мотоциклы, если конечно интересно, лучше у друзей его поспрашивать. Вон, через два дома... третий. С утра свою керосинку починяют перед воротами, вот у них про мотоциклы все узнаешь, что надо.
Алексей в конце концов так и сделал. Два типичных «олигофрена» сосредоточенно возились у полуразобранного мотоцикла. Рядом на куске брезента были разложены промасленные детали и ветошь вперемешку с инструментам.
Разговор с первой же фразы зашел в тупик. На прямые вопросы оба «олигофрена» отвечали односложно «да», «нет», «не знаю», «не видел». Пожимали плечами, а то и вовсе отмалчивались. Алексей терпеливо вслух анализировал вырванные у них же случайные сведения, разматывал, ловил на нестыковках, ставил в тупик, и чем дальше, тем все сильнее зрело в нем ощущение, что «олигофрены» блефуют. Он уже начал жалеть, что заговорил с обоими сразу. Таких легче колоть по одному с глазу на глаз, на основе элементарного здравого смысла и банальной ответственности, а в группе они мгновенно тупеют, утрачивая даже это немногое.
Он терпеливо, буквально на пальцах объяснил «олигофренам», что для следствия любая, даже маленькая зацепка может оказать неоценимую услугу. Как-то сориентировать розыск, чтобы установить местонахождение трупа Суходеева и напасть на след возможного убийцы.
Про труп и убийцу Алексей упомянул не без умысла, зная, что это поможет обоим приятелям избавиться от обета молчания перед Суходеевым, если таковой имел место в действительности. И не ошибся. «Олигофрены» переглянулись, как бы испрашивая один у другого согласия, наконец, кадыкастый парень с крашеными, пегими волосами буркнул, глядя в сторону:
— Был у него мотоцикл.
— Какой?
— «Восход».
— Номерной знак помнишь?
— Без номеров, так ездил.
— С рук купил?
— Зачем? Новый... два месяца всего.
— Отец подарил?
— Сам.
— На какие деньги?
— Ну, были у него... Откуда я знаю?
— Полторы тысячи? А может, за этот должок с ним кто-нибудь посчитался? А?
— Не-а,— мотнул головой парень.
— Почему «не-а»?
— Так... знаю.
— Ты же сам сказал: откуда я знаю... только что.
— Да ладно, скажи ему,— подал голос другой, тоже глядя в сторону.— Чего теперь?
— Сам скажи.
— Так он что? Украл эти деньги? Или кого-то ограбил? — наводящими вопросами, мягко Алексей старался подтолкнуть начавшийся разговор в нужную сторону, «дожать» потихоньку «олигофренов».
— Ну, украл.
— У кого?
— У своего пахана.
— Снял со сберкнижки,— буркнул другой.
— И что деньги ему выдали? По чужой книжке? — изумился Алексей.
— Ну. Он шесть раз ходил снимать, и ниче ни разу. Даже паспорт не спросили.
— Отец знает? У Суходеева?
— Мы-то откуда... Он нам не докладывает.
— Это понятно. А Суходеев... Воха, ничего не говорил?
— Не-а.
— И про мотоцикл отец тоже не знает?
— Наверно. Он дома мотоцикл не держал. Так, заедет иногда, будто на чужом. А оставлял у ребят, у кого когда.
— Если не ошибаюсь, мотоциклы продаются по записи? Очередь лет эдак на десять.
— Блат у Гнилого. Сестра зятя... Золовка, что ли? Замдиректора в торге.
— Все равно сверху дал. Хоть и родня.
«Пожалуй, по факту мошенничества со сберкнижкой придется возбудить уголовное дело. Если Суходеев жив еще», — подумал Алексей.
— Десятого мая куда мог ваш Воха поехать на своем новом мотоцикле? Как думаете? Если бы вам пришлось искать его?
— Без понятия,— отозвался один.
Второй «олигофрен» глядел в сторону. Алексей однако почувствовал в его молчании некоторое смятение, что ли, как у застигнутых врасплох. Но о причине оставалось пока только гадать.
— Возможные места или излюбленные маршруты у него были?
«Олигофрены» замкнулись намертво. Алексей сменил тему:
— У него подруга есть?
— Постоянная? Не-а, не было.
— Есть тут одна телка. Так... общак.
— Одна на всех?
— Ну. Она часто с ним.
— Как фамилия?
— Черанева Танька.
— Ладно, орлы. Вот вам две повестки на завтра в прокуратуру. Кой-какие из ваших показаний придется оформить официально. За вашей подписью. Явка обязательна, так что не опаздывайте. Ну, пока.
Алексей решил, что поодиночке с глазу на глаз он заставит хотя бы одного из «олигофренов» выложить все до конца. Официальная обстановка тоже иной раз неплохо действует.
Возле суходеевского дома, когда он вернулся к воротам, стоял тяжелый «КРАЗ» с прицепом, груженный бревнами. Алексея обдало запахом разогретого масла и солярки, свежеспиленной древесиной. Двое мужчин, орудуя вагой и крючьями, скатывали вниз с возу еловые, один к одному, бревна.
«Да у него никак пунктик на заготовке древесины»,— подумал Алексей, стараясь угадать по повадке в одном из работников хозяина.
— Суходеев? Геннадий Яковлевич?
Дюжий, медлительный мужчина в промасленной спецовке едва покосился на него и продолжал крючком дергать бревна.
— Ну, я Суходеев,— наконец обронил он.
Алексей представился, и по тому, как хозяин и шофер «КРАЗа» на мгновение замешкались, догадался, что дровишки эти, похоже, незаконные, и рейс скорее всего тоже — левый. Некоторое время он с улыбкой наблюдал за суетливыми действиями обоих, потам решил, что хозяина следует успокоить.
— Я к вам по поводу сына. Поговорить надо.
Тот не без облегчения кивнул. Потом неторопливо спустился с воза.
— Нашли, что ли?
— Ищем.
Суходеев задумчиво почесал в затылке. Алексей обратил внимание, что на левой руке у него недостает трех пальцев.
— Слушай? Надо бы отпустить человека,— он кивнул на шофера. — Поговори с Дуськой вначале, пока управлюсь, она знает.
— Да. Так даже лучше,— согласился Алексей.
Вслед за Суходеевым он двинулся через двор, тоже захламленный, заваленный старой обувью, какими-то мешками, ящиками и прочей рухлядью, которая, похоже копилась тут поколениями. Вышли на огороды и межой, ярко-желтой от одуванчика, направились к притулившейся на задах бане. Суходеев, не заходя в предбанник, торкнул культяпистой рукой в низкую дверь.
— Евдокия, тут человек пришел. Из прокуратуры. Поговори с ним, пока разгружаемся.
В бане двигали тазами, плескалась вода. Женский певучий голос со смехом откликнулся:
— Так что? Штаны пусть снимает да заходит, чего не поговорить? Место есть.
В закопченном окошке светлым пятном помаячило лицо. Алексей придержал хозяина за руку.
— Геннадий Яковлевич, и в самом деле, лучше обождать. Пусть домоется.
— Ее не переждешь,— хмуро обронил тот и повернул назад.
Алексей опустился перед дверью на широкий, щелястый чурбак.
— Борисенкова? Евдокия Семеновна? Я правильно называю?.. Заявительница?
Из-за двери послышался смешок.
— Розыском, Евдокия Семеновна, теперь занимаюсь я. Моя фамилия Валяев. Из прокуратуры района.
— Слышь, миленький? — дверь скрипнула и в образовавшуюся щель пошел изнутри ядреный банный дух.— Венички висят, вона на перекладинке... Не подашь ли?
На еловой жерди через весь предбанник были подвешены попарно сухие березовые веники. Алексей усмехнулся, однако ж отказывать в такой пустяковой просьбе было неловко. Ослепительно белая, гибкая рука приняла у него пару веников, сверкнул в притворе лукавый глаз.
— Сам-то чего не заходишь?
Он рассмеялся, сел на свой чурбак.
— У нас это называется «злоупотребление служебным положением в корыстных целях».
— Ай-ай, страсти какие! Даже в бане у них не моются, начальство не пускает?
Алексей вдруг понял, что с Евдокией Семеновной, развеселой сожительницей Суходеева-старшего, говорить возможно только в игриво-кокетливом тоне, иначе не получится, она попросту не умеет.
Вон, щель какую оставила. Ну и ну!
— Дуся Семеновна, у тебя баня не выстынет?
— Так а чего делать-то, коли не идешь? Через дверь кричать?
Резон в ответе был. Хотя двусмысленность положения, кажется, доставляла развеселой Дусе немалое удовольствие.
— Я с вашими соседями сейчас разговаривал,— начал Алексей, тоже принимая игривый тон.— Говорят, вы жутко страстная женщина, даже пальцы можете откусить, если в страсть войдете.
— Кто говорит-то? Это мерин толстый, напротив, что ли?
— Ну... да, в общем.
— Вот, скажи, паразит! Сам целый год за мной от Нинки воровски ухлестывал. Ладно, думаю, лешак с тобой. Убудет, что ли? Шарилась, шарилась у него под пузом-то, а там ничегошеньки нету. Все салом заплыло и травой заросло. Осердилась тогда. Иди, говорю, отсюда, глобус рыжий, и чтобы глаза мои больше тебя не видали. Еще Нинке рассказала. Ты, говорю, присматривай за своим, проходу паразит не дает.
— Значит, сосед напраслину сказал? Про пальцы?
— А то нет? Сбрехал паразит, в отместку.
— Ну, допустим. А у Суходеева, сожителя вашего, что с рукой?
Дуся вдруг расхохоталась, да так заразительно, что тазы начали между собой перезвякивать.
— А я-то думаю, чего ты такой напуганный? Никак не зазову. Боишься, кабы не откусила чего?
— Да. Страшновато, пожалуй.
— У него как с рукой-то получилось? — отсмеявшись, начала Дуся.— Он когда с Люськой со своей расплевался вконец, запил сильно. Тогда еще на лесовозе работал, а тут рейс не в рейс каждый день пьянка у него. Два раза перевернулся с машиной, машину угробил и сам чуть не убился. Его за это в слесари определили гайки крутить. В позапрошлый год, осень уж была, заморозки ночами, два шага до дому не хватило, упал чуть не в лужу, да так и уснул. Утром просыпается, а руку левую никак из лужи не вытащит. Вмерзли пальцы, черные сделались. Так со льдиной на руке домой пришел. Взял дурак топор и три пальца... вон на чураке, где ты сидишь, разом себе оттяпал. Да один, говорит, лишний прихватил, не разобрал с похмелюги.
После некоторого молчания Алексей спросил, что случилось с женой Суходеева, где она?
— Сдохла Люська. Грех вроде сказать такое, а как собака сдохла. Сгорела баба на водке. Ты приезжий, видать, а тут два года мужичье-кобели на рогах стояли, весь город. Все из-за нее, из-за Люськи. Она красивая была. Особенно смолоду. У них в родове и мужики, и бабы такие часто попадаются. На лесопилке работала сортировщицей. Горбыль налево, доска направо. Десять лет так с утра до вечера бросает, потам домой бежит — трое ребят на руках, скотина не поена — не кормлена. К ночи управится, а с утра опять — горбыль налево, доска направо. Заработок — слезы одни собачьи. Ладно Генка тогда зарабатывал. Маялась она, маялась так-то, и сорвалась баба в одночасье. Запила, загулебанила. Мужик в рейс, а у нее в избе — дым коромыслом, кобелей... Все равно как водку в магазин завезли. До того обнаглели, что Генка, муж, с полдороги воротился когда, они избили и связали его, еще рукавицу в рот сунули, чтобы не матерился. Ну, он и выгнал ее из дому на другой день. Была я потом у ней, может образумится, думаю. Ты чего это, спрашиваю, Люсь? Неужто детей, мужа тебе не жалко? Хозяйство бросила. А она пьяная вдрызг, платье ухажерами облевано. Засмеялась так страшно... А меня, говорит, кто когда жалел? Генка, что ли? И я не буду, провались оно все. Я, говорит, свою жизнь, как эту вот тряпку, грязную, облеванную, скомкаю и Господу-богу в его харю поганую брошу. Забирай, сволочина, не нужна она мне такая. И ты, говорит, иди, Дуся, отсюда... от греха подальше. Выскочила я, будто из помойной ямы тогда, и с тех пор не видала ее. Только на похоронах до кладбища проводила.
Судя по голосу, Дуся там, на банном полке, всплакнула от жалости. Но разбитной характер не позволял ей долгое время предаваться скорби.
— Детишки, миленький, уже без матери выросли. А Генку, дурака, я в позапрошлом годе из жалости подобрала. Думаю, сопьется совсем без бабы. А он, на тебе — по Люське тоскует, не женится. То Люська, то Дуська, так и путает по сю пору. Тебе, миленький, тоже ничего бы не было, если бы зашел ко мне. Что за беда веничком похлестать? — рассмеялась она.
— Не ревнует, значит, Геннадий Яковлевич?
— Ни капельки, даже обида берет. Вот кабы Люська на моем месте мылась, он тебя и близко к бане не допустил.
Алексей с внутренним облегчением вздохнул. Отпала необходимость задавать неприятно томивший его вопрос: не ревновал ли Суходеев-старший свою разбитную сожительницу к Суходееву-младшему? И не случалось ли на этой почве семейных ссор?
Если даже из озорства Евдокия сбила парнях с панталыку, отец за топор не схватится.
Пока женщина хлесталась веником, Алексей уже через закрытую дверь задавал ей обычный круг вопросов. Кто и как обнаружил отсутствие Суходеева-младшего? При каких обстоятельствах? Уезжал ли он раньше из дому, не поставив родных в известность? Когда, где и с кем его видели в последний раз? Есть ли кто-то, кто заинтересован в его смерти? Склонен ли к самоубийству? Ходит ли на охоту, и не могло ли что-нибудь случиться в лесу?.. Но нет, ни рыбаком, ни охотником Суходеев-младший никогда не был, и ружье в доме сроду не держали. На мотоциклах целыми днями ездят, а своего у него нет, отец только отмахивается...
Про деньги, снятые с отцовской книжки, Алексей упоминать пока не стал. О мотоцикле тоже промолчал, чтобы потом в разговоре с Суходеевым-старшим увидеть его первоначальную реакцию.
На этом разговор можно было заканчивать. Евдокия, похоже, вконец себя захлестала, голос у нее был вялый и истомленный, даже постанывала от жару. Алексей уже поднялся, чтобы попрощаться, как вдруг дверь распахнулась настежь, и Евдокия распаренной свеклой, прижимая к груди полотенце, вывалилась в предбанник.
— Ой, миленький, отворотись на минуту! Моченьки терпеть больше нету, запарилась насмерть.
Она рухнула на низкую скамеечку в предбаннике, хватая раскрытым ртом свежий воздух, будто выброшенная на берег большая рыбина. На полной груди женщины родинкой темнел налипший березовый лист.
От неожиданности Алексей не вдруг успел отвести глаза, да и не слишком сожалел об этом. Потом уже, отойдя в сторону, рассмеялся.
— От общения с вами, дорогая Евдокия Семеновна, я получил сегодня массу удовольствия. Спасибо вам и, извините, я должен идти. Служба.
— Вот у меня всегда так. Как мужик хороший попадется, пять минут поговорили, и побежал. А от дерьма иной раз не знаешь, как отделаться, проходу не дают,— не без грусти в голосе посетовала Евдокия.
Глава 9
«КРАЗ» перед домом стоял разгруженный, но ни шофера, ни хозяина поблизости не было. Голоса доносились из избы в открытые окна.
Алексей нашел их в узкой комнатушке с двумя кроватями вдоль стен и узким проходом. На голом столе возле окна стояла наполовину пустая бутылка «Пшеничной», вскрытая банка говяжьей тушенки, зеленый лук, хлеб, частью порезанный, частью наломанный от каравая. Матрасы на панцирных сетках были скатаны и открывали под кроватями и в углах солидный склад стеклотары, перезванивающий на разные голоса при ходьбе по половицам. Пол, к тому же, был заляпан засохшей грязью, висели на вбитом в стену гвозде штук с десяток цепей от бензопилы, и вообще все помещение напоминало скорее каптерку, но никак не спальню.
При его появлении хозяин поднялся.
— Садись, прокурор.
Он сходил на кухню, принес еще стакан и для себя табурет. Не спрашивая, набулькал Алексею с полстакана водки.
— Закусывай,— сам повернулся к шоферу, который было замолчал.— Ну?
— ...Сидим, значит. Человек десять-двенадцать на поминки позвала она. Водки — залейся. Он, правду сказать, и сам закладывал, не дай Бог. Я как-то захожу по соседству, а у него фляга молочная во дворе под брагу приспособлена. Гляжу, змеевик присобачил. Посудину. А к фляге с двух сторон паяльные лампы на полную катушку врубил. Через пять минут потекла сивуха. Отрава чистая. Как на пенсию вышел, два года попользовался и копыта откинул.
— Пятьдесят два было. По горячему вышел,— пояснил для Алексея хозяин.
— Ну, сидим, значит, пьем. А она бутылку за бутылкой на стол... Последний раз, дескать, годину справим по-людски, и ладно. Пили-пили; рожи, правду сказать, от водки повело. Кричат друг дружке кто чего, покойника само собой поминают. Баба евонная в углу ревет, потом, глянь: а он сам над стаканом за столам сидит и голову повесил, вот так...
Рассказчик изобразил, как сидел покойник, сделал недоумевающее лицо.
— И я-то, дурак, забыл, что покойник он. Сколько раз чего-то спрашивал у него, тормошил. Рядом сидели. Ну, он сроду так, когда выпьет: голову повесит и мычит, если спросишь чего.
— Перепились вы. Мало ли?..
— Это было,— согласился рассказчик.— Ну так, если бы кто один видел. А то...
— Ну и?
— Ну... сидим. Глаза на него вытарашили. А он услышал — молчат все. Башку поднял, оглядел нас вроде... да и вышел.
— Пятьдесят два... Это он не от самогонки помер,— после паузы не согласился хозяин.— Зря в пятьдесят лет на пенсию не отправят. Тут у них под обрез рассчитано, годик-два еще прошебуршится человек, как выйдет, и нет его. Ваську, по Воровского жил, помнишь? Брат у него еще задавился? Тоже в пятьдесят один копыта откинул. Лекомцев Серега... в пятьдесят три. Татьяничев, этот и вовсе через месяц. Да все, кого ни возьми. У нас зря деньги работягам платить не станут, не говори.
Хозяин с шофером выпили еще. Алексей от второй отказался. Он только сейчас спохватился, что за весь день с утра ничего не ел, и бутерброд с тушенкой, щедро наваленной хозяином на ломоть, был не лишним.
— У нас в леспромхозе, знаешь, счас чего творят? Лес насобачились по бартеру заграницу сплавлять. Напрямую, через какое-то СП в Москве. Эшелон за эшелоном. Эшелон лесу, пиломатериалов отправят, а обратно в котомке десять пар этих... кроссовок, да какой-нибудь миксер везут. Эшелон лесу отправят, обратно опять с одной котомкой. Тьфу... глаза бы не глядели. Все равно как у папуасов на бусы лес у нас выменивают.
Алексей понял, что хозяин рассказывает это не без задней мысли, а желая как-то оправдать привезенные левым рейсом бревна.
— Все по начальству расходится. Обнаглела сволота вконец.
— Не скажи. Народ у нас тоже разбаловался,— не поддержал шофер, видимо, не уловив оправдательного оттенка в речи хозяина.— На делянке вон, в марте было, надо лес трелевать на погрузочную площадку, а Гришка Рузмаков... знаешь такого?
— Ну?
— Сел на трелевочник и за двадцать верст по сугробам на речку потарахтел. Ухи, говорит, свежей захотелось. Целый день на зимнюю удочку ершей сидел из лунки дергал. А трактор на берегу на холостом постукивает. Одной солярки бочку сжег. К ночи уж, в одиннадцатом часу вернулся. И ниче... посмеялись только, да бригадир обматерил.
Мужики приняли еще по одной, и шофер поднялся.
— Пора ехать.
Стеклотара под кроватями жалобно зазвенела, когда тяжелый «КРАЗ» с могучим ревом тронулся с места. Алексей подождал, пока гул затихнет вдали, спросил:
— Геннадий Яковлевич, у вас какая сумма на сберегательной книжке? Помните?
Суходеев удивился, но спрашивать, к чему это, не стал.
— Тыщ пять, как будто. С рублями.
— Как будто?
— Нет. Точно.
— Проверьте книжку.
Суходеев с сомнением посмотрел на следователя, но опять ничего не спросил и тяжело двинулся в комнату. Алексей встал у него за спиной в дверях. Наконец, после довольно-таки продолжительных поисков сберкнижка была найдена в шкафу, под клеенкой.
— Полгода как не дотрагивался,-- пояснил хозяин свою нерасторопность. Протянул Алексею.
— Нет, проверьте сами.
Суходеев молча начал листать, отыскивая страничку с последними записями, нашел и поглядел на Алексея непонимающим взглядом. Заглянул в титул — проверить фамилию. Наконец пробормотал:
— В марте снято последний раз. Вроде бы не снимал, не помню. Две с половиной тут... ну?
Алексей взял у него книжку. Шестью записями выше, октябрем прошлого года, была записана сумма вклада в размере пяти тысяч двадцати трех рублей с копейками пени.
— Вы эту сумму имели ввиду?
— Ну, вот! Пять тыщ с рублями... Так это как получается? Снято, что ли?
Суходеев-старший был в полном недоумении, хотя, Алексей видел, его беспокоила сейчас не пропавшая сумма денег, а сам факт пропажи. Актерская игра исключалась начисто: слишком много привходящих нюансов и оттенков — не всякий мастер сцены такое вытянет. Выходит, о деньгах Суходеев до этой минуты ничего не знал. Да если бы даже знал, по мужику сразу видно — за топор из-за денег не схватится.
Еще одна версия, похоже, накрылась...
— Погоди. А ты сам-то откуда про мою книжку знаешь? — подозрительно осведомился он.
— От людей, Геннадий Яковлевич. Ваш сын решил приобрести мотоцикл, втайне от вас. Но на ваши деньги, как видите.
— Вовка? Ну... сволоченок! — Суходеев вдруг захохотал отрывистым, лающим смехом. Потом махнул рукой, сморщился.— Весь в мать пошел.
— Так что, Геннадий Яковлевич? Дело возбуждать будем?
— Какое дело?
— Уголовное дело по факту мошенничества против Суходеева Владимира Геннадиевича.
Суходеев, сообразив, о чем идет речь, решительно отрезал:
— Считай, мотоцикл я ему подарил. Сорняком растет парень. Что сам надыбал, то и его. Тут впору на себя заявление писать.
Он осекся и замолчал надолго, отвернувшись в окно. Дальнейший разговор с Суходеевым ничего существенного к уже известным фактам не добавил. Алексей положил перед ним на стол бланк протокола, подал ручку.
— Прочитайте, и ваша подпись: с моих слов записано верно.
* * *
По дороге домой Алексей зашел в магазин взять бутылку молока и батон на вечер. Но от кассы его грубо завернули. Хлеб, как оказалось, продавался в городе по карточкам из расчета четыреста граммов в день на человека, молоко — по каким-то рецептам. Чай, масло, сахар он спрашивать не стал, тут все ясно. Вышел из магазина, неподалеку, запримеченное еще днем, находилось кафе-стекляшка, отправился туда. Но с кафе тоже не повезло, оно было закрыто с полчаса назад. Алексей потоптался в раздумьи перед дверью. Оставалось набиться к кому-нибудь в гости, на ужин. Или пойти в ресторан. Пожалуй, ресторан сейчас как раз то, что ему нужно.
Алексей расспросил у первого встречного дорогу и, гадая, какой сюрприз ожидает его на этот раз. Двинулся в указанном направлении.
В зале, когда он вошел, царил полумрак. Вспыхивали стробоскопы, грохотала новомодная музыка, обычная для такого рода мест. Свободных столиков было предостаточно, но Алексей заметил слева от себя одиноко сидящую девушку, темноволосую, в чем-то белом, не то светло-кремовом. Перед ней стояла чашка с кофе и мороженое в металлической штампованной вазочке. Густая волна волос закрывала большую часть лица, и разобрать, хороша она собой или дурнушка, было нельзя.
«Порядочные девушки по ресторанам в одиночку не ходят,— подумал Алексей.— Ночная бабочка? Здесь?.. А может, у нее обстоятельства, вроде моих собственных? Или кто-то с минуты на минуту обещал подойти?.. Почему бы не подойти, скажем, мне?»
— Простите. У вас не занято?
Она слегка повернула к нему голову. Цветомузыка сверкнула в ее глазах зеленоватым, кошачьим блеском.
— Нет.
— Вы позволите?
Она кивнула, молча, никак не выразив своего отношения к неожиданному соседству. Кажется, ей было все равно. Алексей сел.
— И все же,— он улыбнулся.— Я вам не помешал?
— Вы не можете мне помешать,— медленно произнесла она, как будто даже с трудом. Лицо ее по-прежнему было в тени волос, и выражения Алексей разобрать не мог.
«Наверное, местная дурочка? — с некоторым сомнением предположил он.— Тогда я рискую оказаться в дурацком положении. Ну да, не привыкать».
— Меня звать Алексей.
Он уже подумал, что за грохотам музыки она не услышала его слов, но девушка, хотя и не сразу, отозвалась:
— Ира.
Пожилая официантка мимоходом положила на их стол меню и удалилась. Алексей протянул меню девушке, но она отрицательно качнула головой.
— А если я закажу для вас что-нибудь?
— Благодарю, не нужно.
— Жаль. В таком случае, Ира, что вы делаете здесь, в ресторане? Извините за прямой вопрос, но иначе я лопну от любопытства.
Она взглянула на него с некоторой даже улыбкой. Или усмешкой?.. В которой Алексей не заметил никакого интереса к себе.
— Не знаю,— медленно выговорила она. И было похоже, что действительно не знает.
Подошла официантка.
— Что будем заказывать?
— Первое, второе и третье,— сказал Алексей.
— Все?
— Да. Умираю, хочу есть.
Наконец заказ был перед ним на столе. Общепитовская котлета, которая теперь почему-то называлась бифштексом, показалась ему вершиной кулинарного искусства. Соседка по столу, пока он ел, похоже, совершенно забыла о его существовании Она сидела с безучастным видом в прежней своей позе, и Алексей вдруг отчетливо понял, что эту стену равнодушия ему не пробить. Кажется, она была права, когда сказала, что он не может ей помешать. В ее словах не было рисовки или кокетства, как ему вначале показалось. Он, действительно, для нее не существовал.
Алексей знал психологию некоторых странных девочек этого возраста, склонных к суициду, задумчиво-отрешенных, скрытных, и только из посмертной записки и альбомов становится ясно, что самоубийца была безнадежно влюблена в какого-нибудь Пола Маккартни.
Через зал возле пустой эстрады веселилась компания молодежи человек шесть; Алексей сидел боком и не особенно всматривался. В компании были две подвыпившие девицы, судя по взвизгам, и с одной из них неожиданно случилась истерика — слезы, хохот, истошные выкрики. Кажется, она требовала кого-то убрать, куда-то рвалась, ее не пускали и, наконец, увели.
На Иру, его соседку, истерика произвела неожиданно сильное впечатление, она задрожала вся и неосторожных движением опрокинула чашку с остатками кофе на стол. Часть пролилась на платье, оставив на нем след.
«Так и есть, с психопатией тоже», — отметил про себя Алексей, подавая салфетки. Она салфеток не заметила, однако ж ему почудилась странная радость во взоре, она как будто была знакома с той истеричкой, и Алексей решил, что за какую-то вину Иру попросту изгнали из компании.
Пока он расплачивался с официанткой, девушка вышла из зала. Он успел увидеть ее уже в дверях.
— За девушку тоже... получите с меня.
Официантка удивленно на него посмотрела и что-то буркнула, возвращая деньги. Алексей сунул сдачу в карман и устремился за Ириной. Она слегка прихрамывала при ходьбе, это было заметно — типичный гадкий утенок в молодежной компании, редко прощающей телесный недостаток. Хромота, пожалуй, многое объясняла в ее поведении, но не все.
— Разрешите, я провожу вас?
Она не ответила и никак не выразила своего отношения к его словам, ни жестом, ни выражением лица. Он решил расценить это как согласие и пошел рядом.
— Она вас напугала? Своей истерикой?
— Нет,— последовал равнодушный ответ.
— Нет? А пролитый кофе? И вы так поспешно ушли...
— Да, я ушла.
— Почему?
— Не знаю.
— Вы знакомы с этой компанией?
— Нет.
— Мне показалось, ту девицу вы, как будто, знаете?
— Кажется.
Разговор и дальше продолжался в этом роде. Равнодушно с большими паузами она отвечала на все его вопросы, словно исполняя обязанность. Но сама не задала ни одного. Ответы были односложны, часто непонятны или невразумительны, в своих действиях отчета себе она, видимо, не отдавала и не знала, почему поступает так, а не иначе. Алексей почувствовал, что ни на шаг не смог к ней приблизиться, хотя бы зацепить за живое. Даже напротив, она все более отдалялась от него, он чувствовал это почти физически — они шли рядом, почти касаясь один другого, и в то же время, как бы по разным сторонам улицы.
Прогулка, впрочем, оказалась короткой. Ира остановилась под фонарем возле одноэтажного в три окна домика, утонувшего среди черемух и погруженного в синие майские сумерки.
— Мы пришли? — спросил Алексей, косясь на свою черную, шевелящуюся тень.
— Да.
Алексей понял, что тень шевелится из-за раскачивающегося на столбе фонаря. Но тень была одна — его собственная. Он обернулся. Ира уже стояла за калиткой, и на ее лице ему почудилась улыбка... Или усмешка? Ему сделалось неприятно и, если бы не извечное его любопытство, он сейчас просто повернулся бы и ушел. Но, сделав над собой усилие, спросил:
— Вы уходите?
— Да.
— Я, наверное, несколько стар для вас? — неловко пошутил он, намекая на поспешное бегство.
— Вы не можете быть для меня старше.
Алексей усмехнулся, каков привет таков и ответ.
— Ира, а если я вас как-нибудь навещу? Вы позволите?
— Навестите,— донеслось до него с крыльца, и белесый силуэт, сверкнув из темноты глазами, тихо скрылся за дверью. Он остался один.
«Наверняка, состоит на учете. Обратись в психдиспансер, и узнаешь о ней все, что тебе нужно»,— мысленно обругал себя Алексей.
Прогулка сюда показалась ему короткой, однако, чтобы выбраться из этих оврагов и кривых, незнакомых улочек, понадобилось плутать в темноте часа полтора. Домой Алексей вернулся лишь в двенадцатом часу ночи, и без сил рухнул на кровать. Тяжелое забытье навалилось на него, едва он расслабился и перестал себя контролировать. Сказывалась усталость минувшего дня.
И вдруг... он разом очнулся. Открыл глаза. Мозг работал ясно и отчетливо. Перед его внутренним взором с голографической ясностью всплыла последняя сцена, под фонарем. Фонарь качался, и он, помнится, скосил глаза на свою шевелящуюся независимо от него тень. Сумасшедшая Ира в тот момент стояла рядом, но ее тень... У нее не было тени! Поначалу до него это не дошло, он что-то еще ей говорил, она ответила... То есть, они продолжали стоять рядом. Но когда он повернул голову, чтобы убедиться окончательно, она вдруг оказалась за калиткой. Несколько странная прыть при ее хромоте? Калитка, к тому же, была шагах в десяти. Он, собственно, только успел поворотить голову...
Глава 10
Андрей Ходырев вернулся с дежурства, поиграл во дворе с трехмесячным щенком и вошел в избу. Жена на кухне собирала ему завтрак. Он потерся колючим подбородком о ее щеку, зная, что ей это нравится.
— Где Марья?
— Спит еще.
Андрей сел к столу и пока ел, жена выкладывала торопливой скороговоркой последние новости.
— ...Вчера у Суходеевых следователь был. В восьмом часу уже. Из прокуратуры, говорит. Но не из местных, не похож вроде, по соседям ходил.
— Не нашли еще?
— И конь не валялся. Только спохватились, видно. Когда две недели прошло.
— У них так...
— Я про Волковку ему тоже сказала. Никакого, говорю, житья от паразитов не стало. Два заявления в милицию отнесли, а участковый только отмахивается. К каждому улью, говорит, милицейский пост не поставишь.
— А он?
— Заинтересовался вроде. Что да как? На кого думаете? Разобраться обещал, а там кто его знает? На обещания нынче все скорые, только подставляй. Полный карман насыплют.
После недавней поездки Андрей в душе поставил на Волковке и на своих планах крест. Одних убытков, он подсчитал, выходило тысячи на полторы, поэтому перевел разговор на дочку.
— У Марьи каникулы?
— Первый день. Андрюш?..— в голосе у жены появились просительные нотки.-- Может, отстал паразит, а? Как раз еще картошку посадить успели бы.
Андрей не ответил.
— Съездите с Машкой, что ли? Хотя поглядели бы.
— Нельзя с ней туда.
— Ой! Да ты сам смеялся... ерунда же все на постном масле. И папка рядом.
— А как напугается? Что тогда?
Жена вроде согласилась. Однако мысль посадить картошку, чтобы зиму пережить без заботы, видимо, ее не оставляла.
— Старик твой чего говорит?
— А че он скажет? — Андрей усмехнулся.
На днях он встретил старика Устинова с двумя поллитровками в авоське возле магазина, переговорили. С заковырками и всякими финтифлюшками старик все же рассказал, что на его памяти такое, как в Волковке, два раза уже было. Первый раз — в двадцатом годе. И перед самой войной, второй.
— Так чего... старик?
— Кровь, говорит, это ходит.
Жена смотрела на Андрея во все глаза, и, конечно, сразу поверила, с полуслова. Вот же бабы! Он неожиданно схватил ее за нос, но она только отмахнулась.
— Как это... ходит?
— Ходит, и все. Земля ее не принимает. Не расступается. Глаза у жены сделались совсем круглые.
— И чего теперь?
— Стращает дед. Беды, говорит, много наделает.
— Кто?
— Ну кровь, кто! Многим, говорит, кровника эта аукнется. Держаться надо подальше от этих мест. Я, говорит, видишь куда, на Хорошавинскую дорогу забрался. Место доброе, часовенка там стояла, до большевиков еще. Пересидеть хотя бы.
Жена молчала, и Андрей понял, что вопрос с картошкой можно считать закрытым. Больше она к нему не вернется.
Проводив жену на работу, Андрей Ходырев занялся по хозяйству. И вдруг страшная догадка, словно обухом, ударила по голове. Он выронил звякнувшее ведро и медленно опустился на колодезный обруб, глядя перед собой невидящими глазами.
...Последний раз в Волковке он был накануне праздников, восьмого мая. Суходеева хватились где-то числа десятого. Дуська еще по всей улице бегала, колоколила. По времени, как будто, совпадает, и повадки — те самые. Как только Андрей возвращался домой и шел в очередное дежурство на работу, через день-два в Волковке появлялся пакостник. Ни раньше, ни позже. Как-никак соседи; считай, рядом живут. Все на виду, и секретов от них он никогда не держал. Вроде незачем было.
Андрей сходил в избу за куревом. Вернулся обратно, к колодцу.
С другой стороны, кроме этих двух дат, все остальное, пожалуй, одни домыслы без фактов. С Володькой Суходеевым, да и с отцом его, душа в душу жили всегда. Взаймы одних трешников сколько перетаскал без отдачи. Бензином одалживался постоянно. Дядя Андрей, дядя Андрей... Да ладно, зарабатывать станешь, отдашь. И вдруг на тебе — навозные вилы, тяжеленные. Чтобы уж насмерть пришить. Андрей не видел в такой злобе ни грамма логики. А если обе даты совпадение, и только? Праздники, они и есть праздники. Мало ли народу спьяну тонет, дохнет? Шею себе сворачивают, режут друг друга, гробятся! Тогда от его домыслов и вовсе камня на камне... Да и зачем? На кой черт Суходееву Володьке сдалась эта Волковка? Туда-сюда мотаться ради пакости? С ума можно сойти! Да и накладно.
И все же, пытаясь глядеть на дело с двух разных сторон, чтобы не ошибиться, Андрей уже прозревал истину. Вспоминались непонятные прежде ухмылки, косые, испытующие взгляды, вопросики, когда он, злой и раздраженный, возвращался с Волковки, переживая очередное разорение. Еще сочувствовал говнюк, советы давал! Андрей вспомнил, как в августе прошлого года остановил Суходеева на улице со вспухшей до черноты щекой. Присвистнул. «Кто это тебя так приложил, парень?» И ключица — с трещиной оказалась, это Андрей уже через жену от Дуськи узнал позднее. И тоже все совпадало: он сам за неделю до этого «забыл» для пакостника на окне пачку патронов с тройной порцией пороха. Сработало... А отсюда и злоба, и все остальное.
Андрей вспоминал мелочь за мелочью, сопоставлял, сводил концы с концами и знал, что прячется за мелочами от главного — почему Суходеева нет уже две недели? Угодил в капкан? Но не медведь же он, в конце концов. Неужели недостало толку выбраться?
И вдруг новая мысль промелькнула в голове, от которой по спине поползли омерзительные мурашки, что если следователь сдержит слово? В милиции тоже бывают исключения из правил. Тем более, что Суходеева ищут теперь уже всерьез. По словам жены, следователь заинтересовался... Может быть, они уже что-то знают? Иначе просто отмахнулся бы, как участковый. Ведь зачем-то Володька Суходеев мотался в Волковку. Не из-за одной только пакости, должно быть?
Все! Надо ехать, не мешкая. Если даже там ничего не произошло, он изведется здесь от черных мыслей.
Через час Андрей был на разъезде возле избушки с путевой связью. Поджидал попутный состав. Предчувствие беды не отпускало. Минут через двадцать, словно по расписанию, громыхнул на разъезде, взвизгивая буксами, бесконечный порожняк. Андрей Ходырев поднялся в кабину.
— Курить можно?
— Если табачком поделишься,— ухмыльнулся машинист.
Андрей поделился. На тридцать второй километр доехали молча. На прощание Андрей выбил с полпачки «Астры» для машиниста и спрыгнул на насыпь.
— Давай!
Он махнул рукой и долго стоял, пережидая набирающий скорость состав, грохот и лязг мелькающих мимо пустых платформ. Наконец, перестук колес затих вдалеке, и Андрей медленно двинулся в гору. За то время, что он здесь не был, трава местами успела вымахать по колено и вязала ноги, стоило сойти с тропы. В остальном все выглядело по-прежнему.
Андрей круто обернулся, вокруг было пусто и тихо, на удивление. Казалось, от тишины в воздухе стоит звон.
— Как вор,— он криво усмехнулся.
Но перед избой он снова остановился, даже присел на обочине в траву, озираясь по сторонам. Ощущение постороннего присутствия не оставляло, хотя Андрей догадывался, что страхи его надуманные, скорее от неизвестности. Он попросту боится взглянуть правде в глаза и всячески оттягивает минуту.
С первого же взгляда Андрей понял, что Пакостник здесь побывал. Вновь сбит замок вместе с накладкой. Оторваны на окнах доски. По привычке он обошел усадьбу кругом. Задняя дверь осталась не тронута, замок тоже на месте. Он выломал в кустах палку и вернулся к воротам, стоя сбоку за столбом, толкнул створу от себя. Подождал с минуту и шагнул во двор, в сырой, прохладный полумрак. Когда глаза попривыкли, он обнаружил разбросанный в проходе железный инвентарь. Пакостник, похоже, выбирал в ящике подходящий инструмент, чтобы сбить на сенной двери два висячих замка килограмма по три каждый.
И вдруг Андрей увидел возле заплота прислоненное ружье. Одностволка. Его сразу бросило в жар. Значит, из дому Пакостник уже не вышел? Он там, стоит подняться в сени и толкнуть дверь... в нескольких шагах.
Но жив ли?
Андрей сходил к рюкзаку, достал электрический фонарь. Осмотрел попутно ружье. Шестнадцатый калибр. Бескурковка. Патрон оказался с крупной дробью. Но незнакомое. Ружье деда Устинова со склепанным цевьем, с истертыми до блеска стволами, дряхленькое, он хорошо знал.
Дверь в сени оказалась сильно изрублена топором, оба замка выворочены с мясом и валялись на полу рядом с ломиком. Андрей пошарил лучом по двери, она была слегка приоткрыта, и вдруг внизу, под дверью, увидел вцепившиеся в порожек, скрюченные пальцы. В крови. Дверь как бы защемила их. И на самой двери внизу темными полосами тоже насохла кровь. Почти в ту же секунду он почуял тошнотворный, гнилостный запах. Невольно отступил, не в силах оторвать глаза от скрюченных пальцев.
— Что ж ты, сука, глупее медведя оказался,— пробормотал Андрей и, стиснув зубы, шагнул вперед, потянул дверь на себя.
Мертвец лежал лицом вниз, вытянув к нему руки, будто желая схватить. Черные, жирные сгустки крови заляпали пол, стены. Кровь засохла и на одежде, но капкан оказался в стороне, в углу, спружиненный. Рядом лежал сапог, тоже перемазанный кровью, и вид этого сапога почему-то настораживал, гонцом палки Андрей не без усилия перевернул его. Из голенища, из кровавого месива остро торчала кость.
Луч света медленно переполз на мертвеца. Левой ноги ниже колена не было, зато на обрубке поверх штанины был наложен жгут. Из поясного ремня.
Ему показалось неправдоподобным, что дугами могло отхватить ногу напрочь, но гадать он не стал. Ухватил мертвеца за волосы и повернул голову к себе, чтобы увидеть лицо... Мертвый, стеклянный взгляд. Застывший в кривом оскале рот с окровавленными зубами. Он разжал пальцы. Голова с деревянным стуком упала на пол.
Суходеев...
Андрей вышел со двора и тяжело опустился на бревно под окнами. Но запах черемухи, которая обильно сыпала цвет, походил на трупный, и он пересел подальше, на обочину. С полчаса жестоко смолил одну сигарету за другой, пока во рту не появилась горечь.
О явке с повинной не могло быть и речи. И не потому, что боялся за себя или за семью — просто не чувствовал на себе вины. И в глубине души не слишком раскаивался. На войне как на войне. Враг пришел в его дом, покушался на его жизнь и на жизнь его близких. В результате, враг уничтожен. Хотя лучше бы этой смерти не было. Но теперь — все эмоции по боку — необходимо уничтожить следы, он не собирается доказывать легавым, что он не верблюд, пусть докажут сами.
Про капкан Андрей никому не рассказывал, даже жене. И сейчас мысленно похвалил себя. Если успеть управиться, то он сможет вернуться домой еще до ее прихода с работы и избежит лишних расспросов. Все знать ей ни к чему.
Андрей заплевал окурок и отправился во двор. Пошарив рукой под сенями, он отыскал в углу два свернутых мешка, припасенных прошлым летом под картошку. На мешках, когда он их вытащил, тоже оказалась кровь. Бурые, засохшие пятна. Андрей принес фонарь и осветил закут.
В щелях, между сенных половиц, кое-где виднелись темные потеки, даже сосульками.
Преодолевая отвращение, Андрей Ходырев сложил мертвецу руки по швам и кое-как затолкал его в два мешка. Туда же засунул сапог с торчащей из голенища костью. Затем он выволок труп на двор и погрузил на тележку с деревянным самодельным кузовам.
Во дворе среди железного хлама он отыскал тяжелый балансир от железнодорожной стрелки, тоже погрузил в тележку и вышел перевести дух. Осмотреться.
Вокруг было пусто и тихо. Толкая перед собой тележку, он двинулся в поселок и остановился на одной из улиц возле обвалившейся, колодезной будки. Разбросал полусгнившие доски и добрался до обруба. Верхние бревна прогнили насквозь, но их никто не трогал, и они держались. Андрей вытащил из прясла длинную жердь и осторожно пошарил в колодце — нет ли выпавших и застрявших крест-накрест бревен. В стволе было чисто. Он бросил на всякий случай камень. Далеко внизу раздался всплеск.
«Обсох, но на это дело как раз сгодится.» Он перетащил мешок к колодцу. Проволокой примотал вместо груза тяжелый балансир и перевалил мешок через край...
В усадьбу он воротился через час. Заглянул в бочку, которая стояла под потоком. Но дождей давно не было, и бочка тоже обсохла. Он забросил в тележку алюминиевую флягу и двинулся лесом по заросшей кустами дороге.
Речку Андрей поначалу не узнал. Она обмелела и походила разве что на ручей. По ее поверхности плыли радужные пятна, и когда он зачерпнул кепкой, чтобы напиться, от воды явственно припахивало керосином. Поколебавшись несколько, он оставил тележку с флягой на дороге, а сам двинулся берегам вверх по течению и метров через триста оказался на краю огромной, свежей вырубки, уходящей за горизонт.
В прошлом году здесь стоял тридцати-сорокалетний березняк с еловым густым подростом. По сути, рубить еще было нечего. Но вырубили, и не столько вырубили, сколько искорежили гусеничными траками землю, испакостили и — бросили гнить. По всей вырубке, куда хватал глаз, спичечной россыпью белели березовые стволы.
Одолевая буреломы и тракторные отвалы, Андрей прошел еще метров с сотню и увидел то, что искал.
Нож мощного бульдозера попросту сковырнул у речки оба берега на отрезке около полусотни метров, и вода разлилась по всей площади, образовав широкую лужу. Посреди лужи были брошены пустые, промасленные бочки из-под горючего. Лежала на боку горловиной в воде бочка с остатками автола, и фиолетовое, радужное пятно вокруг нее было густым неподвижным.
Андрей выругался и, отыскав подходящую вагу, взялся выкатывать бочки из воды на сухое.
Местный леспромхоз, пакостники, вместо того, чтобы оборудовать под ГСМ специальную площадку — снять дерн, оканавить, провести на случай пожара минерализацию, насобачились устраивать склады и базы ГСМ в лесных речушках и ручьях. Расплющат оба берега или сковырнут и — готово. А там трава не расти. И не растет. Ни леса, ни речки, даже болота нет. Только ржавая хлябь под ногами с осокой да мутная вонючая жижа течет по пересохшему руслу вниз.
Андрей провозился с бочками не меньше часу и вдруг понял, что возвращаться не хочет, нет сил. Даже здесь, возле этой изгаженной и поруганной речушки, на краю безобразной вырубки он не чувствовал себя столь отвратительно.
...В сенях, замывая половицы, он нашел раскрытый перочинный нож. В сгустках крови. И вдруг понял до деталей, что тут произошло.
От удара дуг по ноге Пакостник сразу получил открытый перелом голени. Нечто подобное Андрей уже видел, приходилось. Промаявшись в капкане, когда малейшее движение причиняет страшную боль, потеряв много крови, он так и не смог из него освободиться, да еще в темноте наощупь. И тогда перочинным ножом он ампутировал ногу. Последнее, на что у него достало сил — это наложить жгут. Но выбраться уже не смог. Наверно, лишился чувств и то ли от потери крови, а может ночью от переохлаждения умер.
Андрей вспомнил, что и сам в ночь на восьмое мая изрядно перемерз в нетопленной избе. «Что ж, поделом козлу и мука»,— непримиримо подумал он и прополоскал находку в ведре, смывая кровь.
Нож — это, конечно, улика. Стоит показать нож отцу Пакостника и назвать место, где нашли, будущее для Андрея сразу запахнет парашей. И капкан — тоже улика.
С помощью ломика Андрей вырвал пробой из стены, смотал цепь и вынес капкан на двор, где на старой тряпке уже лежало разобранное ружье. Все это необходимо было уничтожить. Хотя капкан и ружьишко (наверняка, тоже краденое) при других обстоятельствах он бы, разумеется, приберег. Для дела.
На речку Андрею Ходыреву пришлось съездить еще раз и приготовить щелок. Но зато он был уверен теперь, что ни одного пятна крови нигде не осталось. Верхний слой земли под сенями он снял и насыпал сухой с гряд. Закут завалил разным пыльным старьем, собранным по углам. Припорошил пылью неправдоподобно чистые ступени и половицы в сенях, дав предварительно просохнуть. В остатках воды тщательно простирнул собственную одежду. Промыл сапоги. Протер оконные стекла, посуду, чтобы ничего суходеевского, ни одного следа не осталось. Мало ли как в скором времени обернется дело? Но изрубленные двери, вывороченные с мясом замки, щеколды, битый кирпич — все оставил, как есть. У легавых в анналах Пакостник зарегистрирован, и тут уж лгать не приходится. От жены сегодняшнюю поездку тоже лучше не скрывать. Ну, был. Посмотрел. Сама же говорила... Чтобы потом не вышло накладки.
Андрей собрал вещи и напоследок еще раз придирчиво все проверил, до мелочей. Как будто ничего упущено не было.
Погода, пока он возился в доме, сильно переменилась. С запада густо наволокло туч, и далекие раскаты грома становились все слышнее. Но солнце в эти последние минуты, похоже, взбесилось и прожигало одежду насквозь. Спускаясь через поселок к железке, Андрей вдруг краем глаза заметил странный просверк в лесочке в полутораста шагах вправо от себя. Как будто солнечный зайчик. Так могли бликовать линзы бинокля, или очки.
Андрей постоял. Спятился несколько, и блеск снова появился.
Если бы кто-то наблюдал за ним, то понял бы, что тоже замечен. Но блеск не исчезал, и тогда Андрей повернул в сторону леса, решив все же проверить причину. Возможно, блестела консервная банка или пустая бутылка, надетая на сучок.
Однако, к своему удивлению, он обнаружил в кустах возле тропы мотоцикл. Даже ключ зажигания был оставлен в замке... «Восход». Красного цвета. Но номеров почему-то не оказалось. Новый, поэтому не зарегистрирован, решил Андрей.
Он огляделся по сторонам, прислушался — не раздадутся ли поблизости голоса. Но уже было ясно, кому принадлежит мотоцикл, и от этой случайной находки ему сразу сделалось не по себе. Вся его сегодняшняя работа при такой улике гроша ломаного не стоит, и, как знать, не осталось ли незамеченным что-нибудь еще? Такая же вот «мелочь»?
Андрей замерил уровень бензина в баке и включил зажигание...
Глава 11
В семь утра следователь прокуратуры Валяев созвонился с гаражом горторга. Узнал: продуктовая машина ГАЗ 53Ф номерной знак 48-60 КВН сейчас находится на мясокомбинате, стоит под погрузкой. Затем отправится по магазинам развозить товар.
— Рабочий день у них когда заканчивается?
— По-разному. Иногда до девяти-десяти вечера раскатывают.
— А под погрузкой?
— Тоже по-разному. В зависимости от очереди. Могут час и два простоять.
Алексей отправился на мясокомбинат по адресу: улица Шоссейная, 2.
Вся здешняя округа представляла собой средоточение каких-то баз, складских помещений, безымянных контор, свалок в перекрестии железнодорожных ниток и подъездных путей. Все пыльное, деревянное, перекосившееся, и только мясокомбинат, детище трех соседних районов, выглядел более капитально — серый, каменный куб. Забор вокруг него, опутанный поверху колючей проволокой, большей частью был повален, и видно, что не вчера.
Алексей подошел ближе. Возле правого крыла здания друг другу в хвост выстроились несколько грузовых машин. Здесь, посреди просторной, крытой платформы, стояли одинокие весы, и с них шел отпуск и загрузка товара. Из открытых дверей мясокомбината, со склада готовой продукции по подвесному монорельсу весовщица палкой толкала перед собой к весам партию колбас, взвешивала, помечая в блокноты, и шла за следующей. Иногда помечать забывала, и тогда из стоящей полукругам кучки ожидающих, едва весовщица отворачивалась за довеском, хищной птицей выскакивала краснорожая баба в брезентухе, хватала с весов несколько палок колбасы или связку и прятала за полой.
Эту операцию у всех на глазах баба повторила раза три-четыре и сделалась похожа на беременную. Впрочем, не надолго. Она тут же сбегала к машине, той самой ГАЗ 53Ф, номерной знак 48-60 КВН, и разгрузилась с помощью водителя у него в кабине. Затем все повторилось снова, еще и еще раз.
Алексею показалось странным, что весовщица не видит происходящего. Но, кажется, и все прочие тоже происходящего не замечали.
На какое-то время он отвлекся от бабы. В дверях, откуда по монорельсам подавались колбасы, появилась замечательной красоты девушка. Белый короткий халатик и белая шапочка, изящно пришпиленная к черным волосам, делали ее похожей на модель из рекламного буклета. Она никак не вписывалась в здешний уныло-производственный антураж, и Алексей решил, что скорее всего на мясокомбинате эта девушка — лицо эпизодическое. Возможно, представитель санитарно-эпидемиологической службы. Или какая-нибудь инспектор какого-нибудь отдела по качеству.
Она бросила несколько небрежных слов весовщице и удалилась, никого не поразив своим появлением. И Алексей усомнился тотчас в истинности своих предположений.
Между тем, баба с красным лицом вновь растолстела, и Алексей решил, что пора сунуть в мясокомбинатовский муравейник палку и посмотреть, что из этого выйдет: он выждал момент, когда баба выдернула из кучи на весах три полена колбасы разом, и крепко схватил ее за воротник.
— Прокуратура! — зычно объявил он и приставил бабе к носу удостоверение.
Жидкая толпа тотчас отхлынула от весов.
— Всем стоять! — приказал Алексей.— Номера машин переписаны. Личности будут установлены. Ближе, ближе сюда! Не стесняйтесь. А вы, милая,— он обернулся к растерянной весовщице,— быстро к телефону, 2-31-93. Вызывайте ОБХСС. Живо!
Он распахнул на бабе брезентовую робу. Под робой на пришитых с внутренней стороны крючках висело несколько палок колбасы. Весовщица исчезла.
Однако дальнейшие события приняли неожиданный оборот. Краснорожая баба вдруг забилась, затрепыхалась у Алексея в руке, словно пойманная курица, и повалилась на цементный пол. Истошный визг ножом полоснул по ушам. От неожиданности он выпустил воротник, и баба с воем задергалась в конвульсиях, биясь головой об пол. Платок на ней съехал, юбка задралась, обнажив застиранные, неопрятные панталоны.
— Встать! — рявкнул Алексей, догадываясь, что вся эта истерика разыграна на холяву. Известный воровской прием. Но баба продолжала колотиться головой о цементный пол. Обильная пена выступила у ней на губах, глаза выворотились, лицо уже было разбито в кровь.
Алексей махнул двоим из толпы.
— Держите ее. За руки и за ноги. А ты,— он ткнул пальцем в третьего,— быстро за водой, с ведром.
Ни один не пошевелился. Алексей подошел к толстомордому верзиле вплотную.
— Ты плохо слышишь?
— Да иду, иду,— лениво отозвался тот.— Только людей зачем бить?
— Не понял?
Верзила смотрел на него с нагловатой ухмылкой.
— А че не понял-то? Еще женщину... Вон свидетелей сколько.
Свою последующую реакцию Алексей не успел даже осознать. Правая рука сработала автоматически. Мощным крюком снизу он насадил небритую челюсть на кулак. И когда удар приподнял верзилу на цыпочки и выгнул дугой, коленом сильно ударил в пах. Верзила взвыл неожиданно тонко, по-бабьи и, согнувшись пополам, рухнул на колени.
«Месяц, ублюдок, будешь носить свою драгоценную мошонку в руках. Есть время подумать.» С нехорошей улыбкой Алексей повернулся к публике.
— Ну? Кто еще видел, как я избивал бедную женщину? Ты?
— Че я-то?
— Не видел, значит?
— Не-ет.
— Может, ты?.. А ну, иди сюда!
Мужичонка в надвинутой на глаза кепке, к которому он обратился, вдруг вильнул задом и бросился наутек. Алексей вновь вернулся к верзиле, приподнял за волосы.
— Как фамилия?
Тот что-то замычал, не разжимая зубов.
— Как его фамилия?
— Карташов,— испуганно ответил кто-то из публики.— Грузчик.
— А фамилия этой женщины? — он кивнул на дергающуюся бабу.
— Терехина, экспедитор.
— Который убежал?
— Шофер ихний, горторговский.
— Фамилия?
— Пыжьянов.
— Понятно, наставники подрастающего поколения...
Алексей выписал три повестки. Одну, плюнув, пришлепнул верзиле на лоб.
— Сегодня, в пятнадцать ноль-ноль, в прокуратуру. Явка обязательна.
Вторую сунул бабе в нагрудный карман.
— Я думаю, ты меня хорошо слышишь. В пятнадцать ноль-ноль прошу в прокуратуру. А эту повестку,— он обернулся к зрителям.— Вот ты, лично... передашь водителю. Я за ним бегать не стану.
«Как Хлыбов»,— раздраженно подумал Алексей, чувствуя и в поведении, и в собственном голосе совершенно хлыбовские нотки. Даже словечко «ублюдок» где-то промелькнуло. Тоже хлыбовское.
— Здравствуйте,— услышал он за спиной приятный женский голос.— Что здесь происходит?
Обернулся. Перед ним в двух шагах стояла очаровательная девушка, та самая в белом халатике, и разглядывала его с явным любопытством. За ее спиной из глубины дверного проема маячило испуганное лицо весовщицы.
«Разумеется, в ОБХСС не дозвонились. Было занято,— догадался он.— И красотка отлично знает, что здесь происходит"».
Он улыбнулся, недоуменно развел руками.
— Видите ли, сам решил спросить. А эта дама услышала и — сразу упала в обморок. С товарищем тоже дурно сделалось, прямо беда.
Он замолчал с выжидающей улыбкой, девушка тоже улыбнулась и протянула руку.
— Тэн, Светлана Васильевна. Мастер колбасного цеха.
— О! Так это вашу колбасу здесь расхищают?
— Нашу,— просто согласилась она.
Алексей представился.
— Ну и... что будем делать?
— Наверное, стоит обсудить? — неуверенно предложила она.
— Согласен.
Алексей отправился следом за мастером колбасного цеха. По пути она отдала распоряжение весовщице, чтобы погрузку продолжали.
— Вы в ОБХСС позвонили? — остановил Алексей.
Весовщица заполошно всплеснула руками.
— Ой, звонила, звонила... никто трубку не берет.
— А может, занято?
— Ага, занято,— поспешно закивала женщина и осеклась. Прикрыла ладошкой рот.
Алексей усмехнулся, но промолчал. Вслед за Тэн он вошел прямо со склада готовой продукции в небольшую, опрятную комнатушку. Отметил про себя, как элегантно, без крика и шума Светлана Васильевна удалила его с места происшествия. Сейчас там спешно заметают следы, чтобы к прибытию сотрудников ОБХСС выглядеть святее самого папы. Звонить, правда, он не собирался. Но хотя день пусть проживут честно, без воровства.
Светлана Васильевна предложила ему стул. Сама же, открыв сейф, достала пару объемистых папок и положила перед Алексеем.
— Что это?
— Накладные, Алексей Иванович, на отгрузку мясопродуктов по госдоговорам. За май-апрель месяц. Пожалуйста, обратите внимание на пункты назначения.
Алексей без интереса полистал папку. Пожалуй, его мысли больше занимала сама Светлана Васильевна Тэн, а не эти накладные.
— Свердловск. Пермь. Ижевск... А это морские порты. Клайпеда, Мурманск, Ленинград,— она встала у него за спиной, чуть сбоку и изящными, удлиненными пальцами с безупречно налаженным маникюрам отмечала, на что именно ему следует обратить внимание.
— Что означают морские порты? — из вежливости спросил он, возвращая просмотренные папки.
— Что груз предназначен для отправки заграницу.
Она убрала папки на место, закрыла сейф и села за стол напротив. Ее темные, большие глаза мерцали из-под длинных ресниц, волосы отливали свежим, юным блеском, на загорелых щеках тлел нежный румянец, и Алексей подумал, что перед женской красотой все остальное пустая тщета и бессмыслица. Поразительно, как подобная жемчужина могла оказаться в этой навозной куче?
— И какие я должен сделать выводы, уважаемая Светлана Васильевна?
Тэн улыбнулась.
— Весь объем нашей продукции, Алексей Иванович, уходит на сторону. Куда — вы это сейчас видели. Зато в районы, в наш и в соседние, мы не отгружаем совсем. Только в райцентры. Девятьсот килограммов на шестьдесят тысяч населения. У нас,— она быстро простучала на калькуляторе.— Пятнадцать граммов на человека в сутки.
— На днях я прочел, что ваш мясокомбинат из месяца в месяц срывает госпоставки. В апреле, если не ошибаюсь, недоотгружено до сорока процентов продукции. Хотя, Светлана Васильевна, с планами переработки мясокомбинат как будто справляется, не так ли?
— Даже перевыполняем.
— Тогда в чем дело?
— В пятнадцати граммах в сутки на человека.
— То есть, расхищают? До сорока процентов?
— Да.
Алексей подумал, пожал плечами.
— Мне, впрочем, все равно. Я сюда по другому делу.
— Я знаю.
— Вот как! Это каким образам?
— С помощью телефона. Позвонила в прокуратуру Хлыбову. Он сказал, что вас с проверкой на мясокомбинат никто не уполномочивал. Вы проявляете самодеятельность, скорее всего попутно. Но предупредил, что вы способны на неожиданные поступки, поэтому с вами лучше не лгать, а побеседовать предельно откровенно.
— Что вы и делаете? — Алексей был уязвлен до глубины души, и вопрос прозвучал достаточно грубо.
— В любам случае это лучше, чем ложь.
— Разумеется. Но у меня в связи с этим появилась одна нескромная мысль. В вашем городе, похоже, я единственный честный человек.
Тэн пожала плечами.
— Я тоже.
Алексей промолчал и сразу почувствовал — его молчание истолковано как сомнение. Румянец на щеках обозначился ярче, глаза сверкнули почти сердито, и он убедился окончательно, что задел за больное. Однако продолжал молчать с некоторой даже иронией.
— Вы можете мне не верить, если угодно,— она явно оправдывалась! — С точки зрения закона, наверно, так и есть. Соучастие, недоносительство... Сокрытие? Я не знаю всех юридических формулировок в этом плане. Но моя совесть чиста, своим служебным положением я никогда не пользуюсь.
— Вам хватает пятнадцати граммов в сутки?
— Мне и этого много.
— Вы что ж, не употребляете мясного?
— Не употребляю. Зато у экспедитора Терехиной шестеро внуков. Она бабушка. И сотни три родственников, все с неотоваренными талонами на руках. И все к ней обращаются.
— Выходит, там на весах я вел себя как последний негодяй?
Тэн улыбнулась. С сомнением пожала плечами.
— Не знаю.
— Весы, надо думать, не единственный канал хищений?
— Не единственный. Хлыбов, например, пользуется другими каналами.
Алексей хмыкнул.
— Не слишком ли вы откровенны со мной?
— В следующий раз, если захотите кого-то ударить, вы можете сделать это у себя в прокуратуре. А не добираться в такую даль на мясокомбинат.
Алексей расхохотался.
— Все, сдаюсь! Вы выиграли бой чистым нокаутам, ха-ха-ха!
Она неожиданно взяла его за руку.
— Хотите, я вам обработаю?
Алексей только сейчас увидел, что костяшки пальцев на тыльной стороне руки сбиты в кровь, и рука перемазана. Ухмыльнулся.
— Если это не взятка.
Глядя, как мягкими, точными движениями она обрабатывает ссадины, Алексей подумал, что уходить ему отсюда совсем не хочется. Проворчал:
— Мне кажется, муж не слишком вас любит.
— Почему? -- она взглянула на него с любопытством.
— Красивые женщины устраиваются как-то иначе. Здесь не очень подходящее для вас место.
— Вы просто не знаете настоящую цену моего места.
— Я знаю, что своим служебным положением вы не пользуетесь. Стало быть, вашему месту грош цена.
Тэн отрицательно качнула головой.
— Я буду пользоваться, как только выйду замуж.
Алексей даже растерялся.
— Так вы... не замужем, хотите сказать?
— Нет.
— Бог ты мой! Какая удача. В таком случае, я делаю вам предложение.
Она изумленно посмотрела на него и рассмеялась.
— Хлыбов предупреждал, что вы способны на неожиданные поступки. Кажется, он был прав.
— Нет, кроме шуток. В городе всего два честных человека. Почему мы с вами должны друг друга избегать?
— Не знаю,— подумав, ответила Тэн.
Алексей записал номер своего телефона на перекидном календаре. Шутя пригрозил:
— Если вы, Светлана Васильевна, в течение двух дней не позвоните по этому номеру... хотя бы для того, чтобы сказать «нет», я снова нагряну сюда с проверкой.
* * *
Направляясь в прокуратуру, он еще и еще раз мысленно прокрутил отдельные эпизоды, связанные с хищением мясопродуктов, и меру возможного участия в них Суходеева. «Мелкий несун, не более того,— решил он.— Вся цепочка налицо: экспедитор, водитель, грузчик. Что успели стянуть с весов, идет на стол и, видимо, родственникам. Мокрухой тут, пожалуй, не пахнет.»
Он вспомнил улепетывающего водителя в надвинутой на глаза кепке и усмехнулся. Терехина, экспедитор, тоже не в счет. Карташов в то время еще не работал. Словом, очередная пустышка. Для очистки совести он допросит всех троих, и можно ставить на мясокомбинате точку...
Рядом с ним, взвизгнув тормозами, остановился прокурорский «уазик». В окно высунулась улыбающаяся физиономия Махнева.
— Валяев, душа! Полезай в карету.
Алексей подошел. В салоне на заднем сидении расположился с чемоданом эксперт-криминалист Дьяконов, полнощекий, с толстыми красными губами и сочным, густым голосом. Поздоровались.
— Нам по пути? -- засомневался Алексей.
— По пути, по пути. Садись. На тот свет всем по пути.
«Уазик» рванул с места и, рывками набирая скорость, запрыгал по ямам.
— Водила хренов,— проворчал эксперт-криминалист вздрагивающим от езды голосом. Его полные щеки тряслись на ухабах, и даже губы заметно пришлепывали.
— Помнишь, я тебе рассказывал про младенца? В мусорном баке нашли, угол Парижской Коммуны? в коробке с розовым эдаким бантикам, ха-ха! — Махнев был радостно возбужден, хотя предмет как будто к веселью не располагал.
— Помню, еще бы.
— Так вот. Убийца нашелся. И даже понес наказание. Высшая мера. Через повешение, ха-ха! Есть справедливость на земле. Есть! И, между прочим, уже третий случай подряд. Сегодня, скажем, мы обнаруживаем труп убиенного младенца, а через день... максимум, два-три — труп убийцы. Как правило, родителя. Даже дрожь берет, словно это возмездие. Свыше! Ха-ха!
— Как это случилось?
— Вот сейчас приедем, и сам все увидишь,— подмигнул Махнев. — Не пожалеешь, обещаю.
Но Махнев не выдержал и полминуты. Начал выкладывать историю.
— Представляешь, баба потеряла своего мужика! Вышел ночью в сортир, с постели поднялся и — нет его. Поворочалась она с боку на бок, и опять спит. Дескать, покурит, придет сам. А не придет, так и леший с ним. Утром бабе на работу надо бежать, а в постели рядом пусто. Нет мужика, не пришел. Во двор сунулась, покричала, по улице туда-сюда... Нету. Вышла на огороды, а он, глянь — возле плетня стоит, на коленках. Да как-то странно стоит... голову на бок повесил. А на голове ворона, глаз ему долбит. Подошла баба ближе, а мужик у ней мертвый, на колу висит. Воротником рубахи за кол зацепился, когда через плетень пьяный перелезал, и сорвался, видать. Как петлей шею перехватило. Высшая мера, ха-ха!
— Почему ты решил, что это убийца?
-- Баба опять же! Живого боялась до смерти, а как увидела, что сдох, палку из плетня выломала и давай лупить его куда попало. С воем. Соседи понабежали, оттаскивают, а она, как чумная. Он, кричит, гадина, ребеночка моего зашиб. В коробку затолкал. А ей отнести велел и в мусорку бросить. Куда отнесла ребеночка, говори, баба? На парижскую коммуну? Эта коробка? Эта, эта! — кричит.— Туда отнесла.
«УАЗ», не разбирая дороги, вихрем промчался по одноэтажным, окраинным улочкам и, вильнув, юзом, тормознул возле открытых настежь ворот и кучки зевак.
На огороде возле плетня тоже было людно. Двое милиционеров сдерживали граждан на приличном расстоянии. Граждане в свою очередь удерживали простоволосую, худую женщину с испитым лицом. Она грязно бранилась и все норовила доплюнуть до мертвеца. Но иногда поворачивалась и, вставая на цыпочки, из-за голов грозила длинной, мослатой рукой в соседские окна рядом.
— Не угомонилась еще, Мариша? — мимоходом спросил Махнев.
— ...Я ее, суку, выведу на чистую воду! Дрянь мокродырая. Вижу тебя, вижу, не спрячешься. Выглядывает гадина из-за занавески-то... Ох ты, бесстыжая! — вопила Мариша, не обращая внимания на следователя.— А то не знаю, куда он, паразит, ходил с бутылкой-то ночью. К тебе, мокрощелка долбана! То-то носа не кажешь, стыдно на люди показаться... Чужих мужиков сманывать, паразитка косорылая!
Махнев брезгливо махнул рукой.
— Уведите ее в дом. В ушах звенит.
Алексей остановился перед трупом. Все было так, как рассказывал Махнев. Дородный мужик лет около пятидесяти стоял на коленях возле плетня. Вернее, висел на воротнике с подогнутыми ногами. Трудно было представить, как это могло произойти в действительности, но воротник прочно зацепился за кол. У мертвого было типичное лицо удавленника, налитое кровью, распухшее, с вывалившимся желтым языком. На нем были надеты одни кальсоны, и те съехали, обнажив волосатый пах. Видимо, потерпевший некоторое время еще дергался, но уже в конвульсиях.
Подошел Махнев.
— Помнишь, у младенчика в области шеи были обнаружены царапины и ушибы непонятного происхождения? Это он... этот подонок. Как только младенчик начинал плакать, он хватал его из кроватки, спеленутого, и — за дверь, на гвоздь, подвесит, а сам спать. Теперь вот — висит голубчик. Точь-в-точь. Разве что не плачет. Слушай, сержант? — Махнев обернулся к милиционеру.— А где бутылка? Я же не велел ее трогать.
Сержант смущенно развел руками.
— Виноват, не доглядел.
— Что значит, не доглядел?! Это же вещдок. Следы!
— Стащили эти,— сержант кивнул в сторону зевак.— Только отвернулся, уже нет.
Махнев вытаращил на него глаза.
— Как? У мертвого из рук? Бутылку? О, господи, терпение твое бесконечно! — он с самым свирепым видом двинулся к зевакам. — А ну, прочь отсюда... Мрразь!
Обратно он шел держась от смеха за живот.
— Великолепно, а?! Этот подонок сдох в петле, но бутылку из руки не выпустил. А соседи так называемые, стоило сержанту отвернуться, тут же ее увели.. И распили, наверняка. Грамм двести было, не больше, ха-ха-ха! Замечательный у нас народ, душевный! С таким народом реки вспять поворачивать. Ха-ха-ха! Ой, не могу больше. Уморили сволочи.
Он похлопал удавленника по гладкой, полированной лысине.
— Ну. хватит, голубчик, повисел, и ладно, снимайте его.
Из двора, шагая прямо по грядам, подходили санитары с носилками, из числа указников.
Глава 12
В прокуратуре перед дверью Алексея дожидался один из «олигофренов», кадыкастый парень с крашеными, пегими волосами. Молча протянул повестку.
-- Заходи, приятель, я сейчас,— Алексей усадил свидетеля у себя в кабинете, сам заглянул в приемную.— День добрый. Людмила Васильевна, для меня что-нибудь есть?
— Да. Пожалуйста.
Алексей пробежал глазами по исписанному листу бумаги.
В следственный отдел прокуратуры
РАПОРТ
По вашему поручению произвел проверку двух уцелевших строений в бывшем поселке Волковка, а также визуальный осмотр прилегающей местности. Местонахождение пропавшего без вести Суходеева В.Г. установить не удалось.
В домовладении, принадлежащем Ходыреву А.Д., в ограде, мной обнаружен тайник и разобранные на запчасти три мотоцикла, два «Восхода» и «Ява». Сохранились номерные знаки. По данным учета все три находятся в розыске, начиная с сентября 198... года.
По существу заявлений, сделанных Ходыревым А.Д. в райотдел милиции от 22 августа 1989 года и от 23 мая 1990, дополнительно сообщаю: факты, указанные в заявлениях, при осмотре в основном подтвердились. Имели место неоднократные кражи со взломом, о чем свидетельствуют сбитые замки и поврежденные, изрубленные двери, бессмысленная порча имущества, а также следы взрыва, произведенного в печи и др.
Участковый инспектор, старший лейтенант Суслов.
Кратко, но содержательно. Алексей удовлетворенно хмыкнул. Предстоящий разговор с «олигофреном» сразу обретал жесткую направленность.
Едва ли хозяин домовладения в Волковке, Ходырев, имеет отношение к тайнику. По крайней мере, один из мотоциклов, если верить рапорту, находится в розыске с сентября 198... то есть, был угнан почти за год до того времени, когда Ходырев приобрел усадьбу в частное пользование. И кроме того, от Ходырева поступило два заявления, что тоже свидетельствует в его пользу. Вряд ли кому придет в голову обращаться в милицию, имея у себя во дворе три украденных мотоцикла. Пусть даже в разобранном виде. Скорее всего, не знал.
Алексей вошел в кабинет.
Для начала он предупредил свидетеля об ответственности за дачу ложных показаний. Произошла, по всей вероятности, трагедия, и сейчас в его силах помочь следствию разобраться. Но «олигофрен» набычился и после нескольких односложных ответов перестал реагировать на вопросы совсем. Однако молчание, Алексей это чувствовал, стоило ему усилий — мешала все та же стая, которая незримо стояла у парня за спиной даже здесь, в кабинете следователя.
Тогда Алексей решил помочь. Небрежным тоном, как бы не придавая своему вопросу особого значения, сказал:
— А чего ты скрытничаешь? Ваш тайничок, в Волковке, мы раскопали. Три мотоцикла, и все краденые. Ну?
— Че наш-то? — разом вскинулся "олигофрен".— Никакой он не наш. Гнилой там хозяйничал.
— А угонял?
— Тоже он.
— И ты будто бы не при чем? Почему тогда молчал?
— Че я дурак, что ли?
— Дурак, можешь в этом не сомневаться. Я тебя предупредил об ответственности, и еще раз предупреждаю: или ты говоришь мне правду, или я сделаю из тебя соучастника в угоне мотоциклов. Два из них, так и быть, повесим на гнилого. Третий будет висеть на тебе.
— Не докажете,— подумав, буркнул «олигофрен».
Алексей улыбнулся.
— Еще как. Тебя я возьму сейчас под стражу, назначим техническую экспертизу, и, я уверен, на твоем мотоцикле обнаружатся снятые запчасти. Он же у тебя разноцветный.
«Олигофрен» смотрел в угол и затравленно шмыгал носом.
Алексей тоже молчал, давая ему время вполне прочувствовать положение. Потом, как о решенном уже вопросе, сказал:
— Значит, Суходеев подбрасывал вам запчасти. За так?..
Парень мотнул головой.
— За бабки, по черной цене.
— Понятно. Но в Волковке теперь хозяин появился, сосед. Что же вы сразу не перепрятали?
— Пусть у Гнилого голова болит. Это его хаза была.
Парень помолчал, потом нехотя признал:
— Вообще-то, говорили ему ребята.
— А он?
— Выкурю, говорит, как таракана. Больше не сунется.
— Это соседа, что ли? Ходырева?
— Ну.
— Понятно.
Алексей еще некоторое время поработал с «олигофреном» в разных режимах, но тот явно иссяк. Разговор пошел вхолостую, по кругу. Он предложил свидетелю подписать протокол допроса и отпустил.
Полученная информация представлялась достаточно ценной. Кажется, впервые дело начало принимать конкретные очертания. Так называемая «хаза» в бывшем поселке Волковка и обнаруженный тайник свидетельствовали, что в этом месте Суходеев имел или имеет определенный устойчивый интерес. Во-вторых, угроза выкурить хозяина, которая вполне подтвердилась двумя заявлениями Ходырева. В-третьих, насколько он уяснил из разговора с женой Ходырева, последний акт «терроризма» — взрыв в печи, порча имущества, произошел совсем недавно. Уже в мае, накануне исчезновения. Пожалуй, дату следует уточнить, но сам факт налицо: в конце апреля, в мае Суходеев там был. Готовил акт.
Что против?.. Участковый инспектор в Волковке Суходеева не обнаружил. Не исключены два варианта. Если это несчастный случай дорожно-транспортного характера, то скорее он произошел по дороге в Волковку. Или обратно. Красного цвета «Восход" —приметная деталь в пейзаже. Значит, следует проверить дороги, тропы, которыми возможно добраться в поселок из города.
В случае насильственной смерти убийца наверняка позаботился труп спрятать. Достаточно надежно. Поэтому инспектор его не обнаружил, хотя... если судить по найденному тайнику, усердие проявил. Очевидно, потребуется более детальный осмотр местности и обыск в «хазе», в домовладении, принадлежащем Ходыреву, где обнаружен тайник.
Алексей взялся за телефон, набрал номер.
— Участковый инспектор, слушаю?
— Здравствуйте, Анатолий Степанович, это Валяев из прокуратуры. Получил рапорт. Очень толково, оперативно и, главное, ко времени. Но кое-что желательно обсудить.
— Через двадцать минут я к вам... Черанева, сядь на место! — голос участкового внезапно отдалился, потом вновь зазвучал в трубке.— Алле?.. Через двадцать минут я к вам подойду. Надо тут с гражданкой закончить.
Алексей насторожился.
— Минуту, Анатолий Степанович. Как вы назвали фамилию гражданки?
— Черанева. Татьяна Дмитриевна.— Четко, без ненужных расспросов ответил тот.
— Понятно. Меня эта дама тоже интересует, так что не спешите. Я выхожу.
— Комната восемь.
Через несколько минут Алексей входил в комнату участкового инспектора на первом этаже. В Чераневой он сразу узнал вчерашнюю истеричку из ресторана. Кажется, она до сих пор окончательно не протрезвела. Марафет на лице был смазан. Взгляд плавал по сторонам, ни на чем не фиксируясь, и она, похоже, не заметила появления в комнате нового человека, хотя Алексей сел напротив нее спиной к окну.
— Что произошло?
— Вчера в одиннадцатом часу ночи была задержана на дискотеке. В невменяемом состоянии. При задержании оказала сопротивление работникам милиции, употребляла в их адрес нецензурные выражения. Доставлена в вытрезвитель.
Слог, каким изъяснялся старший лейтенант Суслов, напоминал его рапорт. Прямолинейный и исполнительный малый, решил Алексей. Любопытно, как они находят с гражданкой Чераневой общий язык?
— И часто она так?
— Регулярно. Особенно в последнее время. Хотя по сути школьница. Недавно исполнилось семнадцать.
Черанева никак не реагировала, как будто разговор шел не о ней. Пепел с сигареты сыпался ей на кофточку, на руки, на стол, она не обращала на это внимания и не стряхивала, хотя пепельница стояла рядом. Выглядела она много старше своих семнадцати. Рискованно короткая юбка, белые рыхлые ноги, без чулок, в заметных синяках. Когда она закинула ногу на ногу, Алексей с изумлением отметил, что под юбкой у нее ничего нет, голое тело.
— Почему на даме нет нижнего белья?
— Мода такая. На танцы они ходят теперь без трусов. Некоторые даже бреют лобок.
— Товар лицом?
— Говорят, для остроты ощущений. Так, Черанева?
Черанева ответила не сразу, вялым, словно спросонья, голосом.
— Дурак... где ты купишь приличные трусы? Чтобы носить не стыдно?
— Давай без дураков, Черанева! — повысил голос участковый. Помолчав, продолжал: — Допустим, приличного белья в продаже нет. Но бриться тоже не обязательно.
— Для эстетики! — Черанева вдруг визгливо рассмеялась, и Алексей сразу вспомнил ее вчерашнюю истерику. Пожалуй, она была не столько пьяна, как показалось вначале, а скорее не в себе. Невменяема, как правильно отметил старший лейтенант Суслов.
«Если с ней что-то произойдет,— подумал Алексей,— как с теми двумя, это никого особенно не удивит. Удивительнее будет другое — если ничего не произойдет. »
— Таня, вы помните меня? Вчера... вы были в ресторане?
Обращение по имени здесь, в стенах милиции, было непривычно, и Черанева наконец его заметила. Но упоминание о ресторане заставило ее вздрогнуть. Ее глаза вдруг расширились, на лице появилось выражение страха. Спустя мгновение она вся сжалась, словно затравленный зверек, готовый вот-вот сорваться с места и бежать.
Такой реакции Алексей не ожидал. Участковый, судя по всему, тоже. Они переглянулись, и, стараясь говорить по возможности мягко, Алексей спросил:
— Вы знакомы с Ирой?.. Она сидела со мной за одним столиком?
— Нет! — истерически взвизгнула Черанева. Губы, а затем все лицо у нее исказилось мучительной гримасой. Руки бесцельно метались по одежде, по волосам. Лейтенант поднялся к ней из-за стола со стаканам воды и окончательно спровоцировал истерику.
На хлопоты вокруг Чераневой ушло около часу. Пришлось даже вызывать врача. Разумеется, о продолжении разговора с ней не могло быть и речи.
Оставшись вдвоем с участковым инспектором, Алексей кое-как уточнил предстоящие следственные действия и в смятенных чувствах вышел из отделения. В его голове давно брезжила ужасная догадка, но он раз за разом упорно гнал ее от себя, хотя косвенных доказательств набиралось предостаточно. Однако теперь впервые, кажется, появилась реальная возможность получить прямое свидетельство, что он действительно напал на след, ради чего, собственно, сюда приехал.
Возле прокуратуры Алексей увидел стоящий «УАЗ». Похоже, Хлыбов был на месте. Он вошел в приемную.
— Шеф у себя?
— Нет... в отгуле,— замялась Людмила Васильевна.
— Мне нужна машина. На полчаса.
— К заму, Алексей Иванович.
Через некоторое время, выправив кой-какие бумаги, в том числе постановление на обыск в бывшем поселке Волковка, Алексей сел за руль.
Дорогу туда он запомнил неплохо. Наверное, потому, что ночью пришлось изрядно проплутать. Вскоре «УАЗ» остановился возле одноэтажного дома, утонувшего среди старых черемух. Алексей отворил калитку и взошел на высокое крыльцо с деревянными резными кружевами и перильцами. Несомненно, дом знавал лучшие времена, но с тех пор осел, сделался темен, и деревянный узор местами выкрошился. Запах гнили, едва уловимый, подсказывал, что где-то начала течь крыша. Дом умирал.
Оглядевшись по сторонам, Алексей пошарил рукой возле двери. Кнопки звонка, кажется, не было. Он позвякал скобой, еще и еще раз. Дом молчал.
Алексей собрался было пойти к соседям, узнать, где хозяева, но случайно нажал на дверь, и она легко, без скрипа отворилась. Из глубины дверного проема на него неподвижно смотрели глаза. Бледным пятном маячило лицо. Это была женщина лет тридцати пяти-сорока с темными волосами, одетая в темное платье и темную, вязаную кофту. Темнота дверного проема совершенно съедала силуэт, и ее худое, бледное лицо поэтому, казалось, висит в воздухе.
Зрелище было неприятным. Тем более, что Алексей не услышал за дверью ее шагов, когда стучал, или хотя бы шороха.
— Здравствуйте, мне хотелось бы видеть Иру.
Лицо качнулось в темноте и слегка подвинулось к нему.
— Вы ее мама, я полагаю?
Лицо снова поплыло из темноты, однако ответа долго не было, и он уже не чаял его дождаться, когда она наконец с трудом выговорила:
— Мама, да.
Она повернулась спиной и двинулась внутрь дома.
— Проходите,— услышал Алексей тихий голос.
Он двинулся следом, наощупь отыскивая дорогу. Запнулся за ступени, их было три. Прошел одни двери, другие, и рука ткнулась во что-то мягкое, пушистое. Оно как бы откачнулось, едва он задел, и снова сунулось ему в руку, слегка царапнув.
Алексей постоял несколько, давая глазам привыкнуть. Хозяйка ушла вперед и куда-то исчезла, а перед ним оказалась стена и угол, заваленный бумажным хламом. Он понял, что нужную дверь прошел мимо, и повернул вспять. Пальцы снова уткнулись во что-то пушистое. Он пригляделся внимательнее и тотчас отдернул руку. В дверном проеме на бельевом шнуре была повешена кошка.
Откуда-то сбоку, словно из стены, к нему подплывало бледное лицо. Тихий голос скорбно и бессвязно начал пояснять.
— Кошечка недавно совсем, вчера... Но я раньше заметила. Рассада стала пропадать. Помидорная. Я ее высадила в ящики с землей, две недели назад. А вчера заметила... Эта кошечка сходила в ящик по нужде. Как уксусом полила. К вечеру рассада у меня пожелтела... Пропала. Вот, пришлось кошечку примерно наказать.
«Точно, крыша поехала»,— подумал про себя Алексей, теперь уже различая хозяйку, но тем не менее стараясь не отстать.
Она остановилась посреди комнаты, которую наверное можно было назвать гостиной. Повернулась к нему, и Алексей смог наконец разглядеть ее лицо. Пожалуй, они были очень похожи с дочерью. Если бы не возраст и манера носить одежду — совершенно двойняшки.
Она слегка коснулась лба, словно припоминая.
— Вы хотели видеть Иру?
— Да.
— Она умерла.
— Как... когда?!
— В прошлом году,— тихим голосом отвечала она. Ему показалось даже, что он ослышался.
— Простите за назойливость, но вчера я проводил Иру сам. До калитки. Или я что-то путаю?
Она молчала, потом, поколебавшись, кивнула.
— Идемте.
Алексей прошел вперед, в следующую дверь.
— Вот ее комната. С тех пор... когда... ее не стало,— с усилием выговорила она.
Алексей огляделся. Большая и неожиданно светлая для этого дома комната. Удобная тахта. Трельяж с косметикой. И пуф. Платяной шкаф в углу. Стеллаж с книгами; живописной россыпью журналы. И портрет Иры. На стене, в траурной раме. Он даже отшатнулся, но взял себя в руки.
— В прошлом году, вы говорите?
Женщина молчала, потупясь.
— Вчера я сидел рядом с ней. В ресторане. Мы разговаривали.
— Да.
— Что... да? — не понял он.
Но ответа не деждался.
— Вы были дома вчера? Когда она вернулась?
— Я теперь редко выхожу.
— Значит, вы не могли ее не видеть?
Не слыша ответа, он хотел повторить вопрос, но женщина подняла голову и рассеянно невпопад улыбнулась.
— Иногда она приходит,— тихо прошелестело в воздухе, и Алексей остро ощутил атмосферу безумия, царящую в этом доме.
— Ваша фамилия... и дочери, Калетина?.
— Калетина.
Алексей невнятно извинился за причиненное беспокойство и, ничего не объясняя, благо что его ни о чем не спрашивали, вышел из дому. С крыльца оглянулся еще раз: в дверном проеме маячило бледное лицо с исплаканными глазами,— и сел в машину.
«...В границы здравого смысл происходящее никак не укладывается, но мыслить иначе я, кажется, не умею»,— с некоторым даже ожесточением думал он, чувствуя, что выбит из колеи напрочь.
Минут пять небыстрой езды несколько его успокоили, и он начал прикидывать варианты.
...Сходство матери с умершей Ирой было просто поразительно. Бросалось в глаза, но почему, собственно, он решил, что провожал вчера Иру, а не ее мать? Только потому, что она назвалась Ирой? Не отсюда ли проистекает их поразительное сходство, что Калетину-младшую он сравнивает с Калетиной-старшей? Тем более, что дочь Иру впервые он увидел на стене в траурной раме.
Допустим, вчера Калетина выглядела моложе. Ну и что? Шестидесятилетние травести иногда недурно играют двенадцати-четырнадцатилетних золушек и джульетт. При свете софитов, а не в ресторане при цветомузыке. И не в майских сумерках по дороге домой.
Наконец, если все так, значит ли это, что маскарад понадобился ради мести? Быть может, безумие, замкнутое на одной навязчивой идее, подсказало этот нестандартный, даже изощренный ход? Он сам имел возможность убедиться вчера в ужасной силе избранного средства. Чераневу вывели, почти вынесли из зала на руках в припадке истерики. Даже сегодня, стоило упомянуть имя жертвы, как припадок повторился. На старые что называется дрожжи. Еще несколько подобных сеансов, и устойчивый истерический синдром закрепится навсегда.
В итоге... Золотарев мертв, и, кажется, не без участия какой-то женщины. Второй преступник, Суходеев, пропал без вести, и надежда, что он еще жив, ничтожна. Осталась Черанева из всей компании, и если она в скором времени не погибнет, то обязательно отправится в сумасшедший дом.
Глава 13
Во второй половине дня оперативно-следственная группа прибыла в Волковку. Старенький локомотивчик, сопя и вздыхая, затащил пассажирские вагоны на запасной путь и там затих. Алексей и эксперт-криминалист Дьяконов, оглядевшись по сторонам, двинулись в гору мимо осевших, полуразрушенных бараков. Впереди с хмурым, отчужденным видом шагал Андрей Ходырев, приглашенный в качестве свидетеля и хозяина домостроения.
Эксперт Дьяконов закатал намокшие штанины до колен, недовольно буркнул:
— Дождь был, черт бы его...
Алексей промолчал, хотя эксперт был прав. После такого дождя часть следов на открытой местности окажется смытой. Он обернулся. Их догонял участковый инспектор Суслов.
— Договорился?
Участковый подмигнул.
— Час-полтора нам гарантировано.
— В самый раз. Минут пять пусть погалдят, успокоятся. Потом можно просить.
В молчании, озираясь по сторонам, добрались до подворья. Затем Алексей, один, обошел поселок по периметру, прикинул рельеф местности и направился к поезду. Пестрая, голосистая толпа человек сорок разбрелась по насыпи, обмахиваясь сломленными ветками от овода и комаров.
— Что случилось, люди? — нарочито громко спросил он, обращаясь ко всем разом.
— Грибы собирам, не видишь? — отозвался из толпы бойкий женский голос.— Сморчки, харчки... прям на шпалах высыпали. И сама же засмеялась. Алексей широко улыбнулся.
— А я думал, случилось чего?
— Слушай ее, сороку. Одни сморчки на уме. Вон керосинка наша гробанулась, не едет.
— И надолго?
— А кто знает?
Алексей подошел к машинисту локомотива, который с недовольным видом копался в железных, промасленных внутренностях. Переговорил, потам вернулся назад.
— Граждане пассажиры! Работы, примерно, на час, от силы полтора. Сменить шкив. Досадно, конечно, но разрешите воспользоваться вашим бедственным положением. Дело в том, что здесь, на территории поселка, по нашим данным, находится пропавший во время майских праздников подросток...
Алексей в двух словах обрисовал ситуацию и объяснил, в чем должна состоять помощь: необходимо построиться цепью и прочесать поселок с прилегающей к нему местностью. Особое внимание при этом следует обращать на естественные впадины, углубления, лесные завалы, кучи хвороста, на свежевскопанную землю или поврежденный дерн. Труднодоступные места, вроде чердаков, подвалов, колодцев, трогать не надо. Лучше предупредить. Следственная группа займется ими особо.
Переждав шум, вызванный сообщением, Алексей предложил всем разойтись вдоль железнодорожной насыпи с интервалом в десять метров один от другого. Цепочка получилась внушительная, не менее полукилометра, и флангами захватывала опушки леса по обе стороны поселка. Он дал знак начать продвижение, а сам с двумя понятыми отправился в усадьбу Ходырева, где занялся осмотром и составлением описи предметов, изымаемых из тайника. Хозяин, как он и предполагал, про тайник ничего не знал. Ни разу, по его словам, в курятник не заглядывал, не доходили руки. На вопрос, кому мог принадлежать этот тайник, пожал плечами.
— Не знаю.
— А предположения есть?
— Он же, чего тут... Его захоронка.
— Кто он?
Андрей Ходырев усмехнулся.
— Имя, что ли? Тогда я и без вас разобрался бы. Без заявлений,— он повернулся и ушел в избу. Но в избе обстоятельно и по-хозяйски расположился эксперт-криминалист Дьяконов, производил осмотр, и Ходырев отправился на улицу.
В неприязненном отношении хозяина резон был, Алексей это понимал. Правоохранительные органы в данном случае сработали задним числом, когда человек исчез. Наверняка, Ходырев знает, что исчез не безымянный человек, а сосед Суходеев, догадаться теперь нетрудно. И он знает также, что из свидетеля в случае смерти Суходеева вполне может превратиться в подозреваемого, хотя оба его заявления в свое время были оставлены без внимания.
Прошло около получаса, когда неподалеку от усадьбы раздались оживленные выкрики, и цепочка с обоих флангов вся собралась вокруг одного из бараков. Алексей вышел за ворота, мимоходом спросил Ходырева:
— Что там у них?
— Нашли чего-то,-- равнодушно отозвался тот и остался сидеть на обочине у поваленного плетня.
Алексей пошел взглянуть, протиснулся через толпу ко входу в барак. Навстречу с кривой усмешкой появился участковый. Мотнул головой.— Нашли, да не того.
Под одной из сгнивших половиц возле стены, едва присыпанные землей, белели голой костью человеческие останки. На лицевой части черепа даже сейчас был виден длинный, рубленный след, скорее всего, от удара топором.
Вслед за Алексеем в барак хлынули любопытные, и скуластый, худой мужчина, явно коми по национальности, уже в который раз рассказывал, как он вошел, как наступил на половицу, она хрястнула у него под ногой и перевернулась, и что он потом увидел. Кто-то из пожилых вслух по памяти прикидывал, кого и за какие грехи могли здесь угробить. Набиралось человека три-четыре возможных кандидатов, но, кажется, это был еще не предел. Список дополняли другие. Участковый решительно прекратил начавшуюся дискуссию и взялся восстанавливать цепочку.
Однако дальнейшие поиски результатов не дали. Цепочка прочесала поселок до конца, углубилась в лес и лесом же, разделившись надвое, возвратилась на железнодорожную насыпь.
Алексей поблагодарил людей за оказанную помощь и просил двоих доброхотов, если такие найдутся, остаться с группой до конца поисков. Вызвался коми по фамилии Веремеев. Сказал, что он в отпуске и дома ему все равно делать нечего. Вторым к следователю подошел пенсионер из местных старожилов Кропачев и ткнул пальцем в барак, в котором вырос и откуда его призвали в армию.
...Эксперт-криминалист Дьяконов с недовольным видом продолжал возиться теперь уже во дворе. Результаты были малоутешительные. Найдено несколько отпечатков пальцев, которые после сравнения с образцами предположительно были идентифицированы как принадлежащие Суходееву. Его «пальцы» нашлись также на никелированных частях разобранных мотоциклов. Но это лишний раз подтверждало уже известные выводы, и только.
По расчетам Алексея усадьба Ходырева была наиболее вероятным местом совершения преступления. Эту задачу он, собственно, и поставил перед криминалистом: отыскать следы, предметы, орудия с тем, чтобы доказать их отношение к преступлению.
Дорожно-транспортное происшествие после разговора с участковым, а потом с местным старожилам Кропачевым пришлось исключить. Железнодорожная ветка была единственной дорогой сюда из города. Вдоль нее прямо по насыпи была набита мотоциклетная колея, по которой добирались в город жители лесоучастков, а когда наступал сезон — многочисленные грибники, ягодники, позднее охотники. Правда, стороною, низиной шла еще дорога, но это был зимник, а летом даже в сухую, жаркую пору он превращался в непролазное болото и зарастал местами осокой и камышом. То есть, произойди ДТП, то красного цвета «Восход» и сам потерпевший были обнаружены на железнодорожной ветке в течение нескольких часов.
Скорее всего, имело место преступление. Не исключено, что преступник мог свести счеты с Суходеевым не здесь, а где-то на стороне. Во временной раскладке дыр покамест достаточно, но вся собранная информация так или иначе замыкалась на Волковке, даже по приблизительным временным прикидкам. Из остальных версий ни одна не сработала. Поэтому он считает — интересы Суходеева и интересы предполагаемого преступника сошлись здесь.
Возможно, «олигофрены» (не сумели миром поделить тайник), это во-первых. Во-вторых, Ходырев, хозяин усадьбы, вполне мог по своим каналам вычислить Суходеева и рассчитаться с ним, что в общем и целом было бы даже справедливо. Если по совести, конечно, а не по закону. В-третьих, Устинов, хозяин другой усадьбы, который, примерно, в это же самое время перебрался с пасекой на новое место.
Но главное — найти труп. На худой конец, красного цвета «Восход», без номеров. Потом можно разматывать дальше.
Участковый Суслов передал Алексею набросанную от руки схему местности, включая поселок, с результатами осмотра. Крестиками были помечены места, которые следовало проверить дополнительно: три колодца, два барака с пометкой (чердак), и еще крест — на опушке леса справа, если встать лицом к железной дороге.
— Что тут?
— Пятно масла. Возможно, протек картер.
— Понятно. Анатолий Степанович, возьми себе этих помощников и начни с чердаков. А я пока приценюсь к колодцам, лады?
— Годится.
— Постой,— Алексей придержал его за руку, заметив в глазах участкового азарт. Даже схема, составленная с большим толком и дотошностью, несколько выходила за обычные служебные рамки.— Скажи, что ты об этом думаешь?
— Что думаю?.. Честно?
— Желательно.
Алексей улыбнулся, но старший лейтенант шутливого тона не принял. Он скосил глаза на сидящего с безучастным видом Ходырева и коротко, со злостью отрубил:
— Он. Его рук дело.
— Есть основания?
— Без оснований.
— Тогда каким образом?
— Двоюродный братец. Знаю, как облупленного.
Алексей разочарованно присвистнул.
— Ну, братья-славяне, вы даете! А меня, стало быть, за золотоордынца держите? Так, что ли?
— Его почерк,— упрямо повторил Суслов, вновь не принимая шутку.— И поза, когда нашкодит, та самая. Мол, знать ничего не знаю. Мое дело сторона.
— А если, действительно, не знает? Поза, увы, не доказательство.
— Для меня доказательство,— отрубил участковый и с добровольными помощниками отправился исследовать чердаки.
История с двумя проигнорированными заявлениями Ходырева теперь сделалась яснее. Хотя подобная практика в милиции повсеместна независимо от родственных отношений.
Алексей отыскал все три колодца. Трава вокруг них была отоптана. Гнилые доски от развалившихся колодезных будок частью раскиданы по сторонам, частью сгружены. Разрушена у всех трех верхняя часть сруба, стволы завалены бревнами. Время, кажется, сделало свое дело, но, возможно, постарались неумелые помощники, проявив излишнее рвение. Наконец рвение мог проявить и преступник, скрывая следы.
Алексей тщательно обследовал каждый колодец с прилегающим участком земли, но ничего подозрительного не обнаружил. Пятен крови такой дождь после себя, разумеется, не оставит -- трава была слишком мокрая. Следов волочения тоже. Не нашлось хотя бы клочка ткани, пуговицы или зацепившейся нитки, обломанного куста, чтобы отдать приоритет одному из колодцев, а не расчищать все три. Будучи городским жителем, он плохо представлял, как это лучше сделать.
Подошли участковый с Веремеевым и Кропачевым, тоже ни с чем. Переговорив, пришли к выводу, что колодцы — последнее, что им осталось проверить на территории поселка. И желательно сделать это засветло.
Веремеев, когда составляли опись, заприметил у Ходырева во дворе пару крючков, какими орудуют грузчики на лесоповалах, и вместе с Кропачевым они вызвались изготовить багры. Участковый Суслов взялся расчищать от досок и прочего хлама площадку вокруг колодца. Алексей отправился прогуляться по поселку — осмотреться, и, когда вернулся, багры были уже готовы — длинные, из сухих легких лесин, с намертво примотанными на концах крючками.
Орудуя на пару и с большой сноровкой, Кропачев с Веремеевым цепляли в колодце обвалившееся, рыхлое звено сруба и, с гаканьем, перехватываясь, вытягивали наружу. Получалось споро, и вскоре колодцы были от завалов очищены. Но трупа, сколько они ни шарили по дну, ни в одном из них не оказалось. Последняя из отрабатываемых версий, похоже, оборачивалась пустышкой. Другие в собранном материале попросту не просматривались.
Подошел эксперт Дьяконов. Трехчасовой осмотр в усадьбе Ходырева никаких дополнительных сведений не дал. Ни малейшей зацепки. Дьяконов хмыкнул, оглядев их работу, с наслаждением закурил.
— Что-то ты, братец, недодумал в этом деле. Не вытанцовывается.
В снисходительном тоне, в голосе с ленивой бархатной развальцей Алексей почувствовал соответствующую оценку, пусть ненамеренную, своим профессиональным качествам. Он промолчал, но спустя некоторое время с вежливой категоричностью отправил Дьяконова с аналогичным осмотром в покинутую избу Устинова.
— Может, плывуном затянуло? — высказал предположение Веремеев, провожая эксперта глазами.
— Это как?
— Ну, как сказать-то тебе?.. Сруб, он когда дырявый, прогнил то есть, в щели глина, песок, жижа всякая лезет. Плывун называется. Мелеет тогда колодец. Ну, люди это дело чистят. Иной раз и сруб переберут наново.
— Да нет,— решительно возразил Кропачев.— Плывун, это когда вода есть. А колодцы, все три, вишь, обсохли. Ушла вода,— он зло сплюнул и подытожил какую-то давнюю свою мысль: — На дурное дело трава не растет, не то что...
Не договорил.
— А ты, Анатолий Степанович, чего молчишь?
Участковый с хмурым видом решительно отрубил:
— Плохо искали.
— Ты думаешь?
— Знаю. Голыми руками, на шару Ходыренка не возьмешь. Что-что, а концы хоронить умеет.
Алексей, хотя был расстроен неудачей, рассмеялся. Братская неприязнь становилась забавной.
— Что значит хоронить концы? Например?
— Охотник он. Пушник. Да и по рыбе тоже мастак, не отнимешь, — нехотя проговорил Суслов, и было понятно, что сказано не в похвалу.— Вреде леса кругом повывели, а Ходыренок даже в поскотине умудряется, по десятку лис берет за сезон капканами. Больше, чем все райохотобщество. Браконьерит, конечно. Кое-что похуже сдает для отвода глаз, остальное — налево по черной цене. И ни разу, кстати, не попался. Ни с мясом, ни с рыбой, ни с пушниной.
— А может, слухи? Мало ли, прихвастнул раз-другой. И покатилось?
— Не слухи. Сам с ним бывал, знаю. Вон, второй «жигуль» добивает. В пожарке таких денег не платят.
Теперь Алексею была понятна причина неприязни участкового к двоюродному брату. Отнюдь не по долгу службы. Удачников и вообще талантливых людей худо терпят, сразу ставят вне закона и травят непримиримо до скончания дней. Он поднялся, постучал по циферблату.
— Через сорок минут собираемся. На этом самом месте. Желательно, каждый с вариантом.
Пенсионер Кропачев и Веремеев, оба с важностью кивнули и углубились в размышление. Алексей один отправился к Устиновской избе, которая располагалась рядом с железной дорогой. Под «хазу», да еще с тайником, она разумеется не годилась. Слишком торное место в отличие от ходыревской усадьбы, расположенной в полукилометре от железки, к тому же на отшибе, почти в лесу. Другое дело, что Суходеев, воруя, наверняка, не ограничивался одним ходыревским имуществом. Мог заглянуть сюда тоже и нарваться... А если нарвался, то зачем отсюда тот же Устинов или Ходырев, или кто-то из «олигофренов» потащит труп на себе в гору за двести метров, чтобы свалить в колодец? Гораздо проще перенести за линию. А там — дикая вырубка десятилетней давности, черт ногу сломит. Лучше места не придумаешь. Через месяц зверье обгложет труп до костей, и тех не оставит. Но пусть поработает криминалист, с выводами забегать не стоит.
В избу он заходить не стал. Поднялся по насыпи. Его внимание привлекла неглубокая выемка в десятке шагов от тропы. Насыпь была — шлак с песком, но местами она успела обдерниться, местами сохранились проплешины с редкой щеточкой травы. Пожалуй, яма выглядела здесь не вполне логично. Зеленые травинки, подрезанные, надо думать, лопатой, не успели даже подвялиться. Правда, под действием дождя контуры ямы оплыли, и она походила теперь на воронку.
Алексей постоял, соображая, потом сунул в карман пригоршню песку из ямы и повернул назад. По пути он сделал небольшой крюк мимо барака, где были обнаружены человеческие останки, подобрал возле крыльца проржавелый, но крепкий еще ковш.
Веремеев с Кропачевым сидели вдвоем, как он их оставил, в глубоком размышлении. Посасывали папироски. Алексей попросил перевязать на конец шеста вместо крюка ковш, мол, у них это неплохо получается. Когда черпак был готов, он опустил шест в колодец и повозил черпаком по дну. Потом, перехватываясь, вытащил его наружу, заполненный вонючей, липкой грязью. Оба помощника наблюдали за его действиями с озадаченным видом.
Алексей опрокинул содержимое на землю и, волоча шест за собой, двинулся к другому колодцу. Веремеев с Кропачевым молча последовали за ним.
Второй колодец оказался гораздо глубже, и пробу грунта удалось подцепить только с третьей попытки. Зато в черпаке вместо липкой, вонючей грязи оказался сырой песок с частицами шлака.
— Ну? И че будто бы? — подсунулся Веремеев. Даже сунул в песок палец, потрогать.
Алексей вывернул из кармана на ладонь принесенный с собой песок, подмигнул.
— Плывун.
— Дак это... где взял-то?
— С насыпи.
— Вот так да-а...-- Веремеев поскреб в затылке, потом подхватил с земли черпак и, спотыкаясь, едва не вприпрыжку устремился к третьему колодцу, через пять минут он показался назад.
— Ну? -- грозно издали спросил Кропачев.
— Грязь, гольная.
— А я тебе че говорил? — удовлетворенно кивнул Кропачев, хотя ничего такого он не говорил.— Откапывать теперь надо.
Помощники засуетились. Шустрый Веремеев куда-то убежал, кажется, за веревками. А Кропачев принял руководство на себя.
— Ты вот чего, парень, сходи за участковым пока. А то нам вдвоем не справиться тут. В ту сторону, кажись, пошел,— он махнул рукой.
Когда Алексей, участковый и Дьяконов подошли к колодцу, у помощников все необходимое было уже готово. Верхние венцы, которые находились вровень с землей, теперь оказались вынуты и валялись в стороне, а поперек зияющего отверстия в вырытой по краям канавке лежало тонкое бревно с переброшенной через него вниз веревкой. На конце веревки поперек они привязали короткую палку, чтобы можно было стоять, опираясь на палку двумя ногами. Сухой, легкий Веремеев держал в руках лопату с перерубленным пополам черенком, и, судя по азартной решимости на лице, лезть в колодец собирался именно он.
— Ты токо за стены не цепляй,— строго напутствовал Кропачев.— А то завалит, не дай бог.
— Ну дак...
— Кричи, если чего.
Веремеев сел на бревно поперек и пристроил ноги на палку. Начали спускать втроем. Дьяконов тем временем возился с фотоаппаратом. Наконец веревка ослабла. Кропачев сложил руки рупором.
— Вода есть?
— По колено...— глухо прозвучало из колодца.
— Песок?
— Песок...
Минут через десять Веремеев велел опустить к нему багор. Потом дернул за веревку, чтобы поднимали. Вскоре голова Веремеева с жидкими, спутанными волосами показалась из ямы. Его подхватили с разных сторон и выдернули на поверхность.
— Ну?
— Как будто зацепил, то ли дерюга какая, то ли за одежу?
Он выкатил бревно из канавки, чтобы не мешало, и теперь все начали подымать багор с грузом.
Одного взгляда на вытащенный мешок было достаточно, чтобы определить — в нем труп. Эксперт Дьяконов защелкал затворам фотоаппарата, фиксируя на пленку различные ракурсы. Потом с осторожностью, словно с тяжелобольного, стащили один мешок, затем другой. Шустрый Веремеев заглянул в лицо, позеленел и тут же засеменил в сторону травить. Больше к трупу близко не подходил. Зато пенсионер Кропачев глядел вокруг победителем. Он и заметил первым приближающегося к ним Ходырева. Усмехнулся.
— Еще помощник топает.
Перед Ходыревым молча все расступились, и каждому было понятно, почему они так сделали. Ходыреву, должно быть, тоже. Он постоял, не без любопытства озирая труп с подогнутыми к подбородку коленями. Обошел его. Заглянул в лило и, не сказав ни слова, ни на кого не взглянув, отправился назад.
— Знакомый, или как? — не утерпев, бросил ему в спину участковый.
Ходырев не ответил, даже не повернул головы. Такая реакция ни на один вопрос однозначного ответа не давала.
С осмотром трупа и с протоколом провозились до темноты и, когда уходили, набросили сверху дырявый брезент, придавили по краям кирпичами. Эксперт-криминалист Дьяконов от каких-либо категорических заключений отказался, сославшись, что трупы — это не по его части. Но в качестве предположения... если судить по распространению трупных пятен и гнилостных изменений, смерть наступила с неделю назад, может чуть больше. Очень похоже на большую потерю крови, поскольку ни один из жизненно важных органов не поврежден. Почему нога оказалась отдельно, он, Дьяконов, хоть убей, не понимает, чем могло оторвать, когда, при каких обстоятельствах? Нужна медэкспертиза. Могла ли смерть произойти от утопления? Скажем, оглушили, потом столкнули в колодец? Да, могла. Но необходимо вскрытие на наличие воды в легких. О сроках пребывания в воде тоже он судить не берется, там масса взаимодополняющих признаков. Но опять же, если в качестве предположения, тогда дня два, три, четыре... Где-то в этих пределах он бы дал. Но и то ориентируясь больше на состояние одежды, нежели трупа.
Они уже подходили к усадьбе Ходырева, когда поднялся ветер, и стал накрапывать мелкий дождь. Враз потемнело.
Дьяконов прошел в избу, а Алексей задержался у ворот возле железной бочки под водостоком. Вначале он намеревался ополоснуть в ней руки после осмотра, но вспомнил, что это именно та бочка, в которой Золотарев, намотав на руку волосы, утопил Иру Калетину. Вероятно, на глазах у Суходеева и Чераневой.
Он обошел бочку кругом дважды, представляя в подробностях разыгравшуюся здесь сцену убийства, как если бы сам был свидетелем. Поверхность воды в бочке шла мелкой, ровной рябью. Так бывает, когда рядом проходит железнодорожный состав, но состав не проходил, тем более рядом, и ветер сюда тоже не задувал, поэтому рябь выглядела несколько странно.
Алексей сунул руку к воде, желая зачерпнуть. Но в воздухе раздался легкий треск, похожий на щелчок, и кончики пальцев словно наткнулись на иголки. «Электрический разряд? — он удивился.— Но грозы, кажется, нет. Дождь сеет.» Он повторил попытку — и снова раздался треск электрического разряда. Он резко отдернул руку, потряс, чувствуя, что рука в локте занемела.
— Не бочка, а конденсатор, черт бы его...— пробормотал он, заглядывая внутрь. Из воды, ему показалось, бледным, плоским пятном глянуло на него неживое лицо.
Он отшатнулся. Но взял себя в руки, решив, что лицо в бочке — его собственное. Отражение. Хотя тут же усомнился: какое может быть отражение при такой ряби?..
Чувство неуверенности, даже подавленности навалилось на него и, казалось, оно исходит от этой проклятой бочки, чем дольше он тут торчит, тем сильнее. Алексей отступил пару шагов, затем еще, и злобная, гнетущая раздражительность в нем как бы истаяла. Дышать стало легче.
Он провел дрожащей ладонью по мокрому от пота лицу и отправился в избу.
Ходырев сидел на кровати, свесив между колен широкие кисти рук. Курил. Эксперт Дьяконов разложил на столе содержимое своего вместительного кофра, тасовал катушки с пленкой, что-то помечал. При появлении следователя обернулся.
— Ты чего такой кислый? Смотреть противно.
— Не смотри,— вяло огрызнулся тот.
— И в самом деле...
Напевая себе под нос, Дьяконов упаковал кофр и отправился в угол к рукомойнику. Через минуту из угла донесся его удивленный возглас.
— О, черт... Не понимаю?
Алексей в раздумье опустился на лавку и поначалу не обращал на него внимания. Но вскоре Дьяконов сам обернулся к ним, совершенно растерянный.
— Что за ерунда? Взгляни.
В руке он держал крышку от рукомойника на отлете, словно лягушку, и с любопытством ее разглядывал.
— Ну? Взглянул,— грубо отозвался Алексей, удивляясь собственной раздражительности.
— Не льется,— Дьяконов постукал снизу по соску, подержал.— Вода не льется, видишь?
— Значит, надо налить.
— Полный! В том и дело.
Алексей подошел. В избе было темно, и он осветил угол фонарем. Рукомойник, действительно, был полон, с краями. По его поверхности бежала мелкая рябь. Дьяконов нахлобучил сверху крышку, и она задребезжала, позвякивая. Он поднес руку, чтобы поднять сосок, и крышка запрыгала, как на кипящей кастрюле.
— Откуда вода? — Алексей обернулся к Ходыреву.
— Из бочки.
— Ты что-нибудь понимаешь?
Скрипнула кровать. Ходырев поднялся и молча прошел к рукомойнику. Алексей видел, как он что-то снял с шеи. Вероятно, нательный крест и сунул под крышку. Дребезжание в ту же минуту прекратилось. Алексей попробовал воду — она бежала. Он сполоснул руки и остановился перед тлеющим огоньком сигареты над кроватью, повторил вопрос.
— Что это?
Ходырев пожал плечами.
— Говорят, дурное место, Волковка.— В его голосе прозвучала усмешка.
— Типичный полтергейст,— подал из угла бодрую реплику Дьяконов.— Я, правда, раньше с подобными делами, не сталкивался, но признаки те же самые, уверяю.
— Что такое полтергейст? — спросил Ходырев.
— Ну... аномальное явление, так сказать.
— Ненормальное, что ли?
— Ну, да. А в чем, собственно, дело?
— Дело, собственно, в том, что если ни черта не понял, надо так и сказать. А не квакать на ученом волапюке! — взорвался Алексей, испытывая необъяснимую досаду, и в то же время сознавая правоту Дьяконова, упоскольку словом «полтергейст» эксперт обозначил ряд однородных явлений, и только.
— Да что с тобой? — вскричал с обидой Дьяконов.
— Извини, Вадим Абрамыч... накатило,— Алексей тряхнул головой и ушел в другой угол.
Некоторое время держалась напряженная тишина. Неожиданно первым подал голос Ходырев.
— Уезжать надо.
— Почему?
— Перегрыземся здесь... до утра.
— Он прав,-- буркнул Дьяконов.
Внутренне Алексей с ними согласился. В скором времени подойдет участковый Суслов, который отправился проводить понятых на попутный состав, тогда образуется еще одна зона конфликта. Но почти за полдня поисков они так и не установили место преступления, не нашли орудие убийства. Понятно, что потерпевший скончался не возле колодца, труп был перемещен. Откуда?.. Если смерть наступила от потери крови, значит, где-то она должна быть пролита, и в большом количестве. На открытой местности? И ее заполоскало дождем? А если в помещении? в этом случае следы кто-то уничтожил. Тщательно и умно уничтожил. Едва ли на такую кропотливую, тщательную работу способны «олигофрены», да еще после совершенного убийства. Хотя убийства, строго говоря, не произошло. Суходеев скорее всего был оставлен в беспомощном состоянии в безлюдной местности. Возможно, труп был обнаружен позднее... кем-то, кто не хотел связываться с милицией (с участковым Сусловым?), опасаясь подозрений в свой адрес. Поэтому этот кто-то спрятал труп, а следы уничтожил?
Алексей продолжал прокручивать в голове различные варианты, и все явственней проступала фигура Ходырева, хотя против него прямых улик пока не было. На многие вопросы даст ответ судмедэкспертиза, и, пожалуй, парню придется не просто. Все из-за мерзавца, который в течение года терроризировал его, как хотел. Теперь он, Алексей, занял место мерзавца и тоже пытается загнать его в угол, оставить семью без мужа и без отца. Чем он лучше того, кто настораживал вилы и набивал порохом печь? Ничем. Война закона против собственного народа продолжается...
— Хорошо, мы уедем,— согласился он.— Но Ходыреву я должен задать несколько предварительных вопросов. Для ясности.
— Мне уйти? — все еще обиженным тоном осведомился Дьяконов, и Алексей вновь почувствовал к нему необъяснимое раздражение.
— Вам задание, Вадим Абрамыч. Пока окончательно не стемнело. Обследуйте бочку под водостоком.
— С какой целью?
— В этой бочке утопили человека, Калетину. Мне кажется, тут есть определенная связь.
Дьяконов вышел. Алексей пересел ближе к Ходыреву, возле окна. Спросил:
— Что у вас за отношения с участковым?
— У меня никаких.
— А у него?
— Это пусть он скажет.
— И все же?
— Двоюродный брат по матери,— в голосе послышалась усмешка.
— Почему он не отреагировал на два заявления в милицию, тем более от брата?
— Некогда, говорит, пустяками заниматься.
«Что ж, для начала неплохо,— подумал Алексей.— Вину признавать не станет. И, кажется, не болван. Ладно, продолжим. Топить не буду, но не вздумай срезаться на пустяках. Помочь тогда не смогу.» Он про себя пожелал Ходыреву удачи.
— Когда последний раз вы были в Волковке?
— Вчера.
— Была причина?
— Хозяйство тут. Какая еще причина?
— А до вчерашнего дня... когда последний раз были?
— Перед праздниками. Седьмого, то ли восьмого. После дежурства.
— Две недели прошло, что же вы раньше не наведывались в хозяйство?
— Жена уговорила. Картошку садить приспичило, вот она и... Битый час препирались.
— Значит,она может подтвердить?
Ходырев промолчал, как бы не придавая такому пустяку значения.
— Вчера в какое время вы приехали в Волковку?
— Около десяти. Вроде.
— На чем?
— Обычно, попутным.
— А назад?
— Тоже.
— В каком часу?
— Ну... перед дождем, в три или в четыре.
— Машинист локомотива знакомый?
Это была ловушка. Если запрятанный труп и все остальное — дело рук Ходырева, значит, мотоцикл, масляный след от которого остался в лесочке, тоже исчез не без его помощи. Возможно, Ходырев на нем и уехал. Сейчас парень начнет крутиться и запутает себя сам.
Наступила пауза.
Алексей сочувственно выжидал. Именно эти паузы в «скользких» местах, когда допрашиваемый чувствует опасность и начинает обдумывать ответ на простой в общем-то вопрос, нередко выдают его с головой. Однако голос хозяина прозвучал спокойно, с некоторым даже сомнением.
— Это какой машинист? Вперед или назад?
— В город. Из Волковки в город. Вы его знаете?
— Этого знаю. Емельянов Сашка. А туда — нет. Вспомнит, наверно. Я ему полпачки «Астры» оставил.
Алексей облегченно вздохнул.
— Где он вас посадил?
— Здесь, в Волковке. С горы заметил, что бегу, остановился.
«Отличная подробность. Если по-настоящему, то надо взять тебя сейчас под стражу и все эти подробности уточнить. Я, разумеется, делать этого не буду. Если закон не защищает человека, то пусть не мешает человеку защищаться.»
Хотя мотоцикл не обязательно дело рук Ходырева. В кустах без хозяина он простоял с десятого мая. При нынешних криминальных нравах его мог увести всякий, кто случайно там оказался, и кто мало-мальски владеет техникой.
— Вы находились здесь с десяти утра и до трех-четырех часов вечера. Что вы делали все это время?
— Уборкой занимался. После погрома.
— Целых пять часов? Чем именно?
Пока Ходырев перечислял, Алексей наблюдал в окно за Дьяконовым, который кружил вокруг бочки с такой же идиотской физиономией, какая была недавно у него самого.
— Довольно, Андрей Дмитриевич,— перебил он Ходырева.— Вот, прочитайте внимательно и подпишите.
«Первая проба, кажется, прошла удачно. Теперь моли Бога, парень, чтобы график твоих дежурств и заключение медэкспертизы о сроках смерти совпали. Чтобы оперативники не нашли «Восход» с твоими лапами и ту штуковину, которой ты, если это ты, оторвал мерзавцу ногу. Кое о чем я тебя предупредил, так что... крутись.»
Он сунул протокол в папку, поднялся.
— Когда состав?
— Пора бы. Давно не проходил.
— Без расписания, что ли? — и, не ожидая ответа, шагнул за порог.
Странная мысль пришла на ум Алексею в это самое мгновение. Калетина была утоплена здесь, в этой бочке. Убийца Золотарев, который утопил девушку, вскоре утонул сам. У трупа потерпевшей железнодорожным составом отрезало ногу. Труп Суходеева, извлеченный из воды, тоже оказался без ноги. Тоже без левой, и ниже колена. Наконец, Черанева, сообщница — близка к помешательству. Как и мать потерпевшей Калетиной, которая от горя помешалась в уме...
Можно допустить, разумеется, что все это совпадение, прихотливая игра случая. Но убийства младенцев, расследованием которых занимался Махнев, продолжали эту цепь совпадений, свидетельствующих скорее о железной закономерности.
Он вспомнил вживе висящий на колу труп пятидесятилетнего убийцы с подогнутыми ногами, с вывалившимся, толстым языком и его манеру подвешивать плачущего младенца на гвоздь за дверь. Похоже, жертвы хватали своих палачей за ноги.
Участкового поблизости не было. На насыпи тоже. После некоторых поисков его нашли на другом конце поселка. Он кружил вокруг бараков со злобным и одновременно встревоженным выражением лица. Подкравшись, он вдруг выскакивал из-за угла и озирался по сторонам, словно надеясь кого-то увидеть. На оклики не реагировал.
Все трое переглянулись. Подошли вплотную.
— В чем дело, лейтенант? — Дьяконов крепко и с непонятным озлоблением схватил его за рукав.
— Почему они прячутся?!
— Кто они?.. Кто?!
Лейтенант наморщил лоб.
— Кропачев с этим... понятые.
— Разве ты их не посадил?
— Уехали оба, мать твою...
— Тогда в чем дело?
— Не знаю. Я шел назад и слышу — разговор. Говорят между собой Кропачев с этим... понятые. За углом. Я повернул к ним, а их уже нет. Спрятались. Вот! Слышишь? Опять...
Он рванулся было за угол, но его удержали.
— Уходить надо,— с тоской, озираясь, пробормотал Ходырев.
Все вчетвером добежали до оставленного трупа, перевалили его на брезент и, ухватив брезент за углы, бегом бросились к насыпи.
Из-за леса явственно доносился звук приближающегося состава.
Глава 14
Открывая ключом дверь своей служебной квартиры, Алексей услышал в прихожей резкие телефонные звонки, вошел, снял трубку.
— Да. Я слушаю.
В трубке молчали.
— Говорите, слушаю вас.
На том конце провода звякнул зуммер, и раздались короткие гудки. Трубку положили. Алексей пожал плечами и отправился в ванную. Включил душ. Второй звонок он услышал сквозь шум воды, уже стоя под душем. Нехотя выбрался из ванной и прошлепал в прихожую.
— Да?
Трубка молчала, как и первый раз. Потом ее положили. Алексей постоял, прикидывая, насколько случайны оба звонка, а если не случайны, то чем они могли быть вызваны? Кому-то понадобилось знать, дома он или нет? Тогда почему два звонка, а не один? Допустим, кто-то установил, что он сейчас дома. Что дальше?.. Собираются нанести визит? Зачем? Кому он мог понадобиться в столь поздний час? Хотя, собственно говоря, телефон чужой, квартира тоже, да и город... Он здесь два дня с небольшим. Скорее всего, оба раза звонили не ему и, не признав голос, промолчали. Хлыбов, помнится, упоминал о какой-то женщине, которая пригрела соседа из агропрома. Не она ли?
Он вновь забрался под душ. Некоторое время спустя, уже заканчивая процедуру, услышал невнятный звук, похожий на щелчок дверного фиксатора и мгновенно насторожился. Затем разом перекрыл оба крана. В наступившей внезапно тишине почудилось короткое, тотчас оборвавшееся движение. Из прихожей...
Он снова пустил воду. Даже что-то пропел себе под нос, будто ничего не услышал. Однако его мозг уже стремительно отматывал назад события минувших дней и череду лиц, которые могли быть заинтересованы в подобном визите почти в полночь. То, что визитер (или визитеры?) пожаловали именно к нему, он уже не сомневался. Но кто? Каким образом?.. Открыли дверь ключом или попросту отжали язычок замка? В любом случае ничего доброго ждать от ночного визита не приходилось, хотя явных врагов как будто нажить он еще не успел. Кроме грузчика Карташова, пожалуй. Но этот мститель оправится от удара не раньше, чем через месяц.
Алексей толкнул дверь и бросил взгляд в прихожую... Никого. Однако среди казенных, устоявшихся запахов по квартире сильно тянуло сигаретным дымом. Кажется, курили в его комнате, в темноте. Ему даже почудился всхлип.
Он нащупал возле косяка выключатель.
— Анна?! Вы...
Она обернула заплаканное лицо и уставилась на него недоумевающим, изумленным взглядом. Почему-то Алексею сделалось неловко, как будто это он пробрался ночью в чужую квартиру, а не наоборот. Он молча выжидал. Анна виновато опустила голову.
— Простите, вы не заперли дверь, забыли, и я... вошла.
Это походило на правду, телефонные звонки в прихожей он услышал, еще стоя на лестничной площадке, открыл дверь и сразу взялся за телефон. Должно быть, дверь сама собой прикрылась, и он потом о ней забыл.
Алексей зажег настольную лампу и выключил верхний свет, чувствуя, что Анну это раздражает.
— Вы звонили?
— Да. Но я не знала, как объяснить и... у меня не повернулся язык. Оба раза.
Она говорила тихим, прерывающимся голосом, и Алексей, чтобы дать ей успокоиться, предложил:
— Я приготовлю по чашке чаю. Посидите минуту.
— Нет... не нужно! Спасибо,— она почти вскрикнула, словно ей причинили боль. Алексей остановился.
— Что-то случилось? С Хлыбовым?.. В прокуратуре мне сказали, у него отгул.
Анна брезгливо дернула плечом и сама пошатнулась от своего движения.
— У Хлыбова запой. Он не-вы-но-сим!
Алексей только сейчас понял, что она пьяна, даже слишком. Он подвинул к ней кресло, подождал, пока сядет.
— Я могу вам чем-то помочь?
— Не знаю,— она остановила на нем темный, малоподвижный взгляд, но, кажется, едва ли его видела.— Не думаю.
«Хлыбов невыносим, у него запой,— подумал Алексей.— Но это не причина, чтобы посреди ночи, без приглашения оказаться в квартире малознакомого мужчины, к тому же, Анна не похожа на взбалмошную девицу, чтобы так безрассудно рисковать своей репутацией и репутацией мужа. Или я, чего-то попросту не понимаю».
Алексей молча взял ее за руку. Она вдруг всхлипнула и отвернула лицо.
— Ужасно тяжело. Я не знала, куда себя деть.
— Разве у вас никого здесь нет?
Анна качнула головой.
— Я приехала с мужем. С первым мужем. Он умер.
— Давно?
— Два года уже.
— Он что болел?
— Разбился на дороге.
— А Хлыбов?
Анна невесело рассмеялась.
— Я, кажется, из тех вдов, которые за гробом мужа и пары башмаков не износили.
— Извините. Мне, наверное, не следовало бы совать нос...
Она дернула плечом.
— Все равно расскажут... другие. Представляю, сколько гадостей вы обо мне услышите.
— Да уж наверное.
— Это почему? — она вдруг повернула к нему лицо очень близко, глаза в глаза.— Или вы тоже станете говорить обо мне гадости?
— О женщинах гадостей я никогда не рассказываю.
— О-о!
Она рассмеялась низким, грудным смехом и вдруг порывисто прильнула влажным ртом к его губам. Он ответил, но Анна так же внезапно отстранилась. С усмешкой произнесла:
— Кажется, Алексей Иванович, вы собирались распорядиться насчет чаю?
— Ну... если хотите?
— Хочу.
Когда Алексей вернулся с кухни с двумя чашками дымящегося чаю, Анны Хлыбовой в квартире не было. Входная дверь оказалась слегка прикрытой. Запах табачного дыма и тонкий аромат дорогих духов остро подчеркивали внезапно образовавшуюся пустоту.
Он недоуменно пожал плечами. Цель столь позднего визита осталась не ясна, хотя он допускал, что «некуда себя деть» и «ужасно тяжело» — достаточно серьезная причина для такого характера, как Анна.
На следующий день с утра следователь Валяев произвел опознание найденного трупа родственниками потерпевшего. Затем отправился в центральную сберкассу, изъял фальшивые ордера, по которым были выданы деньги со сберкнижки Суходеева-старшего, копии лицевых счетов, выписки из служебных документов, отобрал объяснения у бухгалтера-ревизора сберкассы, подтверждающие подделку подписи и изъятие денег, допросил работников сберкассы. В оставшееся до обеда время он подготовил несколько письменных предписаний для прокурора — по мясокомбинату, училищу и сберкассе,— пусть Хлыбов решает сам дать им ход или нет,— отправил отдельные поручения в ГАИ и райотдел милиции по розыску мотоцикла «Восход» красного цвета без номеров. Наконец, докончив с бумагами, зашел в приемную.
— Людмила Васильевна, сколько в городе кладбищ?
— Было два до последнего времени. Но на старом долгое время захоронений не производили. Сейчас, я слышала, там отрыли котлован и бьют сваи. Кажется, под будущую школу.
— А новое?
— Туда ходит автобус, по четвертому маршруту. Алексей Иванович, вы завтракали сегодня?
— Как обычно, кофе с трюфелями.
— На обед у вас тоже — кофе с трюфелями?
— Вообще-то, я стараюсь меню разнообразить,— он улыбнулся и вышел из приемной.
...Новое городское кладбище имело вид неухоженный, с чахлыми, редкими березками и топольками, которые чуть возвышались над бесконечным лесом крестов и звездочек. Из-за отсутствия забора среди могил кое-где греблись куры и даже бродили козы, обгладывая кору на молодых деревцах, объедали поросшие майской зеленью, ископыченные холмики. Оградки вокруг некоторых могил были в основном сварные, из того же прокатного профиля, что заборы СПТУ и лечебного профилактория. Нередко догадливые родственники усопших оформляли дорогие сердцу могилы, выкладывая их по периметру стеклоблоками. В последнее время это, по-видимому, стало модой, и самая новая, «свежая» часть кладбища синела и блестела на солнце обильной стеклянной кладкой. Но попадались могилы, выложенные паркетной дощечкой, силикатным кирпичом, чугунными чушками и даже пластинами из нержавейки — кто как расстарается.
Кладбищенского смотрителя по фамилии Тутынин, инвалида войны без руки, Алексей отыскал в одном из примыкающих к кладбищу, деревянных, перекошенных домишек. Здесь он жил, здесь же и была городская похоронная контора.
Алексей представился, предъявил документ, который был тщательным образом изучен. И постановление.
— Эсхумация, стало быть? Опять? — пробормотал смотритель, возвращая бумаги.
— Почему опять?
Но смотритель, погрузившись в изучение книги регистрации умерших, вопроса не услышал. Толстым, корявым пальцем, предварительно послюнив его, он листал страницу за страницей, долго водил по графам.
— Как, говоришь, фамилие? Повтори?
— Калетина И... Гэ.
Инвалид воткнул палец.
— Нумер девяносто восемь. Ее нумер, гляди.
— Ее,— согласился Алексей.
— Сейчас узнаем, кто тут у нас занаряжен?
Инвалид порылся в столе и вытащил на свет «журнал выдачи нарядов». Минут через пять он нашел нужную строчку. Вслух по слогам прочитал:
— Ко-ма-ров!
— Это кто Комаров?
— Если не напился, то там... копать должон.
Алексей понял, что Комаров — это землекоп, который по выписанному наряду обслужил в прошлом году заказчика, то есть кого-то из родственников Калетиной. Вслед за смотрителем Тутыниным он отправился на кладбище. Ветер дул им в лицо и наносил ощутимо запах тления и нечистот. Тутынин, кажется, этого не замечал, но Алексей вскоре не выдержал.
— Вы покойников закапываете? Или так... присыпаете только?
— Это ты насчет запаху, что ли? Свалка у нас тут, по соседству. Рядом, считай, могилок пять вовсе засыпали паразиты. Только расчистим, через неделю, глянь — того больше.— Тутынин помолчал.— Я вот, погоди, узнаю, кто за умник свалку сюды распорядился устроить, завтра весь мусор с дрянью к нему на могилы велю перетащить, пусть придет помянуть родителей, недоносок.
Они пересекли новую часть кладбища, расцвеченную стеклоблоками, и остановились у крайних могил.
— Здесь она. Девяносто восемь.
Неприметный холмик земли, без памятника, с деревянной табличкой из крашенной фанеры, на которой написаны фамилия умершей с датами рождения и смерти, и регистрационный номер — девяносто восемь.
— Был у ней памятник,— словно извиняясь за могилу, пробормотал Тутынин.— Спалили кто-то. Родню проведали, видать, а когда напились, на костре спалили у ней памятник. За дрова.
— Николай Николаевич, вы, кажется, упомянули вначале о повторной эксгумации? Я что-то не понял вас?
Тутынин нахмурился.
— Это вроде как шутка у меня получилась. А тут реветь впору, в голос.
— Что так?
— А вот бабу помоложе схоронят когда, или девку какую, на другой день, считай, обязательно вытащат из могилы.
— Кто?
— А кто знает? Опаскудел народишко вконец. Эту вот... как ее? Девяносто восемь, Калетину... два раза вытаскивали. Прихожу как-то, могила разрыта. И гроб торчмя из ямы. А самой нет. Искали, искали... нашли. На пустыре вон, в кустах голая лежит. В другой раз на свалке, под бумагой отыскали. Уж на что девка безногая, а и той покою не дают, паразиты. Местные, должно, пошаливают, шпана. Ты вот чего, прокурор... побудь тут пока, а я за Комаровым сбегаю, чтоб начинал.
— Второй раз вы в одежде ее похоронили?
— Откуда у ней? Так... тряпицу набросили сверх. И в яму. Не до жиру было.
Тутынин ушел и в скором времени появился назад с Комаровым, высоким, костлявым мужчиной в спецовке, который сразу взялся за дело. Копать, впрочем, долго не пришлось. Гроб в полузасыпанной могиле оказался на глубине не более полуметра.
— Наверх подавать? Или как?
Солнце падало отвесно в могилу, и гроб был весь на виду, как на ладони. Алексей опустился на корточки на край. Пробормотал:
— Оставь.
— Крышку... крышку сымай,— засуетился Тутынин.
Землекоп рукавицей смахнул остатки земли и подкрючил крышку какой-то плоской железякой, похожей на отмычку. Крышка легко подалась, даже как бы подпрыгнула и съехала набок. Алексей почувствовал, что все внутри него напряглось в ожидании.
— Дерюжку убери, что ли? Не стой пеньком-то.
Комаров медленно потянул с покойной дерюгу, подобранную, должно быть, попутно на свалке, и разом всю сдернул. Алексей невольно качнулся назад. Лицо покойной было обезображено тлением, и он, пожалуй, не узнал бы ее. Но на юбке светло-кремового цвета темнело пятно. Он сразу вспомнил, что во время истерики в ресторане она вскочила и опрокинула чашку с остатками кофе на себя.
Ему казалось, будто он сходит с ума. Одна нелепица громоздилась на другую с такой железной последовательностью и очевидностью, что волосы на голове подымались дыбом. Тутынин с Комаровым тоже выглядели обескураженными.
— Гляди ты, приоделась когда-то,— пробормотал инвалид.
— Приодели,— угрюмо поправил землекоп.
Наступила гнетущая пауза. Алексей с трудом разжал зубы:
— Закрывай,— и отошел в сторону.
«Вы не можете быть для меня старше»,— вспомнил он тихий, равнодушный голос. Тогда, под фонарем, эти слова прозвучали странно. Алексей зябко передернул плечами.
Оставшуюся часть дня он пребывал в трансе, плохо представляя свои дальнейшие действия в подобных обстоятельствах. Это раздражало, но поделать с собой он ничего не мог.
Воротясь с кладбища, он переговорил с судмедэкспертом Голдобиной. Местные следственные работники между собой называли ее Дина Потрошительница. У этой средних лет женщины были зеленоватые, светлые глаза и большие красные руки. Говорила она хриплым голосом, отрывисто и много курила. Несколько раздражительным тонам Голдобина сообщила, что труп Суходеева обследован, произведено вскрытие, но подробное письменное заключение с обоснованием будет готово позже. По существу поставленных вопросов вкратце она может сказать следующее: предположительно, смерть наступила около двух недель назад, одиннадцатого-двенадцатого мая из-за значительной потери крови и, как следствие, общего переохлаждения организма. Причина — открытый перелом голени, вероятно, в результате сильного удара или ущемления с последующей ампутацией. Для ампутации было использовано острое орудие с короткой, режущей кромкой. На отдельных частях мышечной ткани имеются следы зубцов правильной треугольной формы. В воду труп потерпевшего попал значительно позднее и пробыл там не более двух дней.
Алексей не перебивал, хотя все сказанное в общих чертах он себе представлял. Слушая вполуха хриплый раздраженный голос, он вспомнил чью-то реплику, брошенную мимоходом: «Медэксперт Голдобина полноценно ощущает жизнь только в морге, когда вспарывает трупам полости. В другом качестве люди ее не интересуют.» Пожалуй, в этой шутке что-то есть.
— Дина Александровна, вам не приходилось сталкиваться затем с вашими покойниками, как если бы они были... Ну, скажем, живыми людьми?
— Сколько угодно! — она не то хрипло рассмеялась, не то каркнула вороной.— Мужчины мрут, как мухи. Сейчас вы судите передо мной, задаете вопросы, но я не дам гарантии, что через день-два вы не окажетесь у меня на столе в прозекторской, и я не буду делать вам трепанацию черепной коробки.
Алексей внимательно посмотрел ей в глаза. Кажется, для нее он и в самом деле представлял собой потенциальный труп.
— Вы не вполне меня поняли.
— У вас есть еще вопросы? По существу, разумеется? — Эксперт встала из-за стола, давая понять, что разговор закончен.
— Если мой вопрос представляется вам не по существу, в таком случае прошу извинить.
— До свидания.
Алексей вышел. Разговор был закончен слишком круто. Похоже, он застал Голдобину врасплох. Может быть, она не восприняла вопрос всерьез? Посчитала за неудачную шутку? Но нет, реакция была почти болезненной. По какой-то причине Голдобина не захотела на эту тему распространяться.
Алексей еще более утвердился в мысли, что вопрос необходимо с кем-то срочно обговорить. Чтобы не свихнуться окончательно. Пожалуй, лучше всего подошел бы Хлыбов. В общении с ним он почти физически ощущал удельный вес каждой его фразы, способность к независимым и конструктивным выводам.
Алексей набрал домашний телефон Хлыбова, но трубку никто не взял. Заявиться просто так, без предварительной договоренности, не решился. Он вдруг почувствовал, что кроме Хлыбова в этом чужом городе у него ни одной родственной души. Уж не из-за Анны ли, если быть честными, ему стало чудиться, что он нашел в Хлыбове родственную душу? Пожалуй, это довольно опасное родство... Любопытно, откуда в ней эта непонятная, шаловливая доступность? Тут определенно кроется какая-то тайна.
Проблема с нужным собеседником решилась сама собой. В девятом часу вечера ему позвонил Игорь Бортников, направленный сюда из облпрокуратуры в составе следственной группы. Алексей в душе ругнул себя, что не догадался позвонить приятелю раньше, потому что сегодня в ночь Бортников уезжал из города. Заканчивалась его командировка.
Слушая резкий, возбужденный голос приятеля, Алексей заподозрил неладное.
— Ты один?
— Да. Приходи. Правда, я жду еще гостя, но... не уверен.
— Кто такой?
— Покойник, по сути,— в трубке раздался короткий смех. Затем последовали короткие гудки.
Глава 15
Спустя полчаса Алексей постучал в дверь гостиничного номера.
— Открыто, входи,— услышал он за спиной голос Игоря Бортникова. Приятель поднимался следом по скрипучей, деревянной лестнице.— Рассчитался за постой,— пояснил он. — Знаешь, сколько я здесь торчу, в этом гадюшнике? С небольшими перерывами уже два месяца. Приехал в марте еще по снегу. Можно сказать, по сугробам. Потом запахло весной, солнышко стало припекать, птички чирикают...
— Если чирикают, это воробьи.
— А что воробей — не птичка?
— Я просто уточнил.
— Так вот... из-под снега по всему городу, в окрестностях начали вытаивать трупы. Утопленники и удавленники. С колотыми, резаными ранами, изнасилованные. Просто замерзшие по пьянке. Застреленные. Расчлененные. Мужчины и женщины, дети, старики. Милиция работала, как похоронная команда во время чумы, день и ночь. И тогда, Леша, я понял: здесь идет необъявленная война всех против всех. Правда, неизвестно во имя чего.
— Наверное, как всегда во имя чего-то благородного.
Бортников коротко хохотнул.
— Ты унылый ортодокс, Леша. Настоящая жизнь поэтому проходит мимо тебя.
— Очень унылый?
— Однова живем! Ты оглянись вокруг со вниманием — народ развлекается. До упора. Ты пробовал когда-нибудь у себя на кухне или в ванной ночью расчленить труп любимой женщины? Обливаясь при этом горькими слезами? Это тебе, брат, не партия в шахматы. Это потрясает! Ты остро переживаешь могучий всплеск разнообразнейших ощущений — ужас, запах крови, животную радость палача, сладострастие, боль по поводу тяжелой утраты, чувство опасности, сознание собственной исключительности и вседозволенности,— все вместе, все разом! Короче, это и есть жизнь. Все остальное лишь слабая ее тень.
Алексей усмехнулся.
— Ну и, сколько любимых женщин ты расчленил за эти два месяца?
— Увы! Я только завидую, глядя со стороны.
Бортников прошел к столу, на котором возвышалась гора свертков и начатая бутылка армянского коньяку. Налил в стаканы.
— Леша, давай выпьем с тобой. Знаешь, за что?..
— За самоуничтожение,—подсказал Алексей.
— Вот! Ты отлично меня понял.
Он ударил стаканам о стакан и залпом опрокинул коньяк в рот. Потом подвинул всю гору свертков на столе гостю.
— Не обращай внимания, ешь. Это все местные мерзавцы натащили в номер, пока меня не было. Подорожники. Ты даже названий таких не знаешь. Взятка, разумеется. Оставлю тете Маше, здешней горничной. Такая чудесная тетечка! Зато сын у тетечки дважды убийца, даже оторопь берет. Теперь яблочко от яблони далеко катится.
Он снова налил в стаканы.
— Когда я приехал сюда впервые и осмотрелся, мне показалось, что единственный выход из ситуации — оцепить этот гадюшник по периметру колючей проволокой, поставить на вышках пулеметы и... та-та-та-та! На поражение. Праведника в этом городе нет ни одного, патронов поэтому не жалеть...
Он замолчал и вдруг с усмешкой воззрился на гостя.
— А ты оказался пророком, Леша.
— В чем?
— Относительно меня. Помнишь каламбур? «Быть Бортникову за бортом.»
— Мой, ты уверен?
Бортников не ответил. Они были одногодки. Но когда после армии Алексей стал студентом юрфака, Бортников учился на третьем курсе и слыл в университете звездой первой величины. Всегда элегантный, даже несколько англизированный, с превосходной памятью, Бортников уже тогда прилично владел тремя языками. Одновременно учился в финансово-экономическом и год спустя получил второй диплом о высшем образовании. Лекции он всегда записывал с помощью стенографии. Превосходно боксировал, был исключительно точен, исполнителен и в то же время обладал мертвой организаторской хваткой. Он выстроил себя сам и как специалист суперкласса был безупречен. Но не безупречна и во многом порочна оказалась система правоохранения, в которой ему предстояло работать. Она вся, словно метастазами, была повязана родственными связями и пронизана коррупцией, лжива, необязательна и унизительно зависела от реальной власти. Ошибка Игоря Бортникова состояла в том, что до сих пор он не принял правил, по которым система функционировала. И, кажется, не собирался их принимать.
После университета прошло семь лет. Алексей отметил, что Бортников сделался несколько раздражителен, болтлив, но прежний европейский лоск сохранил вполне. Даже сейчас во время дружеского застолья в обшарпанном номере захолустной гостиницы он сидел в элегантном галстуке, лишь слегка ослабив узел, безукоризненно причесанный, и благоухал приличным одеколоном.
На столе напротив Алексея стоял еще стакан, чистый. И третий стул, явно не из комплекта, положенного в одноместном номере.
— Для покойника?
Вместо ответа Бортников молча опрокинул коньяк в рот. Потом выкатил из объемистого пакета на стол с десяток золотисто-ярких, промаркированных апельсинов. На одном ловко срезал верхушку и круговым движением снял всю кожуру разом.
— Со мной был случай два года назад, третьего августа. Договорились с хорошим знакомым, он работал в НИИлеспроме, выбраться в выходной за грибами. До этого мы не виделись около месяца, а тут смотрю — что-то в нем переменилось. То ли налет на лице... какое-то стало чужое? То ли запах — как в заброшенном доме? Или отстраненность? Не могу взять в толк, да и не пытался, если быть точным. Вернее, не продал значения. Мало ли какое лицо бывает у человека с похмелья. Не говоря уже о запахе или о поведении. Но внимание обратил. И наутро, когда он подкатил к подъезду на мотоцикле, я заметил это еще раз.
Выехали мы с ним за город, он за рулем, я сел сзади — все благополучно. Но скорость такая, что в ушах стоит рев. Я прошу придержать — он не слышит. Хлопаю по плечу раз, другой, бесполезно. Только головой покачал. И вылетаем мы с ним на этой скорости к Вишере, к мосту. Вижу, перед въездом полосатый шлагбаум, и мужичонка при нем. Поднять — опустить. Думаю, ну сейчас обязательно притормозит. Но нет, летим... «Стой!» — ору в ухо, и в сторону. Пригнулся... Потом глухой удар, и меня выбросило с сиденья, будто вырвало. Очнулся я, Леша, в воде. Не то, чтобы очнулся, а просто начал соображать. Вижу — плыву к берегу. Вышел. Поднялся на мост. Мотоцикл проломил ограждение, но завис на самом краю и даже не заглох. Заднее колесо крутится. А хозяин под шлагбаумам, посреди дороги лежит, без головы. Голова в синем шлеме скатилась за обочину. Я ее по следу нашел. Разумеется, лица не было, не осталось. В тот момент я сразу все вспомнил: странный налет на его лице, запах заброшенного дома... затхлость, чужесть в чертах, в выражении. Ощущение отсутствия у присутствующего рядом с тобой человека. И я понял тогда — это была печать смерти. Запах заброшенного дома был запахом смерти. Она проявилась также в цвете лица, проступила в чертах. По сути, я ехал на мотоцикле с мертвецом. Где-то там, на небесах, он был уже приговорен к смерти. Не знаю, за какую провинность, но смертный приговор был ужасен, а казнь — я видел собственными глазами.
Бортников плеснул в оба стакана.
— Давай помянем, что ли?
Они молча выпили.
— После этого случая со мной что-то произошло: на улице, в толпе я стал различать этих... приговоренных. Даже со спины. Даже не глядя на них, по одному запаху. Кажется, пока не ошибался.
Алексей взглянул на третий, чистый стакан, перевернул его и поставил вверх дном.
— Хочешь предупредить?
— Попробую. Если придет.
— Я знаком с ним?
Бортников внимательно посмотрел на гостя и вдруг захохотал. Потом также резко оборвал смех.
— По-моему, еще нет.
Алексею почудилась в ответе некоторая двусмысленность, но настаивать не захотел.
— Что там у вас по Шуляку? Результат есть?
— Шуляка, кстати, я тоже предупреждал.
— Да! А он?
— А он, земля ему пухом, долго и весело смеялся. Потом мы с ним выпили. Я по нем плачу, а он, покойник уже, надо мной, над живым, смеется. Так и расстались. До сих пор в ушах его смех стоит.
— Люди охотнее верят в ложь, чем в правду. Потому что правдоподобнее.
— Ну, да. Эффект Кассандры. Давай помянем Витю?
— Давай.
Они разлили остатки коньяку по стаканам, но Бортников, повозив лентяйкой под кроватью, выкатил еще бутылку.
— Слушай? Ведь нахрюкаемся, а?
— Однова живем, Леша! Кстати, насчет результата ты спрашивал. Так вот, никакого результата нет... Ф-фу! Все наше расследование -- это один большой мыльный пузырь. Помпа. Куча широковещательных заявлений, разносов, совещаний. Куча народу, мероприятий, инфарктов, а результата, увы... нет. Два месяца ржавое колесо со скрипам и лязгом впустую мололо воздух. И знаешь почему?
— Почему?
— Потому что старые жернова давно стерлись. А на новые срочно нужна валюта, которой у нас, как известно, нет.
— А если всерьез?
Бортников на некоторое время задумался, с явной неохотой восстанавливая картину. Потом заговорил, все более и более оживляясь.
— К приезду следственной группы в квартиру Шуляка набилось человек двадцать начальства. Никогда не подозревал, что в милиции в районе столько полковников. После нас прибыл даже генерал неизвестно откуда, орал на всех и вся. Кого-то, говорят, здорово приложил по мордам. Дом весь оцепили, врубили переносные прожекторы, устроили в квартирах, по подъездам, на чердаках повальные обыски. Двери настежь, жильцов выбросили на площадку, всюду милиция, детский плач, визг, лай... розыскные собаки. Короче, все следы, даже если какие были, оказались затоптаны и захватаны. Тело до приезда группы несколько раз перемещали. Свидетели может быть и нашлись бы, но после такого шмона с мордобоем и руганью люди были перепуганы. До сих пор либо молчат, либо поддакивают. К тому же, осмотром занялись сразу три следователя, самостоятельно. То есть, полный академический набор того, как нельзя производить осмотр места происшествия. Начальство, все изгадив, с присущей ему дальновидностью с ходу уцепилось за единственный оставшийся след.
— Заточка?
— ...Выдернули из Вити заточку и начали совать ее в нос всем подряд. Чья? Твоя?.. Нет? У кого видел? Опознать можешь, сволочь?.. Теперь эту злополучную заточку знает полгорода, и каждый третий припоминает, у кого видел. Потом начались проверки всех освободившихся из мест заключения за последние полгода. Начальство рвет и мечет, каждый день требует отчета, давит, телефон трезвонит даже ночью. Короче, бурная имитация успешной работы, и никакой валютой, Леша, это дерьмо никогда не смоешь. Только развоняется.
— Это все? — Алексей усмехнулся.
— А что ты хочешь? Дело поставили на особый контроль. Ни одного шага без согласования с начальствам, ни-ни! Вот это меня особенно насторожило. Но! Во-первых, заточка. Ее оставили в теле демонстративно, желая навести на след. Иначе какая необходимость? И дальновидное начальство эту нехитрую наживку немедленно заглотило. Полтора месяца шерстило свои картотеки и гоняло людей по колониям в поисках уголовника-мокрушника. Во-вторых, великолепная, с полным академическим наборам глупостей организация осмотра места происшествия. В-третьих, жестко организованный контроль за следствием. Даже не столько контроль, сколько руководство следствием в заданном направлении. В-четвертых, три дня спустя на улице был обнаружен труп раздавленного под колесами мужчины, которого опознать не смогли, никаких документов, бумаг при нем не оказалось. Но экспертиза установила, что ко времени наезда он был мертв уже два дня. То есть смерть наступила на следующие сутки после убийства Шуляка. Под колеса этого человека попросту подложили, мертвым. Мне показалось, что для простого совпадения тут много подозрительных деталей.
— И ты сразу решил, что этот человек убийца?
— Исходя из вышесказанного... исполнитель заказного убийства. Будем говорить так. И очень опасный свидетель, которого позаботились немедленно убрать. Даже рискуя навлечь подозрения. Дальше возникает естественный вопрос: кому до такой степени мог насолить Виталий Шуляк... следователь Шуляк, что его решили замочить с помощью наемного убийцы? Спустя полтора месяца, когда начальственный пыл иссяк, я затребовал из архива все дела, которые Шуляк в последнее время вел. Вкратце одно дело я тебе сейчас доложу, оно вполне типичное, не хуже и не лучше других, но в ряду других дел наводит на весьма любопытные размышления.
В июле прошлого года работники ОБХСС обнаружили в магазине номер четырнадцать горпромторга сто штук неучтенного листового железа. Так появилось на свет уголовное дело. Расследование поручили Шуляку. На первоначальном допросе заведующая магазином показала, что железо привез на машине некий Козлов. Они договорились, что заведующая реализует железо через магазин, а затем вырученные деньги они разделят. Козлова оперативники установили. Им оказался шофер автобазы номер один, а до этого он работал шофером же в совхозе «Северный», откуда и было похищено листовое железо. Витя с ним хорошо поработал, и Козлов назвал ему своих сообщников: рабочего совхоза Вартаняна и шофера Бабкина. Оба в совершении кражи в конце концов признались. Казалось, на этом дело можно закрывать? Но Витя ставит на разрешение следующие вопросы. Первое. Откуда и каким образом железо похищено? Второе. В течение какого времени совершалось хищение? Третье. Кто еще, кроме установленных лиц, принимал участие в хищении?
Он установил, что заведующая магазинам работает в этой должности всего год, что при приеме материальных ценностей бывшая заведующая Балабанова передала ей восемьдесят килограммов неучтенного железа, столько-то гвоздей, пиломатериалов и шифера. Тоже для реализации через магазин. Через Балабанову всплыла еще одна фигура -- техник-строитель совхоза «Северный» Лузгин.
Первый допрос Лузгина ничего не дал. От участия в хищениях он наотрез отказался. На вопрос, откуда совхоз получает листовое железо, показал, что поставщик — местный электромеханический завод. Но по результатам проверки оказалось: получив на заводе пять тысяч килограммов листового железа, в совхозе Лузгин оприходовал всего четыреста шестьдесят килограммов. Остальные пошли налево. С учетом результатов проверки Витя допросил Лузгина еще и еще раз, и тот признал, что часть железа отвез в магазин номер четырнадцать, часть в магазин номер двадцать четыре, а остальное с помощью шоферов Козлова, Рабкина и рабочего Вартаняна распродал в северных районах области.
Казалось, на этом дело можно закрывать, но Витя отправился с проверкой по северным районам области, а в совхозе в это время приступила к работе ревизия. Во время поездки Витя выявил десятка два покупателей и установил, что коробейники из совхоза «Северный» гастролируют по северным районам области уже в течение пяти лет. Ведут бартерные сделки. Причем торгуют не только стройматериалами, но также пшеницей. Понятно, что к пшенице техник-строитель Лузгин отношения иметь не мог, и Витя снова навалился на коробейников. Из их показаний были выявлены новые участники хищений: заведующий зернотоком Аюпов, главный агроном Урванцев и директор совхоза Гирев.
Гирев и Урванцев категорически отрицали свою причастность к хищению пшеницы. Но заведующий зернотоком заявил, что неоднократно получал от Урванцева и Гирева устные распоряжения: отпуск пшеницы в документах не отражать, накладные уничтожить, а пшеницу списать на посев. Его показания подтверждались отсутствием в бухгалтерии документов об отпуске пшеницы. В конце концов, и Гирев, и Урванцев что называется под тяжестью улик тоже признались.
Итак, преступная группа, годами расхищавшая зерно и строительные материалы, была разоблачена. Но Витя по открывшимся обстоятельствам ставит перед собой новые вопросы. Каким образом совершались хищения строительных материалов? Как создавались резервы для хищения?
Работу ревизоров по проверке финансово-хозяйственной деятельности совхоза он направляет по трем параллельным версиям. Первая — хищения за счет неоприходования строительных материалов. Вторая — путем списания материалов на строительные объекты по завышенным нормам. Третья — за счет завышения в нарядах объемов работ. Не буду утомлять тебя подробностями, скажу сразу: из выводов ревизии и приобщенных документов все три версии блестяще подтвердились. Плюс приписки к нарядам, переплаты шабашникам, подставные и вымышленные лица в платежных ведомостях, работа на левых объектах, поборы, исправления в бухгалтерских документах и так далее, до бесконечности.
К уголовному делу Витя приобщил список обескровленных совхозных объектов. Так называемого долгостроя: гараж на тридцать семь машин, овчарня, столовая, склад запасных частей, детский сад, жилье. Рядом — список левых объектов, на которых работали шабашники, используя совхозные стройматериалы и технику.
— Очень любопытно! И кто же владельцы этих объектов?
— Да уж, любопытнее некуда. К сожалению, список левых объектов из дела был благоразумно изъят.
— Он, действительно, был?
-- Шуляк, сам понимаешь, работал не в одиночку. Существование списка мне подтвердили несколько человек. Категорически.
— Стало быть, список ты восстановил?
— Частично.
— Скажи,— Алексей потер лоб.— Шабашники, о которых ты то и дело упоминал, лица кавказской национальности?
— До одного. Бригадиром у них тот самый рабочий совхоза Вартанян. Якобы рабочий совхоза.
Алексей заметил, что Бортников смотрит на него с выжидательной усмешкой. Видимо, пытается подвести к какой-то мысли.
— Так вот, Леша, как я уже сказал, в ряду других дел это все наводит на весьма любопытные размышления. Что такое несколько листов неучтенного железа? Казалось бы, мелочь. Возьми за горло непосредственного исполнителя, состряпай на него дело и — точка. То же самое торговля списанным товаром с лотков. Нарушения в отпуске пива. Перерасход бензина в каком-нибудь гараже... Но Витя шаг за шагам по каждому факту разматывает клубок до упора. То есть, до самых первых лиц. Поэтому над Витиными делами до того, как я получил их на руки, кто-то хорошо посидел. Многих документов в папках недостает, особенно к концу. Много насовано бумажного хлама, дурацких справок, выписок, так что суть иной раз совершенно исчезает. Но при этом не настолько, чтобы при сопоставлении ничего нельзя было разобрать. Особенно когда знаешь, что искать. Так вот, если отдельные имена первых лиц фигурируют в делах два-три... от силы четыре раза, то одно имя сквозит по всем двадцати, которые он вел.
— Хлыбов?! — выдохнул Алексей.
Бортников при упоминании с досадой поморщился и разлил по стаканам коньяк.
— Но это бессмысленно.
— Лбом о шлагбаум всегда бессмысленно.
Алексей качнул головой.
— Я не о том.
— А, понял. Насчет расправы, не так ли?
— Нейтрализовать Шуляка можно было без мокрухи. Особенно Хлыбову.
— Можно,— охотно согласился Бортников.— Если бы в этом деле не была замешана Анна.
— Хлыбова... Анна?! Это каким образом?
Лицо у приятеля, по-видимому, имело забавный вид, потому что Бортников резко и коротко рассмеялся.
— Еще не знаешь, выходит?
— Наверно, нет. Не успел.
— Ну да, ну да...— Бортников рассеянно покивал.— Насколько я Витю знаю, для него это была не просто интрижка, и он пустился во все тяжкие — начал обкладывать Хлыбова, как медведя.
Алексей задумался. Отдельные эпизоды последних дней, словно при игре в кубики, складывались теперь перед его мысленным взором в целостную картину. Двухэтажный коттедж посреди соснового бора, на окраине — это, конечно, свадебный подарок дорогой Анне. Ради самого себя Хлыбов стараться бы не стал. Строили этот левый объект шабашники из бригады Вартаняна в прошлом году, используя совхозные стройматериалы и технику. Однажды после рабочего дня несколько членов бригады, «лица кавказской национальности», изнасиловали семидесятилетнюю бабку, которая собирала по кустам пустые бутылки. Вот почему уже на следующий день преступники были прокуратурой установлены. Коттедж к тому времени, наверняка, достроить не успели, поэтому Хлыбов так легко позволил бабке забрать заявление. Но не исключено, что он сам посоветовал своим незадачливым подрядчикам откупиться от потерпевшей деньгами.
Разумеется, Хлыбову известно, что бригада из года в год квартирует в общежитии училища номер тринадцать и платит за постой лично коменданту. Так что, письменное предписание по училищу, которое он составил, наверняка, отправится в корзину.
Наконец, сделалась яснее причина ночного визита к нему Анны. Если Бортников прав, то начавшийся запой у Хлыбова, и тот факт, что в день запоя он был совершенно «не-вы-но-сим», вещи вполне объяснимые. После возможной семейной разборки Анна почувствовала себя «ужасно тяжело» и не знала куда деваться. Она порядочно выпила, может быть, с Хлыбовым, но скорее напилась в одиночку, и тогда в подавленном состоянии, в душе не веря случившемуся, набрала знакомый номер. Она не хотела верить в случившееся и тогда, когда неожиданно услышала в трубке незнакомый мужской голос. Впрочем, голос в телефонной трубке, даже хорошо знакомый, не всегда узнаваем. И она страшно взволновалась. Ей хотелось верить, что все по-прежнему, и с ним ничего не случилось. Возможно, какие-то нотки в голосе даже показались ей знакомыми. Она набрала номер еще раз, второй звонок, но вновь ничего для себя не выяснила.
Дверь в квартиру, несомненно, была заперта. Но Анна открыла ее как обычно — своим ключом, который сдублировал для нее Шуляк.
Разумеется, к ее визиту Алексей не имел никакого отношения. Когда он неожиданно вошел в комнату и включил свет, она обернула к нему заплаканное лицо и уставилась недоумевающим, изумленным взглядом. Ему сделалось почти неловко, как будто это он пробрался ночью в чужую квартиру, а не наоборот. Не сразу, но Анна поняла свою оплошность и виновато опустила голову. Для нее это тоже была не просто интрижка. Только поцелуй, нетерпеливый, страстный, под влиянием минуты, предназначенный конечно же не ему, убедил ее окончательно, после этого она исчезла...
Бортников лениво крутил на столе апельсин, но оказалось, он тоже думал об Анне.
— За красивой женщиной, словно за редким драгоценным камнем, как правило, тянется кровавый след. В данном конкретном случае это так и есть.
— Кто-то еще?
— Первый муж Анны. Заправлял трестом. В свое время Хлыбов точно так же обложил его со всех сторон. Но это было страшнее, потому что Витя, не в обиду ему будь сказано, опрометчиво плевал вверх. Слушай, Леша, давай дернем с тобой за красивых женщин, а?
— Трупы которых мы будем потом расчленять ночью на кухне, обливаясь горькими слезами!
Бортников расхохотался.
— Не знаю, не знаю. В данном конкретном случае все обстоит как раз наоборот.
— Я слышал, первый муж Анны разбился на дороге.
— Хлыбов оставил ему два выхода, либо тюрьма, либо самоубийство. Ну и, хватит об этом!
— За красивых женщин!
Проглотив коньяк, Бортников отправился к зазвонившему телефону.
— Да?.. Да, я дома. То есть, тьфу! В гостинице. Что?.. Нет, через полчаса выхожу. Минут через двадцать, то есть. Надоело! Смотреть не могу на эти грязные стены с тараканами... А, ну... пожалуйста, в течение двадцати минут коньяк я могу пить даже с Хлыбовым. Жду, Вениамин... как тебя? Гаврилыч. Жду!
— Хлыбов?
Бортников зловеще усмехнулся и сел на свое место.
— Налей ему,— он перевернул чистый стакан и со стуком поставил на стол.— Едет третий покойник.
Глава 16
Хлыбов приехал через пять минут. Снаружи раздался истошный визг тормозов, как будто наехали на кошку. Затем грохнула внизу входная дверь, и на скрипучей лестнице послышались грузные шаги. Алексей с сомнением взглянул на Бортникова.
— О твоей версии еще кто-то знает?
— Никто, кроме Хлыбова, разумеется.
— Поэтому ты пригласил меня, не так ли?
— Нет, не поэтому. Он знает, что доказать я все равно ничего не смогу. Но стану ли я молчать, это вопрос? Он приехал поговорить по душам. Если не получится, попробует купить. Возможности у него есть. Если не получится, станет грозить. Возможности тоже есть.
Вошел Хлыбов, без стука. Он был пьян, это бросалось в глаза сразу. С его появлением в номере сделалось тесно и неспокойно. Он как бы выдавливал собой окружающих. С минуту Хлыбов качался в дверях, наконец ткнул пальцем в Бортникова.
— Мне надо с ним поговорить. С глазу на глаз.
Бортников отрицательно качнул головой.
— Валяев — мой друг и однокашник. От него секретов у меня нет.
— Это как прикажешь понимать? — мгновенно насторожился Хлыбов, переведя подозрительный взгляд с одного на другого.
— В самом прямом смысле.
— Рассказал, выходит?
— Повторяю еще раз, секретов от него у меня нет.
Алексей крякнул и с досадой провел рукой по лицу. В своей конфронтации с Хлыбовым приятель по сути сделал его заложником.
— Так...
Хлыбов тяжело, по-хозяйски прошел к столу. Сел, глядя перед собой неподвижным, остекленевшим взглядам. Потом молча набулькал стакан до половины. Выпил.
— Ладно. Собака лает, ветер носит.— Он поворотил голову и насмешливо, в упор уставился на Бортникова.— Что же ты, друг-однокашник, подложил другу такую свинью? Ему, между прочим, со мной работать.
— Ну-у. Хлыбов! Ты меня совсем за дурака держишь.
— Не понял?
— Я объясню. Только не вздумай понимать меня фигурально. Или как-нибудь эдак... в переносном смысле. Ты, Хлыбов — мертв.
— Обратно не понял?
— Уже мертв. У тебя времени — выкурить последнюю трубку и проститься с женой.
Хлыбов привстал, трезвея на глазах.
— Не дергайся! — рявкнул Бортников.— Здесь тебя никто пальцем не тронет, коньяк тоже не отравлен.
Он плеснул себе из бутылки и опрокинул в рот. Пробормотал:
— По себе судит, мерзавец.
В наступившей затем тишине оба гостя молча наблюдали, как Бортников надел пиджак, перекинул через плечо плащ и с чемоданом в руке двинулся к выходу. В дверях он остановился и с нехорошей улыбкой обернулся к Хлыбову.
— Каждому воздается по делам и по вере его. Прощай, Хлыбов. Ну а с тобой, Леша, мы еще свидимся, я думаю.
Он ушел. Проскрипели ступени, хлопнула входная дверь. Хлыбов вдруг захохотал и тоже поднялся.
«Кудри вьются, кудри вьются,
Кудри вьются у б....
Не бывает таких кудрей
У порядочных людей»,—
Неожиданно тонким частушечным голосом пропел он и, не глядя на Алексея, двинулся к выходу.
Алексей ушел последним. Только на улице, расслабившись, он почувствовал, как крепко они нагрузились. Хотя почему бы нет, тем более, что сегодня он был всего лишь зрителем, но никак не участником разыгравшегося финала спектакля.
Взглянул на часы — первый час ночи. На центральных улицах горели несколько уцелевших фонарей, остальная часть города лежала во мраке. Было безлюдно и тихо. Он дошел до сквера, пропахшего пылью, насквозь прогазованного, и опустился на скамью. Прикрыл глаза.
Вопреки пророчествам приятеля, Хлыбов впечатления покойника на него не произвел. Пока они там препирались, он пытался разглядеть на лице районного прокурора характерный налет, как он себе это представлял. Даже была попытка принюхаться, но ничего похожего за Хлыбовым не обнаружил. Время, впрочем, покажет.
Неподалеку от него разговаривали мужской и женский голоса. Почему-то по ночам, отметил он, среди здешних граждан принято изъясняться матом.
Алексей встал, чтобы идти дальше, но мимо торопливо простучала каблучками женская фигура, зябко кутаясь в шуршащий плащ. Он переждал, опасаясь напугать женщину неожиданным появлением, затем, не торопясь, двинулся в обратную сторону. И вдруг круто обернулся. Что-то в этой фигуре решительно настораживало. Он проследил, как женщина пересекла пятно света на выходе из скверика и исчезла в черноте. Издалека, чуть слышный, доносился перестук ее каблуков. Алексей остолбенел. Он готов был поклясться, но — тени у нее не было!
Через мгновение он бросился следом. Мимоходом, пересекая пятно света, обратил внимание на собственную тень. Она была жгуче-черной и длинной, не заметить такую от скамьи он не мог.
Алексей шел за женщиной в двух десятках шагов, ориентируясь в основном на стук. Но асфальт здесь лежал не везде, в любую минуту она могла свернуть в сторону, и тогда он ее неминуемо потерял бы. Алексей сократил расстояние, чтобы возможно было различать силуэт, на худой конец шорох шагов на мягкой почве. Они свернули куда-то раз, другой... Пролезли сквозь дыру в штакетнике, повернули еще раз в другую сторону, и он окончательно сбился со счета. Его подопечная ориентировалась впотьмах превосходно, и Алексей чувствовал, что общее направление они выдерживают, правда, не знал, какое именно.
Только сейчас, преследуя эту странную женщину, он вспомнил о цели, ради которой направлялся в гостиницу к Бортникову. Подобный провал в памяти, совершенно ему несвойственный, признаться, крепко озадачивал.
Они шли так около получаса. Один раз Алексей оступился и едва не упал, наделав при этом шума. Дважды под ногой что-то звонко хрустнуло, то ли стекло, то ли битая черепица, и наконец он перестал сторожиться вовсе, но женщина не побежала и не питалась спрятаться от преследования, она даже не повернула головы, когда, поспешив, он неожиданно для себя оказался совсем рядом, за ее спиной. И это тоже озадачивало.
Наконец вслед за женщиной Алексей продрался сквозь колючий кустарник и оказался перед стеной бревенчатого двухэтажного здания, которое что-то смутно ему напоминало. Стена была задней, с ветхим, перекосившимся пристроем в виде тамбура, заросшего бурьяном и крапивой, заваленного деревянным хламом. Алексей однако успел заметить, что его подопечная серой мышью просунулась именно в этот тамбур и там исчезла. Балансируя на битом кирпиче, бревнах, он пробрался ко входу, низко вросшему в землю, пригнулся и по гнилым ступеням спустился в нечто, похожее на подвал. Рука, поднятая на головой, уперлась в потолок. Он поводил руками по сторонам и наткнулся на холодную кирпичную кладку. Затем осторожно двинулся вперед.
Слабая полоска света впереди подсказала, что он идет правильно. Он вновь нащупал ногой ступени, теперь их было намного больше. Поднялся по ним и, нашарив дверь, шагнул в освещенный, низкий коридор.
В нос ударили специфические больничные запахи с примесью чего-то сладковато-приторного. Он огляделся, и опять у него появилось смутное ощущение, что здесь он уже был. Алексей двинулся по коридору направо, наугад, повернул и уперся прямо в дверь, обитую светлым металлом, с блеклой табличкой —
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
И сразу все вспомнил. Это было здание судмедэкспертизы. Оно же морг. Именно сюда сегодня утрам он доставил на опознание Суходеева-старшего. Отыскивая нужную дверь, он остановился и вдруг услышал через оставленную в притворе щель дружные приступы смеха, заразительного, жизнерадостного настолько, что усомнился, туда ли в действительности он попал. Но нет, все было правильно. Смеялись в этой юдоли скорби и печали работники медперсонала.
Когда Алексей вошел, его присутствия никто не заметил. В помещении стояло около десятка оцинкованных столов, на которых лежали обнаженные женские и мужские трупы. Некоторые из них были вскрыты, один -- женский, со скрещенными на груди руками -- был выкачен на столе к самой двери, видимо, готовый к выдаче родственникам, но тоже нагой. Из-за малости помещения трупы лежали также по углам и вдоль стен, штабелями, ожидая своей очереди.
Причиной веселья оказались два трупа, судя по всему, они были наспех уложены и скатились со штабеля на пол. Женский труп лежал на спине с раздвинутыми ногами и запрокинутой головой. Мужской, с обильной татуировкой по всему телу, оказался на нем сверху в весьма характерной позе, оба с привязанными на ногах опознавательными бирками. У мужского трупа к тому же был проломлен череп, и половина головы по этому поводу была обрита.
Среди шести человек медперсонала Голдобина выглядела старше других. Остальным на вид не было и тридцати. Двое мужчин, две женщины и одна почти девчонка. Она сидела за пишущей машинкой, лихо удерживая в ярко-красных, напомаженных губах тлеющую сигарету, и выколачивала под диктовку очередное заключение.
Татуированного покойника, состязаясь в остроумии, попеременно называли то «шустриком», то «бонвиванам», а женщину притворно осуждали за то, что дала себя «уговорить». Жизнь кипела посреди смерти взрывами хохота и профессионального молодого цинизма.
...Алексей толкнул обитую дверь, и она легко без скрипа подалась. Внутри было темно, как в могиле, и запах тлена оказался столь силен, что невольно заставил содрогнуться. В другое время Алексей, наверняка, отказался бы от этой затеи, но выпитый коньяк придавал отваги, и он с некоторой даже лихостью шагнул внутрь. Нашарил кнопку выключателя. Затем беглым взглядом окинул помещение и прошел налево в предбанник, где вновь прибывших подвергали первоначальной обработке. С утра здесь ничего как будто не изменилось. Только убрали свалившихся со штабеля друг на друга мертвецов. Оцинкованные столы тоже все были заняты — и в предбаннике, и здесь. И никого больше. Ни одной живой души.
Возвращаясь, он увидел в проходе под ногами скомканный, темный плащ. Поддел носком башмака и услышал знакомый шорох. Несомненно, именно этот плащ был на женщине, которую он разыскивает.
На цинковом столе слева лежал пожилой мужчина с неправильно сросшейся после перелома берцовой костью и длинным, рваным шрамом на боку. Глаза его были полуприкрыты, и на оскаленных, желтых зубах застыло выражение хитроватой полуулыбки.
Алексей оставил мужчину и обернулся к другому столу справа, на котором лежала женщина лет тридцати. Медики потрудились над ней основательно. Грудная клетка и живот были вспороты от гортани и до лобка. Ребра обнажены от мышечной ткани, распилены и торчали вверх, словно шпангоуты на разбитом шлюпе. Одна грудь покоилась на месте, а вторая с потемнелым соском мешком свисала со стола на снятой с ребер коже и — покачивалась над белой, эмалированной лоханью с внутренностями.
Качание, впрочем, продолжалось недолго. Алексей стоял перед истерзанным телом, как пень, мучительно соображая, насколько он все-таки пьян, и не есть ли происходящее с ним сейчас всего лишь дурной сон?
Сквозь гулкие удары сердца он услышал донесшийся из коридора стук каблуков. Метнулся к двери и тотчас отпрянул назад. Укрытия здесь не было решительно никакого. На цыпочках он проскользнул между столами в предбанник и, поколебавшись, лег на пол рядом с бородатым покойникам, которого не успели даже раздеть. Отсюда ему хорошо была видна входная дверь.
Стук каблуков уверенно приближался, и в мертвецкую, слегка замешкавшись в дверях, вошла судмедэксперт Голдобина. На ней был белый халат, шапочка, и одной рукой она прижимала к себе красную картонную папку.
Похоже, Голдобина дежурила где-то поблизости и, увидев свет в окнах, пришла проверить. Лежа на полу рядом с бородатым тухляком, Алексей прислушивался к ее шагам, пытаясь по стуку определить характер выполняемых действии. Через какой-то промежуток времени, показавшийся ему томительно длинным, шаги направились в предбанник. Он тотчас вытянулся на полу и осклабил зубы в полуулыбке-полугримасе, подсмотренной у большинства здешних покойников. Полуприкрыл глаза.
Голдобина неплохо знала свое хозяйство, и появление нового трупа тотчас было ею отмечено. На некоторое время, походя, взгляд судмедэксперта задержался на нем, потом вернулся еще раз уже более внимательный. Наконец она подошла и, кажется, узнав, склонилась над ним. Сквозь опущенные ресницы Алексей увидел приблизившееся к нему лицо с холодними, немигающими глазами и — замер, стараясь не сморгнуть, не дернуться от напряжения.
Голдобина, заложив руки в карманы халата, удалилась и вскоре из соседнего помещения послышался треск печатаюцей машинки. Только тогда Алексей позволит себе расслабиться и пошевелил носками, сгоняя в икрах «трупное» окоченение. Он надеялся, что Голдобина выключит свет и уберется, но прошло не менее получаса, а машинка все трещала, не переставая, и он вознамерился как-нибудь незаметно за спиной выбраться в коридор, но в этот момент услышал шаги, направляющиеся в предбанник. Пришлось снова изображать труп.
Голдобина остановилась перед ним и опустила ему на грудь несколько листов машинописи, схваченные канцелярской скрепкой.
— Ваше заключение по Суходееву. Надеюсь, вы за этим сюда пришли?
— Не надейтесь,— грубо отозвался он. И сел.
— В таком случае, я жду объяснений.
— Вначале я выслушаю ваши, любезная Дина Александровна. У меня вопрос, на который в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом вы обязаны отвечать следователю. Желательно без хамства.
Она посмотрела на него с изумлением и вдруг захохотала гулко, по-мужски, с явной издевкой. Он хладнокровно переждал смех.
— Ну-с... прохихикались?
— Я слушаю, наконец!
— Так-то лучше. Вопрос тот же самый. Не замечали ли вы, что некоторые из ваших... клиентов, будем говорить так, имеют обыкновение разгуливать по вечерам и в ночное время по городу?
Голдобина некоторое время молчала, глядя на него с холодным любопытством.
— Вы, молодой человек, пьяны, давайте так договоримся: вы вначале проспитесь, и если завтра на трезвую голову у вас возникнет желание задать этот дурацкий вопрос еще раз, я готова с вами разговаривать. В присутствии свидетелей.
Алексей знал двусмысленность и ущербность своей позиции, ее полную бездоказательность. Но нежелание Голдобиной хотя бы вникнуть в ситуацию выглядела, на его взгляд, подозрительно.
— Я здесь всего три дня. Но мне показалось, что город кишит безвинно убиенными. Каждого преступника персонально опекает его собственная жертва. Ходит по пятам.
Он приблизился к ней вплотную, глаза в глаза.
— У вас, лично, в этом плане все в порядке? — и вдруг увидел мгновенно расширившиеся зрачки.
— Вон! — взвизгнула судмедэксперт Голдобина и, бросившись к двери, пинком распахнула ее настежь.
— Хорошо. Завтра я повторю вопрос. Уже при свидетелях, любезная Дина Александровна.
Дверь за ним с лязгом захлопнулась, и, когда Алексей уходил, ему почудилось, что за спиной он слышит рыдания.
На следующий день, к вечеру, город всколыхнула очередная новость. Ударом ножа в спину убит районный прокурор Хлыбов Вениамин Гаврилович. В рапорте на имя областного прокурора сообщалось, что труп потерпевшего обнаружили на веранде собственного дома в кресле, навалившимся грудью на стол. Судя по количеству посуды и расстановке мебели, с ним находился некто неизвестный, которого следствие определяет как предполагаемого убийцу. Анна Хлыбова (по счастливому для нее стечению обстоятельств) дома не ночевала. По причине ссоры с мужем две ночи подряд она провела у подруги. Способ совершения преступления, как и в случае с Шуляком, однозначно свидетельствует — убийство было совершено одним и тем же лицом. В первом случае в теле жертвы была оставлена заточка, во вторам — выкидной нож импортного производства. Нож опознан женой потерпевшего и следователем прокуратуры Валяевым в качестве вешдока, проходящего по другому делу. Ничего из ценных вещей и денег преступник в доме не тронул. Это дает повод считать главной причиной убийства мотив мести по отношению к работникам прокуратуры. Дело поставлено на особый контроль. Ведется следствие.
Примерно неделю спустя, посреди всеобщей неразберихи и запарки, следователя прокуратуры Валяева пригласили для разговора в городскую мэрию, так называла теперь горисполком местная номенклатура в связи с новыми веяниями. Внутри самого здания демократический дух проявлялся в отсутствии былого официоза и особенно в одежде. На служащих из числа женщин и девушек были открытые, яркие платья, сверхкороткие юбки, бросающийся в глаза макияж. Мужчины даже в возрасте, таких, впрочем, здесь было явное меньшинство, предпочитали цветные сорочки, пестрые свитера, кожанки, а на щеках отращивали баки. Очень часто звучал смех, радостный, в полный голос, говорили тоже громко, не стесняясь иной раз употреблять демократические выражения.
В приемной, едва посетитель назвал себя, какой-то юноша, отрекомендовавшийся помощником мэра, предложил пройти в кабинет.
— Вас ждут,— по-дружески улыбнулся он.
Алексей вошел. В глубине просторного кабинета, в конце длинного стола сидели двое, словно в воде отражаясь на его полированной поверхности. При появлении следователя оба с вежливым достоинством поднялись со своих мест, и хозяин кабинета, улыбаясь, двинулся навстречу. Это был молодой еще человек, явно склонный к полноте, поэтому поверх цветной, яркой сорочки без рукавов он носил подтяжки. Круглое, добродушное лицо мэра украшали небольшие, аккуратные баки, тронутые преждевременной сединой, они придавали его внешности легкий латиноамериканский колорит.
— Давайте, Алексей Иванович, станем знакомиться, что ли? Это Шкурихин Леонид Матвеевич, первый секретарь райкома партии. Вот, поджидаючи вас, сидим обсуждаем вопросы приватизации. Где как, не знаю, а у нас с нашим райкомом партии полное взаимопонимание.
Он рассмеялся своим словам радостно, в полный голос, и Алексей со Шкурихиным, переглянувшись, тоже улыбнулись, «консенсус достигнут»,— отметил про себя Алексей.
После прощупывающего обмена любезностями, расспросов об устройстве, о семейном положении, о видах на будущее, которые в конце концов начали Алексея раздражать, мэр посерьезнел и перевел разговор на создавшуюся в районе и в городе криминогенную обстановку. Говорил он легко, свободно, иногда с пространными отступлениями, не теряя при этом основной темы разговора, его сути. Часто обращался за подтверждением или наоборот за опровержением к Шкурихину и, наконец, завершил общую картину преступности упоминанием о последних трагических событиях — злодейских убийствах работников прокуратуры.
— Алексей Иванович, мы тут посоветовались с Леонидом Матвеевичем, с другими нашими товарищами, проконсультировались в областных инстанциях, навели о вас кое-какие справки и в результате пришли к единодушному мнению, что нам в настоящее время некого, кроме вас, рекомендовать на должность прокурора района. Минуточку... не перебивайте и не спешите отказываться. Хлыбов Вениамин Гаврилович, мы сейчас не будем говорить о нем плохо, в этой должности несколько, ну, что ли... пересидел. Это не только мое мнение, Леонид Матвеевич подтвердит, поскольку сам неоднократно указывал ему на недоработки по тем или иным вопросам.
Мэр в общих чертах, но очень дельно, по существу проанализировал деятельность Хлыбова, напомнил его упущения, например, отсутствие профилактической работы и, наконец, замолчал, глядя на кандидата с дружелюбной и вместе с тем выжидающей улыбкой.
Велеречивость мэра утомила Алексея,— к концу встречи у него невыносимо разболелась голова, поэтому он ограничился краткой репликой.
— Я благодарен за доверие, но мне необходимо подумать над предложением.
— Безусловно. И для вас лично, и для района это весьма и весьма ответственный шаг, так что...— и мэр снова ударился в пространные рассуждения, а когда закончил, задавать вопросы Алексей уже не рискнул, чтобы не спровоцировать очередную тираду, хотя вопросов возникло предостаточно. С тем и вышел, обещав за ночь все хорошо обдумать и дать ответ завтра в это же время.
Предложение, признаться, его ошеломило. Человек совершенно новый в городе, он никого по сути здесь не знал и считал, что его тоже никто толком не знает, по крайней мере из числа тех, от кого зависит принятие решений. В своей следственной практике он ничем особенным выделиться не успел. К тому же, находится в разводе... Правда, не алиментщик, поскольку детей от брака не имеет, но, ей богу, этого для назначения на должность районного прокурора маловато.
Промаявшись в догадках до конца рабочего дня, он наконец решил, что предложение ему было сделано по законам смутного времени, поэтому нет смысла искать логику там, где ее быть не должно. Но день оказался щедр на сюрпризы. Когда он собрался уходить, в дверях его остановил телефонный звонок.
— Да?
— Вечер добрый. Мне нужен Валяев Алексей Иванович.
— Здравствуйте. Я Валяев, слушаю вас?
— Вы меня узнаете?.. Тэн, Светлана Васильевна. Алле? Алле?.. Вы слышите?
— Да,— не сразу собрался он.— Извините, со мной случился небольшой обморок.
Она рассмеялась с явным облегчением и не без лукавства спросила.
— Мой звонок, должно быть, очень вас расстроил?
— Напротив, я рад. Но позвольте напомнить, Светлана Васильевна. Ваш звонок в соответствии с нашими договоренностями автоматически подтверждает, что мое предложение вы приняли.
Трубка молчала.
— Алле? Алле?! Вы слышите?..
— Да,— услышал он наконец тихий, смущенный голос.
— Да, согласны? Или да, слушаете?
— Согласна,— едва слышно прозвучало в ответ.— Извините, Алексей Иванович, со мной тоже случился небольшой обморок. Но сейчас мне, кажется, лучше.
Оба расхохотались, и вдруг Алексей услышал вопрос, который его решительно озадачил.
— Алексей Иванович, вы были сегодня в исполкоме?
— Да. А в чем дело?
— Вы согласились на их предложение?
— Пока нет. Но вы-то откуда?!
— Простите, вы не рассердитесь?
— На вас? Разумеется, нет. А в чем дело?
— Это я... попросила,— тихо, с некоторой опаской произнесла она.
— Вы?! — Алексей рассмеялся.— С каких это пор прокуроров назначают на мясокомбинате?
— Давно.
— А... Ну да!
— Если помните, я предупреждала — вы не знаете настоящую цену моего места.
Алексей вместо ответа хмыкнул: «Похоже, господа демократы тоже не равнодушны к колбасе».
Часть 2 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОКУРОР!
Глава 1
Превозмогая пульсирующую боль в висках, Глухов нашарил в кармане пиджака сигареты и, раздражаясь, долго щелкал в темноте зажигалкой. Через минуту-другую, придя в чувству, он поднялся с кровати и враскоряку, хватаясь за косяки, побрел на кухню в поисках спиртного. Странное дело, в трезвом состоянии он брезгливо вздрагивал при одной только мысли о Зинаидиной перине. Но после всякой очередной попойки с совершенно необъяснимой и железной закономерностью на следующее утро просыпался у нее. Причем инициатором, это он знал наверняка, был он сам.
Обругав себя последними словами, Глухов прихватил полстакана водки и вернулся в спальню. Включил свет.
Постель была смята и истерзана, словно поле боя после хорошей бомбежки. Женщина лежала на животе, неловко подвернув под себя руку. Вторая безвольной плетью свисала на пол. На заднице губной помадой была ярко намалевана мишень.
Он подобрал с полу одеяло, набросил на бесчувственное тело. Поставил рядом полстакана водки. «Адье, мадам!» — пробормотал он, чувствуя, что фраза получилась отменно пошлой. Как и все остальное, что было у него с этой женщиной.
С поднятым воротником, сунув руки в карманы, Глухов бледной тенью скользнул в туманном переулке и вышел на остановку. До прихода автобуса успел выкурить еще сигарету и последним кое-как втиснулся в переполненный салон.
Дома, подымаясь на третий этаж, Глухов увидел на коврике перед дверью громоздкую тушу Саттара. Пес лежал, опустив тяжелую морду на лапы и из-под вывороченных, красных век наблюдал за хозяином. Мясистые брыли широко разъехались по грязной циновке, будто спущенная резина, и сочились обильно слюной.
— Экая мразь, однако,— с неприязнью пробормотал Глухов, перешагивая через кобеля.— Брысь... пошел!
Отодвинул кобеля ногой в сторону. В ответ послышался короткий, угрожающий рык. Не сразу, а выждав паузу, Саттар лениво поднялся и сел в стороне, спиной, не удостоив хозяина даже взглядом. Глухова так и подмывало влепить этой твари носком башмака под ребра и добавить по ходу еще, влет, по нагло выпирающей сзади мошонке, величиною с добрый кулак. Он вдруг поймал себя на том, что в горле у него начинают перекатываться точно такие же рыкающие звуки.
«Не хватало еще сцепиться на лестничной площадке со своим кобелем»,— хмуро подумал Глухов. Провернул ключ.
Первым в квартиру вбежал Саттар, грубо потеснив в дверях хозяина. Сунулся в комнаты, на кухню и лег у дверей в спальню. Вывалил язык.
— Откуда ты взялся, подлец? — мимоходом грубо осведомился Глухов. Ответа, разумеется, не последовало, хотя это не означало, что вопрос не был понят.
В дверь постучали.
Обыкновение стучать, не обращая внимания на кнопку звонка перед носом, имела соседка из квартиры напротив. Так и оказалось. В пространных выражениях она извинилась за вторжение и передала телеграмму, которую принесли вчера, когда Глухова дома не было. Ее очень удивило, что супруга и дочь, отправившиеся в Крым, судя по почтовому штемпелю, так скоро возвращаются. Должно быть, там тоже беспорядки, как и везде.
— Но вы не подумайте, Иван Андреевич, бога ради, что я чересчур любопытна. Телеграмму мне передали в открытом виде, так уж волей-неволей...
Глухов с трудом выпроводил соседку за дверь и с непонимающим видом уставился на телеграмму. Перед глазами, словно живые, прыгали три слова:
ВСТРЕЧАЙ 17-го ТАНЯ
Семнадцатое сегодня. Значит, прибывают с дневным поездом. Еще целых шесть часов ожидания. За это время он трижды успеет сойти с ума. Глухов стиснул в кулаке телеграмму так, что затрещали суставы пальцев и надолго уставился свинцовым взглядом в стену перед собой.
На вокзал он приехал на учебном грузовичке с двумя дополнительными педалями. До прибытия поезда из кабины не выходил, стараясь держать привокзальную площадь и двери в поле зрения. Но все догадки решительно оставил на потом, до получения необходимой информации.
Первой на подножке вагона появилась дочь. Пятнадцатилетняя Даша с радостным визгом повисла у отца на шее. Глухов почувствовал, как у него отлегло от сердца.
— Папа, а где Саттарчик? Почему не пришел? Па-а?
— Дома ваш Сортирчик, успокойся. Готовится к торжественной встрече.
— У-уй, опять! Обзывает...
— Не буду, не буду. Все. По лицу жены, едва взглянув, Глухов сразу понял, что дела обстоят не лучшим образом. Он вздохнул и молча взялся за сумки. Даша куда-то исчезла, но вскоре появилась возле грузовичка.
— Па-а, тут наши девочки из класса. Оказывается, мы вместе ехали. Я с ними, хорошо? Я сама доберусь.
— Доберись. Но не позже восьми вечера.
Дочь упорхнула. Глухов молча наблюдал, как жена Татьяна неловко боком поднялась на подножку и так же боком пристроилась на дерматиновое сиденье. Спросил:
— Что случилось?
— Дома, Ваня, расскажу. Поезжай,— и отвернулась в окно. Но когда грузовичок неторопливо вырулил со стоянки и запрыгал на ухабах, не выдержала — всхлипнула.
— Я боюсь.
Глухов промолчал, чувствуя, что худшие из его опасений, похоже, сбываются. Он приобнял жену свободной рукой за плечи, успокаивая. Дома тоже торопить с рассказом не стал, предоставив событиям идти своим чередом. Сам отправился на кухню варить кофе.
— Госпопи, запах-то! Ты что, не проветриваешь совсем?
— Обыкновенно, псиной,— ухмыльнулся он. Однако форточку на кухне открыл.
Но Татьяна не услышала. С рассеянным видом она села на табурет, сжав узкие, уже загорелые кисти рук между колен. Глухов вдруг подумал, что хотя они с женой прожили в браке почти семнадцать лет, он все же плохо знает ее. Даже не уверен, любит ли она его. Обычно, уступив настояниям, она скучно и монотонно справляла явно постылую ей супружескую обязанность и нередко прерывала в самом разгаре, начав вдруг с увлечением рассказывать, кто и что ей сегодня сказал при встрече, или что ей необходимо купить к завтрашней замечательной кулебяке. Глухов даже фыркнул при этих воспоминаниях. Татьяна шевельнулась на табурете.
— Я боюсь, Ваня,— слабый голосом повторила она.
— Уже слышал. Дальше что?
— Ты... ничего не скрываешь от меня?
— Не понял. Что именно?
— Не знаю.-- На некоторое время она замкнулась. И вдруг ее словно прорвало.— Почему они требуют от нас какие-то деньги? Кто они? И сумма... это какая-то фантастика! Откуда у нас такие деньги? Почему именно у нас?
— Погоди. Мы, кажется, достаточно на эту тему говорили. Что тебя не устраивает?
— Не знаю. Я ничего не знаю! — Она уже плакала.— Но это не шутка... Не розыгрыш, как ты утверждал!
— Черт возьми, ты сама только что сказала — это абсурд. Фантастика требовать от нас такую сумму. Надо быть придурком...
— Почему ты отправил нас в Крым?
— Я? Вас?
— Ты испугался, что они исполнят угрозы. Поэтому решил нас с Дашей спрятать у родственника.
— Все с ног на голову! Вспомни, дорогая, напрягись. Подошло время твоего отпуска, так? Ты сама не раз этот разговор начинала — куда бы съездить, хоть ненадолго, отвлечься. Я и предложил. Мне лично было все равно. Но раз уж ты всерьез весь этот розыгрыш восприняла, мы с тобой решили: вы едете к моему двоюродному брату в Крым. Тем более, что Дарья там вообще ни разу не была. Кстати, как он? Чем занимается?
— Работает,— машинально отвечала Татьяна.
— Хм... надо думать.
— Говорит, шабашку нашел, выгодную. Очень довольный.
— Что именно?
— Виллу какому-то тузу строит. С бассейном. Он даже свозил нас на стройку, показывал.
— Вас-то зачем?
Жена не услышала вопрос. Вздохнула.
— Это не розыгрыш. Они... напали на меня.
Глухов поперхнулся и едва не выпустил из рук чашку с остатками кофе. В голове словно лопнула противопехотная мина. Спустя некоторое время хрипло спросил:
— Как это произошло? Где?
— Дикий пляж, помнишь? Сразу за волнорезом, вправо. А дальше бухточка с тенью. Скалы близко подходят. На пляже было многолюдно, мы отправились туда,— Татьяна произносила слова медленно, едва слышным голосом. Голова ее была опущена, и на юбку, на руки падали крупные слезы.
— Кто мы?
— Сева, племянник. Он на год старше Дарьи, длинный. Оба, как пришли, сразу в воду, купаться. Когда я переоделась, они уже заплыли с Дарьей, метров триста от берега. Море блестит, кое-как разглядела две точки. Даже голосов не слышно...
...Татьяна тоже забрела в воду и минуты две-три с наслаждением плескалась, пока не задела рукой медузу, к которым так и не смогла привыкнуть. Выбравшись на берег, расстелила циновку и взялась читать детектив, начатый еще в поезде. Горячее солнце, легкий, ласковый бриз с моря заставили ее смежить глаза, поэтому когда услышала чужие шаги, было уже поздно. Она откинула волосы и хотела повернуть голову, но кто-то грубо наступил ногой прямо ей на шею и вдавил лицом в песок. Кричать она не могла, но почувствовала, что купальника на ней уже нет, его разрезали ножом и сорвали. Она забилась, словно выброшенная на берег рыбина. Еще немного и ей удалось бы освободиться, но в этот момент ее схватили за волосы, рванули вверх и с такой силой снова вдавили лицом в песок, что она потеряла сознание и обмякла...
До Глухова слова жены доходили сквозь красноватый, пульсирующий туман. Он словно получил удар в челюсть. Несмотря на слезы, Татьяна заметила его состояние.
— Наверное, мне не надо было рассказывать тебе. Но я боюсь, что в следующий раз на моем месте окажется Дарья.
Глухов по-прежнему молчал, сцепив зубы. Наконец, дар речи начал к нему возвращаться. Хриплым, лающим голосом спросил:
— Зачем вас туда понесло?
— Ва-ань, откуда же мы... Ты сам сказал, это все розыгрыш. И потом, Крым все-таки.
— Дура! — рявкнул Глухов.— У тебя одно на уме. Забрались в безлюдное место... Голая по сути! Твои две тряпки, величиной с конверт, не в счет. А тут местные подонки... подбирают таких. Тьфу!
На глазах у жены блестели слезы. Она довозилась с застежкой на боку и поднялась с табурета. Цветастая, тонкая юбка скользнула с бедер в ноги. Глухов невольно сглотнул слюну. Коротконогая, развратная Зинаида по сравнению с его Татьяной выглядела жалкой дворняжкой.
Татьяна повернулась к нему правым боком и спустила трусики. На смуглою ягодице сбоку красовался тампон, перехваченный крест-накрест кусками лейкопластыри. Кожа вокруг заметно воспалилась.
— Что это?
— Они ткнули ножом, когда уходили.
— Сколько их было?
— Двое, я думаю.
— Они переговаривались?
— Не знаю... нет. Все молча. Только в самом конце я услышала, кто-то сказал: «Уходим». Одно слово.
— И ничего не видела?
Татьяна молча покачала головой, поправила на себе юбку.
— Они не местные. Они знали, кто я. И знали тебя.
— Меня? — Глухов дернул плечом.— Ну-ка, поясни.
— Ваня, ты, действительно, не понимаешь? Или прикидываешься? — Татьяна смотрела на него с упреком, и он видел, что глаза у нее опять наливаются слезами.
— Отставить слезы! В чем дело, ну?
Слезы хлынули из глаз рекой. Глухов бросился успокаивать. Наконец, она сумела проговорить:
— У тебя шрам, старый. На том же месте. Они, эти двое, твои знакомые... они знали про шрам. Они нарочно меня ткнули ножом, чтобы ты не думал, что это случайность.
— Возможно, ты права,— сдержанно согласился Глухов.— Хотя таких знакомых у моей задницы прибавляется. После каждого банного дня.
— Вань, может, в милицию все-таки? Написать заявление?
Глухов с досадой поморщился.
— Записку читала? Помнишь содержание?
Татьяна слабо кивнула.
— Ты пойми, у легавых свой бардак, дальше некуда. Там сволочь одна осталась и придурки. Как обычно, заволокитят дело и бросят. Вдобавок весь город будет знать, что тебя изнасиловали в Массандре.— Он взглянул на жену, и гордо перехватил колючий спазм. Она казалась совершенно раздавленной свалившейся бедой, и вина за ее жалкую беспомощность лежала на нем. Он порывисто склонился и поцеловал ее в мокрую от слез щеку.— Не бойся. На этот раз я, действительно, вас спрячу. Ни одна собака не сыщет.
— А потом?
— Потом стану разбираться. Сам. Мужики помогут.
Она молча к нему прижалась. Глухов понял, что она почти согласна.
— Ты день-два отдохни с дороги. Я за это время договорюсь.
— Вань, из ведра вынеси. Воняет же.— Она отправилась в спальню, так и не притронувшись к кофе.— Я пойду переодеться.
— Сейчас вынесу,— Глухов приподнял крышку, чтобы убедиться, но ведро было пустым. В этот момент в спальне раздался отчаянный вскрик. Глухову показалось вначале, будто крик донесся с улицы, и он не сразу разобрал, что это голос жены. Метнулся в спальню...
Татьяна с перекошенным от ужаса лицом, бледная, появилась в дверях и мимо него, не глядя, двинулась в ванную, то ли в туалет. Запах вони ударил Глухову в нос, едва он переступил порог. Услышал, как жену в туалете выворачивает наизнанку. Недоумевающим взглядом он обшарил комнату и — невольно отступил. На кровати лежала отрубленная человеческая голова. На него в упор глядели пустые окровавленные глазницы...
Глава 2
Алексей проснулся разом, как от толчка, и сел. Бледный рассвет наполнял комнату, лишая предметы теней. Через форточку сильно сквозило, вздувая парусом шторы. Он нехотя выбрался из постели и босиком прошлепал в прихожую к дребезжащему телефону.
— Валяев. Слушаю.
— Леша, выгляни в окно,— раздался в трубке насмешливый голос Махнева.— Посмотри, дорогой, что там внизу? Возле подъезда?
— Карета, надо полагать?
— Приятно, ей богу, иметь дело с умным человеком. В общем, повязывай галстук и срочно на место происшествия.
В трубке раздались короткие гудки.
Алексей проглотил вчерашний кофе и сошел вниз. Едва хлопнула за ним дверь подъезда, из-за угла вынырнул, кренясь набок, прокурорский «УАЗ» и с визгом осадил у самых ступеней. Алексей отметил про себя, что хотя прокурора Хлыбова давно нет в живых, хлыбовский нахрапистый стиль, даже его манера вождения прочно вошли в обиход работников здешней прокуратуры. Определенно, был в этом человеке некий божественный замысел.
В салоне, кроме водителя, сидел эксперт-криминалист Дьяконов с обиженным на всех и вся видом. Машина рванулась с места и на вираже обоих пассажиров бросило друг на друга.
— Что случилось, Вадим Абрамыч?
— Понятия не имею,— Дьяконов втянул коротко остриженную голову в плечи.— Говорит, сурприз!
— Махнев?
— Все потешается, забавник хренов.
— Нормальная позиция.
— Бог с вами, Алексея Иванович. Это психоз. Способ самозащиты слабого человека. Весьма уязвимого. Уверяю вас, долго не протянет, сдаст позицию.
— Что так?
Дьяконов сокрушенно вздохнул и не ответил.
Машина с асфальта нырнула вправо, в гору. Мелькнула вывеска продовольственного магазина, и они въехали во двор мимо деревянного забора, ограждающего строительную площадку. Из-за кустов с поднятой рукой вышел участковый Суслов. Слегка козырнул.
— Садись, лейтенант,— Алексей толкнул переднюю дверцу.— Проинформируешь.
— Сегодня восемнадцатое? — начал Суслов.— Ночью... время можно уточнить, в дежурную часть поступило устное заявление от гражданки Запольских Веры Ильиничны. Заявительница местная, пенсионерка, проживает по улице Красноармейская, дом 3. Это рядом. Из заявления следует, что ее дочь Глухова Татьяна Васильевна в присутствии мужа Глухова Ивана Андреевича обнаружила у себя в квартире отчлененную человеческую голову. Как голова попала в квартиру, гражданка Запольских объяснить не сумела. Сама она ничего не видела, но со слов дочери знает, что ее и мужа Глухова Ивана Андреевича с помощью угроз шантажировали неизвестные лица. Требуют выплатить крупную сумму денег.
— Сколько?
— Миллион. Заявление Запольских сделала вопреки воле зятя. Глухов будто бы сказал жене, что отчлененную голову необходимо скрыть. Насколько она знает, опять же со слов дочери, неизвестные лица угрожали им расправой в случае, если они обратятся в милицию.
— Голова-то чья?
— Трупа.
Дьяконов фиркнул в своем углу.
— Это понятно. Личность установлена?
— Пока нет.
— К опознанию не предъявляли?
— Головы тоже нет. Пока.
— То есть?
— Глухов ее закопал.
— Понятно. Стало быть, он пошел закапывать, а теща вопреки воле зятя отправилась в милицию? С заявлением? — Дьяконов снова фыркнул.
Алексей посмотрел на него с укоризной.
— Глухов сейчас где?
— Откапывает,— усмехнулся Суслов.— Это в районе гаражей СМУ-7. На свалке.
— Хозяева в квартире есть?
— Нет. Там наши, Суляев с напарником работают.
— Пойти взглянуть,-- Алексей выбрался из машины и придержал дверцу.
— Суляев, говоришь? — Дьяконов выставил полную ногу, но вылезать не спешил.— Я тогда на кой нужен там?
Алексей рассмеялся.
— Ладно, коли так. Но уж на свалку, извини, мы тебя сегодня доставим.
Нога убралась.
— Остряки долбаны...
Квартира оказалась точной копией той, где проживал Алексей. Значит, дома принадлежали к одной серии. И замки, он сразу обратил внимание, внешне выглядели одинаково. Алексей нашарил в кармане ключ и попытался вставить. Ключ легко входил в замочную скважину, но провернуть его не удалось. Других запоров, кроме цепочки на косяке, не было. Криминалисты подтвердили:
— Повреждений на замке нет. Дверь открывали ключом.
— Как насчет лоджии?
— Лоджия застеклена. На шпингалетах, на стекле, на переплетах толстый слой пыли.
— Закрыта, что ли?
— Там вообще свалка. Вернее, склад,— вмешался Суслов.— Квартира на самом деле принадлежит другому человеку.
— Выходит, Глуховы — поднаниматели?
— Все трое прописаны у тещи, улица Красноармейская, 3.
— Анатолий Степанович, ключи пусть будут за тобой. Проверь, пожалуйста. В том числе основного квартиросъемщика. Узнай, кто такой? Кто из посторонних мог иметь к ключу доступ? Не терялся ли?
— Проверим.
Обстановка в квартире на миллион явно не тянула. Похоже, Глуховы сидели на чемоданах. Суслов подтвердил догадку: уже два года. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Пол-России, в том числе он, сидят на чемодане. Иногда всю жизнь.
В прихожей, на вешалке, Алексей заметил смотанный поводок с толстым кожаным ошейником, украшенным бляшками. В углу — собачий коврик и миска. Судя по размерам ошейника, собака была крупная. Любопытно, где она находилась в тот момент, когда сюда вошел преступник?
— Из квартиры что-нибудь пропало?
— Еще не выяснили.
— Место работы Глухова?
— Замдиректора в СПТУ номер 13 по учебно-воспитательною работе.
Алексей сразу вспомнил этого человека. Отставной хрипун в чине то ли майора, то ли капитана — так, кажется, он определил его для себя. Наверняка, жертва повальной демобилизации. В таком случае сидение на чемоданах и убогость обстановки вполне объяснимы. Но тогда миллион повисает в воздухе.
— Анатолий Ступанович, ты с нами?
— Да. Приказано дождаться и проводить.
На улице почти рассвело. Появились редкие и вялые, как осенние мухи, прохожие. Один из таких, с трехлитровой банкой в авоське, еще полусонный, ковырял в носу и с лицом идиота беззастенчиво пялил глаза на машину. На нем было выцветшее трико, заправленное в пестрые носки, и некогда лакированные штиблеты. Признак мужественности, еще не опавший после утреннего сна, выпирал под тонкой тканью, словно ручка на боковой дверце «УАЗа».
— А? Каков гусь? — Дьяконов разглядывал типа с нескрываемым удовольствием.— Хар-рош! Целая эпоха. Представь, когда он, такой вот, предстанет перед Господом, а? То-то смеху будет.
— Поехали.
Машина тронулась с места, и «эпоха» с пальцем в носу скрылась за ржавыми кустами акации.
Свалка оказалась за городом, в перелеске, одна из тех стихийных, нижем не узаконенных, которые возникают, как грибы, на окраинах, неподалеку от строящихся объектов. Бытовых отходов здесь было мало. В основном строительный мусор, опил с отходами древесины, кирпичный бой, смятая «мазовская» кабина и прочий разный хлам. «УАЗ» свернул с тракта через широкое поле, изъезженное вдоль и поперек тяжелыми машинами. Весной здесь было что-то посеяно, какая-то кормовая культура. Теперь из-под колес переваливающегося с боку на бок «УАЗа» серыми, грязными клочьями срывалось воронье и носилось в воздухе с многоголосым ором.
— Анатолий Степанович, съезди за понятыми,— попросил Алексей, выходя из машины.
К нему подошел старший в опергруппе сержант Скобов, представился. Потом кивнул на Глухова. Тот сидел на опрокинутом ведре ко всем спиной. Курил.
— Почти час искал. Мне, говорит, она ни к чему. Сами ищите.
— Обидели дядю? — осведомился Алексей, оценив позу.
— Задаю вопрос: где остальное? Ну, туловище? А этот сразу на дыбы. Все, без адвоката не разговариваю. Теперь молчит.
— Пожалуй, я бы тоже обиделся.
Обогнув кучу деревянных отходов, они подошли к вырытой яме. На дне ее, из земли, перемешанной с опилом, торчали края истертого полиэтиленового пакета. Рядом валилась лопата с укороченным черенком. Обычно такие лопаты возят с собой по бездорожью водители легковых автомашин. По знаку сержанта один из оперативников начал осторожно огребать землю вокруг пакета. Углубившись до середины, взял пакет с двух сторон за края и вытянул наружу. Представшее их глазам зрелище напоминало дурной сон. С большим трудом верилось, что подобное зверство могло быть сотворено человеческими руками.
Судя по помаде на губах, остаткам макияжа и проколотым мочкам ушей, голова принадлежала женщине. Достаточно молодой. Голова была обрита наголо — грубо, наспех, с многочисленными глубокими порезами и снятыми лоскутами кожи. Брови тоже были выбриты. Оба глазных яблока вырезаны, многочисленные глубокие порезы имелись на лице, надрезы на веках и в углах глаз. В окровавленных зубах была закушена раздавленная сигарета.
Подошел Суслов с понятыми.
— Будем предъявлять к опознанию?
— В таком виде? Не думаю. Тут живого места нет.
— Значит, на экспертизу?
— Да. Пусть поработают медики. Желательно знать дату смерти. Потом, Анатолий Степанович, вам придется побывать на кладбище. Проверьте, нет ли разрытых могил и обезглавленных женских трупов. Кто был похоронен и когда? Когда разрыли? Если концы сойдутся, три даты нетрудно будет сопоставить.
Алексей заполнил протокол осмотра и дал подписать понятым. Затем подошел к Глухову.
— Здравствуйте, Иван Андреевич.
Тот слегка повернулся и кивнул, молча. Но, похоже, узнал.
— За сержанта я должен принести вам извинения...
— Давайте так,— перебил Глухов.— Никто никому ничего не должен. И без подходов. Вы спрашиваете, я отвечаю. Все.
— А как же адвокат? — Алексей улыбнулся.
— Какой адвокат?
— Сержант сказал, что без адвоката вы разговаривать отказываетесь.
— Шутит казарма. Знает, что мы не в Европе.
— Тогда начнем. Но лучше в машине, там удобнее.
В машине Алексей достал из папки бланк протокола, заполнил анкетную часть и предупредил об ответственности за дачу ложных показаний.
— Иван Андреевич, первый вопрос по существу дела. Почему вы не обратились в милицию, а решили скрыть преступление?
— Чье преступление? Мое?
— Ну, зачем же так сразу?
— Хорошо, давай не сразу. Я, дорогой прокурор, свидетелем убийства не был. Как я мог что-то скрыть?
— По-вашему, это не убийство?
— Все повреждения на голове носят посмертный характер. Я на трупы нагляделся, десятерым гаврикам достанет.— Глухов небрежно кивнул в сторону оперативников.— Голову отрезали у трупа. Но я при этом, уверяю вас, не присутствовал. Не говоря уже об убийстве.
Он говорил резко, насмешливо и смотрел прямо в глаза. Алексей понял, что разговор предстоит длинный и, возможно, безрезультатный.
— Мне, Иван Андреевич, почему-то казалось, мы с вами в этом деле союзники.
— Хреновые из вас союзнички,— отрезал Глухов.
— Это почему?
— Потому что вы видите во мне преступника. Сержант требует показать, где я закопал туловище. Вы пугаете меня ответственностью за дачу ложных показаний. Обвиняете в том, будто я скрыл факт убийства. С союзниками, дорогой прокурор, так не поступают.
— Полно ребячиться, Иван Андреевич, за сержанта я перед вами извинился. Об ответственности за дачу ложных показаний мы обязаны предупредить свидетеля, прежде чем допросить. Такая форма, и вы это знаете. Что касается вашей находки, то вы обязаны были об этом заявить. Вы же скрыли, а теперь становитесь в позу. Зачем?
— Хотите, скажу, какой следующий вопрос вертится у вас на языке? Вот-вот сорвется. Даже удивительно, что вы до сих пор его не задали. Ну, так как?
— Я слушаю.
— Вам, уважаемый прокурор, не терпится выяснить, откуда у меня взялись такие деньги. Аж целый миллион! А может, два? Это при моей-то должностенке, да еще в системе образования. Так?.. Наверняка, тут дело не чисто, думаете вы. И нельзя ли этот миллион, а может два, обратить в доход государства. Преступник думает так же. Он желает слупить с меня миллион. Правда, в свою пользу. И тоже пугает. Но в отличие от вас поступает честнее, не хитрит и не набивается в союзники. Он так и говорит: я собираясь тебя ограбить.
Алексей рассмеялся.
— Ваш ответ, Иван Андреевич, я знаю заранее. Миллиона у вас нет, так?
— Вот именно. И никогда не было.
— Дело в том,— продолжал Алексей,— что на данном историческом отрезке заработать миллион честным путем невозможно. Нет законодательной базы. Любой миллион, тем более два, оказавшись в частных руках, имеют криминальное происхождение. Спекуляция, бандитизм, наркотики, махинации с валютой и тому подобное. Вы меня понимаете. Стало быть, честный человек с миллионом в кармане — абсолютным нонсенс. Поэтому на честный ответ с вашей стороны я и не рассчитывал. Особенно в том случае, если бы миллион у вас, действительно, имелся. А то, что вы скажете, и что в конечном счете сказали, я знал без вас.
Некоторое время оба молчали. Было ясно, что черта под дискуссией подведена. Наконец, Глухов сказал:
— Ладно, прокурор. Хватит воду в ступе толочь. Спрашивай, что надо. И разбегаемся.
— Вопрос тот же самый. Почему вы не обратились к нам сразу?
— Вначале не придал значения, да и сейчас... Хотя далеко зашел гад.
— До этого случая вам угрожали?
— Обещал пришить всех троих. В случае неуплаты. Или в случае, если надумаю обратиться в милицию.
— Вас это остановило?
— Я же сказал: не придавал значения.
— Преступник сообщался с вами письменно? Или по телефону?
— Две записки. Вторая там, в пакете. Он ее к голове на гвоздь приколотил.
Алексей выглянул из машины:
— Вадим Абрамович! Записку нашли?
Через минуту подошел Дьяконов. На руках у него были надеты резиновые перчатки. Подал следователю перемазанную, в подозрительных пятнах четвертушку бумаги. Пояснил.
— В пакете валялась, на дне.
На четвертушке крупными печатными буквами, вероятно, шариковой ручкой было написано:
ИВАН ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ У ТЕБЯ ОСТАЛОСЬ ТРИ ДНИ НА ОЧЕРЕДИ ТВОЙ ДОЧ
Без знаков препинания и прописных букв, с ошибками. Но неграмотный текст вполне мог оказаться имитацией.
— Что-то еще?
Дьяконов с сомнением пожал плечами.
— На срезе шеи налипли частицы какого-то вещества. Надо сделать смыв. И тоже на экспертизу. Кстати,— он просунул голову в машину к Глухову.— У вас дома дырокол имеется?
— Чего нет, того нет.
— Угу. Кусочки бумаги на шее — от дырокола.
— Бумага та же? — Алексей ткнул пальцем в записку.
— Трудно сказать. Хотя дырокол, как будто, с изъяном. С индивидуальными признаками, пригодными для идентификации.
Переговорив с Дьяконовым, Алексей снова обернулся к Глухову. Тот молчал, глядя отсутствующими глазами в окно. Он настолько ушел в свои мысли, что Алексею пришлось дважды повторить свой вопрос.
— Первая записка?.. Валяется где-то, в столе. Небось, ваши орлы уже нашарили.
— Конверт сохранился?
— Лежала в почтовом ящике. Без конверта.
— Что в записке?
— Как я должен отдать миллион.— Глухов усмехнулся.
— Ну-ка, ну-ка?
— Я должен повесить в окне, на кухне, красную тряпку. Знак. И ждать дальнейших указаний.
— А вы повесьте.
— Поздно, прокурор! Теперь ваши дознаватели бегают по подъездам и каждого спрашивают: вы тут не видели на днях подозрительного гражданина? Он зашел в девяносто вторую квартиру к Глухову. Под мышкой держал отрезанную голову. Вон... взгляни.
Он кивнул в сторону дороги, через поле. Там, на обочине, собралась кучка людей. В одном из них Алексей разглядел понятого, дежурного вахтера из соседних гаражей. Тот что-то говорил и часто тыкал рукой в сторону милицейских машин возле свалки, на одной из которых безмолвно вращалась синяя мигалка.
— Да, реклама солидная,— согласился Алексея.
— И миллион жалко отдавать,— мрачно съязвил Глухов.
— Иван Андреевич, поскольку миллиона у вас нет и не было, то шантажировать вас не имеет никакого смысла. Однако вам угрожают, в том числе действием. У вас есть соображений на этот счет? Скажем, друзья-хохмачи? Враги? Или знакомые психи? Обиженная и оскорбленная женщине?
— Женщина... ха! — Глухов рассмеялся, хрипло, надреснуто.
— Напрасно недооцениваете,— Алексей пожал плечами.— Недавно допрашивал, из совхоза «Северный» обвиняемая. Пришла баба домой после вечерней дойки. Вхожу, говорит, во двор и слышу — на сеновале хихикают. У меня, говорит, сердце от злости зашлось, насилу на ногах устояла. Походила по двору, будто ничего не знаю, а потом — к лестнице на сеновал. Вытащила из угла ржавую борону. И зубьями вверх опрокинула. Сама ушла в магазин. Когда вернулась, во дворе толпа народу собралась. Мужа с одной конторской дамой с зубьев снимают. Он первый впотьмах на борону спрыгнул и закричал. Любовница перепугалась, хотела убежать. И тоже на зубья спрыгнула. Нога насквозь у обоих. Жаль, говорит, соседи помешали, я бы топором посекла их тут же, на бороне.
— Вы с «олигофренами», кажется, имели дело? — перебил Глухов.
— Учащийся контингент?
— Они самые. Единственный способ привести эту публику в чувство — поголовная кастрация. Все остальное пустая трата времени.
— У вас есть основания кого-то подозревать?
— Два разбойных нападения, не считая мелочей. Это как? Основание?
— Лично на вас?
— Главным образом.
— Значит, на других из вашего коллектива тоже нападали? В двух словах — об обстоятельствах?
— Какие там обстоятельства! Первый раз напали возле подъезда. Похоже, поджидали. Человека три или четыре, темно было. Лиц тем более не разглядел. Но просчитались ребятки. Им бы по куску арматуры взять, а они... В общем, не получилось. Я и сам люблю помахаться. Ей богу, даже удовольствие подучил.
— Понятно, и когда это произошло?
— Сейчас скажу. Сегодня восемнадцатое? В конце прошлого месяца дело было, двадцать третьего. Ровно неделю спустя — второй случай. Мы с Охорзиным возвращались.
«Это который Киряй Киряич»,— вспомнил Алексей из показаний эспэтэушников.
— Тоже ввечеру было. Идем не спеша, разговариваем. Вдруг мимо носа кирпич... вернее, половина. Это на улице Шмидта произошло, возле новостройки. Судя по траектории, кирпич саданули из окна. Сверху-вниз.
— Квартиры проверили?
— Да. Но Охорзин со мной не пошел. Даже у подъезда отказался стоять. Короче, «олигофрены» смылись, пока я из подъезда в подъезд по этажам бегал. Правда, лежбище нашел. В углу матрас, бутылки под ногами катаются. И табаком воняет... не выветрилось еще. Мочиться и срать ходили в соседнюю комнату.
— По времени последовательность вроде просматривается. Но этого маловато, как вы думаете?
— Чего маловато?
— Маловато, если мы хотим увязать шантаж с этими двумя эпизодами, разнопорядковые вещи.
— А миллион?! — рявкнул Глухов.— Дурацкая цифра! Предел мечтаний подрастающего идиота. Насмотрятся телерадиобредятины, и с ножом на большую дорогу.
— Убедительно, но, увы, не факт.
— Голова смущает? Изуродовали?
— Голова тоже. Смущает способ доставки ее на дом.
— Ерунда,— отмахнулся Глухов.— Если ключ изготовить, в два счета сообразят. У меня самого два ключа... вот они, а я почти все кабинеты в училище ими запираю. Универсальные. У «олигофренов», кстати, отобрал.
— И когда, вы полагаете, голову пронесли?
— Позавчера. Меня сутки не было дома. Надеюсь, алиби не придется доказывать?
Алексей кивнул.
— Когда утром позавчера уходил, головы не было.
— А собака?
— Собака у тещи пропадала. А вчера с утра и до полудня, до нашего прихода, караулила квартиру. Не выпускал.
— Супруга с дочерью были, кажется, в отъезде?
— Были.
— Ну, хорошо.— Алексей дал подписать протокол и захлопнул папку.— В ближайшие день-два вы мне понадобитесь. Где вас удобнее найти?
— По рабочему телефону. Если куда-то уйду, Зинаида доложит.
— Иван Андреевич, если не возражаете, еще вопрос. Не для протокола. Вы, как я понял, года три не дослужили?
— Верно. Три года. Теперь таким, как я, досрочникам, пенсию начисляют со дня увольнения в запас.
— Сами подали?
— Сам! Ввиду полной и окончательной победы! — Глухов вдруг хохотнул и крепко ударил себя кулаком по колену.— Военно-промышленный комплекс, дорогой прокурор, наголову разгромил собственную страну. Ни одна чужая армия такого разору нанести не способна.
Он выбрался из машины.
— Бывай, прокурор,— и двинулся через поле в сторону тракта.
Глава 3
Когда Алексей вошел в кабинет начальника РОВД, подполковник Савиных и его заместитель, словно по команде, обратили в его сторону любопытные, прощупывающие взгляды. Он понял, что о возможном назначении его на должность прокурора района этим людям вполне известно, хотя решение с ними никто не согласовывал. В лучшем случае поставили в известность. Сейчас оба терялось в тревожых догадках, поскольку причины подобного назначения представлялись им абсолютно невразумительными.
Внимание начальства было столь явным, что остальные присутствующие тоже начали оборачиваться в его сторону. Сидящий у окна Крук, следователь облпрокуратуры по особо важным делам, со скрипом развернулся на стуле и уставился на вошедшего сонными, неподвижными глазами. Желая снять грозящую стать неловкой паузу, Алексей взглянул на часы.
— Я опоздал?
— Начнем, пожалуй,— не отвечая прямо на вопрос, буркнул подполковник. Перевел взгляд на дверь.— Кто там в коридоре? Пусть заходят.
Оперуполномоченный Ибрагимов бесшумно скользнул в коридор.
— Итак, слово за вами, Евгений Генрихович. Прошу.
Крук шевельнулся, давая понять, что слышит, но продолжал пребывать в полудремотном состоянии. Наконец, когда все расселись, он заговорил, медленно роняя слова:
-- К великому моему сожалению, оба раза я не участвовал в осмотре места происшествия. Ни в случае убийства следователя прокуратуры Шуляка, полгода тому назад. Ни в случае убийства Вениамина Гавриловича Хлыбова, вашего районного прокурора. К великому моему сожалению, дело Шуляка попало ко мне из третьих рук, что, сами понимаете, не способствует успеху расследования. Кроме того, у меня масса претензий по методам ведения следственной и оперативно-розыскной работы, как в том, так и в другом случае. Что я имею в виду? Прежде всего поражает непрофессионализм. Вопиющий.
— Следователи ваши. Из областной прокуратуры,— вставил полковник Савиных, перебирая лежащие на столе бумаги.
— Знакомясь с материалами дела, я понял так, что к приезду следственной группы место происшествия оцеплено не было. Болтались случайные люди. Не приняты необходимые меры по сохранению и фиксации следов преступления. Первоначальное положение трупов неизвестно. Найдено множество отпечатков, не имеющих отношения к делу. И так далее. В результате, картина получилась искаженной.
— Беспрецедентный случай в нашей практике,— развел руками замначальника Шутов, грузный мужчина с хриплым, надсаженным голосом.— Естественно, паника. Самые крутые меры. Переборщили, словом.
— В случае с Хлыбовым прецедент имелся. Однако все повторилось, до мелочей.
Крук помолчал и, не дождавшись возражений, продолжал разворачивать перед членами оперативно-следственной группы общую невеселую картину. Алексей слушал с возрастающим интересом, хотя все так называемые претензии знал наперед до последнего слова. По редким, настороженным взглядам вокруг он видел, что остальные члены группы испытывают те же чувства, что и он. Доверия здесь никто ни к кому не питал, тем более к словам. То, что Крук называл «непрофессионализмом», на самом деле было сработано достаточно профессионально под непрофессионализм. Сейчас на его глазах в номенклатурно-бюрократических играх начинался новый этап. Начальство, пусть нехотя, сквозь зубы, но признает допущенные в ходе следствий «ошибки и просчеты». Следующим шагом будут намечены неотложные меры по их исправлению на основе «глубокого анализа». Все это протоколируется и будет подшито с единственном и абсолютно шкурной целью — обезопасить себя на будущее, если, не приведи господи, когда-нибудь придется держать ответ.
Новый этап может означать одно: следствие по делу окончательно загнано в тупик. Все настолько безнадежно, что любые мероприятия при любой глубине анализа с привлечением следственных работников самой высокой квалификации ни к чему не приведут. Начальство в этом, кажется, уверилось, поэтому не исключено, что для следственной работы будет предоставлена необходимая свобода действий.
Особый интерес у Алексея вызвала фигура самого Крука, который лишь на днях принял к своему производству дело Хлыбова и, похоже, намеревался объединить оба дела в одно. По прежней своей работе в Первомайской районной прокуратуре ему не раз приходилось встречаться с Круком. Похоже, именно ему выпала роль следственного работника самой высокой квалификации, который, возглавляя группу, своими умными, по-немецки скрупулезными действиями при полной и всесторонней поддержке местных органов дознания блестяще докажет в конце концов полную безнадежность этих дел, ибо все возможное и даже невозможное будет сделано. В результате, «непрофессиональные» действия заинтересованных лиц на начальном этапе расследования окажутся полностью реабилитированы и, возможно, забыты.
Любопытно, знает ли Крук о назначенной ему роли? Или «его играют» втемную?
Атмосфера подозрительности и безнадежности особенно сгустилась, когда следственные и оперативные работники по настоянию Крука один за другим стали отчитываться за отработку закрепленных за ними в ходе официального расследования версий. Крук, помимо отчета, предлагал каждому внести собственные предложения или сделать выводы из проделанной ранее работы; двум следователям из соседнего района учинил настоящий допрос, подняв их на ноги, как школьников. Видно было, что Крук таким способом хотел переломить прежнее исполнительское, равнодушное отношение к делу. Но его расчет задеть самолюбия, оскорбить, быть может вызвать огонь на себя и заставить высказать обиды, чтобы в конечном счете извлечь из заварухи рациональное зерно, успеха не имел. Самолюбия были давно растоптаны, обиды всерьез никто не принимал, даже напротив: такого рода накачки и разгоны были привычны и почитались за должное. Поэтому стена недоверия вместо того, чтобы рухнуть, продолжала расти.
Было бы лучше, подумал Алексей, если бы Крук явился на оперативку со свежей, неординарной идеей. Тогда он без труда втянул бы присутствующих в обсуждение и тем самым заставил людей откровенно высказаться. Скорее всего, такой идеи у Крука не было.
Некоторую разрядку внес своим выступлением оперуполномоченный Ибрагимов. В очередной раз не добившись результата, Крук остановил взгляд полусонных глаз на смуглом, непроницаемом лице уполномоченного.
— Рафик Хамматович, вы имеете что-то добавить к словам коллеги?
Ибрагимов поднялся.
— Прошу вас.
— Давайте попробуем исходить из характера потерпевшего Хлыбова. Это человек крайне самолюбивый, свои обиды он никому никогда не прощал. Здесь многие с ним работали, думаю мои слова подтвердят. Предположим, Хлыбов вдруг узнал, чем занималась его жена наедине с потерпевшим Шуляком. Какие могли быть последствия, нетрудно догадаться. Если кто-то все же сомневается, вспомните загадочную смерть первого мужа Хлыбовой, который оказался у него поперек дороги.
При обыске у Анны Хлыбовой был изъят ключ от квартиры потерпевшего Шуляка. Что если этот ключ на короткое время попал в руки Хлыбова, и он им воспользовался?
Крук криво усмехнулся.
-- По-вашему, заполучив ключ, Хлыбов зарезал любовника жены? Потом угрызения совести заставили его покончить жизнь самоубийством?
— Ударом ножа в спину,-- послышалась мрачная реплика. Ибрагимов выставил ладонь.
— Мы все хорошо знаем, что потерпевший Шуляк и жена Хлыбова относились к возникшему у них чувству серьезно. Зато семейные отношения Хлыбова с супругой день ото дня ухудшались и часто заканчивались скандалом или запоями. Поэтому не исключено, что во время скандала в состоянии опьянения или аффекта Хлыбова схватилась за нож и нанесла тот роковой удар. Другой вариант: потерпевший Хлыбов сам спровоцировал удар ножом, когда однажды рассказал ей, как он расправился с любовником, наверняка зная, что доказать на него она не сумеет. Наконец, Хлыбова могла знать сама или подозревать мужа в смерти любовника. Долгое время она вынашивала свой замысел мести, это в какой-то степени объясняет характер нанесенного удара. Сзади в спину. То есть, способом, которым был убит Шуляк.
— У вас имеются доказательства?
— Я изложил свою версию.
Крук пожал плечами.
— Выходит, от фонаря?
— Вы прекрасно знаете, Евгений Генрихович, каким ножом был убит потерпевший Хлыбов. Коли бы преступник был кто-то другой, я не думаю, чтобы он пошел убивать в расчете, что найдет орудие преступления по месту жительства своей будущей жертвы. И последнее. Не слишком ли доверчиво опытный розыскник, прокурор района подставлял свою спину возможному убийце? Или убийца находился у него вне подозрений, что маловероятно, или убийцей являлась его собственная супруга.
— Разрешите мне,— подал голос исполняющий обязанности районного прокурора Сапожников.
— Прошу, Семен Саввович.
— С покойным Вениамином Гавриловичем бок о бок я проработал около пятнадцати лет и достаточно хорошо его знал. Так вот, прошу принять к сведению: до женитьбы Хлыбов запоями не страдал. Выпивал, это случалось, но как все нормальные люди. Не более. И еще момент. До женитьбы около двух лет Хлыбов втайне от первого мужа крутил с чужой женой что называется преступную любовь. После женитьбы, не прошло и двух лет, преступную любовь втайне от Хлыбова начал крутить с его женой Шуляк.
— В итоге, мы имеем три трупа,-- просипел Шутов.
Сапожников поморщился от подобной категоричности, однако опровергать не стал.
— Во всяком случае, закономерность просматривается.
Алексею сделалось не по себе. Предложенная версия своей простотой и наивностью напоминала кувалду и была столь же сокрушительно. Беспрецедентная резня в районною прокуратуре исчерпывалась таким образом обычной любовною интрижкой и обрубала все концы. Бедная Анна!
После непродолжительного молчания Крук остановил полусонный взгляд вновь на Ибрагимове.
— Рафик Хамматович, дело за малым. Вам осталось объяснить, каким образом Анна Хлыбова умудрялась оказаться дома в то самое время, когда она сидела в гостях? У подруги, кажется? На этот счет у вас тоже имеются соображения?
— Имеются,— невозмутимо подтвердил оперуполномоченный.— Если помните, в тот роковой вечер подозреваемая Хлыбова находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
— Не только Хлыбова,— перебил Шутов.— Они затем и собирались у этой... подруги.
— Это так,— подтвердил Ибрагимов.— Но вначале они занимались сеансами спиритизма. Крутили тарелочки и вызывали духов. После очередного сеанса Хлыбова почувствовала недомогание и ушла в спальню. Хозяйка проводила ее и тут же вернулась к столу. Сколько прошло времени с момента ухода и до момента появления подозреваемой, остальные гости, занятые вызыванием духов, сказать не могли. От десять минут до получаса, такой разброс мнений. Я специально еще раз уточнил. Теперь... Дом частный, окно спальни легко открывается и выходит в сад. Давайте на минуту допустим, что подозреваемая неожиданно решила вернуться домой и, чтобы не мешать сеансу, выбралась через окно. Я проверил хронометраж, получается десять-двенадцать минут быстрой ходьбы. Обратно после случившегося под влиянием сильного душевного волнения подозреваемая могла добежать за пять-семь минут. И лечь в постель. В том виде, как ее застала впоследствии хозяйка. Таким образом,— подытожил Ибрагимов,— алиби подозреваемой представляется весьма сомнительным.
Крук молчал. Подполковник Савиных сосредоточенно крутил в руках красно-синий карандаш и тоже не спешил с заключительным вердиктом.
Следует отдать Ибрагимову должное, его версия удачно разрешала многие запутанные и противоречивые моменты. При умело подобранном доказательственном материале местные правоохранительные органы в перспективе могли свалить с плеч сразу несколько дел из разряда безнадежнх, связанных с тяжкими преступлениями. Это становилось опасно. Еще несколько минут подобной болтовни, и ни один аргумент в пользу Анны не станут даже слушать.
Алексей попросил слова.
— Насколько я понял, Рафик Хамматович пока не имеет ни одного проверенного факта, который мог бы его версию подтвердить. Поэтому нам не следует на уровне догадок и сомнительных предположений выносить Анне Хлыбовой окончательные оценки.
— Какие оценки? Вы о чем? — не понял Шутов.
— Пожалуйста, могу повторить. Низкий морально-нравственный облик подозреваемой,— Алексей интонацией выделил слово «подозреваемая» и подождал, пока смысл сказанного вполне дойдет до присутствующих.— Пристрастие к употреблению алкоголя. Вплоть до запоев. Преступная любовь. Хотелось бы знать, уважаемый Семен Саввович, на какую статью в Уголовном кодексе вы ссылаетесь, оценивая это деяние как преступное? В итоге, мы с вами договорились до того, что готовы повесить на подозреваемую ни много ни мало — целых три трупа.
— А что? Три трупа вокруг одной дамы — не факт?
Подполковник Савиных постучал карандашом в стол, пресекая начинающиеся разговоры. Затем с ворчливой нотой в голосе заметил:
— Критиковать чужие версии мы умеем неплохо. Вероятно, Алексей Иванович, у вас есть своя, более взвешенная?
— В состав оперативной группы меня включили вчера. По настоянию Евгения Генриховича Крука, вы это знаете. Поэтому с материалами дела я знаком поверхностно.
Подполковник откинулся на спинку кресла и сделал глубоко разочарованное лицо. Дескать, о чем вообще можно говорить с человеком, который не владеет материалом.
— У вас все, Алексей Иванович?
— Не совсем. Ради пользы дела я могу предложить вниманию группы версию Игоря Бортникова.
— Не нужно! -- отрезал Савиных.-- Все соображения Бортникова в материалах дела имеются. Советую ознакомиться, молодой человек. И побыстрее.
По его налитому свинцом, отчужденному взгляду Алексей понял, что слова не получит, если немедленно, сию минуту не выложит крупный козырь. Чтобы ударило по мозгам.
— Кстати, накануне отъезда следователь Бортников в моем присутствии предсказал районному прокурору Хлыбову смерть.
Он произнес фразу спокойным, без выражения голосом, но у старого лицедея, несмотря на известную выдержку, отвалилась челюсть.
— Разумеется, лучше узнать все от самого Бортникова. Еще лучше включить его в состав следственной группы.
— Игорь переходит в коммерческую структуру,— заметил Крук.
— Я знаю. Но в помощи он не откажет, особенно если гарантировать ему определенную свободу действий.
— Это каким же образом Бортников предсказал смерть Хлыбову? Что за чушь? — Савиных хотя и заглотил наживку, но глядел с подозрением.
— Каким образом, знает только он сам. А произошло это при следующих обстоятельствах. В ночь перед отъездом я зашел к Бортникову в номер гостиницы. Мы переговорили, и он собрался уходить, когда в номере появился Хлыбов. Между собой они находились в неприязненных отношениях, и разговаривать с ним Бортников не захотел. Стоя в дверях, одетый, он сказал Хлыбову, что тот по сути уже покойник. «У тебя, Хлыбов, времени осталось — выкурить последнюю трубку и успеть проститься с женой»,— его дословная фраза. На следующий день, вы знаете, Хлыбова нашли мертвым.
Рассказанный эпизод произвел эффект разорвавшейся бомбы. Даже Крук утратил обычное сонное оцепенение и слегка подался вперед.
— Выходят, Бортников знал, кто убийца?
— Предполагал, вы хотите сказать? Не думаю. Скорее всего он хорошо просчитал обстоятельства и вывел систему координат. Смерть Хлыбова, я полагаю, вписывалась в эту систему с точностью до минут.
В данном случае Алексей блефовал, но разыгрывать парапсихологические пассажи перед подобной аудиторией сейчас было бы неразумно.
— Знал и не предотвратил,— буркнул подполковник, буровя следователя глазами.
— Он предупредил Хлыбова. Имеющий уши да услышит.
— Вы знакомы с его системой? — осведомился Крук, уводя разговор от опасного направления.
— В общих чертах. Я бы назвал это методом исключений.
— Продолжайте.
— Прежде всего Бортников поднял все дела, которые Шуляк вел в течение года. И тщательно проанализировал. Одно из дел о крупных хищениях в совхозе «Северный» он изложил в качестве примера. От пересказа я сейчас воздержусь, отмечу только результат. Совхоз разворован дотла, по сути его больше не существует. Кстати, Шуляк составил два любопытных списка: список обескровленных совхозных объектов, с одной стороны, с другой, список левых объектов, на которых работали шабашники, используя совхозные стройматериалы, технику, а также деньги, вырученные от продажи неучтенной сельхозпродукции. Вот этот второй список с именами так называемых владельцев после смерти Шуляка таинственным образом исчез. Исчезли подобные списки по другом делам, а вместе с ними многие документы, имеющие доказательственное значение. Но, как вы понимаете, Шуляк работал не в одиночку. Одновременно была задействована масса людей, назначались экспертизы, финансовые проверки, живы и здравствуют многочисленные свидетели. Короче, за непродолжительный срок Бортников сумел многое восстановить из утраченного. Картина привела его в шок. Во время нашей последней встречи он выразился коротко:
— У власти воры. Практически у Шуляка не было ни одного шанса выжить.
Напомню, что во время осмотра квартиры Шуляка, когда его впервые обнаружили мертвым, неизвестно откуда на голову следственной группы свалился генерал-майор милиции Свешников. Господин Свешников, как выяснилось, проживает и благоденствует в Москве. Но именно он один из организаторов официального расследования. Его имя, кстати, тоже числится в списке, который удалось восстановить Бортникову.
— Бред! — рявкнул подполковник с плохо скрытой угрозой в голосе.— Бред сивой кобылы, господин начинающий!
— Заговорила вохра лагерная,— пробормотал кто-то у Алексея за спиной.
— Не стоит так волноваться, Василий Васильевич. Вас ни в одном из списков нет. Но ваше понятное чувство долга, привычку военного человека подчиняться распоряжениям сверху, наконец ваше личное мужество используют иногда не лучшим образом.
Алексей выдержал налитый кровью, свирепый взгляд подполковника.
— Мне продолжать?
— Василь Васильич? — Крук вопросительно вскинул бровь, повернувшись к подполковнику. Савиных явно колебался. Однако прекратить разговор лично для него означало признание собственной вины. Он махнул рукой.
— С убийством Шуляка, а затем Хлыбова господа свешниковы поторопились,— продолжал Алексей.— Сейчас все без разбору хозяйственные преступления именуются бизнесом. Крупные хищения социалистической собственности — приватизацией. Но убийство, пусть даже в интересах бизнеса, пока квалифицируется как тяжкое преступление.
— Давайте ближе к делу,— буркнул Шутов.
— Так вот, о методе исключений. Бортников сопоставил восстановленные списки и обнаружил: если одни имена встречаются раз, от силы два, и достаточно случайно, то другие сквозят по всем спискам. Вместе они составляют устойчивую преступную группу с наработанными, криминальными связями.
Убийство Хлыбова, спустя полгода после убийства Шуляка, позволяет еще раз сократить список подозреваемых. Каким образом? Рафик Хамматович верно заметил: опытный в прошлом розыскник, прокурор района безбоязненно подставил преступнику спину. Вероятно, он не подозревал его истинных намерений. Кроме того, преступник был вхож в дом Хлыбова на правах старого знакомого. Если кто-то сомневается, вспомните: часто ли, пусть даже по долгу службы, Хлыбов принимал у себя дома посторонних? Тем более, когда у него наступали запои. Это обстоятельство ввиду служебного положения тщательно скрывалось. Отключался даже телефон. Но преступник хорошо знал, что Анны Хлыбовой дома нет. То есть, опять же был в курсе семейных событий. Я думаю, с помощью Хлыбовой мы сможем установить круг лиц, которые были вхожи в дом, несмотря на замкнутый образ жизни потерпевшего.
Надеюсь, здесь не надо доказывать, что оба убийства совершены одним и тем же лицом. Удар хорошо поставлен. Он был нанесен Хлыбову сквозь спинку плетеного кресла с сокрушительной силой. Рукоять ножа вдавилась в тело вместе с элементами плетения и оставила на коже отчетливый след. В обоих случаях он пришелся в область сердца с точностью до квадратного сантиметра. Среди подозреваемых, мне кажется, следует поискать человека, проходившего службу в ОМОНе, в ВДВ, в войсках специального назначения, в горячих точках. Это еще раз поможет сузить круг.
Алексей замолчал.
— Вы не допускаете, что оба убийства могут быть заказные?
-—Допускаю.
Глава 4
Обед в кафе «Лакомка» оказался на редкость отвратительным. Красно-синий борщ из гнилых овощах, недоваренный, есть было невозможно. Алексей отставил тарелку в сторону. На второе за отсутствием выбора пришлось взять котлету с перловой кашей и подливкой. Перловая каша была сварена на воде, котлета слеплена из перловой каши, сваренной на воде с хлебом, а от подливы пахло больницей и помоями. При таких тошнотворных обедах администрации следовало бы на выходе завести ящик с гигиеническими пакетами для пострадавших. А вообще, по данному факту вполне можно было возбуждать уголовное дело, квалифицируя его как сознательную попытку массового отравления.
— Не любите вы нас, девушки,— невесело пошутил Алексей, возвращаясь к стойке за своим чаем, который, судя по цвету, заваривали неделю назад.
— А за что вас любить? — огрызнулась плотная молодуха в высоком кокошнике, едва скосив на него накрашенные глаза.
— И в самом деле,— согласился он.
Продолжать разговор молодуха не пожелала. Тяжело покачивая бедрами, она двинулась от стойки вглубь кухни и плюхнулась там на стул между плитой и хлеборезкой.
После кафе Алексеи заглянул к себе в канцелярию. Людмила Васильевна хорошела день ото дня, и эту заслугу Алексей скромно приписывал себе, опасаясь, однако, что однажды она похорошеет настолько, что, как порядочный человек он просто обязан будет на ней жениться. И не дай бог, ему жениться где-то на стороне. Он даже боялся представить, с какими глазами явится однажды сюда, в канцелярию, будучи женатым на другой. Наверное, после этого с ним будут разговаривать точь-в-точь, как та молодуха из кафе «Лакомка».
— Для меня что-нибудь есть?
— Две телефонограммы. Справка. Одно заключение,— мягким, неуловимо грациозным жестом она передала ему бумаги, и ее пальцы невзначай коснулись его руки. Но недавний обед, с которым молодой организм яростно сражался за выживание, помешал ему в полной мере оценить всю прелесть момента. Не уловив ответного движения, сдержанным тоном она добавила:
— Вас ждал Сапожников. Просил зайти, когда вернетесь.
— Почему ждал?
— Он будет через два часа.
— Угу.
С этим глупым «угу» Алексей отправился к себе в кабинет, испытывая нечто вроде угрызений совести. Это показалось ему нехорошим симптомом, поскольку его совесть была кристально чиста. В кабинете Алексей сел на стул и, после некоторых раздумий, пришел к выводу: если он хочет иметь чистую совесть и не испытывать угрызений, ему следует купить цветы, бутылку шампанского и вступить с Людмилой Васильевной в ни во что не обязывающие отношения. Пока не обязывающие. А вообще, если у человека есть совесть, то у него часто нет выхода.
Он вздохнул и взялся за поступившие на его имя бумаги.
Районная прокуратура
Валяеву
СПРАВКА
1. По Вашему поручению мной проверены все захоронения трехнедельном давности на городском кладбище. Разрытых могил и расчлененных женских трупов не обнаружено. Проверка проведена с привлечением обслуживающего персонала и администрации.
2. Основной квартиросъемщик Самоуков Г.Г., сдавший квартиру в поднаем Глухову И.А., в настоящее время проживают в п.Нефтеюганск Ханты-Мансийского национального округа. Свой ключ от квартиры оставил сестре Самоуковой А.Г. по адресу... Ключ по моей просьбе Самоукова А.Г. показала, а также сообщила, что ключ не пропадал, и она никому его не передавала.
Участковый инспектор
Суслов
Обе телефонограммы и заключение к делу о вымогательстве отношения не имели. Алексей отложил их в сторону. Затем поставил перед собой пишущую машинку и начал печатать.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии к своему производству.
16 июля 1990 года старший следователь прокуратуры Н-го района, юрист 3-го класса Валяев ознакомился с заявлением гр-ки Запольских В.И. по факту вымогательства крупной суммы денег у дочери Глуховой Т.В. и зятя Глухова И.А. неизвестными лицами с применением угроз. В результате, 16 июля в квартиру Глуховых вымогателями была подброшена отчлененная человеческая голова. Принимая во внимание, что по этому делу в силу ст. 108 УПК требуется производство предварительного следствия, постановил:
1. Возбудить уголовное дело о вымогательстве, а также убийстве по признакам преступления, предусмотренным ст. ст. 148, 102 УК РСФСР.
2. Дело принять к своему производству.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Н-го района.
Стар. следователь, юрист 3-го класса
Валяев
В адрес ЭКО УВД Алексей отпечатал постановления о назначении физико-химической экспертизы для определения микрочастиц вещества, обнаруженных на шее потерпевшей по месту отчленения. На экспертизу направлялись также частицы бумаги, выбитые дыроколом, для определения ее вида и сферы использования и образцы бумаги, на которых в адрес Глуховых были написаны две угрожающие записки.
Затем через УВД области он отправил запрос в городские и районные отделы внутренних дел с требованием сообщить о зарегистрированных женских трупах с признаками насильственной смерти, расчленениях.
Еще около получаса Алексей формулировал вопросы, которые собирался поставить на разрешение судмедэксперту Голдобиной. Он делал это скрупулезно и не раз перемарывал, чтобы избежать мелочных придирок вплоть до пропущенных в спешке знаков препинания, которые Голдобина, вероятно, не снимая резиновых перчаток, проставляла в его бумагах жирным черным фломастером. С известных пор эта крутая дама начала презирать его за глупые разговоры о разгуливающих по ночам мертвецах, еще пуще — за обещанный допрос в присутствии свидетелей, который не состоялся. А не состоялся он потому, разумеется, что предмета для разговора, по мнению Голдобиной, попросту не существовало.
И все же, если его разговоры такие глупые, а фантазии такие невыносимо дурацкие, то это скорее повод для смеха, и только. Чтобы длительное время испытывать к дураку презрение, близкое к ненависти, и не лениться при этом устраивать мелочные придирки нужно иметь более веские основания.
Алексей представил на мгновение, что сделает с его трупом паталогоанатом Голдобина, если когда-нибудь он попадет к ней на стол... Брр!
Алексей передернул плечами и повернул голову. В дверях с сигаретой в руке стоял Вася... Василий Степанович, в своем обычном сером костюме с галстуком и сквозь дым молча за ним наблюдал.
— Чего тебе, Вася? -- помолчав, спросил Алексей проникновенно ласковым голосом. Таким голосом, по его понятиям, обращались к юродивым выходящие из церковных дверей после службы богатые прихожане. Вася, как ни странно, обращение понял.
— Так,— односложно ответил он.— Посмотреть.
— На что смотреть, помилуй?
— На героя,— отвечал Вася. И со значением добавил.— На живого героя.
Алексей рассмеялся.
— Ты знаешь,— признался он,— как раз сейчас я представил себе, что я — труп. И лежу я на столе у Голдобиной, уже вспоротый. От сих до сих... Запустила она в меня обе руки и говорит: «Вот видишь, голубчик? А ты боялся.» Потом показала красной рукой на другой стол и засмеялась. «Зато Васенька у нас ничего не боится. Правда, Вася?» Но ты почему-то ей не ответил.
Вася окутался дымом.
— Почему?
— Не знаю. Наверное, задумался. Надолго.
Алексей щелкнул несколько раз пальцем по кнопкам пишущей машинки и снова повернулся к дверям. Но Васи там уже не было, и очередная порция черного юмора осталась невостребованной. Вместо него в комнату сквозь тающий слоями дым вплывала Людмила Васильевна. Было видно, что юбка на ней сегодня сантиметров на двадцать короче обычного и явно на грани риска. Выглядела она ослепительно. Алексей чуть дольше приличного задержал взгляд на круглых с очаровательными ямочками коленях.
— У вас замечательно красивые ноги! — с наивно-простодушным видом громко восхитился он. И даже покачал головой.— Особенно левая.
— Спасибо! — фыркнула Людмила Васильевна и круто развернулась, как на подиуме.— Вас просит к себе Сапожников.
Она обиженно двинулась к выходу, не забывая однако демонстрировать ноги. Между прочим, для вызовов удобнее пользоваться внутренней связью. Хотя это выглядит не столь эффектно. С этой мыслью он вошел следом в приемную и демонстративно скосил глаза под стол.
— Удивительно красивые ноги.
— Да ну вас!
Сапожников сидел на месте. В одной руке ИО держал перед глазами заполненный бланк, другой машинально помешивал в чашке дымящийся кофе. Едва Алексей открыл дверь. Сапожников поднялся навстречу и предложил стул.
— Хотите кофе?
— Не откажусь.
На взгляд Алексея, Сапожников был вечный зам. На редкость усидчивый, вполне интеллигентный человек и очень большой дипломат, он вез на себе всю бумажную, рутинную работу в прокуратуре, в том числе за Хлыбова. Но тот же Хлыбов однажды в сердцах на него прикрикнул: «Да будьте вы немного сволочью, Семен Саввович! Нельзя же так.» И это было справедливое замечание.
— Есть что-нибудь существенное? — спросил Сапожников, наблюдая, как из кофеварки душистой струйкою сцеживается кофе. Алексей понял, что его спрашивают о сегодняшнем деле, по факту вымогательства.
— Существенного ничего.
Сапожников поставил перед ним кофе. Сел сам.
— Дело серьезное, Алексей Иванович. Все основания думать, что объем работы предстоит большой. В общем, так. Собирайте, какие сможете, материалы, а мы постараемся организовать оперативно-следственную группу. Группу возглавите вы.
— Ну-у, об этом говорить рано, Семен Саввович,— удивленно протянул Алексей.— Ни одной мало-мальски приемлемой версии, никаких фактов. И потом, где вы возьмете людей?
— Люди найдутся. Тот же Соковнин Василий Степанович.
Алексей засмеялся.
— У Василия Степановича на шее десять поруганных девственниц. И три замужних. Два розыскных дела. Одно самоубийство под вопросом. Василии Степанович — конченый человек.
— Предоставьте нам решать...
Алексей вдруг обратил внимание, что Сапожников уже не в первый раз говорит «мы», «нам», вроде от себя, но во множественном числе. Это показалось ему странным. Он с любопытством уставился на Сапожнйкова.
— В чем дело, Семен Саввович?
Сапожников маленькими глотками, не торопясь, допил свои кофе и отставил чашку в сторону на поднос.
— Объем работы чрезвычайно большой,— задумчиво повторил он. — Мы тут посоветовались и решили, Алексей Иванович, в группу Крука вас пока не привлекать. Мера, правда, временная, но на первоначальном этапе распыляться вам не следует. Тем более, что приказ даже и не подписан.
Алексей подумал и легко согласился.
— Это разумно.
— Значит, не возражаете? — Сапожников даже порозовел от удовольствия. Кажется, он ожидал неприятного разговора, объяснений, и это его тяготило.
— Нисколько.
— Вот и хорошо. Кстати, здоровее будете,— улыбнулся он.
Алексей снова согласился.
-- Угу. Живой шакал лучше дохлого льва.
Они вместе посмеялись шутке. Потом Алексей усомнился.
— Хотя сразу, Семен Саввович, меня убивать не стали бы. Обычно это мероприятие проводится в три этапа.
— То есть? — не понял Сапожников.
-- Первый этап, это когда на неугодного человека пытаются воздействовать чисто административными мерами. Скажем, устранить от ведения дела под каким-нибудь благовидным предлогам. Ради его же собственной пользы. Или ради пользы другого дела, параллельного, чтобы человек не распылялся особенно на первоначальном этапе. Если административные меры почему-либо не срабатывают, начинается второй этап обработки. Неугодного человека — покупают. Или подкармливают. Предлагают должность. И только на последнем, третьем этапе, когда все гуманные способы полностью исчерпаны, а человек так ничего не понял, только тогда с полным основанием ему выписьвавт путевку на тот свет. Самый свежий пример, вы знаете, Виталий Шуляк.
Когда Алекеей закончил. Сапожников смотрел мрачнее тучи и молчал. Наконец, тяжело ворочая языком и уже без дипломятии, спросил:
— Значит, я вас обрабатываю. Я правильно понял?
— Нет, Семен Саввович, не вполне. Вы честный и порядочный человек. Очень покладистый. Иначе на эту тему с вами я не стал бы откровенничать. Но вашими руками меня пытаются обрабатывать.
-—Моими руками? И кто они... эти?
— Вероятно, те, с кем вы советовались. Действительно, кто они?
Сапожников хмыкнул:
— В ваших с Бортниковым списках этого человека нет.
— Понятно. Полковник Савиных?
— Да.
— Имя полковника Савиных есть даже в сводном списке, Семен Саввович. Но я не советую информировать его о том, что вы это знаете. Прежде всего для вашей личной безопасности.
— Погодите. Но вы же сами на оперативном совещании...
— Да, солгал. Ну и что?.. Тоже в целях личной безопасности. Тем не менее, вы видите, первоначальная обработка уже началась. Кстати, лично для вас могу пояснить, кто такой генерал-майор милиции Свешников. Этот человек, Семен Саввович, является близким родственником президента так называемого акционерного общества «Российский лес», которое занимается вывозом нашей древесины за границу. Валютная выручка, как вы правильно догадываетесь, оседает в Москве. Этот бизнес доступными ему методами прикрывает именно господин Свешников. Через полковника Савиных в том числе.
Сапожников некоторое время молчал, переваривая неожиданно свалившуюся информацию. Потом настороженно-испуганным голосом спросил:
— Мое имя в списке есть?
— А вы сами как думаете?
— Я думаю, никаких списков нет вообще.
Алексей ухмыльнулся.
— Хотите зарыть голову в песок?
— А вы?..
Это «а вы?» прозвучало совсем некстати, беспомощно, и Алексей вдруг хорошо прочувствовал его состояние. Пятнадцать лет Сапожников тихо-мирно отсиживался за широкой спиной Хлыбова и тянул на себе весь бумажный воз, не вникая, как это ни странно при его должности, в то, что творится вокруг. Эдакий уютный со здоровым румянцем эгоизм. После смерти Хлыбова на короткое время Сапожников возглавил районную прокуратуру и впервые почувствовал себя на пронизывающем до костей сквозняке.
Желая скрыть внезапную растерянность. Сапожников заслонил лицо ладонью. Потом, чтобы хоть что-то сказать, грубо спросил:
— Что вы предлагаете?
— Я? — Алексей удивился вопросу, но тут же понял, что Сапожников открывает и закрывает рот чисто механически, и смысла собственных слов он не понимает.
— Семен Саввович, я хотел бы от первичного, административного этапа обработки моей шкуры перейти сразу ко второму.
— Что?
— Ко второму этапу. Меня это хоть как-то стимулирует. Только пусть черный полковник, с которым вы советуетесь, не перепутает второй этап с третьим.
Сапожников машинально кивнул, и это получилось забавно. Почти договорились.
— Я могу идти?
— Да. Конечно.
Глава 5
Вначале Алексею показалось странным, что Крук так легко сдал его, словно фигуру на шахматной доске ради сомнительного позиционного преимущества. Но, поразмыслив, он решил, что за спиной у Крука и без его ведома кашу варит полковник Савиных. Пятидесятилетняя девственница Семен Саввович Сапожников, как обычно не вникая в обстоятельства, пошел у старого лицедея на поводу. Уже завтра полковник Савиных через того же Сапожникова поставит Крука перед свершившимся фактом. Правда, не очень понятно, почему полковник вдруг так мелко, по-бабьи засуетился? Даже если убийцу удастся в конце концов вычислить, едва ли следствие сумеет предъявить ему мало-мальски обоснованное обвинение.
Еще один темный момент. Для убийцы Шуляк являлся врагом номер один и своими действиями представлял вполне понятную угрозу. Однако «свой человек» Хлыбов спустя время был тоже убит. Почему?.. Разошлись интересы? Или Хлыбов для убийцы никогда своим человеком не был?
На столе звякнул телефон. Какой-то бес внутри будто толкнул Алексея под локоть. Он потянулся за трубкой в полной уверенности, что абонент на том конце провода Хлыбова Анна.
— Здравствуйте, Анна Кирилловна. Я слушаю вас.
Трубка молчала.
— Говорите же,— с улыбкой в голосе повторил он.— Я слушаю.
— Алексей Иванович, вы не могли бы появиться сегодня у меня дома? — услышал он голос Анны.— Я очень, очень прошу вас.
— Разумеется. Но в чем дело?
— Это трудно объяснить в двух словах.
— Вы чего-то боитесь?
— Да! — Она почти вскрикнула.— Боюсь. Я боюсь возвращаться домой.
— Но почему? К вам что, пристают? Преследуют?
— Не знаю. Мне кажется... может быть, это глупо, но там кто-то появляется.
— Это происходит днем?
— Не знаю! С тех пор, после убийства, я была там два раза. Оставалась на ночь.
— Откуда вы звоните?
— Из автомата с набережной.
Алексей взглянул на часы. Было без пятнадцати шесть.
— Анна Кирилловна, давайте встретимся с вами через полчаса. Случайно.
— Случайно? Это как?
— Скажем, в магазине «Фиалка». Вы передадите мне ваши ключи. И постарайтесь сделать это незаметно.
— О-о!
Алексей понял по восклицанию, что своими словами скорее напугал, а не успокоил ее. Он рассмеялся.
— Не расстраивайтесь так, Анна Кирилловна, это всего только мера предосторожности. На всякий случай, вы понимаете?
Она молчала.
— Пока я тоже ничего не знаю. Поэтому приходится действовать с подстраховкой.
— Да,— тихо откликнулась Анна.
— Значит, договорились. Через полчаса в магазине «Фиалка». И, пожалуйста, Анна Кирилловна, пусть наш разговор останется между нами.
— На всякий случай? — Ему показалось, она уже шутит.
— Для чистоты эксперимента.
К магазину «Фиалка» Алексей подошел чуть раньше назначенного времени. Оставшиеся несколько минут он потолкался в гастрономе напротив, изредка оглядывая через оконное стекло улицу. Анна появилась не одна. Рядом с ней по выщербленному тротуару, оживленно болтая, шла какая-то женщина примерно одного с ней возраста. Когда обе скрылись за дверью, Алексеи пересек проезжую часть и вошел следом. Женщины стояли в отделе белья продолжали что-то обсуждать. «Самое время купить себе пасту и шнурки для туфель,— подумал он.— Когда еще удастся сюда заскочить?»
Через минуту за спиной прозвучала совершенно очаровательная, вполне музыкальная фраза:
— Алеша, это вы? Что вы здесь делаете?
— Здравствуйте, Анна Кирилловна. Я выбираю шнурки.
Она рассмеялась.
— Шнурки?
— Да. Мне сказали недавно: если у мужчины такие драные шнурки, как у меня, значит, этот мужчина совершенно не уважает женщин.
— Вы опять на себя наговариваете. И знаете, почему?
— Почему?
— Вы хотите, чтобы вас пожалели.
— Очень хочу.
— Хорошо. В таком случае я помогу вам выбрать шнурки.
— Шнурки я уже выбрал. А нельзя пожалеть меня как-то иначе?
Она взяла его за руку, и Алексей ощутил в ладони связку ключей.
— Я должна прийти домой после вас?
— В половине девятого. И пожалуйста, дождитесь какого-нибудь попутчика.
— Это настолько серьезно?
— Не знаю.
— А вот и Ирина, моя подруга. Знакомьтесь, Алексей Иванович.
Из соседнего отдела со свертком в руке к ним подошла весьма миловидная женщина, одетая разве что не от Кардена. Возможно, на улицах Парижа она выглядела бы элегантно, но здешний убогий антураж любого человека в приличной одежде, кроме телогрейки, превращал в ряженого. Алексей с удовольствием поболтал с дамами, в то же время фиксируя входные двери и стараясь запомнить лица новых посетителей. Наконец, сославшись на неотложные дела, он оставил дам в магазине и отправился на остановку.
В связке, которую передала ему Анна, оказалось семь ключей. Три из них, судя по виду и размерам, были от наружных дверей, остальные от внутренних помещений.
Чтобы не рисоваться лишний раз возле коттеджа, Алексей обошел прокурорскую усадьбу стороной и по сосняку, держась кустов, вышел на зады, к хозяйственным пристройкам. Тяжелая, металлическая дверь с чугунным, литым декором отворилась на удивление легко, как если бы тройные шарниры были запрессованы в подшипники. Алексей ступил внутрь и оказался в длинном переходе с зенитным освещением. Прямо перед ним была еще одна дверь, вероятно, во внутренний дворик, но ключа к ней в связке не оказалось. Влево переход упирался в гараж, как минимум на три-четыре машины, похоже, с подвальным помещением. Рядом — недостроенный бокс с кладями кирпича, теса и аккуратно уложенными кипами гофрированного железа.
Алексей повернул назад, пробуя ключами все попадающиеся двери. Осмотрев, где это оказалось возможным, хозяйственные пристройки, он вошел в дом и запер за собой дверь, ведущую на усадьбу. После убогой казенной квартиры хлыбовский коттедж производил сильное впечатление.
Вдруг, подняв голову, он наткнулся глазами на полустертый крест, начертанный мелом над резной причелиной. Косая перекладинка посередине напомнила ему, что такие же кресты мелом он видел в день приезда у парадного входа. Но до появления хозяйки ломать голову над этим не имело смысла. Алексей прошел на веранду и устроился в углу, в кресле, так, чтобы со стороны его нельзя было разглядеть.
...Когда он взглянул на часы, время приближалось к девяти. Здесь, в лесу, сумерки сгустилось настолько, что окружающие предметы начали терять свои краски и постепенно тускнели. Если до наступления темноты Анна не появится, ему, вероятно, придется ее встречать. Алексей потянулся, разминая затекшие мышцы, и вдруг почувствовал, что под левой лопаткой его что-то царапает. Он повернулся в кресле и — невольно привстал. Плетеная из поливинилхлоридных нитей спинка кресла оказалась прорезана посередине, чуть слева. Несомненно, это было то самое кресло, в котором нашли убитым прокурора Хлыбова. Поэтому оно оказалось в стороне, задвинуто в дальний угол.
Изучая характер повреждений на спинке, Алексей краем глаза заметил мелькнувший между стволов знакомый плащик. Это была Анна. Правда, ее походка показалась ему несколько странной, она дважды споткнулась, видимо, на корнях. Алексей присмотрелся повнимательнее и понял, что женщина явно под шафе!
Она долго возилась с дверным замком и, кажется, нервничала, но Алексей не встал, опасаясь быть замеченным, если за ней, действительно, кто-то следит. Заперев за собой дверь, Анна быстро прошла через веранду, не заметив его в темном углу. Запах ее духов и дорогих сигарет озоном просквозил в воздухе. Он вдруг явственно ощутил, как меняется химический состав его крови. Некоторое время Алексей продолжал оставаться на месте, вглядываясь в сумерки. Но ничего подозрительного снаружи не происходило. Он поднялся и шагнул следом в неосвещенный холл.
— О боже!
Она стояла тут же, за дверью, без сил привалившись к стене, и от неожиданности отшатнулась.
— Как хорошо, что вы пришли,— наконец с облегчением выдохнула она. Только теперь Алексей понял, как тяжело ей возвращаться в огромный пустующий дом, ставший местом страшного преступления. Он подобрал с полу сумочку и взял руку Анны в свою, давая понять, что бояться не нужно. Она качнулась к нему. Всхлипнула.
— Какой кошмарный день. Мне казалось, он никогда не кончится.
— Что-то случилось? Еще?
— Нет, то есть, да! В городе за весь день я не увидела на улицах ни одного интеллигентного, хотя бы просто человеческого лица. Сплошь рожи, какие-то рыла. Порочные, мерзкие, ужасно злые, даже у детей. И все-все угрюмые! Только один, одно лицо, мужчина, мне показался счастливым. Но когда я присмотрелась, то поняла, что он местный дурачок, убогий... Он улыбался каждому и скалил зубы. Это ужасно, ужасно!
Она спрятала мокрое от слез лило у него на груди, но тут же вновь заговорила:
— Нет... вру! Вру, кажется. Десять минут назад, я, уже возвращаясь, увидела рыжую собаку. На канализационном люке. У нее была очень добрая, интеллигентная морда, очень грустная. Я погладила ее, и она лизнула мне руку.— Анна заглянула Алексею в глаза и вдруг спросила:
— Почему вы молчите?
— Потому, что слушаю вас.
— Наверное, мне не следовало так напиваться,— смущенно призналась она.— Но сегодня... это свыше моих сил.
— Не стоит оправдываться, Анна Кирилловна. На вашем месте я сделал бы то же самое.
Она слегка приподнялась и коснулась губами его щеки.
— Как та рыжая собака, да? — И засмеялась.— Алеша, вы, наверное, голодны. Хотите есть?
Алексей сразу вспомнил свой обед в «Лакомке». До сих пор его подташнивало.
— Нет, не думаю.
— Я вам не верю. Мужчины всегда ходят голодные. Я знаю по Хлыбову.
Она провела его в гостиную, где он уже бывал, и хотела включить свет. Но Алексей остановил.
— Вначале, Анна Кирилловна, я спущу гардины. На всякий случай.
Она улыбнулась.
— Распоряжайтесь. Мне необходимо переодеться.
Анна вернулась минут через двадцать, толкая перед собой сервировочный столик с закуской и бутылкой сухого вина. От недавних слез и депрессии не осталось следа, и, судя по играющей на губах улыбке, она готова была в любой момент превратить гостя в испытательный полигон для проверки своей боевой мощи.
— Второе я поставила в духовой шкаф. Но мы можем начинать. Вы готовы?
Алексей поднялся из кресла, намереваясь помочь.
— Нет, нет! Пожалуйста, сидите, Алеша. Я буду за вами ухаживать.
— Анна Кирилловна, пока общение с вами окончательно не вскружило мне голову, я хотел бы прояснить некоторые обстоятельства.
— Что ж, проясните.
— Я понял так, что за два с половиной месяца после убийства Вениамина Гавриловича, вы были здесь всего два раза? Это так?
— Нет. Днем я заходила довольно часто. Здесь у меня вещи и многое, без чего нельзя обойтись. Но на ночь я старалась не оставаться.
-—Почему?
— Потому, что я ужасная трусиха.
— По-моему, вы на себя наговариваете. И знаете, почему?
— Не будьте злопамятны, Алеша. Вам это не идет. И потом, я, действительно, трусиха.
— Но вы же не для того меня пригласили, чтобы я помог скрасить вам одиночество?
— А если да, то что?
Алексей хмыкнул, вдруг представив, что телефонный разговор и все последующие действуя Анны всего лишь дамская шутка — весьма оригинальный способ зазвать недогадливую особь мужского пола в гости. Потом обе подруги, Ирина и Анна, за чашкой кофе будут с удовольствием перемывать его косточки. Хотя едва ли. На Анну это мало похоже.
— А если да, то что? — Она повторила вопрос и даже заглянула в глаза, чтобы он не вздумал уклониться.
— Если да?.. Признаться, меня бы это больше устроило.
— Почему-у? — протянула Анна, явно толкуя его слова как признание.
— Потому что я не люблю рисковать своей жизнью. Особенно, если не знаю, что вокруг меня происходит.
— Значит, вы тоже трусиха?
— Ужасная!
На губах у Анны появилась лукавая улыбка.
— Вот ваш бокал, Алеша. Надеюсь, вино добавит вам храбрости.
— Спасибо,— он подержал бокал в руках, слегка пригубил.— Значит, в светлое время суток вы бывали в доме довольно часто. И кроме того дважды оставались здесь на ночь?
— Да.
— Что именно вас напугало? Или кто?
Анна достала из пачки сигарету, щелкнула зажигалкой.
— После смерти Хлыбова я не появлялась здесь недели полторы-две. Потом привела все в порядок... кажется, был воскресный день. Но остаться не смогла. Просидела до темноты, наревелась, а потом... потом собрала кой-какие вещи и ушла.
— Насчет вещей, кстати. У вас ничего не пропало?
— Нет. Но мне показалось, они что-то искали.
— Они?
— Не знаю,— она пожала плечами.— Кажется, у вас это действие называется осмотр места происшествия, да? Мне показалось, был обыск.
— То есть, в ваших вещах рылись? Но почему вы решили, что это были люди из милиции? А не преступник?
— Преступник тоже. Если помните, в милицию и в прокуратуру позвонила я. До их приезда у меня было время осмотреться,— дрожащим голосом произнесла Анна и опустилась на софу, закрыв лицо руками.— Это была ужасная ночь. Я думала: сойду с ума.
Алексей насторожился.
— Я не ослышался? Вы сказали, ночь?
— Да,— она слабо качнула головой.
— Но вы, как известно, появились дома только утром, не так ли? И обнаружили, что Хлыбов мертв, после этого вы стали звонить нам и в милицию?
— Хлыбова я обнаружила мертвым еще в одиннадцатом часу вечера. Накануне.
— Вы были здесь в одиннадцать вечера? — тупо переспросил он.
Анна кивнула. Алексею сделалось не по себе. Нелепая на первый взгляд версия Ибрагимова, в которою алиби Анны ставилось под сомнение, вдруг подтвердилась.
— Но каким образом?
— В тот вечер мне сделалось плохо, когда мы сидели. Противная, ноющая боль под лопаткой. Словно схватило сердце. И голова буквально раскалывалась на части. Я встала и кое-как вышла на улицу. Потом, помню, остановила проходящий грузовик, очень тяжелый. И назвала адрес. Метров двести он не довез меня, молодой парень с усиками. Ему оказалось не по пути.
— И что Хлыбов? Был мертв?
— Вначале я решила, что он пьян. По поза... его голова лежала в тарелке лицом вниз. Я подошла чуть ближе и — увидела нож.
— После чего вы бросились бежать?
— Да! — Анна встала и нервно прошлась по комнате.
— Почему вы решили вернуться, Анна Кирилловна? Время позднее, и потом вы, кажется, были в ссоре с Хлыбовым?
— Я не решала. Все получилось как-то само собой.
Анна извинилась и вышла из комнаты. Вернулась она через несколько минут с маленьким, цветастым подносом, на котором стояли две тарелки, аккуратно прикрытые фольгой.
— Если второе подгорело, в этом виноваты только вы, Алеша.
Он потянул носом.
— Запах чудный.
— В таком случае приступайте. Пока не съедите все, я не стану отвечать на ваши вопросы.
— Согласен.
Итак, никакого алиби у Анны нет. В этом Ибрагимов оказался абсолютно прав, если не считать некоторых малозначительных деталей. Как только Крук и прочие доберутся до нее, она тотчас все выложит, даже не подозревая, какой опасности себя подвергает.
Любопытно, что они там искали у Хлыбова? С одной стороны, милиция. Вернее, кто-то из оперативных работников. С другой, преступник. А может, они искали одно и то же? Или шмоном занималось одно и то же лицо? Почему бы нет, если учесть, что в ночь убийства заняться шмоном ему помешали?
— Совсем недавно, Анна Кирилловна, вам очень крупно повезло. Боюсь, вы об этом даже не подозреваете.
— Повезло... мне? И я об этом не подозреваю?
— Да.
— Тогда какое же это везение, помилуйте?
— Вы, Анна Кирилловна, чудом остались в живых.
— Ради бога, перестаньте меня пугать! И сейчас закричу, слышите? — вилка из рук Анны выпала на тарелку.
— Кричите. Если от этого станет легче.
— Вы жестокий человек, Алеша. Говорите же, в чем дело?
— И знаете, что вас спасло? То, что вы ужасная трусиха. В ту ночь Хлыбов был убит минут за пять-десять до вашего появления. Когда вы вошли, убийца находился в доме. Возможно, он наблюдал за вами, стоя за дверью, и ждал, что вы войдете.
— О Боже...
— Вот именно. Вы однако вовремя испугались и бросились бежать. Не знаю, почему, но преследовать вас он не решился. Возможно, не был уверен, что сумеет догнать. Таким образом вы спугнули преступника. Но он ошибся в вас еще раз. Он рассчитывал, что вы немедленно броситесь в милицию, поэтому вслед за вами сделал ноги. Хотя до вашего появления на веранде намеревался хорошо все обыскать.
Алексей вдруг увидел, что бутылка перед Анной на три четверти пуста. Вылил оставшееся вино в свой бокал.
— Похоже, вы успели здорово набраться храбрости? — с укоризной сказал он.
Анна отрешенно молчала.
— В ту злополучную ночь, Анна Кирилловна, вам повезло еще раз. Не менее крупно. О происшествия вы заявили только на следующий день и тем самым обеспечили себе хорошее алиби. Очень хорошее алиби.
— Меня подозревают в убийстве Хлыбова? — неожиданно спросила она, и Алексей понял, что для нее это не такая уж и новость.
— Им нужен кто-то, на кого можно повесить преступление.
— Хлыбов как-то предупредил: если с ним что-то случится, у тебя... у меня тоже могут быть крупные неприятности.— Она глубоко затянулась и после некоторого молчания вяло добавила: — Не беспокойтесь, Алеша, я все поняла. Пока я молчу, у меня очень хорошее алиби.
Алексей встал. Состояние Анны ему нравилось все меньше. Большое количество выпитого уже начинало сказываться, и он спешил.
— Анна Кирилловна, давайте вернемся к событиям последних дней. Сегодня вы позвонили мне и сказали, что боитесь возвращаться домой. «Мне кажется,— сказали вы,— но там кто-то появляется.» Кто он, вы его знаете? Или, может, догадываетесь?
— Не знаю. И даже не догадываюсь.
— Этот кто-то, кого вы не знаете, появлялся в ваше отсутствие?
— В присутствие тоже.
— Вот как! В таком случае, Анна Кирилловна, с самого начала. И поподробнее, пожалуйста.
— С начала? — Она слегка откинула голову, сбрасывая упавший на глаза темный локон.— И не знаю, где тут начало... Впрочем, да! После обыска у меня пропали кое-какие безделушки. Они симпатичные, но, право, недорогие.
— После обыска?
— По-моему.
— Что именно?
— Браслет... в виде ящера. Две сережки. И цепочка, тоненькая, с нефритом. Это мой камень. Хлыбов не любил украшения, предпочитал дарить вещи.
— Но вы о пропаже не заявили?
— Да... то есть, нет.
— Хм? Да или нет?
— Нет.
— Ну, хорошо. Продолжайте.
— Алеша, почему вы ведете себя со мной, как... как прокурор в следственном изоляторе? Это неумно, в конце концов. Я не настолько пьяна, чтобы не понимать, о чем вы меня спрашиваете.
— Извините, Анна Кирилловна. Я больше не буду.
— Что не будете?
— Ну, прокурором, наверное?
Анна слегка подвинулась, уступая место рядом с собой.
— В таком случае, садитесь сюда и задавайте мне ваши вопросы шепотом. Еще лучше нежным шепотом, если получится.
Алексей не сразу нашел, что сказать. Даже не понял по интонации, шутка это, или она говорит вполне серьезно.
— Почему вы молчите?
— Я не могу, Анна Кирилловна, сесть рядом с вами.
— Почему?
Он не ответил.
— Почему не можете? — В ее голосе почудились слезы.
— Потому, что возле вас я перестаю что-либо соображать,— наконец, пробормотал он.— Вы это хотели услышать?
-- Ах, вот почему вы грубите.
Анна поднялась с софы и подошла к нему вплотную, глядя в глаза. Он видел, что с ней что-то происходит безотносительно к нему, и не сделал ни малейшего движения навстречу. Она слегка коснулась пальцами его волос, лица, задержала руку на плече.
— Вы, Алеша, обиделись тогда? Я ушла без объяснений.
— Конечно, нет.
— Почему?
— Потому, Анна Кирилловна, что вы приходили не ко мне.
Он почувствовал, как дрогнули ее пальцы. Но Анна не отвела взгляд.
— Если не обиделись, тогда...— Она запнулась, подбирая нужное слово.— Тогда почему вы так старательно храните дистанцию?
Он пожал плечами.
— Не знаю. Наверное, чтобы ее пройти.
Анна закрыла глаза, словно раздумывая над смыслом его слов. Потом слегка качнулась к нему, и он почувствовал у себя на губах ее влажный, полураскрытый рот.
Глава 6
Ночь за окнами была непроницаема для глаза. Ни огонька. Только в шорохе крон гулял, набирая силу, верховой ветер. Глухо скребла о кровлю близко-растущая ветка.
Алексей опустил край гардины и обернулся, услышав в коридоре нетвердые шаги Анны. Хочет он того, или нет, но события сегодня развиваются в точности по Ибрагимову. Злоупотребление алкоголем, раз. Отсутствие алиби, два. Возможно, последует преступная любовь. Уже имеются три трупа. По логике вещей, ему, вероятно, надлежит быть четвертым в этой компании. Тем более, что мадам Голдобина давно приготовила место у себя в прозекторской и, кажется, его поджидает.
— Алеша, чему вы так гадко ухмыляетесь? — Анна стояла в дверях.
— Над собственной глупостью.
— Вам кажется, вы совершаете глупость? — быстро спросила она.
— Да. Сошел с ума и делаю одну глупость за другой.
— Например?
— Ну, во-первых, я до сих пор не понимаю, как Хлыбов умудрялся чувствовать себя несчастным человеком возле такой роскошной женщины, как Анна?
— Не так уж вы и поглупели,— усмехнулась она.— И потом, прекратите мне постоянно льстить. Это утомляет в таких дозах.
— Не могу,-- честно признался он.— Хотя знаю, что делаю еще одну ужасную глупость.
— Хорошо. Видимо, мне придется терпеть. А во-вторых?
— Что, во-вторых?
— Вы сказали, во-первых. Значит...
— А! Ну да. Во-вторых, Анна Кирилловна, у меня дурные предчувствия, а я настолько сделался глуп с вашей очаровательной помощью, что до сих пор не могу прояснить ситуацию.
Анна прошла в гостиную и опустилась на софу.
— Я слушаю, гражданин прокурор. Задавайте ваши вопросы.
Алексей сел рядом и взял узкую ладонь Анны в свою.
— Вы никому не передавали ваши ключи? Кроме меня.
— Нет. Кажется, необходимости не было.
— Значит, все двери в ваше отсутствие обычно закрыты и ключи всегда при вас?
— Да.
— Но кто-то в доме появлялся? И как часто?
— Не знаю. Но недели две назад, три... я обнаружила незапертой дверь в переходе. Там сильно сквозит, если дверь открыта, и я пошла проверить.
— Вас это насторожило?
— Да. В глаза сразу полезли мелочи. Сдвинутый в сторону коврик у порога. Не на месте стопка белья. Бумаги... особенно в кабинете Хлыбова. Хотя, мне показалось, они не хотели оставлять после себя следов.
— В результате, у вас пропали украшения?
-- Украшения пропали раньше, после обыска. И прекратите меня ловить на слове. Я не знаю, что они, или он, искал. При желании, имея ключи, можно было вынести все. Здесь некому помешать.
— И вы, зная это, однажды рискнули остаться на ночь?
— Я устала от гостей, ужасно. Мне захотелось остаться в одиночестве, дома. В своей постели. Но потом... потом, конечно, испугалась и заложила дверь в спальню шваброй. Спустя буквально полчаса... я готовилась лечь, как вдруг увидела в зеркале, что ручка замка медленно поворачивается. Раздался щелчок, и дверь подергали. Потом ее рванули, очень сильно, потому что швабра от рывка съехала и заклинила в ручках. Наутро я с трудом сумела ее вынуть.
— Это было вчера?
— Три дня назад.
— Почему вы не позвонили мне сразу?
— Я была в шоке,— тихо отвечала Анна.— Сразу я не сообразила.
— К тому же, ваш телефон не работает? — предположил Алексей. — Вероятно, недели две?
— Почему вы это знаете?
-- Анна, милая, дело обстоит очень серьезно. Преступник что-то здесь ищет. Скорее всего, это документы. Или крупная сумма денег, поскольку вещи его не интересуют. Ради этого он убил Хлыбова и намеревался обыскать дом. Но своим неожиданным появлением в тот вечер вы ему помешали. Потом ему мешало начавшееся по делу следствие. Несмотря на это, он точно знает, что документы или деньги, я говорю условно, по-прежнему находятся в доме. Правда, он не знает где и спустя время возобновляет поиски. Вы, Анна Кирилловна, вовремя заметили, что в доме кто-то побывал, очень вовремя испугались и заложили дверь шваброй. Это еще раз спасло вам жизнь.
Анна смотрела на него в упор широко раскрытыми глазами, в которых однако читалось недоумение.
— Алеша, вам что, нравится меня пугать?
— Нисколько. Просто по роду службы я в курсе некоторых обстоятельств, о которых вы знать не можете.
— Но почему я? Что ему от меня нужно?
— То же самое, что он хотел получить от Хлыбова. Ради чего проник в ваш дом. Уже не в первый раз.
— Но я ничего не знаю! Слышите? Ничего,— она беспомощно всхлипнула и ткнулась мокрым от слез липом ему в плечо.
— Анна Кирилловна, пока эта штука находится в доме, вам угрожает опасность. Даже если он ничего из вас не вытянет, вы окажетесь опасным свидетелем.— Алексей слегка придержал ее за плечи, успокаивая.— Сейчас вы соберетесь с мыслями, и мы вместе попробуем просчитать ситуацию, хорошо?.. Преступника, видимо, очень интересовали бумаги. Особенно, сказали вы, в кабинете Хлыбова. Это так?
— Да.
— Почему вы решили?
— Я заметила, что ящики стола и бюро задвинуты наспех, неровно. Корешки книг на полках пляшут. У двух папок развязались тесемки. Хотя Хлыбов бумаг дома не терпел и никогда не приносил, особенно служебные.
— В доме есть сейф?
— Н-нет...
— Почему так неуверенно?
— Сейфа точно нет. Алеша... связки ключей, я вам передавала, у вас?
Алексей взял со стола связку.
— И сумочку, пожалуйста.
Анна поискала в сумочке и выложила перед ним еще одну связку ключей.
— Обычно с собой мы их не носим все. Но одна связка хранилась у меня. А эту Хлыбов держал при себе. Здесь, видите, на ключ больше. Я как-то спросила Хлыбова, откуда взялся у него этот ключ, но он отмахнулся. Я подумала вначале, наверное, ключ служебный. А сейчас, мне кажется, Хлыбов с собой на работу его не носил.
Алексей покрутил в руках круглый никелированный ключ с весьма затейливой бородкой. Замок, судя по размерам ключа, невелик. Скорее всего, мебельный.
— Для начала, Анна Кирилловна, неплохо,— пробормотал он.— Даже очень. И давно он появился, этот ключ?
— Когда я обнаружила? Это было в октябре прошлого года. Я вернулась из Ялты и, кажется... Да, именно тогда.
Алексей улыбнулся.
— Вот видите. Если не сейф, то тайничок в ваше отсутствие Хлыбов себе оборудовал. Я думаю, не ради любовной переписки.
— Зачем? -- Анна пожала плечами.— В прокуратуре у Хлыбова был сейф. Огромный, с тремя замками.
— Этим сейфом, Анна Кирилловна, сейчас распоряжаются другие люди. И потом Хлыбов знал, что в прокурорах долго не продержится. Последнее время ему начали подыскивать замену.
— Его боялись?
— На мой взгляд, он сделайся непредсказуем. Извините, Анна Кирилловна, мы отвлеклось от темы. Вспомните, пожалуйста, Хлыбов когда-нибудь пользовался этим ключом в вашем присутствии?.. Какая-то перестановка мебели? Повреждения, царапины? Может, неожиданно для вас появилась обивка на стене? Обычно хозяйки обращают на подобные мелочи внимание.
— Я поняла, о чем вы спрашиваете. Мне надо подумать.
Алексей кивнул и, чтобы не мешать, вышел в прихожую, которая своими размерами скорее походила на холл. Часы показывали около одиннадцати. Приблизительно в это время был убит Хлыбов. Когда Алексей вернулся, Анна сидела в той же позе и задумчиво раскатывала в тонких пальцах сигарету.
— Алеша, я не могу ничего припомнить,— виновато проговорила она.
— Хорошо. Давайте рассуждать иначе. Хлыбов часто что-нибудь мастерил? Скажем, по хозяйству?
— Нет, что вы. Обычно приглашал кого-нибудь со стороны.
— Но тайничок, надо думать, оборудовал сам. Причем незадолго до вашего приезда.
Анна согласилась.
— Когда вы вернулись из Ялты, вас, вероятно, поджидала большая уборка?
-- Как обычно. Особенно, если я возвращалась из поездки. Хлыбов вообще был жуткий неряха.
— Я это заметил. Но нас интересует октябрь. Октябрь прошлого года. Вспомните, не остались ли на полу, на ковре или на мебели следы его мастерства? Скажем, металлические опилки. Стружка, щепа. Может, кирпичная крошка?
— Еще бы! Мне прошлось вытаскивать на улицу тяжеленный ковер. К вечеру я была совершенно без рук.
— Где он лежал?
— Ковер? Наверху. Он и сейчас там.
— Мы можем осмотреть?
— Пожалуйста.
Они поднялись на второй этаж по полукруглой деревянной лестнице с резной балюстрадой. Толстая ковровая дорожка на ступенях совершенно скрадывала шаги. К удивлению Алексея, Анна привела его не в кабинет Хлыбова, а в небольшую, очень симпатичную залу с высоким окном и двумя боковыми дверями в смежные помещения. Бронзовая люстра над головой давала ровный, рассеянный свет.
Как только место поисков удалось локализовать, Алексей без труда обнаружил хлыбовскую заначку. Кусок плинтуса длиной сантиметров шестьдесят был аккуратно выпилен, в конус, и плотно вставал на место. Ножовочный рез Хлыбов не поленился закрасить, хотя краска имела более темный оттенок. Алексей отложил кусок плинтуса в сторону и отогнул ковер, действительно, тяжелый и плотный. Под ковром оказался паркетный набор из готовых модульных плит, и тут пришлось повозиться. Наконец, ему удалось с помощью отвертки вывести модуль из шипов и сдвинуть сторону. Скользнувшая вниз отвертка звякнула о крышку металлического сварного ящика, замурованного в потолочном перекрытии. Похоже, Хлыбов приспособил под тайник строительный брак —провалившееся в этом месте бетонное основание пола.
Алексей открыл первую попавшую под руки папку. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы понять, какого рода бумаги составляли тайный архив Хлнбова. Из текущих дел главным образом изымались самые убойные документы: акты ревизий, липовые платежки, наряды, фиктивные процентовки, показания самих преступников с их чистосердечными признаниями, показания свидетелей и имена, имена, имена, выведенные из-под удара одряхлевшего советского правосудия.
Для Хлыбова, похоже, этот промысел стал весьма прибыльной статьей дохода. Изъятие из уголовного дела хотя бы одного подобного документа по нынешним правилам игры обходилось клиенту в круглую сумму.
В ворохе бумаг неожиданно промелькнула фамилия Тэн Светланы Васильевны. Алексей хмыкнул и вернулся к началу подборки, озаглавленной: «Выпуск нестандартных колбасных изделий на мясокомбинате местного райпо». В переводе на общепонятный язык это означало — хищение в особо крупных размерах. Алексей углубился в содержание бумаг, которые, хотя и по отдельным эпизодам, вместе давали некоторое общее представление. К тому же, кое-где имелись комментарии, сделанные для памяти рукой Хлыбова.
Все началось с контрольных закупок колбасы органами БХСС. Лабораторнне анализы первых же образцов показали, что колбаса содержит повышенное количество влаги и крахмала. В результате расследования работники БХСС вышли на устойчивую группу расхитителей во главе с директором комбината Завадским. Суть махинации состояла в том, что сверх рецептуры в фарш преступники систематически добавляли муку и воду. Таким образом они создавали излишки колбасы и, соответственно, мяса, якобы пошедшего на изготовление. Об излишках мяса сообщалось на скотобойню, на базу заготовителям и товароведу. Здесь появлялись либо бестоварные накладные, либо излишки, созданные на мясокомбинате, оказывались уже как бы в заготконторе. На эти излишки заготовители оформляли подложные квитанции о закупке скота у населения и из кассы заготконторы получали по ним деньги.
Существовало еще несколько аналогичных каналов превращения излишков мяса в деньги: через межрайсбытбазу и через холодильник, минуя магазины коопторга, чтобы не вовлекать в сбыт торгашей и не увеличивать риск. Такое передвижение «излишков» на стадии приемки скота позволяло присваивать крупные денежные суммы.
Таков был механизм хищений в самых общих чертах. Его удалось воссоздать по крупицам со слов экспедиторов, коптильщиц, шприцовщиц и других рабочих цехов, не вовлеченных в группу. Но на этом все застопорилось. На момент передачи дела из органов милиции в прокуратуру ни один эпизод хищения не был конкретизирован привязкой к подложным документам и, следовательно, не доказан. Объяснялось это, во-первых, тем, что махинации совершались на протяжении длительного времени, начиная с 1972 года, поэтому никто конкретных эпизодов с указанием на определенные документы назвать не мог. Во-вторых, в производственном акте на изготовление ежедневной партии колбасы излишки не отмечались, выход колбасы показывался по норме, и за многие месяцы ревизия такого превышения не установила. По сути, единственным реальным доказательством хищении оставались все те же результаты лабораторных исследований.
Дело сдвинулось с мертвой точки, когда следствие привлекло к ревизии независимого специалиста из областного управления по мясомолочной промышленности. Этим специалистом оказалась Тэн Светлана Васильевна. В архиве Хлыбова находилось несколько протоколов допроса Тэн, из которых Алексей понял, каким образом в технологической цепочке — от закупки скота до выхода готовой колбасы — удавалось создавать и утаивать излишки мяса и превращать мясо в наличные деньги, не выходя за вертушку. Вся преступная группа, в основном родственники, начиная от директора Завадского и кончая заготовителем Черных, всего около десяти человек, были выявлены, каждый со своей мерой участия. Вина каждого была полностью доказана.
Однако протоколы допросов эксперта в конечном счете оказались в архиве у Хлыбова. Завадский, Алексей это знал, второй год благополучно пребывал на пенсии. Стало быть, до правосудия дело так и не дошло. Тэн из областного управления перебралась в район и стада мастером колбасного цеха. Правда, с правом назначать прокурора района.
Алексей невольно усмехнулся. Странная рокировка. Наверняка, у этой историй имеется любопытное продолжение.
Изъятые из дела документы тянули лет на восемь-десять каждому из расхитителей. Чтобы не оказаться за решеткой и благополучно выйти на пенсию, Завадский и компания должны были притащить Хлыбову по чемодану деревянных, как минумум. И поставить до конца жизни на довольствие. Похоже, так оно и случилось. Баранью вырезку мясокомбинатовская экспедиция доставляла Хлыбову в парном виде прямо на кухонный стол. Слухи об этом ходили.
Словно в подтверждение догадки, в очередной раз запустив руку, Алексей наткнулся в тайнике на увесистый падет, заклеенный крест-накрест лейкопластырем. Он отодрал ленту и развернул провощенную бумагу прямо на полу. В пакете, завернутые в целлофан, лежали тугие пачки приватизационных чеков — сотни по три в каждой. Отдельно, тоже в пачках, акции различных акционерных объединений и предприятий на весьма крупную сумму. И доллары. Количество зеленых Алексей не взялся определять.
— Анна. Кирилловна, вам снова крупно повезло. Вы сказочно богатая женщина.
Анна с бокалом в руке приблизилась и узким носком туфли тронула пакет. Ее слегка качнуло в сторону, и она оперлась на его плечо.
— Это все принадлежит мне?
— Думаю, да.
— Разве я не должна сдать бумаги и деньги в доход государства?
Он не ответил.
— А что посоветуете вы, Алеша?
— Вы, Анна Кирилловна, законная наследница и вправе распоряжаться на свое усмотрение.
Алексей выудил из тайника очередную папку и с головой погрузился в бумаги. На этот раз речь шла о хищениях денежных средств, совершаемых при заготовке леса. Дело, как он понял, было выделено в самостоятельное Виталием Шуляком за полгода до смерти. Сам Шуляк в это время занимался расследованием хищений в совхозе «Северный».
В обосновательной части постановления красным карандашом размашисто была отчеркнута фамилия — Вартанян. Судя по тому, что кончик карандаша вспорол бумагу, отчеркивал Хлыбов.
Алексей постарался вспомнить, что он слышал о человеке по фамилии Вартанян... Пожалуй, не стишком много. Бригадир шабашников из Закавказья, одновременно числится рабочим в совхозе «Северный». Вошел в сговор с совхозным начальством. Торговал краденой пшеницей и стройматериалами в северных районах области. Фигура, похоже, третьестепенная, хотя фамилия исправно кочует из одного дела в другое.
Он вновь углубился в документы: в служебную переписку, бесконечные наряды на отпуск леса, платежные поручения, кассовые ордера, ведомости о начислении заработной платы, приходные и расходные документы по складу, путевые листы, подложные доверенности, липовые платежки, поддельные подписи, свидетельские показания различных лик. Постепенно перед его глазами начала вырисовываться картина тотального разбоя, который творится в государственных лесах на территории района.
Директора трех местных леспромхозов, пользуясь тем, что совхозы и колхозы, а также приезжие заготовители испытывают большую потребность в деловой древесине, выделяли им для разработки лесные делянки. Но деньги за это взыскивали как за уже готовую продукцию. Председатели колхозов и директора совхозов, в частности, директор совхоза «Северный» Гирев, вместо того, чтобы на выделенных под разработку делянках организовать разработку древесины силами рабочих совхоза, привлекал для этого бригаду шабашников Вартаняна и в течение многих лет заключал с ними договора. Но шабашники из Закавказья разработку делянок фактически не производили. Сам Вартанян являлся скорее «коммерческим посредником». На деле это означало следующее. Вартанян вступал в преступный сговор с должностными липами леспромхозов различных уровней, и те за взятки продавали им готовую продукцию, причем в объемах многократно превышающих потребности самого совхоза. Судя по товарным накладный, «лишний» лес уходил налево и, в частности, в Армению.
Должностные лица леспромхозов, чтобы скрыть факт реализации готовой продукции, заполонили всю отчетность подложными документами на якобы проводившиеся работы, как то: валка леса, трелевка, раскряжевка, вывозка, погрузка и т. п.
Подложные документы чаще всего оформлялись на представителей совхоза «Северный», направленных якобы на заготовку. То есть, опять же на членов бригады Вартаняна. Кроме того, членов бригады принимали на работу в штат леспромхоза и начисляли им и на других подставных лиц заработную плату. Начисленные незаконно деньги за «работы"» которые никогда не производились, изымали по подложным доверенностям или путем подделки подписей в платежных ведомостях...
Алексей задумался. Соцэкономика в лице собственной номенклатуры взрастила на свою шею беспощадного могильщика. Виталий Шуляк вывел следствие на расхитителей и теперь мертв. Совхозное дело, которое вел Шуляк, и дело о разбое в лесу оказались похоронены. С другой стороны, на базе преступной группы леспромхозовских деятелей, плюс сюда шабашники Вартаняна, выросло и процветает акционерное объединение «Российский лес» со своими торгово-посредническими конторами в Москве и за границей. Деятельность объединения прикрывает господин из Москвы, генерал-майор Свешников с подвластными ему силовыми структурами. По сути, акционерное объединение бесконтрольно вывозит даровую государственную древесину за бугор, имеет карманную милицию, которая содержится за государственный счет, то есть за счет рядового налогоплательщика, и по бешеным ценам продает лес все тому же налогоплательщику. Чем не Эльдорадо?
Бортников прав. В подобной ситуации у Шуляка, действительно, не было ни малейшего шанса выжить.
Алексей оторвался от бумаг и посмотрел в сторону Анны. Пакет с «наследством» был водружен посреди стола, две пачки с ценными бумагами свалились и лежали забытые на полу. Сама Анна сидела, подпирая голову руками, и незрячим взглядом смотрела перед собой в пространство. Перед ней стояла новая бутылка вина, уже открытая, и два бокала. Она почувствовала на себе его взгляд и повернула голову. Алексей увидел на щеках следы слез.
— Хлыбова жалко,— тихо произнесла Анна.
Он кивнул. Среди перевернутых папок в глубине тайника что-то изжелта блеснуло. Алексей пошарил рукой на дне и извлек обойму к пистолету Макарова. Потом еще одну, и еще. Пистолета, правда, не обнаружил.
— Анна Кирилловна, у Хлыбова оружие имелось?
— Да. Он привез что-то.
— Привез?
— Хлопковое дело, вы знаете. Хлыбов был там в командировке. — Анна наполнила бокалы.— Алеша, вам не надоело копаться в бумагах? В конце концов, это невежливо.
— На мой взгляд, Анна Кирилловна, этот архив стоил Хлыбову жизни. Возможно, стоил бы должности, останься Хлыбов в живых.
— Почему вы решили?
— Однажды он использовал материалы архива для шантажа. И довел клиента до самоубийства. Поскольку клиентов здесь, причем весьма серьезных, десятка три, то они естественно, насторожились. Кто-то, возможно, испугался по-настоящему и решил принять меры превентивного характера.
— Клиент, которого он довел до самоубийства, мой муж?
Алексей промолчал.
— Наверное, я приношу людям одни...
Она не договорила. Внезапно ее глаза расширились, и Анна шатнулась в угол, непроизвольно вскидывая перед собой руку. Алексей буквально кожей почувствовал легкое движение воздуха у себя за спиной. Мелькнула тень. Он резко отшвырнул назад громоздкое кресло, на котором сидел, и метнулся в сторону, с грохотом опрокидывая подставку возле зеркала. Под руку попал бронзовый старинный шандал. Но когда он вскочил на ноги, держа двумя руками шандал перед собой, то увидел в дверях только спину убегавшего. С силой Алексей швырнул тяжелую бронзу в дверной проем и кинулся следом, но Анна с криком повисла у него на шее.
— Нет! Алеша... у него нож!
Он грубо сбросил ее руки с шеи, однако Анна повисла на нем, с неожиданной силой ухватившись за одежду, и протащилась следом несколько шагов. Время было потеряно.
— Да отпустите же наконец! — рявкнул он, освобождая рукав.— Так-то вы помогаете ловить преступников.
Ни слова не говоря. Анна исчезла в соседней комнате и тотчас появилась назад. В руках у нее был «Макаров». Алексей выхватил у нее из рук пистолет и по весу понял, что магазин пуст. Нашарил в тайнике обойму.
В это время свет мигнул, и дом погрузился в темноту. Алексей тотчас вспомнил, где он видел распределительный щит — в подсобном помещении, возле выхода на зады усадьбы. Значит, преступник в данный момент там, а не поджидает где-то за дверью или за углом.
— Заприте дверь, Анна Кирилловна.
Впотьмах, держась за перила, он в два прыжка махнул с лестницы, рискуя переломать ноги, и через окно веранды выпрыгнул наружу. Бросился в обход дома.
Светло-серая металлическая дверь смутно маячила в темноте и, кажется, была открыта. Но находится ли преступник все еще в доме? Или успел выскользнуть и засел в кустах, выжидая, когда фигура преследующего обозначится не светлом фоне? Это в случае, если кроме ножа у него имеется огнестрельное оружие. Но тогда зачем понадобилось вырубать свет? Может, он остался в доме и решил поиграть в кошки-мышки?.. Вариант возможный, поскольку напасть врасплох не удалось. Тогда почему он не воспользовался пистолетом или обрезом сразу после того, как не успел достать ножом? Вывод один: огнестрельного оружия у преступника с собой нет. Выходя на дело, он полагал, что в доме окажется только женщина. Это, во-первых, а во-вторых, свет он выключил, желая задержать преследующего. Не всякий сунется в темноту, да еще в незнакомом доме, опасаясь угодить под нож.
Алексей нашарил в темноте у ног два увесистых булыжника и швырнул по очереди в близко-растущие кусты. Все было тихо. Он выждал некоторое время и быстро скользнул мимо открытой двери, провоцируя возможное нападение. Припал к земле...
Нападения однако не последовало, и Алексей двинулся вдоль стены, с осторожностью ощупывая пространство перед собой, у ног. Где-то недалеко от входа, он вспомнил, валялось брошенное строителями пустое ведро. Пошарил рукой — нащупал ведро, поднял его, крепко зажав дужку между пальцев, чтобы не звякнула. Вновь повернул к выходу. Стоя за косяком, примерился и с силой швырнул ведро в черный проем подсобки. Расчет был на то, что нервы у преступника, если он затаился, натянуть до предела, и так или иначе он обнаружит свое присутствие — откроет стрельбу или хотя бы отвлечется от входа.
Пустое ведро ударило в противоположную стену и загремело в глубине помещения, подобно гранате. С дребезгом покатилось по полу. Алексей был уже внутри и лежал на полу, вжавшись в угол.
Никакого движения, кроме угасающих вибраций пустого ведра на полу. Он выждал минуты две, напряженно вслушиваясь в тишину. Или у преступника исключительно крепкие нервы, или он давно сбежал. Это называется, ловить в темной комнате черную кошку, которой там нет. Алексей встал.
Внезапно дверь из коридора открылась, и луч света от фонаря мотнулся по стенам. Он едва успел прянуть в тень в сторону и лег ничком за какой-то мебелью. Выкинул перед собой ствол. Луч неторопливо обежал помещение и остановился на распределительном щите с открытой дверцей. Каково же было его удивление, когда в отраженном свете возле щита он увидел Анну. Некоторое время она всматривалась в расположение переключателей, а затем включила именно тот, который был нужен. Из коридора через дверной проем упал на пол квадрат света. Анна закрыла щит и направилась к наружной двери, видимо, желая ее запереть. Луч от фонаря скользнул по полу и словно наткнулся на высокую фигуру, прислонившуюся к косяку.
— Ах! — Она испуганно вскрикнула, и фонарь выпал из ее рук на пол.
— Что-то я не пойму,— проворчал Алексей,— то ли вы безрассудно храбры, то ли наивны по безрассудства?
— Как вы меня напугали, Боже мой! — Анна тяжело оперлась ему на руку.
— Разве? По-моему, если б вы чуть-чуть поторопились, Анна Кирилловна, мы успели бы блокировать преступника с двух сторон,— язвительно заметил он.
— У нас часто выскакивают пробки, и я подумала, что...— Она виновато запнулась.— Алеша, я, наверное, ужасно глупая, да?
— Не стану возражать,— буркнул он, запирая дверь на внутренний засов.
Он вспомнил вдруг, что с вечера тоже запер дверь на засов. Следовательно, попасть в дом снаружи через эту дверь было невозможно. Алексей пересек холл и вышел на веранду. Парадная дверь была по-прежнему закрыта. Он вернулся в соединяющую галерею и снова проверил все двери, Анна молча следовала за ним.
— Алеша, в чем дело?
— Такое впечатление, будто существует еще одна связка ключей. Третья.
— Да-а. Хлыбов хранил ее в хозяйственном шкафу. Наверху.
— Стоит пойти взглянуть. Но в любом случае вам следует сменить в доме замки. Кстати, вы не узнали его?
— На нем, на голове, была натянута лыжная шапочка. До подбородка.
— Мне тоже так показалось.
— И потом, все произошло так быстро, что я...
— Хорошо, а фигура? Манера держаться? Постанов головы? Руки? Между прочим, Анна Кирилловна, это один из ваших знакомых. Хорошо знакомых. Настолько, что он не хуже вашего знаком с расположением комнат, а также где и что у вас лежит. В том числе запасные ключи. Думаю, без маски вы видели его десятки раз.
Анна покачала головой.
— Возможно, завтра при встрече он поцелует вам ручку и скажет, как расчудесно вы выглядите.
— Это ужасно, я понимаю, но я... никого не могу вспомнить.
Они поднялись в гостиную комнату на втором этаже. По пути Алексей подобрал бронзовый шандал, который бросил вслед убегающему преступнику. Мысленно представил траекторию полета и пришел к выводу, что шандал должен был разбить витражное окно, занимающее пролет высотой около трех метров. Больше деваться ему было некуда. Но поскольку этого не произошло, бросок пришелся в цель. После удара таким предметом преступник предпочел унести ноги, а не играть в кошки-мышки.
Ключи, третья связка, лежали на месте, во встроенном шкафу, дверь которого Алексей принял поначалу за отделочную панель. В ответ на вопрошающий взгляд Анны он пожал плечами и налил полный бокал вина. Залпом опрокинул его, желая снять напряжение.
— Вот так, да? Надираетесь в одиночку,— возмутилась Анна.— А я?
— Вы надирались в одиночку весь вечер, Анна Кирилловна, и вас никто не стыдил. Хотя... я готов повторить.
— Это вы виноваты, что я надиралась в одиночку.
— Почему я?
— Воспитанные люди после стольких комплиментов женщину в одиночестве не бросают. Не сидят в стороне, уткнув нос в бумаги.
— В таком случае, когда вы звонили мне в прокуратуру, надо было так и сказать. Мне одиноко и скучно, я ищу собутыльника.
— И вы бы пришли?
— Хотел бы я посмотреть на идиота, который откажется от такой компании,— ухмыльнулся он.
— О-о! Тогда, почему вы все время ворчите?
— Ворчу? Я? На вас?!
— Ага, так вы даже не замечаете, какой брюзгливый тон взяли по отношению ко мне!
— Еще чего? Недавно вам показалось, будто я говорю слишком много комплиментов, и вам приходится терпеть. Спустя полчаса вы доказываете мне, будто я на вас ворчу. Где правда, Анна Кирилловна?
— И то и другое правда! Я...
— Стоп! Эдак мы далеко зайдем.
— Но я...
— Минуту, Анна Кирилловна. Вы хотели иметь собутыльника, считайте, он перед вами. И прекратим эти семейные дрязги.
Она вздохнула и прижала тонкие палью к вискам.
— Господи, я так давно не скандалила. Меня несет...
Алексей наполнил бокалы.
— Давайте выпьем за сказочно богатую женщину Анну Хлыбову. Он поднял валявшееся в стороне кресло и сел. Анна с непринужденной грацией устроилась у него на коленях.
— Алеша, вы прошли, наконец, свою дистанцию? Мне наскучило ждать.
И жест, и слова были настолько неожиданны, что он совершенно смешался. Не дождавшись ответа, она заглянула ему в глаза.
— Выглядит так, будто я вас соблазняю?
Он кивнул.
— В известном смысле, да.
Анна вскочила на ноги, едва не расплескав бокал, который был у нее в руке. Но Алексей удержал ее.
— Вы слишком красивы, Анна Кирилловна, и... словом, нужно много нахальства, чтобы претендовать на вас. Извините, у меня с этим не густо.
Некоторое время Анна обдумывала его слова, потом вновь опустилась к нему на колени. Лукавая улыбка заиграла у нее на губах.
— Кажется, теперь я понимаю, почему мне так редко везло на хороших людей. Они недостаточно нахальны?
— Тем не менее, отдельные экземпляры все же вам попадались, — заметил он. Анна уловила ревнивую нотку в его голосе и отозвалась тихим смехом.
— О, да! Но мне проходится соблазнять их самой,— она поцеловала его в губы и зашептала, дыша в ухо: — Они или ворчат в моем присутствии, глядя в сторону, или говорят комплименты. Признайтесь, Алеша, что вы таким образом защищались?
Он замотал головой.
— Не стану признаваться.
— Почему-у?
— Потому что стыдно...
— Ага!
— Вам стыдно, Анна Кирилловна, припирать меня к стенке. В конце концов, это вы ведете себя как прокурор...
* * *
...Измученная ласками, Анна неподвижно лежала рядом, положив голову ему на грудь. В свете ночника он видел только темную, тяжелую россыпь волос, скрывающих лицо и плечи. Он с наслаждением погрузил в них руку. Волосы Анны слегка потрескивали и искрились в темноте голубоватыми сполохами, струясь меж пальцев — явный признак страстной натуры.
— Алеша, почему ты не спишь? — низким, глухим голосом спросила она.
— Сплю. Уже сплю.
— Я слышу, ты хлопаешь глазами.
Он рассмеялся:
— Мне спать нельзя.
— Нельзя? Почему?
— В данный момент я на дежурстве.
Анна мгновенно села, откинула назад волосы:
— Ты думаешь, он может вернуться? Снова?
— Не исключено. Или выкинет какой-нибудь номер.
— Это как?
— Например, подожжет усадьбу. Чтобы уничтожить архив.
Она подумала и не согласилась:
— Он мог сделать это еще при Хлыбове. Не убивая.
— Здравая мысль. Значит, архив ему нужен.
— Зачем?
— Ну, там собран неплохой компромат. А это дает известную власть, рычаги.
— В таком случае, он обязательно придет,— мрачно подытожила Анна.
— Полагаю, он уже здесь. Возможно, не один.
В испуге она вскочила с постели и спохватилась, только поймав на себе его откровенно восхищенный взгляд.
— Швабра в углу, за бюро,— подсказал он, коварно оттягивая момент ее возвращения в постель. И выдал себя с ушами. Тем не менее, Анна прочно заклинила дверь шваброй и неторопливо забралась под одеяло.
— Ты нарочно разыгрываешь эти сцены, да? Чтобы подглядывать?
Он ухмыльнулся.
— По-моему, ты сама воспользовалась случаем, чтобы устроить это шарман-шоу. Разве нет?
Анна вспыхнула от негодования, но он, смеясь, закрыл ей рот поцелуем и не отпускал до тех пор, пока она не утихла.
— Кстати, у меня вопрос. И задаю его уже в третий раз, но никак не получу ответа. То ли у меня слишком тихий голос, то ли у вас, уважаемая Анна Кирилловна, плохой слух.
— Ужасный! Обычно я пропускав глупости мимо ушей.
— Не думаю. За вашим молчанием, Анна Кирилловна, мне чудится какая-то тайна.
— Что за вопрос? — наконец с осторожностью спросила она.
— Меня интересует, каким образом Хлыбов умудрялся чувствовать себя несчастным человеком возле такой роскошной женщины как вы? Вы тоже, если не ошибаюсь, не были с ним счастливы?
Она долго не отвечала.
— В чем дело? Я обидел тебя?
Она покачала головой. Всхлипнула:
— Жалко... Хлыбова.
— Ты любила его?
— Да. Это было как наваждение. Я и сейчас, кажется, продолжаю любить.
Он промолчал.
— Ты мне не веришь?
— Не знаю. Факты, во всяком случае, говорят о другом.
— Известные тебе факты... известные всему городу факты, Алеша, не говорят ни о чем.
Он понял вдруг, что допустил бестактность, бесцеремонно вторгшись в отношения Анны с Хлыбовым.
— Извини, ради Бога. И давай прекратим этот разговор. Но Анна неожиданно воспротивилась.
— Я отвечу на вопрос. Хлыбову теперь все равно, а я... едва ли я смогу рассказать такое кому-то еще.— Она помолчала, собираясь с мыслями.— Ты знаешь уже, Хлыбов сделал все, чтобы уничтожить Павла. Павел — мой первый муж. И он заметался. Начал искать старые связи, покровителей, но однажды, возвращаясь из области, попал в автомобильную катастрофу. Здесь все говорят о самоубийстве, нет, это была случайность. Такие люди добровольно с жизнью не расстаются.
Что касается Хлыбова, я была без ума от него. Мы оба вели себя как безумцы. Помнишь строчку: «...и утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я!» Что-то в этом роде происходило с нами. Накануне похорон Хлыбов не выдержал и явился прямо на квартиру, ко гробу. Минуты две он молча стоял над телом, сунув руки в карманы. Потом обошел гроб и взял меня за руку выше локтя.
— Мне нужно сказать вам пару слов, Анна Кирилловна.
Я была оглушена всем случившимся. Значение слов, последовательность тех событий, лица я восстановила в памяти лишь позднее. Он проводил меня в задние комнаты, дверь у меня за спиной запер на ключ. Когда я поняла, чего ради он это сделал, было поздно. Хлыбов набросился и начал сдирать с меня одежду. Вначале я пыталась оттолкнуть его, но неожиданно с каким-то тайным, сатанинским восторгом ощутила, что мне это даже нравится. Порочная, ужасная любовь у гроба! Летишь вниз, замирая от страха, словно тебя сбросили в пропасть. Наверное, это и есть грехопадение, да?
Алексей не перебивал.
— Меня можно осуждать. Но мы оба, повторяю, были поражены безумием. Ничего подобного прежде я не испытывала. И все же было стыдно, гадко, когда я увидела вдруг, что мы занимаемся этим на нашей с Павлом супружеской постели, которая еще не остыла от тела покойного. Мне даже показалось, Хлыбов проделал все это намеренно, глумясь над покойным. Не одна страсть была тому причиной.
Потом за дверью раздались чьи-то шаги. Они приближались, и я, помню, сильно напугалась, что кто-нибудь войдет. Я знала, дверь заперта. Но меня охватил такой ужас... шаги отзывались в ушах грохотом железнодорожного состава. Казалось, дрожат сами стены. Под дверью они стихли. Минутой спустя кто-то сильно ударил в дверь. Хлыбову это не понравилось, и он с бранью рванулся к порогу.
— Пошел прочь, дурак!
Ответа не было, хотя под дверью кто-то стоял. Потом шаги удалились. Подавленные, мы вскоре вернулись в залу. Она была пуста. Все ушли. Только гроб с телом, один, стоял в углу, и удушливо пахло сиренью. Я боялась смотреть туда, но Хлыбов остановился и больно стиснул мне пальцы. Тело покойного лежало в гробу лицом вниз. Его правая рука свисала на пол, и свеча была смята в кулаке. От ужаса я оцепенела и не могла сдвинуться с места, но Хлыбов, кажется, пересилил себя. С кривой усмешкой он направился к гробу и похлопал покойного по спине.
— Не переживай так, Павлуша! — его дословная фраза. Я выбежала вон.
Спустя время мы поженились,— продолжала Анна после некоторой паузы.— Но Хлыбов... Хлыбова поразило мужское бессилие. Он много лечился, ездил даже за границу. Мы продолжали любить друг друга — все напрасно. Когда у нас в доме появились вы, Алеша, Хлыбов, действительно, выглядел несчастным возле обожаемой им Анны. Мне он сказал, что я свободна от каких-либо обязательств перед ним. Могу поступать, как угодно. Разумеется, он тяжело переживал случившееся. Потом у него начались эти ужасные запои.
Она снова расплакалась, и Алексей не сразу сумел ее успокоить. Наконец, сквозь слезы Анна попыталась улыбнуться.
— Право, я не хотела устраивать истерику, Алеша. Это обычная реакция на сочувствие, со мной бывает.
Он поцеловал ее в мокрое от слез лицо, и Анна с доверчивостью прижалась к нему, затихла.
— Кресты над дверью, они имеют отношение к вашей истории? — спросил он.
— Какие кресты? — вяло переспросила Анна.— Ах, да! Кресты? Разумеется. Когда мы вселялись сюда в прошлом году, отец Амвросий, он по соседству строит, благословил нас, а дом, жилище, как это называется? Освятил? Да, освятил. И над дверями проставил везде эти кресты. «Чтобы нежить зря не шаталася»,— сказал он. Они вначале дружили с Хлыбовым, а потом, как сказал Хлыбов, «расплевались».
— Что так?
— Трудно сказать. Мне отец Амвросий нравится, занятный дядечка. А Хлыбов однажды взъелся. У этого попа, говорит, за душой ничего святого. Он своим богом груши околачивает. Прихожан, то есть. Хлыбов, вообще, лобил красно выражаться.
Алексей улыбнулся, вспомнив свои разговоры с Хлыбовым.
Глава 7
Наутро Алексей побросал папки в одолженную у Анны сумку и распрощался с хозяйкой.
— Алексей Иванович,— Анна глазами указала на сумку,— это не слишком опасно? Для вас лично?
— Пожалуй,— согласился он.— Но я не собираюсь хранить бумаги у себя. К тому же, большая часть устарела. Морально.
Оба чувствовали, что в отношениях между ними осталась некая недосказанность. Но так было даже лучше.
Алексей прошел через веранду и, открыв дверь, внезапно столкнулся нос к носу с бородатым плотным человеком, одетым в рабочий комбинезон. Тот слегка отпрянул, придерживая дверь, но маленькие, острые глазки ощупывали фигуру молодого человека с явным любопытством.
— Фамилия? — грубо осведомился Алексей, мысленно примеряя на незнакомца лыжную шапочку с прорезями для глаз.
По росту вчерашний налетчик и бородатый незнакомец в комбинезоне, пожалуй, соответствовало друг другу, но комплекцией сильно различались. Тот, вчерашний, был резок, подвижен и, несомненно, худощав. Этот напротив того казался грузен, плечист, но плечист как-то по-бабьи, округло. Голые до локтя руки, пухлые, белые, без волосяного покрова тоже выглядели совершенно по-бабьи. Разумеется, преступников могло быть двое, даже трое. Если они продолжают охотиться за архивом, то почему бы им не сделать еще одну попытку? Момент, кажется, удачный.
Алексей бросил взгляд через дверь, по сторонам и шагнул через порог, заставив незнакомка попятиться.
— Ваша фамилия, гражданин? — настойчиво повторил он и подержал возле бороды, довольно редкой, свое удостоверение.
— Это отец Амвросий,— сказала Анна, появляясь следом на веранде.— Знакомьтесь, Алексей Иванович.
— Правду говоришь, ласточка, чистую правду. Отец Амвросий я, это в сане. А в миру фамилия моя Перепехин, Георгием нареченный. По батюшке Васильевич, позвольте отрекомендоваться. А вы, стало быть, Алексей Иванович, из прокуратуры?
— Из прокуратуры,— подтвердил Алексей.
Каким-то непостижимым образом отец Амвросий просочился мимо него на веранду и уже пожимал руки Анны своими большими, пухлыми ладонями.
— А вы чудненько выглядите, ласточка. Прелесть, как чудненько. Глядя на вас, впору Богу молится. Экую красотищу сотворил. Вот не хотите ли, я вас попадьей сделаю? А? Ха-ха-ха!
— Да ведь у вас есть попадья, Георгий Васильевич,— тоже смеясь, отвечала Анна.
— А мы в шею ее, в шею! Пущай в миру попрыгает, блоха некована.
— Как можно в шею? Ведь это грех! Что вы такое говорите?
— Эва, грех! Грехи мы сами отпускаем. Другим,— похохатывал отец Амвросий, обнимая Анну за плечи.— Неуж себе не отпустить, ласточка, а? Дак у нас в без того на десять годов вперед отпущено. Греши не хочу!
Голос у отца Амвросия был звучный, полетистый и разом заполнил веранду густыми, округлыми звуками. Стоя на веранде, Алексей услышал доносящиеся из-за деревьев, видимо, с соседней дачи, голоса, глухой рев тяжелого дизеля, лязг.
— Мы ведь зачем обеспокоить вас решили? — продолжал отец Амвросий, обращаясь теперь уже к обоим.— Ваш благоверный, ласточка, царствие ему небесное, когда жив был, изрядний запасец сделал. Железо, шифер, стекло, кирпич опять же. С большим избытком. Сам сказывал. И от щедрот своих лишнее собирался на нашу бедность пожертвовать. За умеренную плату, разумеется. Не по курсу. Ну, правду сказать, мы тогда с покойничком дружбу крепко водили. За рюмочкой вечерами сиживали, все было. Тогда и пообещал. А потом, когда кошка промеж нас пробежала, он помнить забыл про обещанное. Так уж вы, ласточка, ежели насчет распродаж чего надумаете, про нас, Христа ради, тоже не забывайте. А мы в наших молитвах по три раза на дню вас поминать будем.
Анна охотно обещала разобраться с хлыбовскими неликвидами в ближайшее время, как только ее оставят в покое, и со слезами пожаловалась попу на ночной налет и преследования. Алексей искоса наблюдал за реакцией отца Амвросия на рассказ. Ему показалось, что женщинам, должно быть, нравится ходить к нему на исповеди и плакаться.
— Алексей Иванович! — спохватилась вдруг Анна.— Я, наверное, разглашаю материалы следствия, да? Я такая болтушка!
Алексей покачал головой.
— Георгий Васильевич,— обратился он к священнику.— По какой причине вы так круто разошлись с Хлыбовым? Что-то серьезное?
— Именно разошлись, молодой человек! Это вы точнехонько употребили,— оживленно подхватил отец Амвросий.— А вот серьезная причина или нет, все зависит от точки зрения на предмет.
Анна неожиданно рассмеялась, но тотчас сделала виноватое лицо.
— Извините. Я приготовлю кофе.
— Вот-вот! Точкой зрения на предмет мы и достали Хлыбова, покойничка, царствие ему небесное. А вот забавница наша, Аннушка,— он с огорчением покивал ей вслед,— считает, что на точке зрения у нас пунктик навязчивый образовался, оттого смеется.
Алексей ничего не понимал.
— Что за предмет, Георгий Васильевич? — нетерпеливо спросил он.
— Основополагающий! — пухлый указательный перст батюшки вознесся высоко над его головой.— Душа у него не на месте сделалась, у покойничка. Почву из-под ног выбило, он и заметался, аки лист на ветру. Как сядем бывало, все о добре и зле пытался толковать, стержень себе нащупывал. Слушали, слушали мы, как он, болезный, в понятиях путается, сам себе противоречит, да и говорим: «Нету, уважаемый Вениамин Гаврилович, никакого добра. И зла в природе тоже нету. Вот так-то. Не пре-ду-смот-рено! Природой-матушкой не предусмотрено.»
Он, душа неприкаянна, так глаза на нас и повыпучил. Мол, чем докажешь, анафема? — Отец Амвросий хохотнул с подмигом и взял доверительно Алексея под руку.— Ну-с, а мы ему для наглядности, чтобы ярче било, анекдотец старый, с бороденкой, примера ради. Про двух девок. Да вы, молодой человек, и сами слышали. Вот две девки собрались однажды по ягоды. А одна, поробчее, говорит другой: «А может, не ходить, а? Того гляди, изнасилуют. Вон народ какой нынче пошел, одни паразиты.» А подружку, глядя на нее, смех разбирает. «Дура,— говорит,— ты дура. Тебя-де когда насиловать станут, ты только расслабься хорошенько и постарайся получить удовольствие.»
Вот мы тогда спрашиваем у покойничка, у Хлыбова: где тут есть добро, а где так называемое или предполагаемое зло? Нету тут ни того, ни другого, и быть не может. Зато есть две точки зрения на известные обстоятельства у двух озабоченных дурех. На факт изнасилования, выражаясь языком вашей родной прокуратуры. Голубчик, говорим, Вениамин Гаврилович, если вы в данных интимных обстоятельствах разбираючись, станете опять понятиями добра и зла оперировать, то враз и запутаете все дело. Потому как не предусмотрено, повторяю, природой-матушкой. Есть одно понятие — точка зрения, продиктованная личным, групповым или общественным интересом. Отсюда и пляши, как от печки, тогда все тебе будет ясненько.
Глядим мы, вроде задумался покойничек. Мозгует сидит. Потом скривило его, как от клюквы, и говорит: «Да ты марксист, батюшка, а не священник!» Обозвал, словом, вместо того, чтобы резоны представить.
Ладно, думаем, бранное слово на вороту не виснет. Мы тебя, голубчик, с другого боку сейчас объедем. Вот ты, Вениамин Гаврилович, все про добро мне толкуешь. А что такое добро, по-твоему? Если ты мне добро делаешь, то в надежде, что и я к тебе тоже с добром приду. На худой конец рассчитываешь, что тебе твое добро свыше зачтется? Дак ведь сие эгоизм, голубчик, чистой воды! Ты — мне, я тебе получается? Бартер! И стоит за твоим добром не что иное, как расчет, основанный на личном интересе. Ибо, в третий раз повторяю, матушкой-природой никакое добро не предусмотрено. Хитродумцы всякие навыдумывали, желая скрыть от других свой шкурный интерес. Дымовая завеса! Ну, а ежели интерес не свой, а чужой, да еще поперек своего? Тогда у них это зло называется. У хитродумцев. И вся арифметика.
Милосердие, любовь, сочувствие, сострадание... Что там еще? Тоже суть понятия вторичные, производные. Как добро или зло. Стало быть, тоже ничего нам не объясняют, а только запутывают. Да вы поразмыслите, говорю, сами, Вениамин Гаврилович, голубчик, что такое, к примеру, есть сострадание? Сопереживание чужому страданию, не так ли? Но... перенесенное на себя. А каково бы я-то себя чувствовал, если бы не его, а меня угораздило, такого доброго, хорошего? Бр-р! Дай пожалею бедолагу, авось и пронесет беду, цел останусь.
Ну? Где тут оно, ваше так называемое сострадание, голубчик, с милосердием? Тут эгоизм один, да еще с задней опасливой и лицемерной мыслишкой: «если хорош покажусь, то, авось, пронесет». Разве нет?
Правду сказать, молодой человек Алексей Иванович, не всякая сострадательная душа понимает это опасливое, трусливое лицемерие. Большей частью люди неразвитые упиваются собой, сострадаючи другому. Красуются перед Господом, вот он я, какой хорошенькой! А, стало быть, грешат, голубчик. Грешат! Дорогу в ад себе топчут!
— А бескорыстие? — быстро спросил Алексей.— Тоже из этого порядка? Что и сострадание? Или как-то иначе?
— Вот-вот! — весело подхватил отед Амвросий, подмигивая.— Покойничек Хлыбов тоже про бескорыстие осведомился единожды. Да ядовито так! Дескать, где он тут, эгоизм с интересом, коли бескорыстие? Поди растолкуй ему. А что толковать, когда это самое бескорыстие, по сути, является синонимом преступления. Или скажем так: скрывает под собой преступление. Наворовал человек, награбил или там наторговал, что по нынешним воровским временам одно и то же, а кусок проглотить весь не в силах. Велик кусок, не по брюху. Он с ним туда, сюда. Главное, люди знают, что вор, по глазам догадываются. Вот тогда он начинает бескорыстие проявлять, благодетельствовать. Толику на больных детишек пожертвует. Или меценатом вдруг объявится. На храм отпишет от краденого. Да не просто так, а по телевидению, в печати свое бескорыстие всенародно отрекомендует. Поэтому, голубчик вы наш, Вениамин Гаврилович, говорим мы, нет ничего отвратительнее из всех ваших добродетельных понятий вот этого публичного бескорыстия. И потом, что есть бескорыстие вообще? Ведь это жест, не более того. Чтобы опять же покрасоваться, если не перед людьми, то перед Господом себя выставить: какой я хорошенькой. Лицемерие одно, бескорыстие. Это ежели в общих чертах рассуждать о самом понятии. Но, не дай бог, конкретного человека взять, кто с бескорыстием носится, такая клоака откроется...
Мы, молодой человек, каждодневно по роду занятий имеем удовольствие лицезреть, каким образом прихожане возносят молитвы Богу в местном храме. «Дай мне, Господи... дай. Дай! Дай!! Дай!!!» Со скрежетом зубовным, без смирения. Без благодарности за дарованное. Требуют, едва не кулаком стучат. Подобное молебствование точнее назвать отправлением религиозных потребностей граждан, как в официальных документах значится. По нужде в церковь людишки ходят. Кто по-большому, кто по-маленькому, кто по тому и другому. Дорогу в ад торят, сами того не ведая.
Отец Амвросий замолчал, не выпуская однако руку собеседника из своей, и снизу вверх засматривал ему в глаза. Кажется, ждал очередного вопроса с азартом записного полемиста. Наконец, вопрос последовал:
— Если бескорыстие, по-вашему, на самом деле лицемерие, или даже преступление, я правильно понял? Не говоря уже о сострадании, о милосердии, тогда выходит, что человек изначально сидит по уши в дерьме? Безвылазно?
— Эва, заладили с Вениамин Гаврилычем-то! Слово в слово,— рассмеялся священник, искренне дивясь совпадению. Потом уставил пухлый палец Алексею в грудь.— Отчего же безвылазно? Вовсе нет. Вы не воруйте шире пуза-то, господа хорошие, тогда и бескорыстие проявлять не понадобится. Ведь это вы прежде, чем крохи на бедность пожертвовать, тысячекрат у детишек отняли и в болезнь вогнали. Поэтому от Господа всем нам заповедано: «Не укради!» А не "яви бескорыстие", ибо оно есть преступное лицемерие.
Алексей вдруг почувствовал, что отупел от этого напористого глубокомыслия, и украдкой зевнул. Вошла Анна с подносом в руках и, судя по улыбке, заигравшей на губах, с одного взгляда оценила его состояние.
— Алексей Иванович, не обращайте внимания. Отец Амвросий — это тип зануды, очень опасный. Хлыбов после таких разговоров всегда жаловался, что у него скулы сводит судорогой от зевоты.
— Отшучивался покойничек, царствие ему небесное. Но мы-то, ласточка, всегда знали, что вы его мнений на наш счет никогда не разделяли.
Алексей пожал плечами, спросил:
— Я все же не понял, Георгий Васильевич, из вашего доклада, почему вы с Хлыбовым разошлись?
— Вот по этому самому и разошлись, молодой человек. По причине уязвленного самолюбия. Вы, небось, на экране наблюдали, как боксеры на ринге меж собой хлещутся? Один другому как ни ударит, все по мордам да по мордам. А противник его один воздух кулаками впустую месит. Так и у нас. Не терпел покойничек возле себя никакого инакомыслия. Вот ежели бы мы в рот ему глядели, поддакивали бы на его глупые разглагольствования, вот тогда, глядишь, и по сю пору в друзьях ходили.
— Значит, вы по мордам его? Я правильно понял?
— По мозгам, оно точнее будет, крепко прикладывался. Отрицать не стану. Дак ведь на том церковь стоит, чтобы в веру заблудшую овцу обращать. Кого мытьем, кого катаньем. Кого просто так — за компанию.
— И что? Не захотел Хлыбов в веру обращаться?
— А куда ему, душе неприкаянной, деваться было? — Отец Амвросий широко и удивленно развел руками.— Догматы советские давно все похерены, идолы пали. До денег тоже не великий охотник был. Правду сказать, такие души тяжко к вере идут, обиняками, с большим сомнением. Однако идут. И Хлыбов, покойничек, туда шел. Вот ласточка наша не дадут соврать, если бы захотела,— весело заключил он, принимая из рук хозяйки чашку с кофе.
— Пожалуй, да,— не сразу подтвердила Анна.— У нас... у него была возможность кое в чем убедиться. Самому. Я вам рассказывала, если помните.
— Да. Это весомый аргумент,— согласился Алексеи.
— К сожалению, не единственный,— сухо произнесла Анна, почувствовав в его голосе усмешку.
— Извините, Анна Кирилловна, я по другому поводу. Не помню от Хлыбова в адрес церкви ни одного ласкового слова. Скорее наоборот.
— Что правда, то правда! — вновь встрял отец Амвросий.— Ну дак, одно дело церковь вдоль и поперек лаять, другое совсем на Господа нашего хулу клепать.
— Именно так, Георгий Васильевич. На Господа, нашего. И на Святое писание. Кстати, Святое писание Хлыбов назвал самой лживой и человеконенавистнической книжонкой, какую ему доводилось держать в руках. «Если,— сказал он мне,— Господь наш сотворил человека по образу и подобию своему, то подобие божье — вон оно, в коридоре под конвоем дожидается. Насильник и педераст, растлитель малолетних, вымогатель, вор, редкий подонок Семен Фалалеев, по кличке Елдак. Это, что ли, подобие божие? Если нет, тогда одно из двух: либо место Господа нашего за решеткой, как насильника и педераста, либо Святое писание лжет напропалую, и человека по образу и подобию своему сотворил Сатана. Для чего сотворил? Чтобы гармонию божественную, миропорядок в дерьмо превратить.» Вот если, говорит, переписать Святую книгу, исходя из того, что человека сотворил Сатана, а Господь с тех пор творение Сатаны изничтожить пытается, свести под корень, вот тогда все становится на свои места.
— Сатана творение божье в искушение вверг. Ибо сам к созиданию не способен!
Священник с подозрительностью оглядел Алексея.
— Что-то мы за Хлыбовым таких рассуждений вроде не слыхивали прежде. Хотя манера та самая, признаться...— Он с сомнением покрутил головой.
— Это понятно. Вы разошлись, и давно, кажется?
— Разошлись, верно. А вы от себя, молодой человек, ничего часом не добавили? К рассуждениям?
— Совсем немного разве. Слова кое-где переставил.— Алексей повернулся к Анне: — Анна Кирилловна, вы, кажется, упомянули, что случай убедиться у Хлыбова был не единственный. Вы не могли бы рассказать подробнее?
— Да, конечно. Правда, свидетелем я не была,— Анна заколебалась.— Может, отец Амвросий вам лучше расскажет?
— Нет, нет! Рассказывайте, ласточка. Мы с вами одинаково знаем.
Анна кивнула.
— Хлыбов пил, вы знаете. Часто один,— медленно начала она. — Но пил как-то угрюмо, с раздражением. Потом я стала замечать, что нередко он прислушивается к звукам извне. Ему чудились шаги, иногда удары в стену. Однажды ему показалось, кто-то стоит под дверью и бормочет.
— Вы тоже слышали?
— Не знаю... Нет. Некоторое время Хлыбов вслушивался, даже привстал. Потом в ярости запустил в дверь кофейником и разбил вдребезги. Вышел сам. Долгое время Хлыбова не было. А когда он наконец вернулся, лицо было перекошено уродливой гримасой. Так бывает, когда у человека порез. Руки дрожали. Я спросила, с кем он так задержался?
— Один мерзавец,— и Хлыбов грязно выругался.
Я продолжала настаивать, несколько раз повторила вопрос. Наконец он ответил:
— Не знаю. У него темное лицо.
— Павел?
— Он черный! — рявкнул Хлыбов. Больше расспрашивать я не решилась, но подумала, что у него, безусловно, белая горячка, и он бредит наяву. Некоторое время мы... отец Амвросий тоже, так и считали.
Однажды я оставила их вдвоем в гостиной и поднялась наверх. Прошло, наверное, около получаса, когда сквозь сон я услышала выстрелы. Их было шесть или семь. Хлыбов, когда я спускалась вниз, стоял в холле, глядя в одну точку, явно не в себе. Сильно пахло порохом. Сзади него, в дверях, я увидела отца Амвросия. Вы, кажется, были растеряны?
— Напуган, ласточка, до смерти! Чего уж там... Все разговоры говорили, тихо-мирно. Вдруг вскочил, глаза бешеные, да — в дверь! Пистолет из кармана на ходу рвет. Потом за дверью давай палить. В кого, батюшка, спрашиваю, палишь? Здесь, отвечает, на этом самом месте стоял, каналья. Возле стены. Оглядели мы потом стенку, когда в себя пришли. Вокруг поискали — ни одной отметины. Куда пули делись? А гильзы стреляные тут, под ногами валяются. Все собственноручно собрал. И усмехается. Я, говорит, с такого расстояния мухе глаз вышибу... Вот такая история, молодой человек. Хотите верьте, хотите нет,— отец Амвросий широко развел руками.
— Похоже, с запахом серы история-то?
— Истинно так! — подтвердил священник, не уловив обычной в таких случаях иронии.— С того самого раза мы тоже уверовали, что не от запоев это, как поначалу думали. Наяву он приходил.
— Кто он? — с осторожностью спросил Алексей, боясь, что священник оставит эту скользкую тему.
— Да ведь и мы со слов знаем,— уклонился тот.— За что купили, за то и продаем.
— Отец Амвросий,— с досадой проговорил Алексей.— По-моему, это вопрос именно вашей компетенции. По роду занятий, как священник, вы обязаны были составить какое-то мнение. Поверьте, я спрашиваю не из досужего любопытства.
— Мнение? Отчего ж не сказать,— усмехнулся священник, пожимая округлыми, полными плечами.— Только проку от наших рассуждений вам много не будет.
— И все же. Кто он?
— Нежить.
— ???
— Мертвец это был. Души в нем нету, а потому ликом темен. Стерт лик.
Алексей почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки.
— Ну, допустим. А где душа?
— Мытарят ее, бедную. Там... Не допускают до Господа. И телу мертву покою в земле нет. Бродит оно.
— Значит, Хлыбов стрелял в мертвеца?
— Убить хотел,— усмехнулся священник. Алексей представил мертвое тело в темном углу, нашпигованное свинцом.
— Вы, Георгий Васильевич, как это все себе объясняете?
— Никак! Своим скудним умишком мы и пытать не стали. Однако в церковных анналах полюбопытствовали, признаться. По летописным сводам полистать пришлось, изрядно. Так вот... в Радзивиловской летописи от 1082 года наткнулись мы на упоминание о древнем городе Полоцке. Вернее сказать, о нашествии навий на Полоцк и нападении на тамошних жителей.
Священник заметил в глазах у собеседника вопрос и поспешил уточнить:
— Навии... сие и есть мертвецы. В летописи, что вовсе удивительно, даже гравюра оказалась приложена. Правда, до крайности примитивная, но тем ценнее, ибо ближе к источнику. Безликий мертвец раздирает надвое несчастного на пороге его дома. В самом тексте безымянный летописец сообщает, что смута была на Руси великая, и вся во граде Полоцке, стар и млад, в окаянстве погрязли и опаскудели до потери образа человечего. Тогда чаша терпения господня иссякла, отворотил он лик от малых сих, и хлынули на Полоцк навии злы, и зачали грызти и терзати, на части рвати всякого, не разбирая полу и возрасту...
Летописные разыскания отца Амвросия для Анны были тоже в новинку. Бросив на нее взгляд, Алексей увидел широко раскрытые глаза, полные страха, и подумал, что в ближайшие дни этому дому суждено пустовать. По своей воле хозяйка навряд ли сюда вернется.
Отец Амвросий тоже заметил состояние Анны и взялся ее утешать. По его словам выходило, что нынешние мертвецы смирны, безвинного человека нипочем не тронут, а он сам — сущий дурень, такого страху зазря нагнал.
По этому поводу на столе появилась бутылка вина, и Алексей, сославшись на дела, поспешил откланяться.
Глава 8
Алексей рассортировал архив Хлыбова на две части. Необходимые документы сунул в свой кейс, остальное запер в сейфе. Затем сел на телефон.
Первый звонок — председателю местного райпо. Официальным тоном законника-буквоеда он справился, какие меры приняты на мясокомбинате по представлению прокурора за номером таким-то от такого-то?.. Никакого представления по мясокомбинату в природе не существовало, и, если бы председатель вздумал уточнить, то Алексею пришлось бы выкручиваться. Но, как он и рассчитивал, выкручиваться начал сам председатель райпо. Он уверил старшего следователя, что на мясокомбинате произведена комплексная проверка и по ее итогам две недели назад состоялось общее собрание коллектива. На всех виновных наложены взыскания, произведены денежные начеты. Причины, позволяющие расхищать продукцию мясокомбината, устраняются. Алексей ухмыльнулся. Обычный словоблок, почти идиома. От прокуратуры он выразил удовлетворение проделанной работой, кроме того высказал предположение, что после приватизации мясокомбината подобные кражи станут бессмыслицей.
— Мы на это рассчитываем,— после некоторой паузы последовал осторожный ответ.
— Приватизация пойдет как обычно? Через акционирование?
— Думаю, да.
— Кто согласился быть учредителем? — продолжал блефовать Алексей.
— Вам список организаций? — голос председателя звучал все более сдержанно.
— Да, для сведения. Ваши данные пройдут у нас в комплексе мер, принятых вами для предотвращения в дальнейшем подобных краж,— успокоил Алексей.
— Одну минуту. Я продиктую. Но это все предварительные наброски. Сами знаете, закона о приватизации еще нет.
«Тем не менее, приватизация продолжается»,— мысленно досказал за него Алексеи. Под диктовку он составил список из нескольких организации-учредителей и напротив каждой организации, выписал из справочника фамилию ее руководителя.
Следующий звонком в администрацию района он запросил список членов недавно назначенной комиссии по приватизации. Затем оба списка положил на стол перед собой. Полюбовался и выложил рядом третий. Из кейса. Теперь картина была полной. Учредители, они же члены комиссии по приватизации, они же — организаторы хищений...
В дверь постучали.
— Открыто. Входите.
В кабинет вошел участковый инспектор Суслов. Поздоровался.
— Садись, Анатолий Степанович. Новости есть?
— Соседка Глуховых по лестничной площадке утверждает, что жена и дочь вернулись из поездки в Крым раньше запланированного. Накануне отъезда она разговаривала с Глуховой. По ее словам, первоначально они хотели провести отпуск в Массандре целиком.
— А провели?
— С учетом дороги около трех дней. Можно уточнить.
— Выглядит так, будто сбежали?
— Похоже на то.
— Сама Глухова чем объясняет свой отъезд?
— В городе их нет. Скрываются. Глухов тоже сегодня в ночь отсутствовал. Домой вернулся под утро.
— Понятно. Значит, показаний Глуховой у нас нет.
Алексей снял трубку, намереваясь позвонить в СПТУ, но в дверь просунулась крупная физиономия Дьяконова.
— Так мы едем или нет, господа хорошие? — недовольным тоном осведомился он.
— Мы, Вадим Абрамович, ждем вас. Чтобы ехать,— уточнил Алексей, подымаясь из-за стола.
Судмедэксперт Голдобина встретила их в больничном коридоре, насквозь провонявшем хлоркой, и предложила надеть белые, до дыр застиранные халаты. Убедившись, что халаты надеты, двинулась впереди.
— Ваше экспертное заключение, извольте получить.
На ходу, не оглядываясь, Голдобина подала через плечо несколько страниц машинописи.
— Гнилостные изменения в тканях, состояние головного мозга, состояние сосудов позволяют судить, что ваша подопечная скончалась около двух недель назад. Более точный срок можно определить, имея труп. Что касается причины смерти, ничего нового вам не сообщу. Ищите труп.
Голдобина рубила фразы резко, акцентированно, словно вбивала в череп гвозди. По крайней мере именно так ее манеру излагать Алексей ощущал на себе. Интересно, подумал он, была ли эта мадам когда-нибудь замужем? А если была, то кто, любопытно знать, ее муж? Он представил себя на мгновение в роли мужа Голдобиной. В одной с ней супружеской постели! И содрогнулся.
— Голова,— продолжала судмедэксперт, раскуривая на ходу сигарету,— отделена посмертно острорежущим предметом. Режущая кромка длиной около пятнадцати сантиметров, с зазубринами. Линия отчленения проходит между первым и вторым шейным позвонком. Возраст потерпевшей, учитывая состояние зубов, кожных покровов, других признаков, от шестнадцати до двадцати-двадцати одного года. Остальные подробности найдете в экспертном заключении.
Сильным движением Голдобина открыла обитую листовой сталью дверь с табличкой «Посторонним ход воспрещен».
— Прошу проходить.
Из-за густого трупного запаха Алексею пришлось сделать над собой усилие, чтобы ступить через порог. Голдобина заметила это.
— Откройте фрамуги, черт бы вас...— промычал сквозь зубы Дьяконов.
Голдобина передернула плечом и хрипло прокаркала какой-то белой фигуре, копошащейся среди мертвых тел.
— Эрнестик, я попрошу вас открыть на время форточки. У нас сегодня дамы.
Из разных углов послышался смех. Худощавый Эрнестик в длинном, явно на вырост халате бросил в таз нечто вроде садового секатора. Недовольно буркнул:
— Я открою. Но мух. Дина Александровна, ловить будете сами.
Голдобина повернулась к гостям.
— Пройдите сюда.
Вслед за ней они протиснулись в небольшую боковушку, служащую лабораторией, с несколькими стеллажами и вертушками, уставленными сплошь множеством разноцветных пробирок, колб, бутылей с химреактивами и оборудованием. В лаборатории трупов но было, за исключением одного, женского, с наброшенным на лицо дерюжным мешком. Одежда на трупе была высоко забрана, между ног, забитая до половины, блестела пустая бутылка из-под водки. Голдобина невозмутимо поправила на трупе одежду. Окуталась густым облаком дыма.
Алексей поискал глазами по сторонам:
— Ну и где наша подопечная?
Голдобина молча приблизилась к подоконнику и сняла накрахмаленную салфетку с какого-то бесформенного предмета. Скомкала салфетку в руке.
— Ваша подопечная.
С эмалированного подноса на сотрудников взирала вставными глазами голова Чераневой Тани. Участковый инспектор и следователь с минуту подавленно разглядывали этот шедевр ритуального искусства.
Работа по туалету обезображенной преступником головы, действительно, была проделана профессионально. Глубокие разрезы на лице, на веках аккуратно зашиты и замазаны тональной крем-пудрой. На голове красовался роскошный рыжий шиньон. Брови и накладные ресницы подклеены именно те, какие были у живой. Правая бровь слегка приподнята, что придавало выражению лица чуть удивленный и наивный вид. Даже цвет глаз был подобран светло-коричневый, Алексей хорошо это запомнил.
Смерть выдавила на губах покойной ту самую загадочную полуулыбку-полугримасу, какую он замечал на лицах большинства здешних покойников.
— Превосходная работа,— глухим голосом отметил он.— Даже цвет глаз угадали.
— Мы не гадали,— отрезала Голдобина.— У потерпевшей сохранился в глазнице обрывок радужки. Залип. По нему были подобраны протезы.
— Ни разу не слышал, что в городу практикует протезист,— буркнул Дьяконов, распаковывая свою фотоаппаратуру.
— Протезиста нет. Это мои личные связи. Кстати, обязана вас уведомить. фиксирующих растворов и морозильных емкостей, как видите, мы не имеем. Поэтому хранить вашу подопечную, пока отыщется труп, не намерены. Постарайтесь иметь это в виду.
Голдобина вышла.
— Анатолий Степанович, доставь сюда Черанева-папашу. Будем проводить опознание.
Итак, последняя соучастница дикого преступления в Волковке мертва. Алексей вновь обернулся к окну. Живая Черанева, циничная, зачуханная давалка из подворотни с размалеванной физиономией, сильно проигрывала этому мертвому лицу. Смерть стерла с него убогую суетность, и теперь с эмалированного подноса взирало величавое лицо красивой женщины. Похоже, только расставшись с жизнью, она сумела обрести себя.
Голос участкового инспектора вывел его из задумчивости.
— Черанев в коридоре. Ждет,— сухо доложил он. Алексей кивнул.
— Веди родителя.
Лицо Черанева-папаши показалось знакомым. Лисья, испитая физиономия с обильными складками кожи, словно отставшими от лицевых костей. Вел он себя с неприятной угодливостью и походил на собаку, которую много били.
— Где вы работаете?
— От Союзпечати... продавец я. Продавцом, значит,— бегая глазами по сторонам, отвечал тот.
— Это в киоске, что ли? На вокзале? — вспомнил наконец Алексей, где он мог видеть это лицо.
Черанев охотно закивал и начал было намекать на какие-то особые отношения с покойным Хлыбовым, на поручения и вдруг смолк. Его глаза, похожие на две стертые пуговицы, испуганно остановились, наткнувшись на стеклянный взгляд дочери. Спустя минуту Черанев суетливо зашарил по карманам в поисках папирос. Но закурить забыл.
— Узнаете?
— А?..
И неожиданно, невпопад хихикнул. Алексей понял, что смешок нервный, но сдержать себя не мог.
— Смешно, правда?
— Ну! — угодливо поддакнул тот, явно не сознавая, кто и о чем его спрашивает.
— Допрыгалась, дурочка,— наконец выдавил он.— Я вроде как не отец ей теперь, по закону-то. Лишили меня. Ей двенадцать лет было, ну... когда запил. А вон как, еще хуже вышло.
Алексей предложил Чераневу подписать протокол опознания и сам вывел его в коридор. 3адав несколько вопросов, он выяснил, что никаких отношений в последнее время отец с дочерью не поддерживал. Куда Черанева могла уйти две недели назад, с кем, он ничего не знает. Сам Черанев живет примаком у одной женщины, она вдовая, из-за нее, собственно, он перестал встречаться с дочерью.
Из прежних дел Алексей знал, что мать Чераневой скончалась от рака легких после десяти лет работы в аккумуляторном цехе металлургического комбината. Сам Черанев, как оказалось, не знал даже этого.
В райотделе милиции Алексей затребовал данные на гражданку Чераневу Т.Ф. с дактокартой обеих рук и фотографиями. Вернувшись в прокуратуру, он подготовил запрос в адрес ИЦ УВД о розыске трупа. И задумался.
Обезображенное до неузнаваемости лицо наводило на мысль, что преступник из числа старых знакомых Чераневой. Или опасается, что его могли видеть в обществе потерпевшей накануне смерти, поэтому позаботился обрубить ниточку. Если все так, то свидетели где-то существуют. С другой стороны, со дня смерти потерпевшей прошло две недели, а труп до сих пор не обнаружен. И вдруг «всплывает» голова. Сомнительно, чтобы преступник хранил ее эти две недели у себя. Можно предположить, что, задумав новое преступление, он решил использовать голову убитой для устрашений очередной жертвы. Для этого убийца вернулся на место преступления, затем отрезал у трупа «острорежущим предметом» голову и, приколотив гвоздем записку, подкинул голову в квартиру... Если все так, труп Чераневой пока цел и в настоящее время находится на месте преступления. Или там, куда убийце удалось его переместить. Возможно, он расправился с жертвой в другой местности, с иным административным подчинением. Пожалуй, после сцены в ресторане, перепуганная, Черанева могла уехать из города сама, куда угодно.
Алексей отправил подготовленный запрос и набрал номер телефона СПТУ номер 13.
— Иван Андреевич?
— Я.
— Добрый день. Валяев из прокуратуры. Мне необходимо побеседовать с вашей женой. И дочерью.
— Исключено,— отрубил хриплый голос.— В городе их нет. Причину вы знаете.
— Догадываюсь.
— Вот так. Если невтерпеж, беседуйте со мной. Я знаю столько же.
Алексей подумал и спросил в лоб:
— Ваши жена и дочь провели в Крыму три дня. Хотя, мы знаем, они рассчитывали провести там отпуск. Что произошло?
— Насчет отпуска, чушь. Дура-баба вам надвое сказала. А уехали раньше срока, это правда. Сейчас вся уголовная сволочь, которая два года назад на Колыме мерзлоту долбила, на курортах болтается. Татуировку на пляжах нежат. Поэтому порядочные люди едут отдыхать на Колыму... Минуточку... Тебе чего?
Было слышно, как Глухов прикрыл мембрану ладонью. Потом, ничего не объясняя, бросил трубку на рычаги. Алексей подождал с минуту, слушая короткие гудки, и вновь набрал номер. Как он предполагал, телефон на том конце провода взяла Зинаида. Он представился, напомнил свой прошлый визит, сказал пару удачных комплиментов и наконец услышал в трубке нежно расслабленное мурлыканье.
— Зиночка, э-э... ласточка, я только что разговаривал с Иваном Андреевичем. Вы его случайно не съели? Куда он запропастился?
Зиночка фыркнула и сказала, что такую бяку она нипочем есть не станет. А к Ивану Андреевичу пришел... ворвался Охорзин Кирилл Кириллович. Такой смешной, перепуганный какой-то. Они теперь к гаражам поскакали. Я в окно их вижу. Глухов впереди, а Охорзин... ой! Упал! Упал, бедненький...
Алексей наконец поблагодарил Зинаиду и пообещал перезвонить позднее.
* * *
Возле гаража, оглянувшись, Глухов увидел, что Охорзин отряхивает от грязи штанину и прячет в карман пиджака выкатившуюся бутылку. Зло покатал желваками.
— Комедию ломаешь? — процедил он, когда Охорзин, прихрамывая, подковылял к дверям гаража.
— Какую комедию? Ты о чем это? — растерянно замигал тот по-стариковски блеклыми, голубыми глазками.
— Если выпить захотел, так и скажи. А ты... по больному, как сука!
Наконец до Охорзина дошло.
— Стой! Стой, дурак! Куда? Ты взгляни вначале, не поленись. Ну?!
Глухов неуверенно остановился.
— Иди давай. Сучить меня потом будешь, щенок!
Он с лязгом отбросил сварную дверь и вслед за Глуховым шагнул в каменное нутро гаража. Щелкнул выключателем. Грузовик стоял на месте, как оставил его сам Глухов после ночной поездки.
— Я, понимаешь, кой-какую мебелишку соседу обещал перевезти. Полез в кузов, а там эта... нога!
Глухов уже стоял на скате, держась руками за борт. Среди пустых ведер и мешков, которые валялись тут неизвестно зачем, увидел желтеющую ступню, явно женскую. Одним рывком он поднялся в кузов и отбросил в сторону пыльную мешковину.
Нога была отрезана по коленному суставу. Кое-где на ногтях еще держались остатки педикюра. К икроножной мышце булавкой была пришпилена записка.
ДАЛЕКО НЕ УБЕЖИШ НА ОЧЕРЕДИ ТВОЙ ДОЧ ВКЛЮЧИЛИ СЧЕТЧИК
Глава 9
В конце рабочего дня Алексей забрал в местном отделении связи две посылки, которые перед отъездом отправил себе сам. Дома, вскрывая один из ящиков, он обнаружил, что из вложенных вещей исчезли две шерстяные фуфайки и несколько пачек индийского чая. Вместо них для веса ящик на треть был забит кипами пожелтевших бланков какого-то госснабовского ведомства. К счастью, вторая посылка со справочниками по криминалистике и юридической литературой оказалась нетронута.
Красть, собственно говоря, у него было нечего. Все движимое и недвижимое свободно помещалось в большой дорожный баул. Однако за последний месяц это была третья по счету кража его личного имущества.
В восьмом часу вечера Алексей спустился вниз. По пути забросил пустые ящики в бак для мусора. Какая-то старуха, не дожидаясь, пока он скроется с глаз, выудила оба ящика из помойки и, грузно переваливаясь, поволокла добычу в соседний подъезд.
Было еще светло, когда Алексей выбрался на одну из окраинных улочек. Опасаясь забрести не туда, остановил случайного прохожего.
— Улица Либкнехта, это где? Дом 85.
Плотный, лет пятидесяти дядька с минуту разглядывал его с головы до пят. Алексей заподозрил даже, что впопыхах надел пыльник наизнанку. Повторял вопрос. Красное, с прожилками лицо вдруг разъехалось в широкой ухмылке.
— Пошел ты на х... Козел!
И дядька повернул прочь. Алексей с трудом подавил в себе вспышку ярости. Физически ощущая, как сгорают в этом огне миллионы нервных клеток. Затем, успокоясь, утешил себя тем, что поступил по-христиански.
Нужный адрес Алексей отыскал сам. Это была почти окраина города. Маленький, покосившийся домишко с одним оконцем на фасаде едва выглядывал из-за стоящего подле громадного «Кировца». Когда Алексей подошел ближе, то увидел, что все четыре ската у трактора-гиганта проколоты. Выбиты стекла в кабине, железное нутро тоже разворочено и растащено. Судя по облупленной краске и ржавым пятнам на корпусе, он простоял тут не один год и начал врастать в землю.
Под окошком, заклеенным синей изолентой, на табуретке сидела бабушка. Как и табуретка, бабушка была невероятно ветхая и даже не пошевелилась, когда Алексей остановился рядом. Он поздоровался и опустился перед старухой на корточки, чтобы она могла видеть его лицо. Но старуха глядела сквозь него пустим, стылым взглядом.
— Бабуля? Скажите, Таня Черанева здесь проживает?
Он смотрел, как сознание медленно возвращаются в ее пустые глаза. Потом дрогнули пальцы на коленях, уродливые, покрытые пигментными пятнами. Как будто своим вопросом он возвращал старуху с того света. Наконец, она его увидела.
— Кричи шибче, милок. Глухая я,— услышал он слабый, шамкающий голос.
Алексей прокричал свой вопрос ей на ухо, и старуха закивала.
— Здеся, здеся она. Ушла куды-то.
— Куда?!
Но на большее старухиных сил не хватило. Сознание вновь покинуло ее, взгляд опустел и подернулся ледком. Алексей оставил старуху и вошел в избу. Внутри оказалось довольно опрятно. Стены без обоев, но бревна выскоблены и промыты дочиста. Частые, свежекрашенные половицы. В Таниной комнате вдоль стены стояла узкая кушетка, в изголовье на тумбочке — увядающий, осенний букет. Чем-то неуловимым эта комнатка напоминала комнату Иры Калетиной. Такая же стопка модных журналов и несколько забытых на кушетке кассет.
В шкафу среди упавших блузок, тряпья он нашел спрятанный однокассетник. Однокассетник оказался японский, правда, китайского производства. И то, что он был спрятан, единственная здесь ценная вещь, давало повод думать о намеренном отъезде или же бегстве хозяйки из дома.
С полчаса Алексей гонял магнитофонные записи в слабой надежде на какое-нибудь звуковое послание, но ничего, кроме современного музыкального хлама, на кассетах не оказалось. Он заглянул в буфет, в хлебницу — всюду было пусто.
Рейд по соседям тоже ничего не дал. Хотя двое супругов уверенно доказывали ему, будто видели Чераневу то ли вчера, то ли позавчера возле дома. Алексей закончил тем, что попросил одну из соседок, чье лицо показалось ему приветливым, приглядеть за старухой до завтра в накормить ее.
Уходя, он еще раз оглянулся на покосившуюся избушку. Картина показалась ему примечательной. Разграбленный, ржавый трактор (наверняка, болтается на балансе у какой-нибудь организации) и дряхлая старуха под окном возле догнивающей избы. Крыша избушки едва достигает коньком до кабины гиганта социндустрии.
— И осталась старуха у разбитого трактора,— невесело усмехнулся он, глядя на этот скорбный памятник эпохе развитого социализма.
Некоторое время Алексей шагал, погруженный в раздумья. Было непонятно, за кем он гонится по этому порочному (или выморочному?) кругу. Может, в самом деле, как во граде Полоцке, мертвые хватают живых, рвут их на части? Хотя... как правило, когда преступника находят, то оказываются, что это вполне конкретный злодей.
Алексей свернул в боковую улочку и остановился. Место показалось знакомим. Он стоял напротив дома Калетиной. Под знакомым, качающимся фонарем. Лампа над головой горела, но свет не достигал полотна дороги, теряясь на полпути.
Алексей поколебался и толкнул калитку. Мелькнула мысль, что ему трудно будет объяснить полубезумной хозяйке этого дома цель своего визита. Впрочем, она не любопытна. В этот момент в просвете между зарослями черемухи он увидел удаляющуюся женскую фигуру. Она была в темном платке и платье, шла торопливо с опущенной низко головой. Что-то почудилось в ее облике знакомое. Вернее, в том чувстве, которое она вызывала — чувство замкнувшегося в себе несчастья. Это была Калетина. Алексей вышел следом на улицу, оставив калитку открытой.
— Здравствуйте. Вы помните меня?
Она вздрогнула, слегка даже отшатнулась, но продолжала идти, по-прежнему не подымая глаз.
— Мне хотелось бы поговорить с вами,— продолжал Алексей с мягкой настойчивостью.— Вы, я вижу, уходите?
— Ухожу,— прошелестело в ответ.
— Может, мне проводить вас? Или я мог бы подождать?
— Да,— услышал он после паузы.— Подождите.
Она ушла, так и не взглянув на него, скрылась в каком-то переулке, между дворами. Алексей повернул назад к дому, не слишком уверенный, что сумел договориться.
На противоположной стороне улицы перед кучей песка он увидел тщедушного мужичонку с недельной щетиной на лице. Тот стоял, опершись на лопату, и сверлил его глазами из-под надвинутой на глаза кепки. На нем была заляпанная старой краской спецодежда и галоши на босу ногу. Когда Алексей поравнялся, мужичонка вопросительно буркнул:
— Из органов?
— Допустим.
— В позапрошлый месяц, во вторник приезжал, ну? К этой... На «УАЗе», кажись.
Алексей промолчал, выжидая не без любопытства, что последует дальше. Мужичонка поскреб щетину и неожиданно грязно выругался.
— Под замок ее, стерву, мать-размать... Ну? Дело говорю.
— За что под замок? — усомнился Алексей.
— Степана Гирева знаешь? В СМУ на автокране вкалывает, три года как с химии...
Мужичонка зашелся опять длинно и грязно матом по одному ему известному поводу. Потом в его пространном и путаном рассказе появились какие-то кроли, две пары. Выяснилось в конце концов, что это кролики, которые были куплены то ли у Степана Гирева, то ли у кого-то из Степановых родственников, и сколько его, суку, пришлось поить водярой. Потом вновь мужичонка начал перебирать чью-то родню, матерился и сплевывал под ноги, тыкал большим пальцем за плечо и рубил ребром ладони воздух.
Алексей понял, что из затянувшейся тирады без посторонней помощи этому пошехонцу не выбраться. «Типичная клиника,— заключил он, с любопытством наблюдая оратора.— Нечто вроде разжижения мозгов в запущенной стадии сифлиса.»
— Ну, и при чем тут Калетина?
Мужичонка вдруг с подозрением, исподлобья уставился на Алексея, как на недоумка. Тот в очередной раз остро почувствовал себя совершенным иностранцем, Миклухо-Маклаем.
— Ты че, бля, думаешь? Ушла? Квартал вокруг обежит, и домой!
Он оглянулся по сторонам и с видом заговорщика поманил Алексея к себе. Алексей подставил ухо.
— Дома! Дома, говорю, сидит, ну? Торкнись поди в ворота, падло буду!
Алексей недоверчиво хмыкнул. Но мужичонка, шаркая галошами и озираясь, уже семенил к своему палисаду. Однако не ушел, а встал поодаль, зорко наблюдая за дальнейшими действиями «органов».
Как и в прошлый раз дверь легко подалась. Похоже, ее тут никогда не запирали. Алексей поднял глаза и застыл от неожиданности. Перед ним в дверном проеме плавало бледное лицо с вопрошающе устремленными перед собой глазами. Темнота внутри съедала очертания фигуры, и оттого лицо казалось картонной маской, подвешенной под притолокою на невидимой нити.
— Извините, я не заметил, когда вы прошли.
Бледная маска едва заметно шевельнулась.
— Я думаю, нам следует поговорить. Если позволите? — Он сделал шаг вперед и остановился, выжидая.
— Проходите.
В доме царил полумрак с запахом гнили и сырости. Алексей осторожно двинулся следом, едва угадывая впереди легкое движение воздуха. Хозяйка остановилась посреди комнаты лицом к гостю. Оглядевшись, Алексей узнал комнату покойной дочери. Портрет Иры в траурной раме, выполненный халтурщиком из местного фотоателье, смотрел на них со стены с напряженной, вымученной улыбкой.
— В мае месяце я был у вас. Вы помните?
Женщина молчала. Было похоже, внешние события нимало ее не занимали. В том числе он сам — всего лишь очередная докука, которую необходимо перетерпеть и забыть.
— Мы тогда говорили о вашей дочери. Ире Калетиной.
— Да.
Веки дрогнули, и она остановила на нем встревоженный взгляд. «Помнит,— отметил Алексей.— Во всяком случае то, что касается дочери.»
— Вы говорили, она бывает у вас? Это так?
— Приходит.
— Вам не кажется это странным, учитывая, что Иры вот уже год нет в живых?
Калетина вновь потупилась. В быстро густеющих сумерках ему показалось, что плечи ее вздрагивают. Алексей подошел к портрету на стене, чтобы как-то разрушить дурацкую мизансцену и собственную не менее дурацкую роль строго вопрошающего учителя.
— Она привязана ко мне и не может уйти совсем,— тихо прошелестело в темноте.
— Вы тоже любили ее?
— Да.
— В прошлый раз, когда я провожал Иру, я просил разрешения навестить ее еще раз. Она согласилась, как будто. Могу я поговорить с ней?
Он затаил дыхание, чувствуя, что в своем любопытстве зашел слишком далеко. Ответ как всегда последовал не сразу.
— Не знаю.
— Мне бы очень хотелось. Если возможно,— с настойчивостью добавил он, не слыша в ответе категорического отказа.
— Это зависит от Ириши.
— Когда? Сегодня, завтра?.. Где она?
— Здесь.
Калетина неловко повернулась и вышла из комнаты. Алексей постоял в растерянности и опустился на софу. Прошло минут десять-пятнадцать, хозяйка не возвращалась. Он подумал вдруг, что ответ Калетиной мог означать что угодно. Например, память о покойной, которая, как боль, постоянно здесь, в сердце матери. Или что-то в этом роде.
Он заметил белеющий в сумерках возле двери выключатель и пощелкал кнопкой. Свет почему-то не горел. Алексей потуже прокрутил лампу в люстре и снова пощелкал. Безуспешно. Ждать больше не имело смысла. Впотьмах, ударяясь плечами о многочисленные косяки, он кое-как выбрался наружу. И вдруг столкнулся с хозяйкой в калитке. Похоже, она откуда-то возвращалась, одетая в темное, в темном платке, прошла мимо, даже не взглянув. И скрылась в доме.
— Черт знает что...— Он пожал плечами и вышел на дорогу, чувствуя себя идиотом.
На столбе бросились в глаза обрывки провода на изоляторах, около полуметра длиной. Остальное было смотано и висело на заборе Калетинского палисада.
— Ну? Теперь видал? А я че говорил? — Прежний небритый мужичонка стоял в нескольких шагах от него и делал руками какие-то знаки. Алексей сообразил наконец, что его зовут.
— Айда в дом, поговорим. А то на виду у этой...
В прихожей, склонясь над оцинкованным тазом, поставленном на табурет, мыла голову дебелая баба. Халат на ней был спущен с плеч до пояса, и белые, непомерно большие груди тяжко колыхались в такт движениям рук. Мужичонка фыркнул и с порога обложил бабу матюгами.
— Выставила вымя, корова недоена! Тут человек у меня из органов, а ей хрен по это самое!
Баба протерла глаза от мыла и, ойкнув, скрылась за занавеской. Мужичонка протопал следом. Алексей услышал его приглушенный бормоток, из которого удалось разобрать всего два слова — «гость» и «из органов». Еще «дура». Обратно он появился с торжествующей ухмылкой на небритой физиономии, зажав в горсти бутылку «Пшеничной».
— Айда, по такому случаю.
Сели за стол на кухне, довольно грязной и больше напоминающей кладовку. Мужичонка ловко скусил зубами пробку и набулькал водки в два грязных, захватанных стакана до самых краев.
— Ну, бывай! — бормотнул он, вытягивая губы сосочкой. Острый кадык заходил у гостя перед глазами. Алексей понял, что ушлый мужичонка довольно ловко его использовал. Человек из «органов» и «по такому случаю» произвели на супругу необходимое впечатление. Иначе «Пшеничной» супругу было бы не видать как собственных ушей.
Вскоре появилась она сама в туго повязанной на голове косынке. Молча прошла к лавке и уселась напротив гостя, скрестив руки под грудью. С этого момента она ни разу не пошевелилась и, кажется, не сморгнула. Хозяин уже нес околесицу, яростно напирая на какие-то свои права. Но его разговоры, сколько Алексей мог разобрать, по-прежнему крутились вокруг Степана Гирева, который «робил» в СМУ на автокране, и все тех же злополучных кролей, которые сдохли вместе с приплодом из-за «этой стервы». Алексей отодвинул стакан с водкой в сторону.
— Провода у Калетиной твоя работа?
— Ну дак... бля такая, она во у меня где!
Мужичонка полоснул ребром ладони по кадыку и заматерился скороговоркой, бросая на гостя подозрительные, сверкающие взгляды. Тот жестом остановил его.
— Теперь слушай. Завтра провода у Калетиной должны быть на месте, а не на заборе. Если она пожалуется, или узнаю сам, пеняй на себя. Все понял? — С порога он еще раз обернулся.— Я не продаюсь.
Дом Калетиннх на противоположной стороне улицы показался ему в темноте похожим на черный гроб, случайно забытый в кустах.
— Вот и сходили подружки по ягоды,— пробормотал он, вспоминая анекдот отца Амвросия про двух озабоченных дурех. Пожалуй, при встрече стоит рассказать батюшке продолжение анекдота. Заодно поинтересоваться его «точкой зрения» на обстоятельства.
Глава 10
В начале рабочего дня Алексей заглянул в отдел социального обеспечения, но проторчал там около часу, пока не убедился, что с бабушкой Тани Чераневой все будет в порядке.
По дороге из райсобеса в прокуратуру он нос к носу столкнулся со следователем облпрокуратурн Круком. Не ответив на приветствие, Крук уперся в него сонным, невыразительным взглядом.
— Сбежал, Леша?
Алексей усмехнулся.
— Выпал из поля зрения, так скажем.
— В следующий раз,— промямлил Крук,— придержи свои соображения для приватной беседы.
Он неторопливо двинулся дальше. Ни здравствуй, ни до свидания. Но из его реплики Алексей понял: Крук нацелен на результат и дает понять, что на него можно рассчитывать.
В приемной Алексея дожидалась телефонограмма из ЭКО УВД.
Срочно!
Следственный отдел прокуратуры
Валяеву
На Ваш запрос высылаем справку о результатах физико-химического исследования.
1. Частицы вещества, представленные в смыве по месту отчленения головы потерпевшей, являются микрочастицами олова и канифоли, имеют следы термического воздействия.
2. При исследовании кусочков бумаги, выбитых дыроколом, установлено: бумага типографская, изготовлена Камским целлюлозно-бумажным комбинатом, имеет ГОСТ 9095-73.
3. Тип бумаги от дырокола и образец бумаги, на который написана угрожающая записка, совпадают.
Полное экспертное заключение будет направлено Вам после оформления.
Эксперт Морозов
Возле его кабинета, под дверью, чадили сигаретами следователи Махнев и Соковнин. С ходу, не давая открыть рот, Алексей предупредил:
— Взаймы не дам.
— Это почему? — подозрительно осведомился Махнев,
— Берите с граждан взятки. И никаких проблем.
— Не хватает! Даже на курево.
— Не с тех берете, значит. И вообще, какого черта тут?..
Махнев сделал руками ослиные уши и заревел:
— И-и-и О-о-о! И-и-и О-о-о!
— ИО направил. К тебе в распоряжение,— пояснил Вася.
Алексей хмыкнул.
— Ладно. Проходите, дурачки.
— Почему дурачки? — обиженно протянул Махнев.
— Все потому же. Я — теперь начальник, значит, ты — дурак. Вася тоже дурак, хотя и молчит. Но это к слову, чтобы субординацию не забывали.— Алексей выложил на стол тощую папку с делом, открыл настежь окно.— Можете познакомиться, господа. Потом я готов выслушать ваши дурацкие предложения.
Оба следователя одновременно погрузились в изучение документов. Наконец Махнев перевернул последнюю страницу и толкнул папку через стол Валяеву.
— Так. Что дальше?
— Дальше я намерен распределить обязанности. Вася как безусловный специалист по копанию в грязном белье возьмет на себя потерпевшую Чераневу и ее связи. Где, когда, куда, с кем? Предсмертные маршруты Чераневой, возможные свидетели. Сексуально озабоченная публика с криминальным уклоном Василию Степановичу до боли знакома. Так что карты в руки и пожелание всяческих успехов. Я, так и быть, беру на себя самую рутину. Проверю результаты физико-химической экспертизы. Где-то в городе есть точка, где должны сойтись паяльник, дырокол и типографская бумага ГОСТ 9095-73. Наконец, Махнев...
Алексей на некоторое время задумался.
— Тебе, как обычно, придется взять на себя младенца.
— Опять?! — взревел Махнев.
— Это майор в отставке Глухов Иван Андреевич. Во-первых, свяжись с райвоенкоматом и установи возможных сослуживцев Глухова. Выясни действительную причину увольнения в запас. Во-вторых, Глухов сейчас активно перемещается, поэтому необходимо фиксировать каждый его шаг. И, в-третьих... с этого, на мой взгляд, следует начать: срочно допроси мастера производственного обучения Охорзина.
Алексей вкратце пересказал события, известные ему по телефону со слов секретарши.
— Минуту, начальник,— перебил его Махнев.— Допустим, я дурак. По штату, разумеется. Из материалов дела я понял, будто Глухов терпящая сторона? Но после разговора с умным человеком с удивлением узнаю, что Глухов злодей! Отрезал бедной девушке голову, подкинул себе в квартиру и хочет заставить себя выплатить себе миллион. При этом, заметьте, активно перемещается. Что за хреновина? Почему я должен за этим мудаком в отставке следить?
Алексей рассмеялся.
— У меня есть подозрение, уважаемый господин Махнев... подозрение, переходящее в уверенность, что ваш подопечный ведет двойную бухгалтерию. Дело в чем? Когда Глухов закапывал голову и пытался скрыть от нас, что его шантажируют, это было понятно. Преступник угрожал семье расправой. Теперь все знают все, но Глухов тем не менее продолжает темнить. Говорит, разберусь сам. Хотя, по логике вещей, должен цепляться за любой шанс.
— Ну, и что из этого следует?
— Представьте, господин Махнев, что преступник вдруг оказался в наших руках. Какой первый вопрос вы ему зададите?
— Про миллион, разумеется,— догадался Махнев.— Почему ты, злодей, решил, что у бедняги Глухова есть миллион? А?
— Вот именно. Поэтому я делаю вывод: Глухов рассчитывает добраться до преступника первым.
— Понял. Вопрос снят.
Оставшись один, Алексей взялся прорабатывать план собственных действий. Микрочастицы олова и канифоли со следами термического воздействия означали одно: профессия преступника связана с пайкой и лужением. Телерадиомастерские, ремонт бытовой техники, контрольно-измерительные приборы, электромонтаж, гаражи и т. п. Кусочки бумаги, выбитые дыроколом, безусловно, указывают на учреждение, а не на домашнего радиолюбителя. К тому же, дырокол с четкими индивидуальными признаками, а бумага имеет установленный ГОСТ. Хлопотно, но обнаружить такую контору вполне возможно. Город в конце концов не велик.
Однако при детальном анализе исходных данных Алексей почувствовал, что искомая контора становится все более призрачной, а ее контуры размытыми. Появилось даже подозрение, что такой конторы может не быть вообще.
В городе, как он выяснил, действует несколько десятков отраслевых и ведомственных снабженческих организаций со своими базами, которые снабжают район бумагой. Бумага потребительских форматов, например, продается во всех магазинах «Спорткульторга». Алексей поискал у себя в столе початую пачку бумаги с уцелевшей упаковкой. На обороте прочел:
Камский целлюлозно-бумажный комбинат
Типографская бумага 2
Ординарных 250 листов
ГОСТ 9095-73
Он вздохнул... Что еще? Дырокол? У него на столе тоже имеется дырокол. Еще один — в ящике письменного стола. В шкафу, если память не изменяет, среди бумаг завалялся третий, правда, сломанный. Не надо большой фантазии, чтобы представить количество дыроколов, валяющихся по разным конторам. К тому же, дефект того единственного, которым пользовался преступник, может оказаться заводским браком, поэтому не исключено, что в продажу поступила целая партия брака одновременно.
То же самое с паяльником. Они имеются едва ли не в каждой семье. Стационарных бытовых паяльников, как известно, не бывает. Они все переносные. Поэтому олово, канифоль, паяльник может таскать в авоське по городу любой гражданин независимо от профессии. Скорее всего, на этом направлении его ждет его большая рутина. Поразмыслив, он решил наконец ограничиться выборочной проверкой. На всякий случай.
Опасения оказались не напрасны. К вечеру ему и его сбившимся с ног оперативникам удалось выяснить только то, что утром он был прав.
Вернувшись домой, Алексей принял душ и с кипой свежих газет рухнул на кровать. Но газетное чтиво на ум не шло. По нескольку раз он возвращался глазами в начале только что прочитанного абзаца и наконец отложил газеты в сторону. Сквозь дрему ему почудились неуверенные шаги на лестничной площадке. Кто-то остановился напротив его двери. Алексей тотчас открыл глаза и сунул руку под подушку...
Сегодня при встрече с Круком мелькнула мысль передать архив Хлыбова ему. Он даже рассортировал, оставив нужные бумаги себе. И не отдал. Лучшей приманки для преступника невозможно было придумать.
Он сел, выжидая, что последует дальше. Однако в дверь просто позвонили. Алексей сунул пистолет глубже под подушку и отправился открывать.
На пороге, смущенно улыбаясь, стояла Светлана Тэн.
— Вот это да-а! — наконец пробормотал он и тряхнул головой.— Вы сон? Или я сошел с ума? Брежу?
Большие черные глаза скользнули по его лицу всполохами далекой зарницы. Она не ответила.
— Значит, сон,— подумав, заключил он.— В таком случае поцелуй в щеку не возбраняется.
Он взял девушку за руку и прижался к ее нежной щеке губами. Это продолжалось почти минуту. С тихим смешком она отстранилась наконец и прошла в комнату, оглядывая убогое жилище.
— Бог мой! Как тут у вас неуютно.
— Это гостиничный номер.— Алексей пожал плечами.— Я, кажется, привык и не замечаю. Хотя, когда вы вошли, я сразу понял: в этом номере не хватает персидских ковров, лепнины с позолотой и византийской кудрявой росписи. Поверьте, мне стыдно, что ничего этого нет.
Она быстро повернулась к нему, и он, словно брошенный в воду камень, разом утонул в черной бездне ее глаз.
— Вам не стыдно, что за месяц вы ни разу не позвонили своей невесте? Не пытались встретиться? Или ваше предложение всего лишь циничная шутка?
— О! Что ни вопрос, то пощечина.— Он взъерошил волосы.— Э-э... хотите кофе?
— Я хочу услышать ответ.
— Чудесно. Угощать мне все равно нечем. Я, признаться, не ждал вас.
— Это я уже поняла.— Она не отводила взгляд, и он лишний раз убедился на собственной шкуре, что камни плавать не умеют.
—Да, мне стыдно,— скорбно признался он.
— Это все?
— Мне стыдно потому, что я, увы, все еще не районный прокурор. Я просто следователь, ищейка! По сути, розыскная собака. В номере нет персидских ковров, нет лепнины на стенах и, если невеста разборчива, подумал я, ей не за что уважать такого жениха. Несколько раз я порывался позвонить, но вспоминал, кто я есть на самом деле, и бросал трубку. Зато теперь, когда вы пришли, пришли сами, я понял, что глубоко заблуждался. Моя щепетильность кажется мне абсолютной глупостью, и я готов принести извинения в любой доступной форме.
— Мне кажется, вы хамите,— тихо произнесла она.
— Возможно, мне не хватило вежливости, но я ответил искренне. За это ручаюсь.
— Вы тешили свою щепетильность столько времени, а о моей щепетильности подумали?
— Зачем? Вы же пришли...
— Ах так! — Ее взгляд вспыхнул, словно пламя электросварки, и звонкая оплеуха гранатой взорвалась у него на щеке. Алексей дернулся назад, как от сокрушительного удара, и, потеряв равновесие, всем телом грохнулся о платяной шкаф. Сверху повалились книги и стопы газет, а его тело безвольно сползло на пол. Вдобавок, он ударился головой об угол шкафа. Чтобы падение выглядело убедительно, он незаметно ударил ладонью об пол. Бух!
— Ой... мамочки!
Она с ужасом уставилась на распростертое тело. Потом до нее дошло, что он продолжает ломать комедию, и она выбежала вон, с треском захлопнув за собой дверь. От удара еще одна пыльная кипа газет обрушилась со шкафа ему на голову.
Алексей сел в задумчивости, начиная сомневаться, что его выводы относительно Тэн верны. Потом снова лег на кровать и уставился в потолок.
В прихожей звякнул телефон.
— Меня нет,— пробурчал он и отправился к телефону.—Да?
В трубке молчали.
— Я слушаю вас! — рявкнул он.
— Алексей Иванович,— голосок Тэн звучал сухо и холодно, но и с этими интонациями, признаться, ласкал слух.— Я, наверное, слишком быстро согласилась выйти за вас замуж, и сожалею и беру свои слова назад.
— Все? — спросил он, помедлив.
— Да.
— Почему вы не бросаете трубку?
Она не ответила. Алексей терпеливо ждал. Потом в трубке послышался тяжелый вздох.
— Я похожа на грязную девку?
— Нисколько.
— Тогда почему?! — в голосе Тэн звенели слезы. Он почувствовал, как к горлу подступает острый комок.
— Так,— буркнул он.— Валял дурака. Фамилия такая. Валяев.
Она помолчала, потом осторожно, как с больным, которого лишний раз нельзя беспокоить, спросила:
— Я хочу знать, что заставляет вас обращаться со мной подобным образом?
— Хорошо. Давайте попробуем поговорить откровенно. Я жду.
— Нет! Приходите вы. У себя дома я буду чувствовать себя уверенней.
— По-моему, я не знаю вашего адреса.
— Соседний подъезд. Девяносто шестая квартира.
Алексей изумленно присвистнул. Положив трубку, он сунул пистолет в кейс вместе с бумагами и выбрался на балкон. Огляделся. Затем, с перил, он осторожно просунул кейс через балконное ограждение верхнего этажа. Там, среди мебельного хлама и пыли, имелась весьма подходящая на этот случай щель.
Глава 11
Дверь открыла сама Светлана. Ее глаза еще блестели от слез, но на лице цвела чуть растерянная улыбка. Вслед за хозяйкой он вошел в одну из комнат. Судя по количеству дверей и размерам прихожей, квартира была трехкомнатной.
— Мы одни? — спросил он, озираясь по сторонам.
— Я бы не хотела отвечать на этот вопрос.
— Понял. Вы надеетесь, что я буду вести себя скромнее?
Она проигнорировала реплику.
— Что вы будете пить?
— Даже так... гм? Предпочитаю водку. С содовой.
Полубогемная обстановка в комнате, куда его пригласили, не указывала, что обитательница работает на мясокомбинате. На стенах, на стеллаже, в углах было полно гравюр и акварелей, содержание которых не имело к действительной жизни ровно никакого отношения. Пожалуй, только одна, в простенке между окнами, изображала чье-то лицо, кажется, мужское. Манера писать выдавала в художнике истерическую, неорганизованную натуру. Все линии казались случайны, нелепы, но из этого хаоса смотрели глаза, проступал лоб, подбородок и определенно что-то ему напоминали.
Алексей обернулся и увидел, что Светлана внимательно наблюдает за ним.
— Моя подруга. Она вроде пифии. Художница. Рисует только в трансе с закрытыми глазами. Свои наброски называет предсказаниями. Говорили, они сбываются.
— А этот тип, он кто?
— Я попросила ее однажды, она наркоманка, очень больна, попросила сделать для меня портрет человека, которого когда-нибудь я полюблю. Однажды она принесла мне вот этот.
Алексей подошел ближе.
— Заурядная физиономия. Весьма даже.
— Да.— Она слабо улыбнулась.
— Но вы, я полагаю, уже испытываете какие-то чувства к этому типу?
— К сожалению, он оказался хамом. Любитель валять дурака.
— Вот как!
Алексей с любопытством уставился в чудовищный хаос линий, пытаясь отыскать черты сходства. Но чем дольше он всматривался, тем отчетливее проступали на поверхности беспорядочные, неряшливые штрихи, разрушая образ как таковой.
— Хотите сказать, этот симпатяга на портрете и я — одно и то же лицо?
— Да. Именно поэтому ваше хамство сошло вам с рук.
— Если не считать, что я перестал слышать на левое ухо.— Он подергал себя за мочку. Потом не без самодовольства улыбнулся.— Значит, вы влюблены в меня?
Она вспыхнула.
— Почему вы хотите казаться хуже, чем на самом деле?!
— Это вы вообразили обо мне черт знает что. А я должен отдуваться за ваши фантазии.
— Вот ваша водка,— она с грохотом поставила на столик возле бара граненый стакан.— С содовой!
— Водка не отравлена?
— Нарочно пытаетесь меня дразнить?
— А что?
— Зачем?!
Он опрокинул содержимое стакана в рот.
— Когда я впервые увидел вас посреди разделанных туш и мясокомбинатовского ворья, вы показались мне ангелом, спустившимся в ад. Я слаб перед женской красотой, это однозначно, и с ходу, если помните, выдал вам предложение.
— Я помню.
— Вы, вероятно, сравнили меня с этой дурацкой рожей на портрете, углядели некое сходство, всплакнули в одиночестве и решили, что я — ваша судбба. На следующий день я получил от вас согласие. Но фактически мы друг о друге не знаем ничего. Ваши хрупкие романтические фантазии в данном случае не в счет. Согласны?
— Кажется, да,— с застывшим лицом произнесла Тэн.
— Отсутствие информации о человеке, тем более, когда я намерен предпринять важный для себя шаг, не в моих правилах, — значительно произнес он.
— И вы весь месяц прилежно занимались сбором информации?
— Да,— он скромно потупился.
— Судя по поведению, вы насобирали обо мне столько гадостей, что они вот уже второй час бьют из вас фонтаном.
— Не совсем так. Представьте себе на минуту, что вы — двигатель, созданный в каком-то НИИавтопроме.
— О-о!
— Вначале вас гоняют на стенде в разных режимах. Потом ставят на ходовую и испытывают на полигоне. Потом в дорожных условиях и по бездорожью, вдоль и поперек. Так вот, наша с вами беда, что предложение сделано и принято еще месяц назад, а испытания от стенда до бездорожья — все сошлись в эти два часа.
Ее глаза изумленно расширились.
— Вы хотите сказать... вы меня испытываете?
— А что мне остается делать? Брать замуж кота в мешке? Я хотел сказать кошку.
— Вы уверена, что кошка пойдет за вас замуж?
— Не забывайте, согласие вы уже дали.
— Хорошо,— зловеще произнесла она.— И что ваши испытания показали?
Алексей загадочно улыбнулся и плеснул себе еще водки.
— Вас очень волнуют результаты испытаний, я вижу? — язвительно спросил он.
— Нет!
— Не лгите. Вы внушили себе, что влюблены в меня, а мнение любимого человека не может быть вам безразлично.
— Ваше мнение, кажется, я уже знаю. Но готова испить чашу до дна. Чтобы у меня не осталось больше иллюзий. А потом... потом я набью вам физиономию.
— Вы очаровательны,— со вздохом признался он.— Вы деликатны и не горды. Но за вашей изящной хрупкостью, Светлана Васильевна, скрывается огнеупорная мощь доменной печи.
— Доменной печи?
— Да.
— Я что-то не совсем понимаю. Это признание в любви или разновидность хамства?
— На ваше усмотрение. Тем более, испытания еще не закончены.
— О боже! — простонала девушка, но румянец удовольствия уже тлел на ее щеках. Она откинула со лба темный, блестящий локон. Безотчетным движением он перехватил ее падающую руку и прижал к губам. Девушка вздрогнула от неожиданности, но с одного взгляда угадала в нем безмолвное восхищение.
— Испытания закончились?
Он помотал головой.
— Что еще я должна продемонстрировать?
— К сожалению, сексуальные способности моей невесты для меня полная загадка. Ни малейшего представления, если не считать оплеухи.
Она резко повернулась и отошла к бару. Он сзади обнял ее узкие, напряженные плечи. Поцеловал.
— Я не могу переломить себя,— прошептала девушка.
— Почему?
Она долго молчала.
— Это надо сделать сейчас?
— Кажется, ты собиралась испить чашу до дна.
Не дождавшись ответа, он отошел и сел в низкое кресло. Она стояла так минут пять, спиной к нему. Потом, словно решившись, опрокинула в граненый стакан бутылку, пока водка не полилась через край. И, страдая физически, насилуя себя, выпила мелкими глотками почти весь. Медленно повернулась к нему.
— Я попробую... выпью чашу унижения до конца.
Язык у нее заплетался, веки тяжелели. С трудом она расстегнула пуговицу на блузке. Другую...
— Довольно,— Алексей поднялся.— Можешь ограничиться оплеухой. Я заслужил, кажется.
— Нет! — Она вскрикнула и с силой толкнула его обратно в кресло.— Я не хочу больше никаких иллюзий! Никаких, слышишь? Не-на-вижу!
Она содрала с себя блузку. Юбка вслед за ней плавно скользнула с бедер в ноги. Она переступила через нее и едва удержалась, чтобы не упасть. Кое-как стащила коротенькую сорочку и осталась перед ним в узких прозрачных трусиках.
Алексей рывком поднялся.
— Прости, если можешь,— пробормотал он и направился к двери. Уже открывая, услышал за спиной плач. Она сидела на тахте, уткнув лицо в колени. Узкие плечи вздрагивали от рыданий. В нем шевельнулось чувство раскаяния. «Что, если подозрения относительно Тэн напрасны? — подумал он.— Тогда эта египетская казнь, которую я устроил, долго будет висеть на совести.»
Алексей вернулся и сел рядом.
— Не уходи,— всхлипывая, чуть слышно попросила она.
— Да.
Светлана разжала пальцы, и толстый лист ватмана, содранный со стены, медленно, с натугой расправился.
— Здесь даже имя. Но ты просмотрел, кажется.
В хаосе линий, прямо через лицо, он вдруг отчетливо разглядел собственное имя...
А Л Е Ш А
Зачем-то спросил:
— Где сейчас эта пифия?
— Не знаю.
Алексей провел нетерпеливо ладонью по черному, сверкающему водопаду волос. Она встрепенулась и быстро обвила его шею руками, смеясь и плача одновременно.
-- Кошмарное лето! Я, кажется, успела сойти с ума.
* * *
...Спустя час Светлана выбралась из его объятии и, набросив на себя халатик, едва прикрывающий стройные бедра, побрела к бару. Но дойти не смогла и без сил опустилась в кресло.
— Мне необходимо выпить, наверное. Мне плохо.
Влитый насильно стакан водки, похоже, оглушил ее. Лицо было бледным. Алексей открыл бар и удивился обилию разномастных бутылок с яркими наклейками. Впрочем, все они были непочаты.
— Даже коллекционное, о! Откуда?
— Ну, ты не знаешь настоящую цену моего места,— вяло отозвалась она.— Я говорила, кажется...
— Не знал. До последнего времени.
Он сбил сургуч с какой-то толстой, непрозрачной бутылки и штопором вырвал пробку. Рубиновая струя тяжело пролилась в глубокий хрусталь. Себе плеснул в стакан водки. «Нищий, но гордый»,— хмыкнул он. Зато невеста, похоже, досталась с приданым. Под ногами белый ковер или палас с густым по самые щиколотки ворсом. Не меньше сотни иллюстрированных, чудесно изданных альбомов. Видюшник. Видеоплеер. Еще что-то. Хотя в ее положении это все мелочи, надо думать.
Вино вернуло на ее щеки румянец. Блестя глазами, она забралась к нему на колени и неожиданно опрокинула навзничь. Затем с победительным видом уселась верхом.
— В такой позе тебе не придет в голову валять дурака,— строго заявила она. Он подумал и вынужден был согласиться.
— Теперь, Алешенька, ты выложишь все до последней гадости, какие собрал обо мне в последнее время. Пора отрегулировать отношения. Но, имей в виду, за всякую ложь я буду вливать в тебя по стакану водки.
Она вдруг всхлипнула от недавней, еще свежей обиды.
— Второй раз я такой экзекуции не вынесу.
Он промолчал, старательно кося глазами. Светлана проследила его взгляд и запахнула разъехавшийся в низу живота халатик.
— Не отвлекайся, пожалуйста.
— Хорошо. Начнем с того, моя прелесть, что вы, номинально являясь мастером колбасного цеха, фактически уже полгода исполнительный директор акционерной компании... назовем условно «Рога и копыта"». Кстати, это одна из причин, по которой из областного управления мясомолочной промышленности вы перешли в район на вашу нынешнюю скромную должность. Это так?
— Да, моя прелесть.
— Среди ваших учредителей восемь крупнейших организаций и предприятий. Это для широкой общественности. На деле, я полагаю, под видом структурного подразделения одного из предприятий-учредителей создано ма-аленькое общество с ограниченной ответственностью, которое возглавляет узкий, скажем так, круг лиц. Мясокомбинат вот уже полгода как передан на баланс этого общества, хотя пока еще является госпредприятием. Но настанет час, и общество с ограниченной ответственностью будет объявлено банкротом. Испарится. Зато останется тот самый узкий круг физических лиц, а в новом учредительном договоре строчку «владелец предприятия» заменят на «гражданин такой-то». Это махинация чистой воды. Но это вдвойне махинация, поскольку члены районной комиссии по приватизации и руководители предприятий-учредителей составляют тот узкий круг лиц, в чью собственность переходит ваш комбинат.
Алексей проследил, как она потянулась за бокалом и поднесла рубиновый хрусталь к ярким губам.
— Ну, и как тебе эти гадости?
— Надеюсь, ты не из-за этого меня третировал?
— Не из-за этого,— согласился он.
— Уже хорошо. Между прочим, Алешенька, то, что ты называешь гадостями, на самом деле называется государственной программой приватизации. Для осликов, вроде тебя, через полгода-год выпустят бумажки номиналом в десять тысяч рублей. Это одна приватизация, она для нищих, и еще не действует. Мне ты рассказал о другой. Это одна из схем, которая действует и уже давно по всей территории страны. Ее называют дикой, номенклатурной, обзывают всякими гадкими словами, иногда даже приостанавливают, если кто-то, вроде тебя, подымает большой шум. Но это и есть действительная, настоящая приватизация, санкционированная в правительстве. Передел собственности в пользу партхозноменклатуры. Все, что не сгнило, что приносит доход и не требует капиталовложений, государственной собственностью давно не является. Наш комбинат тоже, между прочим.
— Мясокомбинат — частная собственность? Уже?
— Ну, не совсем. Если ослик обещает быть умненьким и не брыкаться, я расскажу.
— Не брыкаться не обещаю.
Она наклонилась в чмокнула его в нос, как несмышленыша. При этом халатик снова разъехался...
— Все равно расскажу. Необходимо расставить все точки над i. На мясокомбинате к приватизации готово все. Но пока мы не спешим. Во-первых, закупается новое импортное оборудование. Разумеются, за счет государственных бюджетных вливаний. Кстати, чем не гадость, с точки зрения ослика? Это при том, что наши основные фонды, имущество уже оценены по остаточной стоимости. К тому же, многократно заниженной... Эй? Ты меня слышишь? О боже!
Она снова запахнула полы халатика, и Алексей обрел способность соображать.
— Но мы, совет учредителей, на этом не остановились. Никто пока об этом не знает, но скоро, очень скоро грядет обвальный рост цен. Может быть, в сотни и тысячи раз. А вот переоценку госимущества в связи с отпуском цен производить год, два, может три в правительстве воздержатся. Ослик понимает о чем идет речь?
— Да. Мясокомбинат сможет купить даже прокурор. На свою зарплату.
— Но только в одном случае. Если женится на исполнительном директоре.
— Кстати, каким образом, моя прелесть, вы попали в компанию этих мерзавцев-учредителей? Одно время, кажется, я был очень наслышан о вашей честности.
Она рассмеялась.
— Именно поэтому. Кучке мерзавцев желательно было оставаться постоянно в тени. Зато в качестве представителя и исполнительного директора нужен был человек с безупречной репутацией. Это раз. И сильный профессионал, это два.
— Видимо, ты плохо представляешь себе, в какую компанию затесалась, девочка,— резко перебил он.— Там махровая уголовщина по самым тяжким, расстрельным статьям. Вплоть до организации убийств.
— Это не мои проблемы,— она равнодушно пожала плечами.
— Они станут твоими. Эти люди замазаны по самые уши, и все повязаны. По правилам игры они обязаны замазать тебя тоже. В целях личной безопасности. Поэтому будь уверена, если кто-то погорит, все, что ты мне рассказала будет висеть на тебе одной.
— Бог мой, какой ты глупенький! Все давно не так, и ты ничегошеньки не понимаешь. Эти люди не из тех, кого привлекают к ответственности. А из тех, кто привлекает. Почти каждый из них — депутат, со статусом неприкосновенности.
— О да! Тем более, что всегда под рукой стрелочник.
— Зачем? — удивилась она.— Зачем резать курицу, которая несет для них золотые яйца? Они заботятся о моей репутации и безопасности пуще собственной. Все мои желания немедленно принимаются к исполнению. Но я редко злоупотребляю.
— Ага, если не считать должности прокурора для любимого ослика.
Она рассмеялась.
— Я преподнесла это иначе. На собрании совета я сказала: если вы хотите иметь на будущее карманного прокурора, прочно завязанного в деле, вот вам кандидатура. Мой будущий муж.
Услышав такое, Алексей едва не сделал кульбит. Наконец, кое-как взял себя в руки.
— Таким образом ты подарила им еще одно золотое яичко? — прорычал он. Она улыбнулась, словно не замечая его состояния.
— Наши акционеры, которых ты называешь мерзавцами, ухватились за эту идею двумя руками. Сейчас, считают они, очень подходящий момент, когда необходимо посадить прокурором своего человека. Где-то, неизвестно где, гуляют очень опасные бумаги. Для кого опасные, я, к сожалению, не знаю. Но этот компромат, по их мнению, необходимо отловить. Или нейтрализовать.
Краем глаза он поймал на себе ее испытующий взгляд, и черные подозрения вновь угрожающе зашевелились в его душе.
— Бумаги все у меня. Так называемый архив Хлыбова, моя прелесть.
— О-о! Я что-то в этом роде подозревала.
— Не сомневаюсь.
Светлана не отреагировала на реплику. Скорее всего, не услышала. Но он почувствовал почти физически, как заработали в ее очаровательной головке все извилины разом.
— Это настоящая удача,— прошептала она, наливая в свой бокал.— Об этом никто не знает?
— Кроме тех, кого это не касается,— ухмыльнулся он.
— То есть?
— Позавчера из-за этих бумаг мою спину пытались ковырнуть ножом. По счастью, обошлось. Так что твои друзья-акционеры, надо полагать, в курсе. Они знают, что весь архив у меня, и я никуда его не пристроил. Попросту не успел. Поэтому очередного визитера я ждал сегодня вечером. И вдруг — появляешься ты. Я вначале опешил, но должен был признать, что задумано неплохо. Вместо очередного убийцы в маске за архивом приходит очаровательная женщина. К тому же, моя невеста.
— Но почему за архивом, Алешенька? Ведь это не так? — В черных, больших глазах застыла боль и непонимание.
— Не знаю. Мы не встречались все лето. Ни одного звонка. И вдруг твой визит. Как снег на голову, едва я успел заполучить бумаги. Ни раньше, ни позже.
Она отрешенно молчала.
— Я не люблю, моя радость, когда меня убивают. Или питаются выудить что-то обманом. Правда, в какой-то момент мне показалось, что я глубоко не прав. И готов был просить прощения за свое хамство, пока тебе не пришло в голову отрегулировать наши отношения. Расставить точки. Ты живо нарисовала радужную картинку нашего светлого будущего. В центре картинки счастливый Я, карманный прокурор, который в уплату за свою должностенку подарил кучке мерзавцев компрометирующие документы. Потом твои мерзавцы со статусом будут использовать меня, как шестерку бубей, чтобы щелкать по носу других мерзавцев и покрывать собственные сволочные грешки. Извини, Светлана Васильевна, эта перспектива меня как-то не прельщает.
— Алешенька, милый, я же не просила тебя отдать твои бумаги им?
— Хочешь сказать, не успела попросить?
Она покачала головой.
— ...И карманный прокурор, это только предлог? Способ заинтересовать, согласись?
— А кем еще, черт побери, я стану в вашей компаний? Среди мерзавцев?
— Но я же не стала. И потом, от мерзавцев, хотя бы от части из них можно легко избавиться. Особенно сейчас,— вкрадчиво произнесла она, и ее глаза покрылись мечтательной дымкой.
— Не понял?
— Ослик, ты ужасно какой недогадливый!
— Снова не понял?
Он попытался убрать ее руки с шеи. Но девушка, смеясь, толкнула его на постель и снова уселась верхом. Он тотчас затих со скошенными к носу глазами.
— Это потрясающая удача, Алешенька, что архив теперь у нас. Правда, я не знаю, насколько хорош компромат?
— Убойный,— буркнул он, стараясь держать себя в руках.
— Чудесно! Узкий круг мерзавцев может стать еще уже, если ты мне поможешь. В рамках закона, разумеется.
— Разбираться с мерзавцами моя работа. Но в рамках закона, девочка, круг твоих акционеров может только расшириться. И значительно.
— Это почему? -- она мгновенно насторожилась и, он это почувствовал, сделалась вдвое тяжелее.
— Твои рабочие и управленцы знают, что работают на частном предприятии?
— Нет, разумеется.
— Но узнают, это неизбежно, и тогда обратятся в арбитражный суд. После суда я не уверен, что они захотят видеть тебя хотя бы мастером колбасного цеха.
Светлана нехотя сползла с него и отправилась в угол к стеллажам. Наугад выдернула из стопы пару папок и бросила на тахту.
— У меня тоже архив.
Алексей, недоумевая, открыл одну из папок, набитую какими-то фотографиями, выписками из протоколов товарищеского суда, выговорами, чьими-то свидетельскими показаниями и так далее.
— Что это?
— Компромат, мой милый, на...— Она заглянула в начало.— На Веретенникова Вэ Эф. Несколько раз задерживался на вертушке при попытках вынести из цеха мясопродукты. Есть фото. Здесь товарищ Веретенников преодолевает забор. В руках сумка. Еще фото, в момент задержания. А здесь, как это?.. В особо крупных размерах? Уже в составе преступной группы по предварительному сговору. Управленец, кстати. Солидно, да? В общем, Алешенька, на всех крикунов, а это человек десять-пятнадцать, у меня заведены такие папки. Я могу уволить этих людей в любой момент на законных основаниях. Или, если это хороший работник, специалист, поговорю с глазу на глаз и предложу альтернативу. Либо передача материалов в суд, уголовное преследование, либо человек остается работать. При этом я расписываю новые перспективы, обещаю участие в доходах, льготы... Между прочим, один такой разговор уже состоялся. Все условия приняты без возражений.
— Заурядный шантаж. Статья 95 УК РСФСР.— Алексей фыркнул.— Удивительно, что при такой акульей хватке ты рождена женщиной.
— Тебе это не нравится?
— Ты очаровательная хищнипа.
— Это признание в любви?
Он хмыкнул.
— Мне надо посоветоваться вначале. Со своей пифией.
Она вспыхнула и тигрицей бросилась к нему на грудь.
— Злоде-ей!!!
Под тяжестью ее тела оба рухнули на постель и завязалась жестокая схватка, преимущественно в партере. Спустя полчаса истерзанная хищница, жалобно пискнув, на коленках покинула поле боя и поплелась к бару. Однако взгляд, брошенный на него из угла, полыхнул зловещим огнем. Обратно она вернулась с бутылкой водки и граненым стаканом.
— Алешенька, сознайся, что ты был не прав, когда хамил?
Голосок звучал вкрадчиво и убаюкивающе, а он уже напрочь утратил бдительность.
— Скажи: ты был не прав. Ну?
— Ага. Я был не прав.
И тут же раскаялся. Тигрица, даже не потрудившись одеться, снова уселась на него верхом и с торжествующим видом набулькала полный стакан водки.
— Уговор помнишь? За каждую ложь или клевету я вливаю в тебя по стакану водки.
— О боже!
— Пей.
— Я раскаиваюсь, моя радость.
-- Ослик, будь мужчиной. Фи!
— Закусить хотя бы... А? — робко попросил он.
— После первой настоящие мужчины не закусывают.
— После первой? Значит, будет вторая?
— За все надо платить. За клевету тоже. Пей.
Он выпил. И заслужил половину холодной курицы с куском хлеба. Но рядом с тарелкой она поставила второй стакан водки. И тоже до краев.
— Это тебе? — с надеждой спросил он.
— Бедненький! — Она поцеловала его в лоб, утешая.— Пей.
— Это же преднамеренное убийство!
— Если бы ты, Алешенька, сегодня ушел, я... покончила бы жизнь самоубийством.
Он внимательно посмотрел на нее и — взялся за стакан. Закрыл, собираясь с духом, глаза. Девушка вдруг встревожилась.
— Ослик? А ты не умрешь?
— Я хочу умереть. Мне стыдно,— мрачно произнес он. Она поспешно забрала стакан из его руки.
— Мне этого достаточно.
Глава 12
В последующие два дня Алексей окончательно потерял надежду отыскать контору, где бы преступник добывал себе на пропитание с помощью паяльника, а бумагу ГОСТ-9095 дырявил с помощью бракованного дырокола, пригодного для идентификации. Вероятно, связь между уликами имела более опосредованный и многоступенчатый характер.
У следователя Соковнина дела тоже подвигались не лучшим образом. Он опросил десятка полтора оболтусов, из числа половых партнеров Чераневой, опросил подруг, а также знакомых и родственников, но на след не вышел. Кто-то видел Чераневу недели три назад возле синего «жигуленка», но, возможно, это был «москвич», она болтала с водителем. Правда, машина потом уехала без нее. Чераневу видели также в районе автовокзала. Нет, была не одна, в компании, с кем — неизвестно, свидетельница не приглядывалась, просто услышала смех и посмотрела вскользь, потому что спешила. Еще видели в парикмахерской. Когда Соковнин заявился в парикмахерскую, мастера подтвердили: да, такая у них была, недели две-две с половиной, кажется. Она из клиенток, но толком о ней никто в парикмахерской не знает, подруг здесь нет.
Чуть больше повезло Махневу. Войдя в кабинет, он с порога выложил Алексею на стол протокол допроса Охорзина, мастера производственного обучения из СПТУ номер 13 и изъятую записку с очередной угрозой.
-- К ноге была пришпилена булавкой,— с брезгливой гримасой сообщил Махнев, выбивая из пачки сигарету. Алексей пробежал глазами протокол и взял целлофановый пакетик с запиской. Вслух прочел:
— Далеко не убежиш на очереди твой доч включили счетчик.
Тот же неграмотный до неприличия текст, печатные буквы вкривь и вкось, от руки, на грязном, в желтых пятнах, клочке бумаги.
— На очереди? Это как понять?
— Нога и голова, примерно, одной степени протухлости. Скорее всего, это Черанева. Первая на очереди. Если бы в записке подразумевалась маман, то нога должна быть как минимум на две недели свежее. Но, гражданин начальник, есть обстоятельство, которое позволяет рассуждать иначе.— Махнев встал и стряхнул столбик пепла с сигареты за окно.— Вчера наш майор запаса Глухов оформил по месту работы очередной отпуск и отбыл на отдых в Крым.
— Один?
— Как перст! Если учесть, что жена и дочь Глухова смотались из Массандры в три дня, сбежали по сути, то я склонен думать, что маман Глухову преступники каким-то образом достали. Полагаю также, он догадывается, кто преступники. Иначе чем объяснить скоропостижный отъезд Глухова в Крым?
— Поехал разбираться?
— Что угодно. Искать компромисс, устроить разборку, откупиться, покаяться, просто выйти на след. Не знаю. Пока судить рано.
— В военкомате был?
— Да. Со скрипом, но дело Глухова выдали.
— Что так?
— Ба-альшой секрет! Есть сорт людей, которые сами готовы приплачивать, лишь бы состоять при тайне. Но в деле Глухова ничего любопытного нет. Подал рапорт и был уволен из рядов СА по собственному желанию. Вот список лиц, которые служили в Закавказском военном округе в одно время с Глуховым. Правда, в разных частях. На днях постараюсь опросить.
— Опросить надо,— согласился Алексей.— Но это дело второе...
— Понятно, начальник! Можешь не продолжать. Оперуполномоченный Ибрагимов, по происхождению крымский татарин, уже пакует вещички. Милицейское начальство поставлено в известность, осталось оформить поручением.
Алексей улыбнулся.
— Ладно, пусть Ибрагимов. У тебя все?
Махнев замялся.
— Леша,— тихим, но жестким голосом произнес он,— мне нужна квартира. Если не дашь, считай, мое заявление лежит у тебя на столе.
Алексей вытаращил глаза.
— Квартиру? Я... тебе?!
Потом до него стало доходить, и он расхохотался. Махнев внимательно пронаблюдал все его реакции, неопределенно хмыкнул.
— Слушок прошел. К нам едет прокурор. Фамилия прокурора мне показалась знакомой.
— Может, подождем? Пока приедет?
Махнев упрямо покачал головой.
— Ладно,— ухмыльнулся Алексей.— Допустим, я стал прокурором. Если почему-либо я не дам квартиру, ты пишешь заявление. Ну, а если дам, где гарантия, что, получив квартиру, ты все же заявление не напишешь? Гарантий нет никаких, и ты таким образом загоняешь меня в угол. Поэтому, желая сохранить ценного работника, я предпочитаю вместо квартиры дать тебе твердое обещание, что в ближайшие десять лет, как только представятся возможность, изыскать необходимую жилплощадь.
Но Махнев шутливого тона не принял:
— Вот смотрю на тебя, Леша, и такое ощущение, как будто сукин сын Хлыбов как сидел на своем месте, так и сидит. Слово в слово, ажно дрожь пробирает. Единственная разница, что эти слова впервые я услышал от него десять лет назад!
Алексей обреченно кивнул:
— Хорошо, давай свое заявление, я подпишу.
— А... пошел ты! — вспыхнул Махнев и выскочил в коридор. Вслед за ним тяжело хлопнула дверь. Алексей пожал плечами. На проклятом квартирном вопросе даже у Махнева напрочь пропадало чувство юмора.
Он еще раз внимательно прочитал протокол допроса Охорзина. С его слов, Глухов прямо из гаража сел в машину и уехал. Куда — неизвестно. Ему сказал, что выбросит находку на свалке (там ее впоследствии нашли). Но, когда машина вернулась, на спидометре набежало лишних девяносто километров. Почему запомнил километраж? Потому что сам на неделе заменил трос спидометра на новый и никуда с тех пор не выезжал.
Алексей порылся в ящиках стола и отыскал циркуль. Ножки циркуля он развел с учетом масштабов карты района, которая висела за спиной. Потом воткнул иглу в райцентр и обвел на карте круг диаметром в сорок — сорок пять километров. Линия окружности пробежала через деревня Загарье, Шепели на юге и поселок Черная Слобода на северо-западе. Наверняка, свою страшную находку Глухов выбросил ПОПУТНО — на той же свалке рядом с трактом, где несколькими днями раньше закопал голову Чераневой. В таком случае, из трех возможных пунктов остается один — Черная Слобода.
Значит ли это, что жену и дочь Глухов прячет в Черной Слободе?
Несколько поразмыслив, он пришел к выводу, что Слобода — наихудшее место, какое можно найти для подобной цели. Уже то, что поселок, где все друг друга знают, стоит на оживленном тракте, плюс к тому сообщается с районным центром внутренней железнодорожной веткой, и по ней два раза в сутки курсирует пассажирский состав, исключало возможность даже на короткое время сохранить место пребывания в тайне. Но если не семья, если не желание удостоверяться, что с женой и дочерью все в порядке, то ради встречи с кем Глухов проделал эти девяносто километров?
Зазвонил телефон.
— Валяев. Слушаю вас?
— Участковый Суслов говорит. Здравствуйте, Алексей Иванович.
— Есть новости, инспектор?
— Да. Сегодня с нарочным из информцентра доставили регистрационную карту. На Чераневу.
— Почему в райотдел? Запрос, кажется, исходил от нас?
— Нарочный прибыл с ночным поездом. Тут еще кое-что...
— Ладно. Я жду,— отрезал Алексей и бросил трубку. Пока он гадал на кофейной гуще, необходимые документы преспокойно вылеживались в райотделе и, возможно, гуляли по рукам!
Спустя пять минут участковый положил перед ним конверт из толстой провощенной бумаги. Тяжело опустился на стул напротив. Глаза у Суслова были воспалены, а кожа лица приобрела землистый оттенок.
— На здоровье не жалуешься, Анатолий Степанович?
— Это недосып. Подряд вторую ночь.
— Что так? — рассеянно спросил Алексей, вытряхивая содержимое конверта на стол.
— Вчера ларек подломили, угол Рубинштейна и Свердлова. Школяры. Пришлось до утра по кустам отлавливать. Сегодня в три ночи черножопые гранату в общаге грохнули, по пьянке. Я только-только из оцепления. Полчаса назад сняли.
— Пострадавшие есть?
— Два трупа и раненый.
Алексей удивленно присвистнул.
— Чье общежитие?
— СПТУ номер 13.
— Армяне? Ну-ка, чуть подробнее, Анатолии Степанович, изложи?
Голосом, севшим от усталости, инспектор рассказал, что после взрыва в одной из комнат, где проживали армянские шабашники, нашли еще две гранаты РДГ-40, но никто из уцелевших за свои их не признал. Мамой клянутся, никакого оружия ни один из членов бригады не имел. Тем более, гранаты. Откуда взялись эти три, не знают. Кто взорвал и с какой целью, тоже. Говорят, все были пьяные после расчета по одной коммерческой сделке. Правда, чтобы замять дело, предлагали каждому по тридцать кусков.
— Ми сами рэзбэремся,— со злостью передразнил Суслов.
Алексей отпустил инспектора отдыхать и взялся за бумаги. Как явствовало из регистрационной карты, обезглавленный женский труп был обнаружен два дня назад при случайных обстоятельствах в лесопарковой зоне микрорайона Заречный, в областном центре. На трупе имеясь многочисленные ножевые ранения в область спины, на бедрах и животе. Кроме этих повреждений была отчленена левая молочная грудь и левая нога по коленному суставу. Повреждена также одежда, в частности, брюки были разрезаны ножом, половые органы обнажены.
Идентификация трупа произведена после получения запроса с помощью дактилоскопической регистрации.
Далее шло описание одежды, обуви, перечень обнаруженных при трупе предметов. Особые приметы...
Дата вскрытия трупа и патолого-анатомический диагноз, из которого следовало, что группа крови головы и группа крови туловища совпадали; линия отчленения головы от туловища проходила между первым и вторым шейными позвонками, что соответствовало выводам Голдобиной. Наконец, установленная при вскрытии причина смерти. Алексей пробежал глазами последние строчки медицинского заключения и почувствовал, что волосы на голове зашевелились. «...Проникающее ножевое ранение в области сердца.»
Удар ножом в спину!
Как говорил покойный Хлыбов, за какой конец ни тяни, конца не будет. Алексей походил по кабинету, пытаясь унять взыгравшее воображенье. Потом взялся за оставшиеся бумаги.
По запросу, который он сделал несколькими днями раньше, из ИЦ УВД поступили дополнительные сведения на неопознанные женские трупы за последние три месяца по районам области. Список занял ни много ни мало — пять страниц машинописного текста. Дата, место обнаружения, примерный возраст, предполагаемое время смерти, рост, телосложение, цвет волос, глаз, форма уха, другие особые приметы, одежда... причина смерти...
Стоп! Еще один женский труп с ножевым ранением в спину. Обезображенный.
Он поставил напротив цифры восемь красный крест и продолжал чтение. К концу выморочного списка на полях появились три креста и один знак вопроса. На трупе, который он пометил знаком вопроса, обнаружены множественные ножевые ранения, нанесенные прижизненно. Очевидно, смерть наступила в результате общей потери крови. Все жертвы, в том числе Черанева, имели с убийцей половой контакт. Возможно, были изнасилованы.
Нечто в этом роде Алексей предполагал с самого начала, но результат превзошел все ожидания. К тому же, действительная картина могла оказаться еще страшнее. Равно и количество жертв. Что если преступник умерщвлял их другими способами? Например, с помощью удавки. Такие в списке тоже имеются. Алексей задумался.
В глухой стене, на которую до сих пор натыкалось следствие, наконец появилась брешь. Во-первых, стало ясно, что отдельного дела о вымогательстве энной суммы денег у гражданина Глухова не существует. Это лишь эпизод в бесконечной цепи хищений государственной собственности, расследовать которые начал Шуляк. Во-вторых, стало возможным очертить сферу интересов преступника — от убийства на сексуальной почве какой-нибудь бродяжки до устранения прокурора района и неудобного следователя. Скорее всего, оба этих убийства были заказные.
В-третьих, география убийств -- в основном райцентр и северные районы области, наводила на мысль о разъездном характере его работы, вероятно, связанной с частыми командировками.
В-четвертых, удивительная легкость, с какой преступник проникал сквозь закрытые двери, используя, по-видимому, поддельные ключи. Квартира Шуляка, квартира Глуховых, коттедж Анны Хлыбовой, гараж СПТУ номер 13... Ни на одном из замков не осталось следов повреждения, даже царапин.
В-пятых, каким-то образом преступник жестко задействован в обвальной лавине номенклатурных хищений, плавно переходящих в криминальную приватизацию... Вхож в дом Хлыбова, даже Хлыбов, районный прокурор, не подозревал в этом человеке наемного убийцу. Сквозная фигура, кочующая из одного дела в другое на протяжении длительного времени.
И вдруг... Алексей понял, что знает убийцу.
Глава 13
Он убрал бумаги в сейф, закрыл кабинет и отправился в приемную. Очаровательная Людмила Васильевна, разложив на столе перед собой косметичку, точными, мягкими движениями наносила на лицо «боевую» раскраску.
— Машина на месте? — рявкнул Алексей нарочито грозно.
— Ах! — Она едва не выронила из рук зеркальце и уставилась на него с ошарашенным видом.— Ну, вы прямо как Хлыбов Вениамин Гаврилович, с ума сойти! И голос...
Они действительно, с ума посходили, раздраженно подумал Алексей, вспоминая, что за последние дни слышит эти слова уже не в первый раз.
— На машине Махнев уехал, Алексей Иванович. В соседний район.
— Куда-а?!
— В Черную Слободу, кажется.
Алексей одобрительно крякнул. «Молодчина Махнев! Просчитал ситуевину!» Он внимательно посмотрел на Людмилу Васильевну, которая сидела к нему вполоборота в дьявольски соблазнительной позе. Ему даже показалось, что юбки на ней сегодня нет вообще. Хотя бы мини.
На автобусе он доехал до конечной остановки и через ельник направился к СПТУ номер 13. Со времени последнего посещения здесь мало что изменилось. Сорванная с петель сварная створа валялась там же, под забором. Только трава над ней давно проросла, побурела и украсилась посередине коровьей сухой лепешкой.
В фойе учебного корпуса Алексей наткнулся на коменданта, маленькую, ярко рыжую женщину с высокой копной волос на голове. Представился и предложил показать место взрыва.
— Дверь опечатана,— сухо сообщила она, глядя в сторону.
— Это неважно, любезная. Проводите.
Когда они огибали угол общежития, под ногами захрустело стекло. Алексей поднял голову. В двух окнах первого этажа стекол почти не осталось. Кое-где были повреждены переплеты, пахло горелым. Алексей без труда дотянулся рукой до подоконника.
— Здесь?
— Все гостиничные комнаты у нас в этом аппендиците. На первом этаже.
Через черный ход они попали в пахнущий свежей краской полутемный коридор и сразу же свернули в «аппендицит». Не узнать нужную дверь было трудно. В развороченном картоне зияла дыра величиной с кулак. Замок тоже был выворочен с мясом, поэтому ключ не понадобился. Внутри комната выглядела так, как она должна выглядеть после взрыва боевой гранаты. Стены и потолок посечены осколками, опалены. По-видимому, в результате взрыва возник пожар; искореженные кровати, кровь черными потеками на полу, на стенах, разбитая в щепы тумбочка, битое стекло, бутылки, перевернутый стол с остатками вчерашнего застолья.
Рыжая женщина осталась за дверью, сославшись, что не выносит вида и запаха крови. Алексей выглянул в коридор.
— Вартанян в этой комнате жил?
— Когда как. Чаще на стороне пропадал. Это вчера они как на грех все собрались. Отмечали чего-то.
— Где его кровать?
— В углу которая, налево стояла... Другие люди как люди. Выпили, поговорили и спать. А этот, будто бес, из угла в угол... То не это, это не так, вроде подраться ему надо. Вчера, если бы лег со всеми, точно на куски разнесло. Возле кровати бахнуло, в углу.
По отдельным интонациям Алексей понял, что рыжая участие в застольях тоже принимала. И не только в застольях.
Внимательно, шаг за шагом он осмотрел все углы, уцелевшую мебель, паркет, выбитый в эпицентре взрыва, обугленный, и вдруг под обломками того, что оставалось от тумбочки, заметил... дырокол! Желая убедиться, что дырокол тот самый с дефектом, хотя в душе он в этом почти не сомневался, Алексей поискал глазами по сторонам какую-нибудь бумагу. Но, похоже, все легко воспламеняющиеся вещи во время пожара сгорели.
— Вас Алла Леонидовна, кажется?
— Да?
— Будьте добры пригласить еще человека, любого. Эту штуковину я должен оформить протоколом. Кстати, у кого-нибудь из ваших жильцов личная машина имеется? Здесь, я имею в виду?
— У Вартаняна.
— Синий «москвич»?
— Почему «москвич»? — Рыжая несколько даже обиделась.— У него «жигули».
— Синяя?
— Да.
— Где он ее держит?
— В прошлом году у нас. В гараже место арендовал. Теперь не знаю. Он в совхозе «Северный» работает, а сюда от случая к случаю приезжает. Как вчера.
Когда комендант удалилась, Алексей достал из папки бланк протокола, вложил лист в щель и лязгнул дыроколом. Подошел к окну. Что-то такое на выбитых кусочках бумаги как будто просматривалось. А может и нет?
Тем не менее, поток информации, кажется, начал приобретать лавинообразный характер. Синие «жигули», то ли «москвич» уже фигурировали в показаниях свидетелей. Если провести опознание, Вартаняну от знакомства с потерпевшей Чераневой отмазаться не удастся. Поездку в областной центр тоже не скроешь. Пусть приблизительно, с поправкой на экспертное заключение, но дата поездки и дата смерти Чераневой, наверняка, совпадут.
Теперь стала понятна та легкость, с какой преступник по фамилии Вартанян проник в гараж СПТУ, где он в течение длительного времени арендовал место, а значит, имел доступ к ключам. Доступ к ключам Вартанян имел также в усадьбе Хлыбова, поскольку именно его бригада эту усадьбу строила и врезала замки.
Естественно, на правах бригадира Вартанян был вхож в дом Хлыбова; по-видимому пользовался некоторым доверием, по крайней мере настолько, что убийцу в нем районный прокурор Хлыбов не подозревал. Не говоря уже об Анне...
Прикидывая одно за другим известные ему обстоятельства, Алексей все больше утверждался в своих предположениях. Сцепленная в воображении маска намертво прирастала к действительной физиономии преступника, совпадая иногда в мелких деталях. Сейчас в качестве меры пресечения следовало бы немедленно взять Вартаняна под стражу, пока тот не почувствовал опасность и не исчез. С другой стороны, Алексей вдруг понял, именно сейчас делать это никак нельзя. Вартанян не просто сексуальный маньяк, действующий в одиночку. Он круто завязан в номенклатурных хищениях последних лет и в качестве свидетеля представляет чрезвычайную опасность для определенного круга лиц.
Если все так, Вартаняна уберут прежде, чем он успеет открыть рот. Прямо в камере предварительного заключения. Особенно когда станет известно, какую самодеятельность на сексуальной почве он организовал помимо того, что вменялось ему в обязанности. Или уберут следователя, как это случилось год назад с Виталием Шуляком.
Сразу вспомнился Хлыбов, когда он орал на следователей у себя в кабинете:
— ...Если вы, мудаки от юриспруденции, собираетесь ссать против ветра, вам хана! Или вы принимаете их правила игры, или окончательно выпадаете в осадок. Вас достанут из-под земли, и, если выживете, будете доживать век с переломанными костями. Как последние ублюдки!
Без особого энтузиазма Алексей оформил изъятие дырокола в присутствии понятых и, не спеша, направился к остановке автобуса.
Обдумывая свои дальнейшие действия, он окончательно понял: любой предпринятый им шаг в любую сторону грозит лично ему физическим уничтожением. Он оказался вдруг перед той роковой чертой, которую Шуляк в свое время переступил. Возможно, не задумываясь. Разумеется, можно не предпринимать ничего, но тогда монстр по имени Вартанян будет убивать и впредь. В среднем, по две жертвы в месяц, плюс заказные.
Любопытно, кто платит и кто заказывает всю эту музыку? Едва ли Вартанян на свое усмотрение взялся убрать с дороги вначале следователя прокуратуры, а затем районного прокурора. За этими убийствами должна стоять некая доминирующая фигура. С организаторской хваткой. Обычно такие решения коллегиально не принимают. Значит, этот кто-то должен быть один.
Начальник милиции Савиных на такую фигуру, пожалуй, не тянул. Службист и мелкий лукавец, он мог быть только шестеркой и за свои услуги Хозяину, наверняка, довольствовался жалкими подачками. Он, как и районный прокурор Хлыбов, тоже мог не знать, что на самом деле представляет из себя Вартанян.
Может быть, Свешников?.. В тот день, вернее, в ту ночь, когда Шуляк был найден мертвым с заточкой в спине, столичный генерал не поленился приехать сюда, в глушь, и сделать максимум возможного, чтобы надолго дезорганизовать следствие. Есть еще одно доказательство в «пользу» Свешникова — следователь Шуляк убит именно в то время, когда он раскручивал дело о «хищениях денежных средств, совершаемых при заготовке леса». Это уже впрямую относится к деятельности так называемого акционерного объединения «Российский лес».
«Значит, рука Москвы? — с усмешкой подумал Алексей, забираясь в подошедший автобус. Жадная и загребущая.»
В коридоре прокуратуры он встретил эксперта-криминалиста Дьяконова. Тот осторожно нес на раскрытой ладони два пирожных с розовыми цветочками поверху и алчно причмокивал толстыми губами, предвкушая удовольствие. Алексей сунул ему в карман пиджака изъятый дырокол.
— На экспертизу.
— Еще один?!
— Ох, не любите вы свою работу, Вадим Абрамыч.
— Я люблю пирожные, голубчик! — ласково пропел Дьяконов.— Что мне ваши дыроколы. Тьфу на них!
— Старый, ленивый сладкоежка,— обозвал Алексей вслед.
Через пятнадцать минут Дьяконов ворвался к нему в кабинет с торжествующим воплем.
— Это он! Он! Тот самый дырокол, с дефектом. Где вы нашли его, Алексей Иванович?
— Не скажу.
— То есть? — Дьяконов от неожиданности опешил. Но лицо Алексея было непроницаемо:
— Существует такое понятие, уважаемый Вадим Абрамович, как служебная тайна.
— От меня тайна?! Ну, знаете...
— Извините, больше мне нечего добавить.— Он примиряюще улыбнулся.— Ваши пирожные, Вадим Абрамович, наверно, доедают тараканы. Без вас.
Когда Дьяконов, вконец разобиженннй, удалился, Алексей с запоздалым раскаянием подумал, что отдав дырокол на экспертизу, он тем самым устроил себе западню. Максимум через неделю его «служебная тайна» вылезет наружу, и местное гестапо в лице Савиных доведет информацию наверх. Хозяину, будь это Свешников или кто-то еще.
Он уставился невидящими глазами в стену напротив. После глупости, которую он только что сморозил, оставалось либо идти напролом, как Шуляк, но — гласно, с широким привлечением общественности, при этом делая упор на преступления, совершенные Вартаняном на сексуальной почве, либо... либо срочно надо искать неординарный ход.
На следующий день Алексей пришел на работу на полчаса раньше, пока другие не успели воспользоваться машиной. И вовремя. Выруливая на проезжую часть, он увидел боковым зрением, что кто-то яростно машет ему с обочины, требуя остановиться. Это был ИО Сапожников. Алексей сделал вид, что не заметил, и наддал газу.
Спустя полчаса он подъезжал к центральной усадьбе совхоза «Северный». Усадьба (деревня не деревня, но и не поселок) вся состояла из полутора десятков домов барачного типа, на две семьи каждый, которые почему-то местные жители упорно называли коттеджами. Наверное, и впрямь — красиво жить людям не запретишь. Окраинные избы давно полегли и торчали из чертополоха печными черными остовами. Зато контора была каменная, добротная, в два этажа и со своей кочегаркой. Кроме конторы, в совхозе имелось еще одно кирпичное здание — ферма на сто пятьдесят голов скота, но она по самую кровлю заросла навозом и крапивой. Должно быть, сами коровы давно забыли, из чего она сложена.
Алексей притормозил перед конторой и выключил зажигание. Деревня была пуста — что влево, то и вправо, ни одной даже курицы. Зато где-то близко грохотала по-над крышами коттеджей попсовая музыка на английском языке.
Поднявшись на второй этаж, в бухгалтерию, Алексей запросил путевые листы за три последних месяца на рейсы, где экспедитором был Вартанян. Из принесенной пачки он отобрал несколько «бартерных» рейсов по северным районам области. Рядом выложил на стол список, полученный из информотдела УВД. Даты смерти жертв, отмеченных крестами, и даты командировок экспедитора Вартаняна совпадали по срокам безо всяких натяжек.
Алексей переговорил с конторскими дамами и выяснил, у кого квартирует Вартанян. Оказалось, что постоялец не появляется дома вторую ночь подряд. Это обстоятельство несколько насторожило Алексея, но до поры гадать о причинах отсутствия он не хотел и отправился на машинный двор.
Совхозный машинный двор представлял собой просто участок земли, истерзанный гусеницами и обильно политый соляркой, на котором годами копился и ржавел разный железный хлам. Ни крыши, ни забора, все дельное давно было растащено. Он отыскал посреди этой свалки какого-то мужика с забытой раз и навсегда в углу рта папиросиной. Спросил:
— Земляк, мне Бабкин нужен. Не подскажешь?
— А вон на колесо мочится. Этот и есть Бабкин.
— Он что пьяный, как будто?
— Других тут не держат.— Мужик подмигнул ему, и Алексей увидел, что этот тоже не вполне трезв.— Бабкин, эй, сучара сраный?! Тебя тут человек спрашивает!
— Счас... иду,— отвечал Бабкин, не трогаясь однако с места и не меняя позы.
— Вот всегда так,— ядовито сказал мужик, перебрасывая окурок из одного угла рта в другой.— Прихожу с утра на работу, Бабкин стоит у колеса и мочится. Пошел на обед — Бабкин стоит у колеса, мочится. Ухожу с работы. Бабкин опять стоит у колеса и мочится. Годами так! Так я че предлагаю? Возле конторы у нас, видал, памятник Ильичу, бюст? Не надо нам бюст, не заслужили. Надо Бабкину памятник на этом месте поставить. Стоит он, сучара, с расстегнутой мошней и на каменное колесо мочится. Весь в светлое будущее устремленный.
— Да ладно тебе, трепло,— беззлобно упрекнул Бабкин, на ходу застегивая пуговицы. Поздоровался.
Был Бабкин неуклюж, косолап и простодушен, как робинзоневский Пятница. Вслед за Алексеем он забрался в машину. Спросил без любопытства:
— Опять чего-то?
— С Вартаняном часто приходится ездить?
Бабкин махнул рукой.
— Мне, Леха, один хрен. Кого посадят, того и везу. Хошь Вартаняна, хошь черта лысого. Знай крути баранку, делов-то?
— Он как? Нормальный мужик, без придури?
— Ну, как сказать?.. Армян, одно слово.
— Что значит армян?
— Так как? Армян, он и есть армян. Чего с него взять?
Бабкин помолчал несколько. Снова повторил, убежденно:
— Армян... куда там.
— Ну, например? — недоумевал Алексей, пытаясь понять, какой смысл вкладывает Бабкин в слово «армян».
— А во! Идем мы с ним, значит, по улице. Это в Афанасьеве было. Собаки — как с ума посходили. Такой лай подняли — из кажной подворотни. Понять ничего не могу. Один когда жду, бывало, ни одна не сгавкнет. А с ним... Это уж не первый раз такое замечаю. Я и спросил тогда: «Скажи, Ашотка, чего это собаки тебя не любят? Слышь, ругаются как?» Он оскалился не по-хорошему и говорит: «Им,— говорит,— бизнес мой не нравится. Гы-гы-гы!» Потом и рассказал, что шкуры раньше с собак снимал и ездил шапками торговать, шкуродером, значит, был. Особенно с живой собаки, говорит, если шкуру снять, на ней волосы долго дыбом стоят, пока моль не побьет. Хорошие шапки получаются.
Бабкин вздохнул.
— А ты не боишься, Николай, что он с тебя шкуру однажды снимет? А? Армян все же.
— Не-е. Я с людями лажу, любого спроси.
— А вдруг?
Бабкин задумался.
— Да было как-то,— неохотно промямлил он.— Выпили мы с ним. В командировке, в Лузе дело было. А он, когда выпьет, совсем дурак делается. На стены лезет, егозится чего-то. Ночью проснешься когда его нет. Ушел приключений себе на жопу искать. И до утра нет. Ну, значит, выпили мы тогда и домой идем, где на постой определились. К Ваське Готовцеву, дружок мой. В калитку заходим, вдруг, слышу, телогрейка у меня на спине трещит. Жжих-ххих! Оглянулся я, а Ашотка с бритвой, паразит, весь белый, только глаза светятся. Как у кота. Располосовал телогрейку крест-накрест. «Ты че, охломон?! — Я уж заорал, не выдержал на него.— Рехнулся совсем!» Он вроде как опомнился немного. А злой, зубами так и скрипит...
Так че оказалось, ты думаешь? Я как-то год назад свою собаку при нем оговорил. Ты, говорю, Дамка, на моего Ашотку зазря не гавкай. А не то он тебя покусает. Ну так ведь в шутку сказано было, не в обиду. А вишь, какой человек — год злобу про себя таил. И вылезло-таки.
— Мстительный, что ли?
— У-у! Сроду таких не видал. Армян, одно слово. Но, правду сказать, к кому надо, подход всегда найдет. Что есть, то есть.
На этом Алексей с шофером Бабкиным расстался. Пока ехал обратно в город, он взвесил все возможные «за» и «против» и решил, что Вартаняна надо использовать против самого Вартаняна. Змея, заглатывающая собственный хвост и пожирающая самое себя. Главная проблема сейчас -- засунуть хвост ей в пасть.
Глава 14
Несколько настораживало отсутствие Вартаняна. На работе в этот день его не видели. Дома ни там, ни здесь не ночевал. Алексей позвонил в милицию, но после того, как выяснилось, что взрыв произошел в отсутствие Вартаняна, его отпустили. Вместе с Вартаняном исчезла машина, синие «жигули» с московскими, как оказалось, номерами, поставленная в местном ГАИ на временный учет.
Еще одно предположение высказал участковый инспектор Суслов: в городе у Вартаняна есть подруга. Правда, кто она и где живет, инспектор не знал.
Но Алексей ни минуты не верил, что Вартанян мог сбежать, не имея на то достаточных оснований. Просто так налаженные годами связи, тем более «бизнес», не бросают. Возможно, он выехал временно по каким-то своим делам. Или — затаился. Вот это последнее предположение должен был подтвердить или опровергнуть следователь Махнев, с которым Алексей не успел переговорить с тех самых пор, когда отказался предоставить квартиру.
Он снял трубку и набрал номер.
— Махнев, у тебя как со временем?
— Как всегда. В дефиците.
— Тогда сразу в машину. Договорились?
— Это надолго? А то у меня в коридоре один засранец дожидается с повесткой.
— Час, от силы.
Когда Алексей подошел к «УАЗу», Махнев уже сидел в салоне и дымил.
— Как в бане по-черному,— проворчал Алексей, опуская стекло.— Кстати, в Черной Слободе был?
— Знаешь, кого я там нашел? Замполита, той самой части, где служил Глухов. Фамилия бывшего замполита Урванцев. Теперь господин Урванцев и еще один господин по фамилии Глухов на паях владеют пилорамой. Кроме пилорамы, эти господа арендуют, а может, уже и откупили цех по переработке древесины у местного лесхоза.
— Вот это новость,— пробормотал Алексеи.
— Так как? — Махнев хмыкнул.— Поездка отменяется?
Алексей, покачал готовой.
— Глухов был у него? Перед отъездом?
— Точно.
— С какой целью?
— Ну, ты хватил! Цель ему подавай. Могу добавить, в эту ночь компаньон Глухова дома не ночевал. Если тебе это о чем-нибудь говорит.
Алексей кивнул и тронул машину с места. Собранные Махневым факты необходимо было обдумать, поэтому он ехал медленно.
...В ту самую ночь, когда компаньон Глухова отсутствовал, в общежитии у армян грохнули бомбу. Еще две РДГ-40 предположительно были подброшены тем же путем, через окно на первом этаже, чтобы свалить ответственность за взрыв на самих армян. Надо сказать, затея вполне удалась. Теперь становится понятным внезапное исчезновение Вартаняна, который спасся по чистой случайности. Из охотника он сам вдруг превратился в дичь. И, разумеется, понял, чьих это рук дело. Понял также, что пощады не будет, поэтому затаился.
Дело о вымогательстве денег у гражданина, теперь уже господина Глухова И.А., таким образом приобретало все более характер мафиозной разборки. «Что если между двумя коммерческими структурами?» — неожиданно подумал он.
Дикая на первый взгляд мысль, едва он начал ее прокручивать, легко, словно патрон в обойму, улеглась в известные ему обстоятельства. Так называемое акционерное объединение «Российский лес» под неусыпной охраной генерала Свешникова продолжало грабить провинцию по старой коммунистической схеме: лес-кругляк эшелон за эшелоном перегонялся за границу по бросовым ценам, а вся долларовая выручка оседала в Москве. Это было в порядке вещей всегда. Но, кажется, времена стали меняться. Местные деятели, вроде Урванцева, во-первых, пытаются наладить переработку леса, а во-вторых, наверняка ищут выход за бугор, минуя московские карманы с генеральскими лампасами. Наверняка, местные деятели стали оформляться в серьезного конкурента и сделались опасны для «акционеров» с московской пропиской. В таком случае, демарш против Глухова с вымогательством денег — это попытка щелкнуть провинцию по носу и поставить на место.
Возня с той и с другой стороны, разумеется, шла вне рамок закона. Поэтому Глухов упорно отказывался от какой-либо помощи со стороны правоохранительных органов, возможно, знал, чью сторону они примут в случае разборки.
— Куда мы едем? — подал голос Махнев.
— Уже приехали.
Прокурорский «УАЗик» миновал знание районной больницы, свернул в узкий боковой проезд и остановился возле хирургического корпуса. В комнате старшей медсестры им навстречу поднялась миловидная женщина средних лет.
— Как наш больной? — спросил Алексей, поздоровавшись.
— Ничего серьезного. Сейчас отправим на перевязку, и вы переговорите.
— Спасибо. Надеюсь, окно не забыли открыть?
— День теплый, поэтому окна у нас открыты. С утра.
— Это вам.— Алексей выудил из-за спины багряно-красную роскошную розу и протянул женщине. Ослепительно улыбнулся. Она изумленно вспыхнула, и на щеках заиграли две обворожительные ямочки. Перемена в лице показалась настолько разительной, что Махнев, улучив момент, ядовито осведомился:
— Я тут не лишний?
— Пока нет,— ухмыльнулся Алексей, направляясь вслед за старшей медсестрой в перевязочную.
— Может, объяснишь наконец, какая тут моя роль?
— Объясню обязательно. Но пока ты просто молчи. Желательно с суровым видом. Действуй на нервы.
Медсестра вышла в коридор.
— Я предупредила больного, что вы хотите с ним поговорить. Но, пожалуйста, не слишком долго. У нас здесь очередь.
Надев халаты, оба следователя вошли в перевязочную. Больной по фамилии Патевосян сидел в каталке и с отсутствующим видом глядел в окно, напоминая в профиль подбитого, нахохленного грача. На вошедших никак не отреагировал. Правая рука у него была прибинтована к туловищу, нога, тоже правая, целиком закована в гипс.
— Вардгес Арутюнович? Я правильно называю?
Грачиный профиль после паузы слегка клюнул вниз.
— Уроженец деревни Джагазур Лачинского района Нагорно-Карабахской автономной области. Год рождения 1946. Последнее место жительства город Степанакерт. Все так?
Снова кивок.
— С вашими показаниями сотрудникам милиции мы знакомы. У вас больше нечего к ним добавить?.. Нет. Ну, хорошо. Повторяться не будем. Вот эта записка вам известна?
Алексей подержал перед глазами Патевосяна вложенную в пакет записку с последней угрозой. «Далеко не убежиш на очереди твой доч включили счетчик.»
— Нэт. Нэ знаю такой записка.
— Может, знакомый почерк? Рука? Не припоминаете?
— Нэт.
— Вы пострадали сами, поэтому подозревать вас во взрыве неразумно. Но кому-то из ваших товарищей по комнате гранаты тем не менее принадлежали. Вы в них так же уверены, как и в себе?
— Нэ знаю.
— С бригадиром вы раньше ссорились? Или ваши товарищи?
— Я нэт. Про мертвих нэ знаю. Ти, парень, луче бригадира спроси. Он за сэбья сам скажет.
— Сбежал бригадир, дорогой Вардгес Арутюнович. Вот поэтому мы к вам пришли.
— Пачэму я? Там другие есть. Руки, ноги цэлий. Они знают.
— Других тоже спросим. Но взорвали вас. Вернее, взрыв произошел в вашей комнате, а не в другой.
— Я нэ знаю, гдэ бригадир. Нэ знаю, клянусь мамой.
Алексей сделал еще несколько попыток выяснить, у кого в городе может скрываться Вартанян, и наконец отступился.
— Все-таки, дорогой Вардгес Арутюнович, я советую хорошо подумать. Для вашей безопасности, возможно.
Когда они вышли в коридор, Махнев брезгливо поморщился.
— Что за комедию ты ломал? Может, объяснишь наконец?
— Сейчас будем ломать вместе. Когда я пихну тебя в бок, ты должен меня спросить: «Как ты на него вышел?»
— Не понял?
— Как ты на него вышел? — еще раз отчетливо повторил Алексей.— С естественной интонацией, между прочим как бы. Потом я все тебе объясню.
Он уже тащил Махнева за собой на улицу...
...Человек с грачиным профилем слегка пошевелился в каталке, желая сменить позу. Помял здоровой рукой ноющее плечо. В это время на дорожке под окнами послышался голос человека, который только что его допрашивал. Потом второй голос, вероятно, того низенького придурка, который молча сверлил его в продолжение допроса глазами, спросил:
— Как ты на него вышел?
— На Вартаняна?.. Никак. Это генерал Свешников сработал. По своим каналам.
Человек в каталке дернулся к окну. Голоса удалялись.
— А я по дурости Глухову ляпнул, что...
В перевязочную вошла медсестра и с шумом, как ему показалось, передвинула стул. Потом один за другим начали заходить служащие из медперсонала, и продолжение разговора утонуло в посторонних звуках. С трудом дождавшись конца перевязки, больной Патевосян за пару косых «уговорил» санитара доставить его к телефону...
В машине Махнев демонстративно вынул из замка ключ зажигания и уставился на приятеля.
— Ну?
Алексей молчал. До тех пор, пока спланированная им акция не сработала, раскрываться он не хотел. Даже Махневу.
— Видишь ли,— осторожно начал он,— я вдруг оказался в той же ситуация, что Шуляк. Он первый ковырнул эту навозную кучу. Результат мы все знаем. Короче, Махно, мне нужна неделя сроку. Для чистоты эксперимента, понял?
— Утечка информации? — догадался Махнев. И в лоб спросил: — Убийца — Вартанян?
— Да.
— Та-ак! — умница Махнев мгновенно все сообразил и протянул ключи.— Я ничего не слышал и ничего не знаю.
Алексей кивнул.
В приемной прокуратуры очаровательная Людмила Васильевна (еще более очаровательная, чем вчера) сообщила ему, что вскоре после отъезда был звонок из мэрии, и дала телефон помощника, по которому его просили срочно перезвонить. Алексей тут же в приемной набрал номер. Представился.
— Минуточку, Алексей Иванович, я сейчас справлюсь.
Ровно через минуту веселый юношеский басок сообщил, что мэр на месте и очень хотел бы с Алексеем Ивановичем переговорить. Если вы подойдете в течение получаса, это будет как раз то, что надо.
Через полчаса Алексей входил в знакомый кабинет мэра города. Хозяин кабинета вышел к нему из сопредельной с кабинетом комнаты, вытирая руки небольшим махровым полотенцем. За два месяца, что они не встречались, внешний облик мэра претерпел значительные изменения. Обладая телесной конституцией, которая остро реагирует на смену общественного положения, мэр раздался в щеках, в талии, а кожа лица обрела свинцово-помидорный оттенок. Такое случается, когда человек вдруг начинает много и вкусно есть и проводит рабочее время на разного рода презентациях и деловых ланчах.
«Наверное, я тоже хочу много и вкусно есть. Иначе зачем бы я тут сейчас сидел?» — подумал Алексей.
Он хотя и не интересовался впрямую, но кое-что о первом лице города до него доходило. Слышал, что мэр является членом правления какого-то торгового дома и соответствующего банка, возглавляет товарищество с ограниченной ответственностью на металлургическом комбинате, президент гуманитарного фонда, то ли филиала фонда «Демократическая инициатива», член ЮНЕСКО. У мэра, это знали все в городе, имелся личный автопарк из четырех автомобилей, правда, пока отечественных марок. Зато две дочки учились за границей в школе менеджеров, и мэр, когда доводилось, охотно делился своей отцовской радостью через прессу с широкой общественностью.
— Алексей Иванович, надеюсь, вы помните наш давешний разговор? К сожалению, мне срочно пришлось выехать за границу, поэтому окончание разговора непозволительно затянулось. Во всяком случае, мы так не планировали. Но, знаете ли, это даже к лучшему. Наши товарищи успели узнать вас, вы узнали их, составили мнение друг о друге. Кстати, мнения о вас самые хорошие. Даже у недругов, смею заметить, — с тонкой улыбкой произнес мэр.— Так что все наши прежние договоренности, я думаю, остаются в силе. Согласны?
Алексей покивал.
— Мы провели вашу кандидатуру через областные инстанции. Время, как видите, зря не теряли. Теперь ваша очередь, Алексей Иванович. На днях, видимо, вам придется съездить в область и со следующей недели, милости просим, принимайте дела у Сапожникова Семена Саввовича. Правьте службу, как говорится.
Далее мэр горько посетовал на удручающее положение в экономике района, о том, что в трудовых коллективах по три месяца и более не получают заработной платы, а маятник хозяйственной, политической, культурной жизни стремительно падает, и конец этого падения, к сожалению, не просматривается.
Затем очень дельно, по существу, мэр проанализировал криминальную обстановку в городе и районе, напомнил упущения Хлыбова, отсутствие профилактической работы и попросил Алексея, как только тот освоится в новой для себя должности прокурора района, подготовить обстоятельный доклад на предстоящую сессию — своего рода программу действий по борьбе с негативными явлениями, в том числе с преступностью.
Велеречивость мэра утомила Алексея настолько, что он уже всерьез начал подумывать об отказе от должности и в ответ ограничился краткой благодарностью за оказанное доверие и выразил надежду, что работать им придется вместе плечом к плечу.
«Мерзавцы сердечно пожали друг другу руки»,— подумал он, пожимая большую, мягкую, как подушка, ладонь.
Мэр города проводил новоиспеченного прокурора до двери и вдруг по-приятельски эдаким чертом подморгнул.
— Светланке, как встретишь, ба-альшой привет. И... ку-ку!
Что означало «ку-ку», Алексей так и не понял, но решил передать непременно. Однако, возвращаясь в прокуратуру, он заподозрил, что его таким образом попросту говоря потрепали по щечке. Щипнули, если угодно, за ягодицу, как девочку.
Войдя к себе он плюхнулся на стул и вдруг подумал: что если жениться не на Тэн, а на Анне Хлыбовой? Любопытно, долго ли после такой свадьбы ему удастся просидеть в прокурорском кресле?
Зазвонил телефон.
— Валяев. Слушаю?
— Алеша, здравствуйте,— услышал он мягкий голос Анны.— Вы меня слышите, алле?
— Да, конечно, и рад, что вы позвонили, Анна Кирилловна. У вас все в порядке?
— Не совсем.
— Не совсем? Это как?
— Совсем никак,— отвечала Анна, тихо смеясь.— Алеша, мне скучно. И страшно.
— Я могу чем-то помочь?
— Да. Если придете.
— Пожалуй...
— Сейчас вы сможете?
— По-моему, да. Да, конечно.
— Хорошо. Буду ждать.
По дороге он купил блок сигарет «Кэмэл» для Анны и пачку газет. Бросил на сиденье рядом и резко рванул машину с места.
Глава 15.
Спустя неделю в кабинет районного прокурора вошел следователь облпрокуратуры Крук. Оглядел помещение, в котором ровным счетом ничего не изменилось. Кроме хозяина. Сел за стол.
— Все служат, но не все дослуживаются,— сонным, безразличным голосом обронил Крук.
— Не все,— согласился прокурор и нажал на клавишу.
— Я слушаю, Алексей Иванович?
— Чашку кофе для гостя. И сигарету?.. Нет, сигарету, кажется, не надо. Кофе покрепче.
Он с любопытством повернулся к Круку и, не ожидая, когда тот нарушит молчание, спросил:
— Чем обязан, Евгений Генрихович? Вы, чай, неспроста заглянули?
Вместо ответа Крук вытащил из кармана сложенную вчетверо шестнадцатиполосную газету «Щит и меч». Толкнул через стол к прокурору. На второй полосе черным, жирным кеглем в траурной рамке был опубликован некролог: «Пал смертью храбрых... СВЕШНИКОВ ЮРИЙ АНТОНОВИЧ, генерал-майор милиции, заместитель начальника УУР ГУВД г. Москвы, народный депутат Российской Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по борьбе с организованной преступностью, преподаватель уголовного права Академии МВД, Заслуженный работник милиции...» Далее шли соболезнования родным и близким покойного, выражения скорби. В конце, под некрологом, около десятка подписей первых лиц в правительстве и высших милицейских чинов.
Алексей с любопытством рассмотрел портрет человека, довольно заурядной, незапоминающейся наружности при полных генеральских регалиях. Отложил газету в сторону.
— Я в курсе, Евгений Генрихович.
— Генерал Свешников найден убитым у себя на даче. Это в районе Волковского шоссе. Удар нанесли сзади, в спину. Предположительно, ножом.
Крук помолчал, глядя перед собой ничего не выражающими глазами. Потом добавил:
— Гениталии на трупе вырезаны. Забиты в рот.
Медлительность Крука была неподражаема. Алексей усмехнулся.
— По поводу генеральских гениталий, Евгений Генрихович, я готов скорбеть вместе с членами правительства. Кстати, убийцу задержали?
— Вартанян при задержании убит. На стоянке в аэропорту Внуково. Кажется, это была ваша законная добыча?
— Да, упустили, к сожалению,— искренне посетовал прокурор под внимательным взглядом Крука.
Вошла Людмила Васильевна с двумя чашками кофе, лучезарно улыбаясь. Крук поблагодарил.
— Я полагаю, Алексей Иванович, вы передадите нашей группе свое расследование. Мы оба дела объединяем и ставим на этом точку. Думаю, такой вариант нас всех устраивает?
— Думаю, да.
Прощаясь, Крук задержался в дверях.
— Дырокольчик не забудьте приобщить.
— Разумеется.
Алексей проводил Крука в приемную. Из коридора навстречу ему шагнул Глухов Иван Андреевич. Бросил раздраженный взгляд на секретаршу.
— Не поладили? — улыбнулся Алексей, пропуская посетителя в кабинет.— Она это умеет. Заградотряд.
— Вызывали? — Глухов бросил повестку на стол.
— У меня к вам, Иван Андреевич, имеются вопросы. Неофициальные, скажем так. А повестка, извините, это мера вынужденная. Мне, откровенно говори, надоело за вами бегать и уговаривать. Садитесь, прошу.
— Что значит, неофициальные?
— Не для протокола.— Алексей помолчал, потом как можно более дружелюбным тоном продолжал: — Есть мнение, Иван Андреевич, ваше дело закрыть, как законченное, поскольку преступник, вымогавший у вас деньги, мертв. Как прокурор я ничего против не имею. Зато имеются неясности, которые мне хотелось бы уточнить. Не для протокола, повторяю.
— Кто мертв? — В лице Глухова сквозило явное недоверие.
— Для вас это новость? — в свою очередь удивился Алексей.— Вартанян убит при задержании в аэропорту Внуково.
Он дал Глухову время осмыслить новость и подвинул через стол газету, оставленную Круком.
— Еще сюрприз для вас. Надеюсь, не менее приятный. Прочтите.
Это были царские подарки, Алексей понимал, и рассчитывал в качестве благодарности как минимум на взаимопонимание. Но лицо Глухова вновь замкнулось. Прочитав некролог, он с равнодушным видом отложил газету в сторону. Пожал плечами. Алексей понял, что договориться не удастся — придется давить.
— Как видите, Иван Андреевич, свою часть работы мы сделали, вопреки вашим прогнозам. И без вашей помощи. Теперь давайте сравним работу, проделанную нами, с тем, что натворили вы. Задачу вы поставили перед собой чисто по-армейски: уничтожение живой силы и техники противника. На поражение. Чтобы создать себе алиби, вы, Иван Андреевич, отправились в Крым. А ваш компаньон по пилораме Урванцев забросал неприятеля гранатами РДГ-40. В результате, два трупа и раненый. Разумеется, невиновные, как это всегда и бывает, когда в действие вступает наша доблестная и непобедимая.
Итак, преступника вы спугнули. Он исчез из поля зрения и сделался стократ опаснее. Представьте на минуту... впрочем , вы уже представляли, я думаю... Представьте, что станется, когда он найдет вашу семью? Вы снова будете получать руки, отрезанные ноги, головы с прибитыми гвоздем записками. Но это будут руки, ноги, головы вашей жены и дочери.
В Крым, Иван Андреевич, вы поехали не ради отдыха, разумеется. Вашу жену или дочь там изнасиловали. Возможно, избили. Но это мои предположения, поэтому не настаиваю.
Алексей вынул из папки лист бумаги. Положил перед Глуховым.
— Докладная записка, Иван Андреевич. Наш человек, оперуполномоченный, случайно оказался в Массандре в одно время с вами. И вновь — два трупа. По странному стечению обстоятельств, оба армянской национальности. Оба строительные рабочие. И что немаловажно, оба срядились на строительстве загородного особняка с бассейном под началом вашего двоюродного брата. Оперуполномоченный не поленился выяснить имя заказчика. Землевладение было оформлено на подставное лицо, но действительным владельцем, опять-таки по странной иронии судьбы, оказался покойный ныне господин Свешников.
Таким образом, Иван Андреевич, вы получили четыре трупа с сомнительной степенью вины. Зато действительные виновники оказались в стороне, вне пределов досягаемости. Вот результат вашей армейской самодеятельности.
Глухов покрутил головой.
— Все ерунда, прокурор. «Одна баба где-то чего-то сказала.» Доказательства? Доказательства где?! Четыре трупа! Да вы с ума посходили.
— Ну, что ж? С меня вы имеете право требовать доказательства. А я обязан вам их предоставить. Но, Иван Андреевич, акционеры из «Российского леса» существовать не перестали, не так ли? Несмотря на нашу вам помощь. Интересно, какие доказательства вы потребуете от них? Или надеетесь, что четыре армянских трупа сойдут вам с рук?
Глухов молчал.
— Не думаю. И вы тоже так не думаете. Поэтому давайте попробуем найти общий язык. Дело о вымогательстве, я уже говорил, мы можем закрыть. Лично я ничего против не имею. Готов, если хотите, рассматривать ваши действия как необходимую оборону. Признаться, я так их и рассматриваю. Поэтому разговариваю с вами не как с обвиняемым.
— Тогда чего вы хотите? — тяжело, исподлобья взглянул на него Глухов. Алексей почувствовал, что воз как будто двинулся с места.
— Во-первых, мне необходима информация по этому вопросу. В полном объеме. Если вы думаете, что мы здесь застрахованы от смерти, то глубоко ошибаетесь. Я подставился на вашем деле, точно так же, как вы. Во-вторых, в стране скрытно, исподтишка идет передел собственности. В условиях правового беспредела фактически это означает вооруженный разбой и грабеж. Надеюсь, на собственном примере вы оценили ситуацию? Поэтому, Иван Андреевич, давайте впредь будем союзниками. У нас с вами есть свои интересы. Местные, так скажем. Попробуем защищать их вместе от московского демворья. Поверьте, в этом деле я вам гораздо нужнее, чем вы мне.
Глухов долго молчал. Алексей вышел в приемную минут на пять, давая ему возможность взвесить предложение. Когда он вернулся, решение, кажется, было принято.
— Что вы хотите от меня услышать?
— Иван Андреевич, я хочу знать досконально, откуда у вашей истории растут ноги? И куда? Почему вокруг вас так много лиц кавказской национальности?
— Ладно, прокурор. Свои секреты, так и быть, доложу. Насчет чужих, не обессудь. Не сейчас во всяком случае.
— Согласен,— Алексей кивнул.— Мои условия вы знаете.
— Так вот,— начал Глухов после некоторого раздумья.— Один такой тип кавказской национальности подсел ко мне за столик в кафе. Было это два года назад в Шуше. Назвался Меликяном. Подробности разговора опускаю; короче, он предложил мне сделку.
— Оружие?
— Разумеется. Чем больше, тем лучше. Расценки известные. В армии этим не промышляет только ленивый. Через неделю встретились еще раз, чтобы обговорить операцию по передаче оружия. Дальше все прошло как по-писаному. На дороге из Агдама в Шушу армянские фераины, как и договорились, устроили мотоподразделению засаду. Завалили камнями узкий участок дороги по курсу. Потом, когда колонна втянулась, устроили сход лавины сзади. Все это в темноте, глядя на ночь, со стрельбой, с матом через усилители, с прожекторами... Потом начались переговоры о сдаче оружия и техники. Парламентеров с нашей стороны взяли в заложники. Словом, эффект от театральной постановки был что надо.
Глухов скривил губы в усмешке.
— Только ты, прокурор, не думай, будто эту кашу варил я один. Я был главный исполнитель, и в случае провала, мне, конечно, грозила участь главного козла. Ну, а что дальше?.. Дальше я подал рапорт, и меня уволили из рядов с чувством глубокого облегчения. Деньги все до копейки я вколотил в пилораму и в деревообрабатывающий цех. Но пока прибыль, как в прорву, уходит обратно в производство и в налоги. Живу, хочешь верь хочешь нет, на зарплату.
— Вы сразу поняли, кто вымогает деньги?
— Не сразу. В Шуше, когда я остался «заложником», кто-то из толпы армян сзади сунул мне в ягодицу нож. «Алыби!» Шутка вроде как, армянский народный юмор. Ну, я со зла вмазал первому попавшему по сусалу, на том все кончилось. Потом эту шутку они повторили в Крыму с женой. По недомыслию, конечно. В общем, поставили подпись.
Глухов говорил через силу, сквозь зубы, комкая рассказ и явно избегая подробностей. Алексей настаивать не рискнул.
— Ублюдков я вычислил просто. Брат, двоюродный, зачем-то повез жену и дочь показывать эту стройку. Больше нигде побывать они не успели. Когда я приехал туда и расспросил брата, что и как, он мне ублюдков показал. А чтобы тебе, прокурор, степень их вины не казалась сомнительной, доложу: ублюдки меня узнали и начали торговаться!
Он с силой ударил кулаком по столу, пытаясь взять себя в руки. Прошло около минуты, прежде чем он заговорил снова.
— Насчет лиц кавказской национальности. В лесу их больше сейчас, чем грибов. Заготовители, мать вашу! В центральной гостинице в области эта сволочь годами снимает под офис несколько люксов. Штаб! Если хочешь, координирующий центр по перекачке крови в масштабах области. Плюс московское дерьмо в лампасах, в масштабе России! Ты, прокурор, не думай,— заключил Глухов,— я твою помощь оценил. И поверил, как видишь. Если мои мужики поверят, как я, одного не оставим.
Алексей улыбнулся.
— Лады, майор. Будем держать друг друга в курсе.
Проводив Глухова, прокурор приказал никого к себе не пускать и в очередной раз сел за бумаги, доставшиеся в наследство от предшественника. Хотя многое он уже знал, о многом догадывался, общая картина тем не менее складывалась удручающая. Мерзость запустенья повсюду и — воровство, повальное, сверху донизу, как образ жизни и как способ мышления, нечто вроде религии; наконец, как великая, национальная, объединяющая все и вся идея. Вероятно, та самая, о которой так долго и так задушевно рассуждает жирующий, столичный бомонд.
Пожалуй, если эту идею сформулировать в виде лозунга, то она прозвучала бы, примерно, так: «Кто не ворует, тот не ест!» Дальше, как говорятся, ехать некуда. Один из страшных смертных грехов превращен в государственную национальную идею...
Алексей откинулся на спинку кресла и посмотрел на часы. 22.15... Ну и ну! Пожалуй, он засиделся, даже чересчур. Не мог вспомнить, когда отпустил секретаршу.
Возвращаться в пустой гостиничный номер не хотелось. Хотя у него, кажется, есть выбор. Можно, например, отправиться к Тэн? Или, скажем, навестить Анну? Нежеланным гостем он не будет ни там, ни тут. Но Тэн, Светлана... визит к ней, так уж получалось, связан с определенными, малоприятными обязательствами, с видами на будущее. А он, если быть честным, еще не отошел от прелестей холостяцкой жизни. Прежний отрицательный опыт застрял где-то на клеточном уровне, и теперь он малодушно бегает от любящей женщины, боясь влюбиться в нее сам.
С Анной гораздо проще. Они симпатичны друг другу, и только. Ну, еще любопытны. Без слез, без сцен, без взаимных обязательств и притязаний на будущее...
Алексей посидел с минуту и снял трубку. Правда, на душе в эту же самую минуту появилось чувство какой-то подавленности. Скорее по инерции он набрал номер, уже жалея о своей поспешность и втайне надеясь, что Анны не окажется дома.
— Да? — услышал он тихий, спокойный голос. И не ответил.— Алеша... это вы?
— Да. Извините.
— Что-то случилось?
— Нет.
Она помедлила, и Алексею показалось, что Анна не одна. Он не услышал, он ощутил там чье-то присутствие, тягостное, раздражающее все его чувства.
— Алеша, вы хотите проехать?
— Не знаю. Нет... наверное.
— Почему нет?
Он снова не ответил.
— Хорошо. В таком случае я вас приглашаю. И не вздумайте улизнуть.
— Я еду. Сейчас... спасибо.
Он тяжело брякнул трубку на место. И затих. Ощущенье чьего-то присутствуя не проходило. Но уже не там, на том конце провода, а здесь. В кабинете. Тягостное, раздражающее присутствие малоприятного человека. Очень знакомое... очень... Он никак не мог вспомнить, с чем это ощущенье связано? Или с кем?.. С человеком, от которого исходит напряжение... давит, как пресс, на окружающих? Выдавливает...
Хлыбов?!
Он вспомнил вдруг свои ощущения, когда в гостиничный номер к Бортникову ввалился пьяный Хлыбов... «К нам едет третий покойник!»
«Неужто Хлыбов... каналья?! Он что, собирается меня пасти? Или пасти свою Анну?.. Ну, нет, приятель. Черта с два! Сегодня в ночь, если это ты... ты будешь стоять у меня на часах, в изголовье. Помнится, этот финт ты тоже проделывал, а? Ха-ха!»
— Ну-с... едем, приятель,— с усмешкой пробормотал он, усаживаясь за руль.— К твоей Анне.
Книга. Улыбка Афродиты
«Муза! Поведай певцу о делах многозлатой Киприды!»
Гомер
Глава 1
Колесница Ночи достигла середины пути — короткая летняя ночь месяца Скорифориона[1], последнего в этом году. Серебряный свет луны падал через узкое, зарешеченное окно и струился вверх по стене, отражая в себе восходящие токи нагретого за день воздуха. В травах звенели хоры цикад.
Асамон лежал на топчане, закинув руки за голову. Его глаза были устремлены вверх и влажно блестели, как два огромных темных агата. Но мальчик не видел щедрых потоков, льющихся в окно, и даже стены вокруг, сложенные из тесаных глыб и грубо измазанные известью, для него не существовали. Какая-то новая, еще непонятная сила владела его воображением. Всем существом он угадывал ее тайную прелесть и те неизъяснимо прекрасные ощущения, прежде недоступные, не простиравшиеся дальше обычного любопытства, которые она сулила. Он чувствовал, как горит лицо и все тело. Но разум, еще неопытный, был бессилен что-либо объяснить; он метался, словно зверек в клетке, посреди бушующего в крови пожара.
Асамон сел на расстеленной козьей шкуре, озираясь, как после долгого забытья. Придя в себя, он прислушался.
Мегакл, наставник мальчика, спал в своем углу, возвышаясь на ложе темной глыбой. Сон старого воина был чуток — Асамон знал это. Он ступил на каменные плиты пола и, не надевая сандалий, двинулся к выходу.
Но уйти незамеченным ему не удалось. Наставник тотчас поворотил на шорох свою большую львиную голову. Хрипло осведомился:
— Ты куда?
Асамон замер и, ничего не ответив, скользнул за дверь.
Его потерянное лицо и глаза, вспыхнувшие на миг в свете луны заставили Мегакла стряхнуть остатки сна. Он приподнялся на локте.
Стрелой пролетев расстояние около плетра, Асамон отступил в тень за колонну. Прислушался. Он не хотел, чтобы Мегакл увязался сейчас за ним. Но сзади было тихо. Асамон быстро пересек пространство до гимнасия, называемого здесь Мальфо, нырнул под его гулкие своды, обогнул здание Совета — Лалихмион, и появился с противоположной стороны у выхода, ведущего на торговую площадь. Площадь была светла и пустынна. Агораномы, надзирающие за торговлей, строго наказывали всякого, кто пытался устроить в общественном месте ночлежку. Хотя нижний город, лежащий за стенами акрополя, был переполнен.
Асамон сбежал по ступеням гимнасия и двинулся в направлении северных ворот.
Камни городской площади еще хранили полдневное тепло, но в воздухе ощутимо тянуло речной прохладой. Миновав городские ворота, Асамон оказался на улице, которая тянулась вдоль стен акрополя и называлась Дорогой Молчания. Он ускорил шаг и спустя короткое время вышел на берег Меняя.
Легкий ветерок слегка рябил ночные воды, и вся поверхность реки переливалась серебряными блестками. Мальчик оставил одежду на камне и бросился в воду. Она была теплой, и, чтобы остыть, он заплыл на середину, где течение было сильнее, а нагретые за день поверхностные воды мешались с глубинными, прохладными струями. Но этого ему показалось мало. Он взялся нырять до дна и, ухватившись за водоросли, подолгу не показывался на поверхности. Какая-то крупная рыба, потревоженная ночным купанием, скользнула по плечу и заставила вздрогнуть. Он подумал — как хорошо, что это всего лишь Мений. Окажись он сейчас в Египте на берегах великого Нила, он бы давно стал добычей прожорливых крокодилов. Странно, что сами египтяне почитают этих мерзких тварей за божество и не истребляют их.
Бывая с отцом в Египте по торговым делам, Асамон не раз наблюдал, что даже собаки на берегах Нила, когда хотят напиться, ведут себя крайне осторожно. Они бегут вдоль берега, держась от него на расстоянии и зорко всматриваясь в поверхность воды. Вдруг собака бросается со всех ног к прибрежной кромке, чтобы сделать глоток-другой, и тут же отскакивает в сторону. Затем она бежит дальше и время от времени повторяет этот маневр, пока не утолит жажду.
Вдоволь наплававшись, Асамон вышел на берег. Смуглая кожа мальчика покрылась пупырышками, но он чувствовал себя освеженным.
Течение снесло его шагов на полтораста от камня, где была оставлена одежда. Но когда Асамон вернулся на старое место, одежды там не оказалось.
Он огляделся.
В стороне, под крепостной стеной, маячили разбитые палатки, навесы и многочисленные повозки с дышлами, упертыми в землю. Кое-где еще дымились потухшие костры. Вор, скорее всего, пришел оттуда и туда же вернулся.
Асамон выбранил себя за легкомыслие и хотел уйти, как вдруг коварный план в одно мгновение созрел у него в голове. Он быстро присел за камень и под прикрытием береговой кромки метнулся в камышовые заросли. Вор, если он действительно оттуда, наверняка следит за ним — ведь ему важно убедиться, что все сойдет благополучно, без опасных последствий.
Асамон затаился, зорко всматриваясь в это убогое становье. И не ошибся...
Некоторое время спустя солома под одним из ближних к нему навесов зашевелилась, и над копной показалась лохматая голова. Вне сомнения, это и был вор. Лица мальчик не разглядел, но, судя по развороту головы, взгляд человека был обращен сюда, к камню. Он явно недоумевал, куда мог подеваться тот, кого он ограбил? Только что стоял, и вдруг исчез. Словно провалился сквозь землю.
Вор даже привстал на четвереньки, настолько это исчезновение его озадачило.
Асамон с досадой подумал, что знать вора, пусть даже в лицо, и поймать его за руку — совсем не одно и то же. Украденная одежда наверняка спрятана в укромном месте и теперь ее не вернуть. Устраивать обыск посреди ночи в его положении нелепо. Но зло должно быть наказано.
Глаза Асамона сверкнули бешенством.
Он выждал порядочное время, пока вор не убрался на свое место. Прислушался... Все в округе замерло, погрузившись в сладкую предутреннюю дремоту. Стараясь не хлюпать в болотистой жиже, Асамон выбрался из своего укрытия и, крадучись, как рысь, достиг ближайшего к нему кострища. Из-под толстого слоя золы он выхватил тлеющую головешку, слегка на нее подул. Синие огоньки пробежались по накаляющимся угольям. Асамон помахал ею над головой, сильнее раздувая огонь. Вытащил из костра еще одну. И в два прыжка оказался перед навесом. Он сунул головню под копну, к ногам спящего, чтобы тот раньше времени не почуял. Вторая, прочертив в ночи огненную дугу, полетела в стоящую рядом повозку, тоже набитую соломой. И метнулся прочь, к городским воротам, которые находились отсюда в какой-нибудь сотне шагов.
Уже стоя под аркой в створе ворот, Асамон увидел, как в черной тени под навесом полыхнули вверх длинные языки пламени. Раздался дикий вопль.
Оставаться тут дольше было небезопасно, его могли заметить, и Асамон побрел прочь, голый, весь заляпанный болотной грязью. В таком виде он переступил порог своего жилища.
Мегакл, развалясь на ложе, обгладывал баранью кость и явно поджидал питомца. Перед ним стояла корзина с едой, припасенная еще с вечера. С возрастом в характере наставника появились две забавные черты — он перестал соблюдать меру в еде и сделался излишне многословным.
— Ого! — вскричал он.— Клянусь Гермесом, ты весело провел эту ночь. Хотя должен заметить, тебе не следовало бы устраивать поджог из-за поношенной тряпки. Согласись?
И оглушительно захохотал, видя, в какое изумление повергли мальчика его слова.
— Ты переел, Мегакл, и тебе лезут в голову глупые мысли. Ты сам так говорил.
Наставник хмыкнул.
— Ты научился огрызаться. Но этого мало, когда оставляешь после себя столько следов. Взгляни — твои волосы не просохли. Значит, ты купался. После купания у людей принято надевать на себя одежду. На тебе одежды нет. Потерять её ты не мог. Снять перед дверью — тоже. Следовательно, тебя обокрали. Теперь покажи руки — они в саже. Но тебе показалось этого мало, ты размазал сажу по лицу, чтобы каждый, кто встретит, мог уличить тебя в поджоге.
— Какой еще поджог? Я просто упал! — возмутился Асамон.
Мегакл ткнул огромной ручищей в окно.
— Тсс! Слушай...
С берега, чуть слышные, доносились крики. Ощутимо пахло гарью.
— Ну, что ты теперь скажешь?
Асамон вынужден был признать поражение.
— Ты догадался потому, что давно знаешь меня,— нехотя выдавил он.
— Это так,— согласился наставник.— Но ты забыл, что мое, ремесло — война. Прежде, чем я встречусь с противником нос к носу, я должен знать о нем все. Даже то, идет он в бой натощак или с набитым чревом. Отвага, она хороша, когда за ней стоит знание и трезвый расчет. Ступай сюда, тебе надо умыться.
Он поднял стоящий в углу килик с отбитой ручкой, плеснул Асамону на руки.
Наставник лукавил, по обыкновению. Достаточно было одного взгляда на крупное, мясистое лицо, обезображенное шрамом, чтобы догадаться о ремесле этого человека.
Случилось это в далекой Памфилии, при реке Евримедонте. Персы соорудили из своих кораблей, вытащенных на сушу, настоящую крепостную стену. Попытки поджечь напитанное морской водой, облепленное ракушками и тиной дерево ни к чему не привели. И греки решили брать укрепление штурмом. После ожесточенного сражения, ближе к ночи, персы бежали, надеясь найти спасение в темноте. Молодые, резвые на ногу воины отправились в погоню. Те же из греков, кто был постарше, в числе их Мегакл, занялись помощью раненым и сбором военной добычи.
Этот перс был третьим по счету, которого он отыскал среди множества поверженных тел. Судя по богатой одежде — знатный военачальник. Ухватив за ногу, Мегакл вытащил его из груды мертвецов и принялся снимать чешуйчатый доспех.
И вдруг перс ожил.
В мгновение ока он выхватил кинжал и полоснул неосторожного воина по горлу. Вне сомнения, он надеялся отлежаться тут до темноты и под покровом ночи улизнуть с поля брани. Мегакл едва успел отпрянуть, лишь это спасло ему жизнь. Лезвие скользнуло наискось по лицу и развалило мясо до кости. Перс бросился бежать. Взревев от боли, Мегакл подхватил брошенный в стороне дрот и со всей силы метнул его вдогон. Смертоносный снаряд ударил беглеца в плечо на расстоянии около полусотни шагов — так быстро он бежал, прыгая через тела павших в бою соотечественников. В ярости, стеная от боли, Мегакл изрубил хитреца в куски, не пощадив богатого доспеха.
Но глаз окривел. Из полученных им ран эта оказалась последней, после чего он оставил военную службу навсегда.
Растирая Асамона собственной хленой из грубошерстной ткани, Мегакл с удовольствием рассуждал:
— Мой друг, ты выследил вора и наказал его. Это хорошо. Хотя, судя по воплям, которые слышу, пострадал не он один. Что поделаешь, мир устроен не лучшим образом. Но, поступая так, ты не подумал о последствиях. И это плохо. Прежде всего для тебя. Правда, в юные годы о последствиях никто никогда не думает. Что я имею в виду? Садись, ешь. И слушай...
Он подвинул корзину Асамону и продолжал:
— Давай посмотрим на твой поступок не с нашей точки зрения, а с точки зрения Совета гелланодиков, здесь, в Элиде. Да, у тебя украли твою вещь. Что ты должен сделать? Ты должен обратиться к городским властям и указать им вора. Но вместо этого под стенами города, которому покровительствует сам Зевс, ты развернул настоящие боевые действия. Это в то время, когда по всей Элладе объявлена «экехейра». Священное перемирие. Я думаю, приговор может быть один — исключить Асамона, сына Дамасия из Афин, из списка допущенных к состязаниям в Олимпии.
Асамон вскочил, опрокинув корзину на пол. Лицо его выразило неподдельное отчаяние.
— Это так, мой друг. И поверь, ты никому не докажешь, что с тобой поступили несправедливо.
Правота наставника была несомненной. После десяти тяжких месяцев, проведенных Асамоном в гимнасиях Элиды в каждодневных телесных упражнениях, после того, как он выдержал все испытания на право быть допущенным к играм, такой бесславный конец — это настоящая катастрофа.
Видя потерянное лицо мальчика, Мегакл поспешил его успокоить.
— Не огорчайся так, не все возможное становится действительным в конце концов. Но на будущее мой тебе совет — держи язык за зубами. И не вздумай похваляться. По крайней мере, до окончания игр.
Асамон кивнул и молча опустился перед корзиной на корточки. Он был расстроен. Но не только по причине возможных последствий, хотя последствия могли быть неприятными, а скорее из-за ущемленного самолюбия. Мегакл, как это бывало и прежде, знал о нем все — с первого взгляда. И даже больше, чем Асамон сам мог знать о себе. Мало того, он легко предвидел многие поступки своего питомца и иногда успевал даже предостеречь. Тогда как для Асамона его собственные выходки нередко становились полной неожиданностью.
Вот и сейчас он ощущал себя глупой антилопой, которая радуется, что убежала от преследователей, а на самом деле с каждым прыжком приближается к засаде. Через мгновение она будет биться в предсмертных судорогах на земле с пробитой стрелой шеей... Глупый возраст. Глупый и вздорный.
Асамон поставил корзину на место.
— Теперь иди сюда. Я должен кое о чем тебя спросить.— Наставник стоял у окна, и здоровый глаз его светился лукавством.— Взгляни в окно. На луну. Когда на луну смотрю я, старый вояка, да еще одним глазом, она напоминает мне щит, который надраили перед боем до блеска, чтобы слепить глаза противнику. Если на луну будет смотреть рыночный меняла, он скажет тебе, что луна похожа на большую серебряную драхму. Щеголь наверняка увидит в ней украшение, и тоже по-своему будет прав. Ну-ка, скажи теперь ты, что видишь, глядя на это ночное светило?
Асамон хотя и ожидал подвоха, но вспыхнул от неожиданности. И потупил голову. Нет, решительно ничего нельзя было сохранить в тайне от Мегакла.
Наставник хохотнул и с прямотой, присущей людям его профессии, осведомился:
— Уж не похожа ли она на смазливую рожицу той девчонки, которую ты высмотрел вчера в толпе? А?
Глаза Асамона сверкнули бешенством.
— Я высмотрел ее не вчера. Но это касается только меня.
Он лег на топчан лицом вниз. Спустя время наставник тяжело опустился рядом. Положил руку на плечо.
— Пойми меня тоже. Я ведь спросил об этом не из праздного любопытства.— Он примиряюще вздохнул.— Когда две ночи кряду ты дырявишь глазами потолок, а днем все валится из рук — это не дело. Ты раскис, мой мальчик.
Наставник был прав, как всегда, и у Асамона достало благоразумия признать его правоту. Поэтому, когда Мегакл осведомился, кто та красотка, сокрушившая его дух, и как ее имя, Асамон, скрепя сердце, признал, что не знает о ней ничего. Она из Лакедемона — это единственное.
Большего Мегакл от него не добился.
— Из Лакедемона? — сердито проворчал наставник.— Значит, она явится поглазеть, как твои соперники станут выколачивать из тебя пыль на скамме. Думаю, это зрелище ей придется по вкусу.
На Асамона его слова произвели неожиданное впечатление. Он сел и уперся в наставника глазами, похожими на темные озера, окруженные лесом ресниц.
— Мегакл, но по законам Элиды женщины не имеют права даже появляться в Олимпии. Ты сам говорил.
Мегакл усмехнулся.
— Замужние женщины — да. Но девушкам, и гетерам тоже, элейцы не препятствуют в этом.
Асамон был обрадован чрезвычайно, однако ж заметил, что не видит в подобном законе и капли здравого смысла. Это замечание развеселило наставника. Отсмеявшись, он поднял в знак внимания свой толстый, корявый палец.
— Один богатый путешественник из Индии около года провел в великих Афинах. И очень хвалил наши порядки. Но перед тем, как отбыть на родину, заметил: «У вас в Народном собрании говорят умные, а законы пишут и решают дела дураки». Неплохо сказано, не правда ли?
Мегакл помолчал, огладил жесткую бороду.
— Отчасти это так и есть. Если смотреть со стороны. На самом деле, даже в самых глупых законах — очень глубокий смысл. Боюсь, всего ты не поймешь. В твоем возрасте подобные вещи проходят мимо сознания, но на всякий случай я объясню. Так вот... глупый закон, это как бревно на дороге. Его необходимо объехать. Но объехать закон — значит закон нарушить. А чтобы одни его не нарушали, необходимо, чтобы другие за этим строго следили. И чем глупее закон, тем больше он требует людей, охраняющих его неукоснительное исполнение и получающих за это хорошее жалованье за счет города. Но жалованье при глупом законе — мелочь по сравнению с той властью, которую он дает в руки. По сравнению с почетом, которым тебя окружают те, для кого этот закон становится поперек дороги. А чего стоят подарки, которые сыплются на тебя со всех сторон? Взятки, подношения, пиры, на которых ты первый и почетный гость? Поэтому, мой друг, глупых законов много и живут они долго. Что касается умных, то я на своем веку таковых даже не упомню. За хороший, умный закон народ должен драться, как при осаде на городской стене. Э... да ты никак спишь?
Не услышав ответа, Мегакл склонился над изголовьем. Асамон спал, разметавшись на ложе. Легкая, нежная улыбка чуть трогала во сне его еще подетски припухлые губы.
Глава 2
В прошлом году, в начале месяца Таргелиона, афинский купец Дамасий с сыном вышли в море на двух торговых кораблях. Их трюмы были набиты оружием. Погода держалась благоприятная, дул устойчивый попутный ветер, и уже наутро четвертого дня корабли показались в проливе между южной оконечностью Пелопоннесса и зеленой гривой острова Киферы. Они обогнули серые скалы Парнонского хребта и вскоре входили в знаменитый Лаконский залив. Восточный ветер, отрезанный от акватории залива длинной грядой, стих, и паруса на реях безнадежно повисли.
Стоя на передней палубе, Асамон с любопытством разглядывал мощные хребты Тайгета. Отдельные вершины, он насчитал их пять, даже летом сверкали белоснежными ледниковыми шапками и тянулись далеко на север. Корабли один за другим вошли в устье Эврота и, напрягая весла, двинулись вверх по реке. К полудню они одолели расстояние в несколько парасангов и встали на причал.
Это была Спарта, город на семи холмах.
Едва корабельщики закрепили петли на причальных столбах, на берегу в пестрой толпе торгового люда появился огромный, воинственной наружности, лохаг.
— Эй, кто такие?
Его голос мало походил на человеческий. Скорее, это был львиный рык. Дамасий, путаясь в складках одежды, выбрался на палубу.
— Мое имя Дамасий, сын Эвкла из Афин. Торговец.
На хмуром лице гиганта мелькнуло подобие улыбки. По мановению руки, держащей копье, к причалу выехало около десятка грузовых колесниц, ожидавших прибытия кораблей. Дамасий довольно крякнул. Он давно заметил, что даже хлеб, которого из-за скудости почв в его родной Аттике всегда недоставало, и тот скачет в цене, словно норовистая кобылица. Зато оружие в цене было всегда. На сбыт Дамасий не жаловался. Асамону он объяснил это так: «Если ты не умеешь защищать себя и не имеешь средств для защиты, хлеб тебе не понадобится».
По уложенным сходням спартанец первым взошел на корабль. Вблизи он оказался еще громаднее. Даже корабль под его весом дал ощутимый крен. Два толстых кожаных мешка с клеймами с тяжелым звяком упали на палубу к ногам Дамасия.
— Здесь плата. Считай, афинянин.
Забыв о возрасте, Дамасий резво склонился над мешками. По распоряжению басилевса общинная казна Спарты щедро рассчиталась с ним за оружие золотыми персидскими дариками. Эти монеты имели хождение не только в Элладе, но далеко за ее пределами, во многих землях, отложившихся ныне от великого царства персов.
— Милость богов все делает легким,— довольно бормотал Дамасий, сидя на корме под навесом и пересыпая в ладонях масляно-желтые, сияющие дарики.
Асамон послонялся в порту меж торговых рядов и, оглянувшись по сторонам, повернул в город. Он опасался лишь одного: чтобы никто из людей, прибывших с ним, не увидел его и не донес об этом отцу. Но на полпути сзади, мимо, с грохотом пронеслась колесница и круто затормозила в облаке поднятой пыли.
— Гей! Ступай сюда! — прогремело с колесницы.
Асамон остановился. Это был тот самой лохаг, но выглядел он более дружелюбно, чем там, на причале. Левой рукой он удерживал рвущихся в поводу коней. Асамон отрицательно мотнул головой.
— Я еще не разучился ходить.
Спартанец гулко расхохотался.
— Ты можешь не успеть на праздник. Спеши, афинянин.
Асамон понял, что его опасения напрасны, и вспрыгнул на колесницу, крепко ухватившись за скобу. Кони рванули с места и полетели вверх, в город. Возле круглого здания, посвященного Зевсу и Афродите Олимпийским, спартанец круто осадил коней.
— Иди туда.
Он указал вдоль шпалеры столетних дубов и, явно довольный чем-то, оскалил в улыбке крепкие зубы. Глядя вслед колеснице, Асамон вспомнил слова отца: «Сделка считается взаимовыгодной, если каждая из сторон искренне полагает, будто она крепко надула другую».
Что ж, спартанцы ценят оружие, в Афинах же оружию предпочитают деньги. Скоро Асамон и сам убедился, что это так. Все спартиаты в городе, от мала и до велика, носили при себе короткий меч на перевязи, либо кинжал. Даже окликнувший его дряхлый старец, которому Асамон помог сойти со ступеней Скиаса, и тот подпирал свою немощь не посохом, а шел, держась за дрот с грозно отточенным двуострым жалом. В Афинах все было наоборот. Если ты появился с оружием в общественном месте, закон карал тебя штрафом. При повторном нарушении виновного попросту бросали в яму.
Поддерживая старца и с любопытством озираясь по сторонам, Асамон двинулся в указанном направлении за праздной толпой горожан.
Вскоре он оказался на главной площади города. Это место здесь называли Хором. Посреди многолюдья они отыскали удобное место под сенью памятника «Народу спартанскому» на углу улицы Афетаиды, ведущей с площади. Старик пояснил, что именно здесь, на этой улице, Икарий устроил состязание для женихов Пенелопы, и выиграл состязание Одиссей. Доказательство тому — храм Афины из розового камня на противоположной стороне, построенный Одиссеем в честь победы над женихами. Он назвал его Калевфие, «богиня дорог».
Звуки медных тимпанов всколыхнули толпу. Все взоры устремились вдоль Афетаиды.
Со стороны гимнасиев показалась группа гарцующих всадников с яркими значками на древках копий. Могучие дубы по обе стороны дороги смыкались над нею широкими кронами, образуя зеленый свод. Солнце пронизывало пышную листву и пятнало дорогу веселыми, дрожащими бликами. За всадниками по мягкой подстилке из прошлогодних листьев двигалась праздничная колесница, запряженная четверкой коней, вся убранная цветами и лентами. Музыканты рядом с возничим играли на свирелях, били в тимпаны. Приветственные выкрики усилились, когда вдоль Афетаиды показалась колонна длинноногих юношей-эфебов. Их смуглые тела были полностью обнажены. Под блестящей кожей, умащенной оливковым маслом, рельефно перекатывались могучие мышцы. Юношеская гибкость в сочетании с геркулесовой мощью тел представляли зрелище, достойное бессмертных.
Из разговора со старцем Асамон уяснил, что в Спарте воспитание духа и плоти никогда не было делом частным или семейным. Оно было сурово и сложилось в недрах государственного устройства. Но даже воспитанием назвать его было нельзя. Это был образ жизни — от колыбели до самой могилы, выведение особом породы людей. Сердца этих юных воинов уже не ведали страха, и на поле боя им не было равных. Перед глазами Асамона грозными рядами шествовала военная мощь Спарты, залог ее будущей силы и процветания. Только теперь, завороженный зрелищем, он понял, почему этот город, единственный в Элладе, не имеет крепостных стен. Боги войны — им некого бояться среди смертных.
Колонна вступила на площадь.
Вдруг легкий ропот, не то восхищенный вздох, прошелестел над Хором. Толпа прихлынула к обочине и уплотнилась. Даже выражение лиц вокруг стало иным. За эфебами на расстоянии около полусотни шагов шествовала колонна юных дев, из числа только вступающих в детородный возраст.
Великий Ликург, мудрец и законодатель спартанского государства, составляя свои знаменитые «ретры», понимал, что настоящих мужей способна рожать только здоровая и свободная женщина, а не бесправная полурабыня, униженная даже в своей семье, как жены всех прочих народов. «Унижая — унижаюсь!» — сказал Ликург и предоставил спартанкам все права, какими владели спартанские мужи. Но ни одна из юных жен и девушек не имела права баловать себя и предаваться неге. Наравне с мальчиками они обязаны были посещать гимнасий, бегали, прыгали, метали, укрепляя силу мышц и заботясь о красоте и свежести тела.
В праздник Гимнопедий — день обнажения, как и юноши, они шли на площадь нагими, не имея на себе даже украшений, а на лице следов краски и притираний. В этот день на Хоре сограждане, в особенности молодые люди, могли лицезреть их юную красоту и совершенства, либо увидеть и осудить телесные недостатки — результат праздной жизни и невоздержанности.
Обычая, подобного этому, Асамон не знал, хотя успел побывать во многих землях. Юные девы проходили мимо него, легко покачивая стройными бедрами и едва не касаясь распущенными волосами его лица. Нагие тела их благоухали нежнее, чем ароматы цветущих роз, призывнее, чем запахи изысканных аравийских благовоний, когда за малую толику редкого вещества отдают, не торгуясь, верблюда.
Асамон чувствовал себя так, словно внутри него пылал огромный факел. И тогда посреди восхитительного шествия он увидел ее — впервые!
Ни в эти мгновения, ни много дней спустя, он так и не понял, почему из множества прелестных созданий, чья совершенная красота поражала воображение, он выделил эту девочку? Но тогда Асамон тотчас прозрел ее состояние. Она вышла впервые на суд сограждан, трепетная от непривычной наготы, словно дикая серна, и в то же время начиная сознавать свою юную силу и привлекательность, ловя на себе восхищенные взоры мужчин, тайную зависть и грусть отцветающих женщин.
Мимо Асамона она прошла, полыхнув по его лицу ярко-синими глазами. Потом гибко прильнула к своей белокурой подруге, изогнув нежный стан, и что-то сказала ей. Обе рассмеялись, словно рассыпали по мостовой серебряные, звонкие драхмы. Уже удаляясь, юная грация обернулась еще раз с трепещущей на ярких губах легкой улыбкой, и этот ее взгляд, темный, глубокий, принадлежал уже не девочке, но юной женщине, впервые в жизни, быть может, осознавшей свою страшную власть над мужчиной.
Вслед за шествием толпы людей хлынули на дорогу и потянулись на площадь. В центре Хора согласно заиграли две флейты, женская и мужская, сопровождая своими голосами танец «ожерелья» — совместную пляску юношей и девушек.
Асамон стряхнул с себя оцепенение и увидел, что остался один у подножия памятника. Когда он, работая локтями, протолкался в передние ряды, хоровод, исполняющий «ожерелье», рассыпался под одобрительные возгласы в толпе. Вместо него на Хор явились десять юношей. На них были надеты латные доспехи, а в руках были короткие мечи. Это был танец «клещей», исполняемый вприсядку. Юные воины в позе клещей стремительно перемещались по широкому пространству. Они то сходились в несокрушимую фалангу, то рассыпались в стороны, а затем двумя полукружиями охватывали невидимого врага в кольцо, и тогда звенели мечами. Танец требовал согласных движений и воспроизводил засадные боевые действия. Вдруг все десять разом исчезли, метнувшись в стороны. Лишь звон мечей, угасая, еще висел над пустынным Хором, и медленно оседала пыль.
Военные пляски чередовались, сменяя одна другую. За танцем «клещей» последовала «пирриха», исполняемая со щитом. Затем был танец «журавлей», состоящий из высоких прыжков и вращений. Танец Полидевка и Кастора, называемый здесь «кариатидой», и другие. Каждый юноша обязан был продемонстрировать согражданам свое искусство танца, которое ставили в Спарте наравне с военным. Оно являлось составной частью их боевой подготовки.
По преданию, одному из титанов, его имя было Приап, великая богиня Гера поручила воспитание сына Арея, тогда еще мальчика, но обнаружившего суровый и мужественный нрав. Приап обучил Арея владеть оружием, но не прежде, чем сделал из него превосходного плясуна. За это Приапу от Геры была положена щедрая плата во все времена получать от Арея десятину с приходящейся на его долю военной добычи. Пляска Арея, от зрелища которой кровь застывала в жилах, была верхом этого искусства. Но кроме искусства она требовала от танцующего великой отваги. Поэтому, когда посреди Хора возникла одинокая фигура юноши, толпа встрепенулась вдруг, и мертвая тишина разом воцарилась над площадью.
На нем не было крепких лат. Лишь легкая набедренная повязка и остро-отточенные мечи в опущенных долу руках.
Резкие звуки флейты словно подбросили юношу. Он выкинул руки вперед и принял боевую позу. Затем, двигаясь боком, быстро заскользил в сторону, влево, действуя одними лишь ступнями и делая угрожающие выпады. Но пути дальше не было. Эфебы стеной встали перед ним, обнажив мечи. Так же, боком, он скользнул в другую сторону. Затем в третью... Всюду были враги. Кольцо, в котором он метался, неотвратимо сжималось. Еще несколько кратких мгновений, и они изрубят его в куски.
Пляска Арея изображала бой одинокого воина, оказавшегося во время битвы в окружении врагов.
Стиснутый со всех сторон на пятачке, юноша издал вдруг боевой клич и дерзко пошел в атаку. Словно смерч, он вращался на месте в облаке взбитой пыли, отражая сыплющиеся со всех сторон удары, нападал сам и, подобный молнии, поражал врага одного за другим. Его мечи гудели, рассекая воздух и сливаясь порой в сверкающий, словно крылья огромной стрекозы, круг. Он катался по земле, метался из стороны в сторону, вспрыгивал высоко вверх, вращался и наносил вокруг себя смертельные удары.
Враг, ошеломленный таким отпором и смертью воинов, медленно двинулся вспять. Кольцо раздвигалось.
Асамон не мог понять, сражается он всерьез или же только обозначает удары. Но недавние его товарищи рубили наотмашь, без жалости, и тут уж сомневаться не приходилось. Между тем, цепочка эфебов обошла его по кругу и встала на отдалении с грозно поднятыми над головой дротами. Они не сумели взять его в ближнем бою, поэтому решили забросать дротами. Юноша в центре, озираясь, сжался в комок. Его глаза пылали, как уголья. Лицо заострилось от напряжения. Последовала команда, и — десять дротов с одной стороны с шипением пронзили то место, где он только что стоял. В толпе, не выдержав, закричала женщина.
Но юноша был цел и невредим, хотя никто из публики не успел даже заметить, как он оказался в другом совершенно месте, настолько стремительны были его движения.
И тотчас ударили дроты с другой стороны...
Уклоняясь от бросков, он нападал сам. Три вырванных из земли смертоносных снаряда, пущенные могучей рукой, уже торчали, вздрагивая древками, у ног окружающих его эфебов. Но вот дроты полетели в юношу со всех сторон, беспорядочно, и он вновь превратился в подвижный, ускользающий смерч. В этом облаке пыли и сверкающей стали дроты ломались, перерубленные им, словно жалкий тростник, и много их обломками усеяло площадь. Наконец ударом меча о бронзовый щит бидией прекратил танец. Юноша вскинул вверх руки и, издав торжествующий клич, с размаху вогнал оба меча в землю по самые рукояти. Публика, обрадованная счастливым исходом, хлынула к нему со всех сторон. Но возбуждение юноши было столь ужасно, и он так дико повел глазами, что люди в смятении остановились. Но тотчас со смехом забросали искусного плясуна цветами...
После той памятной поездки в Спарту прошел год, и еще месяц, и Асамон никак не предполагал, что судьба вновь столкнет его с лакедемонянкой. На сей раз в Элиде. Это случилось три дня назад на рыночной площади. Он вдруг увидел в толпе мелькнувшее лицо и поначалу растерялся. Но в следующий момент бросился в толпу следом, опрокидывая деревянные лотки с рыбой, корзины, расталкивая встречных.
Все было напрасно. Она словно провалилась в Тартар.
Под улюлюканье и брань, помятый, Асамон выбрался наконец из торговых рядов, хотя ему показалось, лакедемонянка узнала его тоже. Легкая улыбка чуть тронула ее губы и была тому доказательством. От бессилия и досады на собственную неповоротливость Асамон едва не плакал. Взъерошенный, с горящими глазами, он возвратился лишь к ночи и до утра не уснул.
«Может быть, она ускользнула намеренно, желая избежать встречи? Но почему?» — терзался он сомнениями. И не находил ответа.
Год назад в Спарте, когда юные девы закончили свой танец, Асамон, замирая сердцем, ступил на Хор и направился к ней с цветами. С большой охапкой белоснежных, словно вершины Тайгета, асфоделей. При его приближении юная грация поспешно отвернула лицо в сторону и даже прикусила губу, желая скрыть, что польщена вниманием. Но радость ее была столь непосредственна, что торопливый жест не скрыл, а скорее обнаружил эти чувства. Асамон положил цветы к ее ногам и встал перед нею, едва дыша. Ее нагота ослепляла, с равным успехом он мог бы смотреть на солнце. В смущении, не чуя под собой ног, он повернул назад и смешался с оживленной толпой.
Впрочем, теперь Асамон понимал, что к ее чувствам имел слишком мало отношения. Любой другой мог оказаться на его месте с цветами. Ей было лестно именно внимание, что кто-то, кто бы он ни был, выделил ее одну принародно среди многих достойных.
Глава 3
Предместья города, расположенные в низине, укутал густой туман. Словно в половодье, торчали из глубины его острые вершины затопленных кипарисов. Над ними высоко в звездном кебе громоздились мрачные, чуть тронутые отблесками далекой зари, крепостные башни и стены акрополя. У подножия стен курились и таяли причудливые клочья тумана. Все зрелище напоминало скорее мираж в безводной аравийской пустыне.
По сигналу трубы из южных ворот выехала группа всадников. Они медленно двинулись по дороге вниз, раздвигая крупами коней толпы идущих и оттесняя их на обочины. Движение замерло. Все взоры устремились под арку южных ворот — навстречу движущейся строгой колонной процессии. Впереди шли гелланодики в пурпурных, ниспадающих до пят одеждах. Их было девять, по числу фил. За гелланодиками гордо шествовали лучшие граждане города-устроителя Олимпийских состязаний Элиды во главе с тираном Дамаретом, сыном Этимона.
Торжественная процессия, словно громадная, ярко расцвеченная гусеница, вытягивалась из-под арки.
За делегациями греческих городов многочисленной и шумной толпой проследовали гости Олимпии — послы дружественных и недружественных держав, именитые купцы, съехавшиеся на великую ярмарку в Олимпии со всех концов света, путешественники, известные философы, люди искусства, великие врачеватели и шарлатаны, прорицатели будущего, ораторы, фокусники и просто толстосумы, любители всевозможных зрелищ — люди разных рас и разных народов.
Толпы зевак зычным ревом приветствовали появление колонны атлетов, пожелавших принять участие в шествии. Их знали в Элиде все, знали в лицо и по имени, ибо вход в гимнасии не был заказан никому. Имена многих из них гремели по всей Элладе и за ее пределами; даже города, которые они здесь представляв, стали известны только потому, что они были оттуда родом.
За атлетами темнокожие рабы вели в поводу лучших в подлунной рысаков и годовалых жеребят, убранных богатыми попонами и коврами. Они тоже проходили жесткий отбор и испытания на ристалищах Элиды, прежде чем были допущены к состязаниям в Олимпии. Тысячный табун прогрохотал по вымощенной камнем дороге, вызывая восхищенные восклицания и завистливые вздохи в толпе.
Наконец показался обоз — многочисленные повозки, длинные грузовые фуры, колесницы, жертвенный скот, украшенный венками и лентами — все это замыкало торжественную процессию и двигалось в одном направлении — в Олимпию...
...К полудню, когда солнце повисло в зените и с расплавленного небесного купола задышало обжигающим, колючим зноем, колонна вступила на горную часть Священной дороги под спасительную тень широколистных дубрав. Люди понемногу оживали после недавней полуобморочной жары и с наслаждением вдыхали лесную благодатную свежесть.
Асамон только теперь понял, почему выступление из Элиды было назначено на столь раннее время, почти в темноте.
Миновали Алисий, небольшое селение, расположенное среди диких скал. Живописные руины, останки некогда роскошных зданий, увитые плющом и дикой лозой, как бы висели над полотном дороги, готовые вот-вот сорваться. Во времена Гомера здесь был богатый город, знаменитый своими ярмарками, но людская алчность и злоба сделали свое дело. Город захирел.
В пестрой, разноязыкой толпе Мегакл случайно наткнулся на своего старинного приятеля с Родоса по имени Диагора с двумя взрослыми сыновьями. Радуясь встрече, два бывших наемника взяли мешки, корзину, пустой мех и повернули в селение. Немного спустя они возвратились, груженные снедью, виноградным вином и фруктами, премного собой довольные.
Вскоре вся группа, включая семейный обоз Дамасия с рабами, подводами, лошадьми, свернула с дороги на широкую каменистую площадку, зажатую между отвесными скалами. Здесь было прохладно и сыро. Изрытые глубокими трещинами стены обильно струили вниз потоки светлой воды. Часть ее попадала в большую вымоину и превращалась затем в звонкий ручей, который терялся в густых можжевеловых зарослях среди скальных нагромождений.
Возле вымоины Диагора опустился на обломок базальта. Жестом пригласил остальных последовать его примеру. Это был крепкий еще, широкий в кости старик с дочерна загоревшим лицом — результат постоянных походов. Волнистая, с проседью борода и седые волосы, забранные под ремешок, живописно обрамляли его лицо. Но одежда Диагоры была крайне непритязательна. Длинный гиматий серого цвета, единственным украшением которого служила красная кайма, и хитон, схваченный на плече простой медной застежкой. На ногах — короткие сапоги из грубо обработанных воловьих кож.
Улучив момент, Асамон спросил у Мегакла, кто таков этот старик.
— Видишь ли, мой друг, у каждого из людей есть какие-никакие, но идеалы. Так вот, этот старик, как ты говоришь, единственный на моей памяти человек, кто умеет свои идеалы защищать. А это кое-что значит.
Оказавшийся поблизости Дамасий услышал его слова.
— Обыкновенный наемник. Как и ты. С той, правда, разницей, что свой меч задешево никогда не продавал.
Наставник даже не поворотил головы. Обращаясь по-прежнему к Асамону, продолжал:
— Что такое идеалы, надеюсь, ты понимаешь. Не путай их с корыстью. Хотя, например, для Дамасия это одно и то же.
Он ушел, взвалив на плечо корзину. Дамасий сердито сплюнул вслед.
— Когда из всех ремесел ты выбираешь убийство за деньги, я могу представить, какие они, твои идеалы,— пробормотал он.
Очередная стычка произвела на Асамона тягостное впечатление. Отец и Мегакл последнее время почти не разговаривали между собой, а если возникала необходимость, то разговор шел через третье лицо, обычно через Асамона, как на сей раз. Кто прав, а кто виноват, мальчик судить не мог, потому что причины были ему неизвестны. Но догадывался, что, если бы не его глубокая привязанность к наставнику, тому было бы отказано от места незамедлительно. Однажды он попытался выяснить причину размолвки у отца. Но тот ответил уклончиво:
— Когда боги хотят поссорить людей, они делают это.
Асамон взял ячменную лепешку, несколько сушеных смокв и сел в стороне.
Младший из сыновей Диагоры, Тиман, забрался по колено в ручей и застыл, словно изваяние, что-то напряженно там высматривая. Его неподвижность казалась столь неестественной, что, когда он резким, сильным движением выбросил на берег крупную рыбину, Асамон даже вздрогнул. Три таких же бились среди камней. Неподалеку старший брат Стомий ловко разделывал трепещущие рыбьи тушки на плоском камне. Он нарезал из рыбьих хребтов длинные, розовые куски мяса, истекающие жиром, и тут же присаливал их. Блюдо считалось готовым.
Глядя на их стряпню, Мегакл смеялся.
— Если бы не было рыбы, не было бы и Родоса. Я помню, когда мы плутали в Ливии среди песков, в нашем лохе тоже был родосец. Если память мне не изменяет, его звали, кажется... Диагора? Да, по-моему, так. Так вот, в то время, как мы изнывали от жажды и едва ворочали распухшими языками, у него каждый день была на ужин свежая рыба. Ха-ха-ха! Зато мяса он в рот не брал. Не-ет! Они считают нас,— подмигивал он Асамону,— тех, кто ест мясо, обжорами!
Диагора только посмеивался в седые усы и подкладывал Мегаклу куски рыбы пожирнее, которые тот с удовольствием поглощал. Асамон обратил внимание на ту почтительность, какой оба сына относятся к Диагоре. Они принялись за пищу, но не прежде, чем насытился отец.
Трапеза уже подходила к концу, когда со стороны дороги послышалось звяканье цепей, и из-за поворота показалась длинная вереница рабов, скованных попарно. Рабов сопровождали надсмотрщики. Один из них, верхом на коне, в широкополой войлочной шляпе, надвинутой на глаза, похоже, был старшим или хозяином. Он повернул коня в сторону от дороги, и подскочивший слуга помог ему спешиться. Хриплым, надорванным голосом он бросил несколько отрывистых фраз. Мимо Асамона к ручью пробежали двое надсмотрщиков, на ходу расправляя кожаные складные ведра.
Хозяин передал поводья слуге и отправился следом. Его походка была грузной, и он шел, широко ставя ноги. Когда он проходил, Асамона обдало острым запахом конского пота, винных паров и давно не мытого человеческого тела. На берегу ручья он поскользнулся и едва не рухнул в воду. Грязно при этом выругался. Присутствие посторонних, похоже, его не стесняло, хотя «посторонние» наблюдали за ним не без любопытства.
Пил он долго, как лошадь, с сапом и придыханиями всасывая холодную воду. Потом смочил шею, лицо, растер, отчего на коже появились мутные разводы. Наконец, утолив жажду, незнакомец поднялся. Слегка покачиваясь, он так же долго мочился с камня в ручей, при этом лениво отмахивался от назойливых мух и что-то ворчал себе под нос.
Глядя на него, Асамон вспомнил фразу, некогда оброненную по сходному поводу Мегаклом: «Когда я вижу перед собой таких соотечественников, мне стыдно, что я эллин». Персы, которых многие здесь называют грязными, в реку не мочатся и не плюют, даже не моют рук в реке, пока не зачерпнут воды и не отнесут в сторону. И никому не позволяют делать это.
Асамон с брезгливостью отвернулся.
Справив нужду, незнакомец воззрился на сидящих в стороне людей с благодушным интересом. Он был в хорошем расположении духа и теперь, видимо, жаждал общения.
— Приветствую всех вас! — хрипло вскричал он, вскинув вверх руку.— Да помогут вам всемогущие боги.
Диагора, который был из всех старшим по возрасту, сдержанно кивнул и сделал жест в сторону камня, который мог бы служить сиденьем. Незнакомец, грузно ступая, направился к ним.
— Судовладелец. С Хиоса,— представился он, устраиваясь на камне.— Торгую рабами. И кое-чем еще, по мелочи.
И вдруг захохотал, глядя на всех выпуклыми, в красных прожилках, глазами. Диагора переждал торговца и столь же сдержанно поинтересовался:
— Судя по тебе, уважаемый, торговля рабами довольно веселое занятие, не так ли?
Повод для смеха ему тоже был неясен.
— Веселое?.. Да, конечно! Но главное,— работорговец хитро прищурился и помахал перед носом указательным перстом,— главное—поучительное! В том смысле, что очень скоро ты узнаешь цену людям.
И снова захохотал, довольный своей шуткой.
— Вот эти два молодца...— работорговец ткнул рукой в сторону сыновей Диагоры, восхищенно поцокал языком.— На рынке рабов в Хиосе мне бы заплатили за них по восемьсот драхм за каждого. И я бы еще торговался. До тысячи. Тысяча сто... Двести! А вот за того плешивого старикашку, вон того — сидит, отворотивши рыло. Гей?! — вскричал он, обращаясь к Дамасию.
— Довольно,— жестом остановил его Диагора.— Ты пьян, я вижу. И речи твои безумны. Ступай отсюда с миром.
— Почтенный, неужели ты так легко способен обидеться? — Работорговец куражливо ударил себя кулаком в грудь.— Зря. Ведь если хорошо рассудить, каждый из нас — ты, я, он, и он тоже смотрит на мир с той кочки, которую обрабатывает. С которой снимает свой урожай. Добывает пропитание. Или я не прав, а? Да, я работорговец. Для меня люди — всего лишь товар, где каждый идет по своей цене. Смею уверить, это именно та цена, которую ты заслуживаешь. А не та, которую ты назначил себе сам.
С первой фразы, произнесенной этим человеком, Асамон не мог отделаться от ощущения, что его голос он уже слышал где-то. Но где?
Слова работорговца о плешивом старикашке, похоже, вывели Дамасия из себя.
— Ты прав, любезный,— не без яда в голосе начал он.— Но до известной степени. Каждому полезно знать себе истинную цену. Только цена человеку, когда он свободен, и когда он раб, это разновеликие вещи. Свободный человек стоит ровно столько, сколько он способен за себя заплатить. Хотя, будучи рабом, по немощи он может не стоить ничего.
— Клянусь собственными потрохами, у этого старикашки водятся деньги! — вскричал работорговец.
— Богаче Дамасия в Афинах никого нет,— охотно поддакнул Мегакл.
Это было не совсем так. Но Асамон понял: наставник подбрасывает в костер дрова намеренно. Из-за неприязни к отцу.
— О боги! Так это Дамасий? Тот самый, сын Эвкла? Как же, как же... Торговля оружием! Наслышан премного. Говорят, он превосходный мастер почитать богов чужим фимиамом.
Дамасий вспыхнул, вскочил с места.
— Повторять чужую клевету — удел ничтожных!
— Ха-ха-ха!
— И безмозглых!
— О, ха-ха-ха!
— Тьфу...
На рынке рабов, Дамасий, за тебя никто не даст даже паршивого обола. С такого, как ты, выгоднее содрать выкуп. А уж ты сам заплатишь за себя два, три... десять золотых талантов! Вот она, разница — сколько человек стоит на самом деле, и во что оценивает себя сам. Мошенничество — не ремесло, и мошенники вроде Дамасия идут по бросовой цене.
Наблюдая за перепалкой, Асамон внезапно вспомнил, где он слышал голос этого человека. И не только слышал, но видел его самого — в Афинах, накануне отъезда сюда, в Элиду. Они с отцом грязно обвиняли друг друга в какой-то несостоявшейся сделке, когда он вошел в полутемную лавку, и теперь продолжали доругиваться. Правда, делали вид, будто между собой незнакомы.
Дамасий скоро понял, что перебранка с пьяным человеком чести ему не делает. И больше не отвечал. Но это не помогло. Работорговец встал, качнувшись. И направился к Асамону.
— Тысячу против одного, Дамасий! Этот симпатичный мальчик — твой наследник, а?
Дамасий молчал.
— Клянусь своими потрохами, дружок, если ты будешь таким же ловким мошенником, как твой отец, я отпущу тебя, когда ты мне попадешься. Разумеется, за выкуп. Ха-ха- ха!
Работорговец потянулся, чтобы потрепать наследника по щеке. Рукояткой хлыста Асамон ударил его по толстой волосатой лапе.
— Прочь, дурак! — сквозь зубы обронил он. Презрительно отвернулся.
Этот неожиданный отпор поверг работорговца в крайнее изумление. Он даже отступил, как бы желая рассмотреть мальчишку получше.
— Гей, Дамасий! Твой наследник мне нравится. Пожалуй, из него выйдет толк.
— Клянусь Зевсом, года через три, когда он подрастет, ты сам не захочешь попасть в его руки,— хмуро отозвался Дамасий.
Работорговец недоверчиво хмыкнул.
— Может, и так. Хотя ты всегда был не прочь прихвастнуть, старый мошенник. Дурак, кто однажды тебе поверил.
Асамон с трудом себя сдерживал, и то лишь потому, что видел, как невозмутимы, даже равнодушны лица сыновей Диагоры. Без дозволения старших они не двинутся с места. Хотя он заметил также ухмылку на лице Мегакла, которого эта перепалка явно забавляла.
— Да, ты хвастун, Дамасий! — не унимался работорговец.— Кто поверит, что трусливый шакал способен произвести на свет льва? Кто поверит, что от такого отца, как ты...
Договорить он не успел. Длинный хлыст в руке Асамона со свистом рассек воздух, и конец его пришелся как раз по шляпе, по краю поля, отчего она съехала на нос и залепила рот. Второй удар горячим ожогом хлестнул по ногам, обутым в сандалии. Работорговец нелепо подпрыгнул и едва не упал.
С дороги на помощь взревевшему от боли и унижения хозяину с грозным видом бросились два дюжих надсмотрщика. В бешенстве Асамон подхватил с земли острый, увесистый камень и приготовился к отпору. В это время раздался насмешливый голос Мегакла:
— Экехейра!
С налитыми кровью глазами работорговец походил на разъяренного вепря, готового вот-вот прыгнуть и растерзать несчастную жертву. Однако не прыгнул. У него достало ума сообразить, что трое взрослых мужей против зеленого мальчишки — зрелище более чем глупое. Возникла пауза. Не выдержав, рассмеялся Тиман. И окончательно разрядил обстановку. Вслед за ним засмеялись другие. Даже работорговец захохотал наконец, приседая и хлопая себя по ляжкам.
Дамасий с облегчением перевел дух.
— Мой мальчик! Звон оружия и звон золота ему одинаково приятны,— не без гордости за сына пробормотал он.
И был услышан.
— Бьюсь об заклад! — хрипло вскричал торговец рабами, чье самолюбие было все же ущемлено.— Ты опять солгал.
— О боги! — Дамасий страдальчески закатил глаза.— Что за напасть?!
— Бьюсь об заклад, Дамасий, ты солгал, будто звон золота и звон оружия для твоего лягушонка одинаково приятны.
Коварная улыбка на лице мерзавца не сулила ничего доброго. Он явно жаждал отмщения. Не сводя злобного взгляда с Дамасия, он щелкнул пальцами в воздухе. Тотчас подскочил надсмотрщик. Хозяин что-то прохрипел ему в ухо, и надсмотрщик, оступаясь на камнях, побежал к веренице рабов, расположившихся вповалку вдоль обочины. Вскоре он воротился назад, пинками погоняя впереди себя раба, руки которого были накоротке скованы цепью.
Надсмотрщик вытолкнул раба на середину площадки и бросил к его ногам круглый персидский щит, плетенный из толстых прутьев. После ухода персов такими щитами жители многих селений еще долго топили свои очаги, разрубая щиты на куски.
Надсмотрщик оставил раба и приблизился к хозяину. Подал ему какой-то предмет, узко сверкнувший на солнце. Это был меч. Работорговец поднял его вверх для всеобщего обозрения.
— Вот меч, Дамасий. Смотри. Он стоит целое состояние. Я намерен подарить его твоему наследнику.
Одобрительный ропот пробежал среди сидящих. Отделанный золотом, со стальным, сверкающим клинком вместо мягкой бронзы, меч действительно стоил немалых денег. Эти люди неплохо разбирались в оружии.
— Да, я намерен подарить его. Но прежде пусть твой наследник докажет, что не все в твоем роду, Дамасий, люди с рыбьей кровью.
Он сунул меч Дамасию в руки и повернулся к рабу.
— А ты, скиф, если не дашь убить себя... ха! Сегодня на ночь получишь девку.
На безжизненном, словно у деревянного идола, лице скифа не дрогнул ни один мускул. Казалось, он не услышал обращенных к нему слов. Или не понял их. Вид этого существа был отвратителен. Волосы, слипшиеся от грязи, давно утратили свой цвет, свалялись и жёсткими космами падали на мосластые плечи. На бедрах висела рваная, грязная тряпка. Раб был изможден и сильно избит. Свежие кровоподтеки — следы от ударов плетью — ложились поверх старых, покрытых струпьями ран.
Дамасий со вздохом сожаления положил меч на камень. Развел руками, давая понять, что приказать сыну он не может, да и не станет этого делать. По знаку работорговца надсмотрщик с мечом в руках приблизился к Асамону.
— Он твой. Бери.
Мальчик отрицательно качнул головой.
— Я не стану убивать этого несчастного.
— Ха-ха-ха! Клянусь потрохами, сопливый мальчишка, ты не сделаешь ни одной дыры на его шкуре.
Презрительно улыбаясь, Асамон шагнул прочь.
Работорговец выхватил у надсмотрщика меч и встал перед мальчиком.
— Ну, хорошо. Видишь этот меч? Ни у кого нет такого. Когда его рукоять ложится на ладонь, вот так... Они сливаются в единое целое, как если бы твоя рука сама заканчивалась клинком. Даже самый кроткий человек, взяв этот меч, превращается в тигра и хочет убивать! убивать! убивать!
Работорговец трижды взмахнул мечом над кустами, и крепкие ветки туи, срезанные наискось, мягко упали на землю. Сцена произвела впечатление. Достоинства меча были бесспорны, и на площадке послышались возгласы одобрения.
— Возьми его! — Работорговец схватил мальчика за руку и вложил в нее меч. Лезвие хищно сверкнуло на солнце. На нем, впаянные искусной рукой мастера, за золотой ланью устремились золотые львы. Витая рукоять заканчивалась оскаленной звериной пастью с крупным электроном в зубах.
Асамон скосил свои темные глаза на Мегакла. Наставник смотрел в сторону и молчал. Это обстоятельство задело Асамона. Слишком часто он чувствовал себя чем-то вроде мухи в паутине чужих отношений — взаимные счеты, неприязнь, недомолвки, и эта паутина нередко была соткана задолго до его появления на свет. Они все здесь, отец в том числе, играют какую-то злокозненную игру. Ему же в их игре уготована роль жертвенного барана. Объединились в желании унизить его. Низвести до раба!
От подобных мыслей у Асамона потемнело в глазах. Сейчас он сунет клинок в каменную щель, зигзагом бегущую у ног, и сталь лопнет с упоительным звоном. Мстительный холодок пробежал по телу. В это время над ухом раздался хриплый голос:
— Он испугался моего раба... сын шакала!
Асамон круто обернулся. Сквозь зубы процедил:
— Хорошо. Пусть твой раб умрет.
Работорговец захохотал, мимоходом ткнул скифа кулаком в грудь.
— Защищайся, подлое отродье, и я отпущу тебя на свободу. Даю слово.
При слове «свобода» скиф дрогнул и медленно поворотил вслед хозяину голову. Подбежал надсмотрщик и воткнул в землю подле Асамона тяжелый дрот. Теперь они стояли друг против друга в десятке шагов. Грязный, лишенный человеческого облика раб и грациозный, с нежным румянцем на щеках мальчик в белоснежном хитоне, волею судеб вдруг ставшие врагами. Но так уж устроены люди. Иногда, чтобы приобрести на всю жизнь врага, достаточно бывает косого взгляда. Но чтобы приобрести друга, надо положить жизнь, и, тогда, может быть, тебе повезет.
Асамон вырвал из земли дрот и вскинул над головой. Скиф продолжал стоять, как и прежде, вполоборота к нему, с равнодушием животного глядя в одну точку. Как перед закланием. «Он ждет смерти,— подумал Асамон.— Что ж, пусть так. В его положении это тоже выход».
И он с силой метнул дрот в раба...
Короткий хрип. Стук тяжко падающего тела. И предсмертная недолгая судорога. Мучения несчастного скоро прекратятся. Он отойдет в мир иной, где все одинаково равны, ибо бестелесны.
Но дрот со свистом ударил мимо цели в скалу. Брызнула из-под острой меди каменная крошка. Скиф продолжал стоять в прежней позе, вполоборота, с безучастным лицом деревянного идола. Он слегка лишь, на пядь, качнулся вперед, пропуская смертоносный снаряд, так что со стороны неопытный глаз мог этого не заметить.
Работорговец захохотал.
— Отличный бросок! С десяти шагов попасть в такую маленькую гору!
На лицах воинов, какими несомненно были и сыновья Диагоры, появился явный интерес. Их взгляды со вниманием обратились на скифа. «Этот раб не желает подыхать. Тем более, что ему обещана свобода»,— решил Асамон. Сжимая рукоять меча, он двинулся к скифу.
От отца Асамон многое знал об этих варварах. Но еще в детстве сам столкнулся с их дикими нравами и надолго запомнил.
...Однажды у них в доме появились чужеземцы. Человек шесть или семь. Одежда, какую они носили, в Афинах выглядела необычной: толстые, грубые кафтаны с длинными рукавами и такие же шаровары, надетые прямо на голое тело. Короткие сапоги стягивались у щиколотки ремнями. У каждого из вошедших на поясе висел меч или длинный нож, а из-за широких спин торчали луки. Дом Дамасия на целых три дня превратился в скифское кочевье. Но хлебосольный хозяин, желая укрепить выгодные связи, покорно сносил беспробудное пьянство и дикие выходки гостей. Правда, жену и старшую дочь Дамасий на эти три дня отправил к родственникам. У скифов все жены считаются общими, и вдаваться в объяснения он не желал, да и не рассчитывал, что грубые дикари правильно его поймут.
Но Асамон остался.
Во время одного из застолий Дамасий посадил сына рядом с собой. Напротив них развалился чернобородый Октамасад, главный из скифов, которому все остальные беспрекословно подчинялись. Октамасад ел много и жадно, громко чавкая при этом, и с легкостью зверя дробил в зубах крупные мозговые кости. Вина он пил не меньше. Но перед тем как взять чашу, всякий раз вытирал руки куском шерсти, который был у него привязан к поясу на бечевке.
Эта шерсть вызвала у мальчика неясное чувство тревоги, смешанное с любопытством. Скиф заметил его взгляд. Одобрительно кивнул. Потом ткнул пальцем в утиральник, что-то сказал по-своему. И постучал Асамону по макушке.
Видя, что его не понимают, Октамасад со смехом вытащил из-за пояса нож и, ухватив мальчика за волосы, лезвием ножа сделал вокруг головы быстрое движение. Потом отвязал утиральник и встряхнул его у Асамона перед носом. Жест был достаточно красноречив. Асамон сразу все понял и похолодел от ужаса. В руках Октамасада была кожа, содранная с головы человека вместе с волосами. Уже изрядно засаленная.
Вмешался Дамасий и поспешил объяснить сыну, что все это значит. Они из племени саков — все его гости. С берегов Борисфена. Мужчину у них в племени не считают за мужчину, если он не убил хотя бы одного врага. В доказательство он должен принести вот такой кусок кожи с головы убитого. Свеже-содранный. А до тех пор мужчину-сака не допускают даже к общему столу и на пирах швыряют ему наземь объедки. Как псу.
Октамасад немного понимал по-гречески и одобрительно кивал в подтверждение слов Дамасия.
Он, однако, заметил ужас в глазах мальчика и в последующие три дня развлекался тем, что при любом удобном случае хватал его за волосы и проводил ногтем вокруг головы, больно царапая кожу. От страха Асамон начинал плакать, а скиф радостно гоготал, запрокинув бороду и широко разевая красную пасть. С его стороны это была, конечно, шутка, довольно обычная для варвара, и у себя на родине он считался, вероятно, остроумным человеком.
Сжимая рукоять меча, Асамон приблизился к скифу...
Тот по-прежнему глядел в сторону. Словно не замечая мальчика. Или не желая замечать. Чтобы оскорбить медлительного варвара, Асамон острием меча царапнул ему пах. Ногой подтолкнул лежащий на земле щит. И тогда нехотя, как будто делая одолжение, скиф поднял щит и, ухватив за рукояти, выставил перед собой. Уже по тому, как он это проделал, стало ясно, что противник Асамона — многоопытный воин. Маленький круглый щит, каким у персов пользуются легковооруженные пехотинцы, целиком скрыл за собой костлявое, громоздкое тело раба. Ощущение было такое, будто щит висит сам по себе, слегка покачиваясь, в двух пекисах над землею.
Асамон ринулся в атаку.
Он владел оружием достаточно искусно, на лету перехватывал меч то в левую, то в правую руку. Один за другим следовали молниеносные выпады, броски из стороны в сторону, обманные движения, подкаты. Но долгое время острая сталь лишь со свистом секла воздух. Либо вонзалась в щит.
Проклятый щит! Он оказывался перед ним всюду. Словно бельмо на глазу — куда ни посмотришь. И упреждал всякое движение на какие-то доли. Похоже, он проникал в его мысли и парализовал готовящееся нападение в самом зародыше, он заранее перекрывал подходы или же проваливал начатую атаку в пустоту. Асамону стало даже казаться, что там, за щитом, никого нет. Он сам по себе. Или их бог Папай укрыл скифа непроницаемым облаком, оберегая от ударов.
Щит! Всюду проклятый щит... Целая стена из щитов!
Кровь бросилась Асамону в голову, и он с пущей яростью бросился на противника, рубя его наотмашь косыми, режущими ударами. Несколько прутьев по краям щита вдруг лопнули и выпрямились в стороны. Длинные и острые, как шипы.
О боги! Он сам вложил в руки скифа это оружие!
Асамон поздно понял свою оплошность. Теперь при атаках эти шипы оставляли на руках и теле Асамона длинные ссадины и порезы. Появилась первая кровь. Но это была его кровь, а не противника. Запоздалая мысль внезапно взбрела мальчику в голову: если бы у скифа сейчас оказался меч, он изрубил бы его в мгновение ока. Ничто не могло ему помешать.
Мысль оказалась предательской. Она поселила в нем панику. И расплата не замедлила явиться.
Асамон сделал длинный выпад, стараясь под щитом дотянуться, достать хотя бы голень скифа и — потерял равновесие. Скиф на лету ступней перехватил его руку и прижал запястье к земле. Намертво. Пальцы Асамона медленно разжались, и меч выкатился из ладони. Раб ногой отшвырнул меч далеко в сторону.
Под оскорбительный хохот работорговца Асамон поднялся с колен и поплелся к мечу. Там, на краю вымоины, он пригоршней зачерпнул холодную воду и плеснул в лицо. Но вода, похоже, тотчас с шипением испарилась, лишь слегка остудив его. На звон оружия с дороги то и дело подходили любопытные. Вскоре плотная толпа зрителей подковой расположилась по краю площадки и с большим интересом наблюдала за схваткой. С одним из этих ротозеев работорговец успел даже заключить сделку, как это бывает на петушиных боях, и теперь громогласно требовал у него выигранные деньги. Он даже вышел на середину, требуя справедливости. Но проигравший тянул время и расставаться с деньгами не спешил.
Асамон круто обернулся.
— Назад! — вскричал он и вскинул вверх меч.
Ему показалось, что работорговец собрался прекратить поединок. Эта мысль повергла его в бешенство. Но работорговец только пожал плечами и воротился на место. Правда, с явной неохотой.
Асамон вновь пошел на скифа...
Урок был получен жестокий. И по заслугам. Ярость и безрассудство — плохие советчики. Мегакл всегда твердил ему об этом.
В этот момент взбудораженная память, подстегнутая вдобавок унизительной трепкой, полученной от раба, с неожиданной яркостью возвратила ему все, чему он успел научиться у своего наставника в искусстве рукопашного боя. Оставалось выбирать. Усилием воли Асамон подавил в себе мгновенное желание вновь броситься в атаку. Он даже стиснул зубы и приостановился, чтобы собрать все чувства в кулак. С трудом, но ему это удалось.
Теперь его мозг работал холодно и расчетливо.
Первыми же ударами, сильными и точными, Асамон срезал со щита торчащие в стороны шипы, недоумевая, почему не мог сделать этого сразу. Но нападать все же не спешил. Щит, как и прежде, висел перед его глазами в двух пекисах над землей. Слегка раскачиваясь. Но суеверный страх перед ожившим куском дерева исчез без следа.
«Сколько может он удерживать его так, на весу, на вытянутых руках, на которые к тому же набиты тяжелые кандалы?» — не без любопытства подумал Асамон.
Нет, он не собирался ждать, пока у раба от усталости сами собой отвалятся руки, чтобы тут же прирезать его, словно барана. Асамон должен победить скифа достойно, а значит, должен его переиграть — его собственным оружием. С помощью щита! В деревянном щите нет прозрачности. И если одной стороной щит целиком укрыл громоздкого скифа, то другая сторона сделает невидимым его, Асамона. И тогда скиф «ослепнет».
Асамон медленно кружился вокруг противника, делая редкие выпады, и со стороны могло показаться, что после неудачи в мальчика вселился страх. Именно так понял это работорговец.
— Эй, лягушонок! — заорал он.— Тебе следует попросить у моего раба прощения. И на этом мы кончим, ха-ха-ха!
Асамон пропустил оскорбление мимо ушей. Сейчас было не до обид. Он разорвал разделяющее их расстояние — отпрыгнул назад. Противник тотчас потерял под щитом его ноги, «ослеп», и, как Асамон ожидал, над щитом незамедлительно появилась отвратительная физиономия скифа с пустыми, бесцветными глазами. Асамон сделал вид, будто замешкался, и, усыпляя бдительность скифа, вновь запрыгал перед щитом, пытаясь достать его слева, справа, но, разумеется, безрезультатно.
Голова исчезла. Перед Асамоном опять висел одинокий щит. Но теперь он уже знал — скиф внимательно следит за его ногами. А поскольку любое атакующее движение начинается именно с ног, то по их положению он легко угадывает все, что может за тем последовать, и парализует атаку еще в самом начале.
Выждав удобный момент, Асамон вновь разорвал расстояние. Его ноги исчезли, а это означало, что скиф ослеп, и сейчас его голова должна появиться над щитом. Еще мгновение... Щит дрогнул, кивнул вниз. И, упреждая это мгновение, Асамон молнией сорвался с места вперед — острая сталь со свистом рассекла воздух поверх щита, отделив от головы скифа... лишь клок серой, свалявшейся шерсти. Асамон был страшно разочарован. Хотя...
По лицу скифа вниз сбежала тонкая струйка крови.
«Эту кожу, варвар, ты можешь употребить вместо утиральника»,— пробормотал Асамон.
Он возвратил невольному учителю его жестокий урок. Публика дружно приветствовала его первый успех. Все симпатии были сейчас на стороне Асамона, особенно тех, кто понимал действительный ход событий. Один работорговец осыпал его мерзкой бранью, и «лягушонок» было далеко не самым обидным. Асамон подумал, что было бы во сто крат справедливее, если бы на месте скифа оказался этот мерзавец. Он бы сумел воздать ему.
Теперь скиф не прятал голову и следил за ним поверх щита. Это обстоятельство лишало его возможности предвосхищать момент атаки, и он нередко запаздывал, открывая то левый, то правый бок. Игра для несмышленышей закончилась. При желании Асамон мог раскрыть его целиком и поразить. Скиф сделался легкой добычей и, разумеется, понимал, что развязка близка. Но Асамон не спешил. У него появилась коварная мысль, и, чтобы воплотить ее, скиф был нужен ему живым.
Кружась вокруг противника, Асамон поставил его так, что тот оказался между ним и работорговцем, на одной линии. Незаметно для всех Асамон подхватил с земли камень, что, разумеется, не укрылось от внимания скифа. Удар должен быть внезапным и... ненамеренным. Иначе на играх он будет всего лишь зрителем, а отца обяжут заплатить штрафные деньги. Но как сделать, чтобы скиф не принял камень на щит? Чтобы не перехватил его?
Асамон скосил глаза влево и сделал короткое движение телом в сторону. В ответ скиф чуть прикрыл веки... О боги! Он все понял.
Асамон изготовился и с силой башенной катапульты, как ему показалось, метнул свой камень. Еще во время замаха краем глаза отметил — скиф скользнул в сторону, открывая ему мерзавца во всей красе... Камень ударил в лоб, в шляпу. Мелькнули вверх сандалии, и работорговец молча, без единого звука опрокинулся с обломка скалы, на котором сидел, на спину. Гул пробежал по толпе. Пострадавшего бросились подымать... Не желая быть заподозренным в злонамерении убить свободного человека, Асамон старательно нападал на скифа. Расцарапал плечо. Достал шею. Для пущей убедительности он подобрал еще камень и с треском влепил его в скалу за спиной противника. Нет, он не намерен был прощать этому варвару недавнего унижения. Даже детские обиды взывали в нем к отмщению, полной мерой. И, кажется, пора было кончать.
В толпе вдруг раздался смех и веселые возгласы. Работорговца подняли и поставили на ноги. Его лицо было залито кровью, но мерзавец был жив и по-прежнему грязно ругался. Правда, едва ворочая языком.
— Эй ты, ублюдок... Бычий хвост! — хрипел он, видимо, имея в виду скифа.— Разок ты можешь ударить этого гаденыша. Р-разрешаю.
Впоследствии Асамон многократно жалел, что пропустил эти слова мимо ушей. С мечом в одной руке, держа в другой дрот, он кружил вокруг противника, выбирая удобный момент. И вдруг резко бросился вправо — метнул дрот в открывшийся торс раба. Тот успел прикрыть себя, но Асамон в молниеносном броске достал его с левой стороны мечом. И в то же мгновение он почувствовал тяжкий удар в грудь и в голову щитом. Как о наковальню. И провалился в пустоту...
Удар отбросил Асамона на другую сторону площадки. Он с трудом пришел в себя. Приподнялся на локтях. Сквозь липкий красный туман увидел склонившегося над ним отца. Мотнул головой, хотел что-то сказать. И не услышал свой голос. Ощупью нашарил подле себя меч.
Толпа ревела от возбуждения. Многие сочувствовали Асамону и осыпали скифа проклятиями и угрозами.
Раб поднял руку на свободного человека! Ребенка!
Грязный кочевник! Падаль!
Убить его!
Скиф, как и в начале боя, стоял с безучастным лицом деревянного идола, не двигаясь и не обращая внимания на широкую кровоточащую рану в левом боку под ребрами. Но мертвенная бледность уже опускалась на его черты.
Кто-то бросил в него камень... Мимо.
Второй камень ударил в плечо. Третий попал в голову... В ноги... Снова в голову...
Несчастный стоял, даже не подымая щит и не пытаясь укрыться от града камней, которыми осыпала его толпа. Он действительно походил на деревянного идола. И камни, казалось, отскакивают от него, не причиняя вреда. Это повергло толпу в еще большую ярость, а вид крови пьянил и лишал разума.
Предчувствуя смерть, скиф с неожиданной силой, какая еще оставалась в его истерзанном теле, швырнул щит в толпу, в ощеренные, свирепые лица. Тяжелыми кандалами ударил кого-то наотмашь в голову. Ударил еще... И еще. Кто-то упал...
Асамон, опираясь на меч, поднялся. Глазами с трудом нашарил в толпе своего врага. Одна мысль, одно желание гнали его вперед — скиф должен умереть. Должен умереть, хотя бы перевернулся мир!
Асамон шел за мечом, вытянув его двумя руками перед собой. Или сам меч тянул его следом? Выпад — и острое жало, разрывая живую плоть, погрузилось в беззащитную спину раба. Раб повернулся к нему и медленно, молча осел на землю. Изможденный, костлявый, со скованными накоротке руками, простертый во прахе человек.
И Асамон ужаснулся делу своих рук.
Он стоял над умирающим, чувствуя, как падает в бездну вселенской мерзости,— и не понимал, как он туда сорвался. Окровавленный меч со звоном выпал у него из руки, и мальчик побрел в сторону, к повозке, через расступившуюся перед ним толпу. Там, сзади,— он почувствовал это кожей,— склонились над поверженным. Легкое дыхание эфира донесло до слуха фразу, похожую на приговор:
— Удар торговца, а не воина.
Он не разобрал, чей это был голос, но воспринял фразу с равнодушием человека, связавшего себе петлю.
Мул почуял забравшегося в повозку хозяина и, не дожидаясь хлыста, бодро зацокал копытами по камню и повернул на дорогу.
Глава 4
Обоз Дамасия скоро нагнал сиротливо бредущую посреди дороги повозку. Когда Мегакл заглянул под полог, Асамон спал, к его удивлению, как убитый, лежа ничком на грубой рогоже. Его густые, темные волосы прилипли ко лбу. На висках еще блестели непросохшие капли пота. Мегакл заметил, что одежда на мальчике в нескольких местах заскорузла от крови. Но кровотечение, похоже, остановилось.
Он нахмурился.
— Что там? — одними глазами спросил Дамасий, не решаясь заглянуть.
— Он спит. В его состоянии это лучшее, что можно придумать.
Дамасий пожевал губами и ничего не ответил.
С наступлением сумерек голова колонны вступила в небольшой городок Летрини, который отстоял от Олимпии на расстоянии в сто двадцать стадий. Город был основан сыном Пелопса по имени Летрей. Больших зданий здесь не было, кроме храма Артемиды Элафиеи, красная черепичная крыша которого маячила сквозь зелень древесных крон.
Процессия остановилась возле фонтана Пиера. В воде этого источника гелланодикам предстояло совершить очистительный обряд и принести жертву перед вступлением в Олимпию. Прочие участники процессии тем временем начали готовиться к ночлегу. Вскоре в ночи заблестели многочисленные звездочки костров, и потянуло дымом.
Асамон пробудился оттого, что наставник потянул рогожу на себя, желая вытащить его наружу. Он долго не мог отойти ото сна, но протянутую руку грубо оттолкнул.
В десятке шагов от повозки пылал огонь. Чуть в стороне плотной стеной темнели заросли камыша и узким лезвием блестела в лунном свете кромка воды вдоль дальнего берега. Но это была не река, а скорее пруд, заросший и похожий на болото, потому что со всех сторон бурлили лягушачьи хоры, жалобно стенала на том берегу ночная болотная птица.
Асамон уцепил это краем сознания, зевнул и полез обратно в повозку. Досыпать. Мегакл рассмеялся и, ухватив за ногу, вытащил его наружу.
— Так не пойдет, мой мальчик. Вначале мне придется привести тебя в порядок. Ступай к огню.
Вокруг костра на охапках свежесрезанного камыша расположились Диагора и оба сына, Стомий и Тиман. Они о чем-то беседовали вполголоса, но с появлением Асамона замолчали. Ни на кого не глядя, мальчик сел на приготовленное для него ложе, куда указал Мегакл. Уставился на огонь. В котле на низком треножнике кипело какое-то варево. Судя по запаху, чечевичная похлебка. В стороне остывали глиняные плошки с отваром.
«Наследство, о котором так много твердит отец,— мрачно подумал Асамон,— это не только деньги, имущество или скот, пасущийся на лугах. Но еще отношения, плохие или хорошие, которые ты оставляешь наследнику». Пожалуй, на расположение этих людей ему, сыну Дамасия, рассчитывать не приводилось.
Мегакл велел Асамону снять одежду. Но ткань местами успела присохнуть к ранам, и Асамон, морщась от боли, оставил попытку. Тогда Мегакл намочил в одной из плошек тряпку и выжал отвар на раны, чтобы отмокли.
Раздев мальчика, он уложил его лицом вниз на расстеленную шерстяную хлену. На плечах и на спине в трех местах темнели глубокие порезы, была разбита бровь. Остальное — несколько ссадин и ушибов. Он покачал головой.
— Многовато для одной драки.
Диагора не согласился.
— Края чистые. А до игр у него еще четыре дня...
— Оно, может, и так...
— В любом случае разбитый лоб стоит много дороже,— улыбнулся Тиман. Все рассмеялись, понимая, о ком речь, и Асамон подумал, что эти люди, пожалуй, относятся к нему лучше, чем он того заслуживает.
Диагора, помешивая в котле длинным черпаком, неторопливо рассказывал:
— За Мегаклом всегда ходила слава искусного врачевателя. Вы можете заглянуть в его торбы, если он позволит, конечно. Они всегда были набиты у него травой и снадобьями на все случаи жизни. Иной раз о его лечении рассказывали чудеса. Но я сам видел, как однажды к нему пришел человек с ужасной головной болью. Он рвал на себе волосы и вопил не переставая. Мегакл заставил его разуться и — ударил палкой по пятке. Боль тут же прошла. Человек перестал вопить и почувствовал себя здоровым.
Диагора помолчал, пробуя на вкус варево. Затем продолжал:
— Спустя полгода я случайно узнал, что этот человек, которого лечил Мегакл, на всю жизнь остался хромым. Когда я сказал об этом Мегаклу, в ответ он только пожал плечами. «Ну и что? Просто мне попала в руки слишком толстая палка».
Дружный смех прокатился над озерной гладью. Ночные звуки все замерли, словно в недоумении. Даже лягушки прекратили на время свои болотные песнопения. Причудливые отблески огня играли на благородных сединах старого Диагоры. Или выхватывали из темноты могучее предплечье и кисть руки с разбитыми суставами, принадлежащие Стомию (такие руки бывают обычно у кулачных бойцов). Сверкала вдруг белозубая, ослепительная улыбка Тимана.
— В Олимпии появился Кокал. Я узнал об этом вчера.
Эти слова произнес Стомий. Асамон впервые услышал его голос, низкий и ровный, как гудение шмеля над цветущим лугом. Диагора поворотил голову.
— Кокал? Сиракузянин?
— Да.
— Он внесен в списки?
— Я видел там его имя.
Наступила пауза. Новость, сообщенная Стомием, кажется, произвела сильное впечатление. Даже на Мегакла. Колдуя над плошками, он ворчливо заметил:
— Это Минотавр, а не человек.
Остальные молчали. Только слышно было, как потрескивают в огне дрова. Наконец Диагора задумчиво произнес:
— Да-а. Будет побоище. Как в Истме, три года назад.
Асамон понял, что речь идет о кулачном бойце из Сиракуз, известном своей свирепостью. В афинской палестре рассказывали, что ударом кулака Сиракузянин — таково было его прозвище — легко проламывает человеку грудину, но не верил в слухи, и даже в то, что такой человек существует. Но, кажется, напрасно.
В это время Мегакл взялся за его раны, и Асамон тут же забыл про Кокала. Он лежал, стиснув зубы, чтобы не застонать и не обнаружить тем своей слабости.
Диагора был прав, когда говорил, что у Мегакла торбы набиты травами и снадобьями, самыми разными. От толченых зубов акулы и яда гюрзы, которым он лечил водянку, до трофейных амулетов из полудрагоценных и драгоценных камней. Асамон сам видел у него темно-вишневый лигирий — от слепоты и кровотечений, в оправе из тусклого серебра. Мерцающий в темноте «кошачий глаз», оберегающий от безумства, спасающий от чужой злобы и зависти.
Темный, как ночь, вериллий, предохраняющий от проказы и вшей, а кроме того, приносящий удачу путникам. Зеленый нефрит — почечный камень, хранящий от ударов молнии. Был у него также лунный камень, наделяющий обладателя даром предвидения, а женам облегчающий роды. Солнечный камень янтарь, и еще около десятка амулетов, которые, впрочем, мало помогли их бывшим владельцам, скончавшим жизнь на поле брани.
Мегакл сам, если возникала нужда, останавливал кровь. С помощью дикого плюща-ясенеца он выводил из тела застрявшие наконечники стрел. Умел зашить товарищу распоротый живот сухожилием, вырезанным тут же из ноги поверженного врага. Он умел вправить сустав, очистить от гноя и грязи запущенную рану, а затем сварить настой и залечить рану в три дня. Он мог снять боль и вылечить животы, расстроенные протухшей пищей, избавить от речной слепоты, растворить камни в почках и удалить бельмо. Долгие годы походной жизни научили его многому.
В ночном воздухе распространился тонкий аромат крепкого пальмового вина, которое в Египте употребляют для своих целей бальзамировщики.
Наставник промыл вином порезы на спине и плечах Асамона и наложил сверху содержимое плошек. Перевязал. Мелкие ссадины и разбитую бровь густо смазал янтарной смолой пихтового дерева, смешав ее со смолой кипариса, а сверху присыпал пеплом, чтобы грязь не смогла к ним пристать. Затем он дал мальчику выпить коричневый, терпкий настой и набросил на него хлену.
От ужина Асамон отказался. Его неудержимо потянуло в сон, и он не помнил уже, как добрался до повозки и тотчас уснул, едва опустив голову на рогожи.
...Наутро он проснулся от толчка и скрежета камней под колесами. Через прореху в пологе было видно, что повозка катит по безводному каменистому руслу, усыпанному крупным галечником. Колея за ними едва просматривалась. Похоже, Диагора и Мегакл, желая избежать толчеи, устроили ночлег в стороне от общего движения.
Асамон чувствовал себя превосходно. Но дремотное состояние исчезло без следа, едва события вчерашнего дня вновь всплыли в его памяти, Он долго лежал так, мрачный, весь погрузившись в раздумья. Прежняя его любимая мысль — «истина там, где победа», такая простая и бесспорная еще вчера, сейчас вызывала в нем отвращение. Что мог он найти общего между истиной и победой? Только то разве, что победитель всегда прав? По сути, один лишь страх... Победитель — это не обладатель правды, а обладающий правом, взятым силой. Или с помощью обмана. И больше ничего.
Асамон всегда знал, что такое победа. Но на том месте, где должна быть истина, в его сознании, словно в крепостной стене, зияла огромная брешь. Своей смертью раб отнял у него победу — и брешь вновь разверзлась, лишенная подпорки. Хотя Асамон мог поклясться, взрослые тоже не знают, что такое истина и, как он сам, подменяют ее кто чем придется. Выгодой, например, как отец. В выгоде для него все,— цель и смысл жизни, первопричины добра и зла, возвышение власти, ее падение, причины нашествий вроде персидского, расцвет, могущество и крушение целых царств... Может, все так, но это тоже — не истина. И даже не часть ее. Афинский стратег Кимон несколько раз кряду одержал крупные победы над персами в Ионии. Когда многочисленные обозы с военной добычей стали мешать продвижению его войск, он велел снести все добро в одну огромную кучу и сжечь дотла. Приказ был исполнен, и войска Кимона налегке двинулись дальше.
Разве это не значит, что существуют иные причины, помимо выгоды? Причин может быть много, но истина, если она есть, должна быть одна.
Вчера он сам, не желая того, лишил жизни раба. Бессмысленное, грязное убийство. Но тогда, в помрачении, он был уверен, что совершает акт возмездия. А если завтра эта же недобрая воля заставит его поднять руку на отца? Заставит думать при этом, что, убивая отца или донося на него, он творит благое дело?.. О боги, неужели одни вы всецело владеете истиной, а люди, словно насекомая тварь, обречены вами на бессмысленную суету?! Они могут страдать, радоваться, размножаться, вспарывать друг другу животы, грабить, сдирать кожу, любить, ненавидеть... Но вместо истины, освещающей жизнь смыслом,— коротенькие, словно мысли ребенка, причины. На каждый отдельный случай. У каждого отдельного насекомого.
«А может, в подлунном нет никакой истины? — вдруг подумал Асамон.— В лучшем случае, всего лишь сумма причин?»
Под полог к Асамону просунулась огромная бородатая физиономия Мегакла,
— Что ты сказал? Чего нет?
Асамон нахмурился. Он даже не заметил, что последние слова были произнесены им вслух.
— Истины нет,— нехотя обронил он.
— Истины... гм?
Голова исчезла. Но через короткое время появилась снова. Здоровый глаз Мегакла светился лукавством.
— Ты говоришь, чего нет? — вновь осведомился он.
— Я говорю, истины в мире нет,— упрямо повторил мальчик.
— Ты это утверждаешь?
— Да, утверждаю.
— Если ты утверждаешь, что истины в мире нет, значит, ты считаешь это твое утверждение истинным? Не так ли?
— Ну... да.
— Вот одна истина тебе на первый случай. Пользуйся.
Он рассмеялся, и голова исчезла. Асамон озадаченно хмыкнул. Его собственное категоричное утверждение, что истины нет, есть не что иное как истина?
Он решительно тряхнул головой. Игра ума, не более. Мегакл обожает подобные каверзы. Впрочем, охота рассуждать дальше на эти темы у него пропала. Вскоре он почувствовал, что повозка остановилась. Кругом раздавались выкрики, ржание коней, топот сотен и сотен ног, скрип и грохот колес по камню, так что, лежа в повозке, Асамон явственно ощущая под собой дрожание земной тверди. И вдруг в этом хаосе звуков, прямо подле него, за пологом, раздался легкий, ласковый смех девушки, словно по булыжнику рассыпали серебряные звонкие драхмы.
— Она!
В мгновение ока Асамон вывалился из повозки, вспрыгнул на ноги и бросился к дороге, на голос. Но среди проходивших мимо, сколько он ни напрягал зрение, не было ни одного женского лица. В большинстве тут шли люди простого звания — ремесленники, крестьяне, мелкие торговцы из местных везли на ярмарку свой немудреный товар.
Асамон стоял растерянный, ничего решительно не понимая. Ее смех — он слышал его отчетливо, рядом, и не перепутал бы ни с каким другим... О боги! Да не впадает ли он в безумие, подобно несчастному Пану, преследующему Сирингу?
Асамон понуро опустил голову.
В пыли у его ног что-то желто блеснуло. Он наклонился. Подобрал. Это оказалась подкова. Она была сношена до толщины древесного листа и еще хранила тепло конского копыта. Асамон покрутил находку в руках и бросил с равнодушием на дорогу. Легкий серебряный смех вновь зазвучал подле него и заставил вздрогнуть. Подкова, звеня и подпрыгивая на камнях, выкатилась на самую середину дороги и там затихла.
Асамон не верил своим глазам. Но тотчас ринулся следом и выхватил подкову из-под наехавших было колес.
Затем он бросал ее вновь и вновь, и подкова — послушно смеялась голосом юной лакедемонянки на разные лады. Нет, конечно, это был не смех. Но мертвый металл чудесным образом воспроизводил отдельные живые тона, которые он хранил в своей памяти с таким бережением. Асамон понял — это был добрый знак, посланный ему великой богиней. То ли в утешение, то ли залогом их будущей встречи.
Мальчик наконец заметил, что Мегакл давно стоит перед ним и наблюдает. По выражению лица наставника он понял, что со стороны его действия выглядят забавами развлекающегося идиота. Мегакл выразился в том же роде:
— Я что-то не пойму,— хмуро обронил он,— кто из нас двоих лишился разума? Ты или я?
Асамон рассмеялся.
— Ты не лишился разума, Мегакл. Ты оглох.
Он бросил подкову на камни. Но звон ее, ласкающий слух питомцу, и на сей раз ничего не объяснил умудренному опытом наставнику. Его душа давно оставила в покое эти тонкие сферы, тем более что голоса таинственной лакедемонянки он никогда не слышал.
С зажатой в руке подковой Асамон шагал рядом с повозкой по дороге. Теперь он знал наверное, что его мольба достигла слуха великой богини. Его жертвы, принесенные три дня назад, доставили ей удовольствие и были приняты.
...В ту ночь, после бесплодных поисков исчезнувшей лакедемонянки, Асамон, отчаявшись, вошел в храм Афродиты Урании (Небесной). Миновав храмовый придел, он остановился перед гладким, холодным камнем с высеченной на нем надписью:
НАСТАНЕТ ДЕНЬ, И ТЫ ПРИДЕШЬ СЮДА
Гладкая плоскость с надписью оказалась гранью постамента. Асамон поднял глаза. Изваянная из слоновой кости и из золота Афродита, в образе юной девы, попирала ногой панцирь огромной, медно-кованной черепахи. Змеиная голова животного оказалась на уровне лица мальчика и глядела на него в упор глазами из холодных голубых опалов. Под сводами храма во тьме метались летучие мыши. Они круто падали на ярко белеющую в лунном свете тунику, едва не касаясь его лица, и исчезали.
Асамон с горячностью прошептал каменной деве свою мольбу и возложил на алтарь гирлянду из ветвей маслины. Затем он покинул храм.
Двигаясь наугад через рощу, Асамон наткнулся вскоре на какую-то изгородь. Она была сложена из желтых плит песчаника и увита сплошь побегами дикого хмеля, словно зеленым ковром, какие обычно завозят с Востока. Асамон отправился вдоль стены и вскоре стоял перед входом. Дверей тут не было, не оказалось даже решетки, и он беспрепятственно вошел внутрь.
Посреди ограды была насыпана терраса высотой в рост человека, и на ней — огромный, взбрыкивающий козел, отлитый из темной меди, с сидящей на его спине смеющейся вакханкой. Совершенно нагая, она восседала на козле задом наперед, ухватившись одной рукой за нечистый хвост, а другой откидывала с безумных глаз разметавшиеся в полете волосы. Все в этой фигуре дышало пороком и кричало о неприличии. Чрезмерные груди вразлет с торчащими сосцами. Бедра, лишенные девичьей стройности из-за чрезмерных возлияний. Расплывшийся зад, открытый в прыжке для нескромных взоров во всех сокровенных подробностях. В ее распущенности и непотребстве мгновенно угадывалось животное упоение жизнью, ее мимолетными радостями, пусть даже весь мир обрушится в Тартар.
Асамон отшатнулся...
Чистое и целомудренное чувство, которое он вынес из храма Афродиты Урании, было оскорблено в нем. Великая богиня в облике скромной девы с запечатленной на устах таинственной полуулыбкой и эта порочная вакханка, погрязшая в блудстве,— они были несовместимы. Асамон повернулся, чтобы уйти. Но ему почудилось вдруг нечто знакомое в линиях тела этой фигуры на скачущем козле... В форме стопы, ударившей животное под ребра. В повороте головы. В разрезе глаз...
Мальчик остановился. Затем с упавшим сердцем, уже прозревая суть, приблизился к самому подножию террасы. На мраморной плите, лежащей у его ног, была выбита надпись:
АФРОДИТА ПАНДЕМОС
И чуть ниже мелкими буквами: «Скопас создал меня».
Предчувствия не обманули Асамона. Это была она, великая богиня. Слово «пандемос», ставшее именем Афродиты, употреблялось обычно в значении «всенародная». Но, как тень, бегущая за человеком, оно имело еще один смысл, достаточно фривольный — «общедоступная».
Асамон покидал священную ограду с чувством человека, над которым жестоко посмеялись. Но Мегакл, когда он рассказал ему эту историю спустя два дня, только ухмыльнулся.
— Каждый волен выбирать для себя, что ему больше по сердцу. Любовь или разврат — это личное дело всякого. Богиня равно покровительствует тем и другим, если умеешь ее попросить.
Он покопался у себя в поясе. Подкинул на широкой ладони монету.
— Большинство предпочитает блуд. Любовь для них обременительна. К тому же, чаще любовь становится наказанием, а не отрадой влюбленному воздыхателю.
На лицевой стороне монеты, отчеканенной в Элиде, был выбит силуэт вакханки на взбрыкивающем козле. По окружности тянулись буквы: Пандемос Афродита.
Мегакл кивнул.
— Да, это так. Уранию на своих монетах элейцы не чеканят.
...Сидя на козлах, Мегакл с подозрением поглядывал на Асамона, который шел подле, зажав в кулаке свою находку, как если бы она была выкована из золота. Состояние духа питомца и направление его мыслей не радовали Мегакла. Наконец, не выдержав, он опустился наземь. Некоторое время они шли молча, рядом, но Асамон, казалось, этого даже не замечал. Мегакл вздохнул, положил тяжелую руку ему на плечо.
— Послушай, что я скажу, мой мальчик. Думаю, тебе это поможет.
Асамон поднял на него темный, рассеянный взгляд в знак того, что он слушает.
— Не стоит, я думаю, обременять себя поисками смысла. Пустое занятие. Многие задолго до тебя отлично в этом убедились. История... история человеческого рода, она развивается не по законам целесообразного. Она развивается по законам наибольшего идиотизма. На ощупь. И чем дольше ты будешь ломать себе голову, стараясь отыскать там некий здравый смысл, тем скорее сойдешь с ума. Это так. Персы, например... я нагляделся на них достаточно, считают возможным жениться на собственных дочерях, а после смерти отца старший сын по закону имеет право жениться на собственной матери. Тем самым он становится во главе семьи. Бедняга Эдип, ты знаешь, когда понял, что стал мужем своей матери, впал в великое горе и выколол себе глаза. Но Эдип был эллином, а не персом. У народов, которые называют себя массагетами, жены общие. Но кто станет утверждать, что истинно, а что нет? Одна жена? Несколько? Или все сразу?.. Разные народы верят в разных богов. Но кто возьмется утверждать, какая вера истинная, а какая нет?.. Египтяне своих покойников бальзамируют, в Вавилоне их хоронят в меду, пэонийцы бросают в озера, а индийцы-каллатии варят покойников в погребальных котлах вперемешку с бараниной, затем поедают. Быть съеденным после смерти у них почитается за особую честь. Но если ты скажешь им, что они поступают дурно, они тебя не поймут. По их понятиям, дурно — это когда покойника сжигают. Словно полено.
Мегакл помолчал, давая Асамону обдумать сказанное. Затем продолжал:
— Между прочим, во всей этой, казалось бы, бессмыслице смысла больше, чем в том, если бы этот твой смысл действительно существовал. Тогда, подчиняясь ему, все стали бы равны и единообразны. Для человеческого рода это означает только одно — смерть.
— Смысл жизни в отсутствии всякого смысла? Иначе смерть? — Асамон усмехнулся.
— Не всякого,— возразил Мегакл.— Одного для всех. Тут большая разница. Если ты заметил, размышлениям об истине человек подвержен чаще в юном возрасте. Жизнь, многообразная и непостижимая, еще недоступна его разумению, она пугает. Но вместо того, чтобы действительно разобраться что к чему, он поспешно сводит все многообразие в единую и всегда бесплодную мысль, которую и называет смыслом. Мой тебе совет, кстати... Если не хочешь оказаться на всю жизнь в дураках, не вздумай судить о людях, о каждом из них, по самому себе. Тем более, рассчитывать по своему подобию какие-то шаги в отношении других.
Асамон молчал и смотрел в сторону.
— Надеюсь, ты понял?
— Я думаю, да. Но не обещаю, что у меня это получится.
Мегакл хохотнул.
— Не все сразу, мой мальчик. Сейчас ты должен думать о победе, а не о какой-то там... истине. Поверь, от этого куда больше проку.
Асамон вспыхнул и посмотрел на наставника долгим, исполненным неподдельного изумления взглядом. Тот понял, что зерно упало на готовую почву и, может быть, прорастет.
Гул возбуждения прокатился по колонне. Люди вокруг оживились. Многие поспешно сбрасывали с себя пропыленные плащи и облачались в цветные, нарядные гиматии. Желая оглядеться, Асамон взобрался на повозку. Дорога здесь шла под уклон, и людской поток яркой, подвижной лентой тек вниз в узкий просвет между буйных древесных кущ.
Впереди лежала Олимпия, долина прекрасной и полноводной реки Алфей.
Некогда Алфей имел человеческий образ и был искусным охотником. По преданию, он влюбился однажды в Аретузу, тоже охотницу, и незаметно следовал за ней весь день, терзаясь от любви. Ближе к вечеру девушка увидела наконец в расселине среди темнеющих скал дикую козу и возликовала. Трепетной рукой она натянула свой лук и пустила стрелу. Выстрел оказался удачным. Коза замертво грянулась наземь, пораженная в сердце. Но когда прекрасная Аретуза приблизилась к добыче, она увидела, что стрела принадлежит не ей, а юноше, который появился вдруг из-под земли. Алфей — так звали юношу — сказал, что это ее добыча по праву, и сказал, что он влюблен в Аретузу и просит стать ему женой. Разгневанная охотница отвергла все его предложения, а вскоре, не желая выходить замуж, покинула эти места и поселилась на острове Ортигия, находящемся неподалеку от Сиракуз. Там из человека она превратилась в источник. То же самое произошло с Алфеем, но не из гордости, а от любви. Он превратился в реку Алфей. Его воды текут с востока на запад и впадают в Сицилийское море. Затем, не смешивая свои воды с морскими, Алфей протекает его насквозь и, достигнув острова Ортигия, сливается с водой источника Аретузы.
О том, что это так, подтверждает бог в Дельфах. Когда коринфянин Архий, желая переселиться, спросил в Дельфах совета, бог в стихах указал ему лучшее место:
«Остров некий лежит, Ортигия, в море широком,
Против страны Тринакрийской, где устье Алфея сливает
Воды свои с прекрасно текущим ручьем Аретузы».
Много других рек и речушек впадает в Алфей на его пути. Но семь из них заслуживают особого упоминания. Протекая мимо города Мегаполя, в Алфей впадает холодная, с мрачными, замшелыми берегами, река Гелиссон. Другая река, стремительный Бренфеат, течет из Мегаполитанской области. Мимо города Гортины, где воздвигнут храм Асклепия, течет река Гортиний. Воды ее способны дать облегчение человеку при многих недугах. Из горной области Меленейской, между Мегаполем и Гереей, образуя между ними границу, течет бурный Буфаг, богатый форелью. Из страны Клиторов берет начало нежная и ласковая Ладон. Из горы Эриманфа бьет хрустальный источник и дает начало реке Эриманф.
Все эти реки текут из соседней Аркадии и впадают в полноводный Алфей, сообщая ему все свои свойства. Только Кладей смешивает с ним свои воды, начинаясь в Элиде. Место слияния ручья Кладей с Алфеем у подошвы холма Кроноса, покрытого изумрудной зеленью, с редкими меловыми осыпями, образует прекрасную долину, которая издревле носит название — Олимпия.
Во всей Элладе ни над чем в большей мере нет божьего покровительства, как над Олимпийскими состязаниями. Здесь, у подошвы Кроноса, находится священная роща Зевса Олимпийского — Альтис. Среди могучих платанов Альтиса на богатые пожертвования греческих городов, а также усилиями самих элейцев воздвигнут роскошный храмовый город, обычно безлюдный, населенный жрецами и немногочисленной прислугой...
Мегакл поманил Асамона пальцем вниз.
— Сойди. Сюда никто не въезжает, тем более на муле. Сюда входят.
Асамон исполнил требуемое и ощутил внезапное облегчение, словно сбросил с души камень, тяжко его томивший по мере того как они приближались.
Глава 5
Столь разноязыкой толпы, как здесь, на небольшой площадке перед храмом Зевса Олимпийского, Асамон не видел даже в афинском порту Пирей, куда свозят свои товары купцы со всех сторон света.
Среди привычных глазу многоцветных хитонов из тончайшего льна и шерсти с изящно наброшенным поверх них фаросом нередко мелькали белые одежды египтян, называемые каласирис, темные или же полосатые бурнусы бедуинов, встречались италийские тоги и паллии, пестрели шелковые одеяния ассирийцев, странные одежды еще незнаемых им племен и народов.
Мощная колоннада, воздвигнутая из местного камня «пороса», окружала храм по периметру. На многофигурном фронтоне, под статуей богини Победы, в центре, словно маленькое солнце, горел и плавился в закатных лучах золотой щит с изображением Медузы Горгоны — посвящение спартанцев в Олимпию в честь их победы под Танагрой.
Замирая сердцем, Асамон и его друг из аркадийского города Ликосура по имени Гнафон взошли по высоким ступеням и попали в храмовый придел. Слева на стенах были развешены медные щиты, числом двадцать пять. Во время бега их носят те, кто состязается в тяжелом вооружении. Здесь же, под щитами, Асамон увидел огромный треножник, искусно обложенный медными листьями. Этот треножник выносят раз в четыре года, во время награждения победителей, и складывают на него венки, срезанные с дикой маслины Каллистефанос.
В приделе справа замерли в беге на широком постаменте медные кони Киниски — дар единственной в Элладе женщины, чья упряжка пришла первой на состязаниях в Олимпии и принесла владелице победный лавр.
В открытые двери, кованные из темной меди, звучали мужские низкие голоса, напоминая величественный рокот морского прибоя. Они пели хвалебные гимны в честь Владыки богов, и их размеренное песнопение на тяжелом дорийском наречии повергало души смертных, входящих в храм, в священный трепет.
Вслед за другими пройдя медные двери, Асамон увидел справа от входа статую Ифита. Юная женщина украшала голову царя Элиды лавровым венком, на ленте которого была выбита надпись: Экехейра.
Внутри храма Зевса, по обеим его сторонам, тоже тянулись ряды колонн с опирающимися на них верхними галереями. Курился фимиам, звучали торжественные хоры, и в круглых глубоких нишах между колонн при свете факелов переливались бликами золотые чаши и кубки, искусные украшения, носильные цепи, дорогое оружие, серебряные и золотые монеты, драгоценные камни, оправленные в слоновую кость и янтарь, другие ценности,— приношения и дары от многочисленных городов и колоний Эллады, выставленные здесь для всеобщего обозрения.
Но все это меркнет и кажется прахом при одном только взгляде на исполинскую статую самого Владыки богов, восседающего на троне у восточной стены храма.
Бог столь велик, что, даже сидящий, он достигает головой свода, и если бы вздумал встать, то поднял бы весь храм на свои могучие плечи. Подобная несоразмерность оказывает магическое действие на всякого и впечатляет далее инакомыслящих и варваров, заставляя уверовать их в могущество эллинского кумира. Когда великий Фидий закончил работу над статуей, то пал на колени и обратился к Зевсу с молитвой — послать знамение, угодно ли ему, могущественнейшему из небожителей, творение рук смертного. Едва он произнес это, как тотчас с ясного неба грянули раскаты грома — в пол между статуей и стоящим на коленях творцом ударила молния.
Так бог благословил работу Фидия — одно из семи чудес света. Место, куда упала молния, отмечено стоящей там медной чашей.
На голове Зевса Олимпийского надет венок из ветвей дикой маслины. Вся фигура вырезана из слоновой кости и отлита из золота. В правой простертой руке он держит на ладони крылатую Нику, богиню Победы, также сделанную из золота и слоновой кости. В левой руке — сверкающий скипетр, изящно расцвеченный драгоценными металлами, с сидящим на нем огромным орлом. Из золота у бога плащ и сандалии. На золотом плаще, падающем с его плеч широкими затейливыми складками, среди золотых лилий помещены многочисленные изображения животных, какие только известны человеку. Над головой статуи, на самой вершине трона, Фидий изобразил дочерей Зевса, с одной стороны Харит, с другой Гор — хранительниц неба и небесных чертогов. Трон его Фидий богато изукрасил золотым замысловатым литьем, разными драгоценными камнями, черным деревом и слоновой костью с искусной резьбой на них, рисунками и рельефами.
Желая рассмотреть все в подробностях, Асамон приблизился к подножию исполинской статуи и встал перед барьером, расписанным кистью знаменитого Панена, брата Фидия, где изображены были многочисленные подвиги Геракла, оскорбление Кассандры героем Аяксом, смерть Пентисилаи на руках Ахиллеса и другие картины. Пол перед статуей был покрыт плитами из полированного черного мрамора, залитого оливковым маслом. Его окаймляла приподнятая полоса из парросского мрамора, за которым, свисая на крученых золотых шнурах, лежал огромный занавес, богато украшенный финикийским пурпуром и пышными ассирийскими узорами.
Асамон долго стоял так, с изумлением глядя на исполинскую стопу, обутую в золотую сандалию. Одной ногой бог опирался на специальную подставку-франион, покоящуюся на спинах золотых львов, и там была изображена битва афинянина Тесея с амазонками,— один из первых подвигов героя. У каждой ножки трона толщиною, должно быть, в целый столб, вокруг нее, в виде танцующих фигур поместились четыре Ники и по две фигуры внизу. У передних ножек сгрудились в страхе фиванские дети, похищенные сфинксами, а под сфинксами Аполлон и Артемида поражали золотыми стрелами детей почерневшей от горя Ниобы.
На многочисленных колонках и перекладинках между ножек трона были изображены сцены из древних состязаний в Олимпии, а сбоку и сзади — битва Геракла за пояс царицы амазонок со множеством батальных эпизодов.
И трон, и восседающий на нем исполин, многочисленные фигуры внизу, у его ног,— все это покоилось на широком постаменте, искусно изукрашенном золотыми рельефами. Но здесь на большом пространстве была изображена лишь одна сцена — рождение Афродиты из морской пены, при котором присутствуют и другие боги. Справа лучезарный Гелиос, бог Солнца, садящийся в свою колесницу. Зевс и божественная супруга Гера, дочь Харита. Рядом с нею быстроногий Гермес и Гестия за ним, которая принимает выходящую из моря юную Афродиту. Пейто, богиня красноречия, убирает ее голову венком. Вычеканены кроме них Аполлон с Артемидой, Афина и Геракл, а на самом краю пьедестала — Амфитрита, Посейдон и неулыбчивая Селена верхом на любимом осле.
От блеска золота и сверкания драгоценных камней, обильно смазанной оливковым маслом слоновой кости у Асамона перед глазами поплыли радужные цветные пятна, словно от яркого солнца. Он прикрыл на мгновение глаза, чувствуя себя малой песчинкой в бескрайнем океане жизни, чей срок скоротечен, а существование ничтожно перед величием бога.
Когда он открыл их, ему вдруг показалось, что юная Афродита, выходящая из моря... улыбнулась. Даже сделала жест, значения которого, опешив, он не понял.
Асамон в волнении отступил на шаг назад от барьера и протер глаза. На золотом лице богини застыла лукавая полуулыбка... Асамон замер, всматриваясь со страхом в золотые рельефы. Он не мог вспомнить теперь, была ли эта улыбка еще мгновение назад, когда он разглядывал изображение впервые. Ему казалось — нет, даже напротив того, ему помнилось, что лицо рождающейся богини было глубоко отрешенным, как бы возникающим из небытия, быть может, торжественным дать, как торжественны и величавы лица встречающих ее богов. Однако уверенности в нем не было.
Асамон долго оставался в растерянности, широко раскрыв глаза и ожидая неизвестно чего. Но чем дольше он всматривался, тем более ему казалось, что улыбка юной богини меняет свои оттенки. Мгновение назад она была лукавой. И вот уже глядит на него чуть насмешливо. Спустя небольшое время легкая капризная гримаска запечатлелась на ее устах, сменив насмешливость, и Асамону почудилось, как будто некоторая досада в ответ на его непонятливость и недоверие.
А может, то была лишь причудливая игра света и масляных бликов на золоте при дуновениях ветра?
Асамон не выдержал и круто повернулся, желая взглянуть на окружающих, на Гнафона, чтобы увидеть на их лицах подтверждение или же отрицание виденного им.
Приятель стоял рядом, за его спиной, но ничего, кроме любопытства и благоговения, с какими он сам только что разглядывал исполинскую статую, на его лице больше не выражалось. То же самое другие — любопытство и благолепие на всех лицах без различий, наиболее сильные, видимо, чувства, которые выносил отсюда всякий. Не имея больше сил оставаться, Асамон быстро двинулся к выходу. Но из толпы, терзаясь неясными чувствами, он оглянулся еще раз на золотую богиню и — мог поклясться — она с укоризной качнула ему вслед головой.
Гнафон нагнал друга уже спускающимся со ступеней храма. Заглянул в его потерянное лицо.
— Что произошло? Что с тобой?
— С мной? Ничего.
Но Гнафон не отставал.
— Полно! Здоров ли ты? Ты вроде как не в себе, я же вижу... Да остановись, наконец! Куда ты бежишь?! — вскричал он, уже не надеясь добиться какого-нибудь толку.
Асамон остановился, осененный внезапной догадкой. Повернулся к приятелю и с горячностью схватил его за руку.
— Тебе покажется странным... Впрочем, нет! Гнафон, не посчитай за труд... Вернись и рассмотри в подробностях Выходящую из пены. Ту, что на базисе. В особенности ее лицо. Ты меня понимаешь?
— Да в чем дело? Ты можешь хотя бы...
Но он тут же осекся, видя странный блеск и расширенные глаза афинянина.
— И главное... она улыбается, или нет? Обрати внимание.
— Улыбается? Кто?
— Изображение Афродиты. С улыбкой на устах, или лицо покойно?
Просьба была пустяковой. Но горячность Асамона привела приятеля в замешательство, и он не сразу уразумел, что именно от него требуется, и почему Асамон не может пойти туда сам и сам все разглядеть, если ему это столь важно. Так и не уяснив до конца смысла сказанного, он взбежал по ступеням и скрылся между колонн, выражая даже спиной полное по этому поводу недоумение.
Асамон остался внизу в нетерпении ожидать приятеля. Если все так, думал он, если ему не почудилось, то в действительности это могла быть та редкая и таинственная улыбка богини любви Афродиты, о которой он слышал не раз. Богиня иногда дарит ее простым смертным, желая осчастливить или, напротив того,— наказать избранника. Но что она может сулить ему? Станет ли богиня расточать свои милости на него? Или ему суждено превратиться в ничтожную жертву, пораженную тяжким любовным недугом и обреченную на одиночество?
При одной этой мысли Асамону сделалось не по себе. Признаки любовного недуга у себя он сознавал, и с каждым днем они все усугублялись, вызывая тревогу у Мегакла, или, как теперь,— повергли в недоумение Гнафона явной нелепостью поведения. Но сейчас многое должно разъясниться: плод это взыгравшего воображения, вызванный случайной игрой света, или божественный промысел вмешивается в его судьбу?
Наконец появился Гнафон. Недоумения на его лица как будто прибавилось, но в черных, блестящих глазах светилось явное любопытство. Асамон взбежал по ступеням.
— Ну? — не дождавшись, выдохнул он.
Приятель качнул головой.
— Там нет лица, на этом изображении.
— Нет? Ты хорошо все рассмотрел?
— Голова у нее опущена, и волосы падают на лицо. Губы, глаза — все скрыто от нас.
Хотя Асамон ждал этих слов, но холод волной пробежал по всему телу. Значит, никто другой, кроме него, не видел даже лица Афродиты? Ее улыбка предназначалась единственно ему.
Желая скрыть свое состояние, Асамон повернулся к приятелю спиной. Гнафон пожал плечами, раздумывая над странным поведением друга. Он собирался уже потребовать объяснений, но в этот момент его внимание было привлечено группой блестящих молодых людей, которые направлялись мимо их к храму. Одеты они были с нарочитой небрежностью, которая сразу выдавала в них спартанцев. Подобная манера одеваться давно стала притчею во языцех. Один знаменитый острослов, приехав в Олимпию, увидел разодетых в золото и пурпур родосских юношей и воскликнул: «Это спесь!» Когда же неподалеку остановились спартанские аристократы, одетые разве что не в лохмотья, он, глядя на них, сказал: «Это тоже спесь, но иного рода».
Шутка обошла весь мир. Но таковы были спартанцы.
Украшением в их небольшой компании несомненно была прелестная, похожая на только что распустившийся бутон, девушка. Яркий пеплос цвета шафрана, украшенный сбоку пальмовыми листьями, искусно подчеркивал нежную свежесть ее лица, большие темно-синие глаза. Свою одежду она носила на дорической манер — с глубокою апотигмою, которая была перехвачена в талии изящным пояском с длинной бахромой из крученых серебряных нитей. С правой стороны вдоль всей линии бедра на одеянии был сделан разрез, которым спартанки, несомненно, подчеркивали свои права и свободы относительно других женщин Эллады. Маленькие, крепкие ступни юной наяды, безупречные по форме, были обуты в легкие сандалии, отделанные серебром, которые выглядели скорее как украшение, нежели обувь.
Кроме юношей, их было трое, при девушке находилась служанка, примерно одних с нею лет, нрава веселого и весьма подвижного. Опытный глаз, быть может, сразу признал бы в ней уроженку покрытой лесами Фракии, светлокожую, с зеленовато-серыми длинными глазами. Одета она была несколько проще своей госпожи, но не без изыска, и, судя по тому, как та и другая обращались друг к другу, они выглядели скорее подругами.
Асамон, погруженный в свои мысли, не замечал ничего. Он сошел вниз и, уже стоя на последней ступени, краем уха услышал, как его общительный приятель бурно кого-то приветствует и расточает похвалы.
Не имея охоты вступать в разговор с кем бы то ни было, Асамон двинулся прочь. Он был даже рад случаю остаться наконец в одиночестве. В этот момент, однако, за его спиной на лестнице раздался легкий, испуганный возглас... Асамон невольно остановился. По каменным плитам, подскакивая и вспыхивая на солнце прозрачными гранями, искрясь, скатилась вниз маленькая гемма и упала прямо ему под ноги.
Асамон наклонился, взял изящную безделушку в руки. Тонкий серебряный шнурок, на котором она висела, явно перетерся. Но гемма осталась цела. Асамон обернулся, желая передать гемму владелице, и... в изумлении замер. На ступенях храма Зевса перед ним стояла та, встречи с которой он столь страстно искал. Которая в несколько дней смешала разом все его чувства и лишила разума, превратив в полубезумца, вызывающего у близких вздохи и сострадание. Все эти дни он громоздил одну глупость на другую и не находил себе места, не мог забыться даже во сне, ибо ночью его муки становились еще невыносимее. Но нет, это не была любовь, потому что нельзя любить за причиняемую боль, но он не испытывал ненависти, потому что вся вина девушки состояла лишь в том, что однажды она имела несчастье попасться ему на глаза. Это был именно род недуга, сходного с безумием, невольной причиной которого явилась она.
Глаза их встретились наконец — впервые. Темные, мерцающие глаза Асамона и синий, ласковый взгляд девушки. В нем светилось разве что любопытство и легкий испуг или огорчение по поводу оброненной ненароком дорогой безделушки. Асамону показалось, что она даже не помнит того мальчика, который год назад, замирая сердцем, рассыпал у ее обнаженных ног на Хоре охапку болотных асфоделей. Тем более она не подозревает о его страданиях — и это самое ужасное.
Смешливый голос Гнафона заставил его очнуться.
— Гей, Асамон! Ступай сюда. У тебя в руках отличный повод представиться нашей божественной Хрисе. Не упусти его. Прелестная Хриса,— смеясь, обратился он к девушке,— там внизу, у твоих чудных ног, дозревает в муках еще один несчастный поклонник, ха-ха!
Эти слова отрезвили Асамона. Только сейчас он увидел, что лакедемонянка окружена поклонниками, существования которых он почему-то не предполагал. Напротив, он считал, что стоит ему появиться перед нею со своим злополучным недугом, как она, непременно страдая таким же точно недугом, бросится в его простертые объятия, и они обретут забвение.
О, глупец!
Гнафон продолжал что-то болтать, но он уже не слышал его, лихорадочно соображая... Двоих, Тисамена и Селеада, он знал по гимнасию в Элиде. Как и Гнафона, хотя и близко с ними не сходился. В учебных схватках спартанцы старались не обнаружить своего искусства в полной мере, довольствовались обычно небольшим преимуществом, ровно настолько, чтобы быть внесенными в олимпийский список. Но это были опасные бойцы, и, если выпадет жребий, на скамме они окажутся его соперниками.
Однако здесь, на ступенях храма Зевса, наибольшую опасность представлял третий из спартанцев, и он сразу его выделил. Могучая, гибкая стать юноши тотчас обнаруживала в нем опытного атлета. Обычно таких вносят в олимпийские списки, не подвергая предварительным испытаниям, как новичка. В разговоре было упомянуто имя юноши, Герод. По возрасту Герод принадлежал к эфебам и явно пользовался благорасположением лакедемонянки. Асамон заметил, как, обернувшись, она оперлась на его руку, предупредительно подставленную, и благодарно улыбнулась. Впрочем, это могла быть простая любезность.
Пауза между тем затягивалась, и он чувствовал, что рискует выставить себя в смешном свете. Но что ему оставалось делать? Вернуть гемму, сказать нечто остроумное... пару строк из Сапфо, приличных случаю, и пристроиться в свиту воздыхателей? Одним из них? Потом он будет ловить ее взгляд, случайную улыбку, вздох и жаркими, одинокими ночами перетолковывать все на разные лады, мучаясь неизвестностью?.. Жалкая, презренная участь!
Времени на осадные действия ему не отпущено ни одного лишнего дня. А случай действительно таков, что упустить его непозволительно. Он должен рубить узел разом, сейчас, на глазах у всех... Победить или... Да поможет ему в этом всемогущая Афродита...
Все эти мысли лихорадочной и нестройной толпой пронеслись в голове Асамона в считанные мгновения. Как никогда, он был благодарен сейчас приятелю за его спасительную болтовню. Он уже шел по ступеням вверх, навстречу своей судьбе...
Гнафон подхватил его под руку и, со значением понизив голос, обратился к девушке:
— Любезная Хриса, не обращай внимания на мрачный вид этого отрока. Перед тем, как мы с вами встретились, у нас произошло ужасное недоразумение. Да, да! Он меня едва не прибил.
— За что? — со смехом отозвался Тисамен.
— Он утверждает, что на базисе статуи Зевса, где изображена богиня любви... Нет, я не могу! Мы опять станем с ним ссориться!
— Что там?! — в неожиданном волнении воскликнула Хриса, подавшись вперед. Гнафон почувствовал интерес и теперь старательно держал паузу, нагнетая тайну. Наконец смилостивился.
— Хорошо. Правда, я сильно рискую, но единственно ради прелестной Хрисы. Так вот, этот мрачный отрок, который называет себя моим другом, утверждает, будто Афродита на базисе, рождающаяся из пены,— улыбается! Я же, стоя подле него, не увидел на изображении даже лица. Хотя разглядывал со всем тщанием.
— Ах!
Хриса пошатнулась и, вероятно, упала бы без чувств, не поспеши на помощь Герод и фраккянка, которая стояла сзади и успела поддержать госпожу. Однако девушка тотчас взяла себя в руки, сделав вид, будто оступилась. Все выглядело очень естественно, и иного никто не заподозрил. Капризным тоном, не допускающим возражений, она воскликнула:
— Проводите же меня! Я хочу видеть все сама.
Спартанцы повернулись идти.
— А гемма? — смеясь, напомнил Тисамен.— Или ты хочешь подарить ее афинянину?
«Она хочет сбежать»,— почему-то решил Асамон, глядя девушке прямо в глаза. Каким-то звериным, древним инстинктом он почуял вдруг, что между ним и Хрисой нет той крепостной стены, которую он навообразил себе, стоя там, внизу. Есть страх, ее страх, столь же древний — единственная преграда, пожалуй, которая разделяет их в эти мгновения.
Он сделал шаг вперед.
— Мое имя Асамон. Похоже, бедняга Тисамен стареет, коли в два дня забыл это. Вот твоя гемма.— Он поднял руку с болтающейся на шнурке геммой и продолжал смотреть девушке прямо в глаза.— Ты получишь ее назад. После гекатомбы. Я буду ждать у северо-западных ворот в Альтис, подле Притания.
Он отступил.
Это была дерзость неслыханная. Подобного тона, похожего на приказ, ни один из спартанцев даже мысленно не мог представить себе по отношению к девушке. Повисла грозная пауза. Сейчас достаточно было Хрисе сделать небрежный жест рукой или нахмурить брови, и — расправа была бы короткой. Никакие последствия и угроза наказания не остановили бы спартанцев. Но Хриса молчала. Тогда, глядя в сторону, Селеад угрюмо обронил:
— Твой друг, мне кажется, изрядный наглец. Передай ему это.
— Не знаю, не замечал,— пробормотал Гнафон, не слишком, впрочем, уверенно. Тисамен, желая свести все к шутке, рассмеялся.
— Хорошо. Считай, ты нас уговорил. Мы придем туда после гекатомбы, все вместе.
— Ты плохо понял меня, Тисамен. Речь идет не о тебе. Но если ты непременно хочешь встретиться, я готов. На скамме.
— Клянусь Зевсом,— Тисамен усмехнулся,— Афины объявляют Спарте войну.
Асамон не отвечал.
— Посмотри туда, афинянин,— продолжал Тисамен, указывая рукой на золотой щит с изображением Медузы Горгоны на фронтоне храма Зевса.—Ты, я вижу, забыл, что гласит надпись на том щите, и кто его туда повесил? Селеад, напомни ему.
Селеад приблизился к Асамону вплотную, глаза в глаза, и, медленно выговаривая каждое слово, продекламировал:
«В храм сей щит золотой спартанцы после Танагры
Вместе с союзным своим войском его принесли
В дар, победив агривян... афинян! а также ионян,
Взятой добычи врагов — это десятая часть».
— Или ты хочешь, чтобы мы повесили на храме еще один щит? — осведомился Тисамен.
Афинянин пожал плечами.
— Вначале никогда не знаешь всего, что будет потом.
— О нет, не скажи! — с важным видом вступил Гнафон.— Спартанцы превосходные воины, это знают все. Но любовники из них ужасные. Это тоже все знают. Прекрасная Елена, супруга спартанского царя Менелая, великого стратега, сбежала от него с простым пастухом! Но что из этого? У каждого из нас свои недостатки и свои достоинства. Одни хорошо владеют мечом, другие... Так надо ли ссориться, друзья? Кстати! Прекрасная Хриса, когда ты пойдешь на свидание с моим другом, вели своей абре сопровождать тебя,— лукавец сделал паузу и со значением подмигнул фракиянке.— И передай ей, что мы гораздо щедрее на расходы, нежели наши мужественные спартанцы.
Он подкинул на ладони золотую монету, достоинством в один статер. Попробовал золото на зуб. Смешливая фракиянка прыснула в ответ и закрыла зардевшееся лицо руками.
Эта реплика могла стать последней каплей в чаше терпения спартанцев, если бы не Хриса. Она молчала по-прежнему и лишь слегка закусила губу. Но Асамон наградил приятеля таким бешеным взглядом, что тот невольно отшатнулся. Вне себя от гнева Асамон приблизился к девушке и решительно протянул ей гемму.
— Я женщин на деньги не покупаю. Возьми. После его слов я не считаю себя вправе делать тебе предложения.
Голос его дрожал. Хриса не двинулась с места. Но грудь ее часто вздымалась, выдавая волнение, и на щеках проступил легкий румянец.
Герод, который в продолжение всего разговора не вымолвил ни единого слова, но при этом внимательно следил за девушкой, сделал короткий, властный жест. Спартанцы, все трое, удалились и встали в стороне. На лице Герода не дрогнул ни один мускул, и можно было только догадываться, чего стоило ему это благородное решение.
Гнафон, обескураженный, ничего не понимая, последовал однако примеру спартанцев и также отошел в сторону. Но вскоре он утешился и что-то весело нашептывал на ухо смазливой фракиянке, явно пользуясь ее благосклонностью.
Асамон вдруг ощутил с внезапной пронзительностью, что он и Хриса остались совершенно одни. Друг против друга. Что в эти самые мгновения между ними нет больше постороннего внимания, чужой подозрительности и недоверия, ненужной другой любви, как нет и собственных обязательств и злой необходимости платить за все это той же самой монетой. Казалось, рухнули затхлые стены, которые разделяли их. Свежий воздух, словно запахами моря напитанный ее присутствием, ударил Асамону в лицо и отозвался в теле волнующей дрожью. Они долго молчали, и молчание не обременяло их. Оно было исполнено тайного, всепоглощающего смысла, когда каждый со сверхъестественной обостренностью угадывал в себе переливы настроений чужой души, ее внезапные порывы, трепет, обрывки мыслей, смятение и согревающую вдруг надежду. Так чуткий зверь ловит случайные запахи, наносимые из темноты свежим дыханием ночного эфира и складывает их в картину, исполненную для него вполне реального смысла.
— Хриса... пора.
Это был Тисамен. Он подошел сзади и коснулся плеча девушки. Она рассеянно кивнула и, помедлив, покорно отправилась следом.
Глава 6
Два дня минуло после встречи на ступенях храма Зевса. Хриса исчезла вновь, как если бы все, случившееся с Асамоном, было просто сном. Кажется, только теперь афинянин начинал сознавать полной мерой гибельную власть великой богини. Он понял также, почему элейцы, воздвигнув многочисленные храмы Афродите Урании, упорно избегают их. Страсть, которую она внушает, безумна и не знает меры. Такая страсть способна превратить здравого человека в мерзкого скота, не отвечающего за свои деяния. Даже сам Зевс, Владыка богов, был бессилен перед безумной страстью, которую умела внушить Афродита...
Разве не Зевс, забыв разом о достоинстве и приличиях, добровольно превратил себя в быка и в таком униженном виде, не желая быть узнанным, скакал нелепым галопом за три моря ради прелестной сидонянки Европы?..
Разве не Зевс, не найдя иного способа удовлетворить свою похоть, пролил семя на предмет обожания через худую кровлю обильным золотым дождем?..
Разве не Зевс, словно жалкий блудодей, скрываясь за деревьями от глаз своей царственной супруги Геры, пробирался на свидание в тайную пещеру, а возлюбленную Ио, дабы скрыть преступную связь, превратил в корову и так сходился с нею?..
Разве не Зевс, желая совокупиться с замужней женщиной и обманом взойти на чужое ложе, неоднократно принимал облик законного мужа?..
...Палестра давно опустела, но Асамон продолжал сидеть один, привалившись спиной к колонне. Он уже с трудом различал в вечерних сумерках фигуры рабов, убирающих скамму и помещения к завтрашним кулачным боям и состязаниям взрослых мужей в панкратии. На завтра Совет Олимпии назначил также все состязания мальчиков. С утра — бег и борьба, после полудня — кулачные бои мальчиков и панкратий, в котором ему предстояло участвовать.
Недавние поединки взрослых борцов произвели на Асамона неожиданно сильное впечатление. Все любовные томления последних дней вдруг потускнели в нем и отступили перед яростным желанием немедленного, беспощадного боя, привкус которого он ощущал, казалось, у себя во рту. Но это был только приступ внезапной драчливости — оборотная сторона все того же бесплодного томления и собственных зряшных усилий что-либо изменить. И он скоро угас. Мало-помалу все воротилось на свой печальный круг.
Асамон нехотя поднялся с места и двинулся прочь.
Неподалеку от гимнасия, там, где днем вдоль западной стены шумел благоуханный цветочный рынок, он обратил внимание на две знакомые фигуры и остановился. Это были известные в Элиде попрошайки — толстый болтун Менап и его унылый, нескладный приятель по имени Никтим. Толстяк елозил посреди дороги на коленях и что-то со тщанием рассматривал на залитой лунным светом поверхности, выложенной плитняком. Никтим, наподобие гермы, неподвижно стоял над ним, склонив набок голову, и наблюдал. До Асамона доносились возбужденные голоса и отдельные, весьма крепкие, выражения.
Происходящее показалось Асамону чрезвычайно любопытным и он направился в их сторону.
— Здравствуйте, почтенные. Надеюсь, я вам не помешал? — вежливо осведомился он, взглядывая по очереди на обоих.
Ответа, однако, не последовало. Толстый Менап стоял на коленях перед кучей ослиного дерьма и длинной сухой щепкой увлеченно разваливал ее на части, исследуя содержимое. Едва разглядев, чем они тут заняты, Асамон не выдержал и расхохотался.
Не подымаясь с колен, Менап сверкнул на юного афинянина сердитыми глазами и вновь углубился в свое занятие с некоторым даже ожесточением. Никтим, наоборот, охотно отступил в сторону и сокрушенно развел руками: мол, вот полюбуйтесь, люди добрые, на этого злосчастного. Видно, у него вконец помутился разум.
От обоих изрядно припахивало дешевым вином.
Разделавшись с кучей, тяжело сопя, толстяк на коленях перебрался к следующей, благо этого добра на дороге за день скопилось предостаточно. Никтим, явно недовольный упорством приятеля, уныло забубнил:
— Менап, дружище, я полагаю, на сегодня с нас хватит. Целая драхма! Всякий другой на твоем месте был бы счастлив, а ты... Все равно больше ты ничего тут не найдешь.
— Глупец! — прорычал Менап, не отрываясь, однако, от дела.
— А я говорю — не найдешь. Это простая случайность. Совсем даже не то, что ты думаешь.
Асамон, крайне заинтригованный, с любопытством переводил взгляд с одного на другого.
— Почтенные, вы говорите, драхма? Он что, нашел тут драхму?
— Да! Да! — вдруг вспыхнул толстяк.— Я нашел... Целая драхма! Вот она...
Он воткнул щепку в кучу и выплюнул из-за щеки на ладонь тусклый серебряный кружок.
— Целая драхма! Вон в той куче ослиного дерьма. И я сразу подумал: интересно, чем это таким хозяин кормит своего удивительного осла, что он гадит на дорогу не иначе, как серебряными драхмами? А потом... ха!—Толстяк фыркнул и широко повел вокруг себя рукою.— Потом я решил разбогатеть. Но для этого, юноша, надо разобраться во всем этом дерьме, не так ли? Что я сейчас и делаю. Бедняга Никтим, он считает, будто я свихнулся! Но у него всегда недоставало фантазии, как у всякого нищего. Особенно, когда речь шла о деньгах, больших деньгах! А большие деньги искать следует всегда в дерьме. В других местах, как известно, они не водятся.
Обиженно сопя и покряхтывая, толстый Менап вновь опустился на колена и взялся за свою щепку. Лицо его выражало одновременно высокую торжественность и смиренное покорство, как у незаслуженно пострадавшей добродетели, когда обман наконец открылся и справедливость восторжествовала.
Но, пожалуй, все это было напускное. Он явно паясничал и ломал свою горькую комедию перед единственным и не слишком благодарным зрителем. Никтим уныло смотрел на него сверху вниз и не верил, даже осуждал приятеля, хотя, сам того не ведая, блестяще ему подыгрывал.
Асамону, правда, показалось, что толстый Менап чего-то недоговаривает. Но настаивать на откровенности впрямую было бы неразумно. Поэтому, поразмыслив, он решил подыграть им тоже и посмотреть, чем все закончится.
Совершенно серьезно и с вежливостью он попрощался с тем и с другим, а толстому Менапу пожелал удачи в его многотрудном деле.
— Хотя бы раз в жизни человеку непременно должно повезти. Да помогут тебе боги, почтенный,— заключил он, поворачиваясь уходить.
Менап вскинул на него исподлобья маленькие подозрительные глазки, но ничего не ответил. За толстой щекой, оттопыривая ее, явственно обрисовывалась припрятанная монета. У бедняка, видно, давно не водилось таких денег, и он даже не имел места, куда их спрятать, иначе как за щеку.
Асамон сделал вид, будто уходит, но, ступив пару шагов, обернулся — оба приятеля, всецело занятые собой, о нем, похоже, тотчас забыли. Быстрым движением он извлек из пояса серебряную драхму и воткнул ее ребром в соседнюю кучу, как раз за спиной у недоверчивого Никтима. Точно таким же образом воткнул вторую, поодаль.
Убедившись, что все сделанное прошло незамеченным, а в его сторону ни один из приятелей даже не взглянул, он, не слишком отдаляясь, отступил в тень за толстое платановое дерево и замер там, ожидая результата.
Вскоре громогласный, торжествующий вопль заставил его вздрогнуть от неожиданности.
Затея, кажется, вполне удалась. Осторожно, стараясь не обнаружить своего присутствия, Асамон выглянул из укрытия и едва смог удержаться от смеха. Толстый Менап, зажав монету в кулаке и свирепо потрясая над головой, вышагивал посреди дороги вперед-назад, вперед и снова назад мимо Никтима. В глотке у него перекатывались какие-то рыкающие, нечленораздельные звуки. Мимоходом он то и дело совал свой толстый кулак приятелю в нос и торжествующе вопрошал: «Ну?! А?.. Ха-ха! Что я говорил?»
На беднягу Никтима было жалко смотреть. Он только разевал рот, по привычке желая возразить, но вновь найденная монета, еще одна, похоже, лишила его дара речи.
В мгновение ока серебряная новенькая драхма, как и та, первая, исчезла у Менапа за щекой. Опомнившись, Никтим наконец с укоризной заметил:
— Менан, дружище, ты так громко сопишь и ругаешься, что я боюсь, как бы ты эти деньги случайно не проглотил. Если это произойдет, то мы можем остаться с тобой без ужина даже завтра.
— Ха! Плевать я хотел на завтра, мой благородный Никтим. Клянусь, мы неплохо поужинаем еще сегодня.
Он спохватился вдруг и с резвостью, какую трудно было от него ожидать, бросился к очередной куче. Вскоре еще монета, тоже драхма, звеня и подпрыгивая, выкатилась на обочину и заблестела в траве маленьким лунным диском. Оба приятеля, выпучив глаза и не двигаясь, завороженно следили за ее звонким, серебряным бегом и долго стояли так, в неподвижности, переглядываясь, пока Менап наконец не решился ее подобрать.
Из укрытия Асамон вдруг с удивлением разглядел на круглой, обожженной солнцем физиономии толстяка... слезы! Он держал монету на ладони с брезгливостью, как если бы это была мерзкая, отвратительная гадина. И плечи его вздрагивали.
Асамон ничего не понял. Ему показалось даже, что толстый Менап продолжает паясничать и ломать все ту же комедию, но рыдания выглядели слишком натурально, и слезы текли из глаз ручьями.
Никтим, желая утешить приятеля, но не зная, как это делается, беспомощно топтался рядом. Даже пытался приобнять. Но Менап с неожиданной яростью оттолкнул его в сторону, нелепо как-то подпрыгнул и выплюнул обе монеты изо рта, швырнул третью и начал топтать их ногами, словно и в самом деле это были не деньги, а мерзкие твари. Слезы омочили ему грудь, он тяжко сопел, подпрыгивая, и наконец бурно разрыдался, совсем как дитя, уткнувшись лбом в тощую грудь Никтима, который хотя и не понимал ничего, но из сострадания сам готов был разрыдаться.
Наконец, до Асамона стали доноситься членораздельные звуки, которые можно было разобрать.
— Я, только я один... мог найти эти проклятые деньги. В дерьме... Потому что я... я смешной человек! Шут! Я ем — смешно. Хожу — смешно. Над моим горем — смеются. Слезы... тьфу! Всем смешно! И деньги, даже деньги, я беру не там, где их берут все порядочные люди. О, нет! Я нахожу их в дерьме! В ослином дерьме, ха-ха-ха! В дерьме... понял? Это мое назначение свыше. Это судьба — быть шутом, имея достоинство. И копаться в ослином дерьме! О боги, за что? За какие прегрешения вы наказали меня столь жестоко, когда я не грабил, не убивал, не бесчестил чужих жен и дочерей... За что?!
Он пихнул Никтима в сторону и вдруг грозно возопил, глядя вверх и потрясая крепко сжатыми кулаками:
— Будьте вы все трижды прокляты, бессмертные, жалкие любодеи! корыстолюбы! отцеубийцы! Пусть люди приносят вам в жертву дохлых собак и кошек, а ваши ненасытные алтари вместо вина поливают мочой и мажут ослиным дерьмом, плюют на них! А потом пусть они вас зубу дут! Навсегда! Слышите?.. Это говорю вам я, Менап, сын несчастного Филеба. Проклинаю! Проклинаю!! Проклинаю!!!
От этих страшных слов у набожного Никтима волосы на голове стояли дыбом. Он вяло и суетно цеплялся руками за приятеля, пытаясь его куда-то тащить, дергал, толкал, но безуспешно. Толстый Менап стоял, как скала, и изрыгал на богов злую хулу.
Наконец он с силой толкнул его от себя и решительно зашагал прочь грузной, подпрыгивающей походкой. Никтим двинулся было следом, однако воротился и, что-то бормоча себе в нос, подобрал презренные приятелем деньги. Спрятал их за пазуху. Но этого ему показалось мало, и он быстро разворошил руками близлежащую навозную кучу. Затем еще одну... И еще. Но денег там, увы, больше не находилось.
Асамон слышал его причитания и сокрушенные вздохи:
— Ай-яй! Разве можно хулить богов? Нельзя, нельзя... Пусть они простят тебе твое неразумие,— и, глядя в очередную разобранную кучу, искренне удивлялся.— Нет! Вот видишь, опять у нас с тобой пусто. Ай-яй! Такие поганые слова, разве они могут понравиться? Больше ты не поднимешь тут ни одной драхмы, злосчастный Менап. Боги от тебя отвернулись.
С этими словами добрый Никтим потрусил вслед за приятелем, но пару раз по пути зацепил носком башмака валяющийся помет. На всякий случай. И вскоре исчез в темноте.
Асамон вышел из укрытия. Охота насмешничать у него пропала совершенно, и он уже жалел о своей шутке над этими бедняками. Правда, он не был уверен, что Менап оставил бы деньги на дороге, не будь рядом с ним простодушного Никтима. Но в то же время что-то близкое, почти родственное почудилось афинянину в отчаянии этого человека, проклинающего богов за свою жалкую долю, которую он влачил на себе, словно горб, который нельзя сбросить, потому что ты никогда не волен в своих поступках. Еще недавно Асамон сам поражался тому, как все, задуманное им, разваливается на глазах либо не начинается вовсе, а те поступки, которые он вынужден был все же совершать в последние дни, происходили как бы помимо его воли и желания, словно навязанные извне, однако уже знакомые ему своей однообразной повторяемостью, и из них уже смотрела на него будущая его судьба.
Погруженный в мысли, Асамон не заметил, как миновал две малых палестры и подошел к длинному, приземистому зданию, где на время игр размещались атлеты. Вдруг тихий голос, словно шелест листвы, окликнул афинянина:
— Господин!
Асамон замер на месте, и внутри него все как будто оборвалось. Это был голос зеленоглазой фракиянкн, он узнал его по тому, как она забавно растягивала слоги.
И круто обернулся.
Смутная тень, удаляясь, неслышно скользнула среди деревьев в сторону. С бьющимся сердцем он бросился следом.
— Гелика! — вспомнил он имя девушки.
— Тсс! Ой... так больно! — невольно вскрикнула она, не в силах освободить запястье от его железной хватки.
Асамон несколько ослабил пальцы, но руку не отпускал. Фракиянка тихо рассмеялась, видимо, понимая его состояние.
— Я не убегу. Ну? Пусти же? Пусти...— ласково уговаривала она.— Ты иначе сломаешь мне руку.
— Почему ты прячешься? Что случилось? — грубо спросил Асамон, рывком разворачивая ее лицом к свету.
— Тсс!
Фракиянка вновь тихо рассмеялась и прикрыла ему рот длинными, тонкими пальцами.
— Не так громко, прошу тебя.
Ее пальцы чуть слышно благоухали и были нежны, а в поведении не было и капли рабской покорности. Асамон вдруг почувствовал, что перед ним не рабыня, но юная, прекрасная женщина, существо из иного, еще не знакомого ему и таинственного мира. Нехотя, словно повинуясь, он выпустил ее руку из своей, но в голосе прозвучали грубые и жесткие нотки.
— Ты боишься?
— О да!
— Кого же?! — удивленно воскликнул Асамон, с недоумением озираясь по сторонам.
— Тише, тише! — взмолилась фракиянка, с неожиданной силой увлекая его в глубь древесной кущи.— Нас могут увидеть, и тогда моей госпоже и мне будет очень плохо.
Они остановились в густой угольно-черной тени. Лунный свет почти не пробивался сюда, и Асамон едва мог различать смутные очертания девушки. Они прислушались. Вокруг все было тихо, как в наглухо запечатанном погребе, ни единого звука. Однако меры предосторожности и таинственность, которая их сопровождала, казались Асамону скорее игрой, чем суровой необходимостью. В то же время он чувствовал, что этот незнакомый ему мир существует по иным, чем его собственные, законам, и хотя бы на первых порах им следует подчиниться, чтобы не наделать худого.
— Ты где? — услышал он испуганный и вместе с тем шаловливый шепот. Она действительно боялась, но теперь уже темноты, и Асамон был вынужден снова взять ее за руку. Придвинувшись вплотную, фракиянка шепнула прямо в ухо:
— В храме Зевса ты вел себя очень неосторожно. И навредил госпоже.
— Но почему?! — воскликнул Асамон и тотчас почувствовал ее пальцы у себя на губах.
— Какой ты шумный... о боги! Мой господин, чтоб ты знал, терпеть не может Афины и афинян всех считает сутяжниками и женолюбами. А еще — мошенниками.
В ее голосе почудилась лукавая улыбка. Должно быть, кое-что она добавила от себя, желая его поддразнить.
— Твой господин? То есть... отец Хрисы? — хмуро осведомился Асамон.— Ты это хотела сказать?
— Ты поразительно догадлив, афинянин.
Он с силой сжал руку фракиянки, так что она вскрикнула. И закрыл рот ладонью.
— Тсс! Нас могут услышать. И тогда... тогда вам с госпожой придется очень плохо,— насмешливо предупредил он.
Фракиянка пыталась что-то сказать, но Асамон не отнимал руку, пока она не затихла.
— Теперь скажи мне, откуда твой господин... отец Хрисы, узнал, что в храме Зевса я вел себя неосторожно? Только без лишней болтовни.
С тихим смехом она выскользнула у него из рук и — растворилась в непроглядной темноте. Асамон вдруг почувствовал, что остался снова один. Как если бы ее никогда тут не было.
При одной мысли, что фракиянка всего лишь сон либо бред его воспаленного воображения и может исчезнуть так же внезапно, как появилась, ему стало страшно. Хотя в глубине души он сознавал, что с ее стороны это всего лишь маленькая месть в ответ на его грубость и нетерпение.
Он замер, весь обратившись в слух, чувствуя даже, как от напряжения у него начинает вытягиваться шея.
— Гелика? — хрипло окликнул он, не выдерживая более пытки.
Ее руки мягко легли ему на плечи сзади, а вкрадчивый голос заставил Асамона вздрогнуть.
— Афинянин думает, а может, ему показалось, что в храме Зевса, кроме него и госпожи, больше никого не было? Ни одной живой души? Одни эроты метали в них свои отравленные золотые стрелы, не так ли?
Асамон с облегчением перевел дух и некоторое время молчал, чтобы дрожью в голосе не выдать своего невольного страха.
Однако фракиянка была права. Кто-то, явно заинтересованный, передал отцу Хрисы всю сцену встречи его дочери с ним в подробностях. Заранее зная о дурном расположении этого человека к Афинам, а значит, рассчитывая на какие- то меры? Но кто?
— Неужели,— Асамон на мгновение запнулся.— Неужели Тисамен?
— Тсс!
— Но это низость... доносами добиваться чужого расположения!
— Вовсе нет,— в ее голосе прозвучало некоторое недоумение.— Ведь он не жених, он брат Хрисы. Это его право.
— Тисамен — брат Хрисы?!
— О да! Но разве ты не знал? — в свою очередь изумилась фракиянка.— Он тоже терпеть не может Афины и афинян. Еще больше, чем отец. Он считает, вас следует хорошо проучить.
Асамон вдруг подумал, что тот огромный лохаг в Спарте, который встречал их корабли на берегу, вероятно, не кто иной как отец Тисамена. Это его имя он слышал неоднократно перед началом занятий в Элиде все десять месяцев. «Тисамен, сын Теллиса из Спарты!» — зычно выкрикивал на перекличках педоном.
— Имя отца Теллис? Лохаг?
— Да, это имя моего господина.
— О боги! Как тесен мир. Асамон только теперь почувствовал в полной мере, насколько он слеп был все это время.
— Где твоя госпожа? Что с нею?
Фракиянка сокрушенно вздохнула.
— Когда господин узнал, что произошло в храме, он в гневе хотел отправить нас с госпожой в тот же день в Спарту. Но теперь из-за тебя, афинянин, нас содержат взаперти, и даже приставили раба, чтобы охранял. Правда, господин неожиданно сжалился, и завтра после полудня она будет сопровождать его в палестру, на состязания. А я по просьбе госпожи потихонечку улизнула, и все ради тебя. Чтобы предупредить.
— Предупредить? Но о чем?
Фракиянка вдруг оглянулась и зашептала в самое ухо:
— Она просила передать, чтобы завтра на скамме ты был осторожен. Тисамен твой враг. Он и Селеад в присутствии госпожи поклялись друг другу — тот из них, кому выпадет завтра жребий, должен в поединке выбить тебе глаз или зубы, разбить нос, отгрызть ухо, и даже...
Ее пальцы скользнули по его груди вниз к животу, сопровождаемые легким смешком.
— Но господин об этой клятве ничего не знает,— поспешила добавить она.— Господин добрый и справедливый человек, хотя совсем-совсем не любит Афины.
Асамон усмехнулся.
— Что делать, если так? Но передай госпоже, я благодарен ей за предостережение. И еще я...
— Это еще не все! — воскликнула фракиянка, перебивая. Гибким движением она прильнула к нему, и Асамон почувствовал у себя на губах быстрый, влажный поцелуй. Она отпрянула и тихо рассмеялась.
— Это тебе, афинянин. От госпожи.
— От госпожи? — в замешательстве глупо переспросил Асамон.— Это правда?
— О да!
— Но когда я смогу видеть ее?
— Увидишь, не спеши,— в голосе девушки проскользнула лукавая нотка.— Но когда вы встретитесь, пожалуйста, не говори ей об этом.— И плутовка, смеясь, исчезла. Звук ее легких шагов вскоре затих среди деревьев.
Выбравшись наконец из кустов, Асамон рассмеялся, представляя почему-то на своем месте Мегакла. Весь женский род наставник называл не иначе, как «лукавые дочери Афродиты».
«Однако какова сама госпожа, если при ней в услужении состоит такая кокетка? То-то мастерица, должно быть, морочить голову?»
Глава 7
Когда Асамон вошел, Мегакл стоял у окна спиной к двери. Его темный силуэт склонился над широкой дубовой столешницей. Она была обильно заставлена всевозможными сосудами, глиняными, закопченными плошками, кожаными мешочками, сшитыми собственноручно, где хранились у него семена растений, тут же на стенах висели пучки высушенных трав и свежие соцветия, собранные попутно. На полу у ног светилась угольями разогретая бронзовая жаровня, и пахло жженой костью. Мерцающая лампада с фитилем из карпасийского горного волокна, не сгорающего в огне, давала необходимое освещение.
Составление снадобий было у Мегакла одним из любимых занятий, и нередко он посвящал ему свободное время даже без особой на то нужды. Долгие годы прожив на Востоке, он овладел даже хитрым искусством приготовления благовоний и притираний, научившись соединять и смешивать фимиам и корицу, терпкий нард, душистые листья, арабский тростник, сок целебных растений и многое другое, от чего у стареющих жен разом исчезали морщины, и на щеках алой зарей расцветал жаркий румянец, а в глазах, как в юные лета, блистал зазывный пламень желания.
Мегакл оторвался от своего занятия и долгим, испытующим взглядом уставился на Асамона. Сияющая физиономия питомца, похоже, мало его удовлетворила. Он качнул огромной лохматой головой.
— Я вижу, твои сердечные дела идут на поправку?
Асамон рассмеялся в ответ счастливым коротким смехом и бросился на скрипнувшее под ним дубовое ложе. Мегакл с лампадой в руке тяжело присел рядом к изголовью.
— Клянусь собакой, от твоих царапин и ссадин не осталось даже следа.
Он ощупал разбитую в схватке на дороге бровь, помял ее. Затем оттянул ворот хитона на спине и, полюбовавшись на дело своих рук, довольно хмыкнул.
— Так оно и есть.
Асамон не отвечал. Голос наставника едва достигал сознания. Тысяча надежд, вспыхнувших в нем после встречи с фракиянкой, наполнили душу восторженным ликованием. Улыбка блуждала по его лицу, а в широко раскрытых глазах мерцали отраженным светом две сияющие лампады. Мегакл слегка похлопал мальчика по щекам, желая привести в чувство. Проворчал:
— Сейчас ты напоминаешь мне пьяного скифа, который нанюхался жженой конопли, сидя под бычьей шкурой. Во всяком случае, рожи у них после этого точь-в-точь похожи на твою.
Асамон рассмеялся на его слова и отправился в угол напиться. Простая вода из глиняного килика показалась ему божественным нектаром и славно освежила пересохшее горло.
— Ах, Мегакл, ты, наверное, забыл, что значит любить! Или же не любил никогда. Баранья ляжка, хорошо пропеченная на угольях,— единственная радость, которая осталась у тебя в этой жизни. Клянусь, мне даже жаль тебя, бедняга Мегакл,— искренне, без ответной насмешки посочувствовал он.
Мегакл равнодушно пожал плечами, фыркнул.
— Да уж... баранью ляжку я не променяю ни на какую другую. Особенно если добавить к ней хойник доброго вина.
Асамон расхохотался и обнял наставника за широкий стан. Глаза его блестели лихорадочной веселостью.
— Что с тобою, Мегакл? Ты так ворчишь, как будто недоволен мною? Но вчера, когда я был самым несчастным из смертных, ты лез из кожи, чтобы развлечь меня и как-то воодушевить. Сегодня же, когда я счастлив, счастлив безумно, ты делаешь все наоборот. Если бы я не знал тебя достаточно, я бы решил, что ты — мелкий завистник, для которого чужие радости приносят горе, а чужие несчастья дают удовольствие лживо сострадать.
— Э, все пустое. Вчера, да, ты был безумно несчастен, ты прав. И я тебе сочувствовал. Сегодня ты счастлив безумно, и это тоже сущая правда. Но результат, к сожалению, и вчера, и сегодня одинаков — ты безумен. И только. Завтра, я готов биться об заклад, ты вновь станешь безумно несчастным из всех. Боюсь, теперь уже навсегда.
— Но почему?! — вскричал Асамон, холодея, ибо уловил в словах наставника некий зловещий смысл.
Мегакл усмехнулся и ткнул толстым, корявым пальцем Асамону в грудь.
— Запомни, красивые девушки — это добычи победителя, а не безумца с блуждающим взглядом и руками, трясущимися от любви.
Безмятежная улыбка вновь воцарилась у мальчика на щеках.
— Добыча... красивые девушки... Ах, Мегакл, ты рассуждаешь сейчас как наемник, который привык брать свое насилием. Ты, верно, знать не знаешь всех прелестей взаимной любви. Нет, мы говорим с тобой о разных предметах. И довольно, я больше не желаю ничего слушать.
Он вновь улегся на ложе и закинул руки за голову. Мегакл некоторое время с сомнением его разглядывал, затем хмыкнул с явной досадою и обратился к прежнему своему занятию. Однако оставленный разговор, похоже, не давал ему покоя. Поэтому спустя время он сердито проворчал:
— Я что-то плохо верю, мой друг, чтобы женщина полюбила мужчину за слабость. Особенно если у нее имеется какой-никакой выбор.
Настойчивость, с которой наставник проводил одну и ту же мысль на разные лады, показалась Асамону наконец подозрительной. Он насторожился. К тому же, он вспомнил вдруг, что видел сегодня наставника в палестре, разговаривающим с Теллисом — как теперь выяснилось, отцом Хрисы. Тогда Асамону даже почудилось, будто речь между ними шла о нем.
Он сел на ложе.
— Мегакл, ты что-то не договариваешь? В чем дело?
Наставник обернул к нему большое, обезображенное шрамом лицо. Здоровый его глаз светился проницательностью и глубоким умом.
— Мне показалось,— он усмехнулся,— ты начинаешь догадываться, в чем именно. Или я не прав?
Асамон дернул плечом, однако хмуро осведомился:
— Теллис?
— Да. Но не просто Теллис. Он отец этой девушки. Одно из первых лиц в Спарте, от воли которого зависит судьба многих и многих людей. Лохаг, имя которого гремит далеко за пределами Эллады, повергая в ужас ее врагов. Надеюсь, в своих притязаниях ты как-то учитываешь существование этого человека?
Асамон опустил голову.
— Я был знаком с ним прежде. Но кто он, узнал только сегодня,— стыдясь, выдавил он.
— От служанки?
Асамон кивнул, окончательно подавленный всеведением Мегакла. Он даже не стал спрашивать, откуда ему все это известно, ибо не раз на подобный вопрос наставник отвечал так: «Если бы при моем ремесле я не знал всего заранее, сегодня, возможно, меня не было бы в живых». Мегакл совершенно прав — и Хриса, и он сам, и их только-только определяющиеся отношения, которые иначе, как безумием, покамест даже не назовешь,— все это всецело находится во власти одного человека, ее отца, чья воля, вернее, своеволие в этом деле питаются одним недобрым чувством — враждой к Афинам.
Мегакл словно подслушал его мысли.
— Не думай, будто я осуждаю твою опрометчивость,— задумчиво произнес он.— Вероятно, все влюбленные ведут себя именно так, и им кажется, что во всей подлунной они существуют одни друг для друга, и только их желания и интересы для них закон. Нет, мой мальчик, это великое заблуждение. Мы все, словно канатами, опутаны нашими отношениями. Если сегодня ты попираешь чьи-то интересы, то жди, что в скором времени будут попраны твои тоже. Немало любящих сердец было разбито об эту скалу.
Асамон долго с угрюмостью смотрел в пол, себе под ноги. Наконец спросил:
— И что теперь? Что я должен делать?
— Что делать? — Мегакл хмыкнул.— Отличный вопрос. Я ждал его. Только не говори теперь, будто твой дядька мешается не в свое дело.
Но мальчик и без того молчал, не подымая головы.
— Подумай, какая причина может заставить Теллиса толкнуть свою дочь в объятия афинянина. Разве что сами боги вдруг лишат его разума! Однако у наших славных спартанцев есть одна слабость, на которой единственно мы можем сыграть. Более всего они ценят в человеке доблесть и силу. Это так. И тогда, мой мальчик, я отправился прямиком к Теллису, ты это видел. И предложил ему биться об заклад. Цена — победа. Твоя победа. Поверь, он оказался в безвыходном положении, поскольку в состязании принимает участие родной его сын. Отказ был бы равносилен признанию себя побежденным, еще до начала боя. Он посмеялся, мудрый человек, однако вызов принял. Ибо это честная игра. Ты знаешь, в отличие от афинян, спартанцы слово держат. Теперь, как это ни странно, твоя судьба и судьба твоей возлюбленной — всецело в твоих руках.
Поскольку Асамон по-прежнему молчал, глядя в пол, наставник продолжал:
— Завтра твоя прелестница явится вместе с отцом в палестру. Надеюсь, в случае поражения ты не станешь и далее притязать на ее любовь и не поползешь к ней на коленях, словно побитая собака, виляя хвостом и смиренно вымаливая свой жалкий кусок?
Он встал рядом, глядя на питомца сверху вниз, на вьющиеся темные волосы. Усмехнулся.
— Кстати, мой друг, это все тоже — прелести взаимной любви. Как ты изволил верно заметить.
Асамон поднял на наставника черные, немигающие глаза, и тот вдруг почувствовал себя словно стоящим на самом краю ужасного провала с клокочущей далеко внизу огненной лавой. Они долго смотрели так друг на друга в упор. Наконец Асамон чужим, охрипшим голосом проговорил:
— Мне кажется, ты спешишь, Мегакл, рассуждая до времени о побитой собаке.
Наставник согласно кивнул и, отойдя вновь к столу, пробормотал:
— Наконец я слышу голос не мальчика, но мужа.
Он был доволен чрезвычайно результатом своих усилий, ибо смог, как он полагал, обратить слабости своего питомца в силу, направленную единственно на то, чтобы побеждать, и теперь молил богов, чтобы за ночь мальчик не растерял ее в бесплодных сомнениях. Но когда Мегакл обернулся спустя короткое время, Асамон спал, раскинувшись на ложе, крепким, здоровым сном юного человека.
Мегакл долил масла в закоптившую лампаду и вновь склонился над столом, приготовляя назавтра мало кому известное теперь средство для укрепления сил — от голода и жажды. Он составлял его в тщательно отмеренных долях из макового семени и сезама, оболочки морского лука, отмытого добела и очищающего заразу, из цветов асфоделя, листьев мальвы, ячменя и гороха, смешанных и истертых в муку и разведенных в гимметском меду, а также сочного винограда с вынутыми косточками и кориандрового цвета, семян мальвы и портулака, и тертого козьего сыра, слегка тронутого плесенью, огуречного семени — все это он развел в молочных сливках до густой и душистой тягучей массы. За ночь она сама собой затвердеет и сохранит целящие и укрепляющие свойства на долгие годы.
По преданию, этому составу научила Геракла могущественная Деметра, когда он был послан бесчестным Эврисфеем в безводную Ливию.
Глава 8
Искусство рукопашного боя, иначе панкратий, был заимствован элейцами в тридцать третью олимпиаду из боевой подготовки эфебов. То есть, как и все другие состязания, своим происхождением панкратий прежде всего обязан был войне.
В Спарте среди законов, касающихся основных сторон государственного устройства, имелись даже особые законодательные установления относительно панкратия. Настолько серьезное придавалось этому значение. В самом городе, неподалеку от святилища героя Алкона и храма Посейдона Домашнего, на берегу реки Эврот, есть местность, так называемая Платаниста, или Платановая аллея — из-за густо растущих здесь огромных платанов. Все это место еще со времен Ликурга было назначено для упражнения эфебов в рукопашных боях. С трех сторон оно обведено широким рвом, до краев полным воды, так что напоминает собою морской остров, расположенный близ материковой суши.
Накануне, в полночный час, все юноши, достигшие возраста эфеба, сбегаются на дромос неподалеку от главной городской площади. Здесь с помощью жребия они разделяются на два больших отряда, каждый со своим военачальником, которого избирают сами из числа товарищей. Затем с пылающими факелами над головой они бегут по улицам спящего города и покидают пределы, устремляясь в Фойбею — местечко, отстоящее на несколько десятков стадий от города. Тут, в храме Диоскуров, на жертвеннике богу войны Эниалию оба отряда приносят в жертву молодого щенка. Они полагают при этом, что для самого мужественного и жестокосердного из богов приятной жертвой будет самое мужественное из домашних животных. Больше никто из эллинов не считает законным приносить в жертву собак, исключая разве колофонян, которые тоже в полночь приносят в жертву Энодию черную собаку.
Совершив жертвоприношение, эфебы с воплями и смехом втаскивают два огромных плетеных короба и, отбросив крышки, выпускают в круг двух диких кабанов, заранее отобранных и откормленных ради свирепости сырым, кровавым мясом. Подпаливая им щетину и подкалывая ножами, отсекая хвосты, кабанов доводят до бешеного исступления, прежде чем стравить их друг с другом. Но вот бой начинается, и уже шерсть летит в стороны грязными, бурыми клочьями, а земля покрывается пятнами крови, пока один из них насмерть не запорет другого своими страшными клыками.
Та сторона, чей кабан считается победившим, полагает это добрым предзнаменованием для себя назавтра. И редко ошибается.
На следующий день, незадолго до полудня, оба отряда по двум мостам с разных сторон проходят на Платанисту. Перед входом на мост с одной стороны поставлена статуя Геракла, и отряд, который миновал этот мост, носит теперь имя этого героя. Перед входом на другой мост точно так же расположена статуя Ликурга, учредителя этих боев, и другой из отрядов, пройдя через мост, выступает с этого момента под его именем.
Пять педотрибов переходят вслед за отрядами с суши на Платанисту. Они занимают на острове выгодные места, позволяющие каждому обозревать свою часть местности. Но противоборствующие стороны до времени одна другую не видят и даже не знают, где какая из них находится.
Вскоре звучит труба, давая знак к началу боевых действий. В этот момент многое зависит от умения «полководца». Как скоро его разведчики сумеют нащупать врага? Как следует развернуть войско и суметь упредить чужие действия? Избежать ловушки и не наткнуться на засаду, не поддаться панике? Уничтожить врага мелкими группками и самим не попасть в окружение?
И схватка начинается...
Главное оружие теперь — это искусство рукопашного боя, отработанное веками, а кроме того, слаженность и четкость совместных действий, умение слышать команду и подчиняться ей, сохранять холодную голову и умение думать за себя и за всех сразу. Это не потешные бои. Здесь разбивают головы, ломают руки, ноги, выбивают глаза и зубы... Наконец победители загоняют побежденных в Эврот, а те, спасаясь бегством, плывут на другую сторону. Или сбрасывают избитых в ров, заполненный водой, и выбраться на другой берег, высокий и глинистый, можно только под смех и улюлюканье окружающей публики.
Сражение считается законченным, когда последний враг будет выбит с территории острова. Наиболее отличившихся из панкратиастов, кто достиг двадцатилетнего возраста, после таких боев торжественно посвящают в сфереи— в число взрослых воинов-мужей. Сфереи приносят затем благодарственные жертвы на алтаре подле старинной статуи Геракла — так установлено ретрами Ликурга.
Не одни спартанцы обязаны были владеть навыками рукопашного боя. Не менее старательно пестовали свою молодежь великие Афины, и каждый юноша, когда он достигал восемнадцатилетнего возраста, обязан был пройти двухлетнюю военную подготовку в крепости Мунихион, поблизости от Афин, в учебном воинском гарнизоне. Здесь юношей обучали владению в совершенстве всеми видами оружия, а равно и навыками рукопашного боя,
После тридцать третьей олимпиады среди всех олимпийских состязаний панкратий занял достойнейшее место, сравнимое по популярности только с кулачным боем, а вскоре широко распространился по всей Элладе, и навыкам рукопашного боя стали обучать даже детей.
...Для состязания мальчиков в единоборствах Совет Олимпии (Булевтерий) назначил местом проведения одну из малых палестр — неподалеку от южной стены большого олимпийского гимнасия. Зрительские места опоясывали скамму по периметру и отделялись от нее невысокой каменной балюстрадой. Изящный портик шириной около десяти локтей с двумя рядами каннелированных колонн окружал внутренний двор, отделяя его от служебных помещений и мест отдыха.
По обе стороны у главных выходов курились алтари, распространяя запах фимиама, Блистали между колонн светлым мрамором статуи атлетов, прославивших свое имя в Олимпии.
Торжественная процессия юных атлетов в сопровождении суровых педотрибов и музыкантов в ярких, расшитых звездами и цветами одеждах, окруженная строем чернокожих, огромных рабов, медленно вступила на раскаленный, выбеленный зноем песок. Грохот медных тимпанов и пение флейт мешались с рукоплесканиями и приветственными возгласами из публики.
Совершив круг почета, процессия развернулась и встала в центре.
Асамон, едва ступил на скамму, почувствовал вдруг среди многочисленных зрителей присутствие Хрисы. Даже не поворачивая головы, он мог указать безошибочно ее место на западной стене, в углу. Оттуда, ему казалось, исходит на него мягкое, теплое свечение, подобно тому, как все живое в подлунном, даже не обладая зрением, ощущает перемещение солнца по небесному куполу благодаря живительному воздействию его лучей. Но он не взглянул в сторону Хрисы ни разу, понимая, что договор, заключенный Мегаклом у него за спиной, лишил его права даже на случайный взгляд, который теперь мог выглядеть как унизительная и незаслуженная подачка. В ее глазах тоже. Хитромудрый Мегакл сжег все мосты, безжалостно, как истый наемник. Теперь в случае поражения Асамон становился навсегда заложником собственного слова. Но стоит ему это слово нарушить, он уподобится той самой «побитой собаке, которая, виновато виляя хвостом и ползая на брюхе, вымаливает свой жалкий кусок».
Асамон даже застонал сквозь стиснутые зубы, ярко представив себе подобный исход.
Теперь, когда его отношения с Хрисой стали в какой-то мере определяться, когда он почти уверился, что она тоже ищет с ним встречи, поражение представлялось ему равносильным смерти...
Разумеется, и прежде у него не было намерения проигрывать. Но ставка в игре оказалась вдруг настолько огромна, что игра в его глазах переставала быть игрою...
Напутственная речь, обращенная к юным олимпийцам, едва достигала его сознания. Но когда началась жеребьевка, Асамон очнулся. Вслед за другими с отрешенным видом он погрузил правую руку по локоть в серебряный сосуд. На дне он нащупал первый попавший жетон и, как предписывалось правилами, не глядя, передал педотрибу. Затем писец острым стилом начертал на воске против его имени букву жребия, означенную на жетоне, и торжественная церемония на этом для Асамона завершилась.
Страх поражения и жажда победы, по сути равнозначные в его глазах жизни и смерти, неожиданно выбили Асамона из состояния душевного равновесия. И результаты не замедлили сказаться...
В первом бою против Даимена из Лидии он действовал, себя не сознавая, как если бы его тело ему не принадлежало вовсе. Он наносил удары, но не чувствовал ни рук, ни ног. Пропускал сильные удары в ответ и тоже их не чувствовал, не ощущал спасительной боли. Обремененное тяжким грузом, сумеречное сознание, скованное напрочь страхом поражения, предавало его, предавало его тело, его дух, жаждавший победы, и лишь одна скудная, жалкая мысль с назойливым упорством держалась в голове во все время поединка — быть осторожным, не допустить роковой ошибки, промаха. Не проиграть! И была бесплодна, ибо сознание существовало отдельно и не ведало, что творит тело.
Внешне действия юного афинянина выглядели сумбурной и яростной атакой, лишенной начисто какого-либо расчета, а расчеты соперника и вовсе во внимание не принимались. Попросту он не был способен их предвидеть.
Даимен, сын Комета из Лидии, рослый и вдумчивый атлет, казался несколько обескураженным подобной манерой боя. Он знал афинянина десять месяцев, знал все его излюбленные приемы, удары, коварные импровизации, на которые был способен из всех, пожалуй, один он. Даже накануне, словно предчувствуя, что жребий сведет их с афинянином на скамме, наставник Даимена со тщанием продумал с ним тактику предстоящего боя.
И вдруг все пошло прахом.
Опыт Даимена из Лидии оказался слишком невелик, чтобы суметь распознать вовремя состояние соперника и воспользоваться его слабостью. Он растерялся и принял слабость за силу. Кроме того, тактика, внушенная наставником, превратилась в шоры на его глазах, и — беспорядочный, но сокрушительный удар ногой в живот вскоре прочно уложил злополучного Даимена на песок.
Они не понравились публике. Ни тот, ни другой. Асамон понял это по жидким рукоплесканиям и вялым подбадриваниям, которые доносились с мест, где сидели афиняне.
Мегакл тоже выглядел недовольным. Набросив на питомца гиматий, он с сарказмом в голосе проворчал:
— Будем считать, эта победа свалилась на тебя прямо с небес. Судя по тому, как это все было бестолково обставлено, тебя, мой друг, опекает там сама Афродита, не иначе.
По отсутствующему взгляду мальчика, наблюдая за ним краем глаза, он, однако, видел, что слова не доходят до его сознания. Похоже, избранное средство оказалось слишком сильным, какая-то мера допустимого была перейдена, и, возможно, окажись у него время, Мегакл смог бы что-то переиначить. Хотя бы за день...
В глубине души наставник понимал, что оба они одним и тем же вещам придают слишком разную цену — в этом, вероятно, состояла главная его ошибка. Оставалось единственно надеяться.
Второй поединок Асамона против упорного Автолика, сына Филиппа из Депеи, мало что изменил в его манере. Правда, соперник на сей раз уже не заблуждался и принимал афинянина таким, каков он есть, с самого начала. Избиение началось — расчетливое, искусное, беспощадное избиение, пусть яростного, но лишенного разума и, следовательно, беззащитного человека. С таким же точно успехом против изощренного в схватках панкратиаста можно было поставить на скамму необученного рукопашному бою раба, лишь бы тот размахивал кулаками и яростно лягался.
Казалось, конец предрешен. Но жестокая трепка неожиданно возымела на Асамона действие. Себе на беду Автолик из Депеи беспощадными, сокрушительными ударами сумел-таки «достучаться» до сумеречного, парализованного сознания соперника. И заставил его очнуться. Опечаленный вконец Мегакл отметил это немедленно по осмысленному выражению лица питомца с жесткими, бешено сверкающими глазами.
Сокрушительные, размашистые удары Автолика пошли вдруг в воздух, в блок, снова в воздух. И ни разу в цель. И он, уже предвкушающий близкую и такую желанную победу, не успел до конца осознать неожиданно изменившейся манеры боя соперника и не успел примениться к ней. Участь Даимена из Лидии постигла его незамедлительно — ужасный удар ногой в живот свалил его на песок.
На сей раз Асамон покидал скамму при недоуменном молчании всей публики, не исключая афинян. Его беспомощность в глазах зрителей была очевидна, и подобный исход поединков казался необъяснимым. В состязаниях юных панкратиастов весьма редки удары, после которых побежденный остается лежать на песке. Однако Даимена из Лидии и Автолика из Депеи уносили со скаммы на руках, и этот факт тоже не находил здравого объяснения.
Даже Мегакл не удержался и хмыкнул по этому поводу:
— Ты обходишься со своими соперниками точно Кокал из Сиракуз, тебе не кажется?
Асамон не принял шутку. Вместо этого он хмуро осведомился:
— Где отец?
— Ты спрашиваешь об этом у меня?.. Если бы не он, а я платил ему деньги, он, клянусь, сидел бы сейчас здесь, как сижу я,— проворчал наставник, ловко обрабатывая на питомце ссадины и кровоподтеки.— Но уж коли его нет, утешайся, мой друг, приятной мыслью, что твое наследство в это время исправно прирастает. Худо-бедно, но Дамасия я, кажется, знаю. Он сейчас там, где пахнет хорошим барышом. И если он там даже сегодня, в такой день, стало быть, барыш даже слишком хорош, и упустить его никак нельзя. Но ты не должен за это держать на отца обиду. Себя самого он давно считает человеком богатым. Даже очень богатым. Правда, не настолько, чтобы считать богатым наследником тебя. А это, поверь, что-то да значит.
Рассуждая таким образом, Мегакл с опаской взглядывал Асамону в лицо, но ничего подозрительного, к своему удовольствию, более не обнаруживал. Горячие, подвижные глаза мальчика с обычной уже пытливостью наблюдали за тем, что происходило на скамме.
Совет Олимпии, устраивая состязания мальчиков, оказывал для них некоторые снисхождения в правилах. В отличие от взрослых атлетов и эфебов, их наставники имели право находиться во время состязаний рядом со своими питомцами и оказывали им всяческую помощь и попечение. Юные атлеты пользовались несколько большей, чем обычно, свободой. Многие, кто хотел, помещались вместе с наставниками, с рабами, с необходимым скарбом прямо среди зрителей, и это нередко придавало им силы.
Две пары юных панкратиастов вели схватку в разных концах скаммы. Но одна из пар в дальнем от него углу вызывала у Асамона особенный интерес. Взрывая телами белый, раскаленный песок, две истерзанные фигуры с воем бросались друг на друга. Сцепившись, они падали, катались по земле, извиваясь и осыпая соперника ударами. Но схватка только на первый взгляд могла показаться беспорядочной и грубой возней. Опытный глаз тотчас отметил бы великолепную боевую выучку обоих атлетов. К тому же, яростное упорство, отчаяние и равные с обеих сторон силы превращали бой в настоящее зрелище.
На сей раз жребий свел в поединке двух опасных бойцов. Упорного, словно скала, Бибона из города Димы и спартанца Селеада, друга Тисамена.
Зрители, разделившись на две половины, бурно сочувствовали тому и другому. Но вскоре стало ясно, что после этого поединка и Бибон, и Селеад будут не в силах выйти на скамму хотя бы еще раз. Оба атлета едва передвигали онемевшие от усталости члены. Любая попытка нанести удар заканчивалась безрезультатно. Обессиленные руки были не способны причинить сопернику сколько-нибудь вреда. Часто сам ударивший, теряя равновесие от собственного замаха, валился на соперника, повисая на нем камнем. Оба падали, беспомощные, расползались в разные стороны, но с упорством одержимых, шатаясь, вновь и вновь подымались на ноги и шли в атаку.
Наконец, спартанец в падении сумел накрыть противника телом и навалиться на него всей тяжестью. Бибон из Димы, оказавшийся внизу, для которого вес собственного тела уже был непомерным грузом, сделал несколько слабых попыток свалить с себя неподвижное тело. Но сил недостало даже на это. И он затих.
Это была тяжелая победа. Асамон видел, если Селеад соберется с силами и выйдет на скамму еще раз, то затем только, чтобы проиграть окончательно. И не слишком красиво. Те же, кто чествуют его сейчас, потом, быть может, с усмешкою отвернутся, пожимая плечами. Симпатии здесь переменчивы, а всякий неуспех разом лишает атлета былых заслуг.
...Состязания юных панкратиастов продолжались, когда глашатай возвестил имена очередной пары бойцов:
— Гнафон, сын Полидамаса из Ликосура! Против Асамона, сына Дамасия из Афин!
От неожиданности Асамон растерялся. Почемуто ему даже в голову не приходило видеть в Гнафоне соперника. Мегакл, видел его округлившиеся, изумленные глаза, развеселился.
— Все верно, мой мальчик. Жребий не разбирает, кто друг, а кто тебе враг. В жизни бывает еще хуже. Самые опасные враги случаются как раз из числа самых близких друзей. И ты не всегда об этом даже узнаешь. В этом смысле можешь считать, что тебе сегодня крепко повезло,— он похлопал его по плечу и слегка подтолкнул.— Ступай. И остерегайся, как бы твой друг не вкатил тебе добрую оплеуху, после которой ты не сможешь встать.
— Из твоих слов,— огрызнулся Асамон,— сразу видно, что друзей у тебя было слишком много.
— Увы, никто не знает, ни один человек, сколько у него друзей на самом деле. Зато сколько у него в кошаре овец, тебе скажет всякий. А все потому, мой друг, что друзья нынче не в цене, и ты сейчас сам в этом убедишься,— поддразнивал Мегакл, провожая питомца на скамму.
С противоположной стороны одновременно с ним появился атлет из Ликосура. Посреди скаммы юные агоны сошлись для приветствия. Асамон, коснувшись приятеля рукой, мрачно обронил:
— Забудь, кто я.
— Уже забыл,— последовал ответ, и по жесткому прищуру глаз, по усмешке юный афинянин понял, что это действительно так.
Им и прежде в учебных схватках приходилось встречаться в паре друг против друга. Но то была скорее игра, настолько игра, что они смогли даже подружиться. Теперь между ними стояло слишком многое, чтобы Асамон мог считать предстоящую схватку по-прежнему игрою.
Под звуки флейты оба панкратиаста, хищно пригнувшись, начали подвигаться друг другу навстречу. Внезапно, словно камень, пущенный из пращи, ликосурец бросился на Асамона. Прыжок — удар пяткой в грудь. Еще прыжок — и снова удар. Ногой... Рукой... Снова ногой. Асамон был ошеломлен подобной яростью, и даже мелькнула слабая мысль, что тут есть расчет именно на дружеские чувства, на его растерянность, неизбежную поначалу. Если это было действительно так, то расчет вполне удался. Афинянин с трудом уходил от ударов. Упал и, катаясь на спине, едва успевал увернуться от одного, как пропускал другой. Вскочил, перехватив удар на ступню, но организовать встречную атаку ему никак не удавалось — бешеный натиск Гыафона сковывал его по рукам и ногам.
Асамон знал приятеля достаточно: тот был весьма неуравновешен по натуре, и приступы внезапной, бурной деятельности вдруг необъяснимо сменялись в нем ленивой и тупой созерцательностью при полном упадке душевных сил. Но сегодня Гнафон выглядел великолепно и был опасен своей изощренной непредсказуемостью. Две победы в предыдущих поединках говорили об этом лучше всего.
Во время одного из ударов Асамону удалось все же перехватить запястье приятеля, и он сильным рывком на себя вывел его из равновесия, подставив на ходу бедро. Ликосурец, взлетев в воздух, оказался на песке. Но Асамон не стал ввязываться в борьбу с полным сил соперником. Такие положения всегда чреваты самыми неожиданными и опасными ударами, а рисковать он не хотел.
Публика расценила этот шаг не в его пользу. Послышались насмешливые реплики, свист, а кто-то ловкий даже запустил в него огрызком яблока, угодив в плечо, и вызвал тем смех.
Но на скамме все шло по-прежнему: ликосурец стремительно наступал, и афинянин, как в первых двух поединках, едва успевал защищаться. Казалось, он не мог ничего противопоставить, хотя многие помнили, чем эти поединки закончились, несмотря на малопривлекательную манеру боя. Вскоре все голоса смолкли. Появилось ощущение, будто при всем напоре и стремительности атака ликосурца выглядит беспомощнее умелой защиты соперника. Но вновь раз за разом Гнафон из Ликосура нанес два чувствительных удара по туловищу, в голову и продолжал наступать.
Зрители, недовольные бездействием афинянина, принялись улюлюкать.
И вдруг — молниеносный удар. В подбородок. Мало даже кто заметил. Словно наткнувшись на препятствие, Гнафон из Ликосура чуть качнулся назад, лицо его безвольно обмякло, зрачки покатились вверх, под веки. На подгибающихся, ватных ногах он сделал еще два слабых шажка вперед и разом, как бы сломавшись в плечах, в поясе, пал на колени, уставил незрячее лицо в небо.
Поединок был закончен.
В третий раз юный афинянин покидал скамму при всеобщем молчании обескураженной публики. Только что многие улюлюкали и осыпали его насмешками, веселились, когда огрызок яблока ударил афинянина в плечо, и вдруг приходилось признавать свои заблуждения, вместо хулы воздать гонимому хвалою — на этот нелегкий шаг необходимо время и известная доля мужества. Публика стыдливо молчала.
Мегакл, единственный, прямо от барьера подхватил питомца в охапку и, радостно похохатывая, в три прыжка вознес победителя на место, изрядно помяв его.
На каменной скамье, поверх небрежно брошенного гиматия, Асамон наткнулся глазами на кроваво-красную крупную розу с еще не раскрывшимся до конца бутоном. Равнодушным жестом наставник смахнул цветок на пол и усадил Асамона на скамью, крепко тиснув его еще раз в могучих объятиях. В возбуждении Асамон тотчас забыл о цветке. Впереди его ждал бой победителей. С Тисаменом, братом Хрисы. Все другие соперники из дальнейшей борьбы постепенно выбыли. Из них последним оставался Гнафон из Ликосура. Теперь он уходил со скаммы, опираясь на плечо педотриба, с низко опущенной головой.
Неизбежность поединка с Тисаменом юный афинянин ощущал в себе постоянно. Так муравьи предощущают грядущую жестокую засуху и голод и с особым прилежанием пополняют свои кладовые зернами полевых злаков. Это противостояние определилось между ними еще в Элиде, не по вине Асамона. И когда их однажды поставили в пару друг против друга, учебная схватка в мгновение ока превратилась в ужасное побоище. После оба были жестоко высечены в назидание всем, но в пару их ни разу с тех пор не ставили.
Мегакл, бывший свидетелем побоища, спустя время то ли в шутку, то ли всерьез заметил: «Судя по вашему любезному обращению друг с другом, война Афин со Спартой в скором будущем вполне предрешена. Для этого нет нужды быть пророком».
С появлением Хрисы беспричинная, казалось бы, неприязнь между ними обрела наконец твердую почву.
Асамон ждал поединка с нетерпением. Для него это была единственная возможность одолеть спесивую гордость спартанцев по отношению к себе. Он должен сокрушить Тисамена, лучшего из них, излюбленным оружием самих спартанцев. На глазах у всех. Другого выхода нет. Мегакл тысячу раз был прав, лишая его выбора. Или пусть его, Асамона, вынесут со скаммы мертвым эти неподвижные рабы-нубийцы с безжизненными, тупыми физиономиями. Он готов теперь на все, кроме поражения.
По обыкновению участникам боя победителей давалось какое угодно время, чтобы подготовить себя к поединку. Но на сей раз ни один из соперников не захотел использовать это право.
Мегакл, провожая Асамона на скамму, неторопливо наставлял:
— У твоего соперника, мой друг, есть одно достоинство, которое следует превратить в недостаток. Он думает, прежде чем сделать. А ты делаешь, прежде чем подумать. Поэтому не давай ему думать, наступай. Ни одной паузы на размышление. И тогда собственный недостаток ты обратишь в достоинство. Да помогут тебе боги,— пробормотал он вслед, тяжело опираясь руками на горячий камень балюстрады.
Грациозная, гибкая фигура мальчика, словно отлитая из бронзы, застыла посреди скаммы с поднятой вверх правой рукой.
— Асамон, сын Дамасия из Афин! Против Тисамена, сына Теллиса из Спарты! — прокричал глашатай и, отирая покрытый каплями пота коричневый лоб, поспешно убрался в тень.
Тисамен вместо приветствия слегка ударил афинянина кулаком в плечо и повернулся в свой угол, даже не удостоив взглядом. Это был рослый, широкий в кости атлет, несмотря на свой юный возраст, и в будущем обещал превратиться в такого же гиганта, каким выглядел отец. Хотя при несомненной телесной силе это обстоятельство сообщало его движениям некоторую медлительность. Ее имел в виду Мегакл, давая свои наставления. Но Асамон, преисполненный неприязни к спартанцу, на сей раз с ним не согласился.
— Медлить еще не значит думать,— сквозь зубы обронил он.
После взмаха пальмовой ветвью панкратиасты начали сходиться, пожирая друг друга глазами. У каждого в юной крови злой удалью вскипала застарелая вражда и соперничество двух великих городов. Словно чума или черная оспа, они заражали всякое новое поколение, и болезнь то обострялась, то перетекала в некие скрытые формы перед лицом более страшной внешней заразы и там затаивалась до поры, выжидая повод или новое обстоятельство, чтобы обнаружить вдруг всем свою безобразную личину.
Асамон после первых же ударов почувствовал грозную силу соперника. Это был не Гнафон из Ликосура, изощренный и затейливый, но всего лишь шалопай в панкратии. Для спартанца панкратий от младых ногтей являлся образом мысли и образом жизни, как это подобает отпрыску из рода потомственных воинов. Его кулаки казались отлитыми из железа, а в обороне он был цепок и предусмотрителен. Несомненно, Тисамен вскоре тоже почувствовал свое превосходство над афинянином, и жесткая складка у губ обрела выражение снисходительной усмешки. Но одной победы ему было явно недостаточно, и Асамон понял, что заговор, о котором его известила ночью фракиянка, вовсе не пустая угроза. Он дважды перехватил коварные удары Тисамена ногой в низ живота — один раз на стопу, другой — на скрещенные предплечья, и едва уклонился от удара расслабленной кистью по глазам, способного превратить человека в беспомощного слепца.
Зрители возбужденно загудели.
Но педотриб, видя все, безмолвствовал. Он не имел права вмешиваться в поединок, поскольку подсудным здесь является только результат, а не намерение, которое могло быть попросту ложным маневром, весьма распространенным, когда один из соперников желал нагнать на другого поболее страху. Впрочем, в панкратии допускались любые удары в любое убойное место. Не дозволялось колоть растопыренными пальцами в глаза и рвать рот, зацепив скрюченными пальцами губы соперника. В остальном ничего предосудительного не усматривалось, хотя до увечий, конечно же, старались не допускать сами педотрибы.
Асамон молниеносным ударом в губы вдребезги разбил снисходительную усмешку, но это был, пожалуй, единственный его ощутимый успех.
Запас приемов и ударов, способных изуродовать человека, был у Тисамена, казалось, неисчерпаем. Он едва не вывел ему из сустава ногу, ударив пяткой в расслабленное колено. Выламывал пальцы рук. Его кулаки проходили впритирку возле висков, обдирая и отрывая уши, и кровь уже обильно струилась из надорванной мочки, перемазав плечо и шею...
...Афинский купец Дамасий, опираясь одной рукой на раба и обливаясь потом, направлялся в палестру. Чувство тревоги, похожее на внезапный испуг, заставило его бросить все неотложные дела в лавке и едва не вприпрыжку поспешить сюда. Он задержался несколько возле ниши с фонтанчиком у самого входа и с наслаждением подставил разгоряченное лицо под хрустальную, сверкающую струю. Кое-как перевел дух.
Заключительная схватка победителей только начиналась, но картина, представшая его взорам, повергла Дамасия в ужас. Асамон, его дорогой мальчик, был весь в крови и выглядел много слабее своего рослого соперника из Спарты. Тяжелые, словно камни, удары с неумолимой жестокостью один за другим потрясали его тело. Он на глазах слабел и не всякий раз успевал прикрываться. Редкие и вялые ответные удары, хотя и достигали цели, но лишь раздражали спартанца. Зверея от вида и запаха крови, слабости соперника, боец из Спарты добивал, по сути, уже беспомощную жертву.
На противоположной стороне палестры Дамасий вдруг выхватил глазами наставника, грузно навалившегося на барьер. На угрюмом лице Мегакла он тотчас отметил печать полной растерянности, словно в подтверждение увиденному, и слезы хлынули у него из глаз.
— О, мой мальчик! Мой мальчик! Только не это... Милостивые боги, не оставьте чадо мое. Все его грехи — это мои грехи, меня накажите!
И вдруг — удар. Прямо в лицо. Асамон без чувств рухнул на песок. Атлет из Спарты навис над ним, готовый, едва заметив признаки жизни, добить, вырвать из глотки последний вздох. Но довольная улыбка уже скользнула по его губам. Афинянин не продержался и десятой доли того, что он ожидал. Это был самый короткий поединок.
Дамасий трясущимися руками закрыл лицо. Ужасное зрелище было невыносимо для отца и исторгло из груди тяжкий стон. Вероятно, Дамасий не устоял бы на ослабевших разом ногах, когда бы раб не подхватил вовремя своего господина.
Тисамен, сын Теллиса из Спарты, поднял глаза, желая увидеть, прочесть на возбужденных зрелищем лицах свою победу. И в этот момент Асамон кошкой метнулся с земли к нему на грудь. Ногами обхватил поперек пояса, и шея спартанца, словно в сработавший волчий капкан, угодила в мертвый захват между предплечиями. Некоторое время еще, шатаясь, спартанец держался на ногах, яростно срывая ногтями кожу на спине и боках своего врага, оставляя кровавые следы, хватался за волосы. Но захрипел вдруг и рухнул, как подрубленный, вместе с седоком, изгибаясь и взрывая слабеющими, судорожными ногами фонтаны песка.
Педотриб с грозным криком бросился к сцепившемуся клубку, но только с помощью стражников с величайшим трудом ему удалось отодрать Асамона от поверженного, полузадушенного тела.
Дамасий сидел на скамье, оглушенный, уронив голову на грудь. Он не видел вокруг себя ничего и не соображал, поэтому его помраченный рассудок не тотчас поверил, когда спустя время глашатай громогласно возвестил:
— Асамон, сын Дамасия! Из Афин! Победил всех в панкратии!
Глава 9
Закатное солнце жидким золотом залило портальную арку северо-западного входа в Альтис и превратило площадь перед Пританеем в роскошное золотое блюдо, выложенное золотым булыжником. Площадь-блюдо была обрамлена по краям искусной золотой резьбой с изображениями богов и героев, помещенных неизвестным мастером среди могучих платанов и обильной кружевной листвы. Многие жертвенники курили в золотое небо кудрявые серебристо-розовые дымы.
Дамасий в златотканом персидском халате, наброшенном поверх льняного хитона, встречал на ступенях Пританея званых гостей. Они подходили по одному, реже по два и тотчас попадали в дружеские объятия радушного хозяина.
— Ах, как я рад, любезнейший мой Ямвлих, что ты не пожалел своего драгоценного времени и удостоил нас присутствием. Умные, благовоспитанные люди нынче так редки. Очень, очень редки, а когда это к тому же твой старинный друг... О боги! Какой неоценимый дар вы мне преподносите. За это я вам воздаю тысячекратно хвалою!
Учтивые речи душистой миррой вливались в уши любезного гостя, и услаждали сердце. Круглолицый, дородный Ямвлих с Лесбоса, торговец вином, довольно похохатывал и трепал большой, мягкой рукой Дамасия по плечу.
— Ну, да... Ну, да. Это же, погоди... ха! Это же сколько, почтеннейший, мы с тобой не виделись? Должно быть, с самого потопа? Ха-ха-ха! Ужасно рад... тоже. Клянусь Дионисом!
Придерживая под локоток и не переставая нашептывать, Дамасий провожал его галереями и переходами в отведенные покои и, извинясь, что принужден оставить его на короткое время, спешил назад встретить следующего.
Едва гость, снявши обувь, переступал порог, его встречали две красивые рабыни. Они обмывали гостю ноги и подносили глубокую серебряную чашу с водой, чтобы он мог ополоснуть перед трапезой руки и насухо вытереть узорчатой, мягкой тканью. Затем рабыни вводили его в небольшую пиршественную залу, где стояли двенадцать резных лож, по числу приглашенных гостей, убранные узорчатыми покрывалами, и на каждом в изголовье покоилась шерстяная расшитая подушечка с золотыми кистями и крученой, золотой бахромой.
Здесь рабыни препоручали гостя благообразному рабу-сирийцу с коричневым полированным черепом и остатками седых волос за ушами. Сириец с низким поклоном вручал каждому гостю от имени хозяина золотое нагрудное украшение стоимостью, должно быть, в пять золотых дариков и венчал его достойную голову роскошным венком из свежих, благоуханных цветов. Затем по знаку сирийца один из четырех рабов, стоящих в углу залы, подносил гостю серебряный фиал, наполнив его прежде вином, и блюдо с фруктами, и с поклоном пятился в свой угол, предоставляя наконец гостя самому себе и давая время, чтобы тот мог оглядеться вокруг.
Зала была обычной — с очагом в углу, с полами, покрытыми мозаичной работой, с потолочной сырой росписью, где изображались многие подвиги и сцены из жизни небожителей, и по краям затейливые арабески обрамляли их. Стены также были расписаны и, по прихоти Дамасия, украшены со вкусом бронзовыми орнаментами, слоновой костью и золотом. Были повешены тут и расстелены чудные персидские ковры толщиною, должно быть, в пластину свежесрезанного дерна, завеси и драпировка из расшитых узорами, свободно висящих тканей, картины в роскошных рамах и прочая подобная безделица, приобретаемая для услады души и отдохновения от трудов.
Откуда-то, словно издалека, но явственно слышимая, звенела сладкозвучная арфа.
Когда гости все собрались, и зала наполнилась оживленным гулом, Дамасий каждому предложил занять его ложе, а рабы вновь наполнили серебряные фиалы вином. Тогда поднялся со своего места громогласный и красноречивый Феспид, хлеботорговец из Афин, и с заговорщическим видом, подморгнув всем, обратился к Дамасию:
— Гей, Дамасий! Я знаю тебя, ты знаешь меня. Еще с детства. Ведь мы с ним, не глядите, что он с виду такой старый... мы с ним ровесники. Да, да! Его отец, досточтимый Эвкл, раз, а то два на день обязательно рвал мне уши за проделки Дамасия. Только взгляните, какие они у меня теперь большие. Как у слона. А мой отец, досточтимый Леокрит, за мои проделки рвал уши бедняге Дамасию, и он поэтому до сих пор плохо слышит. Когда ему это, скажем, не слишком выгодно.
Оратор переждал смех и вкрадчивым голосом продолжал:
— Как вы все понимаете, мы оба постоянно чувствовали себя незаслуженно оскорбленными, ибо каждый из нас терпел наказание, увы, за другого. И страдание нас сблизило окончательно и возвысило наши грешные души. С тех пор моя с ним дружба только крепла год от году, и поверьте мне, мои дорогие друзья, о гостеприимстве и радушии почтенного Дамасия я знаю не понаслышке. Я частый гость в его доме, и поэтому сейчас мне весьма больно видеть, что два ложа по левую руку моего хлебосольного друга остаются пустыми. Скажи же, Дамасий,— голос оратора загремел праведным апофеозом и вдруг упал скорбно.— Ответь нам всем, кто такие эти люди, кого ты пригласил преломить с тобою кусок хлеба, а они столь легкомысленно пренебрегли твоим гостеприимством? Мы все, здесь сидящие, желаем знать их имена.
— Да, да! Мы желаем!
— Ответь, Дамасий. Кто они? Кто такие? — поддержали Феспида гости.
Дамасий поднял руку, успокаивая всех, и с загадочным видом удалился. Вдруг грянула музыка. Пурпуровые занавесы важно разъехались в стороны, и счастливый отец ввел, подталкивая впереди себя, смущенного и улыбающегося в сторону Асамона.
— Асамон! Сын моего друга Дамасия! Его законный и единственный наследник. Победил всех в панкратии! Слава, слава, еще раз слава тебе, доблестный юноша! — прогремел довольный Феспид, и гости дружно подхватили здравицу.
Юного олимпионика под пение «Тенеллы...» усадили подле отца по левую руку и увенчали почетным лавром, а Дамасий представил гостям Гнафона из славного города Ликосура.
— Они такие же друзья с моим сыном, как мы с уважаемым Феспидом. И со всеми вами, разумеется, тоже,— пояснил Дамасий.— Если бы сегодня наш юный друг из Ликосура не уступил любезно свою победу, то олимпиоником, разумеется, был бы он.
Гости выпили вино в честь победителя, и щедрый хозяин дал в дар каждому по серебряному фиалу, из которого оно было выпито. И велел подать другие, из золота. И еду.
Рабы тотчас внесли на медных блюдах коринфской работы одинаковые караваи хлеба, а также птицу — жареных уток, индеек, гусей и множество другой румяной снеди, нагроможденной в изобилии. Каждый взял кушанье, какое хотел, и передал блюдо стоящему сзади рабу. Но разнообразные яства появлялись одно за другим, и вот уже двое рабов, напрягаясь под тяжестью, внесли, ухвативши с двух сторон, огромное серебряное блюдо, на котором лежал пышный белый хлеб и разная лесная и полевая дичь — дикие гуси, козлята, зайцы, куропатки, дрозды и дрофы были тут.
Когда гости досыта наелись и вымыли руки, остатки пищи вместе с блюдом исчезли, словно по мановению. Но появились следом красивые рабыни со множеством свежих венков и заменили всем старый, увядший, а раб-сириец вручил с низким поклоном каждому гостю золотой убор, равный по весу тому украшению, которое уже красовалось у них на груди.
Все приняли этот щедрый дар с благодарностью, осыпая радушного хозяина похвалами.
Среди гостей Дамасия собрались все люди торговые, и после шуток, здравиц и веселых, необязательных речей их мысли обратились к вещам привычным: дешевизна-дороговизна, цены на хлеб, соленую рыбу, канаты; торговые дороги и караванные пути, военные действия, которые или разоряли, или, напротив, приносили прибыль. Зала наполнилась ровным, неспешным говором.
Неподалеку от Асамона возлежал костлявый, черный от солнца Креофил из Тира, скорее путешественник, нежели торговец. Два года потратил Креофил, чтобы добраться до загадочной Индии, и год, чтобы воротиться назад на малоазийский берег.
— И что же, милейший Креофил? — допрашивал его с любопытством добродушный Ямвлих с Лесбоса.— Богаты ли там люди? И чем торгуют?
— За наши товары тамошние племена пригоняли нам быков, платили рабами и необделанными кусками серебра и золота, и меди. Все это водится на их земле в изобилии. Но чеканных денег индийцы не знают. Так и другие купцы, кто плавал в Индию, говорили мне.
— Оно конечно,— сомневался Ямвлих,— чем длиннее дороги, тем твое золото становится дороже. Но вот я слышал, у нас под боком с тобой, в Лидии, течение реки Тмола тучами приносит золотой песок. Тамошние жители, когда появляется нужда в золоте, загоняют на перекаты стадо-другое баранов с длинным руном и держат их в воде, перегородив реку, весь день с утра, а когда солнце начинает клониться к закату, они выгоняют стадо на берег. При этом бараны шатаются от тяжести застрявшего в руне золотого песка, а многие не могут даже идти, и хозяева, ухватив за рога, вытаскивают их на берег.
— Ты говоришь, в Лидии?
— Ну да. Да. Но неужели ты не слышал про это? — дивился добродушный Ямвлих.
— Я слышал, но будто во Фракии, в верховьях Стримона, любезный. По малым притокам.
— Во Фракии не-ет. Там леса. Ах, какие там леса! Корабельные рощи. И много сосны для весел. Чудные там леса.
Гнафон вдруг вспомнил что-то и прыснул со смеху. И стал нашептывать было приятелю на ухо свою историю, во вездесущий Феспид поймал его за руку и громогласно пристыдил:
— Ну, нет! Нет, милый юноша. Так не годится. Коли есть что, так ты выкладывай всем. Мы тут друг от друга,— он выделил голосом и интонацией «друг от друга»,— мы тут друг от друга секретов не держим. Так что, милости прошу.
Все одобрительно загудели, так им по душе пришлись слова хлеботорговца Феспида.
— Вовсе нет, почтенные,—звонко рассмеялся Гнафон, нимало не смущаясь.— Но я подумал, не подобает мне, глупому отроку, отнимать у вас время и осквернять ваши уши своими недостойными речами. Однако, если вы все считаете себя моими друзьями, что ж... я готов
Учтивая и веселая речь ликосурца рассмешила достойных купцов, и ему было велено продолжать.
— Когда вы заговорили о Фракии,— начал Гнафон,— я вспомнил один странный обычай, о котором услышал совсем недавно. У фракийских племен, которые живут севернее крестонеев, когда умирает глава семьи, его многочисленные жены вместе с друзьями и родственниками покойного собираются вокруг тела и начинают яростно спорить, какую из жен он любил больше других. Они спорят так день и спорят ночь, и еще день, и еще ночь. На третьи сутки, разрешив спор, любимую супругу торжественно закалывают и хоронят затем вместе с мужем. Остальные жены горюют и расцарапывают в кровь лица, что выбор пал не на них, ведь это для каждой величайший позор.
Все подивились чужому обычаю и похвалили рассказчика.
Но вот четыре раба, ухватившись с разных сторон и напрягаясь под тяжестью, внесли позолоченный серебряный поднос. Поднос был столь велик, что на нем поместилась огромная жареная свинья, положенная навзничь. Она показывала всем брюхо, набитое изысканными и вкусными вещами: там были запеченные дрозды, жаворонки, яичные желтки, устрицы, морские гребешки. Над блюдом вился легкий парок, и зала тотчас наполнилась ароматными запахами.
Красивые рабыни внесли следом по два лекифа с душистой миррой. Один из них был золотой, другой — серебряный, и оба вмещали по котилу. Раб-сириец с низким поклоном предложил каждому из гостей по два лекифа в дар от имени хозяина и вызвал бурю восторга подобной щедростью.
Пока все это раздавали гостям, а рабы резали свинину и золотыми лопатками накладывали всем румяные огромные куски, истекающие соком, Дамасий что-то шепнул сирийцу, и тот принес нечто, покрытое куском ткани. Дамасий, смеясь, сдернул ткань и приказал обнести и показать каждому, сославшись, что так делают в Египте по древнему обычаю на всех застольях, вроде нашего с вами.
В руках сириец держал деревянное изображение мертвеца, лежащего в гробу, вырезанное и раскрашенное столь правдоподобно, что всякий, едва взглянув, не мог не содрогнуться от вида смерти. На крышке гроба, прислоненной рядом, читалась отчетливо надпись:
«ВЕСЕЛИСЬ И РАДУЙСЯ ЖИЗНИ, ПОКА МОЖЕШЬ.
ВЕДЬ И ТЫ БУДЕШЬ СКОРО ТАКИМ»
Подле Дамасия, по правую от него руку, возлежал моложавый еще, с черной, как смоль, бородой, уложенной на ассирийский манер, богатый пафлагонский купец по имени Архиад. Среди этих людей он находился впервые и мало кого знал, поэтому большей частью отмалчивался да слушал чужие разговоры. Но при виде деревянного мертвеца Архиад сдвинул брови и тяжко вздохнул, чем до слез рассмешил Дамасия.
— Неужели, любезный Архиад, эта деревяшка так тебя перепугала, что ты не способен воспринять ее как шутку?
— Ах, милый Дамасий,— печально качнул головой пафлагонец.— Я месяц как из Египта, по торговым делам, и, сказать по правде, эта страна мне пришлась вовсе не по нраву. Египтяне умны, но смерть они почитают много больше, чем жизнь. От тамошних шуток и от веселья всегда припахивает могилой. Как вот от этой раскрашенной деревяшки. Даже любовь, стоящая в начале всякой новой жизни, у них издает запах тлена,— тихо добавил он. И замолчал.
Но гости услышали эти его слова и потребовали, чтобы он продолжал рассказ. Архиад вначале отказывался и даже предупредил, что его случай только испортит им веселье, но тем самым еще более всех заинтриговал, и присутствующие обратились в слух.
— Будь по-вашему. Я доскажу. В начале лета я отправился в Египет на трех кораблях и прибыл в город Мемфис. Поутру я разыскал дом богатого египтянина, обратиться к которому мне посоветовали друзья. Имя этого человека Рамус.
— Я тоже знаком с ним,— послышался чей-то голос. Кажется, хлеботорговца Феспида.
— К сожалению, в его дом пришло великое горе. Неожиданно умерла любимая дочь, известная во всем городе красавица. Хозяина я нашел подле тела в глубокой скорби, но из-за сильного трупного запаха не смог вымолвить ни слова. И поспешил удалиться, негодуя на себя за слабость. Но хозяйский эконом, видя мое состояние, все мне растолковал. Сразу после смерти покойников в Египте принято бальзамировать. Это делают даже самые бедные за умеренную плату. Но тела жен знатных людей и красивых женщин они передают бальзамировщикам только через три или четыре дня, чтобы бальзамировщики с ними не совокуплялись, что вовсе у них не редкость. А многие даже предпочитают такую любовь обычной, ибо находят в этом дополнительные краски.
Хлеботорговец Феспид в знак соглисия склонил голову. Усмехнулся.
— Такую любовь называют еще «египетской», и это сущая правда. Иногда раздумаешься на досуге и спросишь себя: неужели столь древний народ, начала которого уходят во мрак тысячелетий, усовершенствовал себя лишь до того, что перестал различать живую женщину от мертвой?
Гости задумчиво молчали.
— Скорее, любезный Феспид, это признак вырождения, а не усовершенствования нации,— развел руками Дамасий и поворотился к пафлагонцу, как бы ища поддержки.
— Я так не думаю,— возразил Феспид.— Дело, на мой взгляд, вовсе не в Египте, если быть до конца честным. Это все есть человек, а значит, каждый из нас, здесь сидящих. Настоящий наш лик отвратителен. Своим разумом мы лишь скользим по гладкой поверхности этой мрачной пучины, но, даже подозревая, не решаемся погрузиться в нее внимательным взором, чтобы не ужаснуться увиденному и не сойти с ума, ибо слой разумного в человеке столь же тонок, как плодородный слой почвы на поверхности земли.
Он замолчал, и тишина, воцарившаяся вслед за его словами, свидетельствовала, что каждый из присутствующих пытался соотнести их смысл с собственными ощущениями и, быть может, примерить на себя.
Дамасий по праву хозяина первым нарушил затянувшееся молчание, ударив трижды в ладони. Заиграла веселая музыка, и роскошные занавеси на противоположной стороне колыхнулись и поползли вверх и в стороны, обнаружив вместо стены еще одну комнату, но меньших размеров и с отдельным входом. Через этот вход проскользнули чередою одна за другой, колыхаясь в изящном танце, юные танцовщицы, одетые одни нереидами, другие — наядами, третьи — лесными дриадами. После них появились какие-то комедианты, ряженые птифалами, и нагие фокусницы, кувыркающиеся на мечах и выдувающие изо рта и ушей огонь.
Когда представление закончилось, и завесы упали, все обратились вновь к винам — фасийскому, мендесийскому, лесбосскому, и рабы по первому знаку наливали из узкогорлых скифосов в золотые фиалы гостей рубиновые, изумрудные, искрящиеся солнцем желтые и светлые вина, кто какое хотел, и всяк сам по вкусу разбавлял свою чашу водой из широких гидрий.
Гости были уже в том приятном состоянии, когда рассудок покидает нас, и рабы внесли оправленное серебром хрустальное блюдо, полное жареной рыбы всевозможных сортов, а красивые рабыни вновь надели на каждого свежий венок взамен увядшего и поднесли серебряную чашу с водой, чтобы гость омыл в ней руки.
Едва они удалились, появился старый сириец и в очередной раз с низким поклоном от имени хозяина подарил каждому золотой убор, венчающий голову, вдвое тяжелее прежних, и новые двойные лекифы с миррой.
Дамасий со смехом помог чернобородому Архиаду водрузить золотой венец на голову, но куда девать остальные подарки, которые со сладким звоном то тут, то там падали из рук на пол, никто не знал. Тогда хозяин распорядился принести маленькие изящные корзинки, сплетенные из пластинок слоновой кости, и все стали укладывать в них и наперебой поучать друг друга, как это лучше сделать, так что солидное застолье стало больше походить на палестру, когда домашние рабы разом приводят туда малых детей.
Это приятное занятие нарушил хлеботорговец Феспид. Встав с ложа, он поднял руку, требуя тишины.
— Досточтимые гости, друзья! Завтра многие из вас отправятся на гипподром, дабы насладиться зрелищем конных ристаний. Но я почти уверен, не все вы знаете, что наш гостеприимный хозяин — владелец двух великолепных упряжек, и завтра его кони примут участие в состязании колесниц.
— Допущена одна упряжка, мой добрый Феспид,— рассмеялся Дамасий.— Только одна. На сей раз ристальщиков оказалось слишком много. На всех не достанет места.
Гости дружно осушила свои фиалы за успех коней Дамасия еще и еще раз, и хлеботорговец Феспид выразил желание доставить гостеприимному хозяину небольшое удовольствие. По его знаку сириец пригласил в залу кифареда в расшитом золотом, длинном до пят хитоне с рукавами, поверх которого был надет обыкновенный, подпоясанный хитон, а сверху накинута прошитая золотом хлена, вероятно, взятая на время. Голову музыканта венчала золотая повязка и лавровый венок, хотя изрезанное морщинами лицо показалось Асамону весьма вздорным и надменным, как это бывает у всех гордецов, сознающих собственную бедность и оскорбленных ею.
Перед началом пира Асамон заметил его в одном из переходов, в углу, вдвоем с каким-то флейтистом, ссорящимися. Они осыпали один другого грязной бранью, и кифаред скрипучим, словно деревянная ось, голосом называл флейту не инструментом, из которого можно извлекать божественные звуки, а ослиным срамом. Порядочный человек, если он действительно порядочный, никогда не сунет эту гадость себе в губы.
Хлеботорговец Феспид, однако, представил кифареда как искуснейшего в своем ремесле. Но когда он предложил ему назвать свое имя, тот с решительностью отказался. Неожиданно сильным, певучим голосом он попросил у всех благосклонного внимания и в конце, если его песнопение придется почтенному собранию по вкусу, если гости сами пожелают узнать его имя, это будет для певца достойнейшей наградой.
Такая речь произвела на всех благоприятное впечатление, и гости приготовились слушать.
Музыкант тяжело прикрыл веки, и словно суетная тень сбежала с его лица. Оно озарилось вдруг отблесками того огня, который уже пылал в нем самом, на алтаре его вдохновенных Муз, и черты человека, еще недавно ничтожного и вздорного, быть может, на глазах у всех чудесным образом переменились, и весь облик его обрел богоподобна.
Левой рукой, узловатыми, длинными пальцами пробежал по струнам кифары, висящей на широком ремне, и вдруг ударил плектром по всем разом, исторгнув из них рыдающий стон такой силы, что разом все содрогнулись и мороз ощутили на коже. Взрокотали сладкозвучные струны, и голос аэда наполнил трепетом внимающие души.
«...Выйдя к берегу серого моря,
Он один в ночи
Воззвал к богу, носителю трезубца;
К богу, чей гулок прибой,—
И бог предстал перед лицом его.
Сказал тогда Пелопс:
«Если в милых дарах Киприды
Ведома тебе сладость,—
О, Посейдон!
Удержи медное копье Эномая,
Устреми меня в Элиду на необгонимой колеснице,
Осени меня силой!
Тринадцать мужей, тринадцать женихов
Погубил он, отлагая свадьбу дочери...»
Так повел он повествование — из середины, с рефрена, но затем искусно и сильно возвратился к началам предания, когда царь Писы, могущественный Эномай, чья власть простиралась от моря до моря, вдруг получил предсказание оракула, что в скором времени его ждет смерть — от руки мужа собственной дочери. Мрачные думы обуяли могучего владыку, и не стало ему с тех пор покоя ни в роскошном дворце, ни в излюбленных им охотничьих потехах. Сон оставил его, и однажды в помрачении рассудка он, словно тать в собственном доме, прокрался в полночь в спальню юной Гипподамии, скрывая в складках одежды кинжал.
Но цветущая красота дочери, золото ее волос, широкими волнами стекающее по всему изголовью на пол, остановили безумную руку.
И тогда решил царь Писы — пока жив, он не выдаст свою дочь замуж, кто бы ни захотел стать ее мужем, или кого бы ни захотела выбрать она сама. Но слухи о красоте Гипподамии давно полнились далеко за пределами огромного царства, и от женихов вскоре не стало покоя.
Много славных героев приходили во дворец Эномая, просили руки его дочери. Он не мог отказывать всем беспричинно, тем самым незаслуженно оскорбляя их. Тогда Эномай разослал во все стороны глашатаев и объявил, что отдаст Гипподамию в жены лишь тому, кто победит его, царя Писы, в состязании на колеснице. Но чтобы отпугнуть назойливых претендентов, поставил страшное условие: если победителем будет он сам, то побежденный должен поплатиться за свою дерзость жизнью. Во всей Элладе не было равного Эномаю в искусстве управлять колесницей, а его кони, подарок бессмертных богов, были быстрее бурного северного ветра Борея. И царь уверен был в своей победе.
Страх лишиться жизни остановил многих, но не всех. Один за другим приходили они во дворец в Пису, готовые состязаться с Эномаем, лишь бы получить в жены Гипподамию — так она была прекрасна. Но каждого из героев неизменно постигала злая доля — всех убил Эномай, где настиг на своей колеснице, убил их коней и возниц и побросал трупы их в широкий ров, вырытый неподалеку от Олимпии. Отрубленные головы женихов Эномай привозил во дворец и накалывал их на медных штырях на ворота, чтобы каждый, приходивший вновь, видел, как много славных героев пало от руки Эномая, и заранее знал, какая участь ожидает его.
Однажды прибыл ко дворцу славный Пелопс и осадил перед широкими меднокованными воротами свою колесницу. Слезы оросили ему грудь, едва он сошел, ибо многим из погибших тринадцати женихов он был добрым другом, а теперь видел их поруганные головы наколотыми на страшных спицах.
Череп первого из женихов, Мармака, был уже голым, без плоти. Беспощадное солнце и проливные дожди вымыли и высушили кость добела. Теперь дикий рой нашел тут свое пристанище, и пчелы веером разлетались из пустых глазниц на цветущие вокруг луга за сладким взятком. Последняя голова, несчастного Триколона,еще сочила на медь сукровицей, и не пчелы, а жирные мухи летали вокруг и облепили ее, превратив в сплошное, подвижное месиво.
После Мармака вторым от руки Эномая погиб красавец и весельчак Алкаф, сын Портаона. За ним были убиты Эвриал, Эвримах и Кротал. Кто были их родители, и откуда они родом, Пелопс не знал, но прочел ниже их имена, выбитые на меди.
Следующая за Кроталом висела голова лакедемонянина Акрия, основателя Акрий. Год назад Пелопс веселился у него в гостях, и вот судьба вновь свела их вместе. После Акрия были убиты Эномаем Капет, Ласий, Халкодонт. Злая участь постигла в этом состязании Аристомаха, Прианта, Пелагонта, Эионея, а также знаменитого Эрифу, сына Левкона и внука Афаманта, по имени которого был назван город Эрифры в Беотии.
Но не остановило это Пелопса, ибо страх смерти только веселит сердце храброго и украшает ему жизнь, как пряная приправа улучшает вкус мясного блюда. Любой ценой надумал Пелопс добыть Гипподамию и — вошел во дворец.
Сурово принял Эномай гостя и сказал ему:
— Ты хочешь получить в жены мою дочь? Разве не видел ты, неразумный, сколько славных героев сложило за нее головы в состязании со мной? Смотри, и ты не избежишь их участи.
— Напрасно ты так уверен в себе заранее, о могучий царь,— дерзко ответил ему Пелопс.— Боги, надеюсь, не оставят меня милостью, и Гипподамия станет моей. Ты же, когда проиграешь мне спор, отдели в приданое за дочерью половину своего царства.
Злобная усмешка вспыхнула на губах Эномая от таких речей. Но сдержал себя до поры царь Писы.
— Слушай же, Пелопс,— сказал он,— вот условия состязаний: путь твой лежит от города Писы через всю Аркадию до самого Истма, где море. Кончается он у жертвенника властителя морей Посейдона, недалеко от Коринфа. Если ты первый достигнешь жертвенника, то ты победил. Но горе тебе, если я настигну твою колесницу в пути! Тогда мое копье пронзит тебя, как пронзило оно уже многих героев, и ты бесславно сойдешь в мрачное царство Аида. Я дам тебе лишь одно снисхождение, его давал я всем другим: ты тронешься в путь раньше меня, я же принесу прежде жертву великому Зевсу и только тогда взойду на колесницу. Спеши проехать как можно больше пути, на эти мгновения ты продлишь жалкие остатки твоей жизни.
И повелел Эномай позвать к нему медника. Когда медник пришел, царь указал на Пелопса и велел отковать для его головы на ворота новый штырь и выбить имя под ним.
Пылая гневом, покинул Пелопс дворец жестокосердного царя Писы. Он видел, что только хитростью возможно для него добиться желанной победы и отомстить за убиенных безвинно товарищей. Воздать за зло злом же.
Ночью тайно он проник в дом царского возничего Миртила, сына Гермеса, и вывалил перед ним грудою золото и серебро, и цветные каменья в награду. Он просил его не вставлять чеки в оси, чтобы соскочили колеса с колесницы Эномая, и задержало бы это царя в пути: чтобы подрезал Миртил незаметно упряжь или расковал лошадей, и они бы охромели в дороге и остановились.
Не согласился Миртил на подкуп. Он велел Пелопсу забрать все золото и драгоценности и покинуть его дом. Зная, сколь искусен Миртил в управлении колесницей, Пелопс предложил ему сверх того коней, самых быстрых, каких он выберет сам в его табунах, а когда с его помощью он победит Эномая, обещал Пелопс отдать Миртилу половину Эномаева царства. Но неподкупен, как и прежде, оставался царский возничий. И тогда решил Пелопс применить последнее средство. С тяжелым сердцем отважился он на подобный шаг, однако выбора у него не было. К тому же, подумал он, никакое средство не может быть чрезмерным против Эномаева злодейства.
Прослышал стороною Пелопс, что Миртил сам давно любит красавицу Гипподамию, но не решается вызвать царя на состязание, лучше других зная быстроту его коней. И тогда сверх предложенных даров после победы над Эномаем обещал Пелопс несговорчивому Миртилу подарить право первой ночи с Гипподамией.
И Миртил согласился на это.
Настало утро. Позолотила восходящая, розоперстая Эос небесный свод. Вот уже показался на небе лучезарный Гелиос на своей золотой колеснице. Скоро начаться состязанию. Обратился Пелопс к великому колебателю земли Посейдону, умоляя его о помощи, и вскочил на колесницу. Царь Эномай подошел к жертвеннику Зевса и дал знак Пелопсу, что он может трогаться в путь. Погнал Пелопс коней во весь опор. Гремят по камням колера его колесницы. Как птицы несутся кони. Быстро скрывается в облаке пыли Пелопс. Гонит его любовь к Гипподамии, страсть к отмщению и страх за свою жизнь, ибо нет в нем полной уверенности, что Миртил сдержит слово.
Вот далеко за ним послышался грохот колесницы Эномая. Настигает царь Писы дерзкого сына Тантала. Как буря несутся кони царя, вихрем крутится пыль от колес колесницы. Ударил хлыстом по коням Пелопс, еще быстрее понеслись они. Ветер свистит в ушах от их бешеного бега, но разве уйти ему от коней царя Эномая, которые быстрее северного ветра Борея!
Все ближе и ближе Эномай, уже чувствует за спиной Пелопс горячее дыхание его коней, уже видит, оглянувшись, как с торжествующим, злорадным смехом царь взметнул над головою длиннотенное копье.
— Недалеко же ты успел уйти, ничтожный наглец! Сегодня твоя глупая голова украсит мои ворота!
И, забавляясь, он уколол острой медью Пелопса между широких лопаток еще и еще раз. В отчаянии взмолился Пелопс Посейдону — и властитель безбрежного моря внял его мольбам. Лопнула вдруг крепкая упряжь, и соскочили разом колеса с осей колесницы. Она опрокинулась, и грянулся наземь жестокосердный царь Писы, разбившись о камни. Мрак смерти покрыл его очи.
С торжеством воротился Пелопс в Пису и взял в жены прекрасную Гипподамию, завладел огромным царством Эномая. Но, счастливый, он не ведал еще, что зло переимчиво, словно зараза, и, раз ступив на этот путь, человек уже не волен остановиться.
На свадебном пиру подошел к Пелопсу царский возничий Миртил и потребовал себе условленную награду. Коварный сын Тантала хитростью заманил Миртила на берег моря и столкнул его с высокой скалы в бурные волны. Падая, проклял Миртил Пелопса и все его потомство. Тело Миртила волны выбросили вскоре на берег в Аркадии, недалеко от города Феней, и фенеаты похоронили его позади храма Гермеса. Каждый год ночью фенеаты приносят ему жертвы как герою. А эту часть Эгейского моря, близ Феней, стали называть Миртойским морем.
Зло не иссякло со смертью Миртила, и как ни старался Пелопс смягчить гневную душу царского возницы, как ни старался богатыми жертвами смягчить гнев его отца, бога Гермеса — все было напрасно.
Однажды сын Пелопса от первого брака Хрисипп был убит сыновьями Гипподамии, Атреем и Фиэстом. Они боялись того предпочтения в наследстве, которое, как они подозревали, мог оказать старшему и любимому сыну отец. В страшном гневе Пелопс сослал Гипподамию с глаз долой, в Арголиду, обвинив ее в подстрекательстве, и вместе с нею братьев-убийц. Атрей и Фиэст в скором времени погибли на чужбине один за другим, а Гинподамия, удрученная горем, наложила на себя руки. Ее кости впоследствии были перенесены в Олимпию. Внутри Альтиса, у входа Процессий, есть место недалеко от Пелопиона — так называемый Гипподамий, размером около плетра, обнесенное каменной стеной. Один раз в год сюда открыт доступ женщинам, которые приносят жертвы Гипподамии и совершают другие обряды в ее честь.
Зло не иссякло и тогда, когда истреблен был весь род Пелопса до последнего колена. Словно лесной пожар, расползалось зло в разные стороны, пожирая все новые жертвы среди рода Эномая тоже, ибо за злодеяния отцов воздается в детях и внуках их многократно.
Последним смерть настигла младшего сына Эномая по имени Левкипп. Этот Левкипп был влюблен в Дафну, но не имел надежды взять ее в жены, сватаясь открыто, потому что девушка была сестрою юного Эионея, одного из убитых отцом Левкиппа женихов. И тогда Левкипп придумал хитрость. Он отрастил волосы и, заплетая их, как делают девушки, и надев женский наряд, пришел к Дафне. Он сказал, что хочет охотиться с Дафной и ее подругами на диких зверей. Скоро все увидели, что новая девушка на охоте искуснее всех, к тому же она чрезвычайно услужлива и покладиста, и так Левкипп вошел с Дафной в близкую дружбу. Однажды девушки пожелали купаться в Ладоне и заставили Левкиппа раздеться против его воли. Увидев, что перед ними мужчина, они узнали его и в ярости убили, поражая копьями и ножами.
Так зло, порожденное от зла, росло и множилось долгие годы, пожирая себя, пока не исчезло окончательно. Долго еще на старом пепелище, выжженном дотла, не проклюнется нежный, зеленый росток, не оскверненный ничьим злодеянием...
Угасли в воздухе последние дрожащие звуки кифары, но еще долго молчали гости. Затем, словно очнувшись, окружили певца, и каждый наперебой восхвалял его искусство, спрашивали все его имя и имя отца, и город, откуда он родом, предлагали деньги и угощали вином беспрестанно. Слезы, исторгнутые аэдом из глубин души, долго стояли у всех в глазах. Просветленные, они с любовью глядели друг на друга, как мать взирает на своего младенца, и были щемяще счастливы этой навеянной любовью.
Раб-сириец, приблизившись к Гнафону сзади, шепнул на ухо, что господина там спрашивают, и, если господин не против, он проводит его немедленно.
Оба удалились.
Званый ужин тем временем продолжался. Напоследок рабы внесли уложенные в плетенках сладости и фрукты, и пироги всех сортов — и критские, и самосские, и аттические. Хозяин своим примером подал знак пить из меньших кубков и велел рабам обнести гостей вином, которое было как бы противоядием против выпитого прежде.
Наконец прозвучал условленный сигнал к окончанию пира, и все поднялись с мест, обращаясь к Дамасию с похвалами за чудно проведенное время и за роскошные дары.
Глава 10
Асамон отправился на поиски приятеля и в переходе, в том же самом углу, заметил своего кифареда в компании с двумя какими-то оборванцами. Одного из них он, впрочем, узнал — это был прежний флейтист, а второго, с физиономией озлобленного бездельника, видел впервые.
Шитые золотом одежды и повязка были пожалованы кифареду в дар за его искусство растроганным Феспидом, и теперь он красовался в этом наряде перед оборванцами на вершине своего успеха — пьян, брюзглив и великодушен. Он швырял на пол со звоном то одному, то другому золотые монеты, но не прежде, чем тот гавкнет во весь голос и подпрыгнет при этом, как заправская собака. Голос кифареда был скрипуч, неприятен, к тому же он громко икал через слово, бахвалясь перед оборванцами, и Асамон подумал, в какой жалкий и недостойный сосуд влит небом его божественный гений.
Было непонятно, зачем певцу понадобились эти два ничтожных человека, наперебой изображающие собак, хотя по злобному блеску глаз Асамон видел — флейтист готов немедленно с живого содрать со счастливца кожу, как это сделал Аполлон, когда проиграл сатиру Марсию состязание в игре на флейте. Они все слишком самолюбивы и злобны, эти служители Муз, проповедующие добро.
Любопытно, что связывает между собой всех трех — посредственного флейтиста, бездельника и творца? Неужели одна только зависть к успеху и унижение ради этой подачки? Или в основании всякой дружбы сокрыта также ненависть, и она более искренна, ибо не выставляется напоказ?
Однажды наставник со смехом сказал ему: «Если у тебя много друзей, задумайся — не дурак ли ты? Не тешится ли возле твоей глупости чужое тщеславие? Но если много врагов, то это точно, что не дурак». Правда, сказано было скорее по поводу, и в следующий раз, когда Асамон напомнил наставнику его слова, тот только пожал плечами...
Навстречу Асамону из-за угла неожиданно вывернул Гнафон, блестя черными, радостными глазами, и едва не сбил с ног.
— Ага, вот ты где! А я рыщу по всему Пелопоннесу,— смеясь, вскричал он и потащил Асамона за собой.— Между прочим, для тебя есть превосходная новость. Идем, идем!
Асамон побледнел, но отчаянным усилием воли сдержал себя, боясь в очередной раз жестоко ошибиться. И не стал даже докучать расспросами. Вместо этого он передал Гнафону его корзинку из слоновой кости с золотыми дарами и мягко упрекнул:
— Я тоже ищу тебя, досточтимый Гнафон. Только мне странно, почему я должен бегать за тобой с подарками? А не наоборот?
— Это мне? Помилуй, за какие же заслуги?
— Видишь ли, отцу показалось, что ты мой гость.
— Ха-ха-ха!
— Но если это не причина для тебя, тогда пусть они будут наградой за то, что ты сегодня добровольно уступил мне свою победу.
Гнафон нахмурился.
— Ну, нет. Добровольно я бы не уступил никогда. Стало быть, это уж точно не причина.
— Я знаю. Но так показалось отцу. Хотя, кажется, его там не было в это время.
Оба рассмеялись, и Гнафон пообещал приятелю хорошо отлупить его в следующую олимпиаду.
— Кстати, твой будущий родственник,— Гнафон со значением понизил голос,— до сих пор не пришел в себя. Так я во всяком случае слышал.
— Родственник? Кого ты имеешь в виду?
Плут расхохотался.
— Тисамена, разумеется!
— Тисамен пострадал за свою глупость,— не сразу отозвался афинянин.
— Ну, да... в общем. Но если б ты его не надул, тебе бы пришлось худо сегодня, согласись?
— Мне пришлось бы провозиться с ним несколько дольше,— высокомерно ответил Асамон.
Они остановились у входа, возле жертвенника Артемиды Агротеры. Площадь перед Пританеем чудесным образом вся переменилась. Она выглядела теперь похожей на серебряное роскошное блюдо с чернью, овеянное фиолетовым ночным полумраком и обширными пятнами яркого лунного света; фиолетово-черные тени пересекали их или ложились затейливым кружевом на ослепительную белизну храмов, на мрамор застывших величественных фигур, на веселые группы людей, фланирующих по площади, и сообщали всему некую таинственность и бархатное очарование южной ночи.
Гнафон огляделся и, оставив корзину с дарами на ступенях, с мягкой уверенностью ночного зверя скользнул куда-то в сторону, за колонны.
Вскоре он появился назад с фракиянкой, одетой в лунного цвета ниспадающий пеплос. Она походила в своей одежде на очаровательную, светловолосую наяду с такими же светлыми глазами, похожими на прозрачные, мерцающие нефриты. Они то вспыхивали при свете луны, то пригасали под полуопущенными ресницами, и беспечная улыбка юности цвела у ней на губах, словно яркий, благоуханный цветок.
Асамон подумал, что красота девушки, перед которой столь пылко преклоняется его друг, надежно хранит ее душу от покорной, рабской приниженности.
Еще издали фракиянка одарила его ласковым, слегка изумленным взглядом, в котором явственно читалось восхищенное любопытство, кокетливое желание нравиться и радостное приветствие — все разом с живостью и непосредственностью ребенка. И Асамон невольно улыбнулся ей в ответ.
Приятель с загадочным видом слегка подтолкнул девушку к корзине.
Взгляни, моя прелесть, на эти сокровища. Они принадлежат мне. И если я только захочу, я куплю себе сладкую, как виноград, свежую, как розовый в цвету куст, прекраснейшую по всем Лакедемоне рабыню и увезу ее с собой в великие и славные Ликосуры.
Гелика вспыхнула вдруг, растерянно озираясь. Но плут уже засомневался.
— Хотя не знаю. Зачем мне еще одна рабыня? Пожалуй, будет лучше, если эти сокровища я попросту обменяю? — Он перевел блестящие, черные глаза с Асамона на Гелику. Вскинул корзину над головой.— Я обменяю их с выгодой на поцелуй сладкой, как виноград, свежей, как розовый в цвету куст, прекраснейшей из рабынь, чтобы она, если пожелает, выкупила у хозяев свою свободу!
Кровь отхлынула от щек Гелики, и она едва держалась на ногах. Гнафон бросил корзину и с поспешностью подхватил девушку на руки. Наконец чуть слышно она пролепетала:
— Если это шутка, я... я не перенесу.
— Шутка?! — вскричал Гнафон.— О боги! Это мой первый благородный поступок в жизни. И, быть может, последний. Но никак не шутка.
— Откуда... это все?
— О, моя прелесть! Надо уметь выбирать друзей. Только и всего.
Асамон рассмеялся.
— Ты превосходно распорядился своим золотом, дружище. Я поздравляю.
— Поздравляешь меня с покупкой? А если Гелика пожелает стать свободной? Но, кажется, она сама еще не вполне решила?
— О! Вначале я выкуплю свою свободу. А затем я добровольно стану тебе рабыней, мой господин,— забавно растягивая слова, произнесла фракиянка.
Все трое расхохотались, и Гнафон торжественно подставил щеку.
— Согласен! И жажду получить обещанный мне поцелуй.
Долгий, страстный поцелуй, запечатленный на щеке юноши, скрепил договор к превеликому удовольствию всех сторон.
Неожиданно девушка издала слабое восклицание и уставилась на Асамона, прижав пальцы к пылающим щекам. Потом перевела испуганный взгляд на Гнафона.
— Разве ты, мой господин, не сказал другу, где он должен сейчас быть?
— Конечно нет. Но я сказал, что его ожидает приятная новость. Он должен услышать ее из твоих уст.
— Моя госпожа...— начала было Гелика и осеклась.
Асамон стоял перед нею ни жив ни мертв. Он был бледен, точь-в-точь как она сама, когда услышала о возможной свободе.
— Хриса? — одними губами без голоса переспросил он, ища скорейшего подтверждения.
— О, да! Подле сокровищницы сикионян. На террасе. То самое место, где...
Асамон сбежал вниз.
— Но если это шутка,— он слабо улыбнулся ей,— клянусь, я не перенесу.
— Иди, иди,— рассмеялся вслед Гнафон.— Я всегда подозревал, что ты безумец. Слышишь?.. Безумец!
— А ты? — вкрадчиво прошелестел у него над ухом ревнивый шепот, когда они остались одни.
— Что до меня,— сурово произнес Гнафон,— то даже сладкая, как виноград, свежая, точно розовый в цвету куст, прекраснейшая из прекрасных женщин не стоит того, чтобы лишаться из-за нее хотя бы доли рассудка. Но, право же, моя чудная Гелика, к тебе это совершенно не относится. Я без ума!
— О, мой господин, я тоже! — тихо вое кликнула прекрасная фракиянка, и гибкие фигуры их, облитые лунным светом, надолго объединились в объятиях на ступенях государственного Совета Элиды.
Глава 11
В предутренних серых сумерках Асамон спустился к Алфею, к широкой, каменистой отмели, придерживая в поводу двух оседланных лошадей. По очереди напоил их, слушая, как жадно, с сапом втягивают они воду, и сел в седло на Авру. Вороной жеребец по кличке Коракс, словно привязанный, послушно бежал рядом, играя, и зубами то и дело норовил щипнуть кобылу за шею.
Гипподром юный афинянин объехал далеко стороной, не желая быть замеченным, и вскоре выбрался на старую аркадийскую дорогу.
В сумерках дорога казалась скучна и пустынна. Темные рощицы благородного лавра тянулись по обеим сторонам, набрякшие утренней сыростью. Асамон спешился и привязал лошадей в глубине зарослей за поворотом. Сверху надбровным валиком нависал склон холма Кроноса, образуя естественное укрытие, огражденное по сторонам деревьями.
В ожидании Асамон снял с себя плащ и бросил через седло, хотя лихорадочная дрожь временами сотрясала его. Но не утренняя прохладная свежесть была тому причиной. Лицо его горело, и он ждал, привалившись к древесному стволу, как пересохшая, истресканная зноем земля ждет в томлении живительной небесной влаги в душном, переполненном просверками молний воздухе.
Кони тревожно всхрапнули, перебирая ногами. Но он не обратил на это внимания.
Наконец, очнувшись, словно в воду, сунул руку в буйную зелень листвы и холодной от росы ладонью провел по пылающему жаром лицу. Почувствовав облегчение, он осмотрелся. Дорога в обе стороны по-прежнему была пустынна. Асамон повернулся к лошадям и — вздрогнул от неожиданности под устремленным на него в упор ярко-синим лукавым взглядом.
— Хриса...
На ней был серого цвета, ниспадающий до земли трибон, словно сотканный из предрассветных серых сумерек. Он делал ее похожей на неясную тень, струящуюся множеством складок и перетекающую при малейшем движении. Казалось, она легко могла исчезнуть, как и появилась, при первом дуновении утреннего ветерка. Но Хриса не исчезала. Она стояла подле Авры, взяв кобылу под уздцы, и тонкими пальцами слегка касалась чуткого храпа. Ее глаза неотрывно следили за ним, но лукавое их выражение было ему неясно.
Внезапное появление Хрисы, словно вино, ударило Асамону в голову, и кровь толчками застучала в виски. Он почувствовал, что теряется.
Огромным усилием воли Асамон овладел собою. Подошел к жеребцу и тяжело положил руки на седло.
Будь такое возможно, он велел бы сейчас привязать себя накрепко к мачте, чтобы, подобно Одиссею, изведать на себе губительные любовные песнопения сладкозвучных сирен, от которых люди мешаются рассудком, и, как он, выйти из положения, не понеся урону... Несколько спустя он молча поворотил к ней голову и уперся угрюмым, почти враждебным взглядом в ласковою синеву ее глаз, и она медленно истаяла под его свинцовой тяжестью, вся преисполнилась тревоги.
Он видел эти перемены в ней, внезапный испуг, ко не мог ничего поделать с собой. Что-то упорно сопротивлялось в нем желанию быть счастливым — счастливым в безумии, при бездействующем рассудке! — и угрюмая враждебность к ней,— лишавшей рассудка,— оставалась для него последним спасительным островом.
Девушка невольно отступила, в страхе, назад за лошадь. Слезы вскипели у ней на глазах, не ожидавшей такой встречи, тем более, что вины за собой она не чувствовала. Но их отношения были слишком коротки, и слишком мало можно было выдумать поводов, чтобы ошибиться в истинных причинах враждебности с его стороны, которую, она видела, он хотел, но не мог от нее скрыть. В тот же краткий миг своего испуга она прозрела тайные движения его души, и нежность к нему и жалость, почти материнская, желание спасти от самого себя переполнили ее, как сосуд, забытый у источника под хлещущей через край струей.
Он уже не смотрел в ее сторону, но стоял, опустив голову и положа руки на седло. Она скользнула к нему тенью сзади и спрятала мокрое от слез лицо у него на плече. Всхлипнула, то ли от жалости, то ли прося о примирении.
Этот трогательный и беспомощный жест немедленно отозвался в нем волнующей дрожью. О, как хотел бы он в эти мгновения обернуться к ней и заключить с нежностью в объятия, коснуться щекою волос, наконец искупить невольный порыв враждебности, который она уже с легкостью простила, но... достаточно грубо Асамон отстранил от себя девушку и шагнул к дереву отвязать кобылу. Хриса с покорностью последовала за ним, недоумевая, почему ее попытка не была принята, и желая хотя бы мельком поймать его взгляд, виноватый, с досадой ли, действительно грубый, или только растерянный, как у нее самой перед тем, что с ними происходит. Но он не смотрел на нее — сосредоточенно отвязывал поводья, поправил сбрую, забросил поводья на луку и, наконец, подвел кобылу к ней.
— Ей три года... Авра,— ученическим голосом, словно затверженный урок, произнес он.
— Мы уже познакомились,— чуть улыбнулась девушка, делая еще одну слабую попытку примирения.
Он сумрачно кивнул и хотел было отойти, но вспомнил, что без его помощи ей будет трудно сесть в седло. Вопросительно вскинул на нее глаза, но ничего, кроме все того же ученичества, в них более не отразилось, прочно придавленное внутри самого себя.
Перемена была настолько разительна, что девушка слегка даже закусила губу. Но тотчас лукавая искра промелькнула у ней в глазах и отразилась на лице улыбкой.
Она сделала движение навстречу, как бы приглашая помочь. Коснулась левой рукой седла. Асамон слегка наклонился, подставив ступенькой по-юношески угловатую широкую ладонь. Она нерешительно ступила на ладонь ногой, обутой в легкую сандалию, и ощутила сразу ее каменную надежность. Помедлив, опустила правую руку ему на плечо, и в этот момент край ее трибона — конечно же ненароком! случайно!— распахнулся и мягко скользнул с бедра, обнажив его растерянным взорам округлое, похожее на зрелый золотисто-розовый плод, колено. Она, конечно же, замешкалась, совершенно не замечая своей оплошности и лишь приноравливаясь, чтобы половчее сесть в седло, и уже не только колено, но и часть бедра невыразимо прекрасных, безупречных линий, исполненных тайны, тревожной прелести, оказались открытыми перед самыми его глазами, так что, осмелься он вдруг, мог бы легко коснуться их губами.
Смущенный, он не успел ни отвести взгляд в сторону, ни подготовиться хотя бы внутренне к этому сокрушительному удару. А то, что это был именно удар, расчетливо нанесенный, удар по его независимости, он понял, когда девушка уже сидела в седле — по лукавой улыбке сверху вниз, в которой он безошибочно увидел ее глазами свою глупую и потрясенную тайно подсмотренным зрелищем физиономию. В эти самые мгновения он понял — его невольный и грубый вызов был ею принят, и не только принят, но уже и наказан.
Это было объявлением ему войны.
Он вдруг подумал, что для мира, в котором они живут, состояние войны естественно, как дыхание, и даже любовь неизбежно несет ее в присущих ей одной формах подавления и нередко уничтожения. Ах, но какая это обещает быть чудная война!
Асамон крепко ударил Коракса ладонью по крупу и уже на скаку с разбегу запрыгнул в седло.
Хриса была далеко впереди, и теперь только легкое облачко пыли стремительно катилось, как гонимое ветром, скрывая за собой и лошадь, и лихую наездницу. Дорога тянулась здесь вдоль склона холма и давала широкую петлю, огибая лощину, густо поросшую дикими зарослями маслины и черным тополем. Асамон решительно осадил жеребца и кинул его в сторону за обочину дороги, поспешно ныряя под мокрые ветви и припадая теснее к гриве. Вместе с конем не то сползли, не то обрушились по каменистой крутой осыпи на самое дно лощины в туман и сырость, и Коракс легко вынес его по случайной тропинке вновь на дорогу на противоположной стороне.
Конский скок стремительно нарастал...
Асамон неспешно перекинул одну ногу через седло, и даже скрестил лениво на голени руки, сделав вид, будто он ждет и давно, и это занятие успело изрядно прискучить. Но, увы, роли своей до конца не выдержал, едва прекрасная амазонка ночной, призрачной тенью вылетела из-за поворота. Она великолепно держалась в седле, слегка откинувшись, полубоком, с прямою совершенно спиной, и не столько сидела, а скорее скользила в свободном стремительном полете, едва касаясь седла и ослабив за ненадобностью поводья. Темное, густое пламя волос яростно металось во встречном потоке, вздувался парусом широкий трибон, и тут же ткань опадала, прилипая к лошадиному крупу, вновь взмахивала крылом, трепеща и звучно хлопая на ветру.
Асамон мог поклясться, он не видел зрелища более прелестного за всю свою жизнь.
Его появление на дороге было для Хрисы полной неожиданностью. Синий огонь полыхнул ему в глаза, полный изумления и растерянности, и Асамон, казалось, мог бы торжествовать свою маленькую, коварную победу. Но восторг и немое обожание были мгновенно прочитаны в его зачарованном взгляде. Лукавая улыбка удовольствия расцвела на ее разгоряченном скачкою нежном лице и мелькнула мимо, унося заодно победу. Коракс в нетерпении дурашливо взбрыкнул задом и сам вымахнул вместе с хозяином вслед на дорогу, выгибая шею и кося на него фиолетовым влажным взглядом. Асамон, поощряя, ударил жеребца пяткою под селезенку и отпустил свободно поводья. Тугая волна воздуха ударила в грудь, в лицо, и вскоре дробный перестук копыт отстал далеко сзади, не поспевая за стремительным бегом великолепного скакуна.
Дорога из холмов плавно спустилась вниз, в песчаную, широкую низину, и побежала среди зарослей колючей крушины и громадных, одиноко растущих сосен. Впереди показалась далекая гряда гор, и к тому времени, когда утренняя Эос окрасила вершины нежным пурпуром, Хриса и Асамон остановили лошадей на берегу бурного Эриманфа.
Здесь, вдоль реки, пролегла граница между Элидой и соседней Аркадией — до впадения Эриманфа в Алфей.
На противоположном берегу изрезанной, неровной стеной вставал хребет Савра. Асамон отыскал глазами среди темных базальтовых нагромождений и скудной зелени святилище Геракла из светлого песчаника. Указал Xрисе. Ниже, он знал это из рассказов, была могила самого Савра, здешнего разбойника-людоеда. Говорят, что Савр грабил в этих местах путников и соседей, пока не получил должного возмездия от Геракла. После смерти Савра вокруг пещер, где он скрывался, пастухи находили еще немало человеческих останков.
Всадники пересекли Эриманф вброд по перекату. Вода даже в самом глубоком месте не доходила коням до щеток, но была столь стремительна, что мгновенно вызывала приступ слабости и тошноты.
Обернувшись назад, Асамон увидел вдруг побледневшее лицо девушки с полуприкрытыми глазами, и ему показалось, что она вот-вот сползет с седла в воду. Он гикнул, и умница Авра, исполняя команду, в два прыжка вынесла ослабевшую наездницу на противоположный берег. Асамон, перегнувшись назад, успел подхватить ее за талию. Хриса качнулась в седле, выпрямляясь с видимым усилием, но не удержала равновесия и так же мягко, с покорностью привалилась всем гибким телом к нему. Он вдруг почувствовал в своей ладони сквозь грубую ткань трибона ее упругую, нежную грудь и жаром вспыхнул до самых корней волос. Ее лицо в паутине серебрящихся, темных локонов покоилось у него на плече перед самыми глазами. Таинственно и призывно поблескивали жемчужной белизны влажные зубы. Полураскрытый рот был ярче утреннего пурпура, разлившегося уже в полнеба. Ее губы, маленькие и нежные, как две созревшие, налитые сладким соком виноградины, казались прозрачными и просили, чтобы он отведал их нежный и терпкий вкус. И хотя глаза были закрыты, и лишь подрагивание длинных, темных ресниц выдавало признаки жизни и слабую ее беспомощность, Асамон уже не сознавал себя. Стремительный Эриманф уносил прочь остатки его хладнокровия, голова кружилась, и, теряя рассудок, он прильнул страстно и быстро своими губами к ее полураскрытому, зовущему рту, к влажным от прохлады зубам и с благодарным трепетом ощутил ответное слабое движение ее губ, легкий стон, то ли испуганный вздох, и податливость гибкого стана.
Он не помнил, как долго длился их жаркий поцелуй, но Авра потянула неожиданно вперед, унося из его объятий драгоценную добычу. Густой, длинный шлейф волос еще струился по его плечу, искрясь, будто вода на быстром, пронизанном солнцем перекате.
На этой стороне Эриманфа, уже в Аркадии, дорога продолжалась и уходила дальше в горы. Но Хриса, не оборачиваясь, круто повернула кобылу вдоль берега вверх по течению, по едва приметной тропе, которая вскоре бесследно исчезла, теснимая со всех сторон подступающими к берегу скалами.
Они медленно подвигались среди огромных обломков, давно отколовшихся и изрядно подточенных водой, брели по каменистому мелководью под нависающими сверху угрюмыми громадами. Становилось все темнее, и, казалось, Эриманф здесь уходит под землю, в царство мертвых. Уже небо вверху, зажатое среди скал, напоминало узкую, извилистую трещину, ярко-синюю, как взгляд Хрисы, уловленный им случайно и тотчас потерянный в сыром полумраке. Затем и трещина над головами, истончаясь, наконец исчезла совсем, горы сомкнулись, и кипящая, гулкая мгла объяла их со всех сторон.
Асамон бросил поводья и предоставил Кораксу самому выбирать дорогу в бурном, грозно ревущем лабиринте. Но глаза постепенно привыкли, и хотя мгла вверху была непроглядной, воды самого Эриманфа, насыщенные далеким отраженным светом, бликовали на прибрежных скалах почти как днем.
Коракс неожиданно встал.
По звяку уздечки рядом и вытянутой шее коня Асамон понял, что жеребец стоит подле Авры, но сам разглядеть ничего не мог, и расслышать голос было здесь невозможно. Но он почувствовал неуверенность Хрисы и желание держаться ближе к нему, хотя не был вполне уверен, что ее желание не путает со своим. И медлил поэтому. Его ладонь еще хранила вживе теплый, тяжелый объем ее груди, горел на губах поцелуй, и волосы потоком струились по обнаженной, вздрагивающей коже. В то же время где-то на дне его смятенной души шевелилось жгучее чувство стыда и неловкости оттого, что он воспользовался беспомощным положением Хрисы и украл бесчестно не принадлежащее ему. Иначе чем можно объяснить, что оба они избегали смотреть друг другу в глаза и мгновенно возникшую отчужденность, едва она оправилась и пришла в себя? Он был даже рад сейчас этому реву и гулу в обступившей их спасительной темноте, ибо слова, какие мог он сказать в свое оправдание, дела все равно бы не поправили. К тому же, он подозревал у себя совершенно глупый вид напроказившего мальчишки.
Он пошарил рукой в том направлении, куда тянул мордой Коракс, и поймал кобылу под уздцы. Лошади с осторожностью двинулись вперед.
Повороты следовали один за другим, и спустя какое-то время Асамону почудилось, будто вокруг становится светлее. Блики на скалах сделались живее, ярче, и светлые струи вскипали пенными бурунами вокруг лошадиных ног, едва Коракс ступал на мелководье. Все ревело, бурлило и неслось бешеным светлым потоком назад под ноги, а темные каменные громады по сторонам, когда он поднимал взгляд, напротив того, казалось, кружатся и несутся вперед в диком, стремительном танце.
Асамон вдруг спохватился, подумав, что Хриса, должно быть, чувствует себя отвратительно, когда даже на перекате у дороги она едва смогла держаться в седле. Он выбранил себя за беспечность и обернулся. Лицо девушки бледным пятном покачивалось в темноте в такт конской поступи. Он присмотрелся ближе и увидел, что глаза ее закрыты. Коснулся руки — она была безвольна и никак не отозвалась на прикосновение, словно у спящей, и Асамон с запоздалым страхом представил себе, что седло могло оказаться сейчас пустым. Он не увидел бы в темноте и не услышал бы в грохоте и реве ее голоса, взывающего о помощи, и Хриса могла погибнуть, упав в воду.
Сама мысль об этом, ярко взыгравшая в воображении, показалась ему настолько ужасной, что, забыв разом о недавних сомнениях, он на ходу пересел с Коракса на Авру, сзади, и с поспешностью подхватил из рук Хрисы упавшие поводья. Разом ослабев, она прильнула к нему с благодарностью, и только страх за нее и досада на собственное безмыслие помогли Асамону справиться с охватившим волнением.
Они продолжали путь вдвоем на Авре, когда из-за очередного поворота в глаза ударили яркие потоки света. Мельчайшая водяная пыль, взвесь подымалась от воды высоко вверх и клубилась там, пронизанная насквозь широкими, прямыми лучами. Здесь было сыро. Скалы вокруг сочили воду. Водяной бус напитывал влагой их одежду и серебрился изморосью на волосах. Но под ногами вновь обнаружилась тропа, она стала даже уверенней, и Асамон прибавил ходу.
Вскоре, следуя течению реки, они въехали в долину, которая, несмотря на дикость местности, оказалась обжитой.
У подножия скал лепились две жалкие хижины, похожие на груды серых камней. Небольшой клочок возделанной земли и пустующий загон для овец говорили о способах пропитания. Должно быть, тут обитали охотники либо пастухи, хотя на стук копыт и на голоса никто не вышел.
Асамон пересел вновь на Коракса. Тропа здесь была широкой и походила более на дорогу. По ней гоняли, видимо, в горы на пастбище скот.
Ему вдруг пришло в голову, что своей доверчивой слабостью Хриса незаметно и безжалостно сокрушила его мощные, как ему казалось, крепостные бастионы, воздвигнутые против ее чар и ограничивающие ее всевластие. Защитники стен были перебиты, а частью рассеялись, и противник беспрепятственно просачивался на опустевшие, безмолвные улицы, пинком отворял двери домов, выволакивал наружу без жалости оставшихся жителей, замшелых старух и плачущих детей, забрасывал в окна и на крыши пылающие факелы. Город весь был объят губительным пожаром. Мало того, он замечал уже среди нашествия бывших его защитников, и число их как будто множилось, они переходили на сторону противника и с радостью разрушали и легли то, что еще не было охвачено пламенем...
Дорога кружила среди дубрав, забирая все выше и выше. Он не знал, куда они направляются и почему оказались именно здесь, однако следовал за ней, не задав ни единого вопроса.
Но Хриса с решительностью оставила дорогу и повернула Авру на какую-то заброшенную тропу, продираясь сквозь заросли кустарникового дуба и можжевеловые деревья с острым смолистым запахом. Асамону даже почудилось, при виде ее уверенности и гордой сильной осанки, что недавняя слабость, быть может,— не более чем притворство, своего рода военная хитрость, вроде ахейского дара неприступным троянцам.
Впрочем, он тотчас забывал о своих мрачных мыслях, которые сгущал даже намеренно, едва Хриса оборачивала к нему на скаку цветущее лицо и дарила беспечную, ослепительную улыбку.
Предгория кончились, и всадники оказались среди скал, покрытых елями и мастиковыми деревьями. Пробитая в скалах тропа кружила среди острых гольцов, упорно пробираясь все вверх и вверх. Затем узкой расселиной, грозящей осыпями с обеих сторон, объезжая завалы, всадники въехали под сень дубовых пышных рощ, перемешанных с каштанами и темно-зелеными стройными кипарисами. Тропа вскоре исчезла среди больших камней и густой травы, то ли запуталась в зарослях душистого тимьяна.
Хриса растерянно закружилась на Авре, отыскивая потерянный след. Асамон не понял, для чего это ей нужно, но по цвету травы отыскал сразу то, что прежде было тропой и двинулся впереди. Хриса немедленно усомнилась.
— Это тропа, действительно? А если нет?
— А если нет, то что тогда?
— Но я не вижу тропы.
Асамон рассмеялся.
— Кийяфа!
— Кийяфа?..
— Да. Древнее искусство бедуинов. Даже в знойной пустыне по признакам бедуин способен раздобыть глоток воды и утолить жажду. Он может отличить след девственницы от следа женщины, познавшей мужчину, а след туземца от следа пришлого человека, и узнать его племя. Посмотри внимательнее: там, где была тропа, трава растет гуще, она иного цвета, чем та, которая на обочине. К тому же, на местах, некогда оставленных человеком, любит расти чертополох. Здесь трудно сбиться с тропы.
Хриса некоторое время молчала и вдруг рассмеялась низким грудным смехом. Смех ее показался Асамону неясен. Он бросил на девушку удивленный взгляд и пояснил:
— Это Мегакл. Кое-чему он меня научил.
— Кое-чему, да.
Она отвернулась, но Асамон мог поклясться, что в ее глазах промелькнула легкая насмешка, и смысл ее тоже показался неясен. В разговор, однако, вступать он не стал. Ему не в чем было упрекнуть себя, но в то же время ощущение ее снисходительной правоты, правоты женского всевластного начала не покидало его. Оно существовало вне их, задолго до появления в этом мире любого из смертных, как могучая животворящая сила, и если мальчик в нем еще сопротивлялся ей из детского невинного упрямства, то мужчина склонял с покорностью голову, и уготованное, сладкое рабство грезилось ему землею обетованной.
Неожиданно деревья расступились, и тропа вынесла их на цветущий, прекрасный луг к развалинам древнего святилища. Серые, прямоугольные колонны сурово вздымались среди зарослей дикого инжира, перевитые густо плющом. Кровля давно обрушилась, и только задние помещения храма, вырубленные в скале, зияли пустыми углами, сообщая всему оттенок дикости и запустения. Но сохранился бассейн в боковой части храма. Он был полон хрустально чистой, почти невидимой глазу воды. Неумолимое время пощадило облицовку и само дно, выложенное искусно камнями трех разных цветов в строгую мозаику. Упавшие листья кружились и скользили по поверхности, и это говорило, что вода тут постоянно обновляется и утекает куда-то, не переполняя краев.
Асамон огляделся.
Звенели птичьи голоса среди пронизанных солнцем светлых рощ. Густые, буйные травы были так высоки, что нежные соцветия их скользили, ласкаясь по ногам всадников, а корни и стебли стреножили коней и вынуждали спотыкаться. Все цвело вокруг и благоухало в легких струях эфира под дремотное гудение пчел. Темная зелень миртовых зарослей с белыми цветами. Душистый бледно-голубой розмарин. Ядовито-сладкое дыхание олеандра. Пахучий сельдерей с блестящими темно-зелеными листьями и белыми зонтиками соцветий. Розовый тамариск... В глазах пестрело от великого многоцветья, и густые, дурманящие ароматы трав кружили голову. Асамон обернулся к Хрисе...
Она сидела на Авре, прикрыв глаза, словно прислушиваясь или внимая чему-то, но грудь ее высоко вздымалась, и на губах дрожала странная, незнакомая ему прежде полуулыбка. Когда наконец она обратила к нему лицо, он не увидел зрачков в густой, таинственной синеве ее глаз и своего отражения тоже, как если бы она не видела его вовсе.
Он понял, что дальше они не едут, и сошел с коня, бросая на девушку беспокойные, сумрачные взгляды. Она улыбнулась и протянула руку. Асамон взялся за стремя, чтобы придержать, но Хриса не позволила уклониться. Она мягко скользнула с седла в его объятия. На мгновение он ощутил в ладонях нежную огруглость ее бедер и подвижный, гибкий стан. Ее крепкий живот, словно драгоценная чаша, приник к его животу. Груди девушки ласково коснулись его щеки, и сквозь тонкую ткань, замирая сердцем, он угадал твердую упругость сосца. Кровь разом вскипела в жилах и ударила в голову. Ему показалось даже, что травы вокруг них взялись пожаром. Но Хриса протекла сквозь его объятия, не задерживаясь, и было непонятно, как смогла она это сделать. Один плащ остался у него в руке, забытый, зацепившись краем за стремя.
Он смотрел ей вслед, как она шла. Травы волнами расступались перед нею, словно струи воды, но не никли под ногами, а подымались вновь.
На ней была надета изящная эксомида цвета пламени, сшитая искусно из тончайшего тирренского полотна. Даже легкого движения воздуха было довольно, чтобы ткань всколыхнулась, живописуя очаровательные линии тела многочисленными складками. Солнце свободно сквозило в них, довершая картину.
Хриса обернулась. Он вдруг увидел ее глаза совсем рядом со своими и от неожиданности даже отступил... Таинственная, зовущая синева будто притягивала, вбирала его в себя, и он с лошадьми в поводу покорно двинулся следом, грубо топча траву, спотыкаясь и путаясь ногами в корнях.
Хриса взяла из его руки повод и начала расседлывать Авру. Некоторое время он наблюдал за ее мягкими, гибкими движениями и, зачарованный, не мог оторвать глаз. Наконец, она сбросила наземь тяжелое седло со звякнувшими стременами, подседельник и узкой ладонью ударила Авру по шелковистому, мягко отливающему крупу, отпуская на свободу.
Коракс завистливо заржал над ухом и поддел хозяина мордой, требуя того же.
Асамон спохватился и деревянными пальцами, путаясь в собственных узлах, взялся за упряжь. Хриса помогала ему с той таинственной полуулыбкой, смысла которой до конца он знать еще не мог и только угадывал в тревожных токах крови, в биении сердца и обвальном, пьянящем, многообещающем хаосе ощущений, никогда прежде не испытанных. Ему представлялось, что он стоит перед дивным, загадочным храмом, в котором еще никогда не был, но и сейчас всего лишь топтался робко в преддверии, перед распахнутыми, быть может, створами, не умея и не зная, как туда войти, не осквернив храм своим неуклюжим присутствием.
Он тронул девушку за плечо, чувствуя, что даже простое прикосновение к ней хмелем ударяет ему в голову. Хриса замерла, вздрогнув и выжидая его следующих действий с некоторым даже испугом.
В этом первом его намеренном прикосновении она вдруг угадала не мальчишку, который нечаянно и неожиданно даже для самого себя сорвал дерзкий поцелуй на переправе, но мужчину с его откровенным и грубым желанием. Она угадала это гораздо прежде, чем он сам, и почувствовала внезапный страх, как если бы кроме них, двух забавляющихся подростков, рядом появился кто-то чужой и враждебный и бесцеремонно влез в их игру.
Хотя в том, что чужой появился, есть прежде всего ее собственная вина. Разве не она с изощренной коварностью и лукавством иногда невольно поддразнивала в нем этого чужака? Так любопытные зеваки, окружив клетку с хищником, забавляются, разглядывая страшные клыки, дразнят его, просовывая между прутьями палки, и умудряются даже подергать за усы, пока вдруг кто-то не обнаруживает, что клетка не заперта, и хищник готов выйти наружу.
Асамон почувствовал этот ее страх, но причины не понял и уже не мог остановить себя. Мягким, но властным движением он привлек ее, слабо сопротивляющуюся, к себе и погрузил лицо в густую, непроглядную ночь ее волос, с упоением вдохнул волнующие, таинственные, очаровательные запахи. Его губы с нежностью коснулись ее виска, пылающей щеки, шеи, коснулись недоверчивых, полураскрытых губ, но волосы, обильно упавшие ей на лицо, смягчали его порыв, и он не посмел их откинуть, боясь пробудить то робкое и опасливое чувство, которое еще угадывалось в ней и отторгало его. Он не пытался также удерживать ее чрезмерно, хотя давалось ему это с огромным усилием, но и не ослаблял свои объятия настолько, чтобы она вдруг ощутила свою ненужность, даже неуместность и не прекратила их с тайной обидой. И это тоже была война, как между охотником и добычей, которую он старательно и долго преследует, боясь вспугнуть неосторожным, назойливым движением. Древний инстинкт, вложенный в него изначально, ради успеха подчинял угрюмое мужское хотение разнообразным прихотям и причудливым капризам ускользающего женского начала.
Наконец ему почудилось слабое, совсем еще робкое движение навстречу, и тогда, словно прислушиваясь, с благодарной нежностью он скользнул рукою в густые, темные локоны, губами отыскал ее губы, они отозвались и — испуганно отпрянули в сторону. Но вскоре медленно, виновато возвратились и прильнули вновь с наслаждением и страстью не меньшей, чем та, какую испытывал он сам. Ее прохладные свежие зубы были у него на языке, и вкус их был ему слаще меда диких горных пчел и крепче самого крепкого вина. Ее руки, еще мгновение назад безвольно опущенные, он ощущал теперь на себе, они обвивали его, как дикие побеги плюща влюбленно и буйно вьются вокруг ствола благородного лавра. Ее гибкое тело не отстранялось более, но было податливо и послушно в его руках, и никакие объятия не казались теперь чрезмерными, и никакие прикосновения не смущали их, но требовали страстно продолжения... Добыча была теперь всецело в руках охотника, а может, сам охотник сделался отныне добычею.
Он осыпал ее лицо, плечи пылкими поцелуями, находил ищущие, горячие губы, глаза, и она уклонялась, ускользала, отстранялась, едва ласки становились опасны и начинали кружить ей голову, но тотчас сама возбуждала их вновь и вновь, понимая мерцающим слабо сознанием, что благоразумие покидает их обоих, и уже не было сил сожалеть об этом.
Он опустился перед Хрисой на колени, как если бы ноги не держали его, и прижался пылающим лицом откровенно и страстно к её стройным, замершим в сладком трепете бедрам. Жаркий поцелуй вспыхнул на ее животе сквозь тонкую полупрозрачную ткань, и невыразимое наслаждение ударом копья пронзило все ее тело и заставило содрогнуться. Она покачнулась, но он удержал ее сильно, и губы его горели на ней жаркими цветами, и эти цветы, казалось, прорастали и распускались где-то внутри нее самой — цветы жгучего наслаждения, яркие кровавые розы — цветы Афродиты.
Прильнув бедрами, животом к его лицу, губам, она ощущала страстный трепет, пробегающий по его телу и сотрясающий его; руки, прижимающие ее, силу которых он сдерживал, чтобы не причинить ей боли, но и боль была ей сладка сейчас, и она ждала этого мига, предвкушая, желала, и ее желания опережали его неопытную медлительность, еще более возбуждая и разжигая в ней кровь.
Он медленно скользнул по ней, подымаясь с колен в рост, вжимаясь, растворяясь в ней, и она вдруг почувствовала его — бесстыдно, грубо и обнаженно на своем трепетном животе, но не испугалась, а задохнулась внезапным и темным желанием, вспыхнувшим в крови. Сладостный стон исторгся из ее уст, и она опустилась в его объятиях на поникшую под ними траву, на землю, мягкую от пышного клевера и трилистника, и разметала по ней роскошные волосы. Божественный огонь желания мерцал из-под опущенных ресниц, словно тлеющие жарко угли сквозь бронзовую решетку жаровни... И она приняла его, изогнув стан навстречу и содрогнувшись упруго телом, и принимала с любовью и благодарностью, мешая крик боли и сладострастные стоны, страх с наслаждением...
Глава 12
...Хриса лежала неподвижно, отворотив в сторону лицо, мокрое от тихих слез, рассеянная, и он шептал ей на ухо ласковые слова, которые сами собой в изобилии рождались для нее в его любящем сердце...
Ее прекрасное имя, шептал он, нежит ему слух, будто сладкая мирра вливается в уши. Но возлюбленная много прекрасней своего имени. Лицо у нее, будто светлая луна, и ланиты пылают ярче утренней Эос. Ее губы волнуют, ибо похожи на живые пурпуровые кораллы... На половинки разломленного граната... На лепестки свежих томных роз, едва распустившихся. Ее глаза, густые и синие, напоминают ему чудесные озера, полные влаги, посреди египетской Ливии, а он, бредущий в пустыне странник, истомленный жаждой, с радостью великой припадает к ним, пьет их и не может утолить свою нестерпимую жажду, ибо сгорает от любви. Прекрасны волосы возлюбленной и темны, как бархатная тихая ночь, но каждый волосок в них светится и отливает живым, юным блеском, а все они свиваются в роскошные, сверкающие, пружинящие локоны. Запахи их благоуханны и сводят с ума, пьянят крепче самого крепкого вина, ибо он сгорает от любви. Груди возлюбленной под тонкой тканью трепещут, словно тяжелые кисти винограда под рукой бережного садовника, радующегося их зрелой и сладкой силе, а сосцы поднимают разбегающуюся ткань и торчат под нею, как сторожевые башни под пологом ночи на стенах, но едва коснешься их, и содрогается разом прекрасное тело возлюбленной, и трепет пробегает по нежным членам, и он изнемогает от любви...
Она, вначале с изумлением, затем с радостным ожиданием, внимала его тихому, ласковому шепоту, каждому слову, и слезы скоро высохли у ней на глазах, а слабая, растерянная улыбка то исчезала, то вспыхивала ему навстречу, и румянец удовольствия рдел на щеках все ярче.
Иногда краска стыда заливала ее прекрасное лицо, если слова, сказанные о ней, звучали слишком откровенно, слишком о тайном, и она прятала смущенные глаза у него на плече или закрывала лицо руками и долго не смела отнять их, пока любопытство не пересиливало стыда.
Его дыхание нежно ласкало ей шею, а губы, нашептывая, касались то щеки, то маленькой розовой мочки уха, возбуждая в ней новое желание. Его рука покоилась у ней под грудью, она ощущала сквозь ткань жар его тяжелой ладони, его вновь возникающее желание перетекало и пронизывало ее, а шепот становился сбивчивым, страстным, слова теснились на языке, мешая друг другу и путая нескладную речь...
Они поднялись с травяного ложа другими. Солнце светило слишком ярко. Птичий щебет оглушающим звоном висел в воздухе. Гудели внизу пчелы, и цветочный пестрый луг кружился перед глазами.
Пошатнувшись, Хриса оперлась на Асамона, и они не скоро разняли руки, с изумлением вслушиваясь в себя и в окружающее мироздание.
Асамону вдруг вспомнились вчерашние ее слова, сказанные ночью на Террасе Сокровищниц, и ему показалось, он понял их смысл. «Сегодня,— сказала она,— мне не нужны лишние подозрения». «Почему сегодня? — удивился он, не желая так скоро отпустить ее.— Разве ты не свободна?». «Потому что завтра подозревать что-либо будет уже поздно».
Откуда-то неподалеку доносилось веселое журчание воды, как если бы быстротекущий Эриманф решил не оставлять их наедине и следовал украдкою по пятам.
Асамон вздел оба седла через плечо, повесил торбу, и, взявшись за руки, влюбленные тронулись на шум воды. Они пересекали луг, и цветущие травы осыпали им на грудь в изобилии светлую, оранжевую, желтую и зеленоватую пыльцу, держали их за одежды.
Из тисовой рощи вокруг развалин под ноги выбежала тропа. По ней они углубились в скалы и спустились скоро в живописную расселину, дивясь по сторонам, как удивительна и переменчива бывает природа хотя бы и в двух шагах. Шум воды вблизи превратился в гул. Горный поток, спускаясь с вершин, падал здесь с отвесной стены, покрытой солевыми перламутровыми наростами, и превращался в небольшой водопад. Хрустальные струи разбивались внизу о плоские камни миллионами сверкающих брызг, и яркая радуга висела над этим великолепием столь отчетливо, что, казалось, на нее можно и опереться. Теплый воздух был влажен здесь, и они ступали мягко по колена в пышных, изумрудных мхах, ковром укрывающих даже темные базальты и сыпучие, сухие известняки.
Асамон сложил с себя оба седла и торбу возле огромного, надвое треснувшего камня, так чтобы брызги и водяная пыль не достигали их.
Пока он укладывал сбрую, Хриса скинула с ног сандалии и с простодушием истинной спартанки, чьи нравы не отличаются чрезмерной строгостью или ханжеством, отстегнула золотые булавки с наконечниками из слоновой кости, скрепляющие на плече ткань, сняла пояс, и одежда, струясь, упала к ее ногам. Она переступила через нее и предстала перед ним нагая, с одной крохотной ладанкой на шее, обделанной золотом и цветными каменьями.
Асамон замер в смущении и невольно потупил глаза, так ослепительна показалась ему красота его возлюбленной. Не скоро он осмелился вновь обратить на нее зачарованные взоры и даже гул водопада перестал слышать на время из-за того, что кровь толчками ударяла ему в виски и глушила вокруг все звуки.
Когда он пришел наконец в чувство и оглянулся, то увидел Крису стоящей в бурно низвергающихся со скал потоках воды. Хрустальные струи воды сверкали и переливались на ней расплавленным серебром, а темные волосы, подобно водорослям, трепало неукротимое течение.
Асамон опустился было на седло, намереваясь дождаться конца купания, но Хриса, сияя своей ослепительной наготой, оказалась вдруг подле и, взявши за руку, увлекла со смехом, как он был, упирающегося, в одежде, в самую кипень и грохот и прижалась к нему всем телом, обвивая крепко руками. Вода оказалась ледяною настолько, что поначалу под бешеным ее напором у Асамона перехватило дыхание. Холод пронзил его до самых костей. Но возлюбленная стояла так близко, и так нежны, теплы были ее объятия, что слепая стихия не могла остудить в нем пылающий пламень, но разжигала все сильнее.
Он вынес Хрису из водопада на руках, свежую, холодную и благоухающую. Капли воды дрожали на ней подобно драгоценным кристаллам. Она походила в его руках на созревающий плод, весь озолоченный солнцем, румяный от холодной воды, которая стекала светлыми ручьями с его одежды и с облепивших их обоих тяжелыми плетями ее волос.
Он долго стоял так, держа возлюбленную в объятиях, целуя, и не ощущал в ней веса. Но Хриса сама выскользнула из рук и ступила на землю.
Она чудесным образом переменилась с тех пор, когда Асамон впервые увидел ее на Хоре, на празднике Гимнопедий. Угловатая прелестная незавершенность сменилась за год женственной округлостью линий, не утратив при этом прежней очаровательной грации. Он не увидел у ней на теле ни единого порока, ни единого даже маленького пятна. И любое ее движение, плавный изгиб тела были исполнены для него неизбывного страстного желания.
Словно в солнечных горячих лучах Хриса купалась в устремленных на нее зачарованных взорах возлюбленного и ощущала трепетной кожей их пылкие прикосновения. И это волновало ее, делало еще прелестней, и еще ярче разгорался румянец у нее на щеках, блестели смущенной улыбкой ее жемчужные зубы.
Мягким движением Хриса запрокинула руки и сняла с шеи тонкую, как паутина, золотую цепочку с ладанкой, усыпанной цветными каменьями. Но это была не ладанка, а крохотный флакон искусной работы для заморских благовоний, которые отмеряются покупателю каплями, но оплачиваются обычно золотыми талантами, и даже человеческими жизнями. Этот флакон с его драгоценным содержимым был доставлен прекрасной спартанке из далекой Аравии, из провинции, которая получила прозвание Счастливой благодаря торговле этим редким и дорогим товаром.
Ни в одной другой стране, кроме Аравии, не растут ладан, мирра, кассия и кинамомон. Но все эти благовония, за исключением мирры, аравитяне добывают с величайшим трудом. Чтобы получить ладан, они сжигают стирак, который ввозят в их страну финикияне: ведь деревья, дающие ладан (ладаноносная босвеллия), стерегут крылатые змеи, маленькие и пестрые, которые ютятся во множестве вокруг каждого дерева. От этих деревьев их нельзя ничем отогнать, кроме как курением стирака. Так аравитяне добывают ладан, а чтобы добыть кассию, они обвязывают все тело и лицо, кроме глаз, бычьими шкурами и разными кожами и в таком виде отправляются за ней. Растет она обычно в мелком озере и вокруг него, а в этом озере водятся крылатые звери, очень похожие на летучих мышей и ядовитые. Они испускают громкие крики и стаями нападают на людей, которым приходится отгонять их и таким образом срывать кассию.
Еще более удивительным образом аравитяне добывают кинамомон. Где он растет, и какая земля порождает это удивительное растение, они и сами не знают. По их рассказам, большие, хищные птицы приносят эти сухие полоски коры в свои гнезда, слепленные из глины на кручах гор, куда человеку добраться невозможно. И тогда аравитяне для добывания кинамомона придумали такую уловку. Туши павших быков, ослов и других вьючных животных они разрубают на куски и привозят в эти места. Сваливши мясо вблизи гнезд, они затем удаляются. А птицы слетаются и уносят куски мяса в свои гнезда раз и другой, и третий, пока гнезда, не выдержав тяжести, не обрушатся на землю. Тогда люди возвращаются и собирают добычу.
Но и это была только часть тех веществ, которые составляли содержимое крохотного флакончика. Благоуханные масла десяти сортов — фиалки, лотоса, нарциссов, карликовой пальмы, белого жасмина, лилий, мирты, майорана и померанцевой корки в строго отмеренных долях придавали снадобью тот изысканный аромат и силу, ради которых тысячелетиями брели караваны верблюдов, корабли бороздили просторы морей, гибли люди.
Хриса отняла крышку с вделанным в нее драгоценным камнем, и густая, янтарная цвета капля задрожала у ней на пальце, расточая вокруг тонкий, волшебный запах.
Она провела себя ладонью между грудей, и ноздри ее наполнились сладкой негою. Томная дымка медленно заволокла прекрасные глаза Хрисы. С мерцающей на губах улыбкой она протянула драгоценный флакон возлюбленному, и он радостно вспыхнул, угадывая ее желание. Они молча опустились на изумрудный, пышный ковер из вечнозеленых мхов, и Асамон с бесцеремонным неведением варвара вылил содержимое флакона себе на ладонь. Затем, встав на колена и замирая сердцем, он прижал ее к груди возлюбленной, так что янтарные ручейки, благоухая, поползли из-под ладони в стороны по мягкой, словно лист мастикового дерева, и нежной, как сирийские шелка, коже.
Не желая потерять ни одной капли драгоценного масла, Асамон медленно провел рукою вниз по трепетно вздрогнувшему животу, по упругим, золотистым от солнца бедрам возлюбленной, вокруг тонкой, чувственной талии.
Легкие, скользящие прикосновения его ладони возбудили в ней сладкую истому, а когда он коснулся тяжелых, словно драгоценные чаши с яркими рубинами, замерших в ожидании грудей, крупная дрожь пронзила прекрасное тело Хрисы, и с уст сорвался сладострастный, мучительный стон.
Томясь желанием, Асамон сорвал мокрый после купания хитон и вылил последние капли из флакона на себя. Растер их, чувствуя, как волшебное зелье горячо проникает через кожу в кровь, сладко кружит голову. В помраченном сознании еще скользнула слабая мысль, что едва ли простым смертным подвластно составление таких чудодейственных снадобий, но он не успел додумать начатого. Безумная страсть внезапно обуяла обоих, столь опрометчиво злоупотребивших содержимым флакона, и бросила со стенаниями в неистовые объятия друг друга...
...Сама прекрасная Афродита, должно быть, изощряла их в божественном искусстве любви, в разнообразии ласк и способов, как извлечь наслаждение, не доступное простым смертным. Для того она лишила их рассудка и чувства стыдливости, ибо неопытность их была очевидна. Неистовые ласки влюбленных, должно быть, очень веселили любвеобильное сердце богини, и, распаляя страсть, она тайно внушала прекрасной спартанке все новые и новые из своих удивительных секретов, которые знала, быть может, она одна.
Повинуясь ее коварным советам, Хриса змеею многажды страстно обвивалась вокруг тела возлюбленного. Весенним гибким плющом оплетала его ноги, подобные мраморным колоннам, для него распускала свои нежно-розовые, чудные цветы. Опрокидывалась золотою лягушкой на изумрудной болотной ряске, оглашая сладострастными стонами окрестности. Игривой львицей припадала на колена, с неистовством отдаваясь возлюбленному. Падала на него из поднебесья, как падает ловчая птица на мелькающего по низким кустарникам пушистого лисенка, то превращалась сама в погибающего, но не от страха, а от неистовой любви, весеннего зверя, и страсть ее была столь велика и неукротима, так искусно она возбуждала в возлюбленном все новые и новые желания, что становилась для них обоих погибельна.
Но натешилось, должно быть, лицезрением чужой страсти сердце златокудрой Киприды, и она с улыбкой оставила их.
...Оглушенные, они пали ниц друг подле друга, остывая и медленно приходя в рассудок. Все стыдные подробности коварная память теперь возвращала им одну за одной, и они ужасно смутились вдруг и не знали, как смотреть другому в глаза, с поспешностью отворачивали лица в сторону. Случайно их робкие взгляды, брошенные украдкой, встретились и застыли в испуге, но... лукавый изгиб губ, искра, мелькнувшая в глазах — и они весело враз расхохотались, а затем с удвоенной страстью набросились друг на друга, и теперь уже сама Афродита с изумленной улыбкой могла наблюдать упражнения своих несомненно способных учеников, усвоивших все ее уроки.
...Потом они лежали друг подле друга, нагие, и Хриса возложила на голову возлюбленного лохматый венок из листьев дикого винограда и сонных соцветий пассифлоры. И взялась плести другой из медвяно-сладкого прекрасного лотоса.
— Растения тоже любят друг друга,— шептала она, вдыхая чудесные запахи.— Мне рассказывали, что среди финиковых пальм одни считаются мужскими, а другие — женскими. И вот мужская пальма любит женскую, и, если они растут далеко, дерево склоняется в сторону любимой. Или засыхает от тоски. Опытный земледелец, понимая горе дерева, может излечить его страдания. Он берет черенок женской пальмы и прививает его к сердцу пальмы мужской, облегчая душу растения, и оно оживает, наливаясь соком.
Она посмотрела Асамону в лицо и с тревогой в голосе спросила:
— Почему ты молчишь? У тебя такие печальные глаза.
Он улыбнулся ей.
— Тебе показалось. Но взгляни на этот огромный камень. Видишь, он треснул и раскололся надвое, а из трещины растет плющ и поднимается по дереву все выше.
— Да, но что же тут необычного?
— Камень треснул не сам. Ветер занес в его поры семя плюща. Из семени взялся нежный росток и разорвал глыбу надвое.
— Слабый росток? Но разве такое возможно? — не поверила Хриса.
— У отца каменоломни на севере Аттики, и я однажды был там. Те глыбы, которые не берег кирка, каменщики взламывают, подсаживая семя плюща.
Он взял ее за руку и прижал ладонью к своим губам.
— Я и есть тот злополучный серый камень. А ты...
— А я?
— Ты слабый зеленый росток.
— И поэтому ты печален? Потому что треснул, да?
Асамон рассмеялся, но невесело.
— Ты права, милая Хриса,— несколько помедлив, отвечал он.— Я не сказал тебе всего, о чем думаю, и не потому, что хотел скрыть. Просто я слишком счастлив. Мне трудно выразить это словами, но когда ты ушла, чтобы собрать для венка виноградные листья, эти цветы в твое отсутствие перестали для меня пахнуть. Но мне чудится, нельзя быть всегда таким счастливым. Счастье недолговечно, а такое, как у меня — оно существует лишь для того, чтобы быть вскоре безжалостно разрушенным. Не знаю почему, но во время варварских нашествий и междоусобиц самый прекрасный храм в городе всегда гибнет первым.
Он запнулся, но Хриса не перебивала его.
— Мне не верится, что все это не есть сон и не закончится, стоит мне закрыть глаза.
Хриса запечатлела на его щеке нежный поцелуй.
— О, мой милый, мой возлюбленный! Мы не станем с тобой просыпаться, пусть наш сон длится вечно! — прошептала она, возобновляя прежние ласки и желая отвлечь его от печальных мыслей.
...Много раз еще они наслаждались своей любовью и не могли насытиться ею.
Хриса была щедра и смела в любви, но уже солнце наливалось пурпуровой краской и клонилось к закату, и от усталости под глазами у обоих легли серые тени. Пришла пора трогаться в обратный путь.
Не подымаясь с ложа, Асамон покричал коней. Гулкое эхо разнесло, удесятеряя, его ослабевший от любовных утех, изрядно охрипший голос.
Топот легких копыт известил вскоре, что зов был услышан. Он поднялся навстречу и упал бы, наверное, от слабости, не ухватись вовремя за гриву Коракса. Хриса смеялась до слез, глядя на эти его усилия, но и самой ей понадобилась немалая помощь, чтобы подняться и кое-как утвердиться на безвольно подгибающихся ногах. Так, со смехом, потешаясь друг над другом, они взнуздали Авру, и Хриса с помощью возлюбленного, который, напрягая остатки сил, подсаживал ее снизу, взобралась наконец на лошадиный круп. Но едва она села, оба с изумлением обнаружили, что забыли оседлать кобылу и седло так и осталось лежать на земле.
Это обстоятельство рассмешило их пуще прежнего. Но не успели они отойти от веселья и перевести дух, оказалось, что Хриса сидит на кобыле задом наперед, и вдобавок совершенно нагая, ибо забыла надеть на себя одежду.
Новый приступ веселья оказался столь заразителен, что и Авра не выдержала наконец и с игривостью взбрыкнула задом. Хриса в испуге ахнула и, чтобы не свалиться, ухватилась левой рукой за хвост, под самую репицу. Но смех морил ее, и волосы падали на глаза, мешая видеть. Она откинула их рукою, и...
И Асамон увидел перед собой вакханку!
...Совершенно нагая, она восседала на огромном, взбрыкивающем козле, отлитом из темной меди. Задом наперед, ухватившись одной рукой за нечистый хвост, а другой откидывала с безумных глаз разметавшиеся в полете волосы. Все в ее фигуре дышало пороком и кричало о неприличии. Чрезмерные груди вразлет с торчащими сосцами. Бедра, лишенные девичьей стройности из-за чрезмерных возлияний. Расплывшийся зад, открытый в прыжке для нескромных взоров во всех сокровенных подробностях. В ее распущенности в непотребстве мгновенно угадывалось животное упоение жизнью, ее мимолетными радостями, пусть даже весь мир обрушится в Тартар!
Пандемос Афродита...
Асамон отшатнулся, но немота затворила изумленный возглас еще в груди, будто в клетке, а неподвижность сковала на мгновение все его члены.
Словно со стороны он услышал свой хриплый, неискренний смех. И замолчал, нахмурясь. Но тотчас, желая скрыть от Хрисы свое состояние, поспешил заняться торбой. Развязал горловину и выложил на камень скудный припас, захваченный им впопыхах в дорогу: ячменную лепешку, кусок козьего сыра и пригоршню сушеных фиников. Поделил весь припас на две равные доли. Но не спешил обернуться. Великая смута поселилась у него в сердце, порожденная вдруг ужасным подозрением. Многое из того, что прежде казалось ему неясным, теперь находило свои объяснения...
Асамон вспомнил короткий разговор между ними, когда он попытался объяснить Хрисе, что такое кийяфа. Некоторое время она молчала и вдруг рассмеялась грудным, низким смехом. Он бросил на нее удивленный взгляд и пояснил:
— Это Мегакл. Кое-чему он меня научил.
— Кое-чему, да.
Она отвернулась, но Асамон мог поклясться, что в ее глазах промелькнула лукавая насмешка, и смысл ее тоже показался ему неясен. Но теперь — он готов был провалиться от стыда. Слишком явные признаки во множестве были расставлены на его пути, чтобы он, познавший древнее искусство кийяфы, ничего в них не разобрал.
Вчера на Террасе, когда он остался один, он обнаружил вдруг, что не в силах вспомнить ее, хотя угадал бы тотчас присутствие Хрисы в тысячной толпе. Ее волосы переливались серебром и незаметно перетекали в ночь и были продолжением той чудной ночи. Теплом ее узкой ладони дышали нагретые за день камни. Ее тихим голосом, ее шепотом шелестели из темноты древесные кроны. Она не просто ушла, а исчезла, как исчезает шлейф дыма, изорванный в клочья порывами ветра, а он не мог проследить ее даже взглядом. Она продолжалась для него вся во вселенной и не имела той целости в восприятий, прекрасной и очаровательной законченности, как обычная смертная женщина.
Теперь она сама открыла ему истинное лицо, и, стало быть, все с самого начала было только игрою с ее стороны — робкое томление, краска стыда на смущенных ланитах, девичий трепет и вскрик боли, первый сладкий стон? Опытная блудница, изощренная в искусстве любви, она исхитрилась изобразить перед ним невинность, чтобы с тем большим сладострастием предаться безудержному, бесстыдному, неистовому прелюбодеянию, какого простой смертный вынести не в силах и если останется жив, то «...живой между смертных жить остается, силы лишенный. Ведь силы навеки теряет тот человек, кто с бессмертной богиней ложе разделит...»
Асамон обернулся.
Хриса показалась ему еще прекраснее. Она восседала на Авре с неподражаемой, божественной грацией и с любопытством, молча наблюдала за ним сверху вниз. Нежность охватила его сердце, и он на миг усомнился в своих подозрениях. Пусть, кто бы она ни была. Он благодарен ей за этот щедрый дар и никогда ни о чем жалеть не станет.
Жестом Асамон предложил разделить с ним трапезу, и Хриса с готовностью протянула ему руку...
Обратный путь они проделали в молчании. Их кони летели по дороге во весь опор, как две чернее молнии, на красный, в полнеба полыхающий закат. На въезде в Олимпию, огибая лощину вдоль склона холма Кроноса, Асамон придержал стремительный бег скакуна и повернул голову. Авра бежала рядом, но седло...
Седло было пусто!
В смятении Асамон осадил Коракса, подняв круто на дыбы, и повернул в обратную сторону, до того места, где видел Хрису в последний раз. Но дорога была пустынна, и он наконец оставил поиски.
Едва держась в седле от внезапно навалившейся усталости, он кое-как добрался до конюшни и сдал коней попечениям рабов. Со стороны гипподрома доносился грохот колесниц и рев многотысячной толпы, но силы оставляли его, и он готов был свалиться здесь же, на охапке душистого сена, однако успел вовремя сообразить, что едва состязания закончатся, на конюшне начнется столпотворение, и ненароком, спящего, его могут попросту раздавить. Покои отца в Притании — самое тихое место, где он сможет наконец забыться спасительным сном.
Собрав остатки сил и с трудом волоча ноги, Асамон побрел в сторону Пританея. Но не успел он сделать и десятка шагов, как сзади его окликнули:
— Господин!
Он обернулся. Зеленоглазая фракиянка спешила за ним, направляясь от ворот конюшни. Лицо девушки показалось ему встревоженным.
— Гелика? В чем дело?
— Господин, я разыскиваю тебя весь день. С утра. Госпожа очень беспокоится, не случилось ли худого? И постоянно посылает меня.
Асамон встрепенулся.
— Ты... ничего не путаешь?
— Путаю?
Фракиянка явно не понимала его, и он жестом просил продолжать.
— Госпожа велела передать тебе, она очень виновата и просит прощения, что не смогла быть утром в назначенном месте. Ее вынудили к этому обстоятельства. Но она сама все расскажет, если господин не сердится и готов быть завтра в том же месте.
— О боги!
Асамон отшатнулся, как от удара. Но видя, что Гелика смотрит на него с недоумением, даже с опаской, с трудом взял себя в руки.
— Да, конечно... Завтра.
И, не добавив больше ни слова, ни о чем не спрашивая, повернулся прочь.
Глава 13
Вечер. Святилище Деметры Хамины — словно пронизано насквозь красноватыми солнечными лучами. Оно венчало собой невысокий, в каменистых осыпях холм, вдоль подножия которого на четыре олимпийских стадия протянулся гипподром. Одним своим концом олимпийский гипподром упирался в галерею Агнапта, другим — в каменистый, плоский берег реки Алфей. Четвертая, самая длинная сторона гипподрома — земляная насыпь — тянулась параллельно склону холма и ограничивала дромос, место бега, в виде неправильного, вытянутого в длину четырехугольника.
Напротив левого конца галереи Агнапта в дни игрищ дымился жертвенник Аресу Покровителю коней, на другом конце таких же размеров — жертвенник Афине Покровительнице коней. От этих жертвенников цепью протянулись стойла, одно чуть впереди другого, образуя перед галереей Агнапта прямой угол, острие которого было направлено к дромосу. Обе стороны угла содержали по двадцать стойл, и каждое стойло свободно вмещало по две колесницы. Посреди этого треугольника, который назывался Корабельным Носом, каждую олимпиаду элейцы, устроители состязаний, воздвигали из необожженного кирпича жертвенник Посейдону Покровителю коней и снаружи обмазывали золой. На краю жертвенника, углом подняв плечи и словно готовясь взлететь, восседал бронзовый орел.
Рядом с жертвенником Посейдона располагался другой, меньших размеров, жертвенник Гере Покровительнице. А перед галереей, посреди колоннады, поддерживающей ее свод, был сооружен алтарь братьям Диоскурам. Еще два жертвенника на территории Корабельного Носа находились в самом острие угла. Это жертвенник Доброго пути и жертвенник нимфам Алкменам Цветущим.
Над гипподромом, подобно гулу морского прибоя, возбужденный говор многотысячной толпы зрителей, конское ржанье, окрики, хлопанье бичей... И резкий голос трубы, оповещающий о конце бега. Контрольную полосу одна за другой вихрем пересекали верховые лошади. Наездники в коротких хитонах круто осаживали их и гарцевали на месте, пытаясь унять разгоряченных скачкою лошадей, роняющих хлопья пены. Другие торопливо спешивались и укрывали своих скакунов попонами.
Тем временем к состязаниям готовились колесницы. Издалека Корабельный Нос напоминал растревоженный муравейник. Двое обнаженных рабов, взявшись за дышло, катили за собой богато изукрашенную, сверкающую медными поручнями колесницу. Чей-то возничий нес на голове аккуратно уложенную упряжь, и длинный, витой бич, брошенный через плечо, волочился далека сзади, извиваясь, словно гадючий хвост. Другой возница на пару с помощником гонял по кругу заартачившегося жеребца, а жеребец, наливая кровью глаза и бешено всхрапывая, вставал на дыбы или рвал в сторону. Некоторые хозяева самолично участвовали в подготовке своей колесницы к бегам. Они отличались от остальных богатой одеждой и благородством осанки, их голоса звучали тверже, походка уверенней, но приказы, которые они отдавали, их возницы выполняли по-своему. Рабы, приставленные к лошадям, тоже покорно склоняли головы и ели хозяина глазами, но делали то, на что указывал возница, а хозяину лишь докладывали об исполнении.
Возле стойл показалась суетливая фигура Дамасия. Как и прочие хозяева колесниц, он был богато одет, на его ногах рдели пурпуром красные сандалии, роскошный гиматий был небрежно обернут вокруг плеча. Дамасий явно кого-то разыскивал, заглядывал по очереди в каждое стойло. Там, меж коней, заметив чью-то спину, он терпеливо ждал, пока тот не обернет к нему свое бородатое лицо. Увы, не то! Дамасий с поспешностью отводил глаза в сторону и шел дальше.
На земляной насыпи, напротив дальней меты, обозначающей место поворота, стоял Ужас Коней, или Тараксипп. В Олимпии он имел вид круглого, ничем не примечательного жертвенника. Но когда колесницы проносились мимо, коней без видимой причины охватывал сильный страх, они приходили в смятение, колесницы сталкивались, опрокидывались, калечили возниц.
К этому жертвеннику, сильно прихрамывая на своей деревяшке, приближался седовласый возница по имени Превген, один из тех, кому предстояло участвовать сегодня в состязаниях колесниц. Бронзовое от солнца лицо его было сосредоточенно, он остановился и долго стоял так перед Тараксиппом с опущенными руками. Затем медленно и осторожно опустился на колено, неловко отставляя правую ногу с деревяшкой в сторону. Левой, вытянутой рукой он коснулся собственного колена, а правую положил на грудь к горлу, что у греков означало мольбу.
— Тараксипп,— хрипловатый голос Превгена прозвучал глухо и строго.— Отцом твоим тебя заклинаю... Ты тоже был возничим когда-то. Не вреди мне. Не пугай коней. Ход не сбивай. Что тебе пользы в том? Ты слышишь? Здесь из-за тебя я уже потерял ногу. Доколе можно? Оставь в покое меня.
Возничий Превген опустил седую голову на грудь и так стоял неподвижно, словно ожидая ответа. Потом неторопливо, ибо боги и герои не любят, когда к ним обращаются всуе, он вытащил из-за пояса нарядный арапник и возложил к подножию жертвенника.
— Прими это.
Опираясь руками оземь, возница неловко поднялся с колен и двинулся прочь.
Много разных мнений существовало о Тараксиппе. Одни считали, что это место — могила местного уроженца Оления, превосходного наездника. По его имени также названа в Элиде Оленийская скала. Другие, что это могила Дамеона, сына Флиунта, участвовавшего с Гераклом в походе против Авгия и элейцев. Сам он и его конь были убиты тогда, согласно преданию, Ктеатом, сыном Актора, и могила эта является одновременно могилой для Дамеона и для его коня.
Говорили также, что в этом месте Пелопс насыпал пустой погребальный холм в честь Миртила и приносил жертвы ему, надеясь смягчить гнев царского возничего за убийство. Он и назвал его Тараксиппом, Ужасом Коней, потому что, благодаря хитрости Миртила, кобылы Эномая в этом месте испугались и понесли. По другим рассказам, сам Эномай приносит несчастье едущим на лошадях по дромосу. Но далеко не все разделяли и это мнение, а подобное обвинение возводили на Алкафа, сына Порфаона, убитого Эномаем за его сватовство к Гипподамии и погребенного здесь. Алкаф, утверждали они, не имел счастья на дромосе и поэтому стал злобным по отношению к наездникам, злым роком.
Известно также мнение некоего египтянина, служителя при оракуле Аммона в Ливии. По его утверждению, Пелопс получил от фивянина Амфиона какую-то вещь, чудодейственного свойства, и зарыл ее в том месте, где ныне Тараксипп, и от того, что там было зарыто, испугались лошади у Эномая и перевернули колесницу. С тех пор они пугались у всех. Этот египтянин утверждал, что Амфион, как и фракийский Орфей, был могучим магом, и что на песни к Орфею сходились дикие звери, а к Амфиону — камни, из которых он воздвиг стены Фив. Поэтому Тараксипп — дело рук Амфиона.
Однако большинство из тех, кто рассказывал про Тараксиппа, считали это прозвищем Посейдона Гиппия, Конника, потому что на гипподроме в Истме тоже имеется Тараксипп и тоже наводит на коней страх, а в Немее, в Аргосской области, никогда не было героя, который вредил бы едущим, но скала, поднимающаяся у самого поворота ристалища, красного цвета, блестящая, как огонь, внушает страх лошадям, и значит, это общее свойство во всех подобных местах.
Но Тараксипп в Олимпии много зловреднее прочих и гораздо больше пугает лошадей. В этом мнении сходились все без исключения местные жители.
...С двумя жеребцами в поводу на территории Корабельного Носа появился Главк, молодой, но уже многоопытный возница. На нем, как и на остальных, надет тонкий, до пят, хитон, через плечо на перевязи — широкий нож и хлыст.
Многочисленные складки одежды изящно подчеркивали его гибкую, сухую фигуру. Главк заметил Дамасия, и лицо его сделалось угрюмым. Оглянувшись по сторонам, Дамасий с озабоченным видом поспешил ему наперерез и остановился, делая вид, как будто уступает дорогу.
— Наш уговор... Ты помнишь? Я плачу тебе шесть мин серебром... Две рабыни. Целых шесть мин,— скороговоркой зашептал Дамасий.— Мой возница, ты знаешь его... Ксенарх. Ты должен уступить.
Главк угрюмо кивнул и отвел глаза в сторону. Оба жеребца, гнедые, в белых чулках, с длинными эластичными бабками и шелковистой, короткой шерстью, словно во сне, проплыли перед Дамасием. Он с досадой и завистью проводил их взглядом и, расстроенный, отправился к стойлу, где Ксенарх и двое рабов запрягали его колесницу. Здесь Дамасий с наслаждением сорвал досаду на рабах.
— Бездельники! Дети свиньи и обезьяны... Они все еще копаются! Не-ет, они разорят меня... Что? Собака вонючая!
Дамасий поднял плеть, чтобы еще раз вытянуть безмолвного раба вдоль спины, но внезапно пыл у него прошел, и он с ворчанием обернулся к Ксенарху.
— Где пристяжные? Почему не ведут? — Он внезапно задумался и, вспоминая, с досадой пощелкал языком.— Ах, какие кони... Какие кони! Ливийцы, чистокровные ливийцы!
Ксенарх перебил его мысли.
— За пристяжными я послал, хозяин. Ведут.
Через два стойла от них из третьего вышел возница и взялся подвязывать своему жеребцу хвост под самую репицу. На голове возницы жгутом был стянут белый платок; длинный, крючковатый нос, крепкие челюсти делали его похожим на хищника.
Дамасий тотчас дернул Ксенарха к себе и ткнул в сторону возницы арапником.
— Ты знаешь, кто эта разбойная рожа? Это Кревга, трижды будь проклят он и его семя. Он режет нос, вот так... перед самой метой,— Дамасий изобразил на руках, как одна колесница режет нос другой.— Колесо в столб и все. Конец. Стереги, не дай обойти на повороте, иначе, о боги! — он закатил глаза.— Иначе конец. Я видел не раз...
— Я знаю Кревгу, хозяин,— не слишком учтиво перебил Ксенарх и повернулся к нему спиной.
Со стороны конюшен показались двое рабов с пристяжными. Ксенарх издали взглянул на них, но внезапно, нахмурив брови, двинулся навстречу. Один из жеребцов явно прихрамывал. Дамасий, еще не понимая толком, в чем дело, поспешил следом. Но возле жеребцов хромота сразу же бросилась ему в глаза. Он с воплями оттолкнул Ксенарха, ударил наотмашь раба и сам, напрягаясь, потянул жеребца за недоуздок, пытаясь разглядеть, на какую ногу жеребец хромает.
— Собаки, дети шакалов, я выколю вам глаза! Всем, всем! Подлецы, что они со мной делают?.. Левая пристяжная, лучший мой жеребец, о боги, охромела!
Ксенарх хмыкнул на хозяина и начал со тщанием осматривать левую заднюю. Его пальцы заботливо ощупали бабку, сухожилия. Сзади, разом вспотевший, всклокоченный, задышал в спину Дамасий. Ксенарх взялся за копыто, поднял лошади ногу. Все в порядке, но копыто было горячее.
— Копыто горячее, хозяин.
— О боги!
Пальцы Ксенарха поднялись до колена, выше... Дамасий, не выдержав, подскочил вновь к рабу и взмахнул плетью.
— Грязная тварь, живо на конюшню. Авру сюда! Запорю!!
— Не нужно, хозяин. Вот она.
На внутренней стороне бедра, почти в паху, пальцы Ксенарха нащупали твердую головку. Он потянул, и в пальцах у него оказалась длинная, почти в три дактила, медная игла. На шерсти выступила капля крови. Дамасий схватился за голову.
— О! Кто это? Кто мог?! — мимоходом Дамасий вырвал у Ксенарха иглу и сунул рабам под нос.— Кто? Кто подходил? Когда? Где были вы, скоты? Ну?!
Один из рабов, посмелее, мотнул головой.
— Не знаю, хозяин.
— О боги, эти скоты,— они разорят меня! Может, ты сам воткнул, а? Ну?
— Нет, хозяин.
Ксенарх тронул жеребца за недоуздок. Хромота исчезла.
— Все в порядке. Злее будет.
Он ласково потрепал жеребца по храпу, и тот признательно потянулся к нему губами.
— Ну, ну.. Балуй!
— Но кто, кто? Когда?! Клянусь Зевсом, я посажу его в яму! Сгною!
— Загнать иголку в мышцу можно мимоходом. Но дело не в том. Тебя считают за серьезного соперника. Так всегда бывает.
— Гм? Это да, конечно. За серьезного... А что, Ксенарх? Как ты, того... Хороши ли у меня лошади, а?
— Лошади хороши,— рассеянно отвечал Ксенарх, заводя пристяжных в стойло.— Таких здесь не много.
— А чем же они хороши, по-твоему? — самодовольно продолжал Дамасий, но, так и не дождавшись ответа, выглянул из стойла наружу, с подозрением оглядывая всякого, кто попадался ему на глаза.
Громкий, жизнерадостный смех привлек его внимание. К пусковому барьеру приближалась группа афинских молодых аристократов. Все они были роскошно, по-праздничному одеты, но среди них тотчас выделялся фигурой и осанкой великолепный Менесфей, сын Кимона. Он на голову казался выше других, черные волосы свободно падали кольцами вокруг крепкой шеи, с его плеча роскошными складками ниспадала хламида, схваченная на плече огромной золотой фибулой. На ногах юноши красовались высокие котурны для верховой езды, тоже отделанные золотом; следом двое рабов с двух сторон вели под уздцы его великолепного вороного скакуна, отливающего мягкой синевой.
Ксенарх тоже, заслышав смех, оторвался на мгновение от лошадей и повернул голову.
— Ты знаешь, кто этот молодчик? — ухмыльнулся Дамасий.— Любимец богов Менесфей, побочный сын самого Кимона. И я, хе-хе, догадываюсь, чего он добивается. Он претендует на архонтство в Афинах, а чтобы набить себе цену, ему нужна победа здесь, в Олимпии...
Голос трубы оборвал его слова. Дамасий прикрыл глаза и молитвенно вскинул руки к небу, забыв, что в правой руке у него арапник.
— Все готово, хозяин. Можешь проверить.
Ксенарх повязал на передней скобе вожжи и отошел в сторону. Дамасий деловито оглядел всю упряжку, слазил жеребцам под брюхо, подергал подпруги, ощупал серебряные бляхи и нагрудники, пнул пару раз в ступицы и пошатал чеки. Все было как нельзя лучше.
— Мда, да, да...— довольно повторял он.— Конечно... И сколько же колесниц нынче будет? Много ли?
— Около полусотни, хозяин.
— Гм? Да, да...
Дамасий благоговейно погладил блестящие скобы и, наконец, взгромоздился на колесницу. Глаза его загорелись, он чуть присел на ногах, как при быстрой езде, и даже взмахнул арапником, но тотчас сник с лица и с помощью Ксенарха спустился обратно на землю. На глазах у Дамасия блестели слезы завзятого, но уже ни к чему не способного лошадника.
Снова звенит труба...
Бронзовый орел на жертвеннике Посейдону Покровителю коней медленно поднялся над жертвенником, расправляя тяжелые крылья. Одновременно с ним нырнул и ушел в землю бронзовый дельфин, укрепленный на столбе в самом острие Корабельного Носа. Шум на гипподроме усилился, зрители, стоя, ревом и свистом выражали свое нетерпение. Дамасий, все еще растроганный, прижал Ксенарха к себе.
— Да помогут тебе боги, Ксенарх.
При звуке трубы веревка, натянутая перед крайним стойлом пускового барьера, упала, и первая колесница, тускло сияя в лучах вечернего солнца, выкатила на стартовую полосу и остановилась подле поворотной меты. Глашатай громовым голосом провозгласил имя владельца лошадей. На другом конце гипподрома эхом дважды его слова повторили другие глашатаи.
— Ампик, сын Пелия из Эгины, владеет колесницей. Возничий Симон!
Упала веревка перед вторым стойлом, и следом за первой колесницей выкатила вторая, становясь рядом.
— Андрокл, сын Кодра из Эфеса, владеет колесницей. Возничий Фрадмон!
Поднялся на колесницу Ксенарх, взял в руки вожжи, стрекало и обернулся к хозяину...
Поднялся на колесницу Главк...
Седовласый возничий неловко взобрался на колесницу, неловко просунул свою деревяшку в ременную петлю и укрепил ее в специальном гнезде на дне кузова.
Уже более половины колесниц, запряженных четверками лошадей, выстроились на старте. Обычно наибольшее число зрителей скапливалось на склонах холма и на насыпи напротив поворотных мет, а также напротив финишной полосы. Именно на этих участках гонки протекали в самой опасной и жесткой форме.
Проводив Ксенарха, Дамасий оказался вскоре в густой толпе зрителей. Проталкиваясь вперед, он опытным взглядом выискивал среди прочей публики равных ему по имущественному положению, пока не столкнулся нос к носу с плотным, веселым афинянином, своим знакомцем.
— Гей, Дамасий! Идем, идем, ты весьма кстати... А славные нынче будут гонки, ха-ха-ха! Ба! Да ведь у тебя самого колесница, и ты, верно, на Ксенарха ставишь? А? Ха-ха! — смеясь, он почти насильно увлек Дамасия за собой.
— Э, нет! Нет! На Ксенарха, нет... Ежели победит, с меня и того довольно,— отмахнулся Дамасий.— А вот когда б на Кревгу, а?
— А на твоего Ксенарха две ставки уже, почтеннейший. Твоя третья,— не расслышал знакомец.
— Да ведь я на Кревгу!
— Что?
— На Кревгу!
Вот уже все колесницы покинули стойла пускового барьера и выкатили на стартовую полосу. Лошади нетерпеливо стригли ушами и, предчувствуя скачку, наиболее горячие тянули вперед, несмотря на усилия возниц сдержать их. Громкими криками и ударами педотрибы заставляли лошадей спятиться и долго выстраивали всю шеренгу в одну прямую линию. Наконец все замерло в напряженном, томительном безмолвии в ожидании стартовой трубы.
Труба звенит...
Разом все до единой пятьдесят колесниц сорвались с места и с грохотом под дружный рев толпы устремились вперед. Вначале разобрать что-либо было трудно. Сбившись в кучу, плотная масса — люди, лошади, колесницы лавиной мчались по гипподрому, быстро уменьшаясь в размерах. В этой массе каждый пытался занять наиболее выгодное место на внутреннем коротком круге, оттеснить, выдавить соперников наружу. Громкие, яростные крики, возницы стрекалами подкалывали лошадей, своих и в особенности чужих. Окрестности вздрагивали от тяжелого гула и топота сотен копыт. Вдоль оси бегового поля протянулся невысокий каменный барьер, разделяющий гипподром на две половины, и один за другим на равном расстоянии стояли три каменных столба с предупредительными надписями:
«БУДЬ РЕШИТЕЛЕН»
«СПЕШИ»
«ПОВОРАЧИВАЙ»
Промелькнули столбы, и вот уже близится, нарастает поворотная мета, однако масса, слитая воедино, не в силах сдержать инерции — лошадиные морды сзади едва не ложатся на плечи впереди идущих возниц — вся эта масса пронеслась мимо меты и, словно вихрем разметанная, рассыпалась в пространстве за метой. Возницы запоздало осаживали коней и, яростно озираясь на соперников, налегали на вожжи, выворачивая на второй конец.
И только трем колесницам, волею жребия еще на старте удачно занявшим внутренний круг, удалось обогнуть вплотную возле самой меты и прежде всех начать бег в обратную сторону. И впереди всех, подобный вихрю, мчался великолепный Менесфей, любимец богов, чей жребий, как всегда, оказался счастливее прочих. Все видели, все зрители, как мощно посылал он своих коней вперед, стремясь увеличить, и как можно больше, разрыв между собой и основной массой разъяренных соперников. Ему удалось это. Он успел покрыть почти половину второго конца, когда из проворных самые проворные еще только разгоняли свои колесницы, набирая скорость.
Свист, вой, невообразимые, поднялись над гипподромом. Симпатии всех были явно на стороне великолепного Менесфея, ибо он, в отличие от богатых людей, владеющих колесницами, не доверил ее в чужие руки, а сам, положась на благосклонность богов и свое искусство в ристаньи, вышел на дромос.
Легка, стремительна рысь вороных коней Менесфея, сына Кимона. Как будто они не бегут, а летят над землей, незаметно в одно касание отталкиваясь копытами от каменистой почвы гипподрома. Все их движения рассчитаны на «вперед», и только вперед, и, если поставить на круп любого из рысаков Менесфея кратеру, до краев наполненную вином, ни одной капли не расплещут они от меты до меты.
Ветер тугой струей, словно рукой, упирался в широкую грудь гордого аристократа. Реяла, всхлопывая широким крылом, за спиною хламида... Менесфей на ходу обернулся и натяжкой вожжей придержал стремительный бег колесницы. Теперь, когда разрыв обеспечен, и до ближайших соперников расстояние почти в стадий, важно хранить эту дистанцию, и пусть они, его соперники, изматывают друг друга во взаимной борьбе.
Задние колесницы, рассеянные на повороте, теперь, кое-как развернувшись, группами и поодиночке устремились следом за Менесфеем. Но многих этот его рывок, славно вино, ударившее в голову, напрочь лишил разума. Яростными криками, ударами палок они нещадно погоняли своих коней и, распустив вожжи, посылали и посылали их вперед, пытаясь сократить разрыв. Однако все это приводило лишь к тому, что колесницы, только-только получившие было свободу для тактической борьбы, вновь начали сбиваться в неповоротливую, инертную массу. Наиболее опытные из возниц давно уже поняли это, но, сделав было попытку оторваться и рассеяться по полю, вновь были настигнуты теми, кто потерял голову и что было мочи погонял теперь своих коней, выжимая все, на что они способны, лишь бы достать Менесфея.
Масса становилась все плотнее, и лишь некоторые из возниц, пока не поздно, пытались придержать своих лошадей, вырваться из этой кучи, иначе все повторится, как в первый раз: колесницы опять промчатся мимо меты, потеряют в скорости, и великолепный Менесфей без труда увеличит разрыв еще на стадий. А это в руках такого возницы, как он. уже победа. Даже и сейчас не трудно представить этого аристократа, шагом пересекающего финиш под одобрительный хохот зрителей ввиду большого отрыва от соперников. О боги!
В общей лавиноподобной массе невольно притягивало взоры злое, хищное лицо Кревги. Перегибаясь всем туловищем, рискуя опрокинуться вместе с колесницей, он налево и направо подкалывал стрекалом чужих лошадей, плашмя бил возниц.
— Рассыпаться, шакалы! К-куда?! Рассыпаться всем! Заколю-у!!!
Но ни крики его, ни удары ни к чему не приводили, придержать своих лошадей тоже невозможно, иначе лавина колесниц сзади смешает его с землею. А между тем близился, близился поворот...
Прозвенела труба.
Это значило, что первый круг пройден. Менесфей на полном ходу осадил левого пристяжного, а правого, совершенно попустив вожжи, погонял криком и ударами хлыста. Его колесница, описав ступицей крутую дугу вокруг камня, скрылась на миг в туче поднятой пыли и, стремительно развернувшись, ушла на второй круг. Впереди у него было еще одиннадцать кругов, двадцать два поворота.
Ксенарх, быстро оглядевшись по сторонам, тотчас понял: кризис назрел. Проскочить как первый раз мимо меты — это значило потерять всякую надежду на победу. Все, у кого оставалась голова на плечах, думали сейчас об этом и только об этом. А из опыта Ксенарх давно уже знал, что такие вот ситуации разрешались единственно кровью, и сейчас, несмотря на бешеную скачку, он внимательно следил за соперниками, отыскивая источник опасности.
Краем глаза Ксенарх отметил, как из-за его спины слева начали быстро выдвигаться вперед морды четырех караковых жеребцов, и вот уже возница... Горячие, черные глаза, легкий пушок на румяных щеках, разинутый в крике рот. В том же бешеном темпе караковые жеребцы обошли Кревгу, вырвались на корпус вперед. Оставалось что-то около пяти-шести колесниц перед ними. Вот она, эта опасность!
Ксенарх перехватил испепеляющий взгляд Кревги, брошенный в сторону молодого возницы, и, разом догадавшись, сильно послал своих лошадей вперед, пристроился к Кревге с правого боку, сзади. И вовремя.
За сотню шагов до меты безбожник Кревга выровнял свою скорость со скоростью караковых жеребцов и начал выходить слегка вперед. И уже перед самой метой его колесница рывком подалась влево, наперерез, а левая пристяжная, запрокинув голову, мощно протаранила грудью, боком каракового жеребца. Сильный удар стрекалом, звериный рев Кревги довершили таран. Жеребец, вздыбившись, шарахнулся круто влево, и вся упряжка, разом одичалая, на полном ходу налетела на столб...
Вопль ужаса пронесся над гипподромом.
Ксенарх вслед за Кревгой успел проскочить и возле самой меты вывернуть коней на другой конец. Что там сзади, понять было трудно. В тучах поднятой пыли вздыбившиеся кони... Ржание, крики... Мелькнуло по ту сторону каменного барьера мимо хмурое лицо Главка. Это несколько удивило Ксенарха, но раздумывать не приходилось. Следом за ним, кажется, удалось проскочить еще одной колеснице. Так и есть... Одноногий.
То, что творилось возле меты, напоминало сущее столпотворение. Вздыбленные кони, перевернутые колесницы, обломки, простертое в пыли под копытами тело. А мимо с грохотом проносились одна за другой колесницы, мелькали вперемешку со спицами лошадиные ноги. Наконец затих вдали гул копыт, и теперь только по облаку пыли можно было определить стремительный бег удаляющейся лавины. Вслед за нею по гипподрому далеко и бесконечно долго катилось четырехспичное колесо, словно не желая отстать, и, вихляясь, упало, обессиленное. Две лошади вскачь несли поперек поля разбитую, перевернутую колесницу... А с насыпей к месту столкновения уже спешили на помощь служители и доброхоты из числа зрителей.
Толпы людей сбились возле неширокого прохода, именуемого здесь Калиткой Печали. Зрелище выглядело ужасным. Двое рабов под руки волочили с поля возницу с разбитой в кровь головой, в изодранной одежде. Тяжко повисшее на их плечах тело опоясано обрезками вожжей, поникшая, бессильно моталась голова, ноги едва переступали, а большей частью просто тащились волоком по земле. Еще четверо рабов пронесли на шкуре другого. Мертвое, раздавленное под колесами тело опознать уже невозможно, так оно обезображено. С поля спешно убирали все, что можно успеть убрать. Два мула тряской рысцой тянули за собой волоком лошадиный труп. Доброхоты крючьями растаскивали по одному, по два искореженные кузова, лопнувшие колеса, дышла. Верховые гонялись за конями, потерявшими своих возниц.
На поворотном столбе сиротливо повисли забытые в спешке обрывки упряжи, единственное, что напоминало теперь о недавнем столкновении.
И вновь мгновенно налетела, навалилась конная лавина. В уши ворвались грохот, топот копыт, тяжкий храп, гул ожесточившейся скачки. Замелькали мимо зрителей лоснящиеся от пота конские крупы, ноги, сверкающие красной медью колесницы, чернели раззявленные в яростном крике рты.
Очередной сигнал трубы оповестил, что еще круг остался позади. Одна за другой, едва не опрокидываясь, колесницы разворачивались вокруг меты и уносились прочь. Но впереди всех по-прежнему колесница Менесфея, сына Кимона. Он словно плыл по пояс в неуспевающей оседать пыли, мелкие камни из-под копыт его коней щелкали по стенкам и днищу кузова. Тем, кто сзади, приходилось много хуже: они глотали пыль, поднятую впереди идущей колесницей, и часто теряли представление о том, что творится на дромосе.
За Менесфеем на опасном расстоянии по-прежнему держались две колесницы, волею жребия попавшие в лидеры и сумевшие сохранить за собой преимущество. Еще дальше те, кто несмотря на опыт и бесспорное искусство в конном ристаньи был принужден в жестокой борьбе отвоевывать свое право на победу. Впереди Кревга, сзади на плечах у Кревги висел Ксенарх, и следом за ними шел Одноногий. Остальная масса, словно отрубленная ударом исполинского меча, оказалась много сзади.
Улучив момент, Одноногий сильно послал своих коней вперед, обошел Ксенарха, Кревгу и, пытаясь привлечь внимание обоих, звучно хлопнул бичом. Все трое понимающе переглянулись. Одноногий сделал длинный жест рукой и с согласия соперников вышел вперед. Остальные двое пристроились ему в хвост, сбоку... Союз был заключен. Главное теперь — сообща достать Менесфея, никаких козней друг против друга. И более того, гонка в одиночестве не то же самое, нежели когда соперники «тянут» один другого.
Поворот...
Все трое один за другим четко вывернули коней на другой конец и заметно прибавили ходу. На насыпях скоро заметили эту редкостную на дромосе согласованность действий, и, как это часто случается, симпатии зрителей целиком перешли на их сторону. А счастливчику Менесфею, любимцу богов... Пусть ему аплодирует своенравный Олимп. Зрители мало ценят те победы, которые достаются по воле жребия, и людей мужественных предпочитают счастливчикам.
В возбужденной толпе зрителей самым возбужденным выглядел, конечно, толстый Менап. И он, и Никтим совсем было упали духом, видя, что сами боги на стороне знатного молокососа. Но теперь... Вдохновенно работая локтями, Менап протолкался в передние ряды. Плача и смеясь одновременно, то хватаясь за голову, то бия себя кулаками в грудь, он исступленно заорал:
— Достать! Достать! О боги... Достать, достать, достать Менесфея! Достать!
Расстояние между колесницами стало неукротимо сокращаться. Менесфей, разумеется, почуял погоню и, стараясь сохранить разрыв, тоже прибавил заметно ходу.
Яростные вопли Менапа вскоре подхватили все вокруг и начали резко, отрывисто скандировать:
— Достатъ! Достать! Достать!
С противоположной стороны гипподрома тоже — свистели, выли, азартно улюлюкали, словно при травле зверя.
Звучит труба... Новый круг. Менесфей круто вывернул своих коней, так что хламида трижды обернулась вокруг туловища. Не успел ветер снести пыль, как следующие две колесницы обогнули вокруг меты и унеслись на другой конец. И тотчас за ними — Ксанарх, Одноногий, Кревга.
В замыкающей группе Главк, не выдерживая, сильно послал вперед и одного за другим начал обходить своих соперников. Толстый Менап, ликуя, пихал в толпе то одного, то другого из соседей локтем в бок и радостно похохатывал.
— Пожалуй, эти загонят Менесфея, как ты думаешь? — и, не ожидая ответа, толкал другого.
Уже перед метой Одноногий, Кревга, Ксенарх настигли третью колесницу, обошли ее, но и Менесфей значительно подался вперед, по-прежнему сохраняя разрыв.
Поворот...
Менесфей удачно прошел мету. Но вторая за ним колесница еще в начале поворота вдруг страшно ударила ступицей о камень, и зазевавшийся возничий кувырком вылетел под копыта набегающим сзади коням. Но тотчас, словно заяц, поднятый с лежки, он сделал длинный прыжок в сторону и избежал, казалось бы, неминуемой смерти. Его кони, потеряв управление, с опрокинутой колесницей бешено вынесли прямо на зрителей... Мгновенная паника, давка — и вся четверка, описав высокую дугу по отлогому склону холма, вновь вылетела на дромос, рассеивая на своем пути зрителей. Возница, лежа на земле, горько рыдал и в бессильной ярости ногтями рвал землю.
Звук трубы. Поворот... Менесфей. Следом через некоторое время — Ксенарх, Одноногий, Кревга...
Снова поворот. Снова Менесфей... Следом Кревга, Одноногий, Ксенарх...
На насыпях перекошенные, азартные лица. Многие из зрителей плакали, простирая руки дромосу, или обнимались, ликуя. Рев многотысячной толпы глушил напрочь грохот колесниц по каменистой почве гипподрома. Карусель продолжалась.
Взмыленные кони Менесфея, роняя обильные хлопья пены, продолжали вести гонку все на том же расстоянии от ближайших соперников. Но, пробежав еще некоторое время, они неожиданно для всех встали посреди дромоса и, несмотря на удары стрекалом, не двигались с места. Коренной справа вдруг тяжко захрипел... ноги подломились, и он рухнул на колени, грузно повис в упряжи.
С перекошенным злобой лицом Менесфей спрыгнул с колесницы и, выхватив из-за пояса хлыст, начал бить по глазам, храпу, пытаясь поднять коренного на ноги, и с силой рвал узду. Но загнанный конь только вздрагивал и бессильно скреб копытами землю. Остальные три, расставив дрожащие ноги, с хрипом выталкивали из себя воздух и тяжело носили боками. Это был конец.
Великолепный Менесфей, сын Кимона, усилием воли подавил злобу, и на красивом лице его выдавилась небрежная полуулыбка. Запахнувшись в хламиду, он удалился, поигрывая хлыстом и брезгливо стряхивая с себя пыль.
Мимо покинутых лошадей с грохотом пронеслись три колесницы... Звук трубы. Поворот. Впереди остался последний круг. Глашатаи эхом откликнулись по гипподрому:
— Последний круг! Последний круг... следи... руг...
Как только общий соперник исчез, между колесницами немедленно была объявлена война. Но возницы хорошо знали друг друга и стерегли каждый жест, тотчас проникая в чужие намерения. Сразу после поворота Ксенарх мощно послал свою колесницу, умоляя богов лишь о том, чтобы ни один из его коней «не потерял ногу», не сбился с рыси. Вытянувшись в струну, вся четверка начала быстро выдвигаться из-за спины Кревги, который оказался к этому времени впереди всех. Но и Кревга, не желая уступить лидирующее место на внутреннем круге, тоже подал вперед. И оба возницы, из последних сил напрягая хрипящих коней, устремились к поворотной мете. Было видно, однако, что кони Ксенарха сохранили чуть больше сил к концу ристанья и неумолимо выдвигаются вперед, капля за каплей отвоевывают расстояние. Но выйдут ли они вперед, успеют ли до поворота встать на внутренний круг, или же Кревга, оттеснив Ксенарха, опять развернется первым и сведет на нет все его усилия?
Сзади, чуть запоздав с посылом и как бы отставая, шли кони Одноногого. Еще сзади Главк стремительно обошел колесницу, долгое время державшуюся за Менесфеем третьей, и начал подтягиваться к ведущей тройке.
Вблизи поворотной меты Ксенарх уже на корпус оказался впереди Кревги, он сделал было отчаянную попытку поднырнуть с колесницей под морды его коней, но Кревга, слегла подавшись вправо, оттеснил его... Поворот... И обе четверки, хрипя, напирая одна на другую, стали выворачивать всей массой несколько в стороне от меты. И тотчас в узкий просвет между камнем и спиной Кревги втиснулся Одноногий, на полном ходу он осадил левого пристяжного, подняв его на дыбы, а правый впритирку пронесся за спиной Кревги. Колесница Одноногого, едва не переворачиваясь, описала следом крутую дугу, ударилась боком в колесницу соперника и ушла вперед. Сбоку за ним тотчас вывернул Кревга, и сразу за колесницей Кревги — Ксенарх.
Вероломный Кревга сразу после поворота постарался использовать свое преимущество и заступил Ксенарху дорогу. Вместе с тем он сильно послал коней и начал настигать Одноногого, чьи пилосские кони выглядели явно слабее коней соперников. Но силы их уравнивались, ибо Кревге приходилось вилять из стороны в сторону, чтобы не выпустить из-за спины еще более резвую колесницу Ксенарха. Так продолжалось две трети расстояния от меты до самой контрольной полосы, и только потом Кревга, решив, что с Ксенархом покончено, а Одноногий от него не уйдет, криком и ударами стрекала пустил коней прямо вперед.
Но на сей раз Кревге суждено было ошибиться. Вместо того, чтобы сокращаться, расстояние между ним и его соперником начало расти. Одноногий чудом сумел сохранить небольшой запас сил у своих коней и теперь на последнем участке безжалостно выкладывал все, на что они еще были способны.
Звон трубы, казалось, расколол небо...
Под восторженный рев толпы Одноногий первым пересек контрольную полосу. Следом за ним голова в голову, напирая друг на друга, летели Ксенарх и Кревга. Главк пересек контрольную полосу четвертым, но, вне сомнения, это был самый бурный финиш. Все видели, как стремительно настигал он лидирующую тройку, и многие, очень многие ждали и желали его победы.
...Одноногий медленным шагом выехал на внешнюю сторону дромоса для совершения почетного круга. С насыпей в колесницу, на крупы запаленных коней со всех сторон летели цветы, венки, ленты. Плотное кольцо возбужденных зрелищем поклонников обступило победившую колесницу. Вслед за тем трижды над гипподромом прозвучало имя победителя:
— Победил всех Меланф, сын Астея из Элиды! Возничий Превген!
Одноногий Превген из колесницы подал руку своему хозяину, помог стать рядом. Вот он, счастливый победитель, один из богатейших людей города Элида. Выкрашенная в красный цвет острая борода и изящно уложенные один к одному темные локоны обрамляли породистое, крупное лицо гордого хозяина колесницы.
Как только последние участники бега пересекли контрольную полосу, зрители, словно прибой, хлынули с насыпей на пыльное поле гипподрома, обнимаясь, ликуя, получая один с другого выигранные деньги. Море голов и протянутых рук кипело возле победившей колесницы...
Олимпия. Пурпурный дотлевал закат. На поворотном столбе с обрывками упряжи темным пятном уныло громоздился стервятник, роясь в нечистом пере. Над опустевшим дромосом еще плавали тончайшие, розовые облака пыли, валялись обломки разбитых колесниц, лопнувшие колеса, конский помет. Сумерки быстро сгущались.
Дамасий весь вечер протолкался на конюшне в окружении таких же, как он, лошадников, изрядно подогретых вином и возбужденных до самозабвения бесконечными спорами вокруг недавних бегов. Здесь разыскал хозяина старый сириец-раб с коричневым, словно отполированным, черепом и остатками седых волос за ушами.
— Господин? — он тронул хозяина сзади за одежду. Обычно малоподвижная физиономия раба на сей раз была перекошена гримасою страха, а губы дрожали.
— Тебе чего? — грубо отмахнулся Дамасий, но, едва взглянув, с поспешностью отошел в сторону.— Ну?
— В твоих покоях, господин, сидит дряхлый старик.
— Кто таков? Его имя?
Раб отшатнулся.
— Он уверяет, будто он...
— Ну? Ну?
— ...он твой сын.
— Что за чушь?! — вскричал Дамасий, мгновенно свирепея.— Ты выжил из ума, старый болван!
Раб испуганно зажмурил глаза, но с места не двинулся.
— Это правда, господин.
— Какой-нибудь сумасшедший, вроде тебя. Ступай! И вели гнать его в шею.
Раб склонил голову. Молчал.
— Ты меня понял?
— Да, господин. Я сделаю, как ты велел. Но...
— Ступай! Ступай!
Примечания
1
ПРИМЕЧАНИЯ
Год в Древней Греции начинался с середины лета. Правда, во многих греческих городах-государствах были в обращении собственные календари, не всегда совпадавшие между собой. В наиболее распространенном аттическом календаре Скирофорион соответствует второй половине июня — первой половине июля. Таргелион: май — первая половина июня.
Абра — молодая, приближенная к хозяйке доме рабыня.
Акрополь — укрепленная часть античного греческого города, расположенная обычно на холме и включающая основной массив общественных зданий и сооружений.
Апотигма — напуск в верхней части женской одежды.
Арей (Apec) — бог войны, сын Зевса и Геры.
Артемида — богиня-охотница.
Архонты — высшие должностные лица в Афинах.
Асклепий — бог-врачеватель.
Ахиллес — главный герой Троянской войны.
Аэд — певец-сказитель.
Басилевс — царь.
Бидией — распорядитель на празднествах.
Гекатомба — жертвоприношение в сто быков.
Герма — статуя в виде столба с изображением бога Гермеса.
Гермес — бог торговли и красноречия.
Гестия — богиня домашнего очага.
Гимнасий — учебное и спортивное учреждение.
Дельфы — общегреческое святилище в Фокиде.
Дромос — место бега.
Лакедемон — то же, что и Спарта.
Лекиф — сосуд для благовоний.
Лох — воинское подразделение в десять тысяч человек. Лохаг — командир отряда.
Обол — мелкая медная монета, одна шестая часть драхмы.
Палестра — гимнастическая школа.
Парасанг — мера длины (5,5 км).
Педотриб — учитель гимнастики в палестре, помощник судьи.
Пекис — мера длины 0,46 м.
Пританей — городской совет, здание совета.
Скамма — яма для прыжков, площадка для борьбы, кулачного боя, панкратия.
Скиас — «Тенистая», так называлась галерея в Спарте, где граждане проводили свой досуг.
Стадий (стадия) — мера дли 178 метров, олимпийский стадий — 185 метров.
Тартар — царство мертвых.
Фила — административное деление в древнегр. государствах.
Хлена — одежда из грубой ткани от ветра и стужи (мужс.)
Электрон — сплав золота с серебром.
Эниалий, Энодий — прозвища Ареса, бога войны.
Эфеб — юноша с 18 до 20 лет, обучающийся военному искусству.


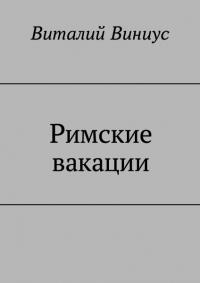
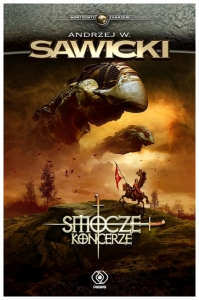
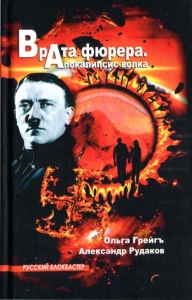
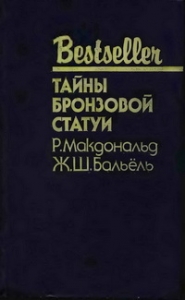


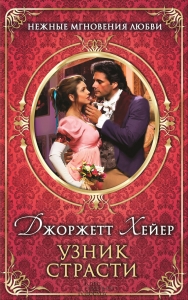



Комментарии к книге «Улыбка Афродиты. Смерть прокурора», Лев Афанасьевич Кожевников
Всего 0 комментариев