Константин Дмитриенко Повесть о чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже
© Дмитриенко К., 2017
© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2017
Подкидыш
Лето 188… года было жарким. Злое солнце выжгло заливные покосы и высушило реку так, что со Слободы в город прислуга шла вброд, едва ли замочившись по колена. Осень же пришла внезапно и сразу. Не успели пожелтеть и опасть листья с берез, как выпал холодный и тяжелый снег. Деревья под тяжестью снежных шапок не выдерживали и, издав то ли стон, то ли треск, ломались. Вес снега выдержали только те деревья, что или могли согнуться до земли, или пожертвовали ветками. На Набережной и Первой улице провалились несколько крыш. За хрустом ломающихся веток и стропил жалобный полувзвизг треснувшего главного колокола на недавно отстроенной церковной колокольне остался незамеченным. Однако утром 2 сентября дьяк Никита, он же звонарь, доложил отцу Василию, что «звонить никак нельзя, бо колокол, того, треснул».
Вечером того же, следующего за стихией дня, опережая лютый мороз и красные сполохи, вставшие столбами над хребтом, что с севера огораживает Малый Париж, в город вернулся предприниматель Исай Ликин, чей дом был достроен в середине лета 188… года. В еще скрипевший углами и пахнувший свежей мебелью и смолой дом Исай приехал из Монголии, откуда поставлял в район мясо и низкорослых и лохматых, но выносливых лошадей. Следом за Исаем Ликиным должны были прийти своим ходом двугорбые монгольские верблюды, которым предстояло отправиться на прииски и рудники. Позднее верблюды пришли и оказались всем хороши: и неприхотливы, и выносливы, и мясо их было съедобным, не хуже изюбря, коровы или сохатого, так что если какой бактриан ломал ногу, то его добивали и съедали. Одно плохо: вдалеке от родных степей и пустынь верблюды грустили и размножаться не хотели.
Но не о верблюдах. Об Исае Ликине и о том, что за посылку Исай обнаружил перед воротами своего дома ночью с 3 на 4 сентября 188… года.
Ночь была светлой и темно-красной, совсем как запекшаяся кровь на светлой стали ножа. Сполохи, невидимые из дома Ликина, потому как на север окна не прорубали, все же давали достаточно света, который, вместо того чтобы хотя бы создавать ощущение тепла, наоборот, нагонял еще больший холод и раннюю зимнюю тоску. Сторожевые собаки, забившись по своим конурам, прятали носы под хвостами и даже не скулили, стараясь сберечь тепло. На конюшне перетаптывались в стойлах и хрустели овсом лошади, чалая Звездочка и сивая Машка. Сперва с улицы постучали в ставень. Потом залаяли дворовые псы. Хозяин, вооружившись винтовкой, вышел сам. Псы рвали цепи в сторону высоких ворот, и ничего, кроме надсадного лая, расслышать было невозможно. Исай прикрикнул на собак, спросил: «Кто там шастает?», но никто не ответил. Только собаки еще яростнее рвались с цепей. Ликин выглянул из калитки и, поначалу не увидев никого, собрался было возвращаться в теплую постель, как разглядел стоявший у главных ворот, в тени, заплечный берестяной короб, в каких тунгусы носят всякую поклажу.
В коробе, внесенном в дом и открытом, под светом лампы обнаружился сонный черноглазенький мальчик, одетый в стеганый китайский халат темно-лиловой саржи. Ни записки, ни сопроводительных документов, только амулет-бурханчик на кожаном ремешке, вроде тех, что режут из березы манегры, придавая им черты то медведя, то ящерицы, то лисы, то выдры. Жена Ликина, крещеная татарка, давно и не без оснований подозревала своего благоверного в хождениях не только по делам, но и на сторону, скандала устраивать не стала, сказала: «Твой, знать, пащенок-то, раз сюда подкинули, и глаза вон твои». Исай же, посчитавший ниже своего достоинства отчитываться перед бабой, буркнул себе под нос что-то вроде: «А хоть бы и так, от тебя-то толку никакого», — и тем самым признал мальчика своим.
То есть не так сразу и даже не назло бабе, а совсем наоборот. Через пару дней хозяйка Ликина на размышления мужа: «Может, отправить его в приют-то», плюнула в сердцах, обругала Исая иродом, сквалыгой и почему-то вурдалаком и сказала: «Пусть живет, коли приблудился. Еды и на него хватит».
Судя по тому, что мальчишка только лепетал что-то и самостоятельно едва ходил, доктор Вязьмин, осматривавший подкидыша и нашедший малыша вполне здоровым, упитанным и развитым, определил его возраст как десять-одиннадцать месяцев. Так и порешили: считать днем рождения ноября 2-е года 188… от РХ. А покрестить толком не получилось. Родий, принесенный в церковь, орал так, что треснувший колокол отзывался с колокольни; выворачивался из рук; опущенный же в купель, стал весь красный как ошпаренный рак; и в довершение всего чуть ли не до крови цапнул молодыми зубами отца Василия, который от такой неожиданности едва не впал в богохульство, однако сдержался и обряд через силу, но провел. «Да только толку от таких крестин нету, — говорил за ужином батюшка попадье. — Будто бесы в нем сидят и причастия не желают. Что же за дитя это?»
Служанка Ликиных, Евдокия (одна из причин справедливой ревности Ликиной жены), сама то ли подброшенная, то ли от отца-цыгана, в сущности мальчишки разобралась немногим, но все же больше отца Василия:
— Я перед ним разные вещицы разложила и смотрю, за какой он потянется. Полтинник серебряный, значит, чашку чайную, платок шелковый, что мне Исай Лукич подарили, ложку серебряную, ножик, нагайку хозяйскую, ну, и там еще разного по мелочи. И к чему ты думаешь оно, дитя это неразумное, потянулось? Думаешь, к полтиннику? Так нет! Вцепился в ножик, насилу отняла… Вон даже, когда ему руку разжимала, обрезалась до крови слегка…
— Так и что это значит? — спрашивал у Евдокии конюх Зинатулла, с которым служанка крутила, пока не видит хозяин.
— Ну, уж не знаю, как это у вас, у мусульман, а я так полагаю, что зверенок он пока, а как подрастет, так точно таким зверем станет — хуже шатуна или ламазы, какой маньчжуры детишек своих пугают.
— Да ну! — смеялся Зинатулла. — Мальчишка, он и должен к оружию тянуться. Батыром будет, казаком будет. А то и генералом станет. Я тебе говорю, глупая ты баба.
— Ну, генералом, может, и станет, да только не казаком. Лошади его и собаки тоже на дух не переносят — боятся аж до тряски… Вон намедни хозяйка мальчишку во двор вывела. Трезорка, на что уж кобель страшный, я его сама боюсь, так под крыльцо забился, рычит оттуда и скулит разом. И Пушок его боится. За печку забьется и шипит… Ладно, пойду я самовар ставить.
— Ну, иди. Вечером-то придешь?
— А для чего? Нешто есть у тебя что такое особое?
— А то не знаешь. Есть у меня ключик, так ты замочек свой принесешь, вместе и откроем. М-м?
Вечером Евдокия, конечно же, пришла, но это дело понятное и к Родию отношение имеющее самое малое.
Отшельник с Хабомаи
Марьясин, начальник, старший товарищ и практически учитель моего отца, в последние годы Второй мировой войны был юнгой на Тихоокеанском флоте и принимал участие в высадке на Сахалин. Или на Курилы, я точно не помню. Впрочем, это не очень важно, потому что к истории, рассказанной им, он сам не имеет прямого отношения. Или имеет…
Разбирая вещи в своем гараже, Марьясин обнаружил свой черный флотский бушлат, который отдал мне, и я его потом носил еще года четыре, пока бушлат не стал мне совсем тесен и мал. А тогда он сидел на мне как влитой, и я, надевая его, даже подумывал стать моряком. Но не стал. Передавая мне бушлат, Марьясин пустился в воспоминания, среди которых был рассказ, запомнившийся мне даже не знаю чем. Может быть, тем, что казался чем-то похожим на историю о Робинзоне Крузо, а может быть, тем, что давал возможность самому додумывать огромное количество разных вариантов этой, я верю, правдивой байки.
Когда советские моряки высадились на Сахалин и Курилы, то услышали, что на одном из островов гряды Хабомаи до сорок второго или сорок третьего года жил старик-японец, выглядевший не совсем как японец. Во-первых, был он высокого роста и крепкого телосложения; во-вторых, кожа его была хоть и постоянно задубевшей и желтой, но все-таки не того особого оттенка, присущего настоящим японцам; и, в-третьих, старик этот носил окладистую бороду, совсем не похожую на бороды айнов, тем более что была она не черной, а темно-русой с рыжиной. Тем не менее рыбак, живший уединенно на острове, был японцем, и фамилия у него была то ли Касука, то ли Кусику, а может, и вообще Коочику, кто ж ее помнит. О старике рассказывали, что некогда он был офицером японской армии и участвовал в боях под Порт-Артуром или Мукденом, а может быть, и еще где в Маньчжурии. Вроде как там он научился русскому языку, причем язык давался ему легко и даже звук «Л» не вызывал никаких осложнений. «Вот еще одно отличие от японца», — сказал тогда Марьясин. Потом, в годы интервенции, этого Касуку во главе небольшого отряда отправили на русский Дальний Восток, где с ним что-то произошло, а в самом начале двадцатых годов он дезертировал и с помощью китайцев, у которых тоже имелись войска на Дальнем Востоке, перебрался на остров, где и поселился — не один, а с немой китаянкой, или маньчжуркой, или удэгейкой, о которой говорили, что ее тело наполовину покрыто замысловатой татуировкой, способной показать глядящему на нее не только прошлое, но и будущее. За это и еще за то, что китаянка была нема и никогда не старела, ее считали колдуньей, и одно время ходил слух, что она оборотень, похищающий из домов поселенцев маленьких детей, дескать, ими она питается (потом оказалось, что это вовсе не она ворует детишек). Женщину эту старик японец-не-японец называл именем Ли Ву, что значит «Подарок». Рассказывали, что старик Касуку, высадившись на берег острова, на котором, кроме него, никто постоянно не жил, разве что заглядывали китобои и охотники на морского зверя, да еще рыбаки, начал строить часовню. По его словам, там можно было бы молиться всем богам и вместе с тем часовня была маяком на какой-то дороге. Построил старик ее или нет — неизвестно, но то, что на некоторых островах можно встретить сложенные друг на друга и непонятно как удерживающиеся камни — это точно. Еще про старика говорили, что он запросто ловит рыбу и птиц руками и поэтому всегда сыт, какой бы голодный год ни был. На острове парочка прожила лет двадцать; мужчина начал стареть, это замечали многие, кто его видел, зато Ли Ву по-прежнему оставалась молодой и по-прежнему была немой. Перед началом войны на острова приезжали военные, которые искали старика, чтобы то ли допросить по какому-то делу, то ли чтобы арестовать за старое дезертирство; вроде даже нашли остров, на котором он поселился, и даже, по слухам, недолго говорили со стариком Касуку. Но разговор закончился тем, что нечто в черной одежде, огромное и мертвое, вышло к людям в форме и напугало их чуть ли не до смерти, то есть ничем не закончился разговор, и военные уехали. А старик еще год-другой пожил на своем пустынном берегу, общаясь только с рыбаками, что заходили на остров, а потом поднялся с камня, на котором обычно сидел и смотрел на море, сел в лодку, оттолкнулся от берега и уплыл. Было это в 1942 году, и с тех пор его больше никто не видел и ничего о нем не слышал. Вот разве что женщина по имени Ли Ву вроде как одно время работала в публичном доме на Карафуто, как японцы называли Сахалин, а потом тоже куда-то исчезла: говорят, встала на тропу, ведущую отсюда туда, и ушла.
Вот и вся история. А самое главное в ней то, что, как думал старший товарищ моего отца, старик этот был потомком то ли русского каторжника, то ли казака, которые в середине XVII века прошли по Амуру, вышли к Охотскому морю и открыли Сахалин.
168-я (1)
Золото в этом районе нашли во второй половине XIX века. К тому времени легенда о Золотом человеке, чья голова — на Аляске, шея — в Беринговом проливе, а все остальные части тела — на территории Империи, стала уже расхожей байкой, и не хватало малого — вещественных доказательств. Бродяга, чьего имени история не сохранила, принес в Иркутск аргументы, против которых нечего было сказать. Крупный песок и самородки, по тем слухам, что дошли до наших времен, общим весом более пяти английских фунтов. А это, знаете ли, почти два с половиной килограмма. Не успели иркутские купцы снарядить разведывательную экспедицию, слух о местах, где в каждом ключе можно безо всякого труда набрать несметное богатство, уже разошелся по Империи. И тысячи вчерашних крепостных, собрав последнее, рванули в Забайкалье, надеясь вернуться скоробогатеями в свои Рязанщину, Полтавщину, Костромскую и Курскую губернии и прочая Белая, Малая и иная Россия. Увы и ах! Золото, конечно же, было, но…
На просторах от Лены до Тихого океана найти свой кусок породы с золотом представляется не самым простым занятием. Скажем так, до сих пор в этом регионе есть ряд районов, где добыча обходится дороже самого металла. И это несмотря на постоянно растущую цену золота на мировых фондовых биржах, несмотря на прогрессивные методы (куда там лоткам, проходнушкам, колумбинам, даже полигонным драгам с их промприборами). Представьте, что каждый грамм металла, поднятый на Н-ском плато, стоит полтора-два грамма золота. Впрочем, российские авантюристы второй половины XIX века о таком раскладе не знали и, взвалив на лошадь, быка или на себя кайло, лопату, кувалду (и обязательно лоток), оценивали возможный металл стоимостью собственных сил.
Если же вы сейчас думаете, что золото на просторах Империи было «ничьим», то, позвольте вам заметить, вы ничем не отличаетесь от тысяч авантюристов, покинувших обжитой аграрный Запад ради дикого и голодного Северо-Востока. С XVIII века все российское золото принадлежало русским царям точно так же, как производство водки. Хотите золота в земле? Купите участок и уж потом продавайте металл по установленным ценам. Приблизительно так и никак иначе. Для того чтобы никаких сомнений в верности данного порядка не возникало, существовали горная стража, полиция, казаки, войска. И при необходимости вся эта армия объясняла при помощи пороха и свинца, что «каждый динарий — кесарев. А остальное — от лукавого».
Но все же!
Пираты, браконьеры, мародеры, хищники были всегда и везде. И Россия не исключение. Именно они, услышав о золоте в Забайкалье, первыми потянулись туда, куда до того уходили разве только староверы. Золотоносный район, наиболее привлекательный для вольного народца хищников, находится там, где сегодня пересекаются Якутия, Амурская область и Хабаровский край. И в наши дни добраться сюда сложно, что же говорить о второй половине XIX века… Впрочем, удаленность от центров цивилизации была вольной братии только на руку и в глазах отщепенцев всех мастей, разорившихся крестьян, беглых каторжников и иных люмпен-пролетариев глухомань представлялась скорее плюсом, чем минусом. Подальше от царя, подальше от полиции, подальше от горной стражи, жить по-своему там, где «тайга — закон, медведь — прокурор, урядник — топор». Эта достаточно расхожая мудрость таежников Восточной Сибири и Дальнего Востока, вне всякого сомнения, до сих пор являет собой гимн анархизму, однако, будучи социальным существом, человек вынужден изобретать средства выживания, законы и правила, которые, пусть и не соответствуют законам Империи, но в большей или меньшей степени отвечают потребностям общежития. Вероятнее всего, стремление жить «сообща» и привело вольных приискателей, горных браконьеров и хищников к объединению в старательские республики, самые крупные из которых насчитывали в промывочный сезон до пяти тысяч мужчин.
К 1882 году каждый старатель, желавший самостоятельно попасть в «республиканский» район (носивший в то время название Дальняя Тайга), отлично знал, что должен делать. Прежде всего необходимо было попасть в один из городов, расположенных максимально близко к территории республик. Таких городов было как минимум три, по количеству основных троп. Тропа из Якутска — на восток и юг. На северо-запад — от устья Амура, с центром в Николаевске. И самая известная, и, пожалуй, самая короткая тропа начиналась в быстро разросшемся до города поселке Пристань. В каждом из этих городов была достаточно разветвленная торговая и агентская сеть, которая, порой вопреки, порой с негласного разрешения полиции и горной стражи предоставляла все необходимое любому желающему отправиться на прииски. А необходимы были: во-первых, оружие и боеприпасы; во-вторых, инструменты — кайло, лопата, заступ, пила и лоток; в-третьих, бык, корова, лошадь или даже двугорбый верблюд. Причем третий пункт списка необходимых покупок начинающего старателя можно смело поставить первым номером, поскольку без быка или коровы (именно этим животным отдавалось не просто предпочтение, а приоритет) быть принятым в «республику» не представлялось возможным. Каждый добравшийся до золоторудного региона приискатель был обязан иметь при себе пропитание на зиму и возможность добывать золото своим инструментом. Поэтому, нагрузив корову скарбом, иногда в одиночку, иногда караванами, золотоискатели отправлялись в путь длиной не менее пятисот километров, чтобы достичь золотоносных плато и ключей, до сих пор труднодостижимых и легендарных, чуть ли не мифических, как, например, ключ Миллионный.
Описывать трудности перехода по «диким» землям вряд ли нужно. Достаточно только отметить, что большинство вновь прибывших авантюристов было абсолютно не подготовлено к переходам через тайгу. Конечно, некоторую помощь готовы были оказать местные проводники. Но далеко не каждый имел средства для оплаты услуг таежников, за которыми, кстати, прочно укрепилась слава отъявленных головорезов. Поэтому с самого начала пути к золоту полагаться приходилось только на себя и еще на приблизительные и противоречивые рассказы, карты, планы, указатели и приметы, разбросанные на территории, не уступающей по размеру Швейцарии.
Одними из основных точек на этих картах были станции (ямы), где можно было не только относительно безопасно переночевать, но и получить определенные услуги. Например, указания, куда и как следовать дальше, каким образом переправиться через крупную реку, иногда предоставлялись услуги кузнеца, и почти повсеместно можно было обменять имущество на спиртное. Таких «станций» на трех основных тропах в общей сложности было около двухсот. Некоторые, такие как Перевоз, Прииск, Горно-Золотая, Снежник, Покровка, со временем разрослись в поселки. Другие долгое время оставались отдельно стоящими хуторами с двумя-тремя строениями. Эти станции, как правило, базировались на местах расположения «ясачных» изб, поставленных русскими конкистадорами в период первого проникновения в этот регион. А третьи вообще исчезли, и сегодня их находят случайно, как до сих пор по всему этому району порой обнаруживают застолбленные участки, оплывшие шурфы хищников, старавшихся поднять из грунта рассыпное гнездо, шалаши китайцев-спиртоносов, одинокие, полностью развалившиеся землянки и зимовья.
Золотая касса
В 1996 году во время ремонта складов бывшего Чуринского магазина рабочие Н. и С. обнаружили тайник. В двух кошелях из промасленной кожи лежало около полутора килограммов золотого песка и самородков. Там же, в тайнике, стояла железная шкатулка-касса, в какой купцы средней руки обычно хранили разнообразные ценные бумаги (ассигнации, расписки, векселя) и разменную монету. Шкатулку совершенно по-варварски взломали, надеясь, видимо, найти в ней что-то еще более ценное, чем полтора килограмма металла.
О находке стало известно после того, как Н. попал в поле зрения ОБЭП при попытке сдать свою долю хорошо известному органам ингушу. Н. запирался недолго, и ранним утром оперуполномоченный уже спрашивал С., сдаст ли тот металл добровольно или придется проводить обыск и оформлять выемку. Конечно, С. из небогатого выбора между «добровольной выдачей» и «оформлением» выбрал свободу и выложил свой кошель перед обэповцем. Как показала экспертиза, золото было не местным. Частью южноафриканским, частью австралийским, да было еще литое, в форме пуль на сорок четвертый американский калибр, а что касается кассы…
— В ней ничего интересного не было. Бумаги старые, с ятями еще… Книжка там была без обложки, старая совсем, вроде на английском, на полях — пометки разные на русском. Ну и всякое такое, по мелочи. Фигурка, на вид костяная, пуговицы с гербом, пузырек пустой. Мундштук был. Иголки с нитками. Фотография старая. Ну и все вроде… — рассказывал мне потом С. — Мы все почти выбросили в речку.
— В смысле — почти все?
— Ну, я себе книжку взял, а Н. — фигурку.
— А что за фотография была?
— Да фотография как фотография. Мужик на ней — доктор какой-то, сразу понятно, потому что в халате. Стоит над каким-то трупом. Труп на столе лежит, и его не очень хорошо видно.
Фигурку я так и не смог найти. Сколько ни спрашивал у оперов и следователей — ничего.
Кеша Федоров — последний шаман
Потомственный алкоголик метис Федоров в 1948 году, как утверждают протоколы следственных органов, впал в буйное помешательство на почве злоупотребления водкой. Весь вечер и всю ночь из дома, в котором Федоров жил с матерью, старухой-эвенкийкой, раздавались то заунывные песнопения, то крики, то шум, отчасти похожий на шелест крыльев стаи гусей, отчасти на плеск рыб, идущих на нерест. С наступлением утра соседей удивила наступившая плотная тишина, в которой отчетливо и мерно раздавались глухие удары. Казалось, вибрировал воздух. Неожиданно по всему околотку завыли охотничьи собаки. И тогда бабка Коджисяниха отправилась посмотреть, что же произошло в доме Семена Федорова, сорокатрехлетнего эвенка-полукровки, тихого генетического алкоголика, известного в околотке по кличке Кеша.
На труп матери Кеши Коджисяниха наткнулась в сенях.
На крик сбежались остальные соседки. Позвали участкового, который вызвал доктора, а тот уже констатировал смерть женщины и отметил, что с ее спины, от шеи до ягодиц, полностью снята кожа. Сам же Кеша Федоров, весь в крови матери, сидел посреди горницы и ритмично бил в шаманский бубен, за ночь изготовленный им из подручных материалов.
Кешу увезли из города в состоянии транса — он блуждал где-то далеко, возможно, в истоках реки Энгдекит. По крайней мере, среди немногочисленных различимых слов было и слово «сэвэн». Бубен же после закрытия дела поместили в краеведческий музей. С тех пор в наших краях шаманы не встречались. Ну, может быть, и были такие, но мне об этом неизвестно.
Тигровая шапка (1)
Серафим Шабалин с детства был угрюм — этакий бирюк. Это у него от того было, что ему все казалось, что живет он не свою, а чью-то чужую жизнь. И не в том дело, что чем-то Серафиму такая чужая жизнь не нравилась или скучна была, уж чего-чего, а приключений этот казачок с пострельства специально не искал, они сами его находили. Дело все в том, что и приключения эти были ему какими-то неродными, непонятными, — одно слово, чужими. Другой бы жил себе, да и в ус не дул. Чья она, эта жизнь — тому, не тому дана, — об этом пусть батюшка думает, а твое, казачок, дело телячье: обосрался — стой, обтекай. Так, пока жив был, дружок Шабалина Гришка Хохулин говаривал. Сам-то Хохулин вряд ли задумывался, что да как: жил просто, как камышина какая или сосна, что в бору у дороги. Коли ветер прилетит, так и пошуметь не грех, а тихо если, то чего тебе еще надо — стой спокойно, солнышку радуйся, снегу пушистому радуйся, дождику, опять же… А порежут кору, хоть до сердцевины — поплачь, слеза смоляная, если не залечит, то поможет. А если не поможет, так тут уж плачь не плачь, что толку — вышло так, что срок, значит, пришел.
Хохулину срок пришел под Мукденом. Точнехонько в окоп снаряд угодил. Семерых, среди которых и Хохулин-старший, как корова языком — только и осталось, что грязная яма да ошметья. После обстрела уже кого недосчитались, того и записали: «За веру, царя и отечество». А Шабалин на той войне с японцем не погиб. Выжил. Кусок икры с левой ноги ему оторвало, но кость не задело, в госпитале наросло, а пока заживало, война и кончилась. Так что вернулся в станицу казак с медалью. А его медаль, не его — это как мясо отстрелянное, а потом наросшее. Чье оно? Поди разбери…
Серафим как с Японской вернулся в станицу, так полгода прихрамывал, а потом вроде прошло, только и осталось, что посадка в седле какая-то немного набок, да след в снегу или на глине приметный: правый, как положено, наружу носком глядит, а левый — что пятка, что носок — ровнехонько и что поволока, что выволока. Шабалин те полгода, пока совсем выздоравливал, пристрастился бродить по тайге. Чем он там занимался, никто не знал. Может, зверя бил, золото мыл или спиртоносов постреливал. В станице его видели, только когда покос или жатва, а так соберет котомку, кобылу свою пегую навьючит и все бродит где-то по сопкам неделями. То в Сианах его встретят, то под Покровкой, то у Неряхи. Старик Пейзель как-то отправился в Маленький Париж по коммерческим делам, так аж под Овсами его встретил, на Урекханской переправе. Да и в Малом Париже его видели, а это, почитай, все триста верст от станицы, если по тракту. Ну да, напрямки, может, и ближе, да только как ты туда напрямки по сопкам, распадкам, марям? Зверь и тот все тропами, где полегче, ходит, а напрямки — только от пожара. Вот, кстати, может, и Серафим так же, может, сердце горело у него? Может быть, да только от такого огня никуда ты не убежишь.
Через полгода, как Шабалин в станицу с войны пришел и уже совсем не хромал, по зиме приходили китайцы из родни младшего Пейзеля (ему отец сосватал китаянку, понятно ж, за жида никто из казаков дочку свою не отдаст). Эти китайцы принесли весть о том, что по левому Амуру ходит здоровенная тигра с двумя котятами. Дескать, появилась она еще чуть ли не по весне и, как думали, пришла, потому что война распугала все зверье на юге. Поначалу, пока семейство кормилось дикими козами и свиньями, китайцы на них особого внимания не обращали. А уже по зиме, когда семейство полосатых принялось давить собак и резать домашних свиней, китайцы обеспокоились. Когда же стали пропадать люди, беспокойство превратилось в панику. Китайские крестьяне обращались и к своим властям, и к хунхузам, но ни власти, ни бандиты ничем не помогли. После Крещения тигра перешла Амур. Между Неряхой и Сивухами она подстерегла обходчика, а через пару дней, чуть выше того места, где от Магистрали на Станицу отходит узкоколейка, задрала лошадь. Седыхова баба божилась, что, вынося помои, видела тигра. «Я, значит, ведро-то выплескиваю, а она за околицей, на опушке сидит, вся такая седая, смотрит на меня и облизывается». Бабе не поверили, потому что, во-первых, от помойной ямы до опушки леса, почитай, полкилометра и разглядеть что-либо вообще сложно, и, во-вторых, не было там, кроме человеческих, никаких следов. А через три дня под Костромой у китайца Ю, того, что сажает мак на опиум и торгует ханшином, тигра прямо из фанзы утащила жену.
Когда о тигре-людоеде, прозванном по-китайски Ламазой, знали уже в губернском городе, Серафим Шабалин, никому ничего не говоря, собрался и еще до петухов ушел в тайгу.
В станицу Шабалин вернулся аккурат к блинам со сметаной и икрой, водке, гуляньям, сапогам на столбе — на Масленицу. Через день после того, как на берегу Амура сожгли соломенную бабу, Серафим пришел к скорняку Тихону, выложил на стол кусок тигровой шкуры, как раз с загривка, и заказал из нее шапку. Тихон помял мех, хмыкнул и хотел было сказать, что из такого меха папаха не выйдет — не ноская, вытрется, но вместо этого спросил:
— Это с той, с Ламазы?
Шабалин то ли пожал плечами, то ли кивнул, то ли хмыкнул, то ли откашлялся, так что скорняк так и не понял — та ли это тигра, не та… А уже на следующий день слух, что Шабалин убил тигра-людоеда, ходил по станице, обрастая фантастическими подробностями, в которых, в конце концов, нашлось место и байкам об оборотнях, тунгусских колдунах, черте и китайских ведьмах, так что, когда станичный атаман Ильин шел в избу Шабалиных, он был готов почти ко всему, и все же, увидев в горнице молодую красивую то ли китаянку, то ли маньчжурку, к которой Серафим обращался как к жене, хоть ничего и не сказал, а все же подивился:
— Что ж ты, паря, ничего не сказал-то людям?
— А чего балаболить-то?
— Ну, про тигру-то… Ну, и про девку… Или она тебе жонка?
— Ну, так это… Я и говорю, чего? Тигра — вон шапка, а жена — ну так вот она, Ульяна. Чай будешь, Афанасий Игнатич?
— Ты мне зубы-то не заговаривай. Чай, понимаешь! Ты мне скажи, ты людоедицу кончил или с другой тигры холка? А чаю давай, что ли… Улька твоя-то хоть по-русски понимает?
— Сахар вон бери, мед, варенье, баранки вон. А кто ж ее знает, чего она жрала. А Уля и по-русски знает, и по-еще-каковски…
— М-м-м-м-м. Хорош у тебя чай. Где брал? У Пейзелей? А чего ж только кусок шкуры отрезал? Хоть бы голову прихватил, усы там, зубы… Китайцы до усов тигриных, я слышал, очень жадные.
— Нет, не на Жидке, на острове ярмарка по осени была, там и брал. Таскать тяжело. Ну а усы, что же, усы я уже продал.
— Ага. Ну ладно тогда….Я так понимаю, ты уже здоров, не хромаешь… Давай тогда в город. В полк… И это, покрестил бы свою, да по-людски бы венчались. Батька-то твой, небось, не одобрил бы. Ну и это, того, шапка-то у тебя с людоеда, значит… Так ты бы ее не носил, а то мне говорят, с такой папахи зверь на тебя перескочить может…
На это Шабалин, угрюмый казак, ничего не стал говорить, а как лед прошел, прихватив с собой Ульяну, первым же пароходом, пришедшим с верховий, отправился в губернский город, чтобы нести там службу.
Через год, или около того, в город в одиночку, верхом приехал из Даурии хорунжий Роман Штернберг. Вид у хорунжего был всклоченный, угрюмый и безумный: запыленная неряшливая форма, из всего багажа — скатанная шинель, суконное одеяло, карабин, да еще патроны в подсумках. Хорунжий с неказацкой фамилией отметился в штабе, встал на довольствие и через неделю уже прославился тем, что по пьянке повздорил с есаулом Карнауховым. Есаул высказался в том смысле, что не верит рассказам хорунжего о том, что тот смог доехать от Маньчжурии до губернского города один, без провианта, карт и проводника, питаясь только тем, что добыл охотой. Хорунжий Штернберг схватился за шашку и точно бы зарубил есаула, кабы того не оттащили. Понятное дело, за такие выходки хорунжего упекли на гауптвахту, а караул там нес Шабалин. Тигриная шапка привлекла внимание арестанта, и, странное дело, угрюмый Штернберг и угрюмый Шабалин разговорились и сошлись характерами. Хорунжего как выпустили с гауптвахты, так сразу, от города и греха подальше, определили в охотничью команду: пусть косуль бьет в общий котел — все равно делать в городе нечего, только водку пить, а так дикий хорунжий при деле. В ту же команду хорунжий перетащил Шабалина, и теперь почти все время они проводили вместе. Гоняли по распадкам, перелескам, заболоченным низинам. Били оленей, кабанов, косуль. И разговаривали, разговаривали, разговаривали о чем-то своем. Серафим познакомил Романа с Ульяной, и, странное дело, хорунжий, сторонящийся и избегающий женщин, с этой китаянкой был внимателен, добр и прост. Кто-то из казаков пустил слух, что дикий хорунжий на Ульку Шабалину положил глаз, но после того, как распускающие этот слух были биты, о том, что происходит между хорунжим, китаянкой и казаком в тигровой шапке, болтать перестали.
Гарнизонная тоска с пьянством и мордобоем в конце концов хорунжему Штернбергу наскучила, и он уехал на поиски приключений. Ульяна к этому времени уже ходила брюхата и к зиме должна была родить, но родила ли, нет ли, никто не понял. Исчезла Ульяна. Пропала и следов не оставила. Ну и ладно, кто бы за девку китайскую переживал? Может, тот же Шабалин ее продал кому, а может, и сама ушла куда… Тут русских-то баб не поймешь, а что уж китаянку. А потом следом за ней пропал и Серафим. Хотя вроде и отпросился у начальства по какой-то своей надобности, а все же в губернском городе, да и в станицах, его долго не видели.
Шахматы в тайге
Речка была рыбной и называлась Ма́товой.
Рыбаки, ходившие на нее, говорили, что название получилось само собой и вовсе не потому, что вода непрозрачная, а потому что, пока доберешься с Горно-Золотинского тракта, через перевал, весь на мат изойдешь, а уж как обратно-то с рыбой, так тут тебе и кирдык, коли пожадничал. Рыба, она известно, не та, что в омуте или на перекате, и даже не та, что из воды вытащена, — рыба она только тогда рыба, когда ты ее на своем горбу до базара дотащил да разложил по прилавку. И тут уж поди разбери, от чего она просоленная: от соли или от пота, одно ясно — хороша рыбка-то, хоть харюза, хоть ленки, хоть таймени, даже щука и та не ровня всяким там разным щукам, это хозяйка, ма́товская рыба, ну ты-то в курсе, так что цену знаешь, или сама бери, или я другим продам, да что ж ты ее нюхаешь-то так! Бабой да рыбой она пахнет, чем еще! А то вот икры тебе могу щучьей накидать, сам солил, сам тащил… Все так, да только вот не потому речка Ма́товая, что изматерились на ее берегах промысловики, известно же, что рыбака слушать, что колокольного мастера — это они за рыбу да колокола дорого берут, а слову их цена — монетка медная китайская с дыркой посредине…
Ну так о речке, которая Ма́товая.
Лет за пять до того, как Хабаров с казачками своими поставили остроги по Амуру, здесь уже стояла торговая изба одного китайского купчика. Как раз в устье, на терраске. Купчик тот торговал с тунгусами. Чай, шелк, посуду, иголки, нитки, то-се да пятое-десятое менял на меха. Вроде не жадничал и хоть и обманывал, а все же в меру, по справедливости, — тунгусы на него не жаловались, а может, и жаловались, да только где ты еще поторгуешь? Китаец постоянно в своей избе не жил — по своим торговым делам мотался, а за всем хозяйством и добром у него следила жена-не-жена, что-то вроде наложницы. Гулей звали. Ну, понятно, что не совсем Гулей, а похоже. У китайцев же что ни имя — срам и похабщина, вот и у нее, видно, имя такое. Красивая была и вроде на азиатку не похожа, ну это у них попадается порой. И вот, как сказано уже, лет за пять до Хабарова на Амуре, китайца в избе не было, пришел туда человек. Русский-не-русский, но точно не желтый, а белый, почему его Лучей тунгусы и прозывали. То ли узнал, что здесь жилье есть, то ли сам по себе вышел, кто же теперь знает?! Важно, что вышел и остался.
День живет, два, неделю. Китайцева баба-то сначала сторонится его, а все же, как ни сторонись — вот он, мужик. Короче, к тому времени, когда купчик-то появился, у Лучи с Гулей все было сговорено и налажено. Китаец, понятное дело, как узнал про все это — в крик. Она хоть и не жена, а все же вроде как его собственность, он ее то ли купил, то ли выменял, у них это и по сию пору в заводе, а тогда — вообще запросто. Так вот, китаец кричит, ногами топает, Лучу из избы гонит, а тот осклабился и спрашивает хозяина, чего это он так разоряется, словно ему на яйца наступили или перцу куда сунули. Ладно бы у себя в ханстве вопил, а то на русских землях порядки свои гнуть. А за сколько лет ясака китайцем не плачено, а? А подати на право торговать? А подушные? Китаец от такого нахальства аж дара речи лишился. А когда отошел немного, стал Луче доказывать, что это с него ни разу не требовали, дескать, земля здесь пустая, ничья земля. А Луча ему: «Это она была ничья, а теперь раз я здесь, то, значит, уже не твоя. И изба эта не твоя, и Гуля — тем более что она и не против — тоже не твоя». Короче, спорили они так, спорили, поедят, вина там или чаю попьют, и опять спорят. Тунгусы приходили, мех принесли, обменяли на товары, а они все спорят. Так бы и спорили, да тут кто-то из тайги вышел и подсказал, как спор решить.
Луча-то, пока бродяжил, в ключах золота насобирал и все, что было, переплавил в браслеты. Вот со своей стороны и поставил на кон против всего добра китайцева. Китаец же, похоже, был азартный, да и как золото увидел, аж весь затрясся, потому что у них-то там все золото у императора, а они даже монету льют из меди и таскают потом тяжелые связки. На спор-то решились, а как решать, кому что достанется? Биться на кулаках? Так Луча на голову китайца выше и крепче в разы. Бегать наперегонки? Из пищали стрелять? Вот незадача. Да удачно оказалось, что оба в шахматы играть обучены. Решили, значит, решили. А чем играть? Это же не шашки, это же доска нужна, фигуры.
Доску раскрасили, а фигуры Луча нарезал. Из оленьего рога — черные, а из мамонтовой кости — белые. Пешки вырезал в виде рыбок, ладьи — они и есть лодки, коней сделал как бы лисами, офицеров — росомахами, а короля с королевой драконами и львицами изобразил. А как все устроили, расставили на доске фигуры, но сразу играть не сели, потому что ночь на дворе, спать решили лечь. А пока спали, Гуля-то на фигуры нашептала, да водой и кровью побрызгала, так чтобы за какие бы китаец ни взялся, а все равно бы проиграл.
С утра сели играть. Луче жребий выпал белыми, а значит, ему нападать, а китайцу-купчику обороняться. И только передвинул рыбку Луча, как фигурки-то возьми да и оживи. Это все от того, что их Гуля кровью своей обрызгала, так что они уже сами на доске бьются, а китаец с Лучей чай попивают да приказы отдают. День закончился, шахматы все бьются, спать пошли, а пока спали, черный дракон влюбился в белую львицу, да так сильно, что и войско свое готов бросить, и сам умереть.
Утром поднялись, сели за шахматы. И тут китаец видит, что на доске совсем все не так, как на ночь оставляли. Что шахматы живут теперь сами по себе, и если он правильно понимает, то должен проиграть. Его дракон ночью вышел из-под защиты, и теперь вся надежда только на черную львицу, которая должна успеть убить белую соперницу и сама при этом погибнуть то ли от росомахи, то ли от лисы. Весь день длилась игра. Черный дракон, как его ни прикрывали, все стремился через все поле к белой львице, и всему, что ни делала его черная супруга ради спасения войска — всему мешал, телом своим прикрывал белую, а черную подставлял под удар. И к вечеру, когда на доске почти не осталось рыбок, все лисы погибли, да и росомахам с ладьями досталось, черная львица погибла, защищая своего дракона, а черный дракон сделал шаг навстречу белой львице, и белая львица убила его.
— Шах и мат тебе, — сказал китайцу Луча, — я выиграл.
Сказал и громко рассмеялся. А фигуры на доске замерли и стали, как и должны были быть, только кусочками рога оленьего да кусочками слоновой кости.
Вот с тех пор и поэтому речку называют Ма́товой, а вовсе не потому, что, пока до нее доберешься, изматеришься весь.
Что было дальше с Гулей, Лучей и его золотом, неизвестно. Старик Уруй, как-то подпив, говорил, что они ушли, а золото разбросали, — да как ему, Урую-то, особенно подпившему, верить? А китаец тот, говорят, ушел в Китай, там разбогател, стал правителем и завел себе большой гарем наложниц, вот только Гулю всегда помнил и все печалился оттого, что она его предала.
Сержант Севастьянов
Дмитрий. Его привезли в наш город с перебитой спиной. Поговаривали, что из госпиталя в Душанбе, куда он попал из Кандагара. В любом случае Дмитрий всю свою оставшуюся короткую жизнь, проведенную в обнимку с костылями, никому ничего не рассказывал. Просто сидел в любую погоду на берегу реки, превращаясь в незначительное растительного происхождения дополнение к пейзажу, совсем как подсолнухи, выглядывавшие из-за забора, и смотрел на то, как солнце тащится с востока на запад. Так продолжалось до тех пор, пока в одну августовскую пятницу не привезли цинковый гроб с телом Коли Некрасова — рядового ВДВ, сполна отдавшего интернациональный долг в точке усмирения вялотекущего кавказского конфликта. На следующий день сержант Дмитрий Севастьянов, 1963 года рождения, тихо скончался, оставив после себя только костыли, некоторое время стоявшие возле скамейки, с которой Дмитрий, казалось, сросся. Куда потом они делись, эти костыли, я, честное слово, не знаю, наверное, это и не важно. Может быть, пацаны сперли…
168-я (2) Луча и Латыпов
Каждая станция обладала своими особенностями, которые множились, обрастали слухами и легендами. Например, считается, что группа зимовий в районе переката Людоед названа была Людоедом не потому, что много людей погибло при попытке пройти пороги на лодке, а потому, что, дескать, в одну из голодных зим жители станции, чтобы выжить, бросали жребий, кому дожить до весны, а кому стать тем, кто накормит своих товарищей. Подобная же ситуация и с легендой о Чертовой Печке, которая была якобы сброшена паводком в реку и в которой поселился черт, утягивающий на дно каждого двадцатого путешественника, пытающегося пройти здесь на лодке. Известковая, Луча, Лунга… У каждой станции — свой набор легенд. Но все же самой загадочной станцией на золотом пути еще со времен хищнических республик Дальней Тайги считают Сто Шестьдесят Восьмую, или, как ее иногда называют, Утерянную, Пропавшую станцию.
По сохранившимся показаниям старателей, уже в 1898 году Сто Шестьдесят Восьмая была легендарной, полумифической станцией. Ни один из допрошенных следователями горной стражи «хищник» не мог точно указать ее местоположение. В части географии показания были весьма противоречивы. Сто Шестьдесят Восьмая оказывалась одновременно на всех трех основных тропах. Однако, несмотря на отсутствие согласованности по вопросу локализации станции, все свидетели независимо друг от друга называли ряд примет Сто Шестьдесят Восьмой.
Во всех рассказах станция — это несколько строений, находящихся на широкой террасе, сложенных, в отличие от обычных в таежном районе изб, из камня и крытых кирпичного цвета черепицей. Это относится не только к жилью, но и к хозяйственным постройкам: лабазам, конюшне, сеновалу и т. п. Площадь, занимаемая Сто Шестьдесят Восьмой, окружена земляным валом, где имеется один оснащенный сторожевой башней вход для пеших и конных путешественников. Рядом с постройками есть очищенная от деревьев поляна, разделенная на две приблизительно равные половины неглубокой лощиной и достаточная для того, чтобы на ней могли разместиться проходящие караваны. Здесь же оборудованы очаги и, не считая трех землянок в непосредственной близости к валу, места для палаток. Между надворными постройками и поляной — благоустроенный родник, излишек воды из него стекает по лощине. С другой стороны надворных построек, в некотором отдалении, находится площадка, где, образуя кольцо, установлены несколько больших, грубо обработанных камней. Еще дальше стоит большое дерево, о породе которого ничего определенного сказать не представляется возможным, кроме того, что дерево не хвойной породы. Между корней дерева бьет еще один родник, воду из которого, однако, для приготовления пищи и иных хозяйственных целей не используют. Родник называется Змеиным. Одна из сторон двухэтажного дома, где проживает хозяин, выходит окнами на площадку с камнями и деревом. Оба родника — и тот, что на «гостевой», и Змеиный — уходят под землю, не доходя до вала. Крыльцо «хозяйского» дома выходит на сторону, обращенную к «гостевой» поляне.
Говоря об устройстве Сто Шестьдесят Восьмой, особо отмечается наличие при станции большой псарни, где хозяин держит до пяти десятков крупных собак, отличительной их особенностью называют белый окрас и огненно-рыжие уши. Нужно отметить, что у охотников этого региона изредка появляются лайки как раз такой масти, причем собаки эти — всегда крупные молчаливые кобели, которых охотник использует для загона крупного зверя, будь то изюбрь, лось или медведь.
Исходя из существующих описаний, можно предположить, что Сто Шестьдесят Восьмая станция представляет собой достаточно крупный по меркам слабо заселенного района хутор-заимку с развитым хозяйством. Количество надворных построек и двухэтажный «хозяйский» дом дают возможность предположить, что здесь постоянно проживают не менее девяти человек. Однако свидетельства и «хищников», и проводников, и людей, чьим рассказам можно доверять в гораздо большей степени, сходятся в том, что кроме двух-трех маньчжуров, находящихся в услужении, здесь постоянно обитает не более двух человек, одним из которых является то ли основатель, то ли хозяин станции — некто Серый.
Серый — это не фамилия, а скорее прозвище-характеристика. Но поскольку настоящее имя хозяина станции в показаниях разных свидетелей различно и большинство рассказчиков о Сто Шестьдесят Восьмой используют кличку Серый, то и мы, говоря о владельце станции, будем называть его так. Однако нелишне будет отметить, что среди множества имен Серого чаще остальных встречается имя Луча. Именно под этим именем Серый был известен среди кочевых кланов эвенков, для которых любой европеец был лучей, то есть в одной трактовке «белым», а в другой «чертом». Обращает на себя внимание, что с появлением христианства в этих краях эвенкийское имя Харги (Дух огня) стало синонимом дьявола. Имя Харги никогда не смешивалось с именем Луча, что, в свою очередь, дало возможность европейцам считать это имя положительной характеристикой. Более того, современные легенды российского происхождения говорят о том, что река Луча была названа так якобы в честь первой встречи именно на ее берегах русских казаков и эвенкийских оленеводов. Учитывая, что эвенки боятся воды, так как, по их поверьям, вода несет смерть, а также что среди прочих рек региона река Луча, протекающая в узком ущелье, отличается совершенно необузданным и диким нравом, можно предположить, что Луча — это все-таки не самая лучшая характеристика, которая могла достаться европейцам, прибывшим в поисках золота. Впрочем, вероятна достаточная доля самоиронии и специфического золотоискательского чувства юмора, позволяющего приискателям называть себя «золотарями», а порученцев по общим вопросам при председателях артелей — «шнырями».
Итак, Серый, он же Луча, хозяин Сто Шестьдесят Восьмой станции. Рост средний, возраст неопределенный, старше двадцати, но моложе шестидесяти. Глаза серые, волосы серые, возможно, седые, длинные, обычно собраны на затылке в косу, как это принято у китайцев. Бороды и усов нет, вероятно, не столько вследствие того, что бреется, сколько потому, что растительность на лице вообще отсутствует. Нос прямой, широкий. Губы тонкие. Носит одежду черного цвета, в том числе шелковый китайский халат с застежкой на правом плече, тяжелый, подбитый темным мехом плащ, штаны из хлопчатобумажной ткани и высокие, до середины икры, сапоги, напоминающие кожей летние нанайские унты (их шьют из рыбьих шкур), а формой — «американские» ботинки с тупыми и тяжелыми носами. Движения спокойные, при ходьбе слегка прихрамывает. В степени, достаточной для понимания и ведения беседы, знает несколько языков, в том числе русский, немецкий, китайский, эвенкийский, возможно, английский и монгольский. В разговоре использует слова с большим количеством носового «н» и «х». В хорошем настроении может рассказывать слушателям истории, больше похожие на сказки, но такое настроение у Серого — исключение из правила, а не норма. Приглянувшимся ему людям, чаще всего молодым, может подсказать расположение золотоносных ключей. Однако с такой же легкостью может убить.
Для иллюстации приведем историю о смерти приблизительно в 1911 году Василия Латыпова, известного налетчика на прииски и рудники. Рассказ этот в той или иной форме до сих пор ходит среди старателей, охотников и лесорубов региона, обрастая фантастическими подробностями, меняя время происшествия и имена участников инцидента. Действие, происходившее в 1910-х годах, переносится и отражается на периодах 1918–1919 годов, конце 1920-х, вторую половину 1940-х и даже середину 1950-х. Тем не менее ряд характерных признаков истории, «сюжетное зерно», позволяют объединить все эти рассказы и отнести к разряду «баек о Сто Шестьдесят Восьмой».
Василий Латыпов служил надзирателем за китайскими рабочими на приисках Горно-Золотой. В результате ссоры между Латыповым и местным торговцем Найманом произошла «таежная дуэль», из которой надзиратель Латыпов вышел с легким ранением, а торговца Наймана похоронили на «еврейском» кладбище. В том же году Василий Латыпов объявился в Малом Париже (бывшая Пристань), имея при себе револьвер, винтовку и небольшой запас золота песком и самородками. Некоторое время Латыпов действовал в одиночку, порой, как предполагают, обирая пьяных золотоискателей, порой устраивая нападения на китайцев-спиртоносов, возвращавшихся с приисков, не гнушаясь не только грабежом, но и убийством. Дополнительный штрих: отдельные рассказы старожилов, помнивших те времена, повествуют, что Латыпов прирабатывал в это же время «общественным палачом» и за вознаграждение вешал приговоренных судом общества. Речь, как вы понимаете, идет о самосуде, вплоть до конца двадцатых годов бывшем распространенным явлением в этих местах. Считается, что Латыпов вошел в группу другого, пожалуй, самого известного таежного бандита этого региона, Родия Ликина. Группа Ликина промышляла более серьезными, чем грабежи золотоискателей и спиртоносов, делами. Ближе к окончанию промывочного сезона банда нападала на небольшие рудники и прииски, захватывая весь имевшийся драгоценный металл и оставляя после себя трупы. Кроме Латыпова, в ней было еще около десяти участников, и по крайней мере одна из них — женщина, вполне возможно, Вера Юдина — знаменитая Юдиха других «бандитских историй» этого края. Поскольку, во-первых, живых после себя ликинцы не оставляли и, во-вторых, промышляли в основном на «хищниках», то некоторое время их вроде бы и не существовало. Однако со временем были приняты меры, и главарь банды Родий Ликин выслежен и убит. Однако, похоже, что банда со смертью главаря не распалась, а продолжила действовать уже под атаманством Василия Латыпова. По-настоящему заговорили о Василии со товарищи после их неудачного налета на крупный прииск Удэкан, где Латыпов потерял двух бандитов и был опознан рабочим, знавшим Василия еще по Горно-Золотой. После налета на Удэкан описание Латыпова было разослано по всем более или менее крупным поселкам, не исключая железнодорожные станции и переселенческие деревни. В этой ситуации Латыпову оставалось только одно, — спрятав большую часть добычи и обходя крупные поселения, уходить или на юг, в Китай, или на север, стремясь достичь Якутска. Каким из этих путей решил воспользоваться бывший надзиратель, неизвестно. Известно, что банда разделилась и сам Латыпов с двумя или тремя товарищами осенью (вероятно, 1916 года) вышел на заимку, по описаниям похожую на Сто Шестьдесят Восьмую. К тому времени, после армейских карательных экспедиций на хищнические республики, станция была не более чем расхожей в среде золотоискателей легендой. Чем-то вроде страны Эльдорадо и семи городов Сиболы из преданий американской конкисты. Кроме всего прочего, легенды о Сто Шестьдесят Восьмой и ее Сером хозяине повествовали о накопленных и сохраненных на станции сокровищах, причем не только золоте, но и драгоценных камнях — алмазах и изумрудах. Латыпов не мог не знать эти байки, но даже если и не знал, то, вероятно, выйдя на заимку с небольшим количеством людей и достаточными припасами для того, чтобы прокормить бандитов, решил остановиться там на зимовку. Жители станции как лишние рты и вероятные свидетели-доносчики должны были погибнуть. Единственное исключение главарь банды предполагал сделать для женщины, чей силуэт, наполовину скрытый в тени, он разглядел в окне второго этажа. Произошло это на второй день стояния пришлецов на Гостевой поляне. На все попытки узнать у работников, кто прячется в доме, маньчжуры или отмалчивались, или, в присущей китайцам манере уходить от нежелательных вопросов, делали вид, что не понимают. Когда же Латыпов, показывая на дом, спрашивал их по-китайски: «Куна? Там куна?», неразговорчивые обитатели станции лишь пожимали плечами. В конце концов, приняв для себя решение и посовещавшись с товарищами, Латыпов решительно направился к хозяйскому дому, по пути выстрелив в одного, а затем и в другого работника-маньчжура. Соратники Латыпова в это время, взяв оружие на изготовку, держались за спиной у своего главаря и прикрывали его от возможного нападения. Василий уже поднялся на крыльцо, когда ему навстречу вышел Серый, как обычно, в сапогах и китайском халате.
Разговор, состоявшийся между Серым и Латыповым, вероятно, был коротким. И результатом стало хладнокровное убийство, сопровождавшееся, как говорится в большинстве вариаций этой легенды, словами: «Ладно, коль так…» Что же касается способа убийства, к которому прибегнул Серый, то в этом месте все рассказчики начинают нести околесицу. В одной версии утверждается, что Серый разрубил невесть откуда взявшимся у него в руке клинком грудину Латыпова и, развернув в разные стороны ребра, вырвал сердце бандита. Другие говорят, что то ли Серый превратился в большого зверя, то ли зверь появился из ниоткуда и оторвал Латыпову голову. В третьем варианте объясняется, что Латыпова убила женщина со второго этажа, одна половина которой сияла, как раскаленная сталь, а другая находилась в тени. Откинув все эти и прочие фантазии, следует констатировать, что, вероятно, заслуженная Латыповым смерть была хоть и быстрой, но впечатляющей.
Окончив экзекуцию, Серый приказал бандитам бросить оружие и немедленно уходить, что и было ими выполнено незамедлительно.
Капитан Дорогостайский, в это время проводивший топосъемку на горном хребте Тукурингра, среди прочего записал в своем дневнике о встрече со «свидетелем» этой истории, который назвался товарищем Латыпова и утверждал, что буквально только что выбрался со Сто Шестьдесят Восьмой. Однако позднейшее сопоставление дат налета на Удэкан и времени проведения экспедиции показывает, что капитан Дорогостайский стал жертвой таежной мистификации. Тем более что встреченный на Тукурингре бродяга указать местонахождение Сто Шестьдесят Восьмой станции не смог.
Впрочем, холодная свирепость Серого в рассказе о смерти Латыпова, по большому счету, имеет оправдание. А что касается помощи проходящим на прииски, то достаточно отметить существование на Сто Шестьдесят Восьмой специальной Гостевой поляны. Как утверждает большинство свидетельств о станции и ее Хозяине, постой на Поляне был всегда безвозмездным. Платили только за еду: мясо, крупу и спиртное, и то только в случае, если не ели принесенное с собой. Платить, кроме того, приходилось за услуги кузнеца (самого Серого) или за пользование кузницей в том случае, если среди идущих через Сто Шестьдесят Восьмую имелся свой коваль.
Считается, что открытием золотых запасов в ряде мест золотоискатели обязаны хорошему отношению Серого к тем или иным авантюристам. Причина симпатии, что ни говори, мрачноватого и обычно не склонного к сентиментальности хозяина станции остается тайной и может быть отнесена на счет загадочной непредсказуемости человеческой души. Если же судить «благородные» поступки Серого по тем осколкам информации, что дошли до нашего времени, то в его «благотворительности» может оказаться гораздо больше звериного, чем человеческого. Так, например, матерые волки безо всякой причины позволяют волчатам играть со своими лапами, причем сами щенки, принимая эту внешне беспричинную вседозволенность, начисто отказываются от малейшего такта и ведут себя навязчиво и непристойно. Можно предположить, что и Серый в подобных ситуациях вел себя подобно дикому зверю, то ли снисходительно не обращая внимания на «бессовестность» молодых людей, то ли поощряя их непосредственность. Кстати, большинство случаев, когда Серый показывал себя хорошим рассказчиком, не лишенным поэтического дара, относится к его общению с молодыми, четырнадцати-пятнадцатилетними, золотоискателями.
Хотелось подчеркнуть, что наше отношение к существованию Сто Шестьдесят Восьмой может быть только отношением к легенде. Вероятнее всего, Сто Шестьдесят Восьмая и ее хозяин — собирательный образ, в котором сплавились образы многих, если не всех заимок, зимовий, небольших поселков, хуторков и проживавших в них персонажей. В пользу этого предположения говорит отсутствие точного места нахождения станции, достаточно размытая топография и особенно уединенный, если не затворнический образ жизни обитателей Сто Шестьдесят Восьмой. Несмотря на то что имеются упоминания о появлении в условно цивилизованных местах личностей, в большей или меньшей степени подходящих под описание Серого, у нас нет реальных, задокументированных оснований для того, чтобы считать, что с 1880 по 1950 год в поселках этого региона появлялся именно Серый. Как мы понимаем, указанный семидесятилетний период дает все основания предположить, что даже если Серый и существовал когда-либо не как прототип, а как реальная личность, то, по крайней мере, сохранить свой облик «мужчины неопределенного возраста» был не в состоянии. Скорее всего, черты прототипа, скончавшегося, вероятно, к 1920 году, переносились на других, более молодых персонажей истории освоения этих земель. Так что недостатка в таежных бирюках здесь никогда не было.
Единственная Вселенная
Книга, изданная капитаном флота его величества Тоусоном в 1837 году, называлась «К вопросу о некоторых элементах такелажа и оснащения судна» и была посвящена вопросу сопротивления материалов для судовых цепей и талей. Содержание книги составляли необъятные диаграммы и утомляющие однообразием столбцы цифр. И все это — более чем на двух сотнях страниц, размокших, пересушенных над открытым огнем, испещренных карандашными, угольными, чернильными пометками. Собственно, пометки на полях и между строчек кажутся более интересными, чем труд, устаревший, видимо, на следующий день после своего издания в Лондоне. Среди страниц обнаружилась трогательная веточка с высушенными цветами и листочками, потерявшими всякий цвет. Такие «гербарии» были неизменным атрибутом девичьих альбомов полтора, а то и два столетия подряд. Ни на одно из более или менее мне известных растений эта веточка похожа не была. Исходя из характера пометок я сделал предположение о тропическом происхождении растения. Сами же заметки (не считая подчеркнутых цифр и букв в таблицах и английском тексте) я привожу ниже.
«мед. првлк. 30 ф. ткстл 40 аршин. бисер сткл. ружья — 3, заряды. ВАН-ШЬЮТЕН — хороший старик, боится. заговорю его до смерти. NO вверх по (неразборчиво, видимо, название реки), зулу»
«Центральная. Строго О. носильщики — 6. Курц — Внутренняя. разные слухи. Держаться О»
«табак и хина в пропавшем. слн кость 30 ф жлт мёртв отправил В-Ш. ОЗЕРА»
«плохо чувствую табаку нет совсем. вышли на пустую деревню. ночью убиты 2 носильщика, проводник: озерные племена. носильщики — каннибалы, предлагали, отказался. по следам. к озерам. кость — там»
«Озера. Боятся К. Обожают К. К. здесь — бог. Кость 57 фунтов».
«Пришел Курц. С ним отряд негров. Озерному князьку за торговлю со мной отрезал голову. Собирался убить меня. Отдал кость. Ночью негры К. плясали, ели. К. говорит: против тьмы только тьма. Ночью — совсем плохо барабаны и крики»
«Центральная. Меня принесли негры К. Он на холме, с ним черная женщина. Женщину я боюсь. Пока лихорадило понял: книга, что-то пытается сказать. Сказал К. Он говорит: (отсутствует часть страницы)»
«К. видел мои вычисления, хотел отобрать книгу, подошла эта черная, сказала что-то ему. К. ухмыльнулся. Отправляет вниз по реке с костью. На Центральную»
«Книгу вернул Марлоу. М. — капитан парохода, пришли за костью и забрать К. К. очень болен — лекарств нет, хорошей еды — нет. Черные не хотят отпускать К. Черная ходит на берег — смотрит. Ночью — пляски. К. разговаривает с М. Мне нужно уходить»
«М. дал патронов и табаку. У М. записи К. Черная, скорее убьет К. чем отпустит его. Тьма принимает всех. Тьма никого не отпускает. SW голландские поселения. Книга указывает: тьма, золото, родий. РОДИЙ?»
«Кейптаун. Англичане победили. золото песку 12 унций самородок 2 унции. пар. шхуна „Деймос“ S-моря матросом. ирландец отдал собаку. белая с рыжими ушами. молчит. ирландец: у меня на родине такие собаки чуют тьму они сами из тьмы. По слухам, К. умер на пароходе М. пересчитал — тьма золото и РОДИЙ(?)»
«Цейлон. Ночью — Черная. говорит: доверься собаке»
(страницы 25–32 отсутствуют)
«Манила (две строчки неразборчиво) Ван Нольтен. лаяла. опять Черная. Вечером следующего — ВН — на берегу зарезали малайцы»
«Шанхай. Черная указала на N.»
«На Формозу. Невозможность деления на 0 — познание сущего. Х/0 стремится в бесконечность, т. е. вселенная. Но Х/Х=1 след-но, 0/0=1=вселенная. Т. е. 1=всему. Ничто, деленное на ничто, — результирующая ЕДИНСТВЕННАЯ ВСЕЛЕННАЯ. Т. е. 0/0, суть Божественное творение (Кн. Бытия. 1) посему — деление на 0 есть протест равенством против Б-га. Собака выросла»
«Владивосток. Сошел на берег. Получил предложение на Амур. Хабаровск — Благовещенск»
Это то, что я смог разобрать. Кроме них были еще многочисленные значки — то ли шифр, то ли иероглифы.
Дракон за перекатом
Лун, дракон, что жил в заводи за перекатом, никогда не задумывался над тем, насколько он стар. Драконы вообще не задумываются. Концепция возраста, времени как количества чего-то прошедшего и того, что еще предстоит, драконам, существующим всегда и везде, неизвестна. Впрочем, иные концепции драконам тоже неизвестны. С точки зрения большинства философов драконы ведут бессмысленное существование, но поскольку концепция смысла Луну была неизвестна, то он жил себе и жил в заводи за перекатом. В тот год, когда по приказу одного военачальника тысячи весел вспенили воду, где Лун был черепахой, он отправился в плавание, которое не было ни коротким, ни долгим, потому что… Смотри выше: драконы, даже когда они еще черепахи, о времени не знают и вполне без него обходятся. Тела в меховых халатах с нашитыми на них железными пластинами опускались на дно. Волны и течение гнали осколки разбитых спасительным «божественным ветром» кораблей. Лун, тогда черепаха, смотрел на одно тело до тех пор, пока оно совсем не растворилось в холодной тьме. После этого Лун поплыл дальше. Потом вода стала пресной, и Лун встретил другого, черного, дракона, который в этом потоке был Калугой. Сколько понадобилось Луну, чтобы стать тем, кем он был сейчас и облюбовать себе заводь, которая ничем не отличалась от тысяч других заводей? Да нисколько, потому что времени для драконов нет. А заводи… Эта, другая, третья — разницы между ними, как между облаками, что отражаются в воде океана, моря, реки ли… Разница между ними в том, что вот сейчас Лун здесь, а вон в тех Лун не сейчас.
Спину Луна видели якутские казаки. Обмороженные, обветренные, заросшие усами, бородой, бровями так, что виден был только голодный блеск глубоко запрятанных глаз, казаки бросали жребий, кого они съедят. Жребий выпал на Юрку Федотова, и тот уже прощался с товарищами, не задавая лишних вопросов, будут его варить, печь или жарить — не до разносолов. И съели бы. Да тут на счастье ли, Богородица ли сжалилась, или Никола Угодник что Господу шепнул, только вышел на ватагу сохатый. И пищаль была заряжена, и стрелок, Мишка Кривонос, маху не дал — повалил лося. Так вот спасся Юрка Федотов, потом дауры его уже на Амуре убили, но то доля казацкая, нет греха в ней, не то что людоедство. За подарок этот, за сохатого, за то, что Господь уберег, казачки на том месте камни насыпали и крест поставили. Вот как раз когда поднимали крест, Филипп Отпущенный увидел с берега мелькнувшую в полынье-промоине спину Луна.
— Глянь-ка, чисто серебро черненое! Эко диво-то!
А Лун развернулся и ушел по реке.
Потом тишина, тишина, тишина, сны и река течет-течет-течет. Приходит по своим тропам Уруй, которому тоже до времени нет дела, посидит-посидит на берегу, пошуршит в свой бубен, дернет пару раз пластинку на хамусе, поднимется, закинет понягу за плечи и уйдет по своей реке, которая, как любой из драконов, всегда и везде, иногда только не здесь. И опять сны, тишина, тишина, тишина.
Пришли на лодках русские. Постояли на берегу, постояли, — ушли дальше, оставили после себя водомерный пост, смотрителя с бабой. Баба ему ребенка родила, потом второго. На поляне торжище образовалось. Дауры с низовьев приходят, манегры, китайские купцы, русские зверобои. С северов на своих лохматых толстых лошадках, совсем как олени копытящих из-под снега мох, приезжали якуты, привозили мамонтову кость. Тунгусы приходили с оленями, привозили сорока соболя, белки, лис привозили рыжих и черных с проседью. Тунгусы и показали смотрителю-водомеру, когда печень оленью в реку кидали: «Смотри, луча-начальник, видишь: тень блеснула, однако, Лун-большой. Его здесь ходи по реке. Вверх ходи и вниз ходи. Спи — ходи. Живи — ходи. Лун». Смотритель покивал, да ничего не понял. «Кто такой Лун? Какой такой Лун? Таймень. Здоровый. Вот бы выловить».
Потом уже все, кто ни появится в городке на берегу, знали, что ниже переката живет кто-то большой. И на живца его пытались, и на мыша, переметы ставили, санки таскали, сети ставные и невод заводили — а все без толку. Луну-то что? Сеть она же здесь только. Да и как ты дырками Луна поймаешь? А живец там, или мышь, или лягушка, на что они Луну, который дракон? И еда ему эта ни к селу, ни к городу.
А потом… Спал Лун и видел свои сны. И проснулся, как будто позвал его кто. И прямиком к тому месту, где на отмели, почитай на берегу самом стоит мальчишка, черноглазый и молчаливый подкидыш, неизвестно чей сын… Стоит и молчит, а все же зовет, и Лун, совсем как тогда, когда был черепахой…
— Ты видел, какого тайменя Родька, подкидыш, Ликин поймал? В два раза больше его самого рыбина, здоровенная, что калужонок хороший. Это, видно, тот, что под перекатом жил. Уж чем его только не пробовали взять — не могли, а Родька этот… Так самое-то интересное, ты думаешь, на мыша там, или на живца, а то острогой? Так нет! Голыми руками, прямо с берега…
Лун, дракон, живший в заводи за перекатом, был как таймень… Ну съели того тайменя, кости выкинули, шкуру сняли, паклей набили, губернатору отправили. А Лун-то тут при чем? Лун — дракон. Лун теперь (а оно для дракона всегда и везде — одно «теперь») в другой реке, в другом омуте, через другие пороги ходит. Вон, подними голову, может быть, то облако, а может быть, вон то, что потемнее… Или вон то, видишь, что-то там мелькнуло, как золото червонное…
Шашков и Касицын
Женя и Саша дружили. Не то чтобы были неразлучны, но тем не менее. Зима у нас наступает рано, однако именно в это предзимнее время особенно хорошо на далеких речках ловится ленок, хариус и таймень. На попутном лесовозе пятнадцатилетние пацаны добрались до верховьев речки и где-то в тайге пропали. Через неделю посланная на вертолете спасательная экспедиция ничего не обнаружила, несмотря на то что тайга стояла голая, прозрачная и в тех местах уже присыпанная первым снегом. На следующий год в двадцати километрах от места высадки друзей промысловики наткнулись на остатки зимовья, в котором лежал истлевший труп безымянного старателя. Лежавший рядом с ним «Винчестер» 1886 года выпуска и разнесенный череп не оставляли никаких сомнений, что золотодобытчик еще в прошлом веке застрелился. Ну, да и Бог с ним, имя его неизвестно, точно так же как неизвестно, куда делись Женя Шашков и Саша Касицын. При чем здесь мертвый приискатель? Наверно, и в самом деле ни при чем, просто подвыпивший промысловик проболтался мне, что нашел в той зимушке современный алюминиевый котелок с самородком граммов на пятьсот, уложенным в детскую матерчатую перчатку. Верить? Даже и не знаю, потому что тот же промысловик рассказывал, что неоднократно встречал красного волка и огромные следы снежного человека. А тот слиток сдал то ли чеченам, то ли ингушам.
Старая фотография
Когда я пошел в первый класс, меня посадили за одну парту с полненькой черноглазой девочкой Люсей. История наших взаимоотношений интересна, поучительна и изобилует архетипическими комплексами, нереализованными и реализованными желаниями, провинциальной скукой и замшелым вожделением. В другой раз она, эта история, вполне могла бы украсить какой-нибудь литературно-краеведческий альманах с претензией на постсоветский авангардизм. Но это, как говорится, в другой раз. Люся Лисицына. Да. Фамилия важна, потому что Лисицыны, Касицыны, Марьясины, Подрезовы, Максимишины — это все фамилии если не основателей Маленького Парижа, то как минимум тех, кто поселился здесь одними из первых, еще во второй половине девятнадцатого века. Все они обживали правый, высокий берег, в отличие от Левобережной слободы, где селились прислуга, нищета и прочая переселенческая шантрапа. Эти семейства — не чета и нам, появившимся здесь в начале семидесятых века двадцатого и проживавших в бараках Временного поселка. Строились они основательно. Тяжелый лиственничный кругляк. Четырехскатная крыша, крытая железом. Высокие завалинки и окна, всенепременно с резными наличниками и тяжелыми ставнями. Глубокие подвалы. В каждом дворе — баня такого размера и такой основательности, что где-нибудь в Соединенных Штатах вполне бы сгодилась если не на форт, то на блокгауз. В этих домах и на этих подворьях обитали поколения таежников, охотников, золотопромышленников, самогонщиков, контрабандистов, браконьеров, из которых получались не только бандитствующие революционеры и герои, но и великолепные учителя, и знаменитые врачи. Впрочем, бандитов и беглых каторжан всегда почему-то было больше.
Люся Лисицына происходила как раз из такой семьи. Причем, это я теперь понимаю, не какая-то там боковая седьмая вода на киселе, привитая веточка, а самый что ни на есть центральный ствол от корня. Я заглядывал в черные глаза и носил за Люсей портфель. Поэтому на правах «первоклассного» кавалера был если не другом, то как бы одним из детей прислуги со Слободы, которому по воле каприза ли Люсиного, либерализма ли основательного семейства, но все же позволялось не только входить в большой шестикомнатный дом, но и перебирать старые вещи Лисицыных, накопленные четырьмя, а может быть, и пятью поколениями. Старые вещи, даже такие обыденные, как рубанок и маслобойка, этажерка и навесной замок, обладают замечательным качеством, не говоря уж о карманных часах, барометре, патефоне, самоваре, а наособицу золотом браслете с зелеными камнями — он лежит в особой шкатулке, и по особым дням его надевает Люсина мама. Даже если эти осколки давно отошедшей эпохи, которые вроде бы уже и не существуют давно, только притворяются настоящими, им, этим старым вещам, подобная мистификация, попытка стать реальными порой удается значительно лучше, чем современным вещам.
Как-то раз мы с Люсей перебирали бумаги и старые фотографии, снятые нами с чердака. Были там рождественские и пасхальные открытки. Было несколько почтовых карточек с нарисованными китайцем, японцем, немцем, англичанином, французом и бравым русским казаком — как я понимаю, что-то из политической агитационной карикатуры периода Русско-японской войны. Что-то еще… Пара монет с квадратными дырками по центру, цветные бумажки — то ли боны, то ли чеки, то ли еще что. И где-то среди всех этих сокровищ нашлась старая фотография на плотном паспарту. На фотографии два человека. Точнее, один человек, а второй… Второй — даже на фотографии видно было, что он не живой, но и не манекен. На обороте написано когда-то фиолетовыми, а теперь выцветшими почти до желтизны чернилами: «Степанъ Лисицынъ съ чучеломъ Родия Ликина. Собрание золотопромышленниковъ».
— Кто это? — спросил я у Люси.
— Это, наверное, папин прадедушка, — сказала Люся.
— Аааа. Понятно. А этот, который рядом?
Люся не знала и поэтому позвала бабушку. А бабушка…
— Где вы это нашли? На чердаке… Нечего вам ерунду всякую. Еще заразу какую подцепите.
— А кто это?
— Дед.
— А рядом?
— Маленькие вы еще. Ни к чему вам это.
И фотографию забрала. Унесла куда-то, спрятала.
Потом я слег со скарлатиной.
Среди разнообразных бредовых картин, когда температура поднималась за сорок, я помню одну и ту же фигуру неживого человека, стоящего рядом со Степаном Лисицыным в каком-то собрании золотопромышленников.
Юдиха
История из 1916(?) года.
Семейство золотопромышленника Юдина ночью вырезали. Самому хозяину голову раскроили топором, сыновьям, Васе и Лене, волчьей картечью в упор разнесло затылки, дочку, Людочку Юдину, нашли в спальне с перерезанным горлом. Та же участь постигла и всю немногочисленную прислугу. На месте кровавой драмы среди тел не оказалось только бывшей жены покойного главы семейства — Веры Никифоровны, известной героини обороны губернского центра в дни Боксерского восстания. В те времена ей на грудь навесили серебряную медаль, а теперь она исчезла вместе с горным мастером Шелудько. Одна версия дальнейшего развития детективного сюжета гласит, что «полюбовников» нашли на заимке купца Окладова в Сухом Ключе, где и устроили суд Линча, не дожидаясь приезда полицмейстера. По другой версии, Юдиху встречали в 1929 году в Даляне.
Насколько верны та или другая возможность жизни возможной убийцы, судить трудно. Кто сейчас за давностью лет сможет утверждать даже то, что героиня обороны губернского города и кровавая Юдиха — одно лицо?
Кто-то мне сказал, что видел на кладбище при православной церкви в Харбине деревянный крест с надписью: «В. Н. Шелудько».
Лыховы
В начале девяностых мне довелось оказаться в одной из старейших казачьих станиц, основанных по левому берегу Амура. Сельский глава, бывший замначальника заставы по складу и прочей хозяйственной части, по-моему, Орлов была его фамилия, поил редкой по антиалкогольному закону «Столичной», угощал маринованной свекольной ботвой и познакомил с двумя старейшими казаками. Оба деда друг друга на дух не переносили, потому что отец одного был в красных партизанах, а отец другого казачил за белых. Красного в какой-то стычке убили то ли японцы, то ли бандиты. А белого в 1932-м во время подавления крестьянского восстания забрали чекисты. Самое интересное, что оба деда служили во время Отечественной в одном полку и на встречу пришли, увешанные не только своими боевыми и юбилейными наградами, но и медалями своих расстрелянных отцов. Набор наград у того и у другого был совершенно идентичный, включая серебряные «За поход в Китай», бронзовые «За Японскую войну» и по два Георгия. По-моему, с «красным» я встречался до обеда, а «белый» пришел под вечер, впрочем, могу и перепутать, потому что принципиальной разницы между ними я не заметил. Оба хвалили Сталина и ругали Горбачева, оба звенели наградами, оба пришли с самогонкой, и каждый избегал говорить о другом. История, рассказанная ими между воспоминаниями о том, как они с Жуковым планировали взятие Кенигсберга и Берлина, и рассуждениями, почему Австрию нужно было отдать капиталистам, сложилась из разных кусков как бы сама собой, и я записал ее приблизительно, так, как услышал. Впрочем, вы же понимаете, что одно дело, что говорят, и совсем другое, что мы слышим.
Братья Лыховы, Борис и Глеб, были близнецами, не похожими ни на отца, ни на мать. Одной из причин для того, чтобы по пьяному делу бить друг другу морду, был спорный вопрос, кто старший. Говорят, в детстве они были так похожи друг на друга, что даже батя и мамка — и те путали их, не говоря уж обо всей станице. Избу Лыхов поставил вверх по течению Амура, несколько на отшибе; это если в сторону туберкулезной больницы идти, то нужно чуть влево взять вот как раз перед сосняком. Там сейчас ничего нет. Братьям было года по два-три, когда их мать родила дочку. Через год после этого, аккурат в воскресенье, вверху станицы высадились хунхузы, и мать Лыховых увели за реку. А сам Лыхов был в разъезде, потому-то хунхузы и смогли увести жену его. Если бы отец был дома, у них бы этого не получилось, потому что он знатный казак был. Мать же, видя, что к дому подходят китайцы, наказав братьям бежать в станицу, всучила им дочку, а сама взяла ружье и пошла «встречать гостей». Говорят, когда станичные казаки прибежали, поднятые по тревоге, у ворот лежал один застреленный китаец, а в том месте, где причаливала лодка, — еще один. Вроде бы того, что у избы, убила сама хозяйка, а того, что на берегу, видно, только ранила, но тяжело, так что китаезы своего и добили. Лыхов после этого совсем озверел, ну, да это понятно почему. Несколько раз подбивал казаков в набег на правый берег, и те поначалу соглашались, а как поняли, что толку от тех китайских сел, что за Амуром, нет — ну что там, в самом деле, было взять, нищета сплошная, — стали отнекиваться да прикрываться тем, что то по хозяйству дел хватает, то тем, что у нас-де с Китаем мир заключен еще когда, то еще чем. Тогда Лыхов взялся все сам в одиночку делать. Нет, если там по обязанности воинской какой, в разъезд или в город по приказу — это он не отказывался, но все остальное время хозяйством не занимался, а пропадал за рекой. Все выискивал тех хунхузов и жену свою. Понятно, ничего не нашел. А через пару лет, получается, Борису с Глебом уже лет по семь было, на острове, что чуть ниже станицы, там постоянно ярмарку проводили, вот во время базарного дня, когда с нашей стороны торговцы приехали и с той стороны тоже, Лыхов прокрался пластуном в палатку самого богатого и знатного торговца — то ли мандарина китайского, то ли бонзы какого, — и всех, кто в той палатке был, в одиночку, как свиней, порезал. И что главное-то, после этого от охранников живым ушел. Вот, значит, какие дела. Китайский император потребовал от нашего губернатора выдать того казака, кто учинил такой разбой, ну а нашим властям, хоть те и знали, что этот мандарин убитый — главный у хунхузов, ничего не оставалось, как предупредить Лыхова, что его придут арестовывать. Ну а раз предупредили, то понятно, что к тому времени, когда за казаком пришли, того и след простыл. Куда он делся, никто не знает, а если и знали, так молчали так, как будто не было такого казака. Ага, значит, так: Лыхова нет, а детишек его, Бориса и Глеба, вместе с сестрой их Анной на воспитание взяло общество. То есть они продолжали жить в своем доме и хозяйство вели, как могли, а станичные им помогали, да за ними присматривали.
Братьям уже по пятнадцать или шестнадцать было, когда они выстолбили ключ, что по сию пору Лыховым зовут. В том ключе, значит, они сказали: «Золото», и они его мыть будут. Кому бы другому никогда бы не дали, а так сироты же, потому и разрешили. Ну вот, Лыховы взялись приносить золото и сдавать его на Жидке. Жидок — это внизу станицы, как раз у протоки. Там евреям общество разрешило поселиться, потому и называется Жидок. Ну, это так, к слову, значит, потому что золото то песком да самородками вовсе не оттуда было. На Лыховом ключе отродясь золота не было. Борис же с Глебом что удумали? Прознают, что китайские спиртоносы пошли на северные прииски, прикинут, когда те, после того как спирт на золото поменяют, будут возвращаться и какой тропой, так там и устроят засаду. Ну, и грабят. Может, и убивали кого, но то неизвестно, скорее всего, просто в воздух постреляют, потом соберут котомки, что китайцы побросают, и золото уже на Жидке продают, дескать, у себя на ключе намыли. Торговцы, понятное дело, знали и понимали, что к чему, золото оно же даже на вид разное бывает, то с белизной, то с зеленью, а есть ажно красное. И вот по этому виду можно сказать, откуда какое, с Уньи там, или с Гомона. Ну, да торговцам же, понимаешь сам, все едино — золото оно и есть. А братья так и не отпирались особо. А те, кто пытался их ущучить, так сами пожалели, с ними, с Лыховыми-то, связываться было себе дороже. Это они меж собой вроде грызлись, а как кто со стороны, так они вместе. Сестра же их Анна, говорят, к тому времени вошла в сок, и девка была знатная. Братья на нее ничего не жалели, то Борис подарков принесет, то Глеб. Короче, девки в станице краше не было. Сыновья казацкие к ней уже и так, и этак, с опаской, понятно, братья-то, говорю же, Лыховы, и на вечерках подходили, и сватов засылали. Братья вроде и не против, лыбятся знай себе, дескать, пусть сама решает, а она: «Нет», — и все тут. Вот такие, значит, дела. Поговаривать уже стали, что ей вообще мужики неинтересны и что те молодухи и бабы, что не против «поиграться», пока мужья на службе, к ней похаживают, особенно когда братьев дома нет. Так это или не так было, кто же теперь угадает, тем более что братья быстро говорунов осаживали. Нет, морду не били и не калечили, а просто баб пороли на пару. Ну, в смысле не ремнем, а в два хера. Причем, как говорят, бабам это даже нравилось. А потом разговоры про Анну сами прошли, потому как оказалось, что она брюхата. Как только стало заметно (летом, кстати), так сразу и прошли все эти разговоры. А потом Анна исчезла.
Понятно, что рожать куда-то отправилась. Но до того как исчезнуть, вроде бы она рассказала кому-то из баб, что ребенок, кто в ней, не от человека, а от зверя, что пришел по зиме к ней и посмотрел на нее. Что за зверь, как посмотрел — ничего не известно. Да и треп все это, где ж это видано, чтобы от одного звериного взгляда брюхатилось?! В любом случае Анну ждали и поговаривали, что это сын одного еврея и его китаянки с Анной полюбился, за это, дескать, его братья с Жидка вывезли и в Лыховом ключе кончили. Да только все это не так было.
Через год, как Анна исчезла, в конце лета братья принесли на Жидок золото. Среди песка и мелких самородков на жестяном прилавке торговца Пейзеля был тяжелый литой браслет совершенно необычного маслянистого оттенка. «Что это?» — спросил Пейзель. «Золото», — сказал Глеб. «Это я вижу. Я спрашиваю, что это за самородок такой?» — сказал Пейзель, обнюхивая металл. «Так ты берешь по весу или больше дашь за кольцо?» — осклабился Борис. «Нет-нет, что вы, я таки беру, сейчас взвесим», — засуетился еврей. А братья, глянув друг на друга радостно, как жеребцы, заржали. И, получив ассигнациями, отправились домой, попутно купив в лабазе ведро водки.
Вероятнее всего, в этот раз пьяное выяснение, кто из них старше, зашло слишком далеко. В полдень следующего дня есаул Ильин нашел обоих братьев на том самом месте, где их мать метким выстрелом положила первого хунхуза. Глеб, которому выстрелом из револьвера снесло половину черепа, держал в руке казенную шашку. Изрубленный Борис лежал лицом вниз, но еще дышал. Когда Ильин перевернул умирающего, тот прохрипел:
— Говорил же я ему, что я — старший… И ребенок — не его… Мало ли что там… Мой ребенок…
И умер.
Иванов
Сергей Иванов в нашем городе прославился тем, что долгое время был геологом и большим любителем фотографии. Почти профессионалом. На небольших выставках его горные и таежные пейзажи всегда имели определенный успех у провинциальной публики, любимые же фотоснимки Сергей показывал только избранным и еще дарил их своим натурщицам. Когда геологическую партию закрыли, посчитав, что романтикам из пятидесятых-шестидесятых больше нечего делать в нашем районе, Сергею, по причине его высшего образования и книголюбства, предложили место директора книжного магазина. Иванов согласился и около полугода проработал в новом для себя качестве. 31 декабря его, в красном пуховике, без шапки и изрядно пьяным, видели на автобусной остановке. 2 января жена Сергея пришла в милицию с заявлением о пропаже отца двух детей. Кто-то сделал предположение, что Сергей отправился к одной из натурщиц. К фотографиям попытались пришить дело о производстве порнографии, дело передали в ФСБ, но ничего путного из этого не вышло. Все слухи о длинных волосах, связанных в косичку над воротником красного горного пуховика, встреченных на железнодорожном вокзале, не подтвердились — и все, что известно об исчезновении фотографа-книголюба, укладывается в скупые предновогодние воспоминания женского коллектива книжного магазина и еще более мизерные воспоминания очевидцев, запомнивших красный пуховик на холодной автобусной остановке. Вот и всё.
Беглецы и пропавшие
В тот год, когда из камеры местного СИЗО, перепилив прут решетки бритвенным лезвием «Нева», заставив дежурного лейтенанта вскрыть оружейную комнату и унеся с собой два автомата и пистолет, сбежали трое подследственных, практически в то же самое время жителями Маленького Парижа остался незамеченным инцидент с детьми, заблудившимися в районе Горно-Золотой. Беглых ловили чуть больше двух дней. Вертолеты, перекрытые дороги, досмотры автомобилей и, в конце концов, стрельба у базы отдыха и три трупа. Осталось загадкой, с чего это вдруг трое подследственных, дела которых были вовсе уж не такими тяжелыми, рванули в бега и что это за мент-лейтенант, чуть ли не добровольно сдавший оружие и патроны. Трупы в лучших традициях нашей северной тмутаракани молчали, ничего не объясняя. Другое дело — дети.
До Горно-Золотой от Маленького Парижа километров, почитай, двести будет. Сам же поселок, некогда золотой рудник, открытый еще в 1885 году, окружен не по разу просеянными отвалами «пустой» породы, на которых периодически ловят людей с металлоискателями, ищущими фартовые самородки. Насколько удачно — не знаю. Знаю, что в те, еще давние, времена на этих отвалах сидели на корточках китайцы и лоточком перебирали эту уже промытую, прошедшую ртуть породу. Что там могло остаться? Впрочем, сам не поднимал, но слышал, что особо фартовые на семь лет строгого режима намывали.
В тот день, когда с утра трое беглых смотрели за тем, как дед Федотов на берегу Реки возился с лодочным мотором (и ему повезло, что «Привет» так и не завелся, иначе мужика застрелили бы ни за что ни про что и ушли бы, пока хватало бензину, вниз), Слава Згирский, сын маркшейдера артели «Восток», и Дима Рассадин, сын геолога Малопарижской геологической партии, отпросились на весь день половить хариусов. Дед Федотов, в чьем прошлом насчитывались три уголовные ходки еще при Сталине и чуть ли не тридцать лет лесоповала, от души, но без злобы, матерился на мотор, потом взвалил себе его на плечо и под внимательным взглядом трех пар глаз поволок в избу. Мальчишки взяли с собой соли, хлеба, каких-то овощей, артельная повариха дала им кусок сала, понятное дело, удочки, лески, мухи, спички — Згирский утащил у отца пачку «Беломора» — и отправились на дальние ключи. Уже за поселком их подобрал артельный шнырь Сашка Банан и подвез до ближайшего чистого ключа. Беглые решили уходить по трассе в сторону Транссиба, надеясь по пути найти еду и транспорт, а Славка и Димон отправились вниз по ключу, закидывая свои снасти то прямо в перекаты, то в глубокие ямы. К вечеру пацаны в Горно-Золотую не пришли. К ночи беглецы добрались до того места, где Могча впадает в Реку, и там, в только начавших отстраиваться дачных домиках, заночевали.
С утра маркшейдер Згирский и геолог Рассадин подняли артельщиков, и от места, указанного Бананом, пошли по ключу, выкликая пацанов. Мужики, обычно ворчливые и виртуозно матерящиеся по поводу всего, что касается уменьшения трудака, в этот раз не просто не заикнулись, что, дескать, это не их дело по тайге сопляков искать, а даже прикрикнули на Борьку Хохла, приехавшего на сезон из-под Минска и пытавшегося отвертеться от участия в поисках. Поначалу следы пацанов попадались вдоль воды то на одном берегу, то на другом. Сломанная ветка, след на песчаной косе, нитка на сучке, окурок… А потом — как отрезало. К вечеру, возвращаясь, охрипшие, искусанные гнусом и комарами, мужики строили предположения, куда могли отправиться мальчишки, отцы уже не грозились спустить шкуру с сыновей, а готовы были всю ночь бродить по тайге, и если бы не артельщики, в образных выражениях на могучем русском языке объяснившие им, чем это все закончится, так бы, наверное, и сделали. Кто-то из стариков вспомнил, как лет десять назад, правда по зиме, на трассе из Дондуков на наледи перевернулся «магирус» и один из водителей погиб, а другой, Смирнов который, просто пропал, и как его ни искали — ни-че-го. Снегопад, правда, был тогда сильный — все засыпало, но все же… Был Смирнов и весь пропал. «Дааа, — протянул кто-то, — тайга, мать! Такое вот дело, тут свои тропы, етить».
Беглые выше по течению перешли Могчу и вдоль дороги, но не выходя на нее, то по ЛЭП, то просеками, то старым трактом, прячась в кустах, едва заслышав вертолет, шли в сторону железной дороги. Первым собаку услышал тот, что шел замыкающим. Затем и те, двое, что шли впереди, обернулись на лай и увидели. Белая собака бежала по их следам. «Что за! — вырвалось у первого. — Они нас, как изюбря ставят, что ли?!» Второй ничего не сказал, а просто поднял короткостволый автомат и стал стрелять. Собака не остановилась, а продолжала бежать и лаять. К стрельбе присоединился второй, и даже третий, понимая, что из «ПМ» по бегущей цели все равно не попадет, сделал пару выстрелов. Собака продолжала бежать и лаять. Беглецы уже отчетливо видели ее белый цвет и рыжие, цвета свернувшейся и высохшей крови уши, и тут с той же стороны, откуда прибежала собака, появился человек. Первый продолжал короткими очередями стрелять по собаке, а второй переключился на темный силуэт. Третий же, размахивая пистолетом, бросился удирать. И в этот момент, привлеченные стрельбой, их увидели сержанты Синцов и Романенко. Они (да и не только они) потом гадали, что же заставило беглых устроить пальбу, но это потом, а в тот момент Романенко просто прицелился и просто пристрелил несшегося на него и размахивавшего пистолетом третьего. Второго и первого стреляли уже вместе — и кто там кого? Начальство спрашивало про предупредительный. «А как же, конечно, стреляли. Два раза. По уставу. Они ответили стрельбой. Ну, нам ничего не оставалось, как…» Ни Синцов, ни Романенко собаки не видели и не слышали. Романенко потом признался напарнику, что вроде как увидел какой-то силуэт, но… «Знаешь, вот как марево над асфальтом в самую жару, что-то вроде, да, а потом пропало». «Привиделось», — отмахнулся Синцов.
Мальчишек искали неделю. Вроде бы даже находили их стоянки, но потом оказывалось, что стоянки вовсе и не их, другие рыбачили. Пропавших увидел шофер почтовой машины, что шла в Горно-Золотую и дальше, на трассе, за пятьдесят километров от поселка. Мальчишки сидели на Орбинском мосту. Искусанные комарами, ободранные, но целые. Шофер сразу понял, кто это, и поэтому, несмотря на инструкции не перевозить посторонних и не останавливаться нигде, кроме как на почтовых отделениях, остановился, выскочил из «уазика» и подбежал к пацанам.
— Глаза у них перепуганные, сидят трясутся и молчат. Я к ним. А они — ноль внимания, куда-то мне за спину смотрят. Я обернулся, думаю, может, там что есть, так не было там ничего. Идем, говорю им, в машину. А они на меня смотрят, как будто не понимают совсем, и молчат. Я их спрашиваю: «Есть-то хотите?» Молчат. И ведь что еще: они же не голосовали на дороге, а просто сидели на мосту и сидели. Такого страха я натерпелся. А тут еще, как назло, тишина такая стоит. Ни ветерка, ничего. Даже и речка под мостом вроде не журчит. Страшно мне стало. Запихал я их по одному в кабину и поехал оттуда, а у самого мурашки по коже, как будто кто-то на меня смотрит, только я его не вижу.
Шофер, не заезжая на почту, привез молчаливых мальчишек в поселковую больницу. И только в палате они заговорили. Згирский спросил у врача: «А удочки наши? И харюза?» А следом за ним Рассадин сказал, что отец с него шкуру спустит за то, что их две ночи дома не было. Родителей, потерявших уже всякую надежду, пустили к сыновьям только к вечеру, когда мальчишки уже более или менее понимали, где они и что никто их наказывать не будет. До этого времени врач убеждал отцов, что дети в нормальном физическом состоянии, никаких признаков истощения, никаких ран и травм, просто переживают психологический шок от приключения, и если их не дергать, скоро придут в норму. До той же поры с детьми разговаривали только врач и милиционер. Через два дня и Дима Рассадин, и Слава Згирский ничего не могли вспомнить из того, что с ними приключилось в тайге. «Вытеснили и забыли, — объяснял врач, — под гипнозом могут и вспомнить, только нужно ли это, а?» По скупым отрывочным фразам, как будто дети снова учились говорить, одновременно с восстановлением языка теряя воспоминания, врач и милиционер восстанавливали и получили следующую историю.
Они заблудились на обратном пути, когда попытались «спрямить» дорогу домой. Когда село солнце, на берегу разожгли костер и устроились на ночевку. Ужинали пойманной рыбой, запеченной на углях, хлебом и салом. Всю ночь поддерживали огонь, не от холода, а от испуга. Под утро, когда по распадку пополз туман, к стоянке мальчишек подошел человек. «Промысловик с собакой», — сказал Дима. «Нет, не эвенк. Русский», — добавил Слава. Описать человека мальчики сначала не могли, как будто не хватало слов, а потом, когда слова появились, не хватало уже воспоминаний. «У него глаза — черные-пречерные. И собака большая, белая, и уши у нее. А ружья у него не было. Оно ему ни зачем, потому что он кого угодно — хоть рыбу, хоть птицу, хоть зверя — позовет, и те приходят. Нож у него — да, потому что рыбу и рябчика потрошил. А поймал руками, они сами пришли. Он и нас научил, мы потом таких ленков ловили. Нет, не старый. Как Банан». Следующую ночь они спали уже спокойно, потому что мужчина с собакой устроились рядом. А утром, когда вторая луна ушла, сказал Згирский, мы тоже поднялись и пошли. Тропа там хорошая, пологая, вот по ней на дорогу и вышли. «Сумки наши с рыбой и удочки у моста должны быть», — сказал Рассадин. Когда мальчишки узнали, что бродили по тайге больше недели, не поверили, потому что по их ночевкам получалось два с половиной дня. Это вместе с первым днем рыбалки, а если без него — то полтора дня, никак не больше.
За сумками вызвался съездить Сашка Банан — как раз по шнырю работа. Говорит, что ни удочек, ни сумок не нашел, вот только Игнат Аввакумов признался как-то по пьяни, что Сашка сумки нашел, а в сумках среди здоровенных черных хариусов размером с хорошего ленка были завернутые в тряпицы крупные самородки. Аввакумов ему потом помог их толкнуть через «чурок». Но, может быть, врал, потому что по пьяни.
Славка Згирский лет десять назад уехал в Якутию, где женился на эвенкийке и теперь председательствует в родовой общине. Владеет хорошим стадом оленей, зимой ходит на промысел, в кругу друзей может хорошо выпить и тогда, если дело не в городе, конечно, а у реки или просто в тайге, показывает номер, пользующийся неизменным успехом у всех, кто это видит. Если у реки — пихает в воду руку и вытаскивает живого хариуса, ленка, таймешка или муксуна. А если в тундре или тайге — то поднимает руку, и к нему прилетает куропатка, рябчик, глухарь. Ну а коли по времени гуси летят, то и гуся ловит.
И последнее. Рассадин через два года вместе с отцом уехал в Ленинград и, перед тем, как в восемьдесят пятом погибнуть на одном из перевалов в Афганистане, увидел того самого черноглазого человека, идущего к нему, а рядом с ним большую белую собаку. Человек прикладывал палец к губам, как будто говорил: «Тихо!», а собака залаяла, и сержант ВДВ Дмитрий Рассадин «погиб, выполняя интернациональный долг».
Наташа
Она не любила, когда ее называли «подруга», и требовала от меня, чтобы я называл ее Натали. Вот еще! Встречались мы с ней всего-то пару раз, так что какая тут изысканность! Откуда она взялась? Ума не приложу, кажется, сама подошла в баре, попросила прикурить, а потом и выпить, ну и так далее. Мой знакомый показывал ей «Прирожденных убийц», а еще она была фанаткой Лагутенко, говорила, что ее фотографировали для журнала, только вот какого, не говорила. Куда она делась? Может быть, уехала учиться на медика, что вполне вероятно, я не знаю. Только Серега Иванов фотографировал ее голой и соблазнительной. Мне его друг, художник Зорин, фото потом показывал.
На голубичниках
Настоящая тайга начиналась за хребтом, а здесь вокруг городка был лес. Нормальный лес. Береза, осина, сосняки, немного липы, хилые северные дубы — все вперемежку. А лиственница, ель, пихта — это все за хребтом. Золото, оно тоже там, на севере. Здесь, особенно по левому берегу, в ключах, оно вроде есть, но так, по мелочи, со строчной буквы «золото», да и хорошие гнезда «хищники» лет десять, а то и двадцать, как подняли. Вон все склоны в шурфах. По зиме пойдешь косуль гонять или на зайцев петли ставить, так запросто ухнешь — костей не соберешь. Так что золото там. На Унье, на Боме, на Гиляе. А здесь что? Здесь по осени, с августа начиная, — ягода. Хоть по правому берегу, хоть по левому. Вначале в холодных ключах созревает моховка. Зеленая, пока незрелая, а как поспеет — фиолетово-коричневая. Потом голубица, что под горячим солнцем на высохшей мари, бродит прямо на кусту, изнутри превращаясь в сладкую бражку. На островах по всей Реке, да и по берегам, — красный и кислый лимонник, чьи семечки похожи на крохотные заячьи почки и без которых давно уже ни один охотник в тайгу не идет. Потом, с первыми морозами, наступает время брусники. За ней отправляются подальше, запасаясь коробами, бочками, катальными досками, провиантом. Все это грузят на телегу, и: «Трогай, сонная, чего стала! Пшшла-а-а». Бруснику гребут деревянными совками-коробками, похожими на проходнушку, только маленькую и закрытую с одной стороны. Сверху буквой «Т» — перекладина и ручка, а снизу, со стороны открытой, совок похож на гребень, которым Зинатулла расчесывает гривы лошадям, только зубья у брусничного совка длиннее, как раз на ладонь получается. Поутру, пока не пригрело, брусника — ледяная картечина — не давится, не мнется, вычесывается из брусничника, как вошки из волос. Понятно, что без листа не обходится, но это дело поправимое. Набираешь короб, спускаешься на табор и катаешь по наклоненной слегка доске черно-багровую с белыми пятнами на боках ягоду. Лист, мусор — в сторону, а бруснику — в бочку. Есть еще морошка и мелкая горькая клюква, но эти уж совсем не здесь. Эти на северах, там, где золото, там, где по весне на голых вершинах, между камней, зацветает желтый тундровый багульник, не приживающийся в огородах и садах, хоть и пытались не раз и не два.
На голубичниках, по Улукиту, чуть выше того места, где в тридцатые поставят бараки для раскулаченных и сосланных, а заполнят их разом переселенными корейцами, собирали ягоду «городские» дети. Вообще (если не брусника), ягода, грибы, рыбалка с удочкой на перекате считалось делом бабским и детским. Хоть и нужным, но каким-то несолидным, с примесью забавы. А какой мужик опустится до забавы, если это не «кулачки» на Масленицу, конечно? Так вот и на этой мари обирали рясную голубицу дети. В тишине, колышущейся от полуденной жары, пропахшей подвяленной осокой и забродившей черно-синей с серебристо-меловым налетом ягодой, сидевший на пригорке в тени Уруй слышал, как падают в берестяные туески крепкие ягоды. Уруй, то ли манегр, то ли тунгус, то ли маньчжурский уйгур, покуривал свою длинную трубку и хоть не показывал одобрение тишине, все же был доволен тем, что дети не кричат, не галдят, не пересмеиваются и не визжат. За то время, что он сидел, кричали только раз, когда земляные осы напали на светловолосого, голубоглазого мальчишку, видимо, переступившего невидимую, но четко определенную самими осами границу. Да и то этот вскрик был скорее предупреждением остальным детям, собиравшим голубику невдалеке.
Уруй не просто так сидел у ягодной мари. Уруя знают многие лучи, в том числе и городские начальники и даже полицмейстер, для которого что китаец Шан Ю, что бурят Одонга — все на одно лицо, а узнает Уруя и не гонит его с ярмарки. И все белые, кто узнают Уруя, знают, что предлагать ему ягоду (хоть бруснику, хоть голубицу) — это не обидеть, конечно (кто может обидеть Уруя? Ха!), но все же как-то не очень хорошо, однако. «Я же не олешка, чтобы траву есть!» Так что же привело сюда, на богатый голубичник, бродягу Уруя, пришедшего сюда с Орби, где на скалах охрой нарисованы разные знаки? Конечно, никто бы не стал спрашивать об этом Уруя, ну а если бы спросили: «Эй, подя, что это твоя так смотрит на того черноглазого коренастого мальчишку? А, подя, твоя ждет чего?» — Уруй бы ничего не ответил такому луче или кита, и даже если бы полицмейстер спросил, Луча, чтобы не врать, просто сделал бы вид, что не понял, однако, потому что если не можешь объяснить про тропы и про сэвэна, про Энгдекит, чьи верховья в верхнем и нижнем мире, а низовий у нее нет, то придется врать, а врать — это пусть купчина врет, когда думает, что Уруй не знает, сколько нужно за соболя, сколько за белку, а сколько за черную с белым лису. Уруй ждет. Уруй покуривает трубку. Уруй смотрит за черноглазым мальчиком, пристроившим себе на спину великоватый для него берестяной короб. Уруй уже слышит то, что услышать может мало кто из белых, разве что только Серый Луча, чье стойбище называют Сто Шестьдесят Восьмой и которого Уруй и другие, такие как Уруй, считают отцом, но Серый Луча, он, однако, и не луча, и не кита, и не эвенк. Он — Серый Луча. Ага, вот сейчас это произойдет, сэвэн спустится с верховий и перейдет с одного берега на другой, совсем как Уруй, которому не нравятся мокрые ноги, но порой приходится переходить Реку по перекату — по Спиртоносу или Шипке. Но лучше все-таки другими тропами, другими реками, однако.
Уруй расчехлил свой маленький бубен. (Это Черному Якуту и Белому Эвену нужен большой бубен.) Достал плоскую гибкую колотушку и не стал бить в туго натянутую на костяной обруч кожу зверя, которому здесь нет названия, а, едва касаясь кожи, провел по ней движением, подобным тому, как затачивают нож. (Это Желтому Иннуиту и Красному Айну нужно греметь в свои бубны, выводя себя на тропу вверх или тропу вниз, а тому, кто на тропе, кто идет, чья жизнь от начала и до конца — тропа, зачем ему грохот?) Бубен отозвался звуком высоко в небе летящей гусиной стаи. Звук приблизился и, не став громче, приобрел отчетливость речи, на которую Уруй улыбнулся в ответ. «Ньяха ньях о-рата», — говорил бубен. «Рата ньях — о-ньях рата. Рата-о», — еще тише, чем прозвучало, но так же отчетливо подумал Уруй.
Черноглазый что-то услышал и повернулся от своего куста, но не в сторону Уруя на пригорке, а туда, где собирали ягоду рыженькая девочка и, чуть поодаль, скрытый ветками и листвой, светловолосый, белокурый, голубоглазый мальчик, на чьем лбу уже расползлось багрово-синее пятно от укуса мелкой, но злой земляной осы. Воздух между кустами девочки и светлого мальчика уплотнился, стал похож на мутную стеклянную четверть, в которую какой-то шутник напустил табачного дыму. Из этого пятна шагнул тот, кого ожидал здесь Уруй. Как потом рассказывал светлый мальчик своим родителям: «Здоровенный такой, как сопка, большой и совсем не бурый, а серый, как наша Ласточка, только наша Ласточка, она гладкая, а этот весь в шерсти, и шерсть у Него длинная, как у Ласточки на гриве. Глаза — черные-черные, даже чернее, чем у Родьки, когти — во! И клыки. Но я не испугался, правда-правда, папа, вы у ребят спросите, я даже не закричал, я потихоньку туесок положил, потому что Он ко мне спиной стоял, а мордой как раз к Родьке и Ядвижке, и потихоньку, потихоньку к краю мари, я там ружье, что вы мне на Рождество дарили, положил. Только вы, папа, не думайте, Родька, он тоже не испугался, он так вот встал и навстречу Ему пошел, потому что там же Ядвижка, она же хоть и сосланных дочка, а все барышня. Так все знают, что Крыжевские — сосланные. Ну, хорошо, я больше не буду, маменька. Так вот, значит, пока я за ружьем, Родька Ядвижку загородил, и она потом говорила, что Родька на Него рычал, а Он на Родьку. Вроде как разговаривали они. Ну вот, я, значит, с ружьем-то вернулся и саженей с тридцати, наверное, ба-бах Ему в голову. А дробь у меня на рябчика, помните, папа, вы еще прошлой осенью катали? Ну вот, раз дробь мелкая, то я, значит, Родьку-то и зацепил мало-мало. А Он, этот который, только обернулся на меня, посмотрел — я откуда про когти, глаза и клыки знаю? — и говорит мне: „Дурак ты, Степка, не тем стреляешь“. А может, мне только показалось, что Он мне сказал, я второй раз нажал, а оно осеклось. Тут я, конечно, перепугался, потому как думаю, Он на меня сейчас ка-а-а-ак навалится. А Он только зашипел чего-то, повернулся и вверх по ключу ушел. Ну потом я из Родьки дробь выковыривал, Ну, там немного. А кровь мы на Улуките ему отмыли, ну и незаметно почти. На лбу — это меня оса, еще как мы только на марь пришли, ударила. А под глазом. Уже на ключе это. Ядвижка Родьку поцеловала, а я возьми да скажи: „Тили-тили тесто, жених и невеста“. Ну Родька и звезданул, я аж с берега шарахнулся. У него рука знаешь какая тяжелая! Да не, мы уже помирились. Я прощения попросил. Знаете, папа, мне просто обидно стало, я за ружьем бегал, их спасал, а она — Родьку. Но я потом подумал и так считаю: Родька-то совсем перед Этим стоял, так что. Завтра мы за харюзами собрались».
Уруй ушел следом за зверем. В тайгу. А в тайге какой год? Поди разбери. Весна, зима, лето, осень — это да, это идущему дано. А год — он там, где луча и кита, а там не тайга, тайга — она за хребтом. И в тайге же известно, столько троп, а куда они там ведут — вверх, вниз? Кто ими, этими тропами, ходит? Звери. Уруй.
Феодалы
На картах озеро называлось Могчинским. Но это на картах, а так все, кого я знаю, называли его Феодальным озером. Причина проста. Вокруг озера были поставлены засидки (или, как их называли здесь, сидьбы), собственно, эти скрадки для утиной весенней (и особенно осенней) охоты и воспринимались как замки баронов, а сами хозяева сидеб были, соответственно, этими феодалами. Уж не знаю, как моему отцу удалось попасть в число утиных дворян, но факт остается фактом — на единственном свободном месте и мы поставили свой «родовой замок». На охоту отец меня стал брать класса, наверное, с шестого, и то, как стреляли по уткам, как мерзли весенними утрами, как вслушивались в тихий холодный утренний туман, когда не видно брошенных на воду резиновых чучел, чтобы не прозевать свист утиных крыльев, как виртуозно переругивались и подначивали друг друга старик Токаринин и молодой Сечин, как ставили капканы на ондатру, как варили в стрелецкой ястреба, — об этом можно рассказывать отдельно. Но в другой раз.
После окончания вечерней зорьки, отстреляв или так и не дождавшись уток, собирались на опушке соснового бора, разводили костер, варили похлебку, и, выпив не так, чтобы упасть, но так, чтобы язык развязался, «феодалы», все больше потомственные малые парижане, чьи предки были золотопромышленниками, маркшейдерами, солидными людьми, мастерами на приисках и приказчиками в магазинах, заводили свои охотничьи рассказы и байки о прежних временах. Я вот все думаю: травили ли они анекдоты и чесали так же языками между собой, когда меня с ними не было? Может быть, и травили. А может, и нет. Потому что для того, чтобы повешать лапшу, нужны развесистые уши. Как у меня. Как у любого тринадцати-четырнадцатилетнего мальчишки.
Как-то раз зашел разговор о том, как правильно с какого зверя сдирать шкуру, как сушить, как мездрить. Как чучело сделать из глухаря и как сберечь пунцовый цвет «бровей» у весеннего косача. Одновременно вспоминались истории о золоте и бандитах старых, вольных, времен, о которых каждый из «баронов» знал в лучшем случае от своих отцов. Но как спорили! Как будто сами были свидетелями давно забытых событий.
— Году, наверное, в пятнадцатом, а может, и раньше, но точно до революции, банда в районе появилась. Вначале брали золото у инкассаторов, а потом, когда с приисков стали под усиленной охраной его возить, тогда уже и на прииски, рудники стали налеты устраивать…
— Это ты если про латыповскую банду, так она раньше была, году в десятом. Мне отец говорил, Латыпова, вроде как после Удэкана Хозяин Сто Шестьдесят Восьмой убил…
— Нет, это я не про Латыпова, это про другое чуть… Хотя, может, и был там Латыпов, потому что банда вроде бы постоянного состава не имела и то одного, то другого теряла… Ну а насчет времени, так я же говорю, может быть, и раньше…
— Так о ком?
— Да не помню я его фамилии. Имя у него было то ли Роман, то ли Родион…
— А-а-а-а-а, вон ты о ком…
— Ну да, пусть, значит, Роман будет… Наливай… Ну вот, значит, банда эта шакалила основательно. То один прииск возьмут, то другой. Никого не жалели. Причем между налетами порой проходило день-два, а расстояние между ними — на неделю.
— Да не! Это разные были. Точно.
— Ну, не скажи, есть такие дороги… Эвенки вон ими ходят…
— Да ладно, за что купил, за то и продаю, может, кто из вас расскажет? Нет? Ну тогда уж… Ну вот, банда этого самого Романа, ну просто неуловимая какая-то была. Их уже и так и этак, и горная стража за них бралась, и охотников нанимали — все без толку. Года три, а то и четыре шакалили. Причем Романа этого то в одном месте стреляли, то в другом, ну по крайней мере говорили, что стреляли его, что точно убили, что в этот раз уж наверняка, а он каждый раз объявлялся…
— Вспомнил! Родий его звали. Вроде как сын того Ликина, что верблюдов на прииски из Монголии завез, да?
— Точно. Родий. Я же говорю, что то ли Роман, то ли Родион… Ну вот, значит… Там еще есть? Ну наливай… А малому? Да ладно, капля у костра — спать крепче будет. Ты давай закусывай, вон колбаса, вон супец… Лисицыных же все знаете? Ну вот, вроде как дед нынешнего взялся Родия этого выследить. Лисицыны, они вообще все охотники были, а этот так вообще вроде как не только ровесником Родия был, но и чуть ли не другом. К тому же тот Лисицын за год до этого женился…
— А это-то при чем?
— Как при чем?! Бабка-то нынешнего Лисицына выбирала между ними. Ну, то есть между этим, как его, ну да, Родием, и мужем своим, Степаном. Вот на этом-то между Ликиным и Лисицыным кошка пробежала, потому что Родий хоть вроде бы отпустил Лисицынову жену, а все же не отпустил, как был в городе, так обязательно с ней встречи искал. Поговаривали, что она даже к нему сама ходила… Да, вот так.
— Ну, не тяни, Петрович, все равно уже все выпили…
— Да-а-а… Короче, Родия на живца взяли. Подсадной была жена Лисицына, отцу нынешнего-то тогда еще года не было, а это получается, как раз двенадцатый год, что ли?.. Вот как раз когда Родий уже возвращался, Лисицын его и выследил… Старший брат Подрезов говорил, что револьвер Степан специальными пулями снаряжал. Из крестов нательных сам отливал, потому что верил, что Ликина можно было только такими пулями взять. Ну а когда убил, в спину, то тело отвез доктору, а тот уже из Родия чучело сделал. И вот это чучело по всем приискам крупным возили. И вверх по Реке, и вниз. Чтобы видели все, что Родия больше нет. Доктор постарался, чучело вышло как живое. Говорят, его последний раз на Сианах видели, году в восемнадцатом. Может, где и стоит…
— Так в Сианах сейчас же ничего нет…
— Ну да, с тридцать седьмого, после того как там кулацкое восстание… Я пацаном тогда был, но все же помню. Ну не там, так в Балтийске, или на Поляках, или еще где. А что ему сделается? Вон в музеях чучела по триста лет стоят…
— Мда-а-а…
— Только, это, мужики, не трепитесь об этом, и ты тоже не трепись. Лисицыны не любят этой истории.
— А то ж. Понятно, кому ж приятно себя потомком Иуды чувствовать?
— Нет, здесь не то.
— А что еще?
— Что еще, что еще!.. Да то, что еще непонятно, Лисицыны ли они… Все. Спать. Особенно тебе, мелкий, если на утреннюю зорьку хочешь подняться. Вон в палатку давай…
И засыпая, я вспомнил ту старую фотографию, которую Люсина бабушка забрала у нас со словами «Маленькие вы еще. Ни к чему вам это».
Архипов колодец
К окончанию восьмого класса Лариса Берг была обладательницей такой объемной и по-девичьи упругой груди, что ей позавидовали бы и Саманта Фокс, и Памела Андерсон. Может быть, даже звезды шоу-бизнеса, увидь они Лару, перестали бы враждовать между собой, а, объединившись, набросились на Лару… А может быть, и не набросились, а, пораженные естественными прелестями девчонки, забились бы по своим норкам и в перерывах между неравным докуриванием бамбука предались тихим истерикам. Но, к их шоу-счастью, в Малый Париж с гастролями ни Памела, ни Саманта не собирались.
Эти груди меня преследовали во снах, и если бы не экзамены, к которым нужно было готовиться, я бы, верно, задрочил себя до смерти. В конце концов, я из сэкономленных денег отдал то ли десять, то ли вообще двадцать рублей ее двоюродному брату за то, чтобы потискать эти фантастические груди с крохотными сосками. Я даже лизнул их. Правую и левую. Вкуса не помню. Помню, что вокруг сосков были редкие и жесткие волоски, очень похожие на лобковые.
Возможно, что годам к тридцати, после родов второго ребенка, Ларина грудь бы обвисла и стала бы совсем не такой привлекательной. Превратилась бы в обычное «вымя», каких на базаре, у торгующих молоком и редиской баб, по десять на прилавок. От этих титек шестого и выше размера их хозяйкам одна только морока — лифчика нормального не найдешь, поясницу от тяжести постоянно ломит, а как спать, вообще непонятно. Лара этой провинциальной участи избежала. Жарким летом того года, когда Река обмелела настолько, что, казалось, ее можно было в любом месте запросто переплюнуть, а на перекате ниже порта вылез из воды остов старого затопленного в Гражданскую войну парохода, в воздухе, закостеневшем от жары, как остывший труп, Лара Берг пропала.
Ее отец, лесной инженер, поначалу был уверен, что дочка просто загуляла, как корова или кошка — еще бы, такие буфера, что с первого взгляда понятно: пора уже девке научиться ноги раздвигать, — грозился запороть ее до полусмерти, если в подоле принесет, но, обегав всех знакомых и знакомых знакомых и не найдя нигде дочери, обеспокоился всерьез. Через неделю, когда стало понятно, что Лариса не просто пропала, а пропала всерьез и, вероятно, уже не объявится, к делу подключились сыщики, но до поры тоже ничего не могли найти. Как в воду канула, говорят в таких случаях. Но обмелевшая Река трупов на пахнущие женщиной камни не выносила. А потом, и месяца не прошло, исчезла незаметная ученица седьмого класса, имя которой, кажется, не помнили и ее одноклассники. И пошло-поехало. Раз в полторы-две недели исчезала девчонка. Общего между пропавшими было то, пожалуй, что все они — из семей приезжих в Малый Париж, так сказать, не коренные. Да еще то, что у каждой из этих малолетних недавно начались женские.
Вы можете себе представить силу, какой обладают слухи в небольшом, тысяч на двадцать, городишке? Если можете, то поймете, почему после того, как по снегу, уже в ноябре, пропала Леночка Тряпицына — тоненькая евреечка, дочка третьего секретаря райкома, — вышедшие с приисков мужики-артельщики и еще не ушедшие на свои участки охотники похватали кто двустволки, кто карабины, кто мелкашки, а кто и дедовы обрезы и наганы, припрятанные еще с красно-белых партизанских времен, вышли патрулировать городок, как положено, напились и, в конце концов, разнесли к чертям собачьим и сожгли молельный дом баптистов, что стоял на берегу Реки, как раз посредине между тем местом, где до 1928 года была снесенная паводком Церковь, и стоматологической поликлиникой, некогда татарской мечетью. Председателя общины — мрачного бородатого мужика по имени Павел, который вышел навстречу погромщикам, то ли расстреляли, то ли разорвали, то ли сожгли заживо. Пытавшегося влезть с наведением порядка участкового Хохрякова оглушили ударом приклада, связали и накинули мешок на голову, так что когда пришла пора судить мужиков, то Хохряков не мог никого вспомнить… Еще бы он вспомнил! Потому что оглушил его начальник райотдела милиции. Не мог он вспомнить еще и потому, что среди тех, кто громил баптистов, были и все три секретаря райкома, и муж судьи, и председатель горисполкома, это не считая разных прочих начальников… Так что никого не судили, а походили, глаза попрятали, потом пошли на повышения и вроде как забыли, как будто ничего и не было… А как пропала еще одна девочка, так и совсем забыли, а стали искать то ли зверя какого-то людоеда, то ли оборотня-призрака.
Тут-то стали вспоминать и тигра-ламазу, что заходил сюда черт-те когда, и медведей-шатунов, и Родия Ликина, и Юдиху, и казака, что носил тигровую шапку, и тех, вроде как первых, русских, что пришли сюда с севера, из Якутска, встали на зимовку и по голоду поели друг друга. Вот в это время как раз старик Ухов, кто помнил еще ребенком старые времена и разные малопарижские байки, сказал, чтобы посмотрели в Архиповом погребе, да только вот где тот погреб, он запамятовал, да и вообще кабы не неизвестность, никто бы на из ума выжившего Ухова, травленного газами в Германскую, внимания не обратил, а тут хоть что-то, хоть как-то…
Архипов погреб нашел местный краевед Павел Манкевич. Как уж он там чего и где нарыл, только все восемь девочек, одна на другой и под ними еще какие-то неопознанные, полностью разложившиеся до скелетов трупы, были подняты из заброшенного колодца во дворе дома, где жил бобылем Сашка Пакит — пятидесятилетний полудурок, работавший то на лесоперевалке, то дворником, то вообще живущий на пенсию по убогости. Сашку от самосуда спасла его полудурь. Если бы он не был убогим, там бы во дворе его и кончили. А так Сашка надел свою любимую военную форму, прокатился до местной тюрьмы, потом его переправили в область и… Расстреляли, наверное… Больше в Малом Париже никто Пакита не видел. Колодец попытались засыпать, но песок уходил как в бездонную прорву, поэтому на него сверху положили бетонную плиту и завалили речной галькой. Года через три, ко дню смерти деда Ухова, холмик этот окургузился, расползся, зарос бурьяном и полынью. Все постарались позабыть. И понятно почему.
А лет через пять после, на рыбалке, на Орби, в районе писаницы, Павел Манкевич рассказал.
Архип Кривоносов был из тех, о ком говорят «ни говна, ни ложки». Верно, это можно объяснить тем, что он сапожничал и шорничал. И вроде неплохо у него получалось, хоть и пил он, как при его ремесле положено. Но вот была в нем какая-то неудаль. Бывают такие мужики — как ни бьются, а больше медного гроша не видят. Другие миллионы сколачивают, бархат на портянки пускают, от «кати» прикуривают, а такие, как Архип, и знать не знают, как оно, золото-то, выглядит. Вот и случается с ними всякая ерунда — то пириту наберут, то на дерьме сметану собирают. Одно слово — «неудаль».
То, что за Кривоносовым такая беда водилась, все в Малом Париже знали. Как и то, что при всем при том мужик он упрямый, особенно если трезвый. Когда подшофе, вроде и ничего, а трезвый упрется в свое, и хоть кол на голове ему теши — без толку. Ну и получается, понятное дело, бестолковщина. Хотя упряжь и сапоги он шил толковые. Особенно сапоги. В церковь в таких, конечно, не пойдешь, а вот по тайге — да хоть в Якутию, за Становой. То же и упряжь…
Как-то за середину лета, уже за Купалу, но Илья еще в воду не нассал, в скобяную лавку он пришел. Скобянщик как услышал, что Архипу нужно, так сразу и понял, что быка или там корову Кривоносов уже купил и, видно, в Тайгу Дальнюю собрался. «Только чего же так поздно-то»? — подумал, но не спросил. Просто, выложив перед Архипом лопату, кайло, лом, бадью и топор (на топорище), предложил еще и лоток, намекнув, что неплохо бы и доски для проходнушки взять. На это не по погоде трезвый и от того набыченный и упрямый сапожник пробурчал что-то вроде: «Ненашто нам это». — «А, так ты разве…» — «Не твово ума, чего я разве. Ты считай, чего с меня, да запиши в книжку, как со мной расплатятся — отдам». Скобянщик, видя, что ни лоток, ни доски шорнику не понадобились, а это значит, что Архип остается в Малом Париже, а не идет со своей неудалью и упрямством за фартом, спокойно записал в книгу, что ему должен Архип Кривоносов, и пожелал инструменту долгой службы.
А Кривоносов на самом деле был трезв и зол потому, что его жена Пелагея, известная в Малом Париже гулена и любительница выпить, совсем запилила своего мужика. Понадобился ей погреб. Вот же! Дома-то и продуктов нет таких, чтобы в погребе хранить, а ты ей вынь да положь погреб глубокий, крепкий, такой, чтобы в нем спрятаться было можно. А от чего тут прятаться-то, в глухомани?! Сюда ни царь, ни бог не заглядывают. Революционеров и тех не ссылают. В кои века приедет начальник горный, так и тот попьет водки и вернется в губерню. А она — дескать, недаром же в каком это годе зарево посреди лета, совсем как зимой лютой, полыхало на полнеба, и земля тряслась, — молоканы вон говорят, что конец света близок, так что нужно выкопать, чтобы спрятаться! А намедни Уруй этот приходил, о чем они там с бабой болтали, Архип и не помнил, так как был в добром спокойствии и хорошо пьян, но по всему получается, что это Уруй Пелагее чего наплел. С него станет. Короче, с бабой спорить — себя не уважать. Хочешь погреб — будет тебе погреб. Отвяжись только. Где копать-то? Здесь, что ли? Поплевал на руки и воткнул лопату в землю.
На два штыка углубился — пошел песок с галькой, поначалу мелкой, потом все крупнее и уже валуны небольшие стали попадаться. Еще и до глины не добрался, а уже умаялся. Благо пришел Родька Ликин со своим дружком Степкой Лисицыным. Ликин еще тогда заказал себе сапоги и материал даже принес. Чудной материал — вроде и кожа, как бычья, а мягкая и вся в чешуе блестящей, черная — хорошие сапоги будут, вот только бы время найти стачать. А как тут успеешь, коли вон бабе приспичило? Лисицын и говорит на это: «А давай, дядька Архип, мы покопаем, а ты сапогами пока займешься?» А что, это дело. Так и порешили. Отроки они крепкие, пошло у них ходко, вот уже и на весь рост под землю ушли. Один кайлит, другой выбрасывает, и скала — не скала, глина — не глина, им все одно. Копают. Эдак и до мерзлоты доберутся скоро. Но, верно, не сегодня, а завтра, потому как солнце уже на зорьку вечерню, да и внизу сплошной камень пошел, да весь какой-то угловатый, не обкатанный, а как бы скалы куски. Короче, поднялись Родий и Степан и пошли по своим делам. А какие у них дела? Понятное дело, сейчас небось к Ядвижке Крыжевской побегут, а потом до утра болтаться по городку… Эх! Молодость! Раньше, бывало, и Архип по девкам ходил, а потом как со своей Пелагеей-то связался, это дело вроде как и опостылело. Видно, ведьма она… Сама вон подол по поводу и без повода, с мужиком ли, с девкой, задирает… А Архипу этого не надо. Копнуть, что ли?
После второго удара кайлом камни провалились, как будто Архип свод какой-то домовины пробил. Расковырял ломом — смотри-ка, ешкин кот! Пустота, словно комната там какая-то, но темно уже и не видно ничего. То есть видно что-то серое или бурое, как туман, какой по утрам над Рекой стелется. Ладно уж, завтра посветлу и посмотрим, что там. И с этим пошел Архип спать.
Только поначалу не спалось. И Пелагея аж взвизгнула по-поросячьи от удивления… А то! Почитай лет пять как благоверный ее не пыжил, а тут… На удивление хорошо было Пелагее и после первого, и после второго раза. На третий раз она задыхалась, хрипела и хрюкала от неописуемого восторга и боли, раздирающей ее. Сладкой и жгучей… Между заходами Архип подремывал вполглаза, но просыпался и драл свою жену так, как и в женихах не доводилось… После четвертого раза измотанные и измочаленные супруги заснули, может быть, впервые ощутив, что же это за штука такая — семейное счастье. Пелагея храпела без снов, Архип же спал тихо, не шевелясь, будто труп лежал, и блазилось ему.
Во сне его отчего-то звали Юшкой, и был он подручным при казацком атамане. Большой ватагой пришли они на Реку с севера и встали на зимовку в то ли стойбище, то ли городище низкорослого народа, звавшегося манегер. Атаман приказал взять заложником-аманатом то ли старейшину, то ли вождя, то ли колдуна манегеров; и Юшка-Архип посмотрел в глаза аманата, выглядевшего совсем как Уруй, и увидел в них как бы карту, по которой можно пройти к Серебряной горе и к Белой воде, о которых уже не один век талдычат разные бродяги, юродивые и блаженные монахи. И так тоскливо от этого стало Юшке-Архипу, что на какую-то секунду превратился он в большого серого зверя, похожего и на медведя, и на росомаху, и на соболя, и на волка. А Уруй-аманат сказал что-то о том, что Луча Серый знает, где чье лежит, да только как пройти к нему, это нужно бабу найти половинчатую, и показал Атаману золотое кольцо, большое, как раз чтобы на руке казаку носить. И аж затрясся Атаман и говорит: дескать, народец ваш за век, что с похода Ермака прошел, ясак задолжали, так что отдавай кольцо это и еще неси в уплату недоимки, а не принесешь, так ужо я тебя! И за саблю свою схватился, из ножен потянул, а Юшка-зверь остановил его. А за такую дерзость Атаман, как только голод наступил великий и перестал Юшка зверем быть, послал его с семь на десяти казаками вниз по Реке, за провиантом и ясаком, наказав без того и другого на глаза не показываться и сгинуть в тайге. «Почто мне ваши брюхи здеся? Почто мне рты голодные, коли у самого кишка к кишке липнет? Идите и пропадите пропадом», — так сказал Атаман. А аманат, которого в яму глубокую посадили, обернулся мысью и проскользнул мимо стражников, а как нагнал Юшку со товарищи, так надел на него золотое обручье, и Юшка снова стал как бы тот зверь, только снаружи — совсем человек. Дошли они аж до того места, где Река впадает в Соколян-поток, что течет неправильно, а за ним — Китай, а по берегам его дучеры, дунгане и прочие дауры, что и на лицо, и нравом дики, что твои татары. И там, докуда дошел Юшка-зверь, взял он приступом острог, и за нрав его, и голод, и цвет шкуры прозвали Лучей и откупались от него золотом, а еды совсем никакой не давали. И с полной казной золота вернулся Юшка к Атаману, а те уже совсем изголодали — коренья жрут, точно свиньи, и друг на друга, точно волки, поглядывают. А еды Юшка не принес. За это Атаман бросил его в яму, где держали аманата, и сказал, что так или иначе, а Юшка казаков накормит…
На этом Архип проснулся. За окном было совсем уже светло, а во рту погано. И даже яишню на сале, что пожарила Пелагея (видать, в благодарность), есть не стал, а сразу пошел к будущему погребу и спустился в яму. Стал по одному, помогая себе ломом, вытаскивать камни из кладки (теперь-то уж точно было видно, что это кладка) и, как только смог протиснуться в камору, спустился по веревке.
Добра в подземелье, обложенном камнем и закаменевшим лиственичником, было всего-то берестяной короб, как у эвенков. Зашит короб был плотно и был тяжел. Так что Архип совсем измаялся, вытаскивая его наверх. Сначала сам выбрался в дырку, потом короб подтянул. Потом наверх и следом — добычу свою. Ну, чисто фартовый приискатель-хищник, что добил шурф до рудного гнезда и теперь тягает золото наверх.
Сразу в избу не потащил, уж больно любопытно. Топором взрезал бересту и даже не заметил на ней резов над длинными сплошными и пунктирными линиями, вроде как буквы в Псалтири. А внутри — самородки, один к одному, каждый величиной с кулак, и отдельно, в шкурку какую-то полуистлевшую завернуты — две половинки толстого, видно, что не обработанного человеком, а только сломанного, обручья — как раз на запястье, вроде кандалов каторжных, только золотое. Половинку к половинке приложил, и оно — смотри-ка, срослось, будто только и ждало, что найдется какой придурок, чтобы сложить их вместе.
А как только сложил кольцо-самородок — земля под ногами тихонечко, но отчетливо вздрогнула и даже звук издала, такой, какой бывает, когда животу дурно. И даже вонью потянуло схожей. Верно бы и не посмотрел в яму, уж больно хороши — один к одному — самородки, гладкие, что яйца гусиные, маслянистые такие, да только услышал, как что-то вздыхает в яме и хрипит — ну точно как изюбрь или коза, когда ей горло перерезают, с бульканьем и лопаньем пузырей… Заглянул, а из дыры, пробитой в кладке, не фонтаном, конечно, но тоже крепко — вода, черная, что деготь, заливает яму. И уже точно не погреб будет, а колодец. Хмыкнул себе, буркнул под нос что-то Архип и опять к торбе берестяной, развороченной вернулся. Вытащил саблю старую поржавевшую, но сразу узнал — та сабля, из сна. Это ее он, Юшка, не дал Атаману вытащить из ножен. А еще на самом дне нашел речной булыжник, вроде ничем не примечательный, серый, продолговатый, но это он с затылка таким оказался, а как перевернул… Смотри-ка, точно, лицо — резано по камню, да так тонко, что можно подумать, портрет чей-то — вроде баба, но молодая, скуластенькая, но не узкоглазая, а вполне такие нормальные глаза… Повертел в руках булыжник, покрутил и положил его на землю, рядом с саблей и самородками. Перерыл ветошь в коробе и нашел еще с десяток серебряных монеток в кожаном кошеле, точно чешуя, и пару медных денег. Собрал свою добычу в бадью, в золотое обручье руку просунул, в нее же взял саблю и поволок все в избу.
О том, что невезень Архип Кривоносов, муж известной потаскушки Пелагеи, нашел клад, стало известно в тот же день. Во-первых, раззвонила сама Пелагея, а во-вторых, Архип, притащивший самородки в Промышленный банк прямо в бадье, так и шел через Маленький Париж, и слух о том, что шорник теперь — скоробогач, летел впереди него, так что у дверей банка его встречали управляющий банка, газетчик Буторин и фотограф. Фотограф запечатлел, а газетчик записал историю о внезапном богатстве. Золото положили в сейф. А один самородок Архип (оказалось, что у него и отчество имеется) разменял на ассигнации, чтобы было на что погулять, погудеть. А как же без этого? Но гульнуть решил не сегодня и не завтра, а аккурат в воскресенье — пусть весь городок приходит, пусть все видят, ну и чтобы к воскресенью все торговцы приготовились и ждали Архипа как званого гостя, а все Окладовы, Бородины и прочие Марьясины зазывали и кланялись. И с этим пошел домой, по пути присматривая себе новый дом, который уже вознамерился купить и обставить.
Ближе к вечеру, когда поток любопытных поздравляющих поиссяк, к подвыпившему Архипу заглянул горный инженер Аммосов. Он некоторое время смотрел на оползающую в воду яму, а потом рассматривал рваную бересту. В конце концов, подобревший от привалившего счастья и выпитого, Архип отдал Георгию Африкановичу бересту, и тот ушел, пряча горящие глаза. Ну точно дите малое с яйцом пасхальным… Или дурак с писаной торбой, тоже мне клад нашел… Саблю в благодарность отдал мальчишкам Ликину и Лисицыну — пусть играют, а каменное лицо Пелагея своей подруге Зинченихе спровадила. Зинченки потом этой каменюкой, как пора приходила, капусту угнетали, грузди еще.
А потом пришла ночь. И Архипу опять снилось…
Что обернулся он зверем, и Уруй зовет его Сэв, и более прочего мяса по нраву ему особое — то, что нежно и сластит. Ходит он повсюду, и нет ему иных троп, кроме тех, что его тропы. А тропы эти как бы живые, и как о живых никогда не скажешь, что будет с ними, так и с тропами в тайге — не скажешь, куда они выведут. Иная вроде оборвалась и никуда не ведет, но это только тому, кто не видит, а зверю, которого Уруй назвал Сэв, тропы открываются и ведут, ведут, ведут… И больше ничего зверю не надо, кроме тропы. И мало что помнит зверь, когда идет. Вот разве что только помнит темный колодец, где он сидел, когда был человеком по имени Юшка, и даже кличка у него была какая-то, только забыл он ее, как забыл и то, почему оказался в темной яме; помнит, что порой кидали ему сверху мяса вареного кусок. А мясо всегда сластило и как бы говорило с ним о том, что приключалось с мясом, когда оно было человеком. И совсем не помнит Архип, как вышел Юшка из темной берлоги и пошел зверем по имени Сэв из одного сна в другой сон. Встречали его на тропах тунгусы, и маньчжуры встречали, и дучеры с даурами тоже. А монголы заняты были войной и не заметили Сэва, бредущего по берегу Енисея. Те же, кто его видел, брали дерева кусок и нож острый и вырезали из дерева идола, называли его «бурхан» и верили, что кусок этот может спасти от бед, а если не спасал, то сжигали дерево, или закапывали поглубже, но никогда в воду не бросали, разве что только обмотав волосами врага, чтобы худо врагу было. Видел зверь, как солдаты китайского императора сожгли острог на берегу Соколин-хэ и пепелище засыпали солью вглубь на локоть, чтобы не росло на этом месте ничего, а только изюбри да косули приходили на солончак и лизали просоленные головешки. Долго так ходил зверь по тайге — не сказать. У сна же, как и у троп, по которым ходят и зверь, и Уруй, и другие, — свои мерки, с аршином к ним никак не подступишься… Ходил так, ходил зверь и почувствовал голод, и пуще голода одолела его любовь. И встретилась ему женщина, молодая, белая, но и как бы черная оттого, что братья ее, с кем она жила как с мужьями, были хоть и из одного лона, а все же сыновьями разных отцов. И зверь-Сэв взял ее и утолил любовь, а голод не утолил, потому что слишком уж любил, да и убежала Анна, дочка Исая Ликина, и не к кому-то, а прямиком к Луче Серому, сидящему на своем хуторе, который зовут Сто Шестьдесят Восьмой, потому что имя это — чистое золото. Вот так и ходил зверь-Сэв по сну Архипа Кривоносова, и был тот зверь страсть как голоден и страсть как влюблен…
…и с этим голодом архип очнулся и посмотрел по сторонам и не увидел стен избы а увидел что сидит он в ограде на перекопанной земле и смотрит в погреб ставший темным колодцем и еще кидает в колодец этот кости которые рукой с золотым самородным обручьем на ней достает из котла где сварил пелагею и знает что кровь на его седой шкуре тоже пелагеева и еще чья-то и во рту сладко и нежно как от хорошего мяса и в темной воде когда архип глядит в колодец пока вода не пойдет рябью от брошенного и видит что отражается во тьме морда серого зверя похожего и на медведя, и на росомаху и на соболя и на волка…
В сенях дома Кривоносовых обнаружили разложенные внутренности — желудок, кишки, легкие — как будто кто-то карту к неведомым местам рисовал, используя несъедобные части Пелагеи, а скоробогача Кривоносова больше в Малом Париже не встречали. По зиме, правда, на околицах по снегу видели здоровые, как бы человечьи следы, но, может, то и не Сэв. Уруя спрашивали, но он плечами пожимает, дескать «моя-твоя-мала-мала-не-понимай-совсем-однако-капитана»… Зинатулла, прежде чем отправиться в хадж к своим святым местам, сказал: «Если дураку дать добро, так все одно дурость выйдет… не надевал бы на себя чужого, отдал бы сыну своему, может быть, и обошлось, а так пусть ходит… закрыть бы, конечно, колодец этот, но, может, и сойдет…»
В октябре или ноябре я пришел в гости к Сергею Иванову, и он мне показывал свои фотографии, спрашивая при этом, можно ли их нормально продать. Я пожимал плечами; в самом деле, кому нужны эти убогие пейзажи, пейзажи, пейзажи и вновь пейзажи? Иванов пошел ставить чайник и заваривать чай, а я наугад вытащил с книжной полки из толстой пачки одну фотографию и, глядя на голое мертвое тело (только мертвое может лежать в такой позе), вспомнил, что вкуса сосков Ларисы Берг я не помню, но были на них редкие и жесткие волоски, очень похожие на лобковые.
Строитель
Крыжевских отправили в Сибирь после 1861 года. Помыкавшись по местам, о которых «матка боска» имела весьма смутное представление, разросшееся семейство поляков прибыло в Малый Париж. Первое, что на новом месте сделал Евстафий Крыжевский, — зачал своего последнего ребенка. Дочку, родившуюся в ноябре, назвали Ядвигой, она была зеленоглазой и рыжей, как ее мать, и светлокожей, как отец. Мужчины Крыжевские, а это вместе с отцом семейства семеро крепких мужиков, брались за любую работу, которая способна была принести доход, считали себя католиками и души не чаяли в Ядвижке.
Когда татарская община Малого Парижа решила обзавестись мечетью, мусульмане пришли именно к Крыжевским. Евстафий, узнав, что ему должно строить на берегу Реки, взял день на размышления, за обедом съел рябчика, купленного на базаре, выпил водки, подкрутил усы и сказал: «Добже», тем самым подрядив себя и всех своих сыновей на строительство. Мечеть татарам поляки отстроили знатно. В год большого наводнения 1928 года, когда вода унесла с пригорка православную церковь и затопила треть города, мечеть осталась на своем каменном фундаменте. Сложенная из лиственницы, мечеть, говорят, сорок лет оставалась желтой, как будто вчера рубленной. Много позже, после временной победы исторического материализма на одной шестой части света, в этом здании разместилась стоматологическая поликлиника. А что касается Крыжевских, то, получив окончательный расчет, Евстафий вроде как специально ездил в губернский город, где в костеле исповедовался ксендзу и, пожертвовав хорошую сумму храму, получил отпущение греха.
В тот год Ядвиге Крыжевской исполнилось десять лет. На голубичнике ее оберегли от большого серого медведя Степа Лисицын и Родий, приемный сын Исая Ликина. Из поездки вниз по реке за прощением грехов Ядвигин отец привез на десятилетие дочери серьги, браслет и ожерелье с зелеными, как ее глаза, камнями. Еще Евстафий Крыжевский привез фотоаппарат с набором стеклянных фотопластин. «А как же проявлять и печатать?» На этот вопрос Евстафий крутил усы и усмехался, потому как, покупая у «Кунста и Альберста» фотокамеру, действительно не подумал о том, что отснятые пластины придется теперь отправлять в губернский город. Впрочем, вопрос решился как-то сам собой, и большинство, если не все, фотографий Малого Парижа и горожан первых пяти лет двадцатого века было сделано на немецкий фотоаппарат, привезенный строительным подрядчиком Евстафием Крыжевским.
Тогда же Крыжевский решил поставить кирпичный заводик. Здесь надобно сказать, что кирпичное производство в Малом Париже развито не было, поскольку на строительство, от тротуаров до кровли, шли лиственничник и сосна. Кирпич был нужен, по большому счету, исключительно печникам и доставлялся по мере необходимости по Реке из губернского центра. Конечно, каждый кирпичик получался дорогим, практически как оконное стекло. Но с другой стороны, лес был дешев, ну и… Короче, так на так и выходило. До тех пор пока лес был под боком, заниматься глиной, известью, песком, печами для обжига ни у кого из предпринимателей желания не возникало. Кирпич был неинтересен еще и потому, что легче, проще и быстрее «прибыля» получались на товарах, необходимых приискателям (сезон, когда артели заходили на прииски), или на том, что было ненужной роскошью (это уже по осени, когда артельщики возвращались в Малый Париж). Но времена меняются, строевой лес с каждым годом отодвигался от городка все дальше, и, как следствие, к тому времени, когда Крыжевский начал делать кирпичи, цена леса была уже достаточно высокой, несмотря на то что сплав вниз по Реке все равно оставался дешевле, чем доставка кирпича баржами с низовий.
Из первой крупной партии кирпича Крыжевские по заказу купца Окладова и золотопромышленника средней руки Юдина отстроили в самом центре Малого Парижа два аккуратных одноэтажных дома. Эти кирпичные дома до сих пор стоят чуть по диагонали от местного «Белого дома». В одном, принадлежавшем Окладову, долгое время был молочный магазин, а в другом, том, который юдинский, в середине пятидесятых разместили краеведческий музей.
Хорошее начало вдохновило Крыжевского, старшие сыновья которого к тому времени уже женились, обзавелись своими домами, но по-прежнему держались кланом, где все коммерческие решения принимал семидесятилетний «старик-поляк». Поэтому, когда Крыжевские (выкупившие право на пользование ближайшими залежами глины и белого песка) стали получать выгодные предложения от лесопромышленников, Евстафий, обычно сговорчивый, заупрямился и отвечал отказом даже тогда, когда Фома Бородин предложил ему за завод на выбор деньги или разведанные, но не разработанные прииски в Дондуках. «Дзякую, панове, — отвечал Евстафий Бородину, Касицыну, Лисицыну, Подрезову и всем, кто к нему ни обращался. — Дзякую, не интересуюсь».
Но через год после постройки первых двух домов из красного, закаленного в печах Крыжевского кирпича клан стал преследовать тяжкий рок. После отказа Фоме Бородину на возвращавшуюся с базара жену Евстафия среди бела дня напали неизвестные злоумышленники. Ее ударили по голове то ли свинчаткой, то ли тяжелой дубинкой. Забрали кошелек с деньгами и скрылись, оставив Крыжевскую лежать среди разбитых яиц. От удара, пришедшегося в висок, Крыжевская ослепла, онемела и, так и не оправившись, через шесть недель под вечер тихо отошла. Старик Крыжевский напрягал все силы для того, чтобы найти убийц, но… Следом несчастья одно за другим пошли на кирпичном заводе. Трое наемных рабочих отравились сивухой, и, хоть никто не умер, заложенная в печи партия кирпичей перегорела и ушла в брак. Следом на песчаном карьере засыпало двух китайцев, насчет которых, несмотря на то что у погибших в России не было никаких родственников, велось долгое следствие, вытянувшее все нервы хозяину завода. Предписание, выданное Евстафию Крыжевскому местными властями, обязывало уделить внимание условиям работы наемной силы, плюс к этому по решению суда налагало серьезный штраф. Затем от загоревшейся среди ночи летней кухни занялся дом одного из старших сыновей Крыжевского, бывшего в те дни по делам в Харбине. В дыму задохнулись невестка и первые внуки Евстафия. По городку пошел слух, что это все не просто так и что Бог и Богородица наказывают «поляка» за то, что они построили татарам-басурманам мечеть. «Он-то хоть и не православный, а все же христианин, так что же взялся-то за мечеть», — говорили промеж собой кумушки на базаре. Вернувшийся из Харбина старший сын Крыжевского пробыл в городке не больше недели и, не попрощавшись ни с отцом, ни с братьями, а только поцеловав в рыжую головку сестру свою Ядвигу, исчез. В то лето с прибывшим с верховий Реки пароходом пришла весть о пожарах в Дондуках и Бомнакане. В Бомнакане вместе со складами сгорела фактория, а в Дондуках — дом Фомы Бородина. На фактории вроде бы никто не погиб, а вот в бородинском доме сгорели заживо пять человек — старшая дочь Фомы Бородина, ее муж, двое русских рабочих прииска и один слуга-китаец. Сам Фома Бородин в ту ночь был то ли на прииске, то ли на заимке и только поэтому чудом остался жив. За голову старшего из сыновей Крыжевского Фома Бородин, выйдя из недельного тяжелого запоя после поминок, назначил награду, и, судя по тому, кто в то время «заходил поговорить» к Крыжевским, подрядился на охоту стрелок Штитман. Но поскольку старший ни с кем не прощался и ничего не объяснял, никто и предположить не мог, где тот скрывается. Некоторое время все было более или менее спокойно. В конце октября, только по Реке прошла осенняя шуга и с приисков потянулись артельщики, в одном из переулков был найден один из младших Крыжевских. Он лежал совершенно голый и белый под высоким дощатым забором, как будто прилег отдохнуть. Вечером его видели в одном из кабаков, что у базара, в компании то ли охотников, то ли артельщиков. Половой Демьян Филиппов обратил внимание, что Крыжевский был пьян «не так чтобы совсем никакой, но таки основательно», а вот когда ушел, ни Демьян, ни кто-либо еще не заметили, и если бы не горло Крыжевского, перерезанное от уха до уха, можно было бы предположить, что он просто замерз по пьяному делу, а такое во время окончания промывочного сезона в Малом Париже было делом привычным — как веселые загулы в заведении у Мадам Нинель, как бархатные портянки, как шампанское «Мум» пополам с горячим «столовым № 27» в самоваре. На таких вот напившихся и замерзших, пропивших, прогулявших и проигравших свой фарт, по сезону наживались мародеры, не гнушавшиеся ни сапогами, ни портянками, ни рубашкой, ни пояском. Но мародеры, как правило, на убийство не шли… Как правило.
Власти предположили, что «имело место досадное исключение из правила», а Евстафий Крыжевский надел сапоги, шубу, натянул медвежий треух и отправился к татарам.
Следующим днем Евстафий Крыжевский пришел в Золотопромышленный банк и все имевшееся движимое и недвижимое имущество свое и своих сыновей обратил в векселя. Подворья, дома, кирпичный завод (желающих работать на нем не находилось) — все было обращено в ценные бумаги, которые в любой момент могли быть обменены на золото. Зиму Крыжевские провели в неспешных сборах, рассчитываясь с теми, кому были должны, и взимая с должников, и первым же пароходом, сразу после оглушительного ледохода на Реке, Крыжевские покинули Малый Париж, оставив после себя татарскую мечеть, два кирпичных одноэтажных дома в центре городка, заплывающие глиняный и песчаный карьеры и две печи для обжига кирпичей. Практически полное право распоряжаться брошенным имуществом Евстафий Крыжевский оставил за татарской общиной с тем условием, что община будет пожизненно ежегодно перечислять проценты от полученной прибыли на счет Ядвиги Евстафьевны Крыжевской (в девичестве). Той же зимой Крыжевский встречался с Лисицыным (тем самым, которому два года назад отказался продавать кирпичное производство) и просватал его сыну Степану дочь, которая должна была к 19… году вернуться в Малый Париж и вступить в право распоряжаться своим счетом.
Пришедшие смотреть ледоход на Реке городские обыватели, кабы не были увлечены зрелищем, могли бы обратить внимание на Степана Лисицына, Родия Ликина и Ядвигу, говоривших между собой, — а о чем, за грохотом ломающихся льдин никому, кроме них, слышно не было.
Стюардесса по имени Лена
В том году город наш поразил финансовый бум. Акции ряда энергетических предприятий неимоверным образом полезли вверх, как ополоумевшая обезьяна. Нищие обыватели оказались держателями состояний, в их мозгу не укладывавшихся. На каждом углу говорили только о том, на сколько подросли акции и пора или не пора их сбрасывать. Как это и положено, в городе сразу же появились жуковатые личности, протяжно по-педерастически растягивающие «а-а-а-а» («Ну-у-у, па-а-а-а-а-смотрим, что у ва-а-а-а-а-ас»), рассчитывавшиеся с новыми миллионерами на месте продажи бумаг.
Стюардесса по имени Лена, уроженка нашего города, оказалась на родине совершенно случайно, между двумя рейсами из Шереметьево в зеленые страны песчаного ислама. В отпуске была. Длинные ноги и светлые волосы, бередившие под облаками не одно сердце, привлекли внимание Игоря Кнаббе, занимавшегося в тот момент как раз перекупкой акций энергетических предприятий… За день до того, как стюардесса по имени Лена должна была отправиться в Москву, где ее ждала заоблачная работа с вечно масляными арабами, в результате одной из махинаций Игорек Кнаббе оказался обладателем чемоданчика с фантастической по любым меркам суммой. Вечер был субботний, и Игорек изрядно повеселился в ресторане, а потом и в гостинице. В какой момент его, абсолютно пьяного и голого, оставила Лена, брокер не помнил, точно так же как и то, что в понедельник ему пришлось напоминать, какой сегодня день и какой недели. Заветный чемоданчик пропал. В последний раз стюардессу по имени Лена видели сходившей по трапу самолета, всю в лучах злого южного солнца. На обратный рейс Абу-Даби — Москва гражданка России, уроженка нашего города стюардесса по имени Лена, не явилась. Пропала, что дает все основания полагать, что именно она увела брокерский чемоданчик Игорька Кнаббе. Впрочем, последние известия о том, что некоторые арабские шейхи занимаются откровенным похищением длинноногих блондинок в свои гаремы, заставляют задуматься, не приглянулась ли Лена одной из важных персон арабского мира… Что же касается Игоря Кнаббе, то, потеряв надежду найти чемодан и Лену, он зажил простой жизнью фермера в деревне за рекой и как-то осенью попал под жатку. Скромный крест на могиле, и говорить больше не о чем.
Смерть охотника Штитмана
Двухэтажное деревянное здание военкомата с широкой лестницей на второй этаж, поделенный на мелкие кабинетики-клетушки, стоит на восточной стороне площади с памятником погибшим в 1920 году красноармейцам. Вокруг площади растут старые тополя. Начиная с июня тополя обрастают пухом, и дышать здесь, особенно тем, у кого аллергия и астма, практически невозможно. В 1906 году тополей не было. А площадь была пустырем. Порой здесь растягивал шатер кочующий цирк, порой, перед тем как отправиться на прииски, собирались наемные китайцы. Эшафот с виселицей и козлы для порки тоже ставили здесь. Правда, после проведения казни или экзекуции все эти конструкции убирали. Здесь же, на пустыре, периодически выясняли отношения местные бретеры и забияки. В здании, где теперь военкомат, был публичный дом, прибыль с которого, по слухам, получал полицмейстер Манке, а заправляла всем Мадам Нинель — сухая, как щепка, и костлявая, как речная щука, то ли француженка, то ли немка, то ли сахалинская каторжанка. В доме работали, периодически обновляясь, три китаянки и иногда две, иногда три девицы европейской внешности. Местные относились к борделю со спокойствием, поскольку понимали, что основной потребитель незамысловатых услуг заведения — старатели, по сезону и заработку оказывающиеся в Малом Париже, и средней руки предприниматели, приказчики, старшие сыновья почтенных семейств — короче, все те, у кого появлялись более или менее лишние деньги. Это не означает, что к обитательницам дома на пустыре жены и матери Малого Парижа относились с любовью; нет, скорее, просто терпели, понимая, что кому-то же надо и этим заниматься. Дочкам порядочных семейств появляться на пустыре со стороны Дома было все равно что собственноручно разукрасить ворота отчего дома дегтем, однако все вошедшие в возраст молодые парни отлично знали, где, что и почем. Бывало, и матери подкидывали своим охламонам рубль-другой на похождения и, как это называлось между собой, «сладости».
Бабьим летом 19… года, когда по всем улицам и переулкам на паутинках перелетали молодые паучки, в бордель пришли Иосиф Штитман, сорокалетний охотник, бравший заказы на двуногую дичь не только от властей, но и от всех, кто готов был заплатить за его услуги, и повзрослевший Родий. Родий пришел раньше и, слушая граммофон, сидел в углу, потягивая пиво и перебрасываясь любезностями с Мадам, ожидая, когда освободится «его» девушка, уже полчаса как занимавшаяся клиентом. Штитман же, только что получивший гонорар, собирался хорошо отдохнуть именно с той, кого ожидал Родий. Собственно говоря, ссоры не было. Иосиф увидел спускавшуюся со второго этажа девицу, залпом допил свой коньяк, как незначительную помеху (будто паутинку с лица убрал), отодвинул в сторону Родия и пошел навстречу проститутке.
— Эй! Я первый был, — сказал Родий.
Штитман, даже не оборачиваясь, ответил:
— Это у твоей матери я первый был… Пока шкуркой поиграй.
И поднялся наверх. Мадам предложила Родию другую девушку, которая к этому времени тоже освободилась, но Ликин только покачал головой и, надев шляпу, ушел.
Штитман, то спускаясь за коньяком, то поднимаясь на второй этаж, веселился всю ночь то с одной, то с другой. «Вы, сударь, как последнюю ночь живете», — заметила ему Мадам Нинель, когда разгулявшийся стрелок оплатил сразу двух китаяночек. «Ах, Мадам, я так скажу: любая ночь — последняя. И те, кто этого не понимает, остаются ни с чем. Вы же меня понимаете! Может, присоединитесь к нам, Мадам?» Мадам Нинель, приняв вид еще более сухой и костлявый, отмахнулась от вошедшего в раж Иосифа. Так вот и пролетела ночь.
А утром, спускаясь с крыльца, Иосиф Штитман, сорокалетний охотник за головами, увидел ожидавшего его Родия Ликина, чей возраст вряд ли был больше девятнадцати лет. О чем они говорили между собой, неизвестно. Раздался один выстрел, следом второй и третий. «Девушки», услышавшие стрельбу, выскочили (естественно, подождав некоторое время, чтобы не попасть под пули) и обнаружили Иосифа Штитмана, от чьей головы, разлетевшейся, как тыква под кузнечным молотом, остались только ошметки кожи, кости, волос, крови и мозгов, разбросанные по фасаду веселого дома. Штитман без головы держал в руке револьвер системы «Смит и Вессон», в барабане которого были две стреляные гильзы. Родий же сидел на земле. На коленях у него лежал карабин. А на черной ткани с левой стороны расплывалось еще более темное пятно. Родия внесли в бордель и положили на кушетку. И девушек, и Мадам поразило то, что раненый улыбался. Кто-то завел граммофон. Послали за доктором и полицмейстером. Мадам была уверена, что, пока чиновники доберутся, тем более в такое раннее утро, мальчишка умрет прямо на кушетке в холле заведения, перепачкав кровью кушетку и подушки. Первым появился, хоть ему было дальше ехать, фельдшер Уфимцев, заменявший отсутствовавшего доктора Вязьмина. Через четверть часа после медицины прибыл полицмейстер Франц Гансович Манке. Осмотр тела Штитмана ввел желудок полицмейстера в нигилистическое состояние и заставил пожертвовать завтраком в пользу ближайшего угла. Приведя себя с помощью Мадам Нинель в порядок, Франц Гансович пошел разговаривать с доктором.
— Этот тоже? — с надеждой спросил у врача полицейский чин.
— Пока еще нет. Но думаю, что это дело нескольких минут, максимум часа.
— Может, послать за родными? Или батюшкой?
Доктор пожал плечами:
— Не вижу смысла. Не успеют.
— Ну и ладно. А то кого обвинять? А так ни тебе правых, ни тебе виноватых…
Но разбираться все-таки пришлось. По прошествии трех четвертей часа после этого разговора, когда полицмейстер уже отбыл, Родий открыл свои черные, как смола, глаза, повернулся, сел, потрогал повязку на груди, спросил у доктора:
— Карабин мой небось у Франца Гансовича?
Доктор оторопело кивнул.
— Ну, тогда я пошел. До свидания, Мадам. Я к вам еще зайду. Можно?
И действительно, в течение следующих трех лет Родий Ликин, когда бывал в Малом Париже, если не ежедневно, то раз в неделю всенепременно под вечер, а то и среди бела дня наведывался в бордель.
Карабин ему вернули. Дело же замяли не столько потому, что постаревший скототорговец Исай Ликин был фигурой значимой, не столько потому, что Штитман давно уже мешал, сколько потому что знал слишком много и вел себя слишком нагло, особенно с теми, с кем вести себя так не следовало. Было решено, что убийство охотника — вынужденная самооборона.
— …имея такую рану, покойный Штитман не мог не только попасть в молодого Ликина, но и выстрелить даже один раз не мог, однако в револьвере покойного — две стреляных гильзы, и показания свидетелей подтверждают, что в инциденте было произведено три выстрела. Это дает нам основания со всей уверенностью считать, что Штитман выстрелил первым и даже опасно ранил Родия Ликина, следовательно, выстрел Родия Ликина есть оборона, и, учитывая тяжесть нанесенной ему раны, обоснованная. Единственное, что можно было бы вменить Родию Ликину, его несколько провокационное поведение и нахождение на месте инцидента с оружием, однако, учитывая юный возраст и сопутствующий этому вспыльчивый характер, а также тот факт, что Родий Ликин пострадал в этом происшествии, мы считаем возможным освободить его от наказания… — приблизительно такую речь произнес Франц Гансович Манке, тем самым давая Родию Ликину свободу.
Фельдшер же Уфимцев сказал только:
— Я не понимаю. Пуля где-то там, в нем. Да… Должен был умереть.
Цветы
В тот год, аккурат на раннюю Пасху, еще лиловый багульник на южаках не раскрылся, на Малом Заячьем зацвели красные, аж глазам больно, цветы. Таких здесь сроду не встречали, и потом тоже не было. Гончар Гришка Ященко искал глину и наткнулся. Принес домой, в Заречную, целую охапку. Смотрели, гадали, что же это такое, потому что с виду как цветы какие, а все же и не цветы. И на грибы похожи и не похожи.
— Они там, на Заячьем… Кругом растут. Круг такой сажени под две, наверное. А когда рвал эти вот, из цветов гадюка выползла. Зашипела, а не бросается. Я ее шугнул, а она не шугается — шипит себе и языком своим — швырк-швырк-швырк, — рассказывал Гришка. — А глину так и не нашел. Глина есть там, но не та. Черная, рыжая, а надо бы белую… И на карьере, что после Крыжевских остался, тож не та глина… Ты их в воду поставь, пусть постоят. А все же дивно, сколько уже здесь, а ни разу такого не видел. Возвращался когда, Ликина и Лисицына встретил, они там рябчиков гоняли в Кривом распадке, так и они таких цветов не видели. И здесь уже, по слободе когда шел, все, кого встречал, удивлялись, что за цветы такие. А мальчишка этот, Ликин подкидыш, замечала, странный какой-то. Вот, для примеру, Лисицын тот же — живой такой, глаза голубые, ясные, веселый в меру, белобрысый. А этот Родий… Да и что за имя такое, Родий. Ни Родион, ни Роман — Родий… Как улыбнется, так кажется, что он тебе сейчас прямо в горло этими своими зубами вцепится… А ты в глаза ему заглядывала? Ну и слава богу! Черные, что уголь. Исподлобья смотрит, как из погреба, и что там у него в голове его творится, поди разбери. И зверье его не любит. Ни кошки, ни собаки, с лошадьми вроде как нормально, но все же видно, как появится этот Родий — так лошадь аж трясет. И повадки у него какие-то… Вот вроде и человек перед тобой стоит, как посмотришь, а чуть отвернешься, так кажется, что и не человек это, а что-то такое. Вроде этих вот цветов, чего ни разу не видели, а оно вот появилось и ходит промежду людей и не прикидывается, не прячется, потому что если на него смотреть — так вроде все нормально, руки там, ноги, голова, да и глаза даже, что я черных глаз не видел, что ли, но вот такие… Вот с тех пор, как он Штитмана-то убил, с тех пор к нему вообще страшно подойти. Штитман, конечно, дрянь-человек был, и не жалко, да только вот Родий этот… Страшнее? Опаснее? Темнее, что ли… Уж как с ним Лисицын-то язык общий находит, не знаю даже. Так вот, я и говорю, что не такой он. Зыкин, не тот, что приказчик, а тот, что на Юдина работает, рассказывал, что от тунгусов, когда меха у них закупал, слышал, будто есть такие тунгусы, которые и не тунгусы совсем. Они, значит, все ходят себе, ходят по тайге, и чего ходят — попробуй пойми, потому что нормальный тунгус — он же не просто так, он же со стадами со своими, с оленями, а олень, он опять же, если не согжой, никуда с пастбища не уйдет, где родился, там и крутится. А эти — ходят и ходят. Будто бы даже у них и язык другой. И ладно бы это шаманы ихие были — нет, не шаманы. Одно слово — другие. Вроде и этот самоед, Уруй который, что на базаре появляется, тоже из этих, других, хоть и прикидывается, и с виду никак не скажешь, а что-то с ним, с Уруем-то, по-другому… Вот так же и этот Родий, все, как на него посмотришь, вроде на месте, а только отвернешься чуть — другой, и баста. А ты слышала, что в тот день, когда его в берестяном коробе к воротам ликинским подкинули, в тот же день колокол треснул? А?
Жена Гришки Яценко Варвара, спокойная баба, привыкшая к тому, что мужик ее постоянно молотит языком, только кивала, накрывая на стол. Красные цветы-не-цветы стояли в кринке на окне.
Через неделю в устье Пиекана Гришка нашел глину, а на Троицу хата Яценко занялась пламенем, и кабы не соседи, огонь бы точно перекинулся и пожрал половину слободы. Следующий год Яценко жили в землянке, потом только отстроились. Те, кто видел цветы-не-цветы, говорили, что пламя над Гришкиной избой было как раз того самого цвета. Сам же Гришка больше на Малый Заячий не ходил.
Шогины отары
Первый секретарь Малопарижского райкома Коммунистической партии Советского Союза Шогин прославился тем, что в середине шестидесятых, в самый разгул кампании по «глубокому внедрению кукурузы в северные районы», вместе с топинамбуром и коноплей стал организованно завозить на Реку женщин. За то, что в районе, подведомственном Шогину, каждый артельщик-«золотарь», лесоруб, охотник получил не только право, но и реальную возможность обзавестись женой или подругой, большое ему спасибо от всех таежников от Неряхи и Поляков до Бомнакана. Говорили, что собирать баб и молодух по всему Советскому Союзу Шогин доверял второму секретарю — ухватистому полукалмыку Семенову. Семенов собирал женщин, как овец в отары: сажал их в вагоны, потом — тук-тук, тук-тук, тук-тук — через всю страну до Вольной, Неряхи или Сковородки, а там уже или Рекой, или по тракту отару свозили в Малый Париж, и сам Шогин принимал женщин, которым должно было увеличить народонаселение Малопарижского района. Специально для этих встреч на месте, где когда-то стояла Окладовская заимка, сгоревшая в конце тридцатых, построили дом отдыха, быстро окрещенный малопарижцами «Шогинской дачей». Завистливые языки трепали, что Шогин сам лично опробовал каждую из прибывших в Малый Париж… Шогину это даже льстило. Но согласимся, что пять или семь тысяч женщин — это все-таки многовато даже для Распутина или Берии, не говоря уж о первом секретаре райкома, который, конечно, и в строительстве коммунизма, и в пьянке должен быть (и был!) примером для рядовых строителей, полжизни проводящих на лесоповале или по яйца в ледяной воде на приисках, но все же до былинного уровня, как ни крути, не дотягивал. Еще нужно отметить, что к своей работе Шогин относился ревностно и как-то раз устроил Семенову выволочку за то, что «второй» набрал «лахудр, на которых и у эвенка не встанет» (но это в самом начале было). Какая-то часть из каждого привоза, получив на руки компенсацию «за тревогу», отправлялись домой, остальные же разъезжались по приискам, леспромхозам, рудникам и находили себе нормальных мужиков, обеспечивавших своих жен, подруг и любовниц. Особо разворотистые, раскрепощенные и понимающие, в чем бабье счастье, умудрялись даже обзавестись и двумя-тремя источниками доходов.
Говорят, последняя «отара» пришла в Малый Париж в 1975 году. Вроде как ее в полном составе отправили вверх по Реке к недавно образованному бамовскому поселку Верхний, где началось строительство железнодорожного моста. Говорят, «бабья баржа» до Верхнего не дошла. Последний раз ее видели в Улгайском устье, где еще сохранились остатки бараков лагеря, в котором в тридцатых годах держали «кулаков» — участников Сионского восстания… Семенов из Малого Парижа в 1979 году пошел на повышение в Якутск, а Шогин, награжденный орденом Трудового Красного Знамени за перевыполнение плана артелями по добыче золота, умер то ли в один день с Брежневым, то ли в день Апрельского пленума. Но это уже не в Малом Париже было, а то ли в Красноярске, то ли в Краснодаре.
Лидин дар
К бабке Ульянихе меня привела ее внучка. Мы сидели на крыльце, и голосистая старуха распевала «Шумел камыш». Собственно, ради этой песни, куплетов в которой, как оказалось, немногим меньше, чем стихов в «Песне песен», я и приходил. Внучка, конечно, тоже интересная, та еще штучка, но у нее в любовниках — бывший и женатый первый секретарь райкома комсомола (тот самый, кстати, что принимал меня в ряды и спрашивал о принципе демократического централизма), так что чего уж там! Тем более чего уж, если экс-секретарь после развала Союза, компартии и компартиевой смены стал вполне успешным предпринимателем…
На распевки после рюмочки подошла соседка Лида. Лида не пела. Все больше слушала. А когда я уже собрался, спросила о моем отце.
Отец маялся почками. Давно и настолько безнадежно, что готов был на что угодно, лишь бы полегчало. У Лиды же, как у многих в то послекашпировское время, открылся дар. В общем, так мы и познакомились. Два года Лида лечила отца, и не знаю уж, что там — ее дар, отцовская вера или что еще, — но действительно помогало. Они с мужем Николаем и дочерями ходили к нам в гости, мы в ответ, когда Николай, матрос на речном буксире, приходил из рейса, посещали их. Так потихоньку, помаленьку вроде бы даже сдружились.
Николай приехал в наш Малый Париж вместе со строителями-комсомольцами лет двадцать назад. А Лида всегда жила здесь. И родители ее, и предки. Никита Чайка, как только стало известно, что в верховьях Реки золота «бери не хочу», отправился на север, неся на себе весь свой нехитрый скарб. Несколько лет крутился на приисках, в артелях, но, так ничего толком не заработав, однажды весной, чуть ли не сразу за ледоходом, вместе с женой и дочерью-отроковицей спустился по Реке и в тот же год поставил на берегу, там, где теперь пристань, кузню.
Мастер он был толковый. И ковал, и слесарил, и варил. Металл чувствовал и понимал. Ковал от гвоздя и подковы до хорошего ножа. До сих пор, наверное, еще можно найти у старых охотников капканы, сделанные им. Мне показывали бельгийское охотничье ружье, стволы к которому вроде бы отковал Никита Чайка. Говорят, что железные ставни на чуринском магазине и сейфы в подвалах Первого золотопромышленного банка — его работа. Клейма, кстати, не ставил, потому что считал, что мастера должно узнавать по самой работе, а не по тому, какую он рисует закорючку.
Первым пароходом навигации 19… года с низовьев пришли переселенцы-толстовцы. Следы их Ясной Поляны, упраздненной во время укрупнения совхоза, можно еще увидеть в районе Чкаловского озера, а потомков сектантов, почитай, и не осталось. С этого же парохода сгружали первое в Малом Париже пианино, этим же пароходом прибыл коренастый суетливый моряк — сын архиерея из Тамбовской губернии, убежавший из дому и ходивший на судах едва ли не всех морских держав во всех океанах. На плече моряк нес мешок. Рядом с моряком, но все же чуть впереди, шла крупная белая собака с огненно-рыжими ушами. Пианино, предназначавшееся в Собрание золотопромышленников, погрузили на телегу, и два чалых битюга размеренно потащили поклажу по пыльной улице, а собака повела носом, будто беря след, и направилась в сторону кузницы. Следом за собакой засеменил и моряк.
— Хорошая у тебя собака.
— О да! Я ее щенком совсем малым в Кейптауне у одного ирландца выпросил, она тогда вот не больше твоего кулака, а они у тебя, конечно, большие, а все же не больше кулака, да! Была вот такая маленькая, но не слепая, и зубастая, а вообще молчаливая, все время молчит, я вот ни разу не слышал, чтобы лаяла. Ван Нольтен говорил, что слышал, но его на следующий день малайцы зарезали, ага! В Маниле, так что я и не знаю, может, он и врал, этот Ван Нольтен. А у меня вот вопрос: ты что куешь? Сможешь мне шкатулку такую вроде сундучка, ну, как касса, только чтобы прочная, с замком и не очень тяжелая? А то мне вот барахло свое все в мешке да в мешке, а там все теряется, то одно теряется, то другое, вот я и подумал, что мне нужен сундучок такой, с крышкой. Где же я это подумал, а? Ну да, еще в Конго, значит, когда мистера Курца увозили, я и подумал, что хорошо бы, а мистер Курц, он великий человек. Ну так ты возьмешься? Дорого?
— Ну, ты тараторка… Не дороже денег.
— А! Ну это понятно, это же само собой, только сделай, а деньги — есть, вот смотри — это совсем старый дублон, а это вот мексиканский доллар, или вот соверен, и то золото, и это золото, а то можно и серебром, у меня и серебро есть, или ассигнациями тебе? А долго делать будешь? И где у вас тут кабак хороший, я слышал, что есть такой. А что, девки тоже есть? Вот помню, ну это тебе, наверное, неинтересно… Так долго будешь?
За время этого разговора моряк подпрыгивал, приседал, чесал затылок, корчил рожи, вытряхивал из заплечного мешка какие-то вещи, а собака стояла, принюхиваясь и щуря глаза, ничем беспокойства не выражая, как будто все вокруг ей давно и хорошо знакомо, да и вообще, что ей может быть в новинку? Кузнец же, выслушав слова, что сыпались как горох из прохудившегося мешка, спокойно объяснил морячку, где можно остановиться, где можно столоваться, что завтра к вечеру будет готово, что пяти рублей за кассу вполне достаточно, что девки есть, но в основном китайские куны.
— …все, не галди, иди себе, завтра приходи.
А моряк не унимался:
— А! Завтра! Ага! Хорошо! Значит, завтра, половину вот сейчас, а половину я вечером, хорошо так, да? И вот что, я же не просто так к вам пришел, я же Родия ищу, знаешь такого?
Чайка хмыкнул:
— Тот, что Штитмана убил? У девок его встретишь. Только собаку с собой не бери, не любят они его.
— Э-э-э-э-э-э. Нет! Это, брат, такая собака, что Родию в самый раз, я же говорю: мистер Курц — это раз, ирландец в Кейптауне — два и Ван Нольтен в Маниле — три! Значит, правильно все, значит, правильно, а ты уж, голубчик, постарайся, сундучок мне, ну до завтра, до вечера, вот, значит…
Кузнец свистнул мальчишке, чтобы тот вставал к мехам, а собака и моряк отправились к рынку по той самой пыльной дороге, по которой уехало в Собрание первое пианино Малого Парижа. Собака шла на полтора шага впереди, так, будто точно знала, куда им надо. Следующим годом, по осени, моряк, служивший тогда у Чурина складским приказчиком, взял за себя Чайкину дочку, а весной, с началом навигации, ушел помощником на окладовском пароходе «Алеша» вверх по реке. В августе, когда пароход стоял на Бомнакане, ожидая большой воды, чтобы пройти верхние перекаты, молодая жена помощника капитана родила дочку. Пароход пришел с верховий в конце октября и привез вести о налетах на дальние прииски. Живых очевидцев, конечно же, не было, но в Дальней Тайге, на зимовьях охотников, в балках старателей, на торговых заимках иногда шепотом, иногда в полный голос говаривали, что каждый налет сопровождается появлением белой собаки с красными ушами. По этой примете предположили, что грабежи — дело Родия Ликина. Тем более что ушедшим летом никто его в Малом Париже не встречал…
А что касается Лиды, то тут все просто. Некоторое время мы с ней говорили, что экстрасенсорика и «магические» штучки — вещь ой какая опасная. Лида соглашалась, что «да, ответственность и опасно», читала всякую медицинскую и знахарскую литературу, общалась с хирургами и после каждого серьезного больного добиралась в дом возле базара и отлеживалась на диване — желтая и выжатая. Помню, я спросил, насколько ей это надо, вот так вот? Лида сказала, что ей это не надо, но однажды оно пришло и есть, и теперь это должно быть так, потому что, ну, потому что по-другому не получается, потому что это болезни людей к ней приводят. Я не понял. Да, в общем-то, и не особенно старался понять, у меня своих проблем было достаточно.
За год до того, как умер мой отец, осенью, на пристани со стрелы погрузочного крана сорвался тяжелый крюк и, угодив в Николая, размозжил ему голову. Медицина в таких случаях бессильна. Что в таких случаях не бессильно? Лида рвалась в палату, кричала, а ее муж умер. Уж как Лиде удалось, не знаю, но к вечеру она пробралась в городской морг, расставила на полу свечи и всю ночь бормотала-пела-причитала-выкликала, стараясь вернуть-вернуть-вернуть. Под утро труп пошевелился, согнулся в поясе и сел. Покачался из стороны в сторону, и только Лида замолчала, сама не веря в происходящее, Николай или то, что сидело в нем, прохрипел: «Дура ты, баба, ох, дура» — и упал со стола на пол, погасив половину свечей. Служитель морга, по знакомству пустивший Лиду, видел все это и, выйдя из оцепенения, вытолкал ее, обессиленную, но продолжавшую сопротивляться.
Придя домой, Лида обняла младшую дочку, сказала: «Все кончилось» и отключилась на двое суток, в течение которых сидела на диване, смотрела пустыми глазами в стену и молчала. Очнулась только в день похорон, когда гроб с Николаем поставили в большой комнате старого дома возле базара. На поминках, устроенных администрацией речного порта, Лида не плакала. Прижимала к себе дочерей и что-то совсем неслышно шептала… Или просто так губы шевелились.
На сорок дней, когда младшенькая уже спала, а старшая, студентка медучилища, отправилась по каким-то своим молодым делам, мы сидели на кухоньке, и Лида, внешне спокойная, между рассуждениями, что на сорок дней душа оставляет этот мир, и что нужно бы поставить свечку, и что «Коле теперь уже хорошо, а как мне девчонок поднимать, ума не приложу», выпив очередную стопку водки, сказала:
— Это же в среду случилось… А во вторник вечером Коля пришел и говорит, что по дороге с порта, как раз перед базаром, из переулка вышла большая белая собака с красными ушами, посмотрела на него и сперва зарычала, а потом стала лаять. Коля ее прогнать пытался, а она за ним почти до самого дома шла и все лаяла. А потом отстала.
Больше Лида никого не лечила. Хоть и пыталась. Отцу ее массажи уже не помогали, и он все жаловался, что у нее руки стали совсем холодные. В начале следующего лета мой отец умер, а поздней осенью Лида в бане обнаружила повесившуюся на красном поясе свою старшую дочь. Младшая же дочка с тех пор, как погиб Николай, все болеет и болеет. А Лида никого не лечит, работает маляром-штукатуром, по субботам выпивает рюмку-другую, и, когда я с ней встречаюсь, мне кажется, что тень у нее странная, как будто не только от нее, но еще и от какой-то собаки, что идет рядом с ней, но чуть впереди, так, как будто ведет куда-то.
Тигровая шапка (2)
Приметная тигровая шапка мелькала в Дальней Тайге. Мужика в такой шапке видели то в Дондуках, то на Горно-Золотой, то на Боме, ну и в Малом Париже замечали. Слух даже пошел, что кто-то где-то слышал, что якобы кто-то из оставшихся в живых на разграбленных приисках видел среди налетчиков человека, точь-в-точь Шабалин, да только не пойман — не вор, а потом как-то само собой все закончилось. Ликина убили, война опять же Германская началась, и где все это время был угрюмый Серафим Шабалин, никто не знал, да и не до него было. Может, на Германской был, может, еще где.
А потом был семнадцатый год и все так завертелось, что только шапку поглубже нахлобучивай, чтобы не снесло. Ну и да, конечно, за голову тоже опасайся, а то вместе с шапкой-то… Угрюмый казак в тигровой шапке объявился в Малом Париже летом восемнадцатого года.
В городке, отстоящем от железной дороги за сто двадцать верст, казацкая сотня ждала прибытия красных, которых, по слухам, выдавили из губернского центра, и теперь они, кто как мог, отступали кто куда. Пароход «Почтамт», один из немногих, сумевших прорваться через заслоны и уходивший вверх по Реке, толкал перед собой баржу, на которой разместились человек сто — сто пятьдесят красноармейцев и дикого вида матросов-анархистов. Красные отступали на север, где можно было затеряться среди разоренных приисков, диких отрогов Станового хребта, в стадах эвенков-оленеводов, или уйти на соединение с частями уже тогда известного анархиста Тряпицына. Когда пароход, шлепая колесами, проходил Овсы, его заметили с берега и телеграфировали об этом в Малый Париж — и пока пароход боролся с течением и пробирался через перекаты на обмелевшей по сезону Реке, казаки в Малом Париже готовились к его встрече.
Две полевые пушки были замаскированы заборами у речного пакгауза. Три пулемета заняли позиции так, чтобы прицельно расстреливать баржу и пароход. Три десятка казаков были переправлены на остров, что между Малым Парижем и Заречной Слободой, чтобы вылавливать там тех, кто попытается уйти вплавь. У «Почтамта» не было ни единого шанса, даже если бы капитан знал, что его ожидает… А капитан не знал. Капитан и все, кто был на пароходе, были уверены, что белые до Малого Парижа еще не добрались, и поэтому шли по Реке, считая, что все худшее осталось в районе железнодорожного моста возле Белогорья — именно там их обстреляли и именно там им удалось прорваться и уйти вверх по Реке. Теперь же они приближались к речной пристани Малого Парижа и, рассматривая в бинокль пакгауз, склады, высокую набережную, здание Золотопромышленного банка, капитан не видел ничего, что могло бы показаться подозрительным.
А потом фальшивый забор упал, и артиллеристы, прицелившиеся по ориентирам заранее, выстрелили из своих орудий. Первым снарядом пароходу разворотило надстройку. Второй удачно попал в паровой котел, от чего тот взорвался, обдав всех, кто был в досягаемости, перегретым паром. И сразу же заработали пулеметы. Горящий пароход и баржу развернуло поперек течения и потащило как раз на остров, где в густых тальниках три десятка казаков, среди них и Шабалин Тигровая Шапка, уже ждали своего часа. Патроны им были не нужны. Ошпаренные, ошарашенные, красноармейцы не успели схватиться за оружие и бросались в Реку в надежде добраться до берега и там найти хоть какое-то убежище, но натыкались на шашки и штыки.
Все было кончено за полчаса.
Еще через полтора часа немногие уцелевшие красноармейцы стояли на причале и ждали своей участи. Предложение было простым. Желающие спастись могут попробовать вплавь перебраться на левый берег реки, если им повезет и отменные таежные стрелки, вот хоть тот же Шабалин — белку в глаз бьет, промахнутся по их головам, тогда скатертью дорога, а если нет… Как пришли Рекой, так Рекой и снесет. Рыбам тоже жрать чего-то надо. А если не хочешь или не научился плыть — вон стенка. Так что, краснопузый, выбирай, что так, что этак. Ну а и выживешь даже, все равно же не навсегда, правда, а, комиссары?
Разделились примерно наполовину. Те, кого отвели к стенке, стояли и смотрели на входивших в воду и, может быть, спрашивали себя, почему они-то выбрали стенку? В тот день Шабалин из своего карабина прострелил пять голов, пытавшихся скрыться в волнах и течении. Из всех, кто вошел в Реку, только один смог добраться до противоположного берега. Но и его, как только он поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к суше, уже уверенный, что за сто пятьдесят — двести метров его никакая пуля не возьмет, Шабалин снял одним выстрелом. По этому поводу они даже поругались с есаулом.
— Что же ты, сукин сын, стреляешь его! Он же уже на берег выбрался. Ему же обещали жизнь, коли сможет… — кричал есаул на Шабалина.
Шабалин же, усмехнувшись из-под своей черно-рыжей шапки, отвечал:
— А ты переправься и посмотри. Коли на камнях лежит — твоя правда. А ежели в воде… Ну и посмотришь заодно, куда я ему попал. Я-то по голове его метил…
Убитый лежал в воде. Пуля охотника вошла точно в затылок, как раз там, где шея соединяется с черепом…
Вечером казак Юхнов, совсем зеленый пацан, спросил Шабалина, где тот так наловчился стрелять. Серафим отмахнулся от него как от назойливой мухи, пробурчав что-то вроде: «Да было где». А другой казак, постарше, сказал, что Шабалин, по слухам, у Ликина в банде был, видно, там, на приисках и рудниках, и наловчился. Серафим на это ответил:
— Где был, там уж нету. А ты вроде мужик взрослый, а, что баба, языком метешь, что знаешь, чего не знаешь. Поберег бы ботало, а то сотрешь под корень, чем жопу подтирать-то будешь?
Оставшихся четырнадцать человек расстреляли на следующий день…
А потом в Малый Париж пришли японцы. Было их немного, полторы сотни, может, чуть больше, и простояли только до весны, после чего попытались вывезти все золото, что хранилось в Золотопромышленном банке.
Мороз и Пушкин
В конце декабря — начале января на Гиляе, особенно там, где долины практически нет, а есть проветренная труба-ущелье, температура опускается ниже минус пятидесяти, так что спирт в термометре сворачивается в красную капельку, вроде эмбриона на второй неделе, а из ртути, говна, слюны — из чего угодно получается вполне так себе пуля, был бы порох. В это время жизнь замирает, становится белой, безмолвной и просто ждет, когда температура поднимется хотя бы до минус тридцати пяти. В это время — перед и после Нового года — на Гиляе все останавливается, ничего не происходит.
Однако охотник Вадим Подроманский, вышедший на путик в конце февраля, замерз насмерть на Нижнем Дапе при температуре всего-то минус двадцать четыре. Никто никогда не узнает, что с ним случилось — пропал мужик, и все. Другое дело, любой вам скажет, что провалившийся в наледь и замерзающий Вадик Подроманский точно не вспоминал ни Байрона, ни Лермонтова. Да и на Пушкина ему насрать было.
Очки, Аммосов, Миллионник
У инженера Аммосова Георгия Африкановича были очки в золотой оправе и карта на берестяной торбе из клада, который пропавшему невесть куда Архипу Кривоносову помогли откопать Родька Ликин и Степка Лисицын. Карту эту Аммосов все никак не мог прочесть. То есть понимал, что ровные линии — это реки, а зазубренные — это горы. Те же, что пунктиром, — тропы. Но что значит смесь старославянских буковок и похожих на рыболовные крючки резов, Аммосов, как ни всматривался, как ни складывал куски бересты, порубленной сапожником, не понимал.
— Предположим, это — Река. Тогда это вот — Урекхан, а это, должно быть, Брянта, а это Гиляй. Значит, это — Становой. А это что?! Нет там тропы! Нет!
Так, разговаривая сам с собой, Аммосов проводил вечера над берестой, которую, казалось бы, знал наизусть и легко бы нарисовал сам со всеми пятнами и разломами, но все равно не давалась, ну как есть не давалась, чисто девка строптивая и от того целая до сих пор, береста эта.
А потом, после года или полутора непонимания, чуть ли не переходящего в истерику, на рынке, пробуя сметану, что привезли переселенцы из Верхнего Сиона, горный инженер встретил смешного, болтливого и дерганого моряка, что привез красноухую собаку Родию Ликину, за которого уже назначили награду. По этой молчаливой собаке, если уж по правде говорить, Родия-то и заподозрили в грабежах и разбое, но это ладно. Тут важно, что Аммосов встретил на базаре трепливого почти зятя кузнеца Чайки, и моряк, побывавший чуть ли не в самом черном сердце Африки за год до войны в Трансваале, протянул инженеру Аммосову два круглых стеклышка — бери да ставь в очки.
— Что вам надо? — спросил Аммосов.
— Да нам-то чего, fucking shit, — сказал в ответ моряк, — нам совсем ничего, у нас все есть, а вот вашему благородию. Вот смотрю на вас и Марлоу вспоминаю, вы бы друг другу подошли, I think, а вот мистер Курц — тот другого замеса, это я точно говорю… Так что чего мне, мне ничего, это вот glasses for your eyes, для глаз то есть, я же вижу, на сметану смотрите и щуритесь, и совсем не так, как кошка на молоко, а вот как ван Шьюттен, как смотрел на кость, вот так же, так что они вам в самый раз, берите, а коли и правда пригодятся, так меня пригласите, please, как там wolf said? Пригожусь, да?.. Рубль… серебром, не ассигнациями… А оправу Чайка сделает, он мне знатный сундучок железный склепал…
И, получив рубль, посвященный трехсотлетию дома Романовых, говорливый моряк отправился в кабак при базаре, где благополучно его и пропил.
Аммосов же, придя домой, по привычке принялся рассматривать карту на бересте и ни с того ни с сего приложил к глазу стекло с базара. И показалось ему, что понимает эту странную схему и даже как бы воочию, хоть и сквозь туман, видит и, главное, понимает: там, в Тайге Дальней, где сплошь хищники, хунхузы и фартовые бродяги, ни бога не признающие, ни брата, и из доброго люда разве кочевые тунгусы, — там в ущелье течет из-под вечной наледи ключ… Но мало ли таких ключей-то, и далеко ходить не надо, но этот — особый. В нем — на лопату грунта, взятого с берега, на три, а то и четыре золотника золота… МИЛЛИОННИК. Одно ему имя — МИЛЛИОННИК.
Никита Чайка, кузнец, каких и черт не видывал, переплавил червонец и сотворил стеклам оправу — сносу не будет, и Аммосов мало того что понял писаное на берестяной торбе, так еще и стал видеть металл прямо в земле. На берегу Реки, в оврагах, в ключах и даже, на удивление всем, вытащил из городской лужи четвертьфунтовый самородок — вот такие очки получились из стекол сумасшедшего морячка и оправы его мастеровитого тестя.
Чайкин зять, на удивление, оказался толковым ходоком. Одно только было плохо — болтлив и суетлив, что не табор на ночь, то разговоры-разговоры-разговоры. Однако уже на третьей стоянке Аммосов понял, что морячку собеседник не нужен и он просто, что называется, пустомелит, не ожидая от окружающего реакции. И посему, рассматривая в свете костра берестяную карту, делая пометки в своем дневнике, инженер разве что в четверть, а то, может, и в пятую часть уха слушал то ли байки, то ли правдивые истории попутчика, которые нанизывались одна на другую и, бесконечно повторяясь, менялись до неузнаваемости. Моряк же, прихлебывая чай, болтал то о какой-то черной женщине, которая вроде как и не черная и идет за ним чуть ли не с Конго, а может быть, и не идет, а едет на нем, на морячке, как, скажем, люди садятся в вагон или каюту в зависимости от своего положения первого класса, или третьего, или чуть ли не грузом едут из одного места в другое; и это не значит, что там, в новом месте, им будет лучше, а вот все равно же едут, идут, ползут; он и сам из таких, и где он только не был, а только поднимался и шел дальше, нанимался на корабль или судно, порой только для того, чтобы отработать проезд, кочегаром, матросом, боцманом, помощником капитана; нет, капитаном никогда не ходил, хотя если бы чего, так мог бы и капитаном, и на море и по рекам; вообще, реки он понимает, потому что реки — они как дороги, вот океан — другое дело, хотя и там тоже дороги есть — ветры, течения те же самые, а черная эта завсегда рядом, вот и в Кейптауне, и в Маниле, и даже раньше, пока еще был жив мистер Курц, и черная была с мистером Курцем… И инженер спокойно засыпал под это бормотание, уделяя внимания ему не больше, чем тунгусу-каюру, нанятому вместе с лошадьми в Бомнакане, дальше которого только Тайга, та самая, Дальняя, настоящая, а не прогулочная тайга, где, если верить очкам и бересте, а как же им не верить, ждал Аммосова ключ Миллионник.
В Малом Париже еще, когда инженер собирался в эту экспедицию и искал снаряжение, газетчик Буторин спросил его:
— Вот скажите мне, зачем вам это золото? Ведь вы же, Георгий, ни на одного из этих фартовых приискателей не похожи. Вы — человек образованный, в Санкт-Петербурге, в Париже, я слышал, обучались, и на первый взгляд нет в вас ни на золотник этой лихорадочности. Да и богатство вам, как посмотришь, тоже не особенно нужно… Так вот, скажите мне, Георгий, зачем вы вместо того, чтобы в столицах жить спокойно, ходите по диким местам, ищете металл, который, кстати, достанется и не вам, а Окладову, Бородину или еще кому?
Инженер Аммосов на это ничего дельного ответить не смог, разве что отшутился тем, что и сам Буторин тоже не из простых и ему бы оставаться в Варшаве, так понесло же его издавать газету там, где ее и читать-то, по гамбургскому счету, некому. Это потом уже, когда окладовский пароходик «Алеша», шлепая плицами и с трудом протискиваясь между обливными камнями на перекатах, шел вверх по Реке, и потом в Бонакане, в заново отстроенной после пожара фактории, стены которой все еще пахли живой лиственничной смолой, а не как в прошлой — самогоном, настоянном на табаке, потом, заскорузлыми мозолями и язвами, плохо выделанными оленьими шкурами, шорохом лисьих сорок, блеском собольей шкурки, половинчатыми унтами тунгусов и ичигами охотников, дегтем и кажется, гвоздями, — короче, всем тем, что, в совокупности, перемешиваясь, дает тот особый аромат золота и денег, который присущ самым дорогим французским духам, — вот, кажется, там, и потом на стоянках, под бормотанье суетливого морячка, вскрывавшего консервы или ощипывавшего рябчика, и, наверное, именно благодаря этому бормотанию Георгий Африканович если и не смог найти ответ на буторинский вопрос, то хоть как-то нарисовал перед своим взором картинку вроде тех, что можно встретить на писаницах по Реке. Дело было не в золоте, точнее, и в нем тоже, но все-таки не в этом желтом, как бы постоянно текущем и тяжелом металле. Золото было только поводом подняться и с огнем и мечом, как конкистадоры и казаки Ермака и Хабарова, или с компасом и геодезическими цепями, переодевшись в местную одежду, как шпионы вроде Семенова-Тянь-Шанского и Лоуренса Аравийского, отправиться на поиски легенды об Эльдорадо, Семи Городах Сиболы, страны Иль-Браззил, Беловодья, Серебряной горы, то есть искать осколки чудес, разбросанных по всему свету в письмах пресвитера Иоанна, посланиях Аввакума, сказках о путешествии Святого Брендана, рассказах Афанасия Никитина и Марко Поло, и в результате наткнуться на Мехико, Лиму, брошенные в джунглях города, увидеть в воде какого-нибудь озера отражение Китеж-града. А золото, серебро, драгоценные камни — это все только вещественные доказательства того, что тот, кто искал, дошел до самого конца мира и, подобно Васко де Бальбоа, увидев с горной высоты океан, нарек виденное, тем самым на века пригвоздив к реальности то, что не существовало до тех пор, пока не было открыто. Вот ради этого, ради того, чтобы прикрепить к реальности вымысел, если угодно, подшить к делу и дело это отправить государю в Москву или Санкт-Петербург, и шли сюда полузвери-казаки, и теперь идет в сопровождении молчаливого незаметного тунгуса и болтливого морячка он, Георгий Африканович Аммосов. Верно, так бы и ответил теперь горный инженер газетчику. Да. Приблизительно так. И, может быть, добавил бы, что Буторин ошибается, что общего у него с хищниками и хунхузами гораздо больше, чем это кажется газетчику, что это как яблоко — одно красное, другое зеленое, третье вообще желтое, а кожуру как счистишь, так внутри — белое и ржавеет одинаково. Георгий Аммосов улыбался ехидно, выколачивал трубку, бережно сворачивал бересту, на которой знаки становились все отчетливее и все понятнее, закрывал записи в твердом переплете и, как бы отсекая прожитый день на тропе, засыпал.
Прорубившись через переплетенный кедровый стланик, разве что только не на себе перетащив мохнатых якутских лошадок, они вышли на обширное горное плато. Здесь вся растительность была под ногами, ползала между поросших лишайниками глыбами и нисколько не мешала передвижению — хоть вправо иди, хоть влево, хоть вперед. И над всем этим висело белесо-голубоватое, чем-то похожее на китайскую чашку небо. Прохладный, не сильный, но вполне ощутимый ветер сносил напрочь комаров и гнус. Впервые за неделю люди вздохнули свободно, а лошади успокоились и, пока Аммосов разворачивал свою берестяную карту, пока смотрел сквозь свои очки на черты, резы, буквицы и знаки, принялись, точно олени, копытить мох и объедать свежие, сочные корешки то ли ив, то ли берез. Миллионник был где-то совсем рядом. День или два пути. В ползущих с севера облаках горному инженеру мерещилась какая-то башня, стоящая посреди озера, и мост, но потом он случайно взглянул на солнце, и желто-красное, как золото в раскаленном тигле, светило на секунду ослепило Аммосова и выжгло миражи из глаз, оставив только негативный отпечаток на сетчатке, который постепенно сошел на нет.
— Что там? — спросил инженер у присевшего покурить тонкую трубку каюра-тунгуса.
Тот в ответ пожал плечами. Дескать, кто его знает, моя туда не ходил, туда только духи летал, а моя не шаман, моя каюр, ходи сама, сама смотри, моя тоже ходи, моя тоже смотри.
— Ну, что же, пойдем посмотрим, — улыбнулся на это Аммосов и пошел, как будто кто-то его подтолкнул, направо.
То есть если судить по солнцу, на восток.
Они пересекли плато и спустились в ключ. Аммосов надел свои очки и увидел, что золото было везде. Оно, казалось, даже висело в воздухе. Гнус, комары, оленьи мухи виделись ему золотыми крупинками, роящимися над лошадьми и его спутниками. Инженер запустил руку в обжигающе холодный ключ и вынул со дна пригоршню золотого песка вперемежку с самородками, каждый из которых был не крупнее, но и не мельче гранатового зерна. Он ошибся в расчетах. Нет, не три, не четыре золотника на лопату грунта. Дай бог, если в шлихе вообще грунт будет… МИЛЛИОННИК.
Столбили участок, вбивая лиственничные колья с резаными по ним годом и именем прямо в золото, лежащее под тонким слоем дерна. Вечером ели пожаренных на углях хариусов, пойманных морячком чуть ниже по течению. Ради этого дела Аммосов вытащил из поклажи пару бутылок, аккуратно обмотанных, чтобы не побились, бечевой, и разлил по трем кружкам водку. Моряк, на удивление, не болтал, а, выпив первую, взялся что-то напевать, а как вторую выпил, сказал, чтобы Аммосов обязательно передал его жене — дочери Никиты Чайки, чтобы она по моряку не грустила и выходила замуж за другого…
— С чего бы это?
— Да что-то кажется мне, не вернусь я… Налейте мне еще водки, Георгий Африканович, не дело это самому себе наливать, так что вы уж, того, налейте… Я вот ловлю харюзов там, ниже, и вдруг вижу — на склоне появляется собака белая такая, с ушами, что огонь, как раз та, какую я Родию Ликину привез, ну да все это знают, и вы знаете, чего уж там, и собака на меня смотрит так, смотрит, а потом залаяла…
— Уж не приблазилось тебе? Крестись, коли кажется. Не слышал я никакого лая…
— И то верно. Это такая собака, молчаливая. Ее же не каждый услышит. А тот, кто услышал, почитай, отходную можно заказывать. Я знаю. Так что передайте, ну, и долю мою, коли донесете, тоже.
Аммосов подивился про себя придури, невесть откуда нахлынувшей на обычно к меланхолии не склонного моряка, но, прислушиваясь к себе, тоже ощутил, что в душе у него как-то маятно и совсем уж тоскливо. Чувства такие, как будто он с любимой, к которой всем сердцем прикипел, расстается и больше уже им не свидеться. Вот-вот. Или как в детстве, когда какой-то взрослый мальчик забирает у тебя игрушку, и так тоскливо, что только в слезы.
Полтора месяца прошли в работах. И в ночь перед возвращением, когда уже тюки были увязаны и все, что нужно, собрано, когда уже допили последнюю, оставляемую специально для этого дня бутылку водки, Аммосов в своей палатке проснулся от того, что кто-то прижал его к земле и закрыл ладонью рот.
— Тсс, капитана, твоя тихо-тихо лежи, — шептал ему в ухо каюр.
Было совсем темно. Из тьмы доносились какие-то нечленораздельные звуки. Будто кто-то вздыхает, или всхлипывает, или лепечет что-то вроде «нях-няха-нях-о-нях-рата-х-нях-о-нях», а потом молчит и опять вздыхает, и опять лепечет. Аммосов подтянул к себе карабин и потихоньку выглянул во тьму из палатки. Костер почти потух, но в какой-то момент вспыхнул и осветил бивуак.
Они стояли на самой границе света и тьмы. Высокие фигуры, с ног до головы укутанные в меховые шубы с накинутыми на головы капюшонами, держали в руках что-то очень похожее на серпы или кривые косы, снятые с черенков. Было их два или три десятка, и это они лепетали из тьмы под своими капюшонами: «Нях-няха-нях-о-нях-рата-х-нях-о-нях». А перед самим костром сидели три человека. Черная женщина. Крепкий мужик в полосатой черно-рыжей шапке. И почти совсем мальчишка, в котором Аммосов узнал Родия Ликина. У ног Родия лежала большая белая собака. Черная женщина показывала куда-то рукой, и, проследив за направлением, горный инженер увидел выходящего из темени и идущего к группе у костра морячка…
Утром, не найдя и не дождавшись моряка, инженер спрашивал у каюра, что же такое им привиделось, что это за люди были. Каюр же ничего не мог объяснить, а то, что говорил…
— Их не люди, однако. Их давно-давно ходи-ходи. Луча они. Их не люди.
Аммосов же чувствовал себя совсем разбитым, как будто заглянул в темный колодец и на дне его вместо привычного отражения своего лица увидел расползающийся белесый труп. И когда, уже в верховьях длинной долины Улукита, за несколько дней до первого снега они наткнулись на возвращавшихся с Горно-Золотой спиртоносов-хунхузов, инженер был совсем плох, весь горел, что твоя печка, постоянно бредил и даже не заметил, как каюр успел сбежать, бросив и лошадей, и горного инженера, а хунхузы, перерыв поклажу, забрали только то, что показалось им ценным, — оружие, остаток патронов, самородки и песок, а берестяную карту и записи Аммосова в дневнике с твердым переплетом побросали в костер и сожгли. Один хунхуз, тот, что, видимо, был в шайке за главного, нашел в кармане инженера чехол с очками и, покрутив их так и этак, аккуратненько ударил о рукоять затвора своего карабина вначале одно стекло, потом другое. Стекла звякнули и рассыпались. Оправу хунхуз смял и положил к остальному золоту. Потом они некоторое время совещались, убивать ли им белого, решили, что тот, скорее всего, и сам не выживет, погрузились на купленных в Бомнакане лошадей и ушли, вероятно, на Орби, а там по долине до Урекхана и через Реку — в Маньчжурию.
Аммосова, на треть живого, подобрали на Горно-Золотинском тракте. Доставили в Малый Париж. Без карт, естественно, без записей, с одной только легендой о том, что там, в Тайге Дальней, есть ключ, имя которому одно — МИЛЛИОННИК. Но как туда добраться, не имея ни очков Аммосова, ни берестяной карты из Архипова погреба?
А сам горный инженер через год или два уехал из Малого Парижа, как говорили, то ли в Большой Париж, тот, который во Франции, то ли в Америку.
Погромы
В губернском городе вестям о кровавых налетах на дальние прииски поначалу особого значения не придавали. Мало ли что доходит с верховий Реки! То у них там одно, то другое. То понос, то золотуха. Тем более что на приисках и рудниках Амурской горной компании исправно работали наемные артельщики. А к тому, что рассказывают спиртоносы, контрабандисты-ходя, вольные приносители, охотники и иные людишки, в губернском центре относились с бухгалтерским юмором: «Делим на четыре. Оставляем треть, из оной вычитаем половину. А что в остатке — жертвуем на храм».
Однако после того, как в отстроенном заново после набегов хунхузов-боксеров губернском городе вместе со слухами о бандитизме в Дальней Тайге стали появляться незнакомые обывателям личности с тяжелыми кошелями, набитыми золотом, которое они чуть ли не за половину цены сдавали купцам-китайцам и купцам-евреям, власти пусть не в той же степени, как во времена карательных экспедиций на «республики хищников», но все-таки озаботились. Среди подпавших под подозрение в причастности к рейдам был и бывший малопарижский коммерсант Евстафий Крыжевский, чья взрослая дочь Ядвига была несколько раз замечена в городском саду в компании подозрительного человека. Впрочем, дознаватели ничего толкового вытянуть из Крыжевских не смогли. Человек, общавшийся с Ядвигой, был ее женихом — Степаном Лисицыным. Так что некоторое время полицейские чины вынуждены были довольствоваться слухами, байками, россказнями и иными сказками. А байки такие, известное дело, прежде чем дойти до города, обрастали страшными подробностями, вроде северной елки, с которой по всей высоте свисает длинный, что борода старовера или толстовца, мох.
Все, что передавали друг другу обыватели губернского города, после очистки от разнообразной шелухи, сводилось к тому, что в Дальней Тайге «работает» несколько злодейских ватаг, совершающих свои набеги из одного центра, а это, вероятнее всего, Малый Париж, что на правом берегу в среднем течении Реки. Банда выбирала небольшой, удаленный от центров золотодобычи прииск и в тот момент, когда накапливалось достаточно поднятого старателями золота, окружала территорию, вырезала всех, кого заставала на прииске, предавала огню все, что могло гореть, и, собрав металл, уходила, для того чтобы через день или два ударить в другом месте. Спиртоносы-китайцы, добиравшиеся со своими флягами аж до Якутии, якобы были свидетелями нескольких налетов или появлялись на приисках тогда, когда огонь еще не угас. Именно спиртоносы и рассказывали о следах пыток на трупах старателей; о том, что главарь — молодой «черный» человек и его сопровождает большая белая собака с красными ушами; что бандиты одеты в темные балахоны с капюшонами на головах, так что различить лица с того расстояния, с которого видели их спиртоносы (а им, кстати, все европейцы на одно лицо), не представляется возможным. Еще говорили, что даже тогда, когда старатели успевали организовать сопротивление, ничего путного из этого не получалось, поскольку «их, однако, ни пуля, ни нож не боится». Кто-то назвал имя Родия Ликина, известного в районе жителя Малого Парижа, при котором действительно уже несколько лет жила необычная белая собака с рыжими ушами, что многими воспринималось как неоспоримое доказательство причастности Ликина к грабежам на приисках. Охотники на людей стали получать предложения выследить и убить Родия Ликина, и поначалу брались, а потом, когда выяснилось, что каждое сообщение о смерти Ликина в лучшем случае — ошибка, а грабежи не прекращаются, стали отказываться от такой работы. Да и у золотопромышленников, финансирующих старателей, поубавилось желания выбрасывать деньги на поиски неуловимого главаря банды. Слухи плодились и разрастались. В кабаках заключали пари на то, какой прииск ограбят, а какой «пронесет». Торговцы оружием получали богатые заказы на оснащение охраны. Старатели, уходя в тайгу, пытались даже словом не обмолвиться о том, на какой ключ, в какой район идут. Словом, все вернулось на круги своя.
И тут в губернском городе появился сам Родий Ликин. Вместе с собакой он вселился в номер гостиницы и не успел снять сапоги, как к нему уже входили полицейский следователь, товарищ прокурор и специальный уполномоченный Амурской горной компании. О чем разговаривали? Вероятно, о том, откуда, с какой целью и насколько прибыл в губернский город Родий Ликин. Из Харбина через Владивосток и Хабаровск. По частным делам. Неделю, две — не больше месяца. Куда направляется? В Малый Париж. А может быть, говорили и не об этом, может быть, разговаривали, попивая коньяк, о видах на торговлю мясом, текстилем, фарфором, о том, какие удовольствия и развлечения может предложить губернский город, но какой он все-таки в сравнении со столицами империи скучный и провинциальный…
Представители властей покинули номер Ликина через час с небольшим, а Родий спустился в ресторан, плотно пообедал и вышел из гостиницы в пятом часу пополудни. Ах да, собака. Вероятно, все это время она сидела в гостиничном номере. Впрочем, половой, заглянувший в апартаменты и осмотревший багаж Ликина, где среди белья нашел темное бронзовое зеркало, хороший нож и несколько книжек, собаки не видел. Он видел что-то другое, похожее на тень, медленно прошедшую через спальню в гостевую и окатившую вороватого полового волной холода. Половой об этом никому не рассказал. Через неделю он поседел, у него выпали зубы, и его закоченевшее, исклеванное воронами тело нашли на берегу Бурхановки за два дня до вспыхнувшего и погашенного казаками бунта.
А Родий Ликин вернулся в гостиницу за полночь, приведя к себе молодую женщину, наверное, дорогую проститутку. Гостиничный приказчик, получив ассигнацию, успел отвернуться. Впрочем, даже если бы и не отворачивался, узнать женщину под плотной вуалью вряд ли бы смог. Рано утром, еще по зябкой промозглой осенней темноте, женщина ушла черным ходом. Горничная, меняя постель, обнаружила закономерные следы и несколько длинных рыжих волос.
О том, что Родий Ликин живет в гостинице, не таясь и не скрываясь, обывателям стало известно в течение двух суток. Два прошедших года с вестями о грабежах в Дальней Тайге, неоднократные сообщения о смерти Ликина, описания собаки и разоренных приисков — все это завело настроения людей дикого, нецивилизованного края настолько далеко от точки возврата, что в воздухе физически ощущалась потребность найти «крайнего». И не было лучшей кандидатуры на эту роль, чем Родий Ликин, в виновности которого мало кто сомневался. Как же, вот она — собака, да и сам Родий — изнутри черный, и животина вся домашняя от него бежит, как от чумного. Так что, сами понимаете, это не мы такие, это нас что-то такими делает. Это не мы, закусывая водку борщом и пиво раками, жаждем крови и ищем себе жертву, это что-то, что разбросано по песчинке в каждом из нас, стоит нам собраться вместе, заставляет нас хвататься за ножи, и ноздри наши трепещут в предвкушении крови, и домашняя животина — коровы, свиньи, овцы, собаки, лошади, кошки — трясутся от дикого страха, чувствуя, как не мы, а что-то, что в каждом из нас, собирается в стаю — и вот. Сейчас, здесь, сейчас же, именно здесь! Все права и обязанности отступают, остаются только желания, да и те не мы, не мы, а то, что в нас, что больше нас…
Выстрел раздался через полторы недели после появления Ликина в губернском городе. Родий выходил из ювелирного магазинчика, что как раз напротив рынка. Пуля вошла в правое плечо и, пройдя сквозь мясо, вылетела с другой стороны, ткнулась в стенку и вместе с куском штукатурки упала на землю. От удара Родия развернуло и швырнуло назад в магазинчик. Он растянулся на пороге лицом вверх. Шляпа, слетев с головы, закатилась под прилавок, и не успел Ликин подняться, как со всех сторон к нему уже неслись горожане — крепкие мужики, здоровенные бабы, детишки, девки и отроки. Никто не понял, что произошло дальше. Двое из тех, что были ближе всего ко все еще лежавшему Ликину, продолжали перебирать ногами, а их шеи уже были перерезаны-разодраны то ли клыками, то ли чем-то вроде крестьянского серпа. Владелец магазинчика, у которого Ликин только что купил какую-то безделицу, оттащил поднявшегося на ноги Родия к черному ходу во двор, а толпа, как на стену наткнувшись, остановилась перед двумя трупами и растекающейся медленной, тяжелой и парящей лужей. И кто-то закричал…
Этот крик умножился, разросся, захватил рынок и, подобно пожару в предместье, перекинулся дальше, превращаясь в утробный, ничего не говорящий рык. Потом крик вместе с толпой отхлынул от дверей лавки и, как будто выбирая новое направление, некоторое время покружил по улицам и переулкам, втягивая в себя все новые голоса, увеличиваясь и уплотняясь, а потом как-то сразу в одну секунду понесся по губернскому городу в сторону парадного подъезда гостиницы. Толпа смяла швейцара, а может быть, швейцар, только что впустивший раненого постояльца, потерявшего шляпу, сам присоединился к толпе и одним из первых бросился по лестнице вверх. Рык ощетинился револьверами, охотничьими ружьями, ножами, веревками и, не разбирая, выносил в гостинице все двери подряд. В это же время в магазинные витрины полетели камни, кто-то истошно вопил, кого-то затаскивали в подворотню, чьи-то руки разрывали ткань чьего-то платья, из окна третьего этажа вылетело пианино и, взорвавшись бессмысленным аккордом, рассыпалось клавишами, щепками, струнами по земле. Уже пахло огнем, а над городом потянулся дымок первого пожара. Кто-то кричал: «Бей жидов!» — эхом ему отвечали: «Убей китайца!» А в номере не было ни Ликина, ни его вещей, ни его собаки.
Усмирение города длилось два дня. Казаки когда нагайками, когда шашкой, а порой и стреляя, призывали горожан к порядку. Число погибших было приблизительным — около трехсот. В разных местах города опьяненные смутой и дозволенностью всего, что душа желает, горожане видели белых собак с рыжими ушами, человеческие фигуры, закутанные в темные балахоны и вооруженные кривыми, зазубренными, как серпы, ножами, и еще видели большого серого зверя. В своем донесении губернатору городской голова, вспоминая времена массового утопления китайцев и похода на Пекин, обвинил в беспорядках «социалистов», а через тридцать пять лет серьезные историки говорили на лекциях об этой смуте как о последнем всплеске движения первой русской революции. А Родий Ликин вечером того дня, когда в него стреляли, перекинул почищенную крупную ауху сидевшему на камне Урую. Справа от Уруя лежала белая собака и слизывала с морды последние капельки крови. Чуть дальше по берегу бродил здоровенный лохматый серый зверь, похожий и не похожий на медведя. А на стремнине в холодной воде мелькнуло серебром тело Луна.
Когда доели рыбу, Уруй спросил:
— Ну? Идем?
Родий хмыкнул и пробурчал себе под нос что-то вроде того, что «да мы и так все идем да идем», потом кивнул, поднялся, подхватил саквояж, в который только что спрятал нож, и пошел вверх по берегу Реки. Уруй покачал головой и тоже пошел следом.
Сон, что приснился китаянке из заведения Мадам Нинель
В провинции Нися Хуэй жила китаянка. Она была бедной, да к тому же и шить не умела. Звали ее Цзи Фэй. Однажды ее увидел сын сановника Хун Цзэ-Лун и, воспылав страстью, решил жениться. Но богатое семейство воспротивилось такому неравному браку, и, следуя сыновнему долгу, Хун Цзэ-Лун вызвал бедную Цзи Фэй, с тем чтобы сказать ей о решении, принятом его родителями. И когда они шли, из зарослей бамбука выскочил заяц и перебежал тропу прямо перед влюбленными. Одним движением Хун Цзэ-Лун выхватил лук, наложил стрелу на тетиву и выстрелил вдогонку зайцу.
Освежеванного зайца Цзи Фэй приготовила так, как это принято в провинции Сычуань, и отправила родителям Хун Цзэ-Луна: старому императорскому сановнику, его жене, и его второй жене, и главной смотрительнице за сановными наложницами. После этого родители разрешили своему сыну взять в жены Цзи Фэй.
Мудрый Кун Цзы по этому поводу сказал, что в зайце была скрыта плохая карма двух семейств, а меткий выстрел Хун Цзэ-Луна прервал ее цепь.
С тех пор у них все было хорошо. Хун Цзэ-Лун был направлен в одну из приморских провинций старшим чиновником императорского суда, а его жена стала богатой и научилась шить.
А кости того зайца выбросили в реку, и они уплыли в Желтое море.
Тигровая шапка (3)
Для капитана Кадзооку самым неприятным в экспедиции было не отсутствие цивилизованного общества, не затянувшаяся, как удавка на шее жертвы или петля на шее преступника, зима и даже не отсутствие привычной еды, что больше всего угнетало практически всех солдат и офицеров. Самым неприятным для капитана Кадзооку, командира небольшого отряда, направленного в Малый Париж, было непонимание им живущих здесь так называемых русских. Даже на первый взгляд разница между доктором Уфимцевым, отцом Василием, взятым наугад золотопромышленником, к примеру Бородиным, лавочником Штильмарком и еще кем угодно, была разительной. И это даже не упоминая женщин — и тех, кто жил при своих мужьях, и из заведения Мадам Нинель (эти-то везде одинаковы, хоть в Шанхае, хоть здесь, в Малом Париже, да, верно, и в Париже, где капитан никогда не был, но мог предположить его существование по рассказам французов, которых ему доводилось встречать в Шанхае). Но при всех различиях между ними было что-то общее, что объединяло их, невзирая на то что они, якобы русские, это родство старательно отрицали. Глядя в основательно замерзшее окно, вполуха слушая доклад подчиненного, изобилующий сведениями о случаях расстройства желудка, шатающихся зубов и кровоточащих десен, обморожений, и ворчание рядовых по поводу отсутствия выпивки и развлечений, капитан Кадзооку раздраженно думал об этих различиях и о своем непонимании причин поступков этих, на первый взгляд цивилизованных европейцев. На поверку они оказывались лживыми варварами, хуже любого корейца, право, и уж точно в ненадежности равными маньчжурам-хунхузам, которые днем в городке улыбаются и кланяются всем лицам и спинам, но дайте им ночь, дайте им тайгу, дайте им хорошую винтовку и засаду, так чтобы тот, в кого они будут целиться, их не видел… Эти «русские» были такими же, с той лишь небольшой разницей, что позволяли себе плевать вслед японцам, а некоторые, особо задиристые, вроде казаков, могли и в лицо плюнуть. И это при том, что отряд прибыл в Малый Париж по настоятельной просьбе главных золотопромышленников области, измученных постоянными набегами на прииски и рудники то желтых хунхузов, то белых, называющих себя «красными», то просто бандитов-казаков, а то вообще таинственных сил, о которых они, пригласившие японцев, старательно умалчивали, виляли и уходили от того, чтобы четко и ясно объяснить, что же им нужно.
Капитан Кадзооку смотрел в окно, в эти бесконечно тянущиеся сумерки, которые здесь назывались «днем», и в какой-то момент отчетливо понял, что именно ему напоминают русские. Золотые самородки, которые ему продемонстрировали в подвале Золотопромышленного банка. Самородки были все разные — не перепутаешь, и клейма ставить не надо, но каждый из них был в большей или меньшей степени чистым золотом, и это делало их родней друг другу. А форма, цвет, вес — это все было различиями, за которыми скрывалось если не главное, то как минимум основополагающее. Капитан было поймал себя на том, что готов облегченно вздохнуть, совсем как в школе, когда удавалось решить сложную задачу, однако понимал, что это «открытие» на самом деле касается только его личного отношения и восприятия русских, занятых своими играми, революциями, войнами, и никоим образом не помогает ему, капитану императорских вооруженных сил, в решении его настоящей задачи. Задача же пришла вчера вечером в виде шифрованного приказа в пакете, прибывшем от командования.
— Это все? — спросил Кадзооку у подчиненного, закончившего доклад.
— Что касается доклада. В приемной вас дожидаются посетители. Русские. Вы их примете?
— Кто? По какому вопросу?
— Банкир Штольтман. С ним золотопромышленники Бородин и Касицын. О сути вопроса сказали, что желают лично говорить с вами.
— Зовите. И принесите чаю. Такого, как они его пьют.
В этих словах подчиненный услышал все брезгливое отношение капитана к «ним», пьющим чай стаканами в подстаканниках, грызущих сахар и сушки и за один раз выпивающих чуть ли не ведро чаю… А капитан опять отвернулся к окну, за которым мальчишки возились в снегу, забавляясь своими детскими варварскими забавами, и задумался все о том же — о невозможности понять «русских».
В то же время в тридцати верстах от Овсов, в Ивановке, что на берегу Орби, чуть выше места, где она впадает в Урекхан, командир партизанского отряда Кочетов, как ни странно, думал практически о том же самом, о чем капитан интервентов, — о невозможности понять происходящее, о том, что ни на кого нельзя положиться и никому нельзя доверять, о том, что все эти бывшие крестьяне, бывшие солдаты, бывшие старатели и бывшие лесорубы оказались в отряде по каким-то своим причинам, которые к революции вряд ли имеют какое-то отношение, и, скорее всего, просто выживают, просто хотят получить свой кусок пирога и успеть съесть его, не загадывая далеко вперед — что там будет, как там будет.
Когда капитан Кадзооку распорядился принести чай для золотопромышленников, к командиру Кочетову привели угрюмого казака, на голове которого красовалась тигровая шапка. Казак полчаса назад вышел на партизанский дозор, не замечавший его до той поры, пока их не окликнули. Теперь дозорные стояли и, чтобы как-то сгладить свою оплошность (известное дело, комиссар отряда, татарин Тильбердиев, три шкуры может запросто спустить за то, что спали на посту, а они не спали, попробовал бы он сам заснуть на морозе — татарин, известное дело!), хорохорились, дескать, смотри-ка, лазутчика словили и приволокли. Однако Кочетов это увидел сразу, казак на пойманного не был похож. Больше всего он был похож на человека, зашедшего в гости или по какому-то делу. Кочетов поймал себя на мысли, что разве что не ждет от казака в тигровой шапке прибаутки и слов вроде «у вас товар, у нас купец, сядем рядком да поговорим ладком».
— Как зовут? Откуда? Что надо?
— Серафим я. Шабалин. С Малого Парижу пришел. Дело есть. Крестьяне твои бы оружие мне отдали, а то шашка-то дорогая. Моя шашка. Ну и карабин тоже.
— Это мы посмотрим, отдавать ли тебе оружие-то. Вот скажешь, чего у тебя за дела, там и посмотрим… Если ты с Парижа Малого пришел, так, значит, ты из этих, что под японцами. Беляк, что ли?
— Беляки — это вон зайцы по зиме. А я под японцем отродясь не был. Они мне вон как в пятом годе кусок с ноги отхватили, так с тех пор у меня с ними нехорошо. А так да, из станичной сотни мы.
Тут в избу вошел комиссар Тильбердиев (вот тоже, спрашивается, чего форсит-то? Ходит в коже черной, сапоги блестят, не иначе хромовые, партизаны-то все кто в пимах, кто в ичигах, а этот эвон, и не мерзнет же!). Татарин, как казака увидел, так сразу к командиру и ну ему на ухо шептать, что казак этот не простой, а приметный, его по шапке легко узнать, потому как шапку ту он сам себе из тигры-ламазы сшил; но это не главное, главное, что Шабалин этот — самый что ни на есть убийца, и на его совести — красноармейцы с расстрелянного и затопленного по осени парохода, этот Шабалин лично их стрелял, это пол Малого Парижа видели, так что он не открутится, и это отлично, что такого зверя удалось словить и теперь его судить надобно и расстрелять.
Кочетов все это выслушал и кивнул, но не так, как кивнул бы, если бы собирался казака в расход пустить, а так, как кивал, когда говорил «посмотрим». И то правильно, чего раньше времени в расход пускать, патроны они хоть и тьфу и нет, а тоже имущество, и нечего ими без толку разбрасываться.
— Ну, давай, Серафим Шабалин, говори, чего у тебя за дело. Только ты говори, да помни, что нам тут про тебя много известно. Уж больно шапка у тебя приметная.
— Шапка-то да, шапка знатная, я ее, почитай, уж десяток лет ношу, а все как вчера с тигры шкуру-то снял… А дело у меня и простое, и нет. Так что же мне, стоя, что ли, перед вами тут? Сели бы, чаю попили. Ежели своим не богаты, так у меня вон в сумке и сахар, и заварка. Вахлакам своим скажи, чтобы вернули, и сядем попьем. Погуторим.
Тут комиссар-татарин взорвался:
— Нечего нам с тобой чаи распивать, мразь ты белоказацкая! К стенке тебя, да и шлепнуть.
— Ну-ну, потявкай, краснопузое. Как угомонишься, тоже присаживайся. Хоть я и не к тебе с делом, а вижу, что тут у вас на двоих решают. Так что вы тут быстро решайте, говорить будем или мне уже к амбару на околицу идти.
Посетители капитана Кадзооку не могли знать о полученном (сутки еще не прошли) приказе, но странным образом (капитан, по большому счету, уже привык к странностям и необъяснимым мистическим совпадениям, казалось, преследовавшим его если не с рождения, то как минимум последние десять лет) речь зашла практически о том же самом, о чем говорилось в приказе. О том, что лежало в сейфах Золотопромышленного банка и было как эти люди — внешне разным, но по сути одинаковым.
— На сегодняшний день в Банке находится несколько больше двухсот пудов самородного золота. Более точная цифра может быть вам представлена в любой удобный момент, — говорил, пришепетывая, сухой, как юкола на вешалах, банкир Штольтман. — Большая часть металла, взятого нами на сохранение, принадлежит семи малопарижским предпринимателям, интересы которых в этих переговорах представляют присутствующие здесь господа Бородин и Касицын. Поскольку присутствие здесь японских вооруженных сил имеет место исключительно благодаря просьбе золотопромышленников, долгое время страдавших от набегов и грабежей так называемых красных партизан, и просьба эта имела целью с помощью отряда, находящегося у вас в подчинении, сохранение в неприкосновенности приисков, а равно и жизней, на них работающих, то господа золотопромышленники посчитали возможным обратиться к вам с просьбой несколько расширить свои полномочия и оказать им неоценимую помощь, которая будет оплачена соответствующим образом и в соответствующем задаче размере.
Витиеватая, запутанная и изобилующая канцелярщиной речь банкира была настолько уныла, что внимание капитана полностью поглотила осенняя муха, бессмысленно ползшая по стеклу. А там, за стеклом, с пепельно-серого неба уже начали срываться белые точки первых снежинок.
Первым этой пытки не выдержал Фома Бородин — крепкий, купеческого вида мужчина, привыкший без лишних слов сразу брать все, что считал своим.
— Господин Кадзооку, мы обращаемся к вам с просьбой вывезти в Японию принадлежащее нам золото. К сожалению, сейчас мы не можем собрать достаточно сил для охраны обоза, а то, что красные, видимо, уже в этом году войдут в Малый Париж, заставляет нас поторопиться. Мы предлагаем вам выгодную сделку, при которой вы получаете десять процентов от перевозимой суммы, а это порядка двадцати пудов золота. Все, что требуется от вас, — доставить металл в Японию. Готовы ли вы оказать нам эту услугу?
Капитан с невозмутимым видом покачал головой, что вполне можно было расценить как «да». Впрочем, то же движение могло означать и «нет». Присутствующие русские, кажется, приняли этот жест за понятную каждому из них попытку набить цену. По крайней мере, относительно молодой Касицын, которому прииски достались в наследство от не вернувшегося из тайги отца (поговаривали, что младший Касицын точно знает, где, при каких обстоятельствах и насколько безболезненно погиб Касицын-старший, но, как говорится, не пойман — докажи попробуй), капитаново движение принял как сигнал к началу торга и старательно-степенно сказал, что сумма вознаграждения может быть увеличена до пятнадцати процентов, что на круг выходит… Капитан Кадзооку поднял руку, призывая не торопиться со сложными расчетами.
— Надеюсь, господа меня понимают, что я должен основательно взвесить все за и против, прежде чем дать утвердительный или отрицательный ответ на их просьбу?
Чем капитан со дня своего прибытия в Малый Париж удивлял русских обитателей таежного городка, так это чистой и правильной речью, в которой слышалось, конечно, что-то чужое, но это чужое было приятным, каким может быть, например, особый шелк или вот уже подзабытый за годы, прошедшие с начала революций, шоколад; помнится, городской голова, вручавший интервентам хлеб-соль, был настолько удивлен речью капитана, что собственную, подготовленную и отрепетированную, скомкал, чем вызвал естественное недовольство и тихое негодование присутствовавших на церемонии в собрании золотопромышленников отцов города и уважаемых граждан. Тот же Бородин сказал своей жене: «Да, обосрался наш голова. Эх!» Действительно, капитан с легкостью справлялся даже с таким неудобным для любого из его солдат звуком, как «л», не говоря уж о том, чтобы строить предложения правильно и понятно. Речь капитана Кадзооку выглядела много грамотнее и гораздо приятнее речи того же Штольтмана, который в моменты волнения вполне мог сорваться на немецкий, подозрительно похожий на идиш… А капитан тем временем продолжал:
— Как бы ни было велико мое уважение к собравшимся здесь, я обязан уведомить свое командование и, только по принятии им тех или иных решений, дать вам соответствующий ответ. Однако, учитывая обстоятельства, о которых уже упомянул господин Бородин, я выражу надежду на то, что ответ этот будет вами получен в самые кратчайшие, насколько это возможно при нашей удаленности от цивилизации, сроки.
Судя по всему, сказанное капитаном не вдохновило посетителей, тем не менее они вынуждены были смириться с существующим положением дел, с чем и откланялись, оставив капитана наедине со своими размышлениями о загадочности и хитрой наивности визитеров. В словаре капитана было одно русское слово, которое, как ему казалось, наиболее точно описывает характер ушедших посетителей, а может быть, и всех русских, но, поскольку слово это было «хитрожопый», капитан не мог себе позволить использовать его даже в приватном общении.
Серафим Шабалин, не снимая шапки, уселся на стул напротив Кочетова и комиссара Тильбердиева и, отказавшись от предложенного табака («Не курю я этого, толку с него»), сразу перешел к делу:
— Сейчас в банке, что на берегу Реки, лежит золота пудов на двести, а то, может, и больше. С осени, как вся эта катавасия началась, его никуда не вывозили — боялись. Больше того, в сейфах сейчас лежит все то, что было свезено в Малый Париж по оконцовке сезона, так что пудов двести там точно.
— И что ты нам предлагаешь? — Это командир спросил.
— Я так думаю, что хоть вы и коммунисты и что комары, крови нажравшиеся — краснопузые, а золото вам все-таки, как ни крути, нужно. Но, понятное дело, что его из банка вы, пока в Малом Париже япошки столуются, взять не можете.
— Ну, это ты, казак, уж перегнул. Можем, — попытался возмутиться комиссар.
Шабалин — Тигровая Шапка пренебрежительно махнул рукой:
— А! Чего вы там можете, это я знаю. По хуторам прятаться да у баб брать. И то коли баба даст. Пока там японцы и сотня станичная, ничего у вас не выйдет. Коленки обгадите, а до золота не доберетесь. Так что, как я понимаю, вы тут засели в Овсах, Сианах, в Александровке и ждете, когда же японцы уйдут, ну, и казаки, мы то есть, тоже уйдут. Но только вам, конечно, тоже мало что светит, то есть светит, но точно не греет, потому как японцы как поднимутся, так банк выгребут подчистую, как золу из поддувала — все до крупицы заберут, и тогда уж точно золото это никто больше не увидит. Хотя чего на него смотреть… Так вот, я тут подумал и так скумекал, что самое лучшее было бы, если бы японцы золото на сани-то погрузили и обозом, пока еще лед и зимники, отправились в свою Японию.
— Что-то ты то одно гуторишь, то у тебя совсем другое. Ты бы объяснил, что ли?
— Э-эх! А еще командир, твою… У нас кобель полковой и тот, верно, умнее… Ну чего ты как малый, будто не понимаешь, для чего тебе рог меж ног даден. Вот как япошки-то с обозом пойдут — вот тут-то их и брать надо. Это тебе не полгородка разнести, а на дороге остановить. Тут-то уж у тебя и людей должно хватить и сметки, ежели чего. Ну, а не хватит коли людей или там умения, так я подмогну, это мне можно…
— Ну, может статься, ты и прав, — сказал, затянувшись самокруткой, Кочетов, — на дороге их, верно, легче будет взять. Я как посмотрю, ты в этом понимаешь. Небось гулял по трактам, с кистенем-то…
— Бывало.
Тут влез комиссар:
— А твой-то интерес в чем? Это раз. И два: как же знать, когда они с золотом драпать начнут и какой дорогой пойдут? Я же так понимаю, что ты, контра таежная, не за рабоче-крестьянский класс стараешься, а что-то выхорить хочешь…
Шабалин почесал затылок под шапкой.
— Не без того, конечно. А то что мне на твой рабоче-крестьянский плевать, так это ты своим татарским умишком верно понял. Есть у меня интерес. Четверть — вот и интерес. И вы мне четверть эту отдадите, поскольку, во-первых, без меня вам не справиться, и во-вторых, как они соберутся, я сигнал дам. А дорога у них одна, им сейчас по зиме нужно на Неряху выйти, а там уже паровозом — или в губернию, а там в Китай или… А другого «или» у них и нет. На Николаевск им идти не с руки так же, как и на Хабаровск, в Якутию тоже не сунешься. Так что одна дорога им из Малого Парижа — зимником, вдоль Реки. Ну а как возьмем, так там и поделим.
— Ла-а-а-адно, — протянул Кочетов, — может, и твоя правда. Есть у нас интерес. Но только вот четверть… Харя-то не треснет? Изжога не замучит?
— От ты как! А по виду вроде не жид, не татарин… За меня не боись, паря, я этот кусок потяну, не застрянет. А не хошь делиться, так пошли к амбару — и вся недолга, без меня, верно, и сами справитесь, жаль только, не увижу, как вы под пулеметами ляжете. Так что вот так, а по-другому ежели, то сами знаете, что никак.
Командир Кочетов усмехнулся и вызвал бойцов, чтобы, пока они тут с комиссаром мерекуют, прикидывают, что, как да к чему, Шабалина пристроили — накормили, оружие пока не отдавали и смотрели за Тигровой Шапкой в четыре глаза. Когда же казака увели, Тильбердиев спросил у командира, что он по этому поводу думает. И Кочетов сказал, что, по его разумению, или белые с японцами решили совсем отряд извести и подманивают их, или же в словах казака есть зерно и упускать такую возможность никак нельзя. И тогда комиссар спросил командира, знает ли он, Кочетов, прибывший на Реку только после октября семнадцатого, что это за казак? Кочетов же пожал плечами, дескать, какая разница, мало ли их таких, лихих людишек, от Урала до Сахалина. Э-э-э-э, не скажи, это особый казак, у него вон и шапка приметная. И чтобы командир Кочетов понял, что за гусь пожаловал в Ивановку, что за тридцать верст от Овсов, на Орби, был вызван партизан из малопарижских — Степан Лисицын.
В начале периода Эдо, за двести лет до рождения капитана, на берег острова, недалеко от родной деревни самого Кадзооку, море вынесло большого бородатого, но не айна, человека. Женщины, собиравшие во время отлива моллюсков, сначала приняли его за труп морского котика и завели спор о том, чья это добыча. Спор этот прекратился сразу же после того, как женщины увидели, что перед ними вовсе не морской зверь, а хоть и уродливый настолько, что впору считать его морским чудищем, но все же человек. Они заговорили уже не о том, кому достанется брошенное на берег, а о том, кто же возьмется называть это существо своим, — все отказывались, а существо на берегу заворочалось, заворчало и стало подниматься, вначале на четвереньки, а потом и на две ноги. В конце концов женщины навязали бородатого человека в драной мокрой шубе одной почти девчонке, считавшейся полоумной и вроде бы первой увидевшей то, что вынесло море.
Мужчина оказался плодовит, и от союза русского казака (Кадзооку — слово, искаженное произношением и временем) и полусумасшедшей девчонки пошли предки капитана, поражавшего своим правильным русским языком жителей Малого Парижа. То же время, прошедшее со времени выхода из женщины первого ребенка Кадзооку, не только исказило кличку патриарха, но и родило легенду, что мать первых Кадзооку была ведьмой и зачала всю фамилию исключительно от морского зверя. Семейное предание гласило, будто пращур нынешних Кадзооку сбежал от казацкого Атамана, заставлявшего есть мертвых казаков, и говорил о соратниках: «Не дороги они, служилые люди! Десятнику цена десять денег, а рядовому два гроша». Еще рассказывали, что сам пращур прибился к ватаге в поисках новой земли, лучшей доли и богатства, которое выражалось для него словами «Белая вода» и «Серебряная гора». Документальных свидетельств, естественно, не сохранилось, и все, что могло подтвердить ту древнюю историю, — медный крестик, якобы снятый с тела вышедшего из моря казака уже после его смерти; остов развалившейся за сто пятьдесят лет часовни, построенной «морским чудищем» на берегу, где его нашли во время отлива; могила на фамильном кладбище и, может быть, еще обычай по весне собирать первые чаячьи и кайровы яйца, варить их, раскрашивать голубой, желтой и красной глиной и дарить эти еду-игрушки друг другу, всенепременно троекратно целуясь.
Кроме истории своего рода, капитан Кадзооку, отличавшийся от большинства японцев ростом, более светлой в сравнении с товарищами кожей, удручающей необходимостью ежедневно бриться и умением с легкостью напевать «ла-ла-ла-ла», помнил смутные полулегенды-полусказки об оборотнях-деревьях, о призрачных волках и медведях, о странных морских существах, страстных двуцветных лисах, голосах и огнях, что в тумане могут завести путника на болота, в зыбучие пески или просто свести с ума и превратить в существо, внутри которого нет ни крови, ни костей, ни мяса, а только одна сплошная губчатая масса, и похожая и не похожая на тело моллюска.
Но это все — прошлое, говорил себе капитан Кадзооку, а настоящее нужно делить на то, что срочно, необходимо, должно и возможно, но не обязательно. В ситуации с золотом, лежащим в банке, нужно было поступить точно так же — поделить и расставить приоритеты. И, как капитану казалось, по крайней мере после ухода посетителей, в чьем поведении все-таки чувствовалось желание «надуть этого азиата», он ясно и без суеты видел, что срочно, что необходимо, что должно, а чем можно пренебречь, как, скажем, десятым знаком после запятой. Золото нужно было вывозить. И делать это срочно. И капитан должен обеспечить транспортировку металла, тем более что этого требует приказ, а золотопромышленники, не ведая о том, своим прошением играют на руку капитану. Предложением заработать на инкассаторской работе, равно как и купеческим желанием «облапошить япошку», точно так же как множественными мелкими факторами, можно пренебречь. Однако нельзя было пренебречь тем, что сразу за околицей, в деревнях, на заимках, хуторах рыскали, как оголодавшие за зиму волки, партизаны — Кочетов, Теплицын со своей бабой-комиссаром, хунхузы таинственного Цзэ-Луна, жившего то ли в Харбине, то ли во Владивостоке, то ли в Шанхае, а скорее всего, постоянно находившегося то в одном городе, то в другом. Порой между этими стаями возникали стычки, и, когда до капитана доходили вести о перестрелках, он, не показывая внешне, где-то в глубине удовлетворенно улыбался и разве что не потирал руки характерным жестом «этих русских». Но стаи могли и объединиться — по имевшимся у капитана сведениям, это было более чем возможно. А если объединение произойдет, то он со своим отрядом окажется в Малом Париже как в запечатанной бутылке, потому что уходить на север, северо-восток вверх по Реке, переваливать Становой хребет, а там искать дорогу к Океану — и все это по враждебной дикой территории, где красные анархисты Тряпицына… Нет-нет, золото нужно вывозить сейчас… И все же капитан чувствовал какое-то неудобство, как будто гвоздь в сапоге, и неудобство это называлось непониманием. Капитан не понимал «этих русских», и это его беспокоило.
Степан Лисицын уже знал о появлении в отряде казака в тигровой шапке. И, рассказывая Кочетову историю своих запутанных отношений с Родием Ликиным, старался быть немногословным — поблескивал из-под бровей черными глазами и слова, как яйца в корзину, складывал. Осторожничал.
— Это же ты, Степан, Родьку Чучело кончил?
Татарин-комиссар известен был своей наглой прямотой, которая многим партизанам даже нравилась, но сейчас… Видно было, что Лисицына от этих слов аж передернуло.
— Ну, то мой грех. Я за него ответ держал и держу, да только не перед тобой, комиссар. На Родии много грехов висело, а я — да, я его от этих грехов освободил. Во что мне это стало… Эх! Тоже не вашего ума дело.
— Ладно, Степан, мы тебе в душу-то не лезем… Ты вот мне просто скажи, чего вы с Родием этим не поделили, я же так понял, вы с детства были не разлей вода.
Кочетов смотрел на бойца и старался, действительно старался понять, что же произошло между этим молодым, еще тридцати лет нет, парнем и его другом детства.
— Да чего там! Бабу они не поделили — собственники.
— Ну, комиссар, ты опять перегибаешь палку-то. — Кочетов брезгливо посмотрел на кожаного Тильбердиева. — Ты или помалкивай, слушай, что рассказывает, или иди вон, не знаю, посты проверь, что ли, бабу свою, у которой на постое, потешь, ну не знаю, что ты там делаешь… А Степан уж мне дорасскажет.
— Да я уже все рассказал. Чего там… Застрелил я его, из него чучело сделали, по приискам возили — показывали, дескать, не бойтесь, нет больше Родия. Только это не так. Как прииски грабили, так и грабят. То Латыпов, то Юдиха, то ваши эти — Тряпицын и кто там еще… Не говоря уж о хунхузах… Золото… Оно такое, оно кровь любит.
— А Серафим-то Шабалин этот, Тигровая Шапка, он-то каким боком здесь?
— Да ты что! Казак у Родия первым подручным был!..
— Ох ты ж! Комиссар, с тобой вместе говно хорошо есть — вон как ложкой шуруешь, поперед очереди торопишься… Я же тебе сказал, иди посты проверь.
— Не знаю я, кем Шапка был при Родии… Ему-то, Родию то есть, в подручных нужды не было особой. На него такие… Я даже и не знаю, как их назвать-то… Черные, здоровые, капюшонов не снимали… Ну и зверь этот… Серый… — Степан посмотрел в глаза командиру, и Кочетов как будто в колодец заглянул — темень и в самой глубине что-то поблескивает, и, может быть, даже разобрал бы, что там, но не успел, Лисицын отвел глаза, вздохнул и продолжил уже не так сумбурно: — Но все же были они вместе. И тут дело даже не в том, что люди говорят. Кто их видел-то вместе? Те, кто видел, уже ничего рассказать не могут. Уж, по крайней мере, ни тебе, командир, ни тебе, комиссар, их не услышать. Есть одна примета, по которой я тебе точно скажу, тот ли это Серафим или не тот. Был он с Родием или не был.
— Ну не тяни, что там за примета?
— Ты, командир, того, не запряг… Оружие у казака, я так понимаю, забрали. Хотя если бы он не хотел его отдать, кто бы у него забрал… Что там? Карабин? Револьвер? И должна быть шашка. Покажите, давай посмотрим…
Принесли. Степан даже не посмотрел ни на карабин, ни на наган, а сразу потянулся к шашке, вытащил из ножен черненый клинок и вроде улыбнулся так, как улыбаются при встрече со старым знакомым… Нет, не так. Так, как улыбнулся Степан, улыбаются, встречая подругу, в этой улыбке, едва заметной, — страсть и желание. Так, верно, Родий улыбался, когда в темноте переулка навстречу ему выходила Ядвига Крыжевская. Такие улыбки оборачиваются любовью и детьми, но и кровь, и смерть без таких улыбок не обходится.
— Этому клинку лет двести. Вряд ли прежний хозяин называл ее как-то, но потом, когда Архип Кривоносов из своего погреба ее поднял и подарил Родию за помощь (мы, я и Родий, ему вдвоем помогали погреб копать), Родий назвал этот клинок женским именем. Сабля эта… Эх! Родий как-то мне сказал, что не понимает, кто кем владеет, он ею, она ли им. Сабля эта, как его красноухая собака, — он жил в ожидании чего-то, и это Нечто его нашло. Пришло и обрело плоть и имя… Когда он пошел в Малый Париж, чтобы встретиться… со мной… этот черненный наполовину клинок он оставил на сохранение. И по всему выходит, что Серафим Тигровая Шапка, что за ночь прошагал сюда, почитай, шесть десятков верст, — тот самый Тигровая Шапка, что был с Родием в налетах на прииски.
— Мда-а-а-а. И что же мы теперь с этим?.. — протянул командир Кочетов.
Решив для себя вопрос с золотом из Золотопромышленного и дав соответствующие распоряжения, капитан Кадзооку решил выйти и пройтись по Малому Парижу. Прогуляться. Проветриться. Может быть, выпить старого шустовского коньяку, а может быть, еще что…
Деревянные тротуары на Первой улице, где почтамт, Собрание золотопромышленников, реальное училище, тюрьма, суд и городская управа, хоть и заснежена и затоптана, а все одно напоминает капитану деревянные, отполированные полы в японских домах. Мороз, конечно, совсем не такой, как в Японии, но, видимо, от того, что здесь до океана тысячи верст, мороз кажется капитану спокойным и не таким промозглым, каким бывает холод на берегах Хоккайдо и Сахалина. Да и вообще в воздухе пахнет весной, солнцем и праздником крашеных чаячьих яиц.
Капитан прошагал до самого рынка и, свернув налево, по переулку вышел к городскому саду — куску тайги посредине городка, оставшемуся в неприкосновенности и сейчас заваленному снегом. Прошел сад насквозь и вышел на берег Реки, где по высокой набережной прогуливались малопарижские обыватели, раскланиваясь друг с другом, обсуждая новости и сплетничая. Постоял несколько минут, посмотрел за Реку, парящую полыньями, и свернул направо в сторону Золотопромышленного банка — одноэтажного крепкого здания, где в глубоком подвале — крепкие немецкие сейфы, а в сейфах — двести, а может, и триста пудов золота. Песком и самородками.
А между садом и банком, на валуне, поджав под себя ноги, сидит Уруй. Уруй смотрит на мальчишек, бегающих по берегу, потом видит капитана Кадзооку и манит его рукой.
— Здравствуй, капитана. Твоя сюда ходи. Смотри. Слушай.
Капитан знает об Уруе, ему говорили, что есть такой старик, то ли тунгус, то ли манегер, хоть видит его впервые, но сразу узнает и подходит к Урую.
Смотреть? На что?
Слушать? Что?
Стоя рядом с Уруем, капитан первую минуту не может понять, что именно ему предлагает делать этот старик в заношенных одеждах и стоптанных мягких ичигах, от которых почему-то пахнет не застарелым потом, а какими-то цветами, скорее всего, желтого, как солнце, цвета. И все же капитан Кадзооку — интервент на Реке, которую считать русской никак нельзя, ничего не ожидая увидеть, смотрит туда же, куда глядит Уруй, — на Реку, на парящие полыньи, на заиндевевшие тальники на противоположном берегу, на детей, возящихся по берегу, и в какой-то момент главным на этой картинке становится мальчик лет пяти-шести, стоящий на фоне снежного тороса как бы особняком. Мальчик одет в серую шубку, и на голове у него черная, пирожком, шапка; и хоть капитан Кадзооку не может разглядеть отсюда лицо, он уверен, что глаза у ребенка черные, как деготь. Потом пар, поднимающийся над протяженной полыньей, становится ярко-желтого, золотого, цвета, сгущается в призрачные, полупрозрачные фигуры, в очертаниях которых угадываются большие люди, одетые в бесформенные одежды с капюшонами — они идут над рекой по дороге, тянущейся откуда-то куда-то, и капитан Кадзооку без удивления видит среди них морское чудовище, что было выброшено на берег его родного острова и навязано одной полусумасшедшей почти девчонке; и еще капитан слышит, как рассыпающийся под ногами призрачных фигур на тропе снег хрипит «ньяха ньях» и призраки отвечают «о рата». А потом видение и слова исчезают, мальчик поворачивается и бежит к другим детям, которые затеяли катания на санках. Капитан оборачивается к Урую и видит, что старик смеется, грозит ему пальцем и говорит:
— Твоя, капитана, тоже луча, однако, э-э-э-э, твоя тропа ходи, туда ходи — сюда ходи, на месте стой — помирай совсем, а так — ходи-ходи.
После разговора с демонстрацией старого казацкого клинка Кочетов и Тильбердиев еще час или полтора решали, что же им с этой новостью делать. В конце концов, посчитав, что отряду в любом случае не помешает «размяться», решились на засаду и с тем отправили за Шабалиным. Казака подняли с лавки, где он, повернувшись ко всем спиной, похрапывал — то ли притворялся, то ли в самом деле спал…
Договорились, что Шабалин сообщит о том, когда и какой дорогой обоз должен будет выйти из Малого Парижа, а там уже как положено — перегороженный тракт, партизаны за деревьями, пара выстрелов в воздух и «Разворачивай оглобли!». Вроде все просто, но, с другой стороны, никогда нет уверенности, что все пойдет так, как должно, кто их знает, этих японцев, они же хоть и мелкие, а воевать умеют. Вот даже если пятый год вспомнить.
Оружие Шабалину отдали. Больше того, комиссар, как бы извиняясь, предложил попить чаю на дорожку, правда на это Тигровая Шапка сказал, что он с «татарином срать рядом не сядет, не то что чаи гонять», и видно было, что так казак отыгрывается за то, что было вначале, и одновременно как бы слегой болото прощупывает — как глубоко, насколько выдержит комиссар. Тильбердиев же тоже не дурак, прикинулся, что мимо ушей пропустил, но, конечно, зарубку сделал, узелок завязал: будет случай — сочтется, мало ли что там может случиться, а четверть, даже от двухсот пудов — ой, жирный кусок, за меньшее в тайге голову отрывали, но торопиться тоже не следует. Это же всем только кажется, что Тильбердиев (Муса, кстати, а отца Рифатом звали) торопыга и дальше своего плоского носа не видит, на самом-то деле Тильбердиев смотрит далеко и, если надо, хоть кошкой ласковой притворится, хоть намылится и ужом в щель пролезет. Так что ты, друг ситный, Шапка Тигрова, иди пока, а будет сабантуй — будет и бешбармак…
Шабалин в своей приметной рыже-черной шапке вроде и не торопясь, а ходко дошел до деревенской околицы, и там, возле посеревшего амбара, где предполагалось его расстрелять, увидел привалившегося к ограде Степана Лисицына. В двух шагах от убийцы Ликина Серафим отдал ему честь, приложив руку к шапке, и партизаны, на отдалении шедшие за Тигровой Шапкой, видели, что Шабалин со Степаном о чем-то разговаривали, скупо, но выразительно жестикулируя, — вроде и не ругались, но если так посмотреть со стороны, то очень напряженно. Шабалин, как бы извиняясь, разводил руками, а Лисицын тер лоб, будто принимая какое-то сложное решение. Потом Шабалин как будто в чем-то убеждал Серафима, тыча рукой в сторону того места, где Орби впадала в Урекхан, на что Лисицын пожимал плечами и качал головой, то ли соглашаясь, то ли отвергая предложение. Закончилась вся эта сцена, которой только надписи не хватало, как в иллюзионе, что крутят по воскресеньям в городском саду в Малом Париже, тем, что Шабалин стал выпутываться из портупеи, будто пытался отдать Лисицыну свою шашку вместе с ножнами, но Степан успокаивающе похлопал казака по плечу, — и Шабалин, чего от него никто не ожидал, приложив правую руку к груди, поклонился Степану Лисицыну. С достоинством, но достаточно глубоко. Ладно бы опять честь отдал, но нет же, поклонился. И это казак-станичник, а казаки ни Богу, ни черту не кланялись, и даже когда по Амуру, возвращаясь из своего путешествия, проезжал будущий государь-император, даже перед ним казаки не раскланивались… А тут — на тебе… Чудны дела твои, господи!
После этого Серафим Шабалин отправился дальше, а Степан постоял еще немного, выкурил папиросу и неспешно, вразвалочку пошел в деревню.
Солнце уже совсем клонилось к закату, как командира отряда Петухова осенило:
— Етишкин кот! А чего же мы у него не спросили, когда он из Малого Парижа вышел? Это ж оттуда до Овсов почитай тридцать верст, и от Овсов сюда тоже тридцать, так он же тогда за ночь-то никак бы не управился, особенно если ногами, да хоть и на лыжах… И сейчас… Это он когда же собирается добраться-то до казарм? Или что-то я ничего не понимаю, или какие-то тропы у него здесь натоптаны, или ерунда какая-то, или мне блазится все это. Тьфу ты, дурень, и чего не спросил главное-то?!
За событиями этого дня Кадзооку пропустил время обеда. Капитан прошел базар, где по сезону торговали битыми рябчиками, фазанами, белыми тундровыми куропатками, ловленной из-подо льда рыбой, брусникой, квашеной капустой, салом, мясом; отдельно охотники отоваривали меха — соболя, горностая, лис черно-бурых и рыжих, колонков и белок. Но, посмотрев на все это удовольствие, капитан взял на забаву себе мелких орешков, что вылущивают из аккуратных шишек кедрового стланика, и зашел в один из кабаков при базаре, не самый дешевый, но и не такой, чтобы совсем уж богатый, тем более что по тем годам не очень-то все и богато, не то что во времена оны. Из кабака отправил в штаб мальчишку с запиской на всякий случай — если необходимость будет, найдут, — а сам устроился в отгороженном свеженькой ширмой, пахнущей чуть ли не вчера пиленной сосной, кабинете. Хозяин кабака, завидев интервента, подошел сам и, зная вкусы капитана (не в первый раз), стал предлагать уху из калуги, рыбу свежую, по вкусу можно и талой побаловать, а то вот оленинки пожалте, сегодня как раз с севера тунгусы привезли, прямо во дворе резали — парная, ну и водочки, конечно, тут уж не обессудьте, или ханьша китайская, или самогон из Сосновки — не картофельный, все на пшеничке; а так еще, господин Кадзооку, тут вас видеть хотят, но это только если вы сами не против, а я бы так не советовал — китаец какой-то, хоть и хорошо одет, но знаете же сами, китайцы, они…
Капитан сказал, что можно и встретиться с человеком, пусть подходит, но только после того, как капитан отобедает.
Посетитель отодвинул ширму буквально в то же мгновение, как капитан допил чай и поставил чашку на стол. Аккуратный китаец в очках и европейском платье, в котором все-таки угадывались черты свободного покроя китайских халатов. Глаза за очками казались умными и бесхитростными — совсем не такими, какими были глаза сегодняшних утренних посетителей. Заговорил на хорошем русском, который после подавления восстания ихэтуаней был интернациональным от Цусимы до Урги и от Харбина чуть ли не до Якутска.
Посетителя зовут Ван Цзэ-Хун, и он представляет в Малом Париже интересы определенных кругов, которые не имеют прямого отношения ни к императорскому двору, ни к республиканским повстанцам (то есть если называть вещи своими именами — хунхузы, или что-то вроде того, про себя отметил капитан). Ван Цзэ-Хун выражает надежду на то, что они — капитан Кадзооку и Ван Цзэ-Хун, — будучи людьми одной расы и в какой-то степени братьями по крови, тем более будучи, в отличие от русских варваров, людьми цивилизованными, смогут лучше понять друг друга (то есть это означает просьбу не доверять русским, и даже словечко «гайджин» ввернул к месту). Ван Цзэ-Хун осведомлен о сегодняшней встрече господина Кадзооку с представителями деловых и финансовых кругов Малого Парижа, и хоть Ван Цзэ-Хун не присутствовал на этой встрече и не осведомлен о вопросах, на ней рассматривавшихся, Ван Цзэ-Хун может сделать логичное, на его взгляд, предположение, что основным вопросом утренних переговоров капитана Кадзооку был вопрос о драгоценностях, находящихся на хранении в Золотопромышленном банке (то есть бандиты Цзэ-Луна осведомлены о золоте, его количестве и считают себя вправе претендовать на владение драгоценным металлом). Ван Цзэ-Хун, представляя интересы означенных в начале разговора кругов, просит капитана Кадзооку не принимать скоропалительных решений и не склонять свои симпатии в сторону северных варваров, не информировав о принятом решении своих братьев по расе, представлять которых взял на себя труд Ван Цзэ-Хун (то есть капитану Кадзооку предлагается, тщательно взвесив все за и против, держаться нейтралитета и информировать Ван Цзэ-Хуна о предпринимаемых шагах). О серьезности намерений стороны, представляемой Ван Цзэ-Хуном, капитан может судить по тому подарку, который ожидает его дома и является не более чем выражением глубокого уважения, испытываемого к капитану стороной, представляемой Ван Цзэ-Хуном (то есть если капитан Кадзооку примет условия хунхузов, то его нейтралитет будет щедро оплачен).
Выслушав посетителя, капитан Кадзооку сказал китайцу, что, если он правильно понял господина Ван Цзэ-Хуна, предлагаемое капитану кругами, которые представляет Ван Цзэ-Хун, кардинально не расходится с миссией и задачами капитана и вверенного ему подразделения Императорских вооруженных сил в Малом Париже, куда он, капитан Кадзооку, и пехотное подразделение, оснащенное, кроме стрелкового оружия, пулеметами и легкими артиллерийскими орудиями, были направлены по просьбе ряда промышленников, чьи интересы находятся в сфере горных работ и добычи полезных ископаемых, с целью охраны предприятий вышеозначенных промышленников от разнообразных криминальных посягательств на имущество и жизни тех, кого Ван Цзэ-Хун характеризует достаточно точно, хоть и несколько однобоко. Поскольку же Золотопромышленный банк не входит в число промышленных предприятий, капитан Кадзооку, не посовещавшись с командованием, не может дать ответа на предложения, исходящие как от кругов, представляемых Ван Цзэ-Хуном, так и от местных промышленных и финансовых институтов. Капитан Кадзооку искренне рад знакомству с господином Ван Цзэ-Хуном и надеется на то, что в дальнейшем они еще не раз встретятся как в приватной, так и в официальной обстановке.
На этом китаец и японец раскланялись и расстались.
Утром следующего дня на льду замерзшей так называемой Майской протоки, что ниже Малого Парижа, был обнаружен голый труп неизвестного китайца с перерезанным горлом.
Уложив сына Лешу спать, Ядвига Лисицына доделала домашнее, занесла из холодных сеней мороженное, с жировой пимпочкой молоко, в дом, чтобы к утру, как Леша проснется, так молоко уже растаяло, пошерудила кочергой в печке, улыбаясь, выслушала ворчанье свекрови по поводу того, что невестка «жжет керосин почем зря, а он нынче дорог». На самом-то деле свекровь любила свою невестку, а ворчала так, для порядка и по старости, поэтому Ядвига, дожидаясь, пока в печи на углях погаснут голубые угарные огоньки, чтобы закрыть печку, села за починку одежды — ох уж эти мальчишки, штаны-рубахи на них просто горят, и это еще Лешик — спокойный, иным такая егоза достается, что хоть в жесть их, какой крышу кроют, укутывай, а все одно протрут-проелозят, да и растут, как на дрожжах, что не месяц — вершок, а то и полтора набирает, этак если пойдет, через год сможет отцово носить без перешивки. Так, думая и работая иглой, Ядвига коротала очередной зимний вечер. Степан, ее муж, с осени, как пришли казаки, а следом японцы, ушел к партизанам — приходилось говорить, что работает на железной дороге, и с тех пор от него никаких вестей, кроме базарных слухов, не было. И от отца Ядвиги тоже не было никаких вестей с весны восемнадцатого года. Незадолго до казацкого мятежа в губернском городе пришло письмо, а потом — как отрезало. Ну да ладно, доля такая — ждать, терпеть, потом опять ждать. И тут в окно, закрытое ставнем, кто-то постучал, осторожно так и тем самым условным стуком, каким (как же это давно было-то в последний раз!) вызывал ее на улицу Родий. Послышалось, что ли? Нет, еще раз постучали. Ядвига накинула пальто, платок, ноги босые сунула в валенки и выскочила к воротам. Старый дворовой пес Алтай посмотрел на молодую хозяйку осуждающе: дескать, вот шлендра, не спится ей, понесло ни свет ни заря к воротам, а чего туда бегать, ежели никто по ночам нынче не ходит. Выглянула за ворота, не ожидая и надеясь увидеть в темноте знакомый, но уже подзабытый силуэт, а увидела крепкого мужика в казацком полутулупе, с саблей на боку и шапке-папахе какого-то странного, не совсем казацкого покроя и цвета.
— Здоровья вам, Ядвига Евстафьевна, — сказал мужик. — Меня муж ваш Степан направил и стуку этому научил. Поговорить бы нам, коли можно, в хате, тут-то холодно, померзнете, да и кто его знает, может, смотрит кто.
Ядвига прикрыла будку Алтая, чтобы не забрехал, провела ночного гостя в дом и при свете керосинки только разглядела, что шапка-то в Малом Париже известная — рыжая с черными полосками, тигровая шапка.
Свекровь вышла посмотреть, кого там принесло, собралась было заворчать, да как только узнала, что человек — от Степы, так сразу накинулась на невестку: что же она гостя чаем не поит, пирогами не потчует, а то, может, стопочку для сугреву, а как там Степушка, исхудал небось, не болеет ли…
— Ой, мама, да сядьте вы, человек все расскажет. Зовут-то вас как?
— Серафим. Фима можно.
— А по отцу?
— Семеном отца звали.
— Ну, что же вы, Серафим Семенович, кушайте и рассказывайте. Что, как?
Шабалин опрокинул стопку, закусил соленым рыжиком и коротко, но обстоятельно рассказал, что у Степана все, в общем, нормально; что Степан в отряде хоть и не командир, но его уважают; что отряд, в котором Степан, — недалеко от городка, но где Серафим говорить не может, да и верно, лишнего-то знать женщинам ни к чему; Степан здоров, и все у него, по необходимости, есть, а лишнее в эти годы смутные — оно и ни к чему; Степан просил передать жене, сыну и матери, что любит их и надеется, что скоро все успокоится так или иначе и он сможет вернуться домой, а пока передает приветы, обнимает и целует дорогих ему людей.
Слушая мрачного казака, Ядвигина свекровь всплакнула, а когда Шабалин достал из сумки сверток, в котором были брусок мыла, большая сахарная голова и несколько пачек табаку, совсем растрогалась: «У сына-то, небось, и самого этого ничего нет, а он последнее гостинцем семье отправил». И, забрав сверток, ушла в свою комнату, то ли плакать, то ли спать.
Ядвига же понимающе посмотрела на казака.
— Это же не Степан передал? Это же вы, Серафим Семенович, свое отдаете.
— А! Ничто. Табак я не курю, а мальцу вашему — сахар в самый раз, пусть грызет. Видел я его пару раз в городе, очень он на отца своего, каким я его знал, похож.
Ядвига на эти слова как-то по-птичьи дернула головой.
— Вы это о ком?
— Да понятно же о ком. Я же не просто так пришел, у меня же разговор. Вот об отце сынка вашего как раз. Как он ушел тогда, так я ему задолжал кой-чего, и он тоже мне должен остался. А тут, значит, такой случай подворачивается долги-то закрыть. Вот я и…
Прикрученная лампа светила на кухне Лисицыных полночи, а потом казак ушел огородами и утром уже был в казарме на поверке.
Обычный вечерний доклад о состоянии дел в отряде был коротким — никаких чрезвычайных происшествий. Капитан Кадзооку в сопровождении своего помощника — начальника штаба отправился на квартиру — в двухэтажной, рубленной из лиственничника гостинице, не без претензии называвшейся «Малый Версаль» (в свое время он оценил эту шутку: как же, Малому Парижу — Малый Версаль), ему с осени предоставили двухкомнатный номер на втором этаже. У дверей гостиницы попрощался с помощником (тот решил сегодня посетить девочек) и стал подниматься в свой номер, называть который домом не было никаких оснований, и капитан его так и не называл.
В фойе второго этажа, под зеркалом на диванчике, поставленном специально для желающих выкурить папиросу или трубку гостей постояльцев, сидел, ожидая капитана, газетчик Буторин. Его газету «Голос тайги», как контрреволюционную и буржуазную, местные советы закрыли в декабре семнадцатого года, и вновь открылась она только тогда, когда в Малый Париж пришел отряд капитана Кадзооку. Сдержанно, несмотря на то что оба чувствовали взаимную симпатию, Кадзооку и Буторин поздоровались, и газетчик перешел к делу:
— Вы, наверное, и сами видите, что городок наш все больше похож на перегретый паровой котел или бомбу с подожженным фитилем. Внешне — относительно того, что было осенью, до вашего здесь появления, — тихо и спокойно, но… Двести или триста пудов золота, лежащие в сейфах Золотопромышленного, — это не фунт изюму, и сейчас в городке нет, пожалуй, человека, который бы не думал о том, как бы, пока времена смутные, воспользоваться этим богатством. Да, многих останавливает то, что у них нет достаточных сил, чтобы наложить лапу на это золото, но богатеть думкой, как это в России принято, никому не запретишь. Я понимаю, что к вам, капитан, видимо, уже обращались разнообразные люди, желающие так или иначе решить эту, с позволения сказать, проблему. Я даже могу предположить, кто именно обращался, и, судя по гостю, ожидающему вас в номере, — тут Буторин обаятельно и понимающе улыбнулся, — смею предположить, что вам поступают вполне деловые предложения. Но не будем об этом.
Газетчик вытащил портсигар, предложил капитану угощаться папиросой, но, получив вежливый отказ, закурил сам и продолжил:
— Скажу вам честно, я и сам, бывало, задумывался над тем, чтобы получить хотя бы часть этих «сокровищ». Да, было такое, но в конце концов я от этого отказался, и теперь меня этот «золотой запас» не волнует в той степени, в какой волнует умы многих обывателей. А поскольку вам наверняка придется как-то решать эту проблему, вы обязаны знать некоторые, — тут Буторин замялся, подыскивая подходящее слово, — скажем так, факты, хотя они скорее выглядят как сплетни и сказки, вряд ли приличествующие образованному и просвещенному человеку. Я допускаю, что, может быть, именно по этой причине вам как, извините, чужаку никто об этом и не говорит. Золото, и не только то, что в Золотопромышленном, а вообще по Реке — проклято. Я бы мог рассказать здесь множество историй, подтверждающих это утверждение, но, экономя ваше время, не буду.
Буторин опять на секунду замолчал, как будто в очередной раз собираясь с мыслями. Эта многозначительная привычка «русских» раздражала капитана, но если уж ты совсем их не понимаешь, то такую мелочь, как раздражение, можно и нужно сдержать, и капитан ободряюще улыбнулся газетчику. Так с лошадью: можно, конечно, пришпорить или стегануть, но лучше ободрить, и лошадь тронется с места.
— …золото, лежащее в банке, хоть вам и сказали, верно, что принадлежит семи золотопромышленникам, на самом деле процентов на сорок, а может быть, и наполовину — это золото известного здесь Родия Ликина. Вполне возможно, вы о нем уже слышали — это тот самый Родий Ликин, чучело которого долгое время возили по приискам, рудникам, как диковинку показывали на ярмарках. За три или четыре года своей преступной деятельности Родий Ликин, даже по самым скромным подсчетам, должен был грабежами приисков и обозов собрать не менее ста пудов самородного золота, а вероятно, даже и больше. Я могу предположить, что за Родием Ликиным, которого я, кстати говоря, знал достаточно хорошо, стояли какие-то высокие покровители, и речь здесь не столько о губернаторе и самых богатых людях нашей окраины; нет, речь о неких силах, понимание которых мне недоступно, а суть и проявления которых, как мне кажется, связаны со временем появления здесь первых русских. Но речь не об этом, в конце концов. То людоедство, что творилось здесь в середине семнадцатого века, не могло не наложить отпечаток на дальнейшую историю, бог с ним! Речь о том, что Родий Ликин, и я это знаю точно, большую часть золота хранил в Золотопромышленном банке, что стоит на берегу Реки; после его смерти и варварского обращения в чучело, что само по себе говорит о том, что Родий Ликин, как символ, как образ, как легенда, продолжает жить среди нас, — металл в банке пытались «поделить» неоднократно, и добра из этого не выходило никому; достаточно вспомнить Веру Юдину и горного мастера Шелудько, одного из якобы подручных Родия — Василия Латыпова, и еще несколько, менее известных персонажей тянущейся здесь мистической драмы (вот, к примеру, новоиспеченные — Дергаев и Васильев), чтобы понять: добра от этого золота никому не будет и лучше бы ему вернуться в породу. Но, насколько мне известно, наши промышленники вместе с банкирами приняли решение разделить этот металл, лежащий сейчас в сейфах банка, между собой, чтобы снизить, скажем так, персональные риски. Теперь, когда вам, господин капитан, придется решать проблему доставки золота в более цивилизованные, чем наш медвежий угол, пределы, вы обязаны знать и понимать, что неминуемо столкнетесь с чем-то, что уму цивилизованного человека недоступно. Я вижу, вы меня понимаете.
И еще, прежде чем мы попрощаемся, я бы хотел заметить: кто бы ни претендовал на это золото, настоящее право на него (каким бы оно, это право, ни было) так же, как и право на то, чтобы нести проклятье, имеет только один человек. Ему сейчас нет и десяти лет, но он очень похож на своего отца, кем бы его отец ни был. Я говорю о Леше Лисицыне. Он живет на Второй улице со своей матерью Ядвигой. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Не смею задерживать, тем более что вас, как я понимаю, ожидает прелюбопытный гость.
И Буторин быстро накинул на себя шубу, нахлобучил шапку и, сказав «Прощайте», вышел на морозный ночной воздух.
Капитан же выкурил папиросу, поднялся и прошел в свой двухкомнатный номер, где его действительно ждали.
Алтай, старый пес Степана Лисицына, с которым Степан, пока был рабочим, ходил и на соболя, и на белку, ставил изюбрей, поднимал птицу, в тройке или даже в паре держал медведя, теперь сидел на цепи во дворе и редко выглядывал из будки. Прошли те времена, когда он, Алтай, мог в честной схватке задавить матерого волка, по мари загнать сохатого. Глаза слезились, нюх почти пропал, а после медвежьей оплеухи Алтай еще и оглох на одно ухо, какая тут работа! Спасибо доброй хозяйке, что не отдала чахоточным, а продолжала исправно кормить тем, что сама ела! Пес Алтай постарел, и многое у него было уже не так, как в молодости, но вот что осталось, так это верность семейству Лисицыных, за любого из которых он, хоть и были порой хозяева жестоки, не раздумывая бросался в драку, не жалея ни зубов, ни крови. И еще осталась у Алтая ненависть ко всем желтым, которые и пахли не так, как положено нормальному человеку, и говорили тоже не так, даже страх желтых был не таким, каким должен быть честный страх. Тунгусы, те еще были вполне терпимыми и, на взгляд Алтая, от лося, изюбря, медведя или росомахи ничем не отличались, а к зверю Алтай никогда ненависти не испытывал — зверь был хорошей работой, и ненавидеть его было неправильно. А вот китайцев, маньчжуров — всех этих хунхузов и промывщиков — Алтай люто ненавидел, не задумываясь над причинами своей ненависти прежде всего потому, что это человек может задумываться, а рабочему псу такое не то что непозволительно, а просто невозможно. Ненависть Алтая к китайцам была столь велика, что ради того, чтобы загнать хунхуза или беглого промывщика-вора, Алтай бросал течных сук, и брал след, и рвал зубами ничем не похожий на честный человеческий, желтый, как прогорклое масло, страх. А что такое страх, Алтай, тоже не глупец, знал по себе. За всю свою жизнь боялся он только одного человека — небольшого роста, черноглазого, друга своего хозяина. Порой в Алтаевом страхе было что-то и от ненависти к желтым, но позволить себе наброситься и задавить человека по имени Родий Алтай не мог. Во-первых, Родий был другом хозяина, и нападение на него означало бы, что Алтай напал на самого хозяина или его отца и мать; во-вторых, с некоторых пор при ненавистно-страшном Родии всегда находилась здоровенная белая собака, от которой собакой не пахло, а пахло почему-то так, как пахнут выгоревшие на солнце и вымоченные дождями, вымороженные и потрескавшиеся до сердцевины деревянные кресты на кладбищах и заявочные столбы на золотоносных участках; и, в-третьих, что самое главное, Алтай боялся Родия настолько, что старался не попадаться на глаза и опасливо сторонился даже его тени. Но потом Родий куда-то пропал, и Алтай некоторое время ничего подобного своему страху не ощущал, и все бы хорошо, но с годами это седьмое собачье чувство вернулось, пусть и не так остро, но все же оно было. И, что самое неприятное, Алтай не мог уразуметь своим собачьим умом, заточенным, как хороший длинный нож-свинорез, под одну задачу — охоту, что порой выводило его из себя: были какие-то странные, неуловимые ноты этого страха-ненависти, проявлявшиеся в его хозяине и хозяйском сыне! За них Алтай отдал бы свою жизнь не задумываясь, и даже душу, будь она у старого кобеля, отдал бы за хозяина и хозяйского сына и прямиком бы, гордо задрав хвост, отправился в собачий ад, где ненавистные желтые китайцы-хунхузы и китайцы-промывщики издевались бы над ним вечность и еще одну вечность. Но слава собачьему богу, если есть такой, он не дал Алтаю, кроме чувств, никакого иного разумения, и поэтому под старость кобель Алтай знал только то, что он верен хозяину и ненавидит желтых.
Поэтому, когда на третий день после той ночи, когда хозяйка закрыла его в будке и, приказав молчать, провела человека, от которого совсем чуть-чуть, даже меньше, чем от самой хозяйки, пахло тем страхом и еще пахло хозяином, во двор вошли желтые (не такие, как китайцы, но от того не менее ненавистные), вооруженные винтовками, и попытались увести с собой хозяйку и хозяйского сына, Алтай рванулся вперед и, вырвав цепь вместе с крепежной скобой, без лая, на одном только рыке, как в иные, молодые, годы, когда не ставил изюбрей на отстой, а давил хунхузов, как кошка Маруська давит крыс, увернувшись от одного приклада, проскочив под вторым, сбил с ног желтый, верещащий, как заяц перед смертью, страх и, полоснув по горлу этого прогорклого ужаса шатающимися, тупыми клыками, откатился в сторону, собрался пружиной, распрямился, точно так, как болотная гадюка или щитомордник, и бросился в последнем своем прыжке на горло второго японского солдата.
Японцы, а их, вместе с сержантом, пришло пятеро, били прикладами пса, но не стреляли, боясь задеть пулей командира, и, если бы не штык, аккуратно вошедший под лопатку пса, да если бы не ствол револьвера, которым разжимали челюсти уже мертвого Алтая, японский сержант бы не выжил.
Что же касается самого старого кобеля… Когда штык нащупал его собачье сердце и вошел в него, аккуратно рассекая горячую пульсирующую мышцу, оказалось, что у собак — может быть, не у всех, но у Алтая точно — есть душа. И душа Алтая взлетела и, радостно перебирая четырьмя ногами, как когда-то в молодости, понеслась, никем не видимая, по воздуху, совсем как по таежной тропе, то ли в погоне, то ли в простой охотничьей радости. И оказалось, что есть в иных мирах и иных пространствах собачий рай и у ворот этого рая душу Алтая, верного пса семейства Лисицыных, встречал собачий бог.
А японцы, всего-то выполнявшие приказ капитана Кадзооку — доставить к нему в штаб Ядвигу (Крыжевскую) Лисицыну и ее сына Алешу, в этот момент вели то ли арестованных, то ли приглашенных женщину и ребенка и одновременно тащили на себе двух раненых — рядового, родом с Хоккайдо, и сержанта, уроженца Хонсю. Оба, кстати говоря, благодаря помощи доктора Уфимцева, выжили, правда, сержант всю жизнь потом не столько говорил, сколько хрипел. А капитан Кадзооку, узнав об этом инциденте, приказал похоронить Алтая с почестями, как положено погибшего воина — на костре.
Три дня назад после разговора с газетчиком капитан Кадзооку принял решение. Подарок от Цзэ-Хуна, ожидавший его в номере, вне всякого сомнения, был царским. И именно он (точнее, она, одетая в красно-багровые с золотом шелка китаянка-метиска, чье тело, как оказалось, когда она скинула с себя одежду, было наполовину покрыто замысловатой татуировкой с драконами, тиграми и китайскими львами, подобно тем, что можно встретить на спинах некоторых якудза), этот подарок, оказался последним, необходимым штрихом, для того чтобы на картине все, даже пустота между штрихами и внутри иероглифов, встало на свои места, исполнилось смысла и позволило принять решение.
Капитан поздоровался с рыжеволосой и зеленоглазой женщиной, у которой на коленях устроился черноглазый и (этому капитан тоже не удивился) знакомый по берегу Реки и желтому видению мальчик.
— Я капитан, можно господин, Кадзооку. Вас, насколько мне известно, зовут Ядвига Евстафьевна, извините, очень сложное для произношения отчество, а молодой человек — Алексей… Степанович? Или Родиевич? — Капитан предупреждающим жестом поднял руку, с одной стороны, как бы извиняясь за допущенную бестактность, с другой стороны, отметая все возможные возражения женщины, в чьих глазах он легко читал раздражение и гнев. — Поймите меня правильно, госпожа Лисицына, ваши семейные обстоятельства меня волнуют в самую последнюю очередь. Я не собираюсь морализировать, хотя бы по той простой причине, что сам я происхожу из рода, зачинателями которого стали, как считается на моем острове, полоумная девочка и большое волосатое морское чудовище, бывшее, ко всему прочему, как я теперь понимаю, православным христианином. Поэтому давайте мы с вами определимся сразу — перипетии вашей личной жизни меня интересуют исключительно в контексте миссии, возложенной на меня моим командованием. Более того, то, что ваш муж Степан сейчас находится в одном из партизанских отрядов, не может и не является причиной вашего присутствия здесь, у меня в гостях. Я понимаю, сколь это курьезно звучит: находиться в гостях у того, чей статус в вашем Малом Париже очень смутно определен и наверняка не соответствует понятию «хозяин». Но не будем об этом. Поймите, Императорская армия не воюет с женщинами и детьми, даже если они ближайшие родственники так называемых «врагов Ямато» и у них во дворе обитает героический пес, жертвующий жизнью, защищая хозяев. Кстати, я глубоко потрясен и восхищен поступком вашей собаки. Как его зовут? Алтай. Да. Я приказал устроить ему военное огненное погребение, и все мои подчиненные будут на них отдавать почести Алтаю как истинному герою, следующему своему пути.
Опустите Алексея на пол. Здесь ему, как и вам, никто не причинит вреда. Он может поиграть вот этими замечательными игрушками, пока мы с вами будем пить чай и вести разговор. Присаживайтесь за стол.
В деревне на берегу моря, где я родился, есть обычай выкладывать перед годовалым ребенком разные предметы и по тому, что из предложенного он выберет, определять его будущую судьбу. У вас тоже такое есть? Удивительно! Как мне говорили, я потянулся к наконечнику копья, хотя все ожидали, что это будет шкерочный нож или модель лодки. Видите ли, большинство моих земляков — рыбаки и мореплаватели, я же выбрал карьеру военного, хотя, как говорят, мне были предложены и медный слиток, и книга, и даже перья диковинной птицы. Вот ваш сын, я смотрю, играет с деревянной саблей, что может означать… Впрочем, он уже слишком взрослый для подобного гадания.
Пейте чай, Ядвига, ешьте конфеты, баранки, вот мед, добавляйте по вкусу молоко или сливки. Я сам не любитель такого смешивания, но…
Видно было, что, не чувствуя прямой угрозы, Ядвига Лисицына несколько расслабилась, а наблюдая за перебирающим игрушки сыном, успокоилась и держалась за столом, наверное, так же, как если бы сидела в гостях у подруги. Капитан вздохнул и продолжил:
— Так получилась, госпожа Лисицына, что вы, ваш муж, с которым я, к радости или к сожалению, не имею чести быть знакомым, и даже сын ваш — все ваше семейство — имеет непосредственное касательство к судьбе золота, лежащего пока еще в Золотопромышленном банке. В этом нет ни вины вашей, ни особых заслуг. Так получилось. Судьба. Как в шахматах, кто-то когда-то передвинул фигуру на доске, игра началась и продолжается по своим законам и правилам. Как мне удалось установить, значительная часть золота фактически принадлежит погибшему (если не ошибаюсь, от руки вашего мужа?) грабителю приисков Родию Ликину, чьи фамильные черты легко узнаются в вашем сыне. Почему я и позволил себе бестактность в вопросе об отчестве Алексея. По сути, золото, непостижимым для меня образом, принадлежит вашему сыну, я же, чтобы избежать взрыва насилия в вашем городе, должен вывезти драгоценный груз отсюда как можно скорее. Ко всему прочему, я понимаю, что местные промышленники, не рассказывая мне всего, пытаются использовать меня в этой игре втемную. И мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Я, подобно многим людям, не люблю, когда мной манипулируют, как какой-нибудь куклой, вроде вашего Петрушки. Хотя, по-человечески, желание местных уважаемых людей загрести жар руками интервента, решить свои проблемы с помощью чужака хоть и несимпатично, но вполне понятно. В результате я принял решение обзавестись страховкой и транспортировать груз для начала в губернский город, а там, вероятно, и дальше. Надеюсь, вы, Ядвига Евстафьевна, понимаете, что моей страховкой придется быть вам, как человеку, которого любил Родий Ликин, и вашему сыну, который, по сути, и есть истинный хозяин большой части драгоценного груза. Я не могу гарантировать, что наше предстоящее путешествие будет безопасным, но даю слово офицера Императорской армии, что сделаю все для того, чтобы оно было максимально комфортным.
Ядвига поставила чашку на блюдце, покрутила в руках ложечку и, глядя в глаза капитану, спросила:
— То есть вы, капитан Кадзооку, офицер, восхищающийся поступком старого охотничьего пса, человек, считающий себя цивилизованным и просвещенным, не чета местным купчикам и варварам, не воющий с женщинами и детьми, берете женщину и ребенка заложниками?
— Да, — сказал капитан и предложил продолжить чаепитие.
Федька Мартов, пятнадцатилетний пацан-переросток по кличке Остолоп, добрался до Ивановки за день, разве что сивую свою не загнав, мимо казацких кордонов, в объезд Овсов, так чтобы не увидели… и с ходу потребовал, чтобы его вели к Кочетову.
— Что за пожар, горит у тебя где, что ли? — подначивал его партизан, которого все звали Терехой, на что Остолоп ему отвечал срывающимся на фальцет голосом:
— Да хоть и свербит, твое-то какое дело, веди меня к командиру, да быстрее давай, не терпит.
Федьку провели в избу, занятую под штаб и одновременно командирскую квартиру, и мальчишка затараторил:
— Дядька Кочетов, меня Тигрова Шапка послал, чтобы я тебе сказал, что Серафим говорит, что япошки засобирались, уходят из Малого Парижу, значит, пойдут двумя отрядами, один по реке, десятью подводами, только это говорит, не тот обоз, Шапка говорит, а другой, тот, который надобно пятью подводами и верхами, там человек двадцать будет, и командир японский с ними, вот это, тот самый, так этот, значит, обоз, то есть он по тракту, что на станицу, пойдет, вот его и нужно перехватить, и лучше, говорит, до Урекхана, пока не переправились по льду. Вот. Ты меня в отряд примешь, а, дядька Кочетов? У меня револьвер-то есть, патронов бы к нему, а лучше винтовку дай, а, дядька Кочетов…
Командир рассмеялся и, шутя, отвесил Остолопу подзатыльник.
— Вот тараторка! Ты самое-то главное не сказал. Когда пойдут?
— Не сказал разве? Ну так это, через три дня должны, так Шапка говорит, а! И да, чуть не забыл, с тем обозом, что на пять подвод-то, ну, тот, что нужен, значит, с ним не только командир японский, но и баба с сыном лисицынским, это он уже самому Лисицыну просил передать. Вот. Так, значит, дашь мне винтовку-то?
— Ладно тебе. Как думаешь, комиссар, взять мальца или ну его?
— Ну-у-у, дядька Кочетов, ну ты чего, я тебе, можно сказать… а ты вона как — «ну его»!
Тильбердиев, сам смеясь на это рвение Федьки Остолопа, сказал:
— Ладно, командир, возьмем, есть у меня винчестер, старый, правда, но почистит, смажет — будет ему винтовка. А коня пусть своего берет, на чем приехал, на том пусть и дальше ездит. Только, слышь, как там тебя, Федька, значит? Так вот, Федька, ты эти дядьки-тетьки брось, Кочетов у нас — товарищ командир, я — товарищ комиссар. Вот так и обращайся, и не тараторь. Все пока. Кру-гом! И шагом марш в роту к… Ну, к Терехе Перелыгину и пойдешь. Возьмешь к себе, а, Терех?
— А чего же не взять-то? — сказал Терентий Перелыгин, в будущем, в тридцать втором году, лидер восстания на Сианах, после подавления которого ставший одним из немногих, кого НКВД так и не смог найти. — Идем, боец.
— А! Тереха! — позвал Кочетов Перелыгина, стоящего уже в дверях. — Там Степана позови, Лисицына, раз дело такое.
Степан Лисицын вошел в избу к тому времени, когда командир с комиссаром, разложив карту, уже соображали, где делать засаду, как вести бой, если будет такая необходимость.
— Звали?
— Да, Степан, тут такое дело, уж не знаю, как и сказать. Короче, японец жену твою и сына взял заложниками. Золото, верно, ими прикрывать будут, которое повезут. А золото это мы брать будем, так что вот. — И Кочетов коротко пересказал новости, которые привез Федька по кличке Остолоп. — Присоединяйся. Ты эти места знаешь, может, подскажешь, как будет проще. Чтобы своих и твоих не положить. Сможем, как думаешь?
Степан покачал головой, дескать, вот не было печали, подошел к столу, нагнулся над картой, посмотрел и обломанным ногтем провел по карте глубокую черту:
— Здесь надо. До Овсов еще. На тягуне Иблюконском.
— А чего не ниже? — Комиссар показал на место, где тракт пересекался с извилистой заболоченной речкой. — На самом Иблюконе? Тут вроде и к нам ближе, и вообще.
Лисицын почесал затылок.
— Нет. Широко там. Марь и горельник. Спрятаться негде, это раз. Если у них с собой льюисы или шоши, а то и максимы, они наших, как фазанов на охоте, положат, это два. Есть и три: уйдут они через Овсы на Реку, а там проскочат по левому берегу аж до Сиан — и поминай их. До Овсов надо. Там на тягуне тракт узкий, тайга частая, так что с нашими силами — в самый раз.
Командир отряда Кочетов, слушая эти рассуждения, кивал головой, вроде как соглашаясь, но, как Степан закончил, стал вроде сам с собой, но все же ясно так разговаривать:
— Ну оно, может, и правильно, только вот я одного не пойму. Если на тягуне этом — название-то тьфу, говорить противно — так опасно, то какого лешего они этой дорогой прут?.. Чего сразу от Парижа Малого по Реке или левым берегом не пройти? И опять же зачем силы разделять? Больше половины, значит, Рекой по зимнику, а с золотом малыми силами по тракту? Это как же?
— Так что, Серафим, значит, врет? — насторожился Тильбердиев.
На это Степан ответил:
— Не должен. Ну и опять же есть резон. Смотрите сами: по всему левобережью хунхузы держатся, а с ними, сами знаете, договариваться, что на говне сметану собирать. Дальше туда, за Урекханом где-то, члемовский отряд ходит, и наш ему не чета, у него одних пулеметов сколько! Ну и опять же, что там Члемов себе в голове держит — тоже, как с хунхузами, поди разбери, хрен редки не слаще. Одна радость, что он вроде как на зиму за Мугучу отошел, но кто это знает точно? Вот на Рождество под Рублевской кто с хунхузами бился? Может, китайцы промеж себя, а может, и члемовцы шакалили. Так что есть японцам резон отправить большой отряд Рекой, а малыми силами проскользнуть по тракту. Хотя твоя правда, есть риск, есть. А когда его нет?
— Ну, так что делать будем?
— Есть одна мысль. Выдвинуться всем отрядом и подготовить засаду на тягуне. И к городу послать разведчиков. Скажем, к Сосновке — разъезд, и на устье Улукитское — разъезд. Они как увидят, что японцы пошли по Тракту, так быстро сюда. От Сосновки они, груженые-то, да по целине, точно уже на Реку не выйдут. Значит, ждем на тягуне этом. Если же они сразу по Реке, промеж островов, да по промоинам этим… Тогда мы от тягуна, в ключ Благушин — и верхами как раз на Александровский прижим выскочим. А там тоже место толковое для засады. Река там узкая и берега сосной поросшие, не так чтобы крутые, но санями точно не пройдешь, так что стреляй — не хочу.
Командир посмотрел на комиссара. Комиссар кивнул. На том и порешили.
Капитан Кадзооку слушал, как скрипит наст под полозьями саней, как копыта выбивают однообразную, но звонкую песенку из промерзшей земли, смотрел на тени, бегущие впереди коней, всадников, саней, и в голове сама собой напевалась казацкая песня, услышанная им в темноте над Рекой, осенью еще. Как там: «Больно речка быстра — не поймал осетра — искупался в воде ледяной…»
Решение, что делать с золотом, пришло не тогда, когда «подарок» Ван Цзэ-Хуна сказала прямо в лицо капитану (как будто в голове потомка казака-дезертира, способного, видимо, рассказать, каково оно на вкус, человечье мясо, и девчонки-полудуры, не сумевшей отказаться от полутрупа, вынесенного морем): «Я — подарок. Со мной можно делать все». Не тогда пришло решение, когда метиска расстегнула китель на капитане и сняла с себя одежду, а капитан Кадзооку увидел татуировки. Первый, слабый призрак решения пришел тогда, когда капитан лежал на кровати, а «подарок» крутилась перед ним и рассказывала, что же на ней изображено. «Это дракон, его зовут Лун, и он живет за перекатом, — он большой, и он всюду. По нему, как по тропе, ходят звери и люди. Люди думают, что они сами идут, но это дракон извивается, и люди переходят из одного в другое. Вот это Человек, он белый, он идет по тропе, и потому что человек Серый, его зовут Луча; он пришел из другого и выиграл меня в шахматы; его еще называют Хозяином Сто Шестьдесят Восьмой, иногда он входит в женщину и выходит из нее преображенным, но все равно он остается тем, кто он есть, а кто он есть, никто не знает. Рядом, вот посмотри, капитан, потрогай, чувствуешь, да? Это зверь, но он не тигр-ламаза, ламаза — он другой, он у меня на спине, а это — серый Сэв, он тоже ходит тропой Дракона, но он не думает, он же зверь. Есть люди, которые называют Луна, по которому ходит Сэв, Рекой, и, наверное, это правильно, но тогда Дракона называют Энгху, потому что Река протянута между Этим и Другим и по ней можно идти и вверх, и вниз, но стоять на ней нельзя. А вот это, рядом с Лучей, и с этим, и с этим — это красноухий белый лев, видишь, какие у него уши? Как языки пламени, и он на самом деле — собака, и большего о ней говорить не надо, потому что надо рассказать о Женщине. Женщина здесь не изображена, потому что все, что ты здесь видишь, на мне, а я вот, стою и показываю, что у меня на одной половине, потому что вторая чистая, желтая, как масло и золото». И, слушая, капитан, краем глаза замечает движение сгустка тьмы или света, который может оказаться хорошим мертвецом и плохим мертвецом, а может быть и просто тенью пролетевшей птицы, самым краешком сознания, не занятым тем, что ему говорит «подарок», на границе сна, капитан Кадзооку замечает призрак решения, которое примет. И принимает его на следующий день, когда отдает приказ привести к нему Ядвигу и ее сына Алешу. «Лисицыны. Живут на Второй улице». Теперь же Лисицыны ехали во вторых санях, укутанные по самые брови в медвежьи шкуры.
Начальник штаба, тот самый помощник, кто посещал заведение Мадам Нинель, не посмел пойти против, но, как и был обязан, высказал свое мнение. «Разделять отряд на неравные части видится неразумным», — сказал он, и лейтенант, выполняя приказание, отправился с основными силами по Реке и теперь, скорее всего, уже прошел Майскую протоку.
«Подарок» Ван Цзэ-Хуна сидела в четвертых санях. Она сама выбрала. Капитан был уверен, что выбрала потому, что четвертые. Ее дело. Каждый раз, проезжая мимо саней, капитан чувствовал на себе ее взгляд и боролся с желанием сделать «то, что хочешь». Бороться с этим было тем сложнее, что сабля шлепала по крупу лошади, а револьвер, когда он проезжал мимо «подарка», оттягивал пояс не вниз, как положено, а как бы рвался из кобуры, просто требовал. Странное дело, когда капитан проезжал мимо укутанных в шкуры Лисицыных, ничего подобного с его амуницией не происходило, разве что капитанов рыжий конь чуть упрямился и старался по плавной дуге, почти по самой бровке наезженного тракта, обойти вторые сани стороной.
Прошли Сосновку.
Пересекли замерзший, весь в наледях, Улукит. И только поднялись на перевал перед Могчинской долиной, к капитану подъехал солдат из авангарда и доложил, что впереди на обочине тракта сидит старый тунгус. Капитан дал шпоры рыжему коню; он точно знал, кто это. Эта уверенность подтвердилась, когда Уруй, глядя снизу вверх (а как он еще мог, сидя на корточках, на обочине тракта, говорить с капитаном, сидевшим в высоком седле?), сказал:
— А! Капитана — ходи-ходи! Теперь — смотри-смотри, слушай-слушай! Твоя капитан — тоже Луча, моя смотри, моя видит.
— Что? Что ты видишь?
— Один женщина в санях. Два женщина в санях. И луча-маленький с ней. А сани — легкие. Шибко-шибко ходи. Пока ходи — живи. А нет ходи — совсем помирай, однако.
Федор Илларионович Мартов мог бы многое рассказать о своей жизни. И, бывало, рассказывал. Как весной двадцатого, голодный, потерявший свою лошадь, с винчестером, к которому не было патронов, пришел в Заречную на Урекхане и упросил командира партизанского отряда Члемова принять его в отряд; как после окончания Гражданской стал чекистом и выискивал по станицам, селам, приисковым поселкам казаков, что вроде как и не были семеновцами, но и красным не помогали; как в тридцать втором, уже дослужившись до достаточно высокого чина, давил кулацкое восстание, центром которого были Сианы, и даже то, что встречался и вел переговоры со своим старым знакомым Терентием Перелыгиным, красным партизаном, ставшим во главе восстания, не скрывал; как за заслуги перед Советской Россией был переведен на Волгу, и там среди рабочих выискивал вредителей, диверсантов и шпионов; и даже о Дальлаге, куда его отправили в тридцать седьмом по анонимке, припомнившей все: и Перелыгина, и знакомство с Шабалиным, и то, что из всего небольшого кочетовского отряда уцелели только он да еще несколько человек, в том числе и Терентий Перелыгин, — даже об этом рассказывал Федор Илларионович, не скрывая почти ничего из того, что касалось жизни и в лагере, и после, когда, лишенный всяких привилегий, потерявший жену и маленького сына (отказались от Федора сразу же после того, как его под утро забрали из хорошей квартиры почти в центре Казани), он вернулся в Малый Париж просто потому, что здесь, на Реке, были могилы его отца и матери. Почти все рассказывал Федор Илларионович и почти ничего не скрывал. Кроме трех вещей. Бывший чекист Мартов никогда не рассказывал, что в 1932 году не смог пристрелить и отпустил Терентия Перелыгина, спасшего ему жизнь в феврале все того же двадцатого года. Еще Федор Илларионович никогда не рассказывал, за что получил свою кличку Остолоп. И никогда не рассказывал о том дне, когда кочетовский отряд погиб на Иблюконском тягуне, пытаясь отобрать золото у японцев, отходивших из Малого Парижа.
Но с другой стороны, что бы он, Федька по кличке Остолоп, мог рассказать о том дне?
Прискакавший на пышущих паром конях партизанский разъезд сообщил, что видел, как обоз в пять саней вышел из Сосновки и прошел по Уликитскому мосту, и теперь им некуда свернуть. Японцы — человек двадцать на конях и, может, по двое-трое в санях — идут по тракту, и партизанам остается только ждать, стараясь ничем не выдавать своего присутствия — загасить костры, отвести подальше в лес коней, залечь по обе стороны тракта и ждать обоз и японского командира, о котором известно, что он очень хорошо говорит на русском, да и выглядит не совсем как японец — крупнее и бреется. Следом, не успели доложить те, кто вернулся из-под Сосновки, подъехали разведчики с Реки. Там по льду движется конвой — японцев семьдесят, да еще казаки — человек тридцать, подвод много — пятнадцать, а может, и все семнадцать, идут не спеша, но ходко, в основном пешие. Казаки? Нет, казаки — верхами. А вот японцы — эти пешие почти все, в подводах вроде пулеметы, но не максимы, а ручные. Так что делать-то? Кочетов приказал ждать здесь, а как получится — так догонять или не догонять Речной конвой и там уже по месту смотреть.
Федьку Остолопа Перелыгин держал при себе там, куда определили, — на левый борт тракта ближе всего к Овсам. Нужно было ждать и не высовываться до поры, пока все пять подвод не войдут, как рыбья стая, в вентерь, а уж как по тылам японцу ударят, так тут и самим пару раз пальнуть в воздух, но патроны не тратить, а так, для острастки, чтобы припугнуть, а там комиссар и командир переговорят, и если уж совсем ничего, то тогда — стрелять на поражение. Но патроны беречь, и головы под японские пули не подставлять.
Старик Аланкин, залегший рядом с Терехой Перелыгиным и Федькой Остолопом, вдруг поднял палец, дескать: «Чу! Слышишь?» Ни Перелыгин, ни Федька, ни Степан Лисицын, ни еще человек семь-восемь со всего отряда не слышали. Зато все остальные — и командир, и татарин-комиссар, и еще почти пять десятков человек — слышали заливистый собачий лай и звук шагов: как будто с десяток, а то и два десятка человек плетутся по снегу, волоча помороженные ноги, обмотанные тряпками и кусками шкур. Что странно, звуки эти, не считая собачьего лая, летевшего по тракту, шли как бы с неба, и так отчетливо были слышны, что все, слышавшие шаги, задрали голову, как, заслышав по весне журавлей или гусей, стараются разглядеть летящий косяк. Но в бледном, вроде как напудренном небе, перегороженном ветками лиственниц, ничего нельзя было разглядеть, и старик Аланкин пробормотал что-то вроде того, что это, значит, за ним пришла старуха, и попросил Тереху передать бабке Аланчихе, что из Овсов, известной матерщиннице и стряпухе, последний дедов привет: «Скажи там, как будет оказия, отмучился дед, а как, не говори».
Тереха отмахнулся от старика, дескать, чего ерунду городишь, сам еще бабку свою поваляешь, но ничего не сказал, потому что увидел, как по тракту прямо к ним движется то ли облако, то ли большой клок тумана, то ли просто пятно чего-то похожего и одновременно не похожего на пчелиный рой. Федька от увиденного открыл рот и так и замер со своим полученным от Тильбердиева коротким винчестером в обнимку — остолбенел. Перелыгин же уже собрался было втихую матюгнуться, но тут снизу, оттуда, где должен был быть хвост обоза, раздались выстрелы, и Тереха, не целясь никуда, только в сторону тумана, принявшего в эту секунду форму большого седого зверя, выстрелил — просто потому, что так было приказано. Странное дело, облако остановилось и даже стало менее плотным, по крайней мере Федька Остолоп увидел, что там, внутри тумана, сгрудились сани, и рядом с санями, в которых кто-то находился, но точно не японские солдаты, на рыжем жеребце сидел японский капитан, и к нему шли командир и комиссар. А потом все смешалось и утонуло в беспорядочной стрельбе, криках, горячем запахе крови, молчаливой вони огромных темных фигур в темных звериных шкурах, что возникли как бы из ниоткуда и принялись молчаливо и деловито рубить своими саблями, похожими на косы-литовки, партизан, пытавшихся без толку отстреливаться, фигуры эти живыми не выглядели. И Федька впервые поверил в байки о мертвецах, которые рассказывали потехи ради, а тут эти мертвецы пришли за тем, что считали своим, и пустили в ход эти ужасные косы.
Терентий же, как никогда быстро сообразивший, схватил за ворот тулупчика мальчишку, вцепившегося в бесполезный винчестер, и потащил его за собой бегом-бегом от этого ужаса, принявшего (как виделось Терехе Перелыгину) вид женщины, чьи одежды были красны и расшиты золотом, а сама женщина была тоже наполовину расшита тьмой и становилась то лисой, то стальным клинком, жаждущим напиться крови. И вот так, желая и боясь обернуться, глядя только перед собой, Терентий Перелыгин тащил Федьку Остолопа к тому месту, где должны были стоять оставленные лошади. И когда уже лошадей стало видно и нужно было только обогнуть поваленное дерево, растопырившее черные корни, из-за комля прямо на них вышел здоровенный тигр. Тереха бросил Федьку и потянулся было перезаряжать винтовку. Федору же показалось, что тигр ухмыльнулся и сказал:
— Пукалку убери. Не на что мне жилы твои. Идите себе, и я пойду. Эх, говорил мне Ильин, чтобы шапку не носил. Ну да и что с того.
Через три месяца, как только за Урекхан пришли партизаны Члемова, Федька из Овсов, где прятался у бабки Аланчихи, добрался в Заречку и упросил его принять в отряд. О налете же на обоз, в котором полег весь кочетовский отряд, никогда никому не рассказывал и даже с Терентием Перелыгиным никогда не обсуждал того, что произошло на длинном Иблюконском тягуне. Когда же пришли красные, бой на тракте объяснили как японскую карательную экспедицию, и даже памятник потом поставили, только не на месте боя, а ниже, перед самим Иблюконом, на взгорочке.
Дуплет
Сашка, сын начальника ПМК Данкина, назвал Анну Штайнбург, жену Никиты Адольфовича, механика артели «Восток-Золото», «сукой». Сашке тем летом исполнилось четырнадцать лет, а Никита Адольфович был на прииске. Анна Штайнбург пришла домой и расплакалась. Десятилетний Павел, сын Анны и Никиты Адольфовича, вначале не понял, почему его мать плачет, а потом, через два или три дня, когда понял, взял отцовское ружье и пошел к дому Данкиных. Сашка Данкин как раз выходил из чаеварки. В правой руке у него был кусок хлеба с вареньем. Павел выстрелил Сашке в грудь. Из двух стволов сразу. Дуплетом. Сашка упал и умер. Павел постоял с минуту, тряся головой, потом повернулся, пошел домой и сбежал неизвестно куда. Сколько его ни искали, так и не нашли. Осенью Никита Адольфович вернулся с прииска и встретился с Данкиным. Мужики долго сидели в городском кабаке и пили водку. Потом пожали друг другу руки, как будто о чем-то договорились, и разошлись. Никита Адольфович пошел к дому, где жил интернатовский учитель Сибиряков, вызвал того на улицу, избил нещадно, вернулся домой и выставил свою жену Анну, мать пропавшего Павла, за ворота. Потом была долгая зима, и в начале промывочного сезона Никита Адольфович Штайнбург отправился на прииски в Дондуки и больше в Малый Париж не возвращался.
Зверь на окраине
— Эх, молодежь, что вы знаете о прошлых-то временах! — Иван Конанович Уфимцев махнул своей измеченной старческими бляшками руками куда-то в сторону Заречной слободы. — Вы вот говорите, золото, японцы, Гражданская. Белые, красные. Я вам так скажу: были цивилизованными людьми, не то что сейчас. Вот тот же Ковелев, командир, понимаешь, отряда партизанского. Хотя он-то, конечно, был еще человеком, как-никак приказчик у Чурина, но тоже, знаете, я вам скажу… Или вот Юдиха… Что? Уже и не знаете, кто такая? Была такая, она еще до семнадцатого года тут дел наворотила, ее всем Малым Парижем вылавливали. Ее да ее любовника. А поначалу-то как появилась здесь. Как же, героиня защиты губернского города от ихэтуаней, на груди — медаль, сам губернатор вручал. Никто же тогда не знал, что она не только казачков раненых из-под огня вытаскивала, но и китайцев во время Амурской утопии прикладом в воду загоняла, а как они отплывали, если не тонули, так тут их по голове пулей. Вот это зверь. А вы: «Зверства японцев, интервентов, белогвардейцев…» Японцев было-то здесь на Реке не больше пяти десятков, да и тех сюда пригласили охранять прииски от разграбления. Это уже после того как Тряпицын Николаевск дотла сжег, японцы стали постреливать. Были и зверства, да, были, да только это все русские зверели. Что красные, что казаки. А с другой стороны, золото, оно же кровь любит. Вы думаете, почему зубы золотые ставят, скобки на ребра и в кости штифты, заплатки на череп после трепанации — все же из золота. Ах, не окисляется! Ну да, и тело его принимает, золото. А все потому, что золото и кровь, золото и кость, золото и плоть — они друг для друга созданы как будто.
Иван Конанович взялся набивать и раскуривать трубку, а это дело, кто понимает, неспешное, требующее если не полной отдачи, то сосредоточения, особенно если табак не голландский, на меду, а из пересушенных папирос, да где же другой взять в наше-то время? Пальцы, желтые от табачной смолы и неловкие от артрита, делали свое дело, в то время как доктор Уфимцев, старик на пенсии с пятидесятого года, ворчливо шевелил губами, как будто продолжая упрекать молодое поколение в незнании, в непонимании, в забывчивости, в молодости, наконец. Выдохнув вонючий дым, Иван Конанович закашлялся, вытер губы клетчатым носовым платком и продолжил:
— Зверства здесь всегда были. Это у любого, кто здесь с дореволюции живет, спросите, каждый скажет. Мы здесь и сами: только поскреби малость, и окажемся — звери. Кто какой, правда. Потому что один росомахой обернется, другой медведем, рысью или волком, а у кого под шкурой — соболек или хорек притаился. Или лиса. Вот уже точно не помню, то ли до четырнадцатого, то ли после, но точно до семнадцатого, мне тогда что-то около тридцати или, может, больше чуть было, по Тайге пошли грабежи приисков. Как уж там было, я точно не помню и не знаю, но говорили, что банда, атаманом в которой был наш, малопарижский, Родий Ликин, лютовала, как волки в голодную зиму. Грабили, конечно, и раньше, но людей все больше щадили. Ну, перегородят тракт и обоз возьмут. Ну, постреляют над головами китайцев-спиртоносов, идущих с приисков, чтобы те котомки свои побросали. А тут. На приисках забирали весь металл и вырезали всех поголовно. И различия между «приискателем-хищником» и промышленником с лицензией не делали никакого, что до того времени было как-то не принято, потому что с «хищниками», кто гнездо поднимет, понятно — у такого ни охраны, ни защиты, и вся надежда на фарт, а вот промышленник — другое дело, тут тебе и полиция, и горная стража интересы блюдут. Так что в Тайге всегда было понятно и ясно, кто с кем, против кого. Ликин же, тот, который Родий, он чуть ли не с детских лет был такой, как бы это сказать? Дерзкий, что ли. И в подручных при нем вроде как ходили такие же, как он. Вот взять, к примеру, бывшего охранника с Горно-Золотой Латыпова. Или казака этого, что носил шапку из тигра. Но это те, на кого думали, но так и не доказали, потому что вину самого Родия тоже не подтвердили. Не оставляли они свидетелей. А те, кто говорил, что, дескать, видел эти налеты… Чаще всего они дальше речки Матовой не были. Но так уж получилось, что Родия стали считать атаманом и даже назначили за него, живого или мертвого, награду. Так что года три или четыре порой появлялись слухи, что Ликина убили, но все это было враньем. Помню, полицмейстер Франц Гансович Манке сказал как-то, что Ликина убить простой пулей нельзя, потому как одна пуля в нем уже сидит. Да, был такой случай, Ликин тогда еще совсем отроком был, лет четырнадцати или пятнадцати, когда в перестрелке получил пулю от одного охотника по фамилии Штитман. Правда, Ликин выжил, а Штитман — нет. Потому что Родий Ликин, пацан совсем, и раненый к тому же, отстрелил голову бывалому охотнику, которому что медведя ножом завалить, что приискателя шлепнуть — как таракана придавить. Вот, кстати, Штитман — тоже иллюстрация ин фолио к вопросу о том, что тут за звери, зверьки и прочие зверята. Но речь не о Штитмане. Речь о том, что страх, он живет в каждом звере, и в нас он тоже живет. И чем больше страха, тем больше зверя в человеке. А если уж страх захватил область, то получается огромный зверь, которому и имени-то нет.
В Малом Париже тогда постоянно жили, может быть, пять тысяч человек, а может, и меньше, так что все знали обо всех все: кто с кем, кто кого и кто с чего, так что удивляться особенно не приходилось, что Степана Лисицына принимали везде как лучшего товарища Родия. А потом быстро вспомнили, что в их детской компании была еще дочка поляка-строителя Крыжевского, Ядвига, и что эта троица до той поры, как Крыжевских не выжили с Реки, всегда была не разлей вода. А потом оказалось, что Крыжевская просватана за Лисицына, хотя поговаривали, что в губернском городе Ядвига встречается с Родием. И это, кстати, в то самое время, когда в области не было человека, который бы не слышал, что Родий — бандит-людоед, оборотень, которого убить можно только золотой пулей. И в то самое время, по весне, только открылась навигация, чуть ли не первым пароходом Лисицын привозит в Малый Париж Ядвигу. Тихо и быстро венчаются и живут себе до осени, не бросаясь в глаза. Вот, кстати, тоже совпадение: приблизительно тогда же и промышленник Юдин перевез сюда жену, ту, которая его и детей своих потом убила. Страшное, кровавое дело, кстати, было, и даже затмило историю с Ликиным.
Иван Конанович замолчал, делая вид, что занят трубкой, но на самом деле вспоминая куски истории. Вспоминая и как бы заново складывая их вместе. Вот этот кусочек подходит к этому, а этот? Не-е-ет, этот совсем не отсюда.
— Тем летом, уже ближе к осени, точно после Ильина дня, ко мне в больницу приходил Никита Ефремович Чайка, кузнец, каких вы сейчас не найдете. Понятно, что он не ко мне приходил, а к доктору Вязьмину, я тогда только готовился его сменить, но уже вел приемы и лечил. Зять Чайки, моряк, за два или три года до этого пропавший где-то в верховьях Реки, привез Родию Ликину очень крупную собаку, белую с огненно-рыжими ушами. Да… Никита Ефремович в свое время перековывал мне немецкие скальпели, а в этот раз, уж почему и не вспомню, рассказал, что к нему приходил Степан Лисицын, принес золотых крестов чуть ли не на полфунта весом и попросил переплавить их. Верно, вы уж догадались во что? В пули для револьвера Степана. Кузнец подивился такой прихоти и собрался было отказать, потому что плавить святой крест ему вера не позволяет, но потом все-таки согласился. Я спросил, что же он так своей верой-то распоряжается. «Э-э-э-э, — хитро усмехнулся кузнец Чайка. — Вы же сами-то безбожник. А я кузнец. Кузнец, особенно толковый, вам ли не знать, к кому ближе, к богу ли, к черту. Впрочем, есть у меня одна задумка, так что и кресты я плавить не буду, но и заказчика не обижу». Потом сказал что-то насчет того, что золото, оно под ногами, и, уже уходя, добавил, что этот металл стольких людей сгубил, что, верно, пули из него должны быть не хуже свинцовых. А потом пришла осень, и вместе с ней, точнее, вместе с окончанием промывочного сезона, в Малый Париж пришел, опять же точнее будет сказать вернулся, страх. У этого страха были крылья. Крылья эти были новостями из Дальней Тайги, где орудовала банда Ликина. Прииски и рудники, отстоявшие друг от друга порой за сто пятьдесят верст, грабили чуть ли не в один день. Как такое могло происходить? Никак. Я и сейчас убежден, что орудовала не одна, а три, четыре, может, и пять шаек. Какие из них были «русскими», а какие — хунхузами, не знаю, да это и не важно. Важно, что страх, переросший в ужас, был выгоден всем «последователям Родия», да и самому Родию, если только он был замешан в этих налетах, ужас играл на руку. Если сложить вместе все слухи, что крутились в стывшем осеннем воздухе, то получалось, что в тот год банда Ликина убила чуть ли не триста человек и обогатилась не фунтами, а пудами золота. Да-а-а-а, честно вам скажу, что тот томительный ужас над Малым Парижем можно сравнить, пожалуй, только с томительным ужасом тридцать пятого года. Но сезон закончился. И все как бы опять сошло на нет, как предполагалось, до лета.
Иван Конанович отложил погасшую трубку. Погладил подбородок и как бы ни с того ни с сего спросил:
— Может, чаю попьем? Или нет, давайте лучше водки. С закуской у меня не очень богато, но что-нибудь найдется. Вот та же капустка с брусничкой…
Знаете, водка, особенно если она хорошая, она как-то помогает жить человеку. Это я как врач вам скажу, и не смейтесь. Водка она вроде деревянной колотушки. Вы знаете, какая была анестезия, пока не изобрели эфир и не стали использовать опиум и морфий? Да-да, простая деревянная колотушка, вроде тех, что у плотников и столяров называют киянками. Я еще застал их, да. И самому пришлось несколько раз пользоваться. Тут самое главное, чтобы рука не дрогнула, а то вместо, скажем, удаления коренного, может получиться форменная черепно-мозговая травма. Вот так же и водка. Главное, чтобы, простите старика за странный тост, чтобы рука не дрогнула…
Я потом специально узнавал, справки наводил. Так вот что интересно: всю ту осень, почитай, с сентября по середину ноября, Степана Лисицына в Малом Париже не было. То ли в Харбине был, то ли в губернском городе, а может, и по Дальней Тайге ходил — точно никто мне не сказал. Но когда уже снег лежал и не таял, во второй трети ноября, Лисицын был здесь. Его и его жену Ядвигу видели несколько раз в собрании золотопромышленников. Это, знаете ли, было тогда особое место: бархат, позолота, два этажа, номера, пианино, которое потом уже, ближе к девятнадцатому году, сошло с ума, и его пришлось сжечь, синема, как тогда называли кино, своя сцена для приезжего театра и своего оркестра… И люди. Да, теперь таких нет. Знаете почему? Нет, не потому, что тогда было лучше и мы были молоды, а потому, что в те времена страх имел такую особенность отступать, хотя бы на время, и зверь, о котором я уже говорил, тоже отступал, прятался в нору, или вроде того медведя, сытый, заваливался пососать лапу. Я, знаю, что не сосет медведь лапу, но уж как хороша аналогия. Страх, отъевшись летом и осенью на нас, засыпает на время. А сейчас — не так. Давно уже не так. Не засыпает.
Дом, где я тогда жил, был при больнице. Знаете ли, это удобно даже, работа сразу под рукой. Как инструмент в операционной. Степан Лисицын и полицмейстер Манке постучались ко мне уже за полночь.
— Что такое?
— Иван Конанович, извольте, работа для вас.
— Что же такого срочного в столь поздний час, Франц Гансович? Неужто ранен кто?
— Нет, не ранен. Убит.
— ???
— Я убил Родия Ликина. Он тоже стрелял. Но не попал. А я попал.
— Так. Понятно. Но я-то вам зачем, молодой человек?
— Ах, Иван Конанович, не горячитесь так. Посмотрите, пожалуй, на тело. И вскрытие произвести надо. Порядок такой.
Они меня уговорили, хотя, если уж быть совсем честным, я не особенно-то и ломался, мне и самому было интересно, что ли…
Тело Родия привезли на кобыле, поперек седла. И пока я собирался, пока одевался, то, что еще два часа назад было чем-то вроде человека, а теперь стало просто телом, перенесли в морг, положили на стол. Когда я пришел и стал возиться со светом — в те времена у нас не было электричества, все, знаете ли, керосин, колбы, рефлекторы, — они все сидели возле стены, а тело лежало под простыней на столе. Когда все было готово и я собирался уже открыть тело, Франц Гансович сказал мне, чтобы я был осторожен, не в смысле повредить что-то, а в том смысле, чтобы был готов ко всему. Конечно, я пожал в ответ плечами. Что значит быть готовым ко всему? Например, к тому, что там не Родий Ликин? Нет, доктор, это было Родием Ликиным, но теперь…
Я открыл. Под простыней был Родий Ликин. Это точно, как то, что в мире нет бога. Но это был не человек. И это на глазах менялось, с каждой минутой все больше приобретая форму человека. Как будто нечто лепило из глины… Нет, из отличного свечного воска фигуру человека. Я неплохой анатом, вы знаете, поэтому я успел различить образ того, чем это было изначально. Нечто, похожее на росомаху или медведя, но лицо становилось все более и более человеческим, и я спросил:
— Чем же оно было? Как выглядело?
И Степан Лисицын, блеснув своими синими глазами, ответил:
— Оно было как зверь, как большой седой медведь-не-медведь. Однажды, очень давно, лет десять назад, подобную тварь мы встретили на голубичнике в долине Улукита. Я не знаю этому имени.
Давайте еще водки выпьем. Вы молодые, вам, я как доктор говорю, можно. А мне, конечно, не можно, но, видимо, и не повредит.
Я работал весь остаток ночи, и все, что было внутри этого существа, было совсем как у человека, с той небольшой разницей, что заключена в слове «как». Я держал в руках органы, которые были бы человеческими, если бы они ими были. То есть если бы я хотел создать некий муляж для своих студентов, то у меня бы, имей я подходящие материалы, получилось бы именно такое, замечательное подобие. Я пытался зафиксировать разницу и диктовал сидевшему рядом полицмейстеру все, что мне казалось важным. Но ничего, что могло бы… Эти записи потом, уже в двадцатые годы, после того как красные партизаны расстреляли или повесили Франца Гансовича, куда-то пропали. И единственное, что было не так, то есть совсем не так, — тяжелая свинцовая пуля в сердечной мышце. С такой пулей в сердце люди не живут.
— А Ликин жил, — сказал полицмейстер Манке. И потом добавил: — Пуля Штитмана.
Я искал другие пули, я почти был уверен, что это золотые пули Никиты Чайки, но их не было в теле. «Прошли навылет», — пробормотал Степан Лисицын. Значит, навылет? Я покивал головой.
Часам к девяти, когда уже по-хорошему рассвело, а в холодной от керосиновых ламп стояла парная духота, я наложил последний шов, и чучело Родия Ликина было готово. Потом его года два, наверное, возили по ярмаркам и приискам. Показывали и говорили зевакам: «Это чучело известного малопарижского разбойника Родия Ликина — смотрите и будьте спокойны».
Вот, в общем-то, почти вся история. Почти. Ядвига Лисицына, жена Степана, в конце июля следующего года родила черноглазенького такого ребенка. Но и это еще не все. Я же говорил вам, что страх не отпускает. Теперь не отпускает. Раньше отпускал, а теперь — вот так как есть.
Степан Лисицын умер лет пять назад. Не важно, от чего. Я делал вскрытие. Все как у человека. Как. А потом, когда в грудной клетке и в черепе я нашел вот это, мне, скажу честно, стало страшно.
И Иван Конанович Уфимцев положил на стол три золотых самородка. Три тяжелые золотые пули сорок четвертого калибра.


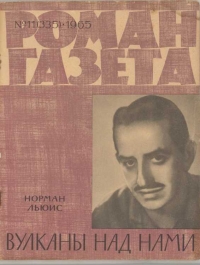
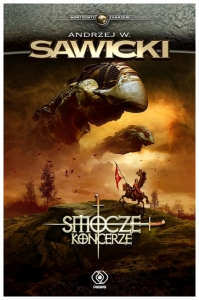


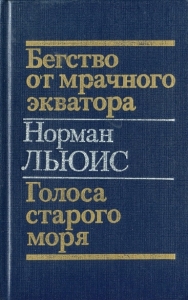




Комментарии к книге «Повесть о чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже», Константин Дмитриенко
Всего 0 комментариев