Ребекка Уэллс Божественные тайны сестричек Я-Я
Тому Шуореру, мужу, помощнику и лучшему другу;
Мэри Хелен Кларк, повивальной бабке этой книги и верной подруге;
Джонатану Долджеру, моему агенту, сохраняющему веру в меня,
и племени я-я во всех его воплощениях.
Мы рождаемся не сразу, но частями. Сначала тело, потом дух… Наши матери терзаются болью нашего физического рождения; мы же сами мучаемся куда дольше: болью духовного роста.
Мэри ЭнтинПрощение — вот имя любви, распространенной среди людей, которые плохо умеют любить. Суровая правда заключается в том, что все мы плохо умеем любить. Нам требуется прощать и получать прощение непрерывно — каждый день, каждый час. В этом и заключается великий труд любви среди содружества слабых, из которых состоит семья людская.
Генри НоуинРаскрывая так много тайн, мы перестаем верить в непознанное. Но тем не менее вот оно, сидит и спокойно облизывается.
X. Л. МенкенПРОЛОГ
Сидда снова превратилась в ту прежнюю девочку, затерянную в жарком сердце Луизианы, болотистом мире католических святых и королев вуду. Празднуется День труда, День труда пятьдесят девятого года, на плантации Пекан-Гроув, во время ежегодной папиной голубиной охоты. Пока мужчины потеют и палят из ружей, Виви, неотразимая мать Сидды, вместе с компанией своих подружек из племени я-я играет в бурре, убийственный луизианский покер, в уюте и прохладе кондиционированного жилища. На кухне висит грифельная доска с небрежно накорябанной цитатой из Билли Холидей: «ПЕЙ, КУРИ, В ГОЛОВУ НЕ БЕРИ»[1]. В перерывах леди кормят пти я-я (то есть отпрысков больших я-я) приторно-сладкими пьяными вишнями из холодильника в баре с напитками.
Этой ночью, после гамбо[2] из голубей (крохотные птичьи косточки, плавающие в тарелках хэвилендского фарфора), Сидда ложится спать. И несколько часов спустя с криком просыпается от кошмара. На цыпочках подбирается к той стороне кровати, где спит мать. Она не может пробудить Виви от пропитанного парами бурбона сна, поэтому босиком выходит в душную влажную ночь. Лунный свет ложится на веснушчатые щеки. Она бредет к огромному виргинскому дубу на краю отцовских хлопковых полей и смотрит в небо. В желтом рожке полумесяца сидит Пресвятая Дева с сильными мышцами и милосердным сердцем, болтает своими великолепными ногами, словно луна — ее качели, а небо — переднее крылечко, и машет рукой Сидде, словно только что заметила старую приятельницу.
Сидда стоит в лунном свете и позволяет Пресвятой Деве любить каждый волосок на ее шестилетней головке. Потоки нежности изливаются вниз, с луны, навстречу тем, что поднимаются вверх с земли. И вдруг на какое-то мимолетное сверкающее мгновение Сидда Уокер осознает, что не было минуты, когда она не чувствовала себя любимой.
1
Глумившаяся над детьми мать-чечеточница. Именно так назвали Виви в воскресном приложении к «Нью-Йорк таймс» от 8 марта 1993 года. Страницы раздела «Искусство и досуг» недельной давности валялись на полу, рядом с кроватью, на которой лежала Сидда, закутавшись в одеяло и сунув под подушку радиотелефон.
Поначалу ничто не предвещало грозы. Никому бы в голову не пришло, что театральный критик жаждет крови. Во время интервью Роберта Лиделл казалась такой дружелюбной, лучилась поистине сестринской добротой, и Сидда вдруг почувствовала, что обрела подругу и родственную душу. Как ни крути, а в одной из предыдущих рецензий Роберта уже объявила спектакль «Женщины в лунном сиянии», поставленный Сиддой, «исключительным явлением в американском театре». Тонкая игра удалась: журналистка ненавязчивой болтовней усыпила бдительность Сидды, внушив ей ложное чувство безопасности, заставив развязать язык и выкачав нужные сведения личного характера.
Кокер-спаниель Хьюэлин, видя, что хозяйка лежит неподвижно, ткнулся носом ей под коленку. Всю прошлую неделю Сидде не хотелось видеть никого, кроме собаки. Ни друзей, ни коллег, ни даже своего жениха Коннора Макгилла. Только песика, которого назвала в честь Хьюи Лонга[3].
Несколько минут Сидда рассеянно смотрела на телефон. Ее отношения с матерью никогда не отличались особенной теплотой, но последняя история стала настоящей катастрофой. Неизвестно в какой раз за эту неделю Сидда набрала номер родителей в Пекан-Гроув, но впервые дождалась звонка.
К телефону подошла мать, и, услышав ее голос, Сидда вся сжалась.
— Мама? Это я.
Виви не колеблясь бросила трубку.
Сидда нажала кнопку повторного набора. Виви взяла трубку, но не произнесла ни слова.
— Мама, я знаю, это ты. Пожалуйста, не клади трубку. Мне ужасно жаль, что так вышло. Правда жаль. Я…
— Никакие слова и заверения на меня не подействуют. Я никогда тебя не прощу. Ты для меня умерла. Но сначала ты убила меня. Теперь я убиваю тебя.
Сидда села и попыталась опять:
— Мама, я ничего подобного не имела в виду. Женщина, которая брала интервью…
— Я вычеркнула тебя из завещания. И не удивляйся, если подам на тебя в суд за клевету. На стенах этого дома не осталось ни одной твоей фотографии.
Перед глазами Сидды всплыло красное от гнева лицо матери. И нежно-лиловые сосудики, выделявшиеся под тонкой кожей.
— Мама, пожалуйста. Я не могу указывать «Нью-Йорк таймс». И они мне неподвластны. Ты прочла всю статью? Я сказала: «Моя мать Виви Эббот Уокер — одна из самых очаровательных женщин в мире».
— Очаровательных и ущербных. Ты сказала: «Моя мать Виви Эббот Уокер — одна из самых очаровательных и ущербных женщин в мире. И самых опасных». Тут так и напечатано черным по белому, Сиддали.
— А ты читала ту часть, где говорится, что это тебе я обязана своим творческим даром? Где я признаюсь, что меня всегда вдохновляла мать, дарившая идеи так же щедро, как когда-то добавляла соус табаско в детскую смесь в бутылочках. Репортерша пришла в восторг, когда я описывала, как ты усаживала детей на высокие стулья, ставила тарелочки с кашей, надевала туфельки для степа и танцевала, ухитряясь одновременно нас кормить.
— Лживая маленькая сучонка! Репортерша пришла в восторг, когда ты сказала: «Моя мать придерживалась старой южной школы воспитания, когда истины вбивались ребенку ремнем по голой заднице».
Сидда затаила дыхание.
— Все пришли в восторг, — продолжала Виви, — когда прочли: «Сиддали Уокер, талантливый режиссер-постановщик блестящего спектакля «Женщины в лунном сиянии», в детстве столкнулись с жестокостью взрослых. Забитый ребенок привыкшей глумиться над детьми матери-чечеточницы, она привносит в свою работу редкостное и трогательное равновесие между личной сопричастностью и профессиональной отрешенностью: верный признак гения, преданно служащего музе театра». «Забитый ребенок»? Что за бред! Клеветническое дерьмо, изрыгаемое самым гнусным ребенком на свете!
— Мама, я не хотела обидеть тебя. И не произнесла и четверти из того, что навыдумывала проклятая журналистка. Клянусь, я…
— Ты мерзкая эгоистичная лгунья! Неудивительно, что у тебя не складываются отношения с людьми! Ты ни черта не знаешь о любви. Потому что у тебя душа жестокая! Помоги Боже Коннору Макгиллу! Только такой дурак, как он, отважится жениться на тебе!
Сидда, дрожа, вылезла из постели и подошла к окну своей квартиры на двадцать втором этаже Манхэттен-плаза. С того места, где она стояла, виднелась река Гудзон, напомнившая о Гарнет-Ривер в центральной Луизиане и о темно-красной воде, медленно текущей мимо невысоких берегов.
«Мама, стерва ты этакая! Злобная, мелодраматичная стерва», — подумала она, но когда заговорила, в сдержанном голосе звучала сталь:
— Все, что я сказала, вряд ли можно назвать ложью, мама. Или ты забыла тяжесть ремня в своей ладони?
Тут она услышала, как Виви со свистом втянула в себя воздух. Вместо слов из горла матери вырывалось нечто вроде шипения:
— Моя любовь была наградой, и ты ее предала. Я отобрала эту награду. И вырвала тебя из сердца. Ты изгнана за пределы галактики. Желаю тебе бесконечных угрызений совести.
Послышались короткие гудки. Значит, мать не захотела продолжать разговор.
И все же Сидда не смогла сразу положить трубку. Стояла, словно примерзшая к месту, рассеянно прислушиваясь к шуму Манхэттена за окном. Холодный мартовский свет быстро мерк, оставляя ее в полумраке.
После многих лет постановок пьес в провинциальных театрах от Аляски до Флориды, после бесконечных спектаклей во внебродвейских театриках Сидда была готова к успеху «Женщины в лунном сиянии». И когда наконец в феврале состоялась премьера, рецензии — все, как одна, — были восторженными. В свои сорок лет Сидда с удовольствием грелась в лучах славы. Она работала над постановкой вместе с драматургом Мэй Соренсон еще с первого чтения пьесы, в Сиэтлском репертуарном, «родной территории» Мэй. Она ставила не только премьеру в Сиэтле, но и спектакли в Сан-Франциско и Вашингтоне. Декорации сделал сам Коннор, а один из лучших друзей, Уэйд Конен, создал костюмы. Все четверо много лет были одной командой, и Сидда заранее наслаждалась возможностью разделить с приятелями победные лавры.
Первая рецензия Роберты Лиделл была буквально напичкана восторженными эпитетами.
«Сиддали Уокер поставила tour de force[4] Мэй Соренсон о вечных как мир отношениях «матери — дочери» не только бесстрашно и дерзко, но с искренним сочувствием. То произведение, что могло стать сентиментальным, плаксивым и примитивно комическим, в постановке Уокер кажется поразительно глубоким, трогательным и невероятно смешным. Уокер смогла услышать чистейшие тона сложной, грустной, остроумной и забавной пьесы Соренсон и преобразовала эти тона в постановку, ставшую скорее некой реальной частью жизни, чем сценическим спектаклем. Вся семья — ее секреты, убийства и поразительная душевная энергия — жива, здорова и находится сейчас в Линкольновском центре. И американскому театру стоит поблагодарить за это как Мэй Соренсон, так и Сиддали Уокер».
Откуда могла знать Сидда, что всего месяц спустя Роберта Лиделл сумеет втереться к ней в доверие и выудить сведения, которыми она обычно делилась только с психоаналитиком и близкими друзьями?
После этого оскорбительного интервью Виви, Шеп, отец Сидды, а также остальные родственники отменили заказы на театральные билеты. Сидде пришлось забыть о грандиозных планах, задуманных в предвкушении их визита. Она часто видела во сне плачущую Виви. И сама просыпалась в слезах. Последнее время ее брат, Малыш Шеп, и сестра Лулу не давали о себе знать. Впрочем, и отец тоже.
Единственный, кто не покинул ее в беде, был младший брат, Бейлор.
— Настоящий ядерный взрыв, Сиддо. Милашка Виви всегда хотела попасть в «Нью-Йорк таймс», но не таким же образом! Даже если отдашь ей свою кровь, все равно не дождешься прощения. Мало того, оказалось, не она звезда, а ты, и это ее убивает.
— А папа? — спросила Сидда. — Почему он не позвонил?
— Смеешься? — удивился Бейлор. — Мамочка держит его под каблучком. Я набрался храбрости спросить, почему он по крайней мере не оставил тебе сообщение на автоответчике. И знаешь, что он ответил? «Забыл, что именно мне приходится жить с Виви Уокер?»
Поговорив с братом, Сидда долго не вешала трубку. Ей так хотелось, чтобы кто-то встряхнул ее, избавив от чувства одиночества. Поэтому она не выдержала и написала матери:
«18 апреля 1993 г.
Дорогая мама!
Пожалуйста, прости меня. Я не хотела причинить тебе боль. Но это моя жизнь, мама. И я хочу свободно о ней говорить.
Я скучаю по тебе. По твоему голосу, безумному чувству юмора. Мне недостает твоей любви. Мое сердце разрывается при мысли о том, что ты со мной развелась. Пожалуйста, попытайся понять: я не отвечаю за то, что пишут посторонние люди. Пожалуйста, знай, что я тебя люблю. Я не прошу тебя не сердиться. Прошу только не выбрасывать меня из своего сердца.
Сидда».
После скандального интервью цифры билетных продаж взлетели вверх. «Женщины в лунном сиянии» стали настоящим хитом. В журнале «Тайм», в разделе «Женщина и театр», появилась статья о Сидде. «Американ плейхаус» пригласил ее для постановки телевизионного варианта, а Си-би-эс вела переговоры с ее агентом о работе над сериалом. Театры по всей стране, годами не желавшие ничего знать о Сиддали Уокер, теперь буквально дрались за честь получить модного режиссера.
И посреди всей этой суматохи Мэй ухитрилась приобрести права на постановку «Женщин» Клер Бут Люс, которые переделывала в мюзикл. Сиэтлский репертуарный получил весомый грант, чтобы пригласить Мэй, Сидду, Коннора и Уэйда для постановки силами местной актерской мастерской.
По мере того как приближался день их временного переезда в Сиэтл, Сидда все отчетливее ощущала нервное напряжение. Шея была постоянно сведена болезненным спазмом, и неизвестно, что терзало ее больше: этот самый спазм или тоска, высвобождавшаяся, когда Коннор ее массировал. Странно: все мечты Сидды сбылись — слава, известность, помолвка с человеком, которого она обожала. Но ей хотелось одного: лежать в постели, жевать макароны с сыром фирмы «Крафт» и прятаться от аллигаторов.
Как раз перед отъездом в Сиэтл она попробовала другой подход к Виви, написав очередное письмо:
«30 июня 1993 г.
Дорогая мама!
Знаю, ты все еще в бешенстве. Но мне необходима твоя помощь. Я ставлю в Сиэтле музыкальную версию «Женщин» Клер Бут Люс и не имею ни малейшего представления, откуда начать. Ты знаешь все о женской дружбе — недаром больше пятидесяти лет была задушевной подругой Каро, Ниси и Тинси. Ты настоящий эксперт в таких вопросах. И твое внутреннее ощущение драмы совершенно безошибочно. Для меня были бы неоценимым подспорьем твои идеи, воспоминания, короче, все о твоей жизни с я-я. Если не хочешь сделать это для меня, постарайся для американского театра. Пожалуйста.
С любовью,
Сидда».
Сидда и Коннор уехали в Сиэтл в середине июля. Поднимаясь в самолет, Сидда твердила себе: «У меня потрясающая жизнь. И восемнадцатого декабря я выйду за человека, которого люблю. Моя карьера на взлете. Я многого добилась. Друзья радуются моим успехам. Все прекрасно, в самом деле прекрасно».
В ночь на восьмое августа девяносто третьего года, когда луна за окном ярко освещала стеклянную поверхность озера Вашингтон, Сиддали Уокер проснулась с криком и в холодном поту. Мокрые глаза, пересохший, как пустынный песок, рот, зудящая кожа… она точно знала… знала наверняка, что Коннор, ее любимый, умер во сне и сейчас рядом с ней, в постели, лежит его остывающее тело.
«Я знала, — подумала она. — Он покинул меня. Ушел. Навсегда».
Каждая частичка напряженного тела Сидды стремилась уловить дыхание Коннора. Горячие безмолвные слезы лились ручьем, а неистовый стук сердца заглушал все остальные звуки.
Наконец она прижалась лицом к лицу возлюбленного, и когда соленые капли упали на подбородок Коннора, тот наконец проснулся и первым делом поцеловал ее.
— Люблю тебя, Сиддо, — пробормотал он в полусне. — Люблю тебя, Душистый Горошек.
Такие неожиданные признаки жизни испугали ее, и Сидда подскочила.
— Сиддо, — прошептал Коннор, садясь и притягивая ее к себе, — что случилось?
Сидда молчала.
— Все хорошо, Сиддо. Все хорошо.
Она позволила ему держать себя, но не поверила, что все хорошо. Немного погодя она вытянулась рядом с ним и притворилась спящей. И пролежала так три часа, мысленно вознося молитвы.
«Пресвятая Мария, — подумала она. — Утешительница скорбящих сердец, молись за меня. Помоги мне».
Когда над Каскадными горами поднялось солнце и рассерженные вороны принялись шумно драться в елях Дугласа, Сидда, взяв Хьюэлин, вышла на плоскую крышу. Наступило очередное холодное серое августовское утро в Сиэтле.
Спустившись вниз, Сидда встала на колени и почесала живот кокера. Может, она из тех женщин, кому в жизни предназначено любить только собак.
Она вошла в спальню и поцеловала Коннора в лоб. Он улыбнулся и открыл глаза. Она смотрела в их синеву и думала, что по утрам они всегда темнее, чем днем.
— Придется отложить свадьбу, Коннор. Только послушай меня, пожалуйста, — торопливо попросила она, ужаснувшись выражению его лица. — Не думаю, что смогу вынести это.
— Что именно?
— То, что ты умрешь и оставишь меня одну!
— Оставлю? — удивился он.
— Да. Когда-нибудь. Не знаю когда. И не знаю, как именно. Но это обязательно произойдет. И вряд ли я смогу это вынести. Вчера ночью ты перестал дышать. Вернее, я так подумала.
Коннор уставился на нее. Сидда Уокер была тонкой натурой. Он понимал это. И любил.
— Господи, Сидда, я совершенно здоров. И вовсе не переставал дышать. Просто спал. Вспомни, как крепко я сплю.
Сидда повернулась к нему:
— Прошлой ночью я проснулась в полном убеждении, что ты умер.
Он погладил ее по щеке. Она отвернулась, упорно рассматривая свои стиснутые кулаки.
— Я просто не смогу еще раз пережить то, что пережила вчера. Не хочу, чтобы меня бросили.
— Что все это значит, Сидда?
Коннор откинул одеяло и встал с постели. Высокий и гибкий, он еще не отошел от сна, и пахло от него хлопком и мечтами. В свои сорок пять Коннор был строен и подтянут.
Хьюэлин дружелюбно постукивала хвостиком по деревянному полу. Коннор нагнулся, погладил собаку и, опустившись на колени перед Сиддой, взял ее руки в свои.
— Сидда, ни для кого не секрет, что я когда-нибудь умру. И ты тоже. Тут нет ничего необычного, Душистый Горошек.
Сидда вздохнула:
— А для меня это новость.
— Ты боишься. Верно?
Сидда молча кивнула.
— Это из-за истории с твоей матерью?
— Нет. Никакого отношения к моей матери.
— Знаешь, — продолжал он, — мне придется смириться с мыслью, что в один прекрасный день ты тоже сыграешь в ящик. То есть вполне можешь умереть прежде меня. И это я останусь один.
— Нет, все будет не так.
Коннор поднялся, снял со спинки кресла-качалки зеленый фланелевый халат и закутался. Сидда следила глазами за каждым его движением.
— Хочешь отменить свадьбу? — тихо спросил он. — Это такой традиционный луизианский способ вежливо дать понять, что все кончено?
Сидда вскочила, подошла к нему и, обхватив за талию, положила голову на грудь. Ее макушка уютно уместилась у него под подбородком.
— Нет, — прошептала она. — Я не хочу, чтобы между нами все кончилось. Я люблю тебя. И всегда буду любить. Прости, мне ужасно жаль.
Коннор опустил голову. Сидда слышала, как бьется его сердце.
— Как долго мы об этом говорим, Сид?
— Не знаю. Недолго. Не знаю.
Коннор отстранился и шагнул к окну.
Сидда ждала, опасаясь, что зашла слишком далеко.
— Я не собираюсь вечно скитаться в чистилище, — выговорил он, глядя на Каскадные горы. — Не дергай меня, Сидда. Я не мазохист.
«Пожалуйста, Господи, — молилась она, — не дай мне потерять Коннора».
— Хорошо, — смирился он, повернувшись наконец к ней. — Хорошо. Мне это не нравится, но я согласен.
Они снова забрались в постель, Сидда прижалась к Коннору, и они долго лежали молча. Понадобилось четыре года дружбы, четыре года совместной работы в театре, прежде чем Сидда призналась, что полюбила его с первой встречи. Она ставила спектакль в чикагском театре «Гудман мемориал», а Коннор был художником. Ей хотелось поцеловать его с той минуты, как они увиделись. Что-то в его медлительной улыбке, лице, стройной фигуре, взрывах воображения… Что-то атлетическое и одновременно грациозное в походке, что-то завораживающее в манере держаться…
И теперь они лежали в объятиях друг друга. И Хьюэлин, растянувшаяся на краю кровати, обожающе взирала на них.
Сидда вздохнула:
— Пожалуй, мне нужно немного побыть одной. Когда мы приехали в Сиэтл, Мэй предложила мне охотничий домик своей семьи на озере Куино.
— Далеко от Сиэтла?
— Часа три, полагаю.
Коннор всмотрелся в ее лицо.
— Ладно, — обронил он, теребя уши Хьюэлин. — А мадам возьмешь с собой или оставишь здесь?
— Пожалуй, возьму.
Коннор придвинулся еще ближе и стал целовать Сидду медленно и страстно. Ее увлекло в мир тепла и наслаждения.
«Секс исцеляет, — твердила она себе, — волнения убивают».
Но сейчас ей было трудно отдаться такому удовольствию, такому утешению.
За четыре месяца до того, как ей предстояло выйти за Коннора, Сидда вдруг ощутила, что на сердце у нее лежит тяжелый черный камень, надежно отсекавший сияние счастья. Ноги и руки находились в постоянном напряжении, словно она с утра до вечера несла неусыпную вахту. Словно застыла в ожидании, пока валун сам собой исчезнет и все станет по-прежнему.
2
Виви Уокер медленно направлялась вниз по обсаженной деревьями подъездной аллее Пекан-Гроув, чтобы забрать почту. Еще пару минут назад она лежала на банкетке под окном кабинета, читая роман и слушая записи Барбры Стрейзанд, но ее внимание привлек шум мотора почтового грузовика. В свои шестьдесят семь Виви все еще пребывала в прекрасной форме благодаря теннисным тренировкам дважды в неделю. Правда, она набрала пять фунтов после очередной попытки бросить курить, но по-прежнему могла сойти за довольно молодую женщину. Ноги, хоть и не загорелые, все еще были сильными и мускулистыми. На слегка подкрашенных, коротко стриженных светло-пепельных волосах красовалась дорогая шляпка из лучшей черной соломки, купленная тридцать пять лет назад. Сегодня на Виви были полотняные шорты, подкрахмаленная белая блузка и теннисные туфли. Из драгоценностей только браслет из золота высшей пробы, обручальное кольцо и серьги с крохотными бриллиантиками. Ни один человек в Сенле[5] не мог припомнить, чтобы летом она одевалась как-то иначе. Почтовый ящик был забит каталогами торговцев одеждой со всей страны. Шеп Уокер, ее муж, так и не смог преодолеть влечение былого сельского мальчишки к призыву «Товары — почтой!». Из груды выскользнул счет от «Уэйленс» из Торнтона, где Виви только сейчас заказала потрясающий белый брючный костюм.
Был еще конверт. Серый, тонкая бумага, штамп Сиэтла. Почерк старшей дочери.
В животе неприятно засосало. Если Сидда снова просит бумаги я-я, пусть не надеется. Эта девчонка ничего не получит. Ничего. После того как унизила мать, ни о какой помощи не может быть и речи.
Все еще стоя на аллее, Виви вскрыла конверт ногтем большого пальца и стала читать.
«10 августа 1993 г.
Дорогие мама и папа!
Я решила отложить свадьбу с Коннором и хочу сказать вам об этом сама, прежде чем вы услышите это от кого-то другого. Я знаю, как быстро распространяются в Торнтоне слухи.
Моя беда в одном: я просто не знаю, что делаю. И не знаю, как любить.
Вот и все мои новости.
С любовью,
Сидда».
«Черт, — подумала Виви. — Черт, черт, черт».
Вбежав в кухню, Виви встала на табурет и потянулась к высоко висевшему шкафчику, где обычно прятала сигареты, но тут же опомнилась, осторожно сползла на пол и вместо этого подобралась к полке с поваренными книгами. Вытащила забрызганный соусом экземпляр «Рецепты Ривер-роудз», открыла на странице ЮЗ. Там, рядом с рецептом этуфе с лангустами миссис Хансен Скоуби, лежал снимок Сидды с Коннором, посланный в тот день, когда они объявили о помолвке. Единственный, который не уничтожила Виви.
Вглядевшись в фото, она сунула в рот пластинку антиникотиновой жвачки и подняла трубку.
Полчаса спустя Виви вынула из плеера диск Барбры Стрейзанд, схватила сумочку, прыгнула в темно-синий джип-«Чероки» и помчалась по длинной аллее, ведущей из Пекан-Гроув в большой мир.
И все же, когда подъехала к дому Тинси, оказалось, что Ниси и Каро уже здесь. Ширли, горничная Тинси, успела настрогать сандвичей и сделать два термоса «Кровавой Мэри». Подруги уселись в красный «сааб-кабриолет» Тинси, на свои обычные места, не менявшиеся с сорок первого года: Тинси за рулем, Виви рядом с ней, Ниси позади Тинси, Каро за спиной Виви. Только в отличие от прежних времен Каро не уложила ноги на спинку переднего сиденья. Не потому, что беспокоилась о приличиях. Просто последнее время ездила только с кислородной подушкой. Не то чтобы подушка требовалась постоянно. Так. На всякий случай.
Тинси включила кондиционер на полную мощность, и я-я по очереди прочитали письмо Сидды, после чего Тинси опустила крышу, а Виви снова сунула диск с Барброй Стрейзанд в плеер. Все дружно натянули шляпы, солнечные очки и шарфы. Машина понеслась в направлении Спринг-Крик.
— Ну так вот, — начала Виви. — Я стояла у почтового ящика и сочиняла молитву… вернее, «ультра-томато», как Сидда в детстве называла ультиматум. Я сказала: «Слушай, Старый падре…» Не «пожалуйста, слушай», просто «слушай».
— А я думала, cher[6], ты молишься только Матери многомилостивой, — заметила Тинси. — Разве ты не плюнула на Старого пердуна?
— Пожалуйста, Тинси, прекрати, — попросила Ниси. — Ты выставляешься, только чтобы шокировать меня.
— Но это правда, — объяснила Виви. — Я давно отреклась от Бога Отца, Старого падре, как зовет его Шеп. Но на всякий случай решила подстраховаться.
— Это никогда не вредно, — согласилась Каро.
— Я всегда говорю: на всякий случай молись всем подряд, не помешает, — кивнула Ниси, единственная, кто все еще считал, что папа вполне нормален. — Тем более что Святая Троица в самом деле существует, хотя все вы переделали католическую религию по своему вкусу.
— Брось, Ниси, — отмахнулась Тинси. — Ты не в церкви, так что нечего проповедовать. Сама знаешь, все мы в душе по-прежнему примерные католички.
— Я просто считаю, что обращаться к Господу всемогущему «Старый пердун» — немного кощунственно, вот и все, — подчеркнула Ниси.
— Bien, bien[7], — буркнула Тинси. — Не отвлекайся, святая Дениза.
Виви открыла термос и налила «Кровавую Мэри» в пластиковый складной стаканчик.
— Каро, мивочка, держи, — прокартавила она, передавая стаканчик Каро. — Тинси, поедем не по автостраде, а по старой дороге, хорошо?
— Как скажешь, крошка, — откликнулась Тинси.
Старая дорога была одноколейкой, прорезавшей сельскую местность и вьющейся вокруг Байю-Овелье. Движение здесь было меньше, чем на автостраде, а росшие по обе стороны деревья отбрасывали густую тень.
— Думаю, Бог обязан мне особыми милостями для Сидды, поскольку забрал ее близняшку. То есть разве мне не полагается скидка?
— Совершенно верно, — объявила Ниси. — Сидда должна получить все милости, которыми Господь наградил бы близняшку, если бы тот выжил.
— Слава тебе, — саркастически бросила Каро. — Сестра Мэри Ниси-все-разъясняет-как-по-писаному.
— Тинси, — осведомилась Виви, — ты, случайно, не из Отмеченных?
— Черт возьми, нет, — фыркнула Тинси.
— За это нас могут упечь в Бетти, — предупредила Виви, наливая Тинси коктейль.
— Нас могут упечь в Бетти за многое другое, — заметила Тинси, выравнивая машину. Это она много лет назад так окрестила Центр Бетти Форд[8], и теперь это слово стало частью лексикона я-я.
— Ниси, — спросила Виви, поднимая стаканчик, — капелюшечку?
— Совсем маленькую.
— Передай Барбре, чтобы орала потише, — недовольно попросила Каро. — Я ничего не слышу из-за ее воплей.
Тинси прикрутила звук в си-ди-плеере и поймала взгляд Каро в зеркальце заднего вида.
— Знаешь, теперь они такие маленькие, что со стороны даже незаметно.
— В тысячный раз, Тинси: мне не нужен слуховой аппарат.
Виви тут же обернулась и стала что-то говорить одними губами. Ниси мгновенно к ней присоединилась.
— Сумасшедшие идиотки, — рассмеялась Каро. — Немедленно заткнитесь.
— Я все еще зла как черт на Сиддали Уокер, — призналась Виви, глотнув «Кровавой Мэри». — Нагло очернить меня в самой большой газете страны! Кто на моем месте не взбесился бы?! Но мой материнский радар подает сигналы, и игнорировать их как-то не получается.
— Я всегда прислушиваюсь к твоим сигналам, — похвасталась Ниси.
— Это все фотография, — вздохнула Виви. — Фотография с объявлением о помолвке.
Она вынула снимок и передала на заднее сиденье.
— Сидда тут была просто неотразима, — заметила Ниси, — пусть даже объявление показалось мне весьма заурядным.
— Нет, взгляните хорошенько, — настаивала Виви.
Каро и Ниси принялись изучать фотографию, прежде чем передать Тинси, которая уже нетерпеливо прищелкивала пальцами. Несколько минут Каро насвистывала Шестой Бранденбургский концерт Баха, прежде чем заявить на середине такта:
— Все дело в улыбке.
— Точно! — воскликнула Виви, оборачиваясь. — Сиддали Уокер уже с десяти лет так не улыбалась на фотографиях!
Тинси посигналила и сбросила скорость на подступах к старой бакалейной лавке с полуразрушенным фасадом. Здание попало в плен кудзу[9], и лозы, походившие на странные волосы горгоны Медузы, росли прямо из ржавых бензоколонок «Эссо».
Тут Тинси свернула на дорогу поуже, над которой во многих местах смыкались кроны виргинских дубов, так что женщины словно въехали в волшебный тоннель. Эти деревья считались старыми еще шестьдесят лет назад, когда подруги были детьми. Постепенно они замолчали, и тишина окутала их зеленым покоем.
Ни одна из женщин не могла сказать, сколько раз они проезжали под этими деревьями по пути в Спринг-Крик. Сначала совсем маленькими девочками, вместе с родителями, потом с мальчиками, воруя талоны на бензин, чтобы добраться до заповедных вод ручья. И далее лето за летом, пока росли дети и можно было остаться без посторонних на два-три месяца, накладывая косметику, только когда мужья приезжали на выходные.
— Они так улыбаются, только пока не начали расти груди, — пояснила Тинси.
— Вроде как улыбаются себе, а не парню с чертовой камерой, — вторила Каро.
— У меня тоже была такая улыбка, — вспомнила Виви. — Точно знаю. До того, как я начала проклинать веснушки и втягивать живот.
— Все дело в том, что Сидда не позирует, Господи Боже ты мой! — воскликнула Каро. — Не изображает женщину, которая, черт побери, только что обручилась.
— Каро, — упрекнула Ниси, — у тебя ужасно пронзительный голос.
Каро мягко сжала ее руку.
— Ниси, подружка, мне шестьдесят семь. И я могу орать сколько пожелаю.
— Мелисса говорит, ее психоаналитик считает, что я боюсь резкости. Пристрастие к безмятежности. Только не могу понять, почему пристрастие, если я всего лишь стараюсь представлять все в розовых и голубых тонах, — пожаловалась Ниси.
Каро подняла руку Ниси и быстро поцеловала, прежде чем отнять свою.
— Никогда не слушай психоаналитика своих детей, — посоветовала она.
— Подожди, пока на сцену выйдут психоаналитики их детей, — поддакнула Виви. — О, месть так сладка!
Ниси улыбнулась и посмотрела на Каро, сидевшую с закрытыми глазами.
Виви покачала головой. Интересно, улыбалась ли так Багги, ее собственная мать? Она вспомнила снимок, найденный в вещах Багги после ее смерти.
Старый снимок, девятьсот шестнадцатого года. Мать с огромным бантом в волосах серьезно смотрит в камеру. На обратной стороне она написала свое имя. Не «Багги». Не «миссис Тейлор С. Эббот», как звали ее все окружающие, а «Мэри Кэтрин Боумен». Ее настоящее имя.
— Maman часто улыбалась как Сидда, — сообщила Тинси, показывая на фотографию, лежащую на коленях Виви.
«А какая же улыбка у меня теперь? — спросила себя Виви. — И можно ли вернуть улыбку беззаботного детства или это как девственность: потеряешь раз и больше не вернешь?»
Добравшись до ручья, женщины вышли из машины. Ниси несла корзинку с едой, а Тинси вынула из багажника очередной термос с «Кровавой Мэри». Виви, не дожидаясь просьб, помогла Каро вытащить кислородную подушку, а Каро молча приняла помощь. Четыре я-я зашагали по короткой тропинке, прежде чем медленно, осторожно спуститься с откоса к воде, где Виви расстелила старое одеяло в розовую клетку. Все неторопливо расселись на одеяле и несколько секунд блаженно слушали звон насекомых.
— Спасибо тебе, Господи, за прохладу, — пробормотала Каро, — иначе мы просто спеклись бы.
Ивы и тополя низко наклонялись над ручьем, а за ними темнели ладанные сосны. Солнце клонилось к горизонту, но жара все еще стояла.
Ниси раздала этуфе Ширли на свежем французском батоне. Тинси разлила коктейли.
— Так как быть с просьбой Сидды помочь ей с пьесой Клер Бут Люс? — спросила Виви. — Подумать только, какая наглость со стороны маленькой сучки просить наши дневники! Да она просто издевается над нами! После всего, что она сотворила со мной… да я не послала бы ей завалящего рецепта тунцовой запеканки с лапшой!
— А вот я была бы искренне польщена, — возразила Ниси. — Но это всего лишь мое мнение. Мои дочери только и просят, что выслать облигации внутреннего займа.
— Нам следует содействовать процветанию театра, — вмешалась Тинси.
— У детки острый глаз. Сразу сообразила, где есть первоклассный справочный материал, — вторила Каро.
— Но мы совсем не похожи на этих злобных кошек в «Женщинах», — запротестовала Виви. — Они ненавидели друг друга. И мы были единственными детьми в семьях, когда вышел этот фильм.
— Совсем крошками, — согласилась Тинси.
— Но мы ценим свою историю, — заключила Ниси. — Помните, как изумительно играла Норма Ширер в этом фильме! Теперь таких актрис уже нет.
— За альбом я-я, — провозгласила Каро, поднимая стаканчик.
— Что? — ахнула Виви.
— Жизнь коротка, подруга, — хмыкнула Каро. — Пошли альбом с вырезками.
— Не моя вина, если она сдрейфила идти замуж, — отбивалась Виви. — Ничего я не пошлю.
— Я ее крестная, — объявила Каро. — Пошли ей «Божественные секреты».
— Это было бы прекрасным поступком. Достойным, — вторила Ниси.
— Пошли «Божественные секреты», дорогая, — постановила Тинси.
Виви оглядела подруг, прежде чем поднять свой стаканчик.
— За секреты я-я.
Женщины снова переглянулись и чокнулись. Основное правило племени я-я: перед тем как чокнуться, следует посмотреть друг другу в глаза. Иначе ритуал недействителен и все это чистое притворство. А в этом я-я грешны не были.
3
Вечером, вернувшись домой, Виви поднялась в спальню. Кондиционер был включен, потолочный вентилятор жужжал, а окна были широко распахнуты навстречу ночным звукам дельты. Выключив лампу на тумбочке, она зажгла свечу перед статуей Девы Марии.
— Мать многомилостивая, — молилась она, — услышь мои молитвы. Ты королева луны и звезд. Я же больше не знаю, где мое королевство. Для этого периода моей жизни извинений нет. Теперь, стоит только оступиться, тебя живенько отправят в приятное местечко вроде Бетти, пока дела не станут совсем уж плохи. Тогда… что же, тогда приходилось принимать чертов дексамил[10] и исповедаться три раза в неделю. Тогда не было Опры[11].
В то воскресное утро я взяла ремень мужа, тот самый, на котором Шеп точил бритву: серебряная пряжка с рубинами и оправленный в серебро кончик. Когда я била детей, там, где попадал этот кончик, появлялись кровавые рубцы. Даже сейчас я ясно вижу их прекрасные тела. Я знала, что делала. Эти голые детские тела были такой доступной мишенью!
Видишь ли ты шрам на теле Сидды сейчас? Видит ли его Коннор Макгилл, когда любит ее? Если бы я смогла проводить рукой по спине дочери, весь тот пост, все ее детство, наверное, стерла бы его. Стерла совсем. Но я не всемогуща, как бы ни желала стать таковой. И это, вероятно, единственное в жизни, что я усвоила.
Сидде следовало остановить меня. Но она стояла и терпела. В точности как я, когда меня наказывал отец.
Видит ли она во сне ремень, опускающийся на бедро… на то место на плече?
А потом я ушла. И когда вернулась из больницы, которую никто не называл больницей, мы сказали детям, что я устала и нуждалась в отдыхе. И больше никаких объяснений. Это никогда не обсуждалось.
Я порола их не один раз. Но только однажды избила до крови. И только однажды Сидда не совладала со своим мочевым пузырем.
Я заставила Каро рассказать мне это. Заставила лучшую подругу объяснить, что наделала.
По-прежнему ли она спит, подтянув одеяло к самому подбородку, с подушкой, зажатой в одной руке, тогда как другая закинута за голову? Просыпается ли от старых кошмаров, задыхаясь и кашляя? И я сотворила с ней это?! Неужели мне никогда не простится мой грех? Когда она была маленькая, я говорила, что умерший брат-близнец стал ее ангелом-хранителем. Верит ли она еще этому?
Может, мне послано наказание видеть, как моя старшенькая отворачивается от любви? Пресвятая Мария, ты мать, повелительница полей и прерий. Дай мне что-то вроде знака, пожалуйста! Что-то вроде утешения. И заодно сними с меня проклятие, договорились? Неужели мне придется всю свою жизнь носить в себе дочь? Неужели придется до самой смерти быть за нее ответственной? Я не хочу этих угрызений совести. Не хочу этой тяжести.
Мария, мать сирот, попроси за меня Всевышнего. Заставь Господа прислушаться, как умеешь только ты одна. Передай это своему Сыну.
Иисусе Христе, Спаситель и Господь наш, склони ухо свое к нашей Пресвятой Матери, когда она заступится за меня. Я все еще зла как черт на свою трепливую дочь, но готова поторговаться. Вот мои условия: не позволяй Сидде трусить в любви, а взамен я перестану пить. До того дня, когда она и Коннор скажут «да». А в придачу я еще прибавлю альбом я-я. Я слышу, как ты смеешься. Брось! Я вполне серьезно.
Заставь Сидду повернуться и пройти сквозь огонь. Если она запоет свою прежнюю песенку «я-не-знаю-как-любить» и тому подобный бред, не верь.
Предупреждаю, они должны пожениться до тридцать первого октября, усек? Никаких гарантий трезвости после Хэллоуина. Сейчас август. У тебя полно времени.
Молюсь о заступничестве нашей владычицы падучих звезд. Аминь.
Виви перекрестилась и закурила. Не стоило курить в доме, вернее, не стоило курить вообще, но, черт возьми, Шепа сегодня не будет. И потом, лучше думается, когда в темноте тлеет красная точка. В комнате не горел свет. Она снова перекрестилась, на этот раз сигаретой, и тут ее осенило.
Виви прошла в кухню, открыла ящик с фейерверками, тот самый, где хранила петарды и бенгальский огонь, оставшиеся от Нового года и Четвертого июля. Она специально держала небольшой запас для личных, тайных праздников. Виви нашла две палочки бенгальского огня и вынесла во двор.
Сегодня, кроме нее, в Пекан-Гроув никого не было.
Виви дошла до самой дельты, зажгла бенгальский огонь и, полюбовавшись, как огненные искры летят в ночное небо, стала чертить сверкающими палочками в воздухе. Потом, неизвестно почему, помчалась вдоль берега, держа палочки над головой.
«Если кто-то увидит меня, сразу скажет: «Что же, наконец свершилось. У Виви Эббот Уокер поехала крыша». Только они не знают, что эта самая крыша поехала много лет назад, а я все еще живу. Вернее, как бы живу».
Виви бегала, пока не выбилась из сил. Остановилась, продолжая держать бенгальские огни перед собой. И подумала, глядя на них: «Это все, что я имею. У меня нет надежного, яркого сигнального огня, исходящего от какого-нибудь старого, почтенного маяка, указующего кораблям спокойную дорогу домой, мимо острых рифов. Остались только крохотные светильнички, которые вспыхивают и тут же гаснут. Дай Бог увидеть мою дочь такой, какой никогда не видела меня моя мать. И пусть она тоже увидит меня».
Поднявшись в спальню, она зажгла еще одну свечу и поставила вместе с огарками бенгальских огней перед статуей Девы Марии. Потом вытерла ноги и легла в постель.
«Я поставила свечу за свою дочь. И пусть свеча горит, пока я сплю. Плевать мне на пожарных и их чертовы инструкции. Однажды я уже пережила пожар».
4
Сидда стояла на верхней палубе парома, идущего к Бейнс-бридж-Айленд, и смотрела, как исчезает за горизонтом Сиэтл. На юге возвышалась гора Рейнир, охраняющая город подобно гигантскому благосклонному божеству. Повернувшись к западу, Сидда увидела зубчатые пики и сверкающие ледники гор Олимпик, рвущихся к небу с полуострова Олимпик.
Сидда почти не замечала улыбавшихся, сновавших по палубе туристов. Она вспоминала тот день в феврале прошлого года, когда открывавшийся перед ней вид был совсем иным.
И день был тоже другим: холодным, солнечным, будним. Только что вышли восторженные рецензии на «Женщин в лунном сиянии», а гибельное интервью еще не появлялось. Сидда и Коннор сбежали, чтобы отпраздновать успех: захватили Хьюэлин и долго гуляли в Центральном парке, а потом вернулись в квартиру Сидды и откупорили бутылку шампанского. Прямо днем. А когда солнце опустилось совсем низко и в воздухе повеяло февральским холодком, они занялись любовью. Сидда наклонилась над Коннором и понюхала его плечи, как раз в тех местах, где, по словам Марты Грэм, должны были расти крылья. Поднялась повыше, чтобы понюхать его волосы. Густые черные волосы с проседью на висках, мягкие, словно вымытые дождевой водой, как когда-то делала ее бабушка Багги. Его стройное мускулистое тело сейчас, возможно, было сексуальнее, чем в двадцать лет.
Сидда давно потеряла счет любовникам… годы и годы совокуплений, оставивших ее ранимой, чуточку растерянной и опустошенной, особенно по утрам, когда приходилось вставать. У нее было две довольно продолжительных связи, но только с Коннором она чувствовала себя по-настоящему хорошо и ощущала, что ее нежно любят.
После они долго лежали обнаженными, бок о бок, охлаждая разгоряченную кожу. Сидда погрузилась в крепкие теплые объятия их тел и блаженно отдыхала. На какое-то мгновение она умерла старой доброй маленькой смертью, вернее, они умерли одновременно. И тут ее глаза переполнились слезами. Она плакала и плакала. От красоты того, с чем она случайно встретилась. От страха, что случится нечто ужасное, потому что она потеряла бдительность. Плакала из боязни чего-то настолько чудесного, что у нее не хватит храбрости вынести это.
Когда она успокоилась, он поцеловал ее в глаза. И попросил выйти за него замуж.
Она сказала «да».
Много лет назад Сидда решила никогда не выходить замуж. Ни за кого. Никогда. Поклялась, что не повторит ошибок родителей. Не пойдет на то, чему сама была свидетелем в их браке.
Но Коннору сказала «да».
Он положил ладонь на ее живот, на самый пупок, так что, когда она выдыхала, живот упирался в его ладонь. Первым порывом было втянуть живот, чтобы казался более плоским, но энергии на это уже не осталось. Любовь ее измотала.
Наконец они натянули свитера и толстые носки и вышли на маленький балкон ее квартиры на двадцать втором этаже. Сидда захватила старый фотоаппарат, который они установили на штативе, и нажала кнопку автоспуска. Улыбающиеся. С развевающимися на ветру волосами. Не обнявшиеся, но стоящие рядом и держащиеся за руки, как на старых снимках.
Сидда съехала с парома и направилась на запад, к полуострову Олимпик. Через час с лишним езды показались огромные территории «окультуренных лесов», где все деревья вырубались, сжигались, а земли засаживались заново. То и дело мелькали маленькие городки с унылого вида домиками и широкие, как разверстые раны, вырубки с белыми пнями и скрюченными ветками, походившими на человеческие кости.
На белом здании бензозаправки висел большой цветной плакат с изображением трех поколений здоровяков лесорубов и броской надписью: «ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ. СОХРАНИМ ИХ».
Как-то Сидда едва не оказалась в кювете, чудом не столкнувшись с неуклюжим лесовозом, высоко груженным бревнами. На радиаторе болталась потрепанная пятнистая сова.
Ближе к вечеру Сидда свернула на проселочную дорогу, ведущую к домику Мэй, старой белой бревенчатой хижине постройки тридцатых годов, выстроенной неподалеку от озера Куино, на опушке дождевого леса. С его крыши открывалась панорама озера. Справа расстилались зеленые пространства заливных лугов реки Куино, исчезающей в суровых, покрытых снегом пиках гор Олимпик. Под серым небом серебрилась неподвижная вода, и было так тихо, что Сидда слышала, как гагара садится на поверхность озера.
В домике было темно и уютно. Панели из узловатой сосны излучали золотистое сияние даже в самые хмурые дни. Помещение состояло из кухни, довольно большой спальни и одной гигантской комнаты с бесчисленными окнами и стеклянными дверями, откуда можно было попасть на веранду. Одна из стен была увешана снимками Мэй Соренсон и ее родных. У Сидды потеплело на сердце при виде книг, мягких кресел и паззла с пейзажем Венеции, все еще лежавшего на маленьком угловом столике.
Разгрузив машину, Сидда заварила чай и немедленно пожалела о решении спрятаться от всех. Ее так и подмывало позвонить агенту и объяснить, как ее найти. Черт возьми, почему она не сообразила захватить сотовый! Слишком привыкла всегда быть в курсе событий.
Вынудив себя оставаться на месте и не метаться в поисках телефона, Сидда вспомнила о непонятной коробке, которую сунул ей Коннор в последнюю минуту. Принесла ее из машины и поставила посреди большой комнаты на старый, выцветший, розовый с зеленым коврик, как раз перед стеклянными дверями, ведущими на крышу. Сейчас они были открыты, и с озера в комнату врывался легкий ветерок.
Хьюэлин, с любопытством принюхиваясь, кружила вокруг коробки. Надпись на крышке была сделана почерком Виви. Обратный адрес — Пекан-Гроув. Последовав примеру Хьюэлин, Сидда обошла коробку и уже подумывала было наклониться и тоже ее обнюхать. Эта штука излучает мама-лучи! Облеплена стикерами «Федэкс»[12]. Сверху рукой Виви крупно написано «ОСТОРОЖНО. НЕ МЯТЬ».
Сидда нагнулась, подняла коробку и приложила к ней ухо. По крайней мере тиканья не слышно. Весит фунтов двадцать. Ничем не пахнет.
Она поставила коробку на стол и вышла на кухню, где медленно выпила стакан воды. Потом вернулась в большую комнату и снова уставилась на коробку.
Хьюэлин подошла к двери, навострила уши и весело завиляла хвостом, ожидая, пока можно будет выбежать во двор.
Сидда надела купальник, позвала Хьюэлин, и они спустились по грубо вытесанной лестнице к причалу на озере. Осторожно сунула ногу в воду и тут же отдернула. Ну уж нет! Она не героиня! Для южанки это верный инфаркт!
Поэтому Сидда села на причал, лениво наблюдая, как собака весело резвится у воды. Наконец, устав от беготни, кокер растянулся рядом с хозяйкой.
Немного погодя Сидда вернулась в дом, распаковала привезенные с собой книги, от Чехова до «Словаря условных обозначений» Сирло, биографии Клер Бут Люс и труд с многозначительным названием «На пути к браку: трансформация любовных отношений». За книгами последовала одежда: брюки цвета хаки, шорты, полотняные блузки, спортивные штаны и одна широкая мягкая белая ситцевая ночнушка. Вынула талисманы, с которыми не расставалась: перовую подушку, привезенную из дома, снимок в рамке — она и Коннор в день обручения, — потрепанного игрушечного медведя, подаренного Мэй Соренсон перед первым чтением «Женщин в лунном сиянии» в театре, пластиковый пакет с двумя хлопковыми коробочками, выращенными на плантации Пекан-Гроув, и крошечный старый флакончик, купленный в лондонской антикварной лавчонке. Все это она разложила на каминной полке вместе с освященной свечой с изображением святого Иуды и фотографией Пресвятой Девы Гваделупской в окружении роз. Убрала в холодильник итальянскую пасту, яблоки, канталупы, сыр «Гауда» и шампанское, разложила походную кроватку Хьюэлин.
И все это время она старательно обходила коробку. Рано.
Только проснувшись среди ночи и не в силах больше заснуть, Сидда сдалась и перестала сопротивляться искушению. Накинула халат, разрисованный пуделями и розами, эксцентрическое одеяние, сшитое Уэйдом Коненом из шенилевого[13] постельного покрывала пятидесятых, в котором чувствовала себя кем-то вроде Люсиль Болл[14], сидящей на игле.
Пошел дождь, и сильно похолодало. Август в северо-западных районах все равно что ноябрь в Луизиане.
Хьюэлин проскользнула за ней из спальни в большую комнату. Сидда немного постояла на месте, прежде чем подтянуть висевшую над столом лампу ближе к столешнице, сесть и открыть коробку.
Внутри оказался объемистый толстый пластиковый мешок для мусора, старательно запечатанный скотчем. К мешку был прилеплен конверт с именем Сидды.
В конверте лежало письмо, написанное не на особой бумаге с монограммами Виви, а на бланке «Гарнет бэнк энд траст компани», которые всегда лежали рядом с телефоном на кухне. Казалось, записку набросали впопыхах и оторвали от общей стопки, прежде чем Виви успела передумать.
«Плантация Пекан-Гроув
Торнтон, Луизиана.
15 августа 1993 г.
5.30 утра
Сиддали!
Господи Боже, детка! То есть с чего это ты «не знаешь, как любить»? Воображаешь, будто кто-то из нас знает? Думаешь, кому-нибудь удалось бы сделать что-то, если бы все ждали, пока узнают, как именно нужно любить? Рождались бы дети, готовились обеды, собирался урожай хлопка, писались книги, или что там еще, черт возьми? Считаешь, будто люди вообще вставали бы с постелей, если бы ждали, пока поймут, как именно нужно любить?
Ты слишком часто советуешься с психоаналитиком. Или слишком редко. Одному Господу известно, как нужно любить, дурочка. Все остальные — просто хорошие актеры.
Забудь о любви. Вспомни о хороших манерах.
Виви Эббот Уокер.
P.S. Решила послать кое-какие свидетельства существования я-я. Попробуй только потерять альбом или продать в «Нью-Йорк таймс», и я тебя закажу.
Желаю получить его в целости, сохранности и безупречном состоянии.
P.P.S. Не думай, будто это означает, что я выдаю тебе все свои секреты. Всего тебе никогда не узнать».
Сидда сунула письмо в конверт, словно пытаясь удержать рвущиеся наружу вопросительные и восклицательные знаки и кавычки, и обратилась к пластиковому мешку. Оттуда на свет божий появился большой, переплетенный в коричневую кожу альбом с вырезками, битком набитый бумагами и всякой всячиной, время от времени вылетавшей наружу. Корешок растрескался, а кожа поцарапалась. Похоже, альбом разбирали по листочку, вкладывали новые страницы, переплетали вновь, и теперь переплет с трудом вмещал все добавления. Обрез был позолочен, а в нижнем правом углу красовалось выведенное золотом имя Виви Уокер.
Первым делом Сидда понюхала кожу. Потом прижала альбом к груди. И, сама не понимая почему, вдруг осознала, что необходимо немедленно зажечь свечу.
Поэтому она принесла церковные свечи, зажгла и поставила по обе стороны альбома. И несколько минут смотрела на крошечные огоньки, прежде чем поднять крышку. На первой странице коричневатой плотной бумаги было крупно начертано детским неустойчивым почерком: «Божественные секреты племени я-я».
Сидда улыбнулась такой напыщенности. Совершенно в духе я-я!
Еще раз погладив шершавую кожу, она вдруг смутно припомнила, что видела альбом в детстве. Тогда ей запретили к нему прикасаться. Кажется, мама держала его на верхней полке одного из гардеробов, рядом с зимними шляпами.
Осторожно, боясь порвать старую бумагу, Сидда развернула альбом, и первое, что бросилось в глаза, снимок матери — на пляже вместе с остальными я-я и двумя мальчиками-подростками. Мать сидела на плече темноволосого парнишки, чье лицо сияло счастьем. Мать восторженно улыбалась.
Интересно, сколько ей здесь? Пятнадцать? Шестнадцать? Ни единой морщинки, светлые волосы вьются, глаза кокетливо сверкают.
Сиддо вдруг поняла, что тоже улыбается.
Ей хотелось забраться в альбом, как голодному ребенку в холодильник, и схватить все, что попадется под руку. От неутоленного желания, смешанного с возбуждением соглядатая и любопытством драматурга, кружилась голова. Руки дрожали при виде лежащего на столе рога изобилия: ключ к разгадке, свидетельства жизни матери до появления детей.
«Просто смехотворно, — подумала Сидда. — Успокойся. Ведешь себя, как археолог, раскопавший подлинное сокровище среди артефактов. И помни о необходимости дышать».
Она отнесла альбом к большому мягкому, обитому мебельным ситцем креслу для чтения с широко расставленными подлокотниками, чтобы можно было сидеть, перекинув через них ноги, и устроилась поудобнее. Хьюэлин тут же улеглась рядом. Сидда прикрыла ноги пледом и принялась за альбом всерьез. Сначала она всего лишь перелистывала страницы. Просто так, беспорядочно, вслепую… что давалось с большим трудом.
И хотя Виви старалась придерживаться хронологии, все же время от времени на страницах попадались вырезки или вещицы, явно засунутые туда впопыхах. Так, например, Сидде попался снимок Виви и остальных я-я, уже беременных, в картинных позах на берегу ручья, а рядом оказалась газетная вырезка, гласившая:
Мисс Виви Эббот, дочь мистера и миссис Тейлор С. Эббот, приехала на каникулы из Старого Миссисипи. Недавно мисс Эббот удостоилась звания самой популярной девушки в студенческом кампусе. Она пробудет дома неделю, прежде чем вернуться в Оксфорд, штат Миссисипи.
Несколько минут Сидда уделила снимку. Виви, Каро, Тинси и Ниси в купальниках, обтянувших заметно увеличившиеся животы.
Лица, на которых Сидда искала ключи к разгадке мира с тех пор, как научилась ходить. Изучала, какие платья, фильмы, прически, рестораны и люди были «я-я-да» (иначе говоря, приемлемые), а какие — «я-я-нет» (убогие).
Часто бывало и такое, что эти слова просто слетали с губ по собственной воле. Как-то вечером они с Коннором были приглашены на исключительно бессмысленное представление, где приходилось смотреть сразу двадцать семь телевизоров, наблюдать, как подожженные кусочки сахара летят в груды кукол Барби, и тому подобные убогие трюки людей, претендующих на талантливое и творческое видение мира.
— Решительно «я-я-нет», — вырвалось у Сидды. Временами я-я словно высказывали через нее собственное мнение, несмотря на все барьеры, которые она пыталась поставить между собой и этим сборищем.
Она положила альбом на колени.
«Почему я так зациклилась на матери и я-я?
Потому что мне их не хватает.
Потому что они мне нужны.
Потому что я их люблю».
Сидда наткнулась на засушенные, крошащиеся букетики, когда-то украшавшие корсажи. Рядом с одним было написано: «Котильон с Джеком. На мне было желтое платье».
В сгиб той же страницы была засунута пожелтевшая, написанная от руки квитанция из ломбарда. Интересно, что закладывала мать? Невозможно представить ее в лавке ростовщика.
Она нашла билеты в кино, стоившие всего пятнадцать центов. Крышечки от бутылок кока-колы, старое долговое обязательство, гласившее: «Три массажа спины», — но никакого указания на то, чья спина участвовала в сделке. Одна страница открылась сама собой на голубых с белым благодарственных письмах за поддержку футбольной команды и победу в теннисном матче от торнтонской средней школы, датированных 1941, 1943 и 1944 годами. По какой-то причине сорок второй был пропущен. Интересно, что тогда случилось?
Куча бесчисленных моментальных снимков тридцатых, сороковых, пятидесятых и шестидесятых. Многие выцвели от времени. Сидда вдруг сообразила, что ни разу не наткнулась на фото отца, но удивилась и растрогалась, увидев маленькое стихотворение, которое написала в детстве. Листок был аккуратно сложен и спрятан в конверт, на котором было выведено: «Я-Я ОТ БОГЕМНОЙ ДЕВЧОНКИ».
Под руку попалась складная картонная рамка, в которую был вставлен снимок Виви, Тинси и Женевьевы, матери Тинси. Женевьева, как всегда, казалась ослепительной, в стиле Дженнифер Джонс.
Множество напечатанных и гравированных приглашений на танцы, обеды, балы и файф-о-клоки.
Особенно Сидде понравились приглашения на домашние вечеринки — вроде той карточки, что просто сообщала:
Мистер и миссис Ньютон Уитмен.
Принимают дома.
Вторник, двадцать девятого июня тысяча девятьсот сорок третьего года.
С восьми до одиннадцати.
На этом приглашении Виви собственноручно нацарапала: «Надевала абрикосовый гипюр».
Тут же лежал снимок ослепительно красивого молодого человека в мундире военного летчика времен Второй мировой. Кроме него, было еще много фотографий мужчин в мундирах, но именно эта привлекла внимание Сидды. Может, это брат Тинси?
Россыпь бальных карточек, исписанных именами джентльменов. О многих Сидда слышала. Некоторых, уроженцев Торнтона, даже знала. Из альбома вылетели пожелтевшие оттиски с мимеографа. Лекции курса с заманчивым названием «Как стать умной и обаятельной». Она нашла несколько изображений святых, красный ветеранский мак и вырезку из «Торнтон монитор». Той страницы, где объявления расположены по рубрикам. Благодарность святому Иуде за «дарованные милости».
При виде такого богатства воображение Сидды разыгралось вовсю. Наконец-то она смогла почувствовать жизнь, скрытую в старых сувенирах. На какой-то момент нахлынула горячая благодарность Виви, приславшей альбом. Сидда почти стыдилась этого изобилия. И сейчас ей хотелось плакать при мысли о том, каким опасностям подвергался альбом, путешествуя по всей стране в самолетах и грузовиках.
«Мама рассталась с «Божественными секретами», потому что я ее попросила».
Наверное, именно поэтому ей и хочется плакать. Не только потому, что альбом мог пропасть. «Просто мама, намеренно или нет, позволила себе стать чересчур для меня уязвимой».
Сидда вернулась к снимку беременных я-я, позирующих на берегу ручья, вгляделась в веселые лица. Женщины смеялись, и чем дольше Сидда рассматривала фотографию, тем яснее слышала голоса. Такие разные. Она изучала позы, купальники, руки, волосы, шляпы каждой женщины. И наконец закрыла глаза. Если Господь скрывает детали, может, и мы тоже следуем его примеру?
Она глубоко вдохнула, задержала на некоторое время дыхание. Глаза оставались закрытыми, но Сидда не спала.
5
Сидда вынула привезенную с собой тетрадь, намереваясь сделать заметки к постановке «Женщин», но вдруг начала писать о я-я. Рука быстро летала над страницами. Сидда не останавливалась даже чтобы исправить ошибки, проанализировать, зачем она это делает. Просто смотрела на женщин на берегу ручья, сидела за столом и писала о том, что накопилось на сердце.
«О, как смеялась мама и остальные я-я! Я слышала их от самой воды, где играла с братьями, сестрой Лулу и другими пти я-я. Мы ныряли в ручей, с шумом вырывались на поверхность и слышали их смех. Фырканье Каро звучало танцующей польку ухмылкой. Смешок Тинси отдавал привкусом байю, словно кто-то сбрызнул его соусом табаско. «Хии-хии-хии» Ниси казалось кудахтаньем. А громкий, рвущийся из разинутого рта рев откинувшей голову мамы заставлял окружающих оборачиваться всякий раз, когда она смеялась на людях.
Я-я много смеялись, когда бывали вместе. Закатывались и не могли остановиться. Хохотали до тех пор, пока по щекам не начинали ползти большие жирные слезы. Смеялись, пока одна не обвиняла остальных в том, что заставили ее уписаться. Понятия не имею, почему они так веселились. Знаю только, что их смех было приятно слышать и видеть, и мне жаль, что в моей жизни было мало поводов для радости. Я горжусь тем, что превзошла мать во многих вещах, но хихикать с подружками у нее всегда получалось лучше, чем у меня.
Именно так я-я резвились на берегу ручья в годы моего детства. Намазывались смесью детского масла и йода, которую разбалтывали в большой бутылке из-под детского масла «Джонсон энд Джонсон», густой красновато-коричневой жидкостью, почти кровянистого оттенка. Они покрывали ею лица, руки и ноги и по очереди втирали в спины.
Потом мама ложилась, подложив руки под подбородок, склонив голову набок, закрыв глаза, и глубоко вздыхала в знак того, как все чудесно и как все ей нравится. Я любила видеть мать такой спокойной. Расслабившейся.
Все это происходило в те дни, когда еще никого не волновал рак кожи. Задолго до того, как кто-то считал, что солнечные лучи вредны. Прежде, чем мы убили озон, стоявший преградой между нашей плотью и солнцем.
Мама и Каро обычно надевали полосатые цельные купальники, точные копии тех, которые носили, будучи спасателями в лагере Минни Маддерн для девочек-южанок, еще до того, как вышли замуж и нарожали детей.
Мама была прекрасной пловчихой и предпочитала австралийский кроль. Наблюдать за мамой было все равно что любоваться женщиной, изумительно танцующей вальс, да только ее партнером был не мужчина, а вода ручья. Сильная, гибкая, изящная, верткая как рыба: когда она поворачивала голову, чтобы вдохнуть, вы едва видели, как открывается маленький рот.
— Нет извинения неряшливому пловцу. Все равно что неряшливому едоку, — говорила она нам. Мать судила людей по тому, насколько хорошо они плавают и способны рассмешить ее или нет.
Спринг-Крик был не так широк, как Гарнет-Ривер, не так огромен, как Мексиканский залив, не так длинен, как некоторые озера. Всего лишь узкий коричневый ручеек, прекрасно подходивший для купания женщин с детьми. От нас всегда требовали держаться в поле зрения. На одном повороте ручей был слишком глубок. Кое-где подстерегали затонувшие бревна. Водились даже аллигаторы, готовые проглотить зазевавшихся детишек. Поджидавшие тех, кто посмел ослушаться мамочку. Вползавшие в твои сны по ночам. Они могли съесть тебя, твою мать, сбить с ног в любую минуту, когда ты меньше всего ожидал этого, а потом, не успеешь оглянуться, сжуют и глазом не моргнут!
— Даже я не сумею спасти всех вас от аллигаторов, — говаривала мама. — Так что не искушайте судьбу.
Когда мама выполняла норму: десять раз по окружности места, где они обычно купались, — даже ручей казался шире и больше, чем на самом деле. Я часто любовалась ею в такие минуты. Она называла это своим «кругосветным плаванием», а я не могла дождаться, пока мои взмахи не станут такими же энергичными, чтобы последовать ее примеру. Под конец мама возвращалась на мелководье, где желтела песочная коса. Выходила из воды, встряхивала головой и прыгала то на одной, то на другой ноге, чтобы вытрясти воду из ушей. Я поражалась ее красоте: мокрая, прохладная, с зачесанными назад, прилипшими к коже волосами, в глазах сияет гордость.
Каждый день мама и я-я брали с собой к ручью большой красный ящик со льдом. Из тех, старых, оловянных, с откидывающейся крышкой. Внутри болтались кусочки льда, отколотые от больших блоков, которые мы покупали в Спринг-Крик, в «Шоп энд скейт», местной бакалее с роллер-катком, через дорогу от ручья.
Во льду охлаждались пиво и кола. Поверх пива и колы лежали наши сандвичи с сыром и ветчиной, завернутые в вощеную бумагу. Для нас четверых с хлеба срезалась корочка, иначе мы отказывались есть.
Сандвичи были накрыты бумажными салфетками, и когда их вынимали, они, приятно охлажденные, мгновенно нагревались, и мы спешили поднести их к щекам, чтобы подольше насладиться мгновениями прохлады.
Когда мы были маленькими, мама еще пила пиво. Только когда я подросла, она решила, что в нем слишком много калорий. Но даже в те времена она часто отказывалась от пива в пользу водки с грейпфрутовым соком, которую держала в низеньком бело-голубом термосе. Поперек синела надпись: «ПОДКРЕПЛЯЮЩИЙ ВИВИ-ТОНИК».
Она описывала смесь как «коктейль и диету в одном флаконе».
Я-я всегда обыгрывали имя моей матери. Если Тинси приезжала на вечеринку, где царила скука, она обычно объявляла, что «здешнюю атмосферу необходимо вивифицировать[15]. Иногда они объявляли об осуществлении «проектов ре-вивификации», вроде того, когда мама и Ниси переделывали формы для моего отряда герл-скаутов.
В детстве я была убеждена, что мама настолько известна в мире, что в английском языке существуют слова, изобретенные специально для нее. Ребенком я часто перелистывала довольно скудный раздел словаря Уэбстера под буквой V и изучала относившиеся к маме слова. Тут было «vivid», что означало «яркий, живой, пылкий». И «vivify» — «оживлять, обновлять, животворить». И еще «vivace», «viva», «vivacious», «vivacity», «vivarium» и «viva voce»[16]. И мама была корнем и источником всех этих слов. Кроме того, к ней относилась и фраза «Vive le roi», которая, как она объясняла нам, означает «Да здравствует королева Виви».
И все эти определения так или иначе относились к самой жизни. Как и мама.
Вот только слово «вивисекция» сбивало меня с толку. «Хирургическая операция, проводимая на живом животном с целью изучения строения и функций живых органов и частей тела». Оно казалось мне совершенно выпадающим из общего ряда. От самих этих звуков мороз шел по коже. Я постоянно просила маму объяснить его, но так и не успокаивалась. И вечно пыталась найти слова, которые могли бы относиться ко мне. Перелистывала любой словарь, попадавший мне в руки. Должно же быть хоть одно слово, связанное со мной! Хотя бы «siddafy» вместо «vivify». Но ближе всего по смыслу было «sissified»[17], что совсем меня не удовлетворяло.
Только когда я была уже во втором или третьем классе, моя подружка Милен Шован заявила, что мама не имеет никакого отношения к словам в словаре. Мы даже подрались из-за этого, и сестре Генри Рут пришлось вмешаться и разнять нас. Когда монахиня подтвердила слова Милен, я была вне себя от горя. Сначала. Это изменило все мое восприятие действительности. Так начался крах безоговорочной убежденности в том, что мир вертится вокруг мамы. Но вместе с разочарованием пришло несказанное облегчение, хотя в то время я не могла себе в этом признаться.
Так много времени я была твердо уверена, что моя мать звезда, и когда обнаружилось, что это не так, потрясение оказалось слишком велико. Может, она была звездой когда-то, но с тех пор ее блеск померк? Потому что появились мы? Или мама с самого начала вовсе не была звездой?
Иногда меня начинали терзать угрызения совести, стоило только хоть в чем-то затмить маму. Даже выиграв школьный конкурс на знание орфографии, я встревожилась, опасаясь, что не смогу сверкать, не оставив в тени ее.
Тогда я не понимала, что мать жила в мире, который не мог или не хотел признать ее сияние, значение на этой земле; по крайней мере не в такой степени, как она заслуживала. Поэтому она вместе с остальными я-я сотворила собственную солнечную систему и жила на ее орбите так полно, как только могла.
Нужно заметить, мой отец по-настоящему так и не был включен в эту орбиту. Все мужья я-я существовали в иной вселенной, не в той, где сами я-я и мы, ребятишки.
В нашем летнем мирке Спринг-Крик мы плели заговоры против мужчин, издевались над ними, высмеивали, слушали наших матерей, изображавших отцов у лагерного костра. Жадно подмечали, когда именно они обходились с отцами то как с повелителями, то как с дураками, а время от времени как с любовниками. Но ни разу мы не видели, чтобы я-я отнеслись к своим мужчинам как к друзьям.
Возможно, мама больше, чем Ниси, Каро или Тинси, зависела от подруг, пытаясь от них получить то, чего не дал или не мог дать брак. Не сомневаюсь, что при всех супружеских проблемах мать любила отца… по-своему. Так же, как и отец любил ее. По-своему. Беда только в том, что их манера любить друг друга частенько меня ужасала.
Что делали я-я у ручья? Большую часть времени проводили в болтовне. Снова и снова накладывали свой состав для загара, неусыпно следили за нами. Вернее, делали это по очереди, особенно когда мы плескались, ныряли, пулей выскакивали из воды, уходили на дно, брыкались, плавали и дрались. Дежурившая в данный момент я-я почти не участвовала в беседе, поскольку следовало постоянно пересчитывать темневшие в воде головки числом всего шестнадцать. У Ниси было семеро детей, у Каро — трое, и все мальчики. У Тинси — мальчик и девочка. Плюс четверо у моей матери. Каждые полчаса дежурная я-я вставала, смотрела на воду и дула в свисток, свисавший со старого ожерелья из стеклянных бусин. При этом от нас требовалось немедленно оторваться от любых занятий и выкликнуть свой порядковый номер.
После пересчета нам снова разрешалось играть, а я-я спокойно устраивалась на одеяле. И хотя вышеуказанные леди не переставали пить, должна сказать, что ни один ребенок не утонул за все долгие летние месяцы, проведенные на ручье.
По крайней мере дважды за лето мама заставляла кого-то из нас притворяться утопающим, чтобы самой в очередной раз попрактиковаться в методах спасения на воде. Мама училась спасать утопающих задолго до нашего рождения. Каждые три года ей приходилось подтверждать сертификат в Красном Кресте, но все же она считала своей обязанностью проводить учения каждое лето. Мы умоляли, просили, визжали и дрались за честь стать очередной жертвой утопления: уж очень нравилось внимание, которое нам уделяли.
Все, что от вас требовалось, — проплыть к глубокому месту и беспомощно болтаться на воде, размахивая руками и вопя так, словно каждый вздох будет последним.
Мама, как планировалось, стояла на берегу в шортах и короткой блузке поверх купальника. И, услышав крики, поднимала руки к глазам, чтобы заслониться от солнца. Потом принималась обшаривать взглядом горизонт, словно индейская принцесса, одновременно срывая блузку, шорты и сбрасывая теннисные туфли. Разбегалась и ныряла — это был фирменный прыжок спасателя. После маминого нырка можно было немного успокоиться и наблюдать, как она плывет, быстро, уверенно, к тому месту, где ты тонешь.
Добравшись до тебя, она громко приказывала:
— Маши энергичнее, мивочка! Маши!
И ты принималась с новой силой шлепать руками по воде, брыкаться и визжать. И тут мама подводила руку под твой подбородок, откидывала твою голову себе на грудь и начинала процедуру спасения, мощно отталкиваясь ногами, чтобы оттранспортировать на поверхность себя и предполагаемую жертву.
Вытащив тебя на берег, мама припадала ухом к твоей груди. Потом обшаривала пальцами рот, дабы убедиться, что глотка ничем не забита, после чего начиналась самая драматичная часть: реанимация. Вернее, искусственное дыхание «рот в рот», Поцелуй Жизни. Или, как мы это называли, вивификация «рот в рот». Критический момент, означавший разницу между жизнью и смертью. Она зажимала тебе нос, клала одну руку на твою грудь и принималась вдыхать в тебя воздух. Дышала, нажимала ладонью на грудь и снова дышала. Наконец, удовлетворившись результатами, мама вставала и с гордой улыбкой объявляла:
— Мы почти потеряли тебя, мивочка, но теперь, думаю, все в порядке.
Иногда подобные представления до смерти пугали младших детей, не понимавших, что все это не взаправду. Поэтому у мамы вошло в привычку приглашать каждого пти я-я наклониться над спасаемым, ощутить, как воздух выходит из его ноздрей. После того как последний ребенок убеждался в действенности метода, все начинали хлопать. Мама, как всегда, подпрыгивала на одной ножке, выливая воду из ушей, и говорила:
— Хорошо, что не утратила квалификации.
Еще много дней после спасения из пучины ты перебирала в памяти все подробности с волнением и трепетом человека, заглянувшего в глаза смерти. Вспоминала, как уверенно она вытаскивала тебя из воды, вкус ее губ и запах дыхания. И еще много дней опасалась близко подплывать к глубокому месту, потому что чересчур живо представляла это «почти утопление». Мало того, начинала бояться аллигаторов, даже когда плескалась на мелководье. И постоянно гадала, что будет, если вдруг начнешь тонуть, а мамы не окажется рядом и некому будет нырнуть в воду и спасти тебя: скажем, она просто повернулась и ушла. Как в тот раз, когда ты была маленькой и сидела дома с бронхитом, а за окном лил и лил дождь. День за днем. Ты все время подбегала к окну, а ее не было. И ты была такой плохой, такой ужасной, что она дала тебе пощечину и просто ушла. Повернулась и ушла.
Но не одна мама хорошо плавала. Каро тоже была спасателем и обладала даже большей выносливостью, когда речь шла о некоторых стилях. Каро, с ее оливковой кожей и рыжевато-каштановыми волосами, уложенными в прическу «паж», выросла на берегах Мексиканского залива и могла часами держаться на воде. Купание в ручье было незначительным событием по сравнению с океанскими приключениями. Мама всегда говаривала: «Каро, вне всякого сомнения, лучшая пловчиха, которую я когда-либо знала или буду знать».
Каро достойно оттеняла мамину несгибаемость. Ростом пять футов девять дюймов, то есть гораздо выше, чем считалось модным в те времена, когда миниатюрность не только приветствовалась, но и боготворилась, длинноногая, с фигурой, идеально подходившей для костюмов Хэтти Карнеги, которые она все еще носила, хотя куплены они были много лет назад, она казалась мне единственным достойным примером для подражания. Плоская грудь и широкие плечи делали ее идеальной «вешалкой» для модной одежды, хотя из всех я-я именно она менее всего заботилась о подобных вещах. У нее было лишь одно черное вечернее платье без бретелек, с открытой спиной, открывавшее икры во время танца. Она надевала его на все вечеринки я-я, которые я помню с детства. Поверх Коро накидывала боа из перьев, за которым я и моя сестра Лулу гонялись как за живым существом. Как-то на мамин день рождения она даже нацепила ковбойские сапоги и стетсон, превратившись в нечто среднее между Марлен Дитрих и Энни Оукли[18].
Kapo — моя крестная, и мне не раз рассказывали историю о том, как в самом конце церемонии крещения она ни с того ни с сего стала насвистывать: «Загадай звезде желанье». И ко всем обращалась «дружище». «Эй, дружище, — восклицала она, — как оно ничего?» При этом людям невольно приходили на ум нью-йоркские таксисты или гангстеры тридцатых годов, но, обращаясь к человеку «дружище», Каро тем самым включала его в свой особый богемный круг.
Именно из-за нее я и причислила себя к богеме в возрасте восьми лет. Отказывалась носить что-то еще, кроме черного танцевального трико, колготок и темных очков, оставшихся после одной из родительских вечеринок с коктейлями. Да к тому же сменила имя на «мадам Войланска». На обращение же «Сидда» попросту не реагировала. Когда монахини пожаловались маме, та объяснила, что если мне угодно зваться мадам Войланской, значит, так тому и быть. Вернувшись домой из школы, я облачалась в свой траурный ансамбль и для пущего эффекта добавляла к общему облику сигарету. Связывала волосы в конский хвост и часами просиживала на табуретке перед стеклянными раздвижными дверями во внутренний дворик, рассматривая свое отражение. Нет, я даже не делала вид, что курю (подобные привычки скорее были присущи Лулу). Я пользовалась сигаретой как реквизитом, оттачивая элегантную жестикуляцию. Держала ее между большим и указательным пальцами и небрежно протыкала воздух, словно подчеркивая важность и вес собственных доводов. Эти самые доводы достаточно полно выражались в моих стихах. Одно из таких стихотворений до сих пор лежало в альбоме. Написанное детским почерком и датированное шестьдесят первым годом, то есть когда мне было восемь. Я была потрясена и тронута, увидев его. Да, ничего не скажешь, моя матушка — мастерица преподносить сюрпризы!
СВОБОДА
Мадам Войланска
Я двадцать шесть раз обошла вокруг дома! Хлопала в ладоши и пела, и пела! Но тут мои волосы встали дыбом! И я не пригладила их!Я обожала сочинять стихи и никак не могла взять в толк, почему нельзя каждую фразу заключать восклицательным знаком. Сестра Родни Мэри имела обыкновение обводить каждый противным красным кружком и писать: «Пользуйся точками, а не восклицательными знаками».
В школе я наконец заставила себя ставить не больше одного восклицательного знака на абзац, зато в стихах не знала меры. Позже, в старших классах, я обнаружила, что великолепный Уолт Уитмен любил восклицательные знаки не меньше меня. Это — а еще непрестанное удивление окружающим миром, экзальтация и самоотверженное ухаживание за умирающими солдатами — сделало его одним из моих героев.
Тогда я твердо знала, что все истинные представители богемы носят темные очки, иначе Каро не была бы ведущей (и единственной) богемной особой Торнтона. В те времена она их не снимала. Правда, и остальные я-я тоже носили темные очки, особенно с похмелья, по утрам, надевая их даже к воскресной мессе. С Каро, однако, дело обстояло немного хуже, поскольку глаза у нее начинали болеть от самого крошечного солнечного лучика. Несколько лет она не снимала очки даже в постели и в самые пасмурные дни. Жители Торнтона постепенно приходили к заключению, что с Каро что-то неладно, и советовали ей пожить подальше от города. Многие не знали, что все дело в больных глазах, и считали ее заносчивой воображалой, пытающейся подражать кинозвездам.
«Кем это, спрашивается, она себя считает?» — негодовали они. Некоторые наиболее несносные типы — взрослые, если верить Каро, — не стеснялись подходить к ней и беспардонно требовать, чтобы она сняла очки и показала людям свои глаза. Словно Каро нарушала какой-то закон, воспрещающий ношение очков!
Но для меня эти самые очки были признаком высшего класса, и я, в подражание Каро, носила их по ночам, то и дело натыкаясь на мебель и набивая синяки.
Волосы и глаза Тинси были угольно-черными. Едва достигавшая пяти футов, она имела такую же оливковую кожу, как и Каро, и крошечные, почти детские ножки. Они с мамой впервые встретились, когда ей было четыре года, в приемной доктора. Эта история стала легендой в Торнтоне, поскольку речь шла о большом пекановом орехе, который Тинси засунула в нос, дабы проверить, поместится ли. Он действительно поместился, и понадобилось все тончайшее искусство доктора Мотта, чтобы извлечь его. С тех пор орех покоился за стеклом в специальной витрине доктора, украшенной табличкой: «Инородные предметы, извлеченные у детей». Под орехом значилось: «Орех из левой ноздри Тинси Уитмен. 18 июля 1930 года».
Когда мы были маленькими, это обстоятельство снискало Тинси нечто вроде славы среди школьников.
У нее было идеальное тело, и все мы изучили его, как свои собственные. Одной из ее причуд (когда веселье было в самом разгаре, когда бурбон тек рекой, когда время казалось подходящим и когда ей взбредало в голову) было устраивать изумительно красивый, профессионально выполненный, сексуальный и ужасно забавный стриптиз. Мы все видели ее на бесчисленных вечеринках я-я и слышали рассказы о том, как она проделывала это в отеле «Теодор», во время празднования пятой годовщины свадьбы Каро и Блейна. Нас, пти я-я, приучили упоминать об этом как о дезабилье Тинси[19].
Тинси всегда носила ужасно откровенные купальники. Я-я называли ее Королевой Бикини, а ее рискованные выходки стали притчей во языцех в округе Гарнет. Лично я была твердо уверена, что она получает эти купальники почтой прямо из Парижа.
И плавала она исключительно на спине. На спине в своих возмутительных, противоречащих уставам католической религии бикини. Время от времени она принималась бешено молотить ногами, взбивая своими крошечными изящными пальчиками белую водяную пену, и по инерции проплывала несколько футов, прежде чем замереть на несколько секунд, а потом, широко раскинув руки, принималась грациозно ими двигать, словно дирижировала неким плавным легато водяной симфонии. Устав от всего этого, она переворачивалась и аккуратно ныряла, так что пальцы ног устремлялись в небо острыми наконечниками стрел. О, как же долго она умела оставаться под водой! Целую вечность! И все мы бились об заклад, споря, когда она покажется на поверхности. И когда ее хорошенькая, черная, как у тюленя, головка пробкой выскакивала из воды, дети хором ахали: «Где только Тинси держала весь этот воздух?!»
У нее всегда были деньги, которые она щедро раздавала тем из нас, кто в этом нуждался. Умирая, отец оставил ей жирный пакет акций «Кока-Колы». Чак, ее муж, тоже унаследовал неплохое состояние, так что появлялся в деловой части города только затем, чтобы выпить кофе с другими мужчинами в кафе «Ривер-стрит». Именно Тинси финансировала Лулу, когда та начала собственный бизнес, решив стать дизайнером интерьеров. И именно Тинси — заметьте, без лишних вопросов — отправила мне телеграфом десять тысяч долларов, когда я, оставшись без гроша и работы, позвонила ей в конце своего первого года в Нью-Йорке. Кроме того, Тинси предложила — правда, в тот момент она едва держалась на ногах — заплатить за всех и каждого из пти я-я, решившего обратиться к психотерапевту. Это предложение было озвучено на вечеринке по случаю окончания школы. Сразу три я-я выходили в жизнь: Жак, сын Тинси, Тернер, сын Каро, и я.
В то время никто не подумал его принять, о чем я часто жалею, поскольку денег, сэкономленных на этом, вполне хватило бы, чтобы купить небольшое государство. Единственная дочь Тинси, подруга моего детства Дженни, к тому времени получила больше помощи психотерапевтов (как амбулаторной, так и клинической), чем в силах представить себе любой нормальный человек. Собственно говоря, к тому времени, когда мы заканчивали школу, она уже во второй раз лежала в частной психушке. Но это уже другая история. Ее изящное, хрупкое безумие, граничащее с постоянным пребыванием в мире грез, напоминало об историях, которые я слышала о Женевьеве, матери Тинси. Да, ничего не скажешь, этой семье досталась своя доля скорби.
Таковы были наши судьбы. Переплетенные, перемешанные, сросшиеся. Мы родились и воспитывались в захолустном, третьеразрядном американском штате, где наши семьи считались высшим обществом, а их грехи — очаровательными и по большей части не имеющими названия. Так много историй о клане я-я…
Когда пти я-я, исключая детей Уокеров, дружными рядами явились на представление «Женщин в лунном сиянии», я на несколько часов почувствовала: мне даровано нечто вроде передышки от моего сиротского состояния. Хотя сами я-я, в угоду моей матери, не пришли на спектакль, их дети не послушались родителей. Мало того, каким-то образом ухитрились на это время вызволить Дженни из лечебницы.
Альбом для вырезок содержит не только жизни матери и я-я, но и неизбежно захватывает следующее поколение. Мы были общинным племенем, маленькой примитивной деревушкой, в которой царил матриархат. Особенно это было заметно в летние дни на Спринг-Крик, когда мужчины оставались в городе, работали всю неделю и приезжали только на уик-энды.
Ниси больше остальных я-я походила на маму. Но и у нее тоже имелись свои заморочки. Прежде всего у нее одной были длинные волосы. Именно они свидетельствовали о том, что она я-я. Жены и матери пятидесятых и начала шестидесятых просто не носили таких длинных красивых волос. Во всяком случае, не в Торнтоне. Волосы Ниси были густой, роскошной каштановой гривой, ее гордостью и славой. Летом по утрам в Спринг-Крик, когда Ниси только просыпалась, они рассыпались по ее плечам и сверкали на ярком солнышке. Мы все любовались ими, когда она сидела на крыльце и пила с нами кофе. Она позволяла мне часами играть со своими волосами, не обращая ни на что внимания. Я сидела, рассеянно прислушиваясь к женским голосам, прокатывавшимся над моей головой, и просто играла с тяжелыми, чистыми, пахнущими «бреком»[20] волосами.
Я любила поднимать ее волосы, подносить их к лицу и нюхать. И получала некое слабое удовольствие от этого простого, невинного, чувственного акта. Удовольствие, которое ушло из моей жизни по мере взросления, о чем я позже жалела.
Я любила наблюдать за я-я, выбиравшимися из ручья. С волос ручьями текла вода. Все выглядели изящными, элегантными и прекрасными, как новый, неизвестный доселе вид экзотических водяных животных. Русалки и нимфы, живущие своей тайной жизнью на дне теплой лагуны.
В такие «ручейные» дни мама никогда не волновалась насчет своих волос, очень коротко остриженных. Она называла это «шапочкой четырех ребятишек». Она была натуральной блондинкой, и без макияжа ее волосы и ресницы были того же оттенка. Много лет спустя, когда Миа Фэрроу обрезала волосы, я-я хором провозгласили, что она подражает матери.
Зато ее глаза были темно-карими, с красноватым оттенком, что сообщало лицу выражение силы, уверенности, которого без этого контраста наверняка бы не было. Светлая кожа и волосы придавали ей обманчивый вид хрупкости. Зато глаза красноречиво говорили о том, что она берется за дело всерьез и не любит шутить.
Выйдя из воды, она обычно вытирала волосы, красила губы и тянулась к белой шляпе с широкими полями, потому что, как она поучала нас, блондинки могут лежать на солнце только под очень широкими полями. Моя мама ужасно любила такие шляпы.
В те дни я знала ее тело вплоть до формы пальцев на ногах, ногти которых обычно отсвечивали ее фирменной маркой, лаком «Рич герл ред». Светлую кожу плеч и щек усеивали крохотные веснушки цвета корицы. Под ними переливалась молочная белизна. Иногда, при определенном освещении, сквозь кожу просвечивали тонкие лиловые и голубые вены, и это обычно ужасало меня.
И ходила она как заправская теннисистка, какой на самом деле и была. Ноги прекрасно выглядели в шортах, которые она ничтоже сумняшеся носила даже там, где это не слишком приветствовалось. Итак, летом она носила шорты, безупречно чистую рубашку из полотна или ситца, аккуратно в них заправленную, белые спортивные носки, белые кеды с круглыми мысками, называя все это своей летней формой. Во всем белом, как теннисистка.
В маленьком женском теле каким-то образом умещалась великанша. В ней было всего пять футов четыре дюйма, и она никогда не весила более ста пятнадцати фунтов — если, разумеется, не была беременна. Мать по праву гордилась своим весом и из кожи вон лезла, чтобы его поддерживать. Зато руки и ноги, казалось, принадлежали более высокой женщине. Не то чтобы они были слишком длинны для ее тела, просто со стороны наблюдалась некая излишняя гибкость, гибкость, под которой скрывалась собранность. Похоже, огонь, горевший в теле моей матери, был чересчур горяч и для ее светлой кожи.
«Я сейчас выпрыгну из кожи», — говаривала она. И в детстве я все время боялась, что именно так и произойдет.
Она совсем не походила на матерей из книжек и фильмов. Если не считать на удивление пышных для ее тонкой талии грудей, она не имела обычных женских округлостей и была скорее мускулистой и жилистой. Любая унция жира, пытавшаяся с возрастом осесть на ней, немедленно изгонялась диетой или физическими упражнениями. Как-то Ниси осторожно спросила ее: «Виви, почему ты стремишься оставаться такой худой? Нам уже не восемнадцать». «Когда я решу откинуть копыта, хочу уйти с легким багажом», — немедленно ответила мать, словно ждала вопроса.
Закрывая глаза, я вижу перед собой мать точно такой же, как много лет назад, в моем детстве. Слышу все богатые, бархатистые оттенки ее голоса. В нем нотки Скарлетт — Кэтрин Хепберн — Талулы[21].
Зато я ничего не знаю о ее теперешнем теле. Обнаженном теле. Доходили слухи, что она «немного пополнела», но доказательств у меня нет. Более двадцати лет я не видела мать без одежды. И неизвестно, узнаю ли ее, не видя лица и не слыша голоса, и от этого становится грустно.
Думая о Виви моего детства, я чувствую себя подавленной и ошеломленной. Она родила четверых… пятерых, если считать моего умершего брата-близнеца. Родила за три года девять месяцев. Это означает, что с самой свадьбы у ее тела не было ни единого шанса отдохнуть и успокоиться от безумных гормональных танго беременностей. Это означает, что четыре-пять лет подряд она была лишена нормального сна. Одному лишь Богу известно, как мама любит поспать (почти так же, как я). Она частенько признавалась, что способна ощущать сон на вкус и он такой же восхитительный, как варенье на свежем французском батоне.
Даже в детстве вы понимали, что она не из тех женщин, которым предназначено иметь четверых детей-погодков. Даже стоя рядом с ней, вы понимали, что просите слишком многого, когда дергали ее за шорты, умоляли и настаивали: «Взгляни на меня, мама! Смотри, как я делаю это, мама. Ну обернись же!»
Но этими летними днями моя мать казалась богиней, резвившейся с подругами на берегу ручья. Иногда я поклонялась ей. Иногда из кожи вон лезла, чтобы добиться того внимания, которое она уделяла я-я. Иногда ревновала так, что желала смерти Каро, Ниси и Тинси. Иногда сидевшие на одеялах мама и ее приятельницы казались мне столпами, подпиравшими небеса.
Здесь, в охотничьем домике, в двух с половиной тысячах миль от Луизианы и десятках лет от моего детства, если закрыть глаза и сосредоточиться, я ощущаю запах матери и остальных я-я, словно мое собственное тело сохранило ароматы я-я, кипящие на черной чугунной жаровне, и в самые неожиданные моменты они поднимаются и смешиваются с благоуханием моей нынешней жизни, составляя новые-старые духи. Мягкий запах старого выношенного ситца из бельевого чулана, въедливый запах табака, идущий от свитера из ангорки; запахи лосьона для рук, жареных зеленых перцев и лука; сладкий ореховый запах арахисового масла и бананов, дубовый запах дорогого бурбона, смесь ландыша, кедра, ванили и доносящийся откуда-то запах сушеных роз. Старые, привычные, знакомые ароматы… Конечно, у мамы, Тинси, Ниси и Каро были свои духи. Разные. Но это гамбо[22] их духов. Гамбо я-я. Мой собственный пузырек с духами, который я буду вечно носить в душе.
Все их духи были в одной тональности. И сами они гармонировали одна с другой.
Разумеется, поэтому им было легче забывать и прощать. Не выстраивать денно и нощно отношения, как это делаем сейчас мы. У меня такого никогда не получалось. Мне трудно даже представить такое количество подруг. И все же я своими глазами видела эту дружбу. Обоняла ее.
Духи матери были созданы Клодом Хове, парфюмером французского квартала, когда ей исполнилось шестнадцать. Подарок Женевьевы Уитмен. Ненавязчиво шокирующий и глубоко трогающий аромат. Из тех, которые тревожат и восхищают меня. Спелые груши, лаванда, чуть-чуть фиалки и что-то еще: пряное, горьковатое, экзотичное.
Однажды я уловила его на улице Гринич-Виллиджа, остановилась как вкопанная и огляделась. Откуда он доносится? Из магазина? От дерева? Прохожего?
Я так и не смогла угадать. Знаю только, что сразу захотелось плакать.
Я стояла на тротуаре, окруженная спешившими куда-то людьми, и вдруг почувствовала себя ужасно молодой и ранимой. Я живу в океане запахов, и океан — моя мать».
6
Закончив делать записи, Сидда вдруг захотела спать. Покорно опустила голову на стол и задремала. С коленей соскользнул альбом Виви. Крошечный ключик вылетел из складок старых страниц и упал на пол, к ее ногам.
Это первое, что увидела Сидда, проснувшись. Маленький, потемневший от времени, свисавший с цепочки, размером примерно с пекановый орех. Что он открывал? Шкатулку с драгоценностями? Небольшой саквояж? Дневник?
Сидда прошла к раздвигающимся стеклянным дверям и выпустила Хьюэлин. Наступил рассвет, но озеро было окутано туманом, таким густым, что не было видно противоположного берега.
Она вышла на веранду и долго стояла, глядя в туман. Ключ по-прежнему лежал в ее ладони. Похоже, когда-то на нем были выгравированы мелкие буковки, стершиеся от времени. Позвав Хьюэлин, она подула на замерзшие руки и сделала странную, ребяческую вещь: понюхала и лизнула ключик. На губах остался металлический вкус, заставивший ее вздрогнуть и почувствовать нэнсидруподобное[23] волнение.
Остаток дня Сидда гуляла, ела и спала. Она и не представляла, что устала так сильно. Наконец, часа в четыре, пришлось отправиться в «Куино-Мекентайл», маленький универмаг, обслуживающий всю округу. Там же имелся телефон-автомат.
Украдкой перекрестившись, она набрала номер родителей.
Когда в Пекан-Гроув зазвонил радиотелефон, в штате Луизиана был самый разгар часа коктейлей. Виви Уокер сидела в складном кресле на краю огорода Шепа, наблюдая, как муж собирает овощи на ужин.
— Алло, — бросила она.
— Мама, это Сидда.
Виви глотнула бурбона с простой водой и немедленно ощутила укол совести за столь поспешное нарушение обета трезвости. Набрав в грудь воздуха, она едко осведомилась:
— Сиддали Уокер? Так часто цитируемая «Нью-Йорк таймс» Сиддали Уокер?!
Сидда поежилась.
— Да, мэм, та самая. Я позвонила, чтобы поблагодарить тебя, мать.
— С каких пор ты называешь меня «мать»?
Шеп поднял голову от грядки с зелеными перцами, а когда Виви одними губами прошептала «Сидда», кивнул и отошел к бобовым подпоркам, подальше от жены. Именно ему приходилось гасить истерику Виви после статьи в «Таймс». Виви перепугала его настолько, что он поспешил повезти ее на остров Хилтон-Хед, где располагался модный курорт. Все лучше, чем путешествие по докторскому предписанию, чем, вероятно, все и кончилось бы, не предприми Шеп экстренных мер.
Беда в том, что Шеп Уокер никогда не мог понять жену. Для него она была как чужая страна, для посещения которой необходим заграничный паспорт. Он давно не пытался узнать, что движет ее поступками. Жить с ней было труднее, чем выращивать и собирать урожай хлопка, а одному Господу известно, сколько для этого нужно приложить сил. Но даже после сорока двух лет совместной жизни она обладала способностью удивлять его, заставлять смеяться, что умели немногие. И даже сидя в пикапе во время объезда полей, она по-прежнему действительно слушала его трепотню о рисе, хлопке, ловле крабов или сборе соевых бобов. И когда время от времени Виви поворачивалась к нему, как умела одна она, откидывая голову, чтобы задать вопрос, Шеп снова чувствовал себя юным. В молодости между ними существовало мощное сексуальное притяжение. Притяжение, ослабевшее с годами… не столько от времени, сколько от бесплодных усилий выносить общество друг друга и даже умудряться выживать при этом.
— Никогда не доверяла женщинам, называющим своих мам матерями, — объявила Виви в телефон.
— Прости. Только хотела сказать тебе, что я… э… мама, я потрясена и ошеломлена тем, что ты прислала мне альбом. Невероятно великодушно с твоей стороны.
— Самое малое, что я могла сделать для драматического театра, — произнесла Виви. — Но не мешает помнить, что Клер Бут Люс была гораздо, гораздо старше я-я. И я-я любят друг друга в отличие от тех злобных кошек, которых вывела Люс в своей пьесе.
— Я вправду тронута тем, что ты решилась расстаться с «Божественными секретами», мама.
— Думаю, после всех твоих усилий окончательно уничтожить мою репутацию это действительно весьма великодушно с моей стороны.
— Не весьма, мама. Крайне.
Последовала короткая пауза: очевидно, Виви ждала очередных извинений.
— Еще раз прости, мама. Я не хотела тебя обидеть.
— А я не желаю это обсуждать, — бросила Виви. — Так что насчет свадьбы?
— Я не желаю это обсуждать.
— Все доводят меня до белого каления своими вопросами. Пойми, я годами рассылала бесчисленное количество свадебных подарков твоим одноклассницам. Некоторым по три раза. Люди стремятся узнать, куда посылать подарки.
— Твой альбом — единственный подарок, в котором я сейчас нуждаюсь.
— Я всегда мечтала воспользоваться им, когда буду писать мемуары, — вздохнула Виви. — Но у кого сейчас есть время на мемуары? Я все еще переживаю волнующие события своей жизни.
— Было бы замечательно, если бы ты все-таки написала о прошлом, мама. Я сгораю от любопытства… то есть твой альбом — вещь бесценная, но я столького еще не знаю! Так много историй остались нерассказанными. Я, например, нашла ключик. Он выпал из альбома, и я умираю от любопытства. Что он отпирал? Висит на крошечной цепочке.
— Ах вот как? — заметила Виви.
— Ты не помнишь, к чему он подходит?
— Да к чему угодно.
— Мать, ты не представляешь, как помогла бы мне, просто описав свою жизнь. Что влияло на тебя, каким образом возникла длившаяся столько лет твоя дружба с Каро, Тинси и Ниси. Что ты чувствовала, какие хранила секреты, о чем мечтала. Словом, описала все то, что не лежит на поверхности.
— Я уже просила не называть меня матерью. Ну и манеры у вас на Севере! И кстати, по-моему, я просила тебя не звонить мне, точка. Я вовсе не обязана сочинять для тебя эссе, тем более что ты, кажется, считаешь своей обязанностью распространять обо мне лживые сплетни по всему свободному миру.
— Господи, мама, говорю же: репортеры мне не подчиняются! Пожалуйста, давай не будем ссориться.
Виви сделала очередной глоток.
В двух тысячах миль от Сидды ледяные кубики позвякивали в стакане. Если кто-то вздумает снимать фильм о ее детстве, этот звук вполне может заменить саундтрек.
Она взглянула на часы. Как это она не догадалась, что в Луизиане сейчас час коктейлей?
— Забудь об этом, мать.
— Нет, — фыркнула Виви, — это ты забудь! Хочешь расковыривать старые раны, копайся у себя в душе. Меня не трогай. Я послала тебе свои «Божественные секреты», черт возьми, так что тебе нужно еще — крови?
— Прости, мама, я не хотела показаться неблагодарной, но…
— Помнишь, как в детстве ты боялась слова «вивисекция»? Прибежала ко мне в слезах, обнаружив его в словаре. Ну так вот, Сидда: я тебе не чертова лягушка. Меня не разрежешь, чтобы узнать, что внутри. Это жизнь, Сидда. Ее ты не расчленишь. Не сможешь просто прыгнуть на спину чудовищу и пуститься вскачь.
— Я сохраню альбом и верну тебе, как ты просила, — пообещала Сидда.
— Он мне нужен до моего дня рождения. Понятно?
— Да, мэм.
— И сделай одолжение — нечего звонить мне и при этом вести себя, словно проводишь опрос для дурацкого ток-шоу «Это ваша жизнь». Я не нуждаюсь в того рода известности, что ты с такой готовностью мне предлагаешь.
К вечеру, пробежав пять миль по длинной ровной дороге, ведущей в долину Куино, Сидда устроилась на веранде и стала смотреть в небо. День выдался хмурым, так что ни одной звезды не видно. Она пригубила «Мимозу». И нехотя откусила от сандвича с сыром, гадая, что сейчас делает Коннор. Ее тело томилось по нему. На ум невольно пришел тот момент в его маленьком кабинете в Сиэтлском оперном, когда она стояла у рабочего стола, проглядывая рисунки, а он неожиданно потянулся к поясу ее слаксов. Как он улыбался, гладя ее, и как она стонала. О, какими чудесными были те рисунки… Она скучала по нему. Хотела его. И ненавидела то, что каждый раз при мысли о нем она промокала, а в груди становилось тесно.
Сидда повернулась и заглянула в дом.
На столе лежал альбом Виви.
Сидда шагнула ближе и, словно ребенок, прижалась лицом к стеклу, салютуя альбому стаканом. Он, словно магнит, тянул ее в комнату.
Наклонившись над альбомом, она открыла одну из первых страниц. Там лежала картонная табличка с номером 39. Рядом оказался листок бумаги, на котором детской рукой было старательно выведено нечто вроде заголовка газетной статьи:
САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ОТ ВИВИ
ВЫПУСК № 1
8 ДЕКАБРЯ 1934 ГОДА, СУББОТА
ДЕВОЧКИ РАЗОБЛАЧЕНЫ И ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ АВТОР ВИВИАН ЭББОТ, 8 ЛЕТ.
Сидда улыбнулась и перевернула страницу. Пусто. Ничего. Никакой истории. Только заголовок. Она просмотрела еще несколько страниц, но «Важные новости Виви» так и остались тайной. Зато известно, кто эти девочки. Тридцать четвертый. Разгар Великой депрессии. Хьюи Лонг был тогда губернатором… или диктатором Луизианы. В зависимости от точки зрения и округа, в котором ты тогда состоял. Она знала, что в тот год состоялась премьера «Бесконечных дней» Юджина О’Нила, а Пиранделло получил Нобелевскую премию в области литературы. Но понятия не имела, за что дисквалифицировали мать и кто именно.
Покачивая головой, Сидда рассеянно погладила Хьюэлин. Ах если бы только альбом мог говорить! Наша Владычица Херувимских Пересудов, если бы только альбом мог говорить!
7
Виви Эббот Уокер знала, что пить нехорошо, что она не должна пить. А заодно и курить. Именно поэтому, убрав со стола посуду и остатки ужина и пожелав Шепу доброй ночи, она с некоторым душевным трепетом вышла в заднее патио с бокалом «Курвуазье» и сигаретой. Уселась за железный садовый столик, где заранее приготовила гадальную доску[24], зажгла свечи в серебряном канделябре, одном из многих свадебных подарков Женевьевы, матери Тинси, и впала в недолгий транс.
Вопросов она не задавала. Просто сидела в свете свечей, рядом с планшеткой, слушая хор цикад и теша себя мыслью о том, что стала чем-то вроде медиума.
Одна рука легонько коснулась указателя, и Виви улыбнулась, когда стрелка скользнула по планшетке, приостанавливаясь на цифрах 1, 9, 3, 4.
«Ах да, — подумала Виви, — моя первая встреча с Голливудом».
ВИВИ, 1934
Вам придется иметь точно пятьдесят шесть буколек, если надеетесь выиграть конкурс двойников Ширли Темпл. Я и мои лучшие подружки Каро, Тинси и Ниси провели все утро в салоне красоты, добиваясь идеальных причесок.
В салон красоты мисс Беверли набилось столько народу, что можно подумать, мы вдруг оказались в Нью-Йорке. Женевьева, мама Тинси, привела нас туда, чтобы, как она выразилась, освободить наши лохмы от папильоток. Это она помогла нам сделать прически и подготовить костюмы к конкурсу. Вчера утром навертела нам волосы на папильотки и велела так ходить весь день и всю ночь.
Только Каро сорвала папильотки во сне, и когда мы пришли в салон красоты, каждая ее прядка была прямее карандаша.
— От этих папильоток голова ужасно чесалась, а глаза стали узкими, как у китайца, так что я стащила их и выбросила в мусорную корзину, — призналась она.
Уж я-то понимаю, о чем она. У меня до сих пор дергаются веки, а виски до того зудят, что, наверное, это никогда не кончится.
— Я надену пилотскую кепку Лоуэлла, — объявила Каро и, вытащив кепку брата, напялила на голову и спрятала под нее волосы.
— Прекрасная идея! — воскликнула Женевьева. — Très originale![25]
Женевьева всегда высказывается подобным образом потому, что выросла на байю[26] близ Марксвилла. И теперь заставляет всех, даже детей, звать ее по имени. Когда мы собираемся вместе, она всегда говорит: «Гамбо я-я!» И это означает, что все мы трещим одновременно, что, конечно, чистая правда.
Женевьевы ни за что бы здесь не было, не выйди она за мистера Уитмена, владельца Сберегательно-кредитного банка. Они встретились в Новом Орлеане, куда ее послал богатый друг отца. То есть послал не просто в Новый Орлеан, а в пансион к монахиням, чтобы те научили ее, как стать настоящей леди. О, слава тебе, Господи, за то, что привел ее в Торнтон! Мы все ее обожаем! У нее черные как смоль волосы, такие же темные глаза и гладкая кожа, и еще она знает все танцы на свете! Кроме кейджанского[27] тустепа, она научила нас джиттербагу, «славе Аллаху» и «лягни мула». Женевьева самая веселая из взрослых… если не считать тех дней, когда она ложится в постель с attaque de nerfes[28] и вынуждена находиться в комнате со спущенными шторами. Когда я вырасту, хочу быть такой, как Женевьева.
Пришлось считать каждую буклю, когда мисс Беверли сняла папильотки и стала навивать пряди на палец. Не хотелось, чтобы она сбилась со счета и навертела мне тридцать восемь буклей вместо пятидесяти шести. И тут вдруг появляется Джек, брат Тинси. Идет прямо в салон, куда мальчики никогда не заглядывают.
— Привет! — кричит он. — Принес вам пончиков. Только что из печи кондитерской мистера Кэмпо! Виви, а тебе притащил шоколад, как ты любишь.
Этот Джек такой милый. Не то чтобы слабак или маменькин сыночек, просто милый. Лучший подающий городской бейсбольной команды. До того здорово играет, что его прозвали Ти-Бебе[29], сокращенное от Малыш Бебе, потому что он бьет не хуже Бебе Рут[30]. А еще Джек играет на кейджанской скрипке, только его па не позволяет ему играть дома. Мистер Уитмен даже не разрешает звать его настоящим именем Жак. Мистер Уитмен запрещает Женевьеве говорить на акадийском французском в его присутствии. Постоянно твердит: «Говори по-английски, Женевьева. Ради Бога, говори на нормальном английском!»
— Все вы куда красивее Ширли Тампл, — объявил Джек. — Рядом с вами она смотрится маленьким жалким скунсом. Даю слово, вы сотрете имя старой Ширли со всех афиш.
Первой о конкурсе двойников услышала Каро, потому что ее отец — владелец «Боба», одного из двух городских кинотеатров. Мистер Боб также хозяин «Бобов» в Ройалтоне и Рейвилле, тех, что вниз по дороге. Но самый его большой и шикарный кинотеатр «Роберт» находится в Новом Орлеане.
Месяц назад было официально объявлено, что «Боб» будет спонсировать конкурс, для чего из самого Голливуда прибудет представитель Ширли Темпл. Победительницу посадят на поезд до Нового Орлеана, где она будет представлять наш город на конкурсе двойников штата. Ее поселят в отеле «Понтчартрейн» и все это время будут обращаться как с принцессой. Девочки слетались прямо-таки стаями. Попытались записаться даже несколько цветных малышек, но по правилам в конкурсе могли участвовать только белые. Вступительный взнос равнялся десяти центам, однако мистер Боб позволил кое-кому записаться бесплатно. Некоторые платили яйцами или картофелем. Все восемь ребятишек Наджентов как-то прошли на субботний утренний показ в клуб «Бетти Буп», притащив в качестве платы бушель зеленых бобов.
Женевьева заказала наши костюмы Сесиль, своей портнихе. У меня было самое чудесное на свете платье — в голубую с белым клеточку, с маленьким красным галстучком. Поверх накинуто голубое пальтишко в тон, а на голове черная кепка. Именно в таком костюме была Ширли, когда пела «Прекрасный корабль “Леденец”». Вчера вечером я показалась в нем отцу, и, увидев меня, он сказал:
— Подойди и обними своего старенького папу!
Обычно он не любит всякие нежности, особенно когда приходит домой, поэтому я ужасно удивилась. Но все равно подошла, обхватила руками его шею, и он дал мне двухдолларовую бумажку.
А вот костюм Каро такой шикарный! На ней маленькая коричневая кожаная курточка, взятая у брата, широкие саржевые брюки и пилотская кепка, совсем как в «Ясных глазах», когда Ширли встречала самолет Лупа. О, Каро такая красивая! Все мои подруги — настоящие красавицы! На Ниси ярко-желтое пальто, а на голове косо сидит шотландский берет. А вот Тинси надела розовую балетную пачку, совсем как Ширли на свой день рождения в том фильме.
Втайне думаю, что я больше всех похожа на Ширли Темпл. В конце концов, только у меня одной светлые волосы. Но я не посмею сказать это вслух.
Когда Женевьева привела нас в театр, пришлось назвать в дверях свои имена, и какая-то леди тут же дала нам картонки, которые велела повесить на шею. На картонках написаны наши номера. Мой тридцать девятый, у Каро — сороковой, у Тинси — сорок первый, а вот с Ниси произошла какая-то путаница, потому что у нее шестьдесят первый номер. Ненавижу эту картонку! Она закрывает все пуговицы на моем коротком голубом пальтишке!
Судья на конкурсе двойников всю жизнь проводит в поездах, разъезжая по всей стране и объявляя, кто больше всего похож на Ширли Темпл, а кто — нет. Его зовут мистер Лэнс Лейси, но Каро для удобства именует его просто «мистер Голливуд». Он прибыл вчера, и Каро с матерью и отцом встречали его на вокзале. Привезли его к себе домой, где он переоделся в светло-голубую рубашку и широкие свободные штаны, которые, по мнению Каро, очень походили на пижамные. За ужином он ответил на три междугородних звонка. Нам за целый месяц столько не звонили из других городов! И все: Каро с родителями и братьями Лоуэллом и Бобби — молча ждали, пока он поговорит, чтобы хоть поесть по-человечески! А утром, еще до завтрака, ему снова позвонили!
Я всегда мечтала попасть на сцену «Боба», и вот мечты сбылись! О, мне суждено стать звездой! Стоять в свете рампы перед восхищенной публикой! Огни, огни, огни! Лучше, чем Рождество! В зрительном зале трудно кого-то разглядеть, но я могу точно сказать, где сидит мой братец Пит, потому что это он только сейчас заорал:
— Привет, Вонючка!
Мне хочется выступить из шеренги остальных кудрявых малышек и пуститься в пляс! Заставить всех смотреть на меня, только на меня! Но приходится стоять на месте. Все, что разрешается, — торчать на сцене и стараться выглядеть как Ширли Темпл. Ненавижу, ненавижу! А ведь у меня столько других талантов! Я могу петь, танцевать, произносить по буквам слово «престидижитация»[31], декламировать «Старый моряк», свистеть и изображать сочиненные мной же истории. Эти простаки не знают, что теряют!
Бархатный голос мистера Голливуда течет из микрофона.
— Ширли Темпл олицетворяет все лучшее в Америке, — говорит он. — Ее невинность и улыбка — словно лучик солнца, сияющий во всех сорока восьми штатах. И когда настали плохие времена и простые люди не имели десятицентовика на чашку кофе, ямочки на щеках Ширли были способны вселить надежды даже в самую несчастную жертву Депрессии. Маленькая мисс Солнышко сумела найти местечко в сердцах миллионов, оставив на нашей земле свой неповторимый след милого и доброго создания.
Оглянувшись, он показывает на нас:
— Для меня огромное удовольствие оказаться в вашем прекрасном городе и увидеть так много очаровательных маленьких девочек. Моя работа — определить, кто из этих прекрасных леди больше всего напоминает Ширли Темпл. Какая из них настолько прелестна, чтобы согреть души нашей великой нации точно так, как это дано Американской Душечке.
О, если бы они только позволили мне показать, что такое настоящий талант, я могла бы согреть души этой нации! Рассказала бы историю о девушке-аллигаторе с человеческой головой и плечами и телом аллигатора. Что-то вроде русалки, но злобной и хищной. О, я лучшая в мире рассказчица всяких страшных сказок!
Если бы мне дали возможность выложить все, что знаю, я бы выиграла не только этот, но и новоорлеанский конкурс! Получила бы в свое распоряжение личный вагон с ванной и бархатными занавесями и пригласила бы Каро, Ниси и Тинси поехать со мной в турне по Америке. Побывали бы в Вашингтоне, на приеме у президента и миссис Рузвельт, которая умоляла бы меня попробовать сандвичи с томатами и обрезанной корочкой. Я сообщила бы им, что Великая депрессия продолжается слишком долго, и изложила бы парочку идей, как помочь беднякам в «трейлерном раю» Олли Тротта. Тем, кто потерял свои настоящие дома. О, я махала бы собравшимся толпам, и все в два счета забыли бы о существовании Ширли Темпл!
Мистер Голливуд снова поворачивается к нам и подносит руку ко рту, стараясь растянуть губы. Порезался? Нет, пытается заставить нас улыбаться шире. И тут же дает знак пианисту, который начинает играть «Прекрасный корабль “Леденец”». Потом обходит шеренгу, останавливается рядом с девочкой в пушистой белой шубке, приказывает ей повертеться и что-то записывает в блокнот. И при этом не говорит ни слова. Только осматривает нас, словно выбирает лошадь, чтобы купить.
— У меня уже губы ноют от всех этих улыбок, — шепчу я Тинси. И тут — клянусь, понятия не имею, что на нее нашло, — она подвигается ближе и наступает мне на ногу. Ничего не остается, кроме как ответить тем же, да еще и немного притопнуть.
— О-ой! — вопит Тинси.
До чего же она любит подобные штучки! Можно сказать, только этим и живет. Она мгновенно поворачивается к соседке и показывает язык. И что бы вы думали? Эта маленькая кривляка заливается слезами!
— Соплячка! Неженка! Маленькая слабачка! — шипит Тинси. И вдруг ни с того ни с сего пукает! Да так громко! В жизни ничего подобного не слышала! Да и вы бы никогда не подумали, что такой страшный пук издала совсем маленькая девочка! Посмотрели бы вы на ее лицо! Она потрясенно моргает. Оглядывается, словно сама себе не верит. Совсем как наш пес, когда пукает и сам же пугается.
И все остальные девочки тоже это услышали и потихоньку отступили от нас. Словно пук Тинси живой и может сбить их с ног и запачкать. А вот мы с Тинси начинаем хохотать и никак не можем остановиться. Если знаете что-то забавнее, чем пуканье, можете рассказать мне об этом, я тоже посмеюсь.
Должно быть, мистер Голливуд не услышал позорного звука. Он все еще торчит на другом конце сцены, изучая девочек. Но, уловив смех, строго смотрит на нас, и я вижу, как шевелятся его губы.
— Замолчите.
Тут мы, естественно, заливаемся в две глотки, а Каро и Ниси тоже лопаются от смеха.
— Ш-ш-ш, — сигналит нам мистер Голливуд, прижимая палец ко рту, прежде чем этим же пальцем растянуть уголки губ в широкой улыбке. Это оказывается последней каплей. Вид улыбающегося мистера Голливуда вызывает настоящую истерику — из тех, что заставляет наших матерей выпроваживать нас за дверь.
И тут мистер Голливуд неожиданно поворачивается на своих модных каблуках и направляется в нашу сторону. Правда, к этому моменту нас уже не остановить. Мы не можем успокоиться, даже если бы и хотели.
Мистер Голливуд останавливается прямо перед нами.
— Немедленно прекратите! — приказывает он. Глаза вылезают из орбит, рот широко распахнут, и мы видим, что у него не один, а целых три гнилых коричневых зуба! Передние сверкают белизной, а те, что в глубине, успели сгнить! И тут мы буквально визжим от смеха!
Видя, что мы не собираемся заткнуться, он швыряет свой блокнот на пол, угрожающе придвигается к нам, и на какое-то мгновение мне кажется, что сейчас он кого-то ударит. Но похоже, он передумал, потому что сигналит пианисту играть потише. Потом Старые Гнилые Зубы хватает микрофон и объявляет:
— Некоторые из так называемых Ширли, похоже, уж очень развеселились. Номера тридцать девять, сорок, сорок один и шестьдесят один, не будете ли так добры подойти к микрофону?
Едва мы выступаем вперед, Пит снова орет:
— Это Вонючка!
Я посылаю публике воздушный поцелуй.
Мистер Голливуд — Гнилые Зубы смотрит на нас и улыбается широкой фальшивой улыбкой:
— Девочки, если знаете что-то забавное, может, поделитесь с остальными?
Мы четверо переглядываемся. Потом Каро смело шагает к микрофону и снимает свою пилотскую кепку. Ее волосы висят соломой.
— Вы действительно хотите знать? — спрашивает она в микрофон.
Мистер Голливуд наклоняется поближе:
— Да, номер сорок, очень.
— Тогда ладно, — кивает Каро, глядя прямо в зал. Открывает рот и говорит громко и четко: — Тинси пукнула!
И что тут начинается! Весь театр прямо ползет по швам! Смех, крики, свист! А шайка под предводительством моего братца, что сидит впереди, принимается издавать звуки пука — кто ртом, кто ладонями. Скоро к ним присоединяются другие, пока все в этом большом помещении не превращаются в пердунов! Те же, кто не пукает, дружно орут:
— Вау! Тинси! Вау!!!
Остальные конкурсантки сбились стайкой в углу сцены. Я уже задыхаюсь от смеха.
Мистер Голливуд трясет блокнотом перед носом Каро и гремит в микрофон:
— Как вас зовут, малышки? Номера тридцать девять, сорок, сорок один и шестьдесят один, немедленно назовите свои имена!!!
Мы молча таращимся на него. До чего же уморительно, когда взрослые так бесятся!
— Я сказал, назовите ваши имена!
Я все еще умираю от желания что-то сказать в микрофон, поэтому, набрав в грудь воздуха, ослепительно улыбаюсь публике:
— Меня зовут Пуки Пуквелл!
И тут зрители разражаются аплодисментами! Это они мне! Волны аплодисментов достигают сцены и разбиваются о мои новые туфли! Я знаю, знаю, меня ждал бы оглушительный успех… стоило получить хоть крошечный шанс!
Старый мистер Голлигниль отталкивает меня и вцепляется в микрофон:
— Все четверо дисквалифицированы! Слышали? Дисквалифицированы!
Его рука трясется так сильно, что едва удерживает блокнот. Губы поджаты, а сосуды на лице вот-вот лопнут! И все из-за меня!
Публика окончательно сходит с ума. По всему залу летает поп-корн. На сцену шлепается пачка желейных конфет, а мальчишки оглушительно скандируют:
— Вперед, Пуки!
По проходам бегут капельдинеры, пытаясь остановить детей, швыряющих в воздух стаканчики из-под кока-колы.
— Мы хотим Пуки! Хотим Пуки! — пронзительно визжат ребятишки, взбираясь на сиденья и спрыгивая на пол. Потрясающе!
Остальные девчонки рыдают и зовут матерей. Кое-кто из мамаш спешит к сцене.
— Стыдитесь! — шипят они.
Но мне совсем не стыдно. Целый театр стоит на ушах, и все из-за меня!
— Занавес! — говорит мистер Голливуд в микрофон.
Рядом оказывается мистер Боб.
— Ну ладно, мальчики и девочки, повеселились, а теперь успокойтесь! У меня для вас сюрприз! Кто хочет посмотреть новую серию «Флеша Гордона», которая должна была идти только на будущей неделе? Если через пять минут все будет тихо, после конкурса я покажу вам «Флеш Гордон и планета Монго».
Он делает знак пианисту, который начинает играть что-то тихое и успокаивающее. Поп-корн больше не летает, и дети усаживаются в кресла. В здешних местах стоит упомянуть о «планете Монго», как люди затыкаются и внимательно слушают.
— Мамаши, — продолжает мистер Боб, — не будете ли так добры подойти и забрать своих дочерей? А девочки, чьи матери отсутствуют, пройдите, пожалуйста, со мной в гардеробную. Все в порядке, все в полном порядке.
Тинси, Каро, Ниси и я поворачиваемся и бредем за кулисы, но Тинси, не выдержав, мчится обратно, поворачивается, выпячивает свой маленький задик и принимается яростно им вилять.
Тут мистер Лэнс Гнилой Зуб Лейси рвется к Тинси и дергает за руку с такой силой, что едва ее не отрывает. Не успеваем мы опомниться, как он перекидывает Тинси через колено и замахивается, готовясь как следует ее отшлепать!
Но тут вмешивается мистер Боб:
— Сынок, думаю, тебе следует держать себя в руках. Это не твой ребенок.
— Плевать мне, чей это ребенок, черт бы его побрал! — взрывается мистер Гнилые Зубы. — Она сорвала официальный конкурс двойников Ширли Темпл! Такого со мной еще не бывало!
Даже голос старины Голливуда изменился! В нем уже нет бархатистых ноток кинозвезды. Он вдруг стал походить на одного из тех парней, которые приезжают в город с бродячим цирком и небрежно сплевывают себе под ноги.
— Может, это и так, сынок, — говорит мистер Боб, — но ты все же не имеешь права бить одну из наших дочерей. Это право ее отца. Вот он может задать ей порку, если пожелает.
Мистер Голливуд поправляет аскотский галстук[32] и вытягивает из рукавов манжеты сорочки.
— Что ж, я рад, что именно вы владеете занюханным кинотеатром в этом занюханном городишке с его бандой занюханных малолетних ведьм. Я уезжаю следующим поездом.
И он поворачивается к выходу, но не раньше, чем слышит слова мистера Боба:
— Будь уверен, сынок, я немедленно позвоню твоим приятелям из Голливуда и предупрежу, чтобы встречали. А когда меня спросят, кто выиграл конкурс, просто объясню, что наши девочки слишком красивы, чтобы выбрать какую-то одну.
За кулисами уже стоит Женевьева с нашими пальто в руках, и ой до чего же она злющая!
— Отвратительно, Тинси, — качает она головой. — На этот раз ты зашла слишком далеко! Какой позор! Крутить задницей перед всем городом!
Женевьева резко толкает заднюю дверь, и мы вываливаемся на свежий прохладный воздух. Джек уже встречает нас: дует на пальцы, притопывает и смеется.
— Привет, Пуки! Пуки округа Гарнет — лучшие в мире Пуки!
— Все мы купели Духа Святого, — объявляю я под новые взрывы смеха.
— Довольно! — сердится Женевьева. — Я немедленно веду вас домой. Джек, пожалуйста, отыщи мистера и миссис Боб и передай, что позже мы придем к ним.
— Да, мэм, — кивает Джек и перед тем, как повернуться, подмигивает мне и протягивает коробку желейных конфет. О, как я люблю этого Джека!
Наши букли развились. Все сто шестьдесят восемь. Женевьева расчесала их. Яростно.Мы, все четверо, стоим в гостиной дома Каро. Мистер Боб сидит в кресле. Миссис Боб устроилась в качалке.
— Боб, — говорит Женевьева, — я хочу, чтобы вы наказали этих девочек.
Впервые за все это время я ужасно пугаюсь.
— Девочки, — начинает мистер Боб, — я размышлял об этом долго и напряженно. Вы, все четверо… именно все, ужасно вели себя в моем кинотеатре. Испортили праздник остальным маленьким девочкам и их родителям. Этой истории не видно конца. Я не успеваю отвечать на телефонные звонки.
— Подумайте о бедных малышках, — добавляет Женевьева. — Они-то в чем провинились? Несчастные дети месяцами не видят ничего, кроме лука и репы! У некоторых отцы никак не могут найти работу. Дети издольщиков приходят в город раз в месяц посмотреть «Флеша Гордона». Им не нужен твой derrière[33], дочь моя. Ясно вам? Могли бы и выказать бедняжкам хоть какое-то уважение.
Я смотрю на Женевьеву — она всегда заставляет думать о том, что хочется забыть.
— Женевьева права, — кивает мистер Боб. — В этой стране бушует Депрессия, хотя вы, четыре принцессы, не желаете этого видеть.
— Рано или поздно вам придется вести себя как леди, — включается в разговор миссис Боб. — Вы уже не маленькие. Можно сказать, юные дамы. Есть правильное и неправильное поведение. И то, что вы сделали сегодня, определенно нельзя назвать правильным. Не хотите же вы получить репутацию негодниц, верно?
— Но, миссис Боб, — вырывается у меня, прежде чем я успеваю опомниться, — быть негодницей куда забавнее!
— Виви, — заявляет она, — хочешь, чтобы я позвонила твоим родителям и попросила их потолковать с тобой?
Нет, я не хочу, чтобы она звонила матери, и уж конечно, не отцу. Потому что он никогда не толкует с детьми. Просто снимает ремень и предоставляет говорить ему.
— Нет, мэм, — бормочу я.
— Вам всем пора начать вести себя как леди, если хотите ладить с жителями этого города, — продолжает миссис Боб. — Как вбить это тебе в голову, Каро?
— Но, мама, — возражает Каро, — что мы могли поделать, если Тинси пукнула?
— Знаю, знаю, — вздыхает миссис Боб, — нельзя бороться с матерью-природой. Но вам следовало сделать вид, что ничего не заметили.
Я опускаю голову, но втайне думаю, до чего же оригинально прозвучало имя Пуки Пуквелл.
— Боялся, что придется звать на помощь, — вступает мистер Боб. — Никогда в жизни мне не было так трудно успокаивать публику. И вам это с рук не сойдет. Весь следующий месяц, то есть четыре субботы подряд, вам, негодницам, придется убирать зал после каждого утреннего представления. Выметать весь поп-корн, до единого зернышка, и поднимать все, до последней, обертки от конфет. Далее, вам будет позволено заходить в «Боб» только за этим. Никаких фильмов целый месяц. Мало того, я поговорю с мистером Хайдом, хозяином «Парамаунта», и попрошу его строго-настрого наказать билетерам и капельдинерам не пропускать вас до конца месяца.
Вернувшись домой, я бегу в спальню, сажусь и думаю о том, что произошло. И чем дольше думаю, тем больше злюсь. Какая несправедливость! Я в таком бешенстве, что мой мозг напрягается и выдает самую блестящую идею за все время моего существования. Я начинаю издание собственной газеты, где не будет печататься НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ! На ум немедленно приходит название газеты: «Самые важные новости от Виви», сокращенно СВНВ.
Заостряю грифель карандаша, достаю блокнот и начинаю писать. Я просто не могу не разоблачать столь ужасную несправедливость!
8
Несмотря на легкую морось, продолжавшуюся весь вечер, Сидда была одержима идеей развести костер на берегу озера. Она не жгла костров с девяти лет, когда была одной из герлскаутов. В том году Виви и Ниси были вожатыми пятьдесят пятого отряда и сбили флагшток микроавтобусом Ниси.
Она собрала хворост и старые газеты, использовала восемь кухонных спичек и усердно раздувала огонь, пока не стало хватать воздуха. Только потом сдалась и уселась на корточки, чувствуя себя последней дурой. Ей ничего не нужно, кроме маленького костра. Она не замерзла и не стремилась согреться. Не собиралась ничего готовить на огне. Просто хотела разжечь костерик и смотреть, как он горит. Ее никчемность заставляла чувствовать себя неуместной здесь, на просторах великого северо-запада. Ей так не хватало орущего, вопящего, скрежещущего городского комфорта Манхэттена!
Ах, окажись мать рядом, наверняка сумела бы развести потрясающий костер. Мама или Каро. Ночами на Спринг-Крик они жарили на огне сосиски, улиток, бросали в костер петарды. Пели, рассказывали истории с привидениями, устраивали показы талантов, проводили соревнования на ловкость, в которых, например, требовалось опускать метлу так, чтобы она едва касалась, но не задевала сосновые иголки. Позже, намазавшись кремом от комаров, дети устраивались рядом с матерями и смотрели в пляшущее пламя, и цитронелловые свечи[34] горели, и дым поднимался от противомоскитных спиралей.
— Сосновая смола — лучшее средство разжечь огонь, — утверждала Виви. — Если, разумеется, нет под рукой керосина.
Сидда, похоже, даже не вспомнила эти наставления.
— Раздобудь твердую смолистую щепу из середины пня ладанной сосны, и ты не ошибешься, Сидда.
«Беда в том, мама, что здесь нет ладанных сосен».
Сидда встала и огляделась. Повсюду росли ели, западный красный кедр и гемлок, но она не знала, как их различить. Честно говоря, она уделяла не так уж много внимания деревьям, если не считать старого виргинского дуба в Пекан-Гроув, с его ветвями, раскинувшимися на сто двадцать футов. Любой член ее семьи со слезами вспоминал об этом дереве. В детстве Сидда мечтала, что будет венчаться только под ним.
Смола. Она ищет смолу. Горючую смолу.
Смолы нигде не было видно, но ей удалось найти гниющий пень. Всего футах в пяти от того места, где она скорчилась. Сидда осмотрела середину, нашла более-менее упругий кусок древесины, отломила несколько кусочков и вернулась к тому месту, где безуспешно пыталась развести костер.
— Наломай щепок, Сиддали, — услышала она голос матери (или Каро). — Сложи шалашиком, поставив самые маленькие веточки над щепками. Вот так. Для следующего слоя используй ветки побольше. И продолжай в том же духе.
Сидда сделала в точности так, как учила мать. Но огонь не загорался. Беда в том, что дерево было слишком сырым.
Наступила ночь. Стало совсем темно. Только на том берегу озера мерцали крошечные огоньки. Небо затянуто облаками, на нем ни звездочки. А ведь наступал сезон падучих звезд. Мэй рассказала, что полуостров Олимпик знаменит своими метеоритными дождями в конце лета. Сидде, как всегда, везет. Приехать именно в то время, когда тучи с каждым днем становятся все гуще! А эта ползучая сырость была какой-то бесплотной. Призрачной. И неким образом угнетающей.
Вернувшись в домик, Сидда переоделась в сухие чистые спортивные брюки, растопила камин, поставила компакт-диск Рики Ли Джонса с песнями сороковых, налила стаканчик бренди, уселась и попыталась читать книгу Юнга о семье и браке, но уже на третьей странице поняла, что это не по ней. Поэтому растянулась перед огнем и принялась гладить Хьюэлин, с удовольствием вдыхая запах горящих поленьев. В стеклянных дверях отражались только тьма и дождь. И Сидда подумала, что в домике, конечно, уютно, но если здесь такой август, страшно подумать, что творится в декабре!
Она подвинула походную кроватку Хьюэлин поближе к камину, еще немного посмотрела в огонь и потянулась за «Божественными секретами». Альбом распахнулся на открытке из цветочного магазина, гласившей: «Поздравляем всех я-я с годовщиной. С любовью от мужей я-я».
С ума сойти. Но так уж было заведено: каждый год я-я устраивали вечеринку, отмечая очередную годовщину своей дружбы. И верьте не верьте, мужья по такому случаю дарили им подарки! Подобные вечеринки отпечатались в памяти Сидды куда ярче, чем все празднования годовщин свадьбы Шепа и Виви.
Приглашение на грандиозное открытие в Торнтоне торгового центра «Саутгейт» приткнулось рядом с написанным от руки рецептом сырного суфле. Рецепт перечеркнут крест-накрест, и сбоку начертано: «Забудьте! Лучше налейте гостям по рюмочке и бегите за гамбургерами».
Далее Сидда наткнулась на фото юной Каро с ребенком. На голове задорный маленький беретик, большой палец одной руки оттопырен, ребенок примостился под мышкой, и оба, похоже, стоят перед какой-то статуей. Интересно, кто из множества маленьких дикарей удостоился чести сняться с Каро?
Перевернув следующую страницу, она едва успела подхватить обломок скорлупы грецкого ореха. Вероятно, орехами лакомилась мать, пока вклеивала вырезки в альбом. Сидда решила было выбросить скорлупу, но передумала и сунула обратно. Туда, где она лежала бог знает сколько времени. Интересно все же, как это орехи могут быть одновременно и едой, и семенами? Сколько магии плодородия в крошечном, тесном пространстве!
Ее мысли обратились к многообразной прихотливой символике орехового дерева. Но все же она никак не могла осознать той степени очарования, которая заключалась в простой ореховой скорлупе!
По мере того как сладкий запах и дым горящих хвороста и осины окутывали ее, в душу все глубже проникала суть материнских историй. Не так, как хотела бы Сидда, а тем незаметным образом, каким потаенные, скрытые от людского глаза вещи порой открывают и выявляют миры, о существовании которых трудно даже подозревать, но к которым невольно тянется человеческая фантазия.
ВИВИ, 1937
Мама не позволяет мне и Каро играть в новом гамаке, пока не ототрем лицо Пресвятой Девы, которую привез отец с острова Куба.
— Этот скипидар воняет, — жалуется Каро. — Не понимаю, почему мы должны это делать?
— Три крепче, — советую я. — Тогда мама позволит нам испробовать новый гамак.
Статуя стоит на переднем крыльце, прямо там, где ее оставили в деревянном ящике вместе с папиным багажом. Отец только вернулся с Кубы, куда ездил вместе со своими богатыми друзьями на выставку теннессийских лошадей. Там он жил на большой асьенде, где полно слуг. Папа говорит, Куба — настоящий рай с белыми пляжами, апельсиновыми деревьями, растущими повсюду, дикими попугаями, и все люди там счастливы. Его богатые друзья правят всем островом, и отец пообещал в следующий раз взять меня с собой. Он сказал, что не возьмет маму, потому что та одевается как простая горничная. А вот я знаю, что если бы мама только сняла с головы косынку и вытащила из карманов пыльные тряпки, то красивее ее не было бы на свете.
Отец купил кубинскую Пресвятую Деву для нее. Потрясающая статуя! Темнокожая! С серьгами и ожерельем, вся ярко раскрашенная! Никогда не видела, чтобы Матерь Божья была такой! Толстые красные губы, фиолетовые тени на веках, словно она на праздник собралась. Мама немедленно ее возненавидела. И первое, что сделала, когда папа ушел на работу, — вынула из ушей статуи золотые серьги, сняла хорошенькие желтые и красные бусы с шеи и бросила в кучу мусора у курятника. И пока проделывала все это, укоризненно качала головой, словно статуя пошла и сотворила что-то нехорошее.
— Наша Пресвятая Дева не была негритянкой! — твердила она. — До чего похоже на иностранцев: пытаться превратить Матерь Божью в дешевую потаскуху! Эту статую нужно как следует вымыть! Представляю, что сказал бы отец Коулин, если бы увидел такое!
Мать слушает отца Коулина по радио. Если отец Коулин говорит что-то, для нее это словно заповеди Моисея.
— Ты слушаешься этого радиосвященника куда больше, чем собственного мужа! — попрекнул ее как-то отец.
— Если бы демон рома не внедрился в твою душу, возможно, я слушалась бы тебя куда больше! — отрезала мать.
Она говорит, что отец проводит слишком много времени со своими друзьями-лошадниками и поэтому повернулся спиной к Богу. Она не ходит с ним ни на скачки, ни на выставки, поэтому мне приходится занимать ее место. Обожаю всех этих леди в сапожках и бриджах для верховой езды, и пикники с водкой-мартини для взрослых и розовым лимонадом для меня, и все такие разодетые! Теннессийские лошади отца Мимолетная Прихоть и Мечта Мятежника брали призы повсюду. И каждая встреча лошадников отмечалась очередной вечеринкой.
— Постарайся оттереть всю краску со щек Девы, — наказывает мать.
Я наливаю на тряпку немного больше скипидара и принимаюсь старательно водить по кружкам румян на щеках статуи.
Когда мама заходит в дом, у нас наконец появляется возможность обсудить наши тайные планы. Сегодня ночь нашей Божественной Ритуальной Церемонии, которую Каро, Тинси, Ниси и я обдумывали все последние недели.
— Думаешь, Ниси струсит? — спрашиваю я Каро.
— Она думает, что нас похитят, как ребенка Линдбергов, — утверждает Каро. — Боится идти ночью в лес.
— А вот я все время гуляю в лесу по ночам.
— Неправда!
— А вот и правда! Я такая же храбрая, как Амелия Эрхарт[35]! Иногда я даже ночую там!
— Виви, ты все врешь, врешь, врешь! — задыхается от негодования Каро. Я только улыбаюсь.
И тут выходит мама, самолично проверить нашу работу.
— Ну вот, — кивает она, — теперь это больше похоже на нашу Чистейшую Марию. Молодцы, девочки, Пресвятая Дева вами гордится.
— Мы превратили ее в белую леди, — заявляет Каро, изучая статую. Мать улыбается.
— Пресвятая Дева никогда не была негритянкой. Она Матерь Божья и превыше всех людей, даже белых.
— Тогда почему нам пришлось стереть ее коричневую кожу? — любопытствует Каро. Она далеко не всегда верит тому, что говорят взрослые. У Каро на все свое мнение.
— Маленьким девочкам не следует задавать так много вопросов, — строго обрывает мать.
— Бонжур! — весело кричит Тинси, шагая по тропинке. На ней новенький сарафанчик, который кузина Женевьевы с байю сшила из кухонных полотенец. Рядом идет Ниси. Девочки держатся за руки: очевидно, пришли поиграть.
— Эй, подруги! — откликается Каро.
— Здравствуйте, девочки, — приветствует мать, когда они приближаются к крыльцу, и тянется, чтобы погладить красивые черные локоны Тинси. Но Тинси отстраняется. Она терпеть не может мою мать с тех пор, как та хорошенько отшлепала ее за то, что Тинси как-то, на моем шестом дне рождения, сбросила одежду и танцевала нагишом, распевая во все горло.
— Ой, кто это? — удивляется Тинси, показывая на статую.
— Пресвятая Дева, которую преобразили эти маленькие дочери Марии. Раньше она была дешевкой, цветной кубинкой, размалеванной румянами и тушью, но мы позаботились о ней, верно, девочки?
— Да, мэм, — хором подтверждаем мы с Каро.
— Раньше она была роскошной темнокожей леди, — говорю я.
— А теперь похожа на призрак, — шепчет Тинси. — Как это вам удалось все стереть с губ?
— А ты что скажешь, Дениза? — спрашивает мать Ниси.
— Вы пользовались ластиком? — догадывается Ниси.
Мать смеется.
— Нет, дорогая. Мы начали с «Хлорокса», а закончили скипидаром.
— А теперь мы можем поиграть в гамаке, мэм? — бормочу я.
— Можете, но сначала встаньте на колени и перекреститесь перед нашей святой Матерью.
Мы послушно становимся на колени перед статуей, которая выглядит так, словно увидела что-то страшное и побледнела как полотно.
Но тут Тинси сумела углядеть украшения, снятые матерью с Девы. Она наклоняется и хватает их так быстро, что мать ничего не замечает. У этой Тинси ужасно ловкие руки, и она любит украшения.
Так что теперь мы четверо мирно сидим на боковом крыльце. Гаррисон, который работает на нас, только что повесил большой гамак, привезенный для меня отцом. Он свисает с голубого навеса крыльца, как раз под окнами отцовского кабинета.
— У вас такого нет! Это с Кубы, — хвастаюсь я, ложась в гамак лицом к улице.
— О’кей, — кивает Каро, — ты готова?
— Еще бы! — смеюсь я, и она ложится рядом.
— А теперь ты, Ниси.
Ниси начинает взбираться в гамак, придерживая юбку, чтобы мы не увидели ее трусиков.
— Ниси, кому нужно заглядывать тебе под подол? — хихикает Тинси.
— Не знаю, — вздыхает она, закатывая глаза.
И тут Тинси отворачивается от нас и бесстыдно задирает подол чуть не до талии, так что все мы видим ее нижнее белье. Трясет задницей в направлении улицы, и плевать ей на то, что кто-то может ее заметить.
— Трусы на крыльце! — поет она. — Трусы на крыльце!
И Ниси краснеет. Мы обожаем ее конфузить.
Она втискивается между мной и Каро, головой ко мне. Я чмокаю ее в щеку.
— Хорошо, Ниси, идеально уместилась, — хвалю я. — А теперь, Тинси, твоя очередь. Забирайся и располагайся где сумеешь.
Тинси карабкается в гамак и растягивается поверх нас всех, как на матрасе.
— Эй! Прочь с меня! — ору я.
— Ты сама сказала «где сумеешь», — смеется она.
Я отталкиваю ее и получаю такой же толчок в ответ. Как всегда. Если толкнуть Ниси, она только извинится. Иногда, после всех нас, она кажется истинным облегчением.
— Кончайте все это, — просит она.
— Тинси, — вмешивается Каро, — прижмись ко мне и перекинь ноги через край гамака.
Тинси так и делает, и мы некоторое время лежим тихо, как сардины в неводе. В отверстия сетки гамака виден пол крыльца, а через трещины в полу видны солнечные зайчики, лежащие на земле под крыльцом. Я дергаю за веревку, которую Гаррисон завязал так, что можно качаться не вставая.
— До чего здорово! — вздыхает Каро.
И вправду здорово, словно мы устроились все вместе в большой колыбели.
— Я тоже хочу такой гамак! — объявляет Тинси.
— В таком случае попроси папу поехать на Кубу и купить, — советую я.
— Обязательно. Сегодня же вечером. И кубинскую Пресвятую Деву тоже. И я ни за что не стану стирать краску с ее лица. Наоборот, приклею мамины накладные ресницы.
Всего десять утра, а жарко как в печи. Я ощущаю запах утреннего солнца, палящего траву и приносящего густые ароматы вроде лимонного. Откидываю голову и жадно нюхаю. Запахи для меня — все равно что человек-невидимка, о присутствии которого забывают большинство людей. Лучше уж потерять зрение, чем обоняние.
— Поскорее бы получить наши индейские имена, — говорит Тинси.
— Сегодня ночью, — кивает Каро, закрывая глаза и ложась поудобнее.
— Ох, — вступает Ниси, — надеюсь, в лесу не слишком темно.
— Конечно, там темно, — заверяет Тинси.
— Темно, как в черном бархате, — подтверждаю я.
Глаза Ниси становятся большими как блюдца. Каро незаметно вытягивает руки, хватает ее, как злобное чудовище из пустоты, и Ниси визжит.
Я различаю ароматы всех цветов матери, и с моего места в гамаке слышен каждый звук. Кто-то выбивает ковер по соседству, сотни птиц поют хором, жужжит муха, а по мостовой грохочет грузовик мистера Барнеджа. Я знаю на слух шум моторов всех машин и грузовиков в округе.
Благоухание жимолости смешивается с запахом гардений и имбиря, даже во рту становится сладко. Плеть розы «Монтана», которую мать подняла на навес крыльца, буквально брызжет цветами. Мать подбирает черенки, которые выбрасывают соседи, сажает в жестянки из-под кофе, и очень скоро они, усеянные бутонами, уже разрастаются на крыльце и дворе. Мать может вырастить любой цветок на свете и знает их названия. Весь двор заполнен камелиями, гордостью и радостью матери. А еще у нее все сорта роз, белые и фиолетовые барвинки и кумкват в горшке, который мать зимой вносит в дом, чтобы не замерз. Если что и любит мама, так это работать в саду. Из-за этого отец и бабушка Дилия смеются над ней. Называют батрачкой. Рабыней на плантации. Мама Ниси все время приглашает мать вступить в Садовый клуб, но та отказывается. Говорит, что ее клуб — это Общество алтаря. И большая часть ее цветов в результате оказывается на алтаре, в церкви Божественного Сострадания. Но не в нашем доме.
Весной и летом я живу на крыльце, окруженном цветами. В теплую погоду мама и Джинджер, горничная Дилии, раскладывают две кровати в глубине крыльца и завешивают их пологом от комаров. Мама приносит маленькую тумбочку и ночник, и мы все по очереди здесь спим. Когда мои подруги остаются на ночь, мама заставляет Пита и его приятелей вернуться в его спальню, а мы ночуем здесь. Это мои самые любимые ночи. Тогда я сплю крепко, без снов, и никогда никаких кошмаров! Ночевки на крыльце — лучшая в мире вещь! Засыпаешь под стрекот кузнечиков, просыпаешься под птичий щебет. В полусне он кажется шумом водопада. Если бы сам Хьюи Лонг приехал в гости, я бы постелила ему на крыльце. Здесь, в Торнтоне, у нас нет слуг с опахалами, но иногда мы пытаемся заставить Джинджер обмахивать нас веерами Дилии. Только она неизменно отвечает: «Идите подставьте головы под кран, это охлаждает».
Вечер. После ужина мы с Питом и матерью играем в карты на крыльце. У отца какие-то дела, и он опять не вернулся к ужину.
Мой брат Пит все время нас дразнит. Изобретает какие-то прозвища. Зовет Тинси Бренчалкой, а меня Вонючкой. Каро у Пита Сироп Каро, а Ниси — Пенка-коленка. Пит на два года старше нас, он большой и сильный, а с его велосипеда свисают лисьи хвосты.
После четырех партий канасты мать говорит, что пора спать. Мы все желаем друг другу спокойной ночи, надеваем ночные сорочки, и мама выходит убедиться, что полог от москитов как следует закрывает кровати, И даже выставляет маленький писсуар, чтобы нам не пришлось ходить туда-сюда.
Мы такие послушные и тихие, что мама вообразила, будто здесь одни святые.
— Все вы поблагодарили Пресвятую Госпожу за то, что помогла нам прожить день? — спрашивает она.
— Да, мэм, — отвечаем мы хором.
Мать стоит по другую сторону полога, уже перебирая четки.
— Тогда пожелайте своим ангелам-хранителям спокойной ночи.
— Спокойной ночи, ангелы, — говорим мы.
— Спокойной ночи, малышки, — кивает мать.
Мы молча лежим и смотрим, как она крестит серые планки крыльца, прежде чем вернуться в дом.
Стоит ей скрыться из виду, как Каро говорит:
— Мы не малышки. Мы — индейские девы-принцессы!
— Может, вместо того, чтобы благодарить Пресвятую Госпожу, всем вам следовало извиниться за то, что начисто вытерли ее лицо? — предполагает Тинси.
Остальные хихикают.
— Все вы отскребли ее губы и отскипидарили кожу, — продолжает Тинси. — Дурочки! Бьюсь об заклад, кубинцы никогда бы не продали статую твоему отцу, знай они, как вы ее изуродуете.
— Ш-ш-ш, — шепчу я. — А вдруг мама в гостиной и слышит нас? Если еще немного помолчим, она подумает, что мы заснули, и поднимется наверх.
Мы лежим тихо-тихо, зная, что заранее приготовленные узелки благополучно лежат под кроватями.
— И теперь мы идем в темный лес? — шепчет Ниси.
— Нет, придется ждать, пока все заснут, — бормочу я.
— Откуда ты узнаешь?
— Запросто. Дома спят, как люди. Это сразу чувствуется.
Немного погодя я выскальзываю из постели, чтобы проверить.
— Берег чист!
Мы вытаскиваем наши запасы, поднимаем подолы сорочек и по очереди втираем в кожу сырой лук, чтобы отпугнуть москитов. Хорошо еще, что лето выдалось сухим, иначе в ночном лесу из нас выпили бы всю кровь.
Сползаем с крыльца и выходим на задний двор.
— Осторожно, — предупреждает Каро.
Пересекаем переулок Мансена, проходим несколько сотен ярдов, дружно вздыхаем и скрываемся в лесу.
Мы догадались захватить фонарь Пита. С неба тускло светит полумесяц. Я тереблю листок бумаги в кармашке ночной сорочки. На листке записана вся история племени. Сегодня я Госпожа Легенд.
— Что, если мы наткнемся на лагерь бродяг? — тревожится Ниси.
Каро, как самая высокая, несет фонарь, а также рюкзак с обрезками досок. Она Госпожа Огня.
— Бродяги держатся ближе к железной дороге, — объясняю я.
— Отец говорит, что его друзья в полицейском участке уже выгнали всех бродяг из Торнтона, — утешает Тинси. — Они с мамой ужасно поругались из-за этого.
— Несколько дней назад мама кормила бродяг прямо на нашем заднем крыльце, — заявляет Ниси. — Но мне нельзя с ними разговаривать. Можно только кормить.
— Они приходят в ваш дом, потому что твоя мать не желает стирать метку хобо[36], несмотря на приказ мэра, — смеюсь я. — Моя мать теперь кормит их всего раз в неделю, иначе, по ее словам и судя по тому, как много ест Пит, мы сами скоро станем такими же.
Ниси, единственная из нас, кто умеет готовить, захватила шоколадную помадку в бумажном пакете. Она Госпожа Еды. Тинси, Госпожа Танца, несет в мешке четыре банки из-под овсяных хлопьев — наши барабаны. А у меня только игла.
Мы идем, пока не добираемся до рукава небольшой речки, протекающей на задах дома Тинси. Там мы помогаем Каро развести костер. Она здорово умеет это делать. Не хуже мальчишек. Мистер Боб научил ее, а она — меня.
И когда огонь разгорается, мы усаживаемся вокруг него.
Я смотрю в пламя и начинаю рассказывать историю божественного племени луизианских я-я.
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ЛУИЗИАНСКИХ Я-Я
Задолго до того, как здесь появились белые люди, могущественное племя я-я, где было много мудрых, сильных и прекрасных женщин, бороздило просторы великого штата Луизиана. Леопарды спали с нами, медведи кормили нас медом со своих лап, а рыбы сами прыгали нам в руки, потому что хотели стать нашей пищей. Заросли были так густы, что мы могли пройти от Нового Орлеана до Шривпорта по вершинам деревьев. Так мы и делали. Сотни индейцев я-я шагали по вершинам деревьев как по земле.
Наша мать была черной дикаркой по имени Лола, которая нашла нас в пещере на исходе времен и воспитала как собственных детей. И мы любили ее как родную мать. Люди боялись задевать племенных сестер я-я.
Но тут разразился ураган Зандра, самый ужасный из всех, что пришлось испытать людям, и вырвал все деревья с корнями, превратил ручьи в реки и погубил всех, включая нашу мать Лолу. Выжили только мы четверо. И куда бы мы ни ступили, нас настигали злобные аллигаторы, грозившие сожрать. И негде было скрыться, потому что аллигаторы могли выползать из воды на сушу. Мы голодали. Так сильно, что от нас остались кожа да кости. Мы не спали сорок дней. И наконец ослабели так, что сдались.
Аллигаторы, торжествуя, направились к нам, несчастным и беспомощным. Они уже были так близко, что мы видели луну, отражавшуюся в их уродливых старых глазках. Мы пытались применить наши знания, но силы иссякли. Но тут за круглой луной появилась роскошная леди. Мы увидели ее с того места, где лежали на смертном одре. Она взглянула вниз и увидела, что мы висим на тонком волоске над пропастью. И тут Лунная Владычица выметнула серебряные лучи из глаз, и от мерзких аллигаторов остался один пепел. Уродские чудовища погибли все до единого, мы слышали, как они шипят, поджариваясь.
И Лунная Владычица сказала:
— Вы мои дочери, которыми я очень довольна. Мои Божественные Глаза неизменно будут следить за вами.
Мы, я-я, потеряли наш дом в джунглях, а в городе никто не понимает, что в нас течет королевская кровь, но все мы храним в сердцах нашу историю и вечно будем преданны нашему племени, в болезни и здоровье. Так было вначале, и так будет вечно. Конец.
Потом я по очереди смотрю в глаза подругам и говорю:
— Теперь это закреплено официально: отныне мы зовемся я-я.
И все хлопают в ладоши.
— Кое-что из всего этого звучит так, словно взято из Библии, — говорит Ниси.
— Не спорь с Госпожой Легенд, — объявляю я.
— Верно, — поддакивает Тинси. — Библия не хозяйка этих слов.
— Не важно, — кивает Ниси. — Хотите помадки?
— Да, спасибо, Госпожа Еды, — отвечаю я.
И все мы дружно вгрызаемся в большие куски шоколадной помадки с орехами.
— Ненавижу аллигаторов, — признается Каро, глядя в сторону воды.
— Фу! — фыркает Ниси. — Как по-вашему, здесь водятся аллигаторы?
— Мама наложила заклятие на всех аллигаторов за нашим домом, — отмахивается Тинси. — Не стоит волноваться. Именно мама дала нам это имя! Она всегда твердит: «Гамбо я-я, гамбо я-я».
— Верно, — соглашается Ниси.
— Точно, — поддакивает Тинси. — Отныне и навеки мы будем известны как я-я. И никто не отнимет у нас этого имени!
И тут Тинси вываливает из бумажного пакета банки из-под овсяных хлопьев, и мы дружно принимаемся по ним барабанить. Барабаним и орем ночи, лесу и костру, что теперь мы я-я. Потом Ниси, Госпожа Имен, официально дает нам индейские прозвища, выбранные нами же. Мое — королева Танцующий Ручей. Каро — герцогиня Летающий Ястреб, Ниси — графиня Поющее Облако. И каждый раз, произнося наши новые имена, она брызгает на нас водой из старой бутыли с проверченной в пробке дырочкой, которую позаимствовала с гладильной доски у матери.
Тинси все эти несколько недель хранила от нас в секрете свое индейское имя. Наконец наступает ее очередь, и она с таинственным видом вручает Ниси конверт. Ниси распечатывает его, читает, глаза у нее становятся большими, как у морячка Попая, а сама она вспыхивает с головы до пят. Похоже, на несколько минут у нее отнимается язык. Слышны только далекие крики козодоя да потрескивание хвороста в огне.
Потом Ниси оборачивается к широко улыбающейся Тинси.
— Нарекаю тебя принцессой В-Чем-Мать-Родила.
И тут принцесса обезумела.
— Эй-хо-хо! — орет Тинси, начиная кружиться. Потом срывает с себя сорочку и заставляет нас тоже раздеться. Ниси пробует отвертеться, так что за дело беремся мы с Тинси.
— Поймите все вы, это может быть смертным грехом, — отбивается она.
— Угу! — соглашаюсь я. — Смертный грех королевских я-я.
— Все готовы для церемониальной раскраски? — спрашивает Тинси с одним из своих нехороших взглядов.
— Что? — спрашиваем мы. Такого в программе нет, но я-я принимают все как должное. Тинси сует руку в пакет и вытаскивает горсть материнских тюбиков «Макс фактор», коробочки с макияжем, карандаши, губную помаду и все те прелестные вещички, которые моя мать считает вульгарными.
Первым делом она вручает мне баночку с красными румянами. Каро получает коричневые, Ниси берет помаду, а у Тинси остаются карандаши. Мы по очереди трудимся друг над другом, пока не превращаемся в почти чистокровных индейцев. Красно-коричневые мазки на лбах, черные звезды на щеках, а у Тинси возникает идея раскрасить животы и торсы. Я провожу черную линию по центру тела, втираю в одну сторону помаду и оставляю другую нетронутой. Тинси обводит помадой соски.
— Ниси, — приказывает она, — отними руки от своих титек. Мы все уже видели их. Ничего нового.
И словно всего этого недостаточно, старушка Тинси вытаскивает бусы и серьги, которые мать сняла с кубинской Пресвятой Девы.
— Смотрите! — кричу я. — Тайные драгоценности я-я, недавно найденные знаменитой дамой-археологом принцессой В-Чем-Мать-Родила!
Мы поспешно разбираем украшения и, подражая Тинси, хлопаем по бедрам и визжим:
— Йо-хо, Сильвер!
Натанцевавшись, мы становимся в круг. Госпожа Огня держит иглу над пламенем спички, прежде чем по очереди проколоть нам большие пальцы и выдавить капельку крови.
Подняв руки над головой, мы трем палец о палец, чтобы смешалась кровь, и повторяем клятву:
— Я член королевского и истинного племени я-я. Никто не сможет встать между нами, и никто не сможет разлучить нас, потому что в наших жилах течет одна кровь. Я торжественно клянусь быть верной своим сестрам я-я, любить и заботиться о них, быть рядом в беде и радости, до последнего вздоха…
Тинси, разумеется, вместо «вздоха» говорит «пука» и при этом нагло подмигивает.
Мое сердце колотится так сильно, что я вижу, как подрагивает грудь. То же самое происходит с Тинси и Каро. Наши глаза сияют.
— А теперь, — наставляет Тинси, — всем слизать кровь с пальцев.
Я смотрю на нее. Этого в наших планах не было.
Тинси первой показывает пример, и я повторяю все ее движения, легонько проводя языком по крошечной точке на пальце.
— Ну же, глотайте, — объявляю я неожиданно.
И все мы глотаем крошечные капли нашей общей крови. Совсем как Святое Причастие, только эта кровь — наша. Не Иисуса Христа.
И когда у меня родятся дети, в их жилах будет течь кровь Ниси, Тинси и Каро! Значит, теперь мы родственницы! А когда я состарюсь и умру, все равно останусь жить, пока бьется сердце последней я-я, перекачивая кровь.
И тут Ниси тихо спрашивает:
— Могу я провести мою заключительную церемонию Божественного Грецкого Ореха?
Я совсем забыла о припасенном на конец сюрпризе Ниси.
Мы подходим к воде, и она вытаскивает из пакета четыре скорлупки грецкого ореха, протягивает каждой из нас, прежде чем раздать свечи и потребовать их зажечь.
— Накапайте в скорлупки немного воска, — приказывает она, — и прилепите свечки.
Мы все просто потрясены. Каждый раз, когда я уже думаю, что знаю подруг, они находят все новые способы удивить меня. Они хранят столько секретов, которых я никогда не узнаю!
Кругом так тихо, что слышно, как царапают спички о коробки и трещат, вспыхивая, огоньки. Мы зажигаем свечки и смотрим на Ниси. Она наклоняется, опускает крошечный кораблик на воду и слегка подталкивает. Он покорно пускается в путешествие по темной речке.
Каждая делает то же самое, и к первой огненной лодочке присоединяются еще три светлячка. И это так красиво, что хочется плакать. Мы беремся за руки и становимся полноправными могущественными я-я, отпрысками королевской крови, которую они передадут многим поколениям потомков.
А когда мы возвращаемся, первым делом видим на крыльце статую кубинской Девы. Свет лампочки падает на нее, а вокруг лампочки вьются июньские мошки, тихо шурша крылышками. Мы останавливаемся как вкопанные. Падаем на колени перед Марией, и Тинси вручает нам косметику из своего пакета. Берем тот же самый контурный макияж марки «Дарк бьюти», которым пользуются Кароль Ломбард и Норма Ширер, и начинаем размазывать его по ее лицу, рукам и ногам. Грим немного скользкий на ощупь, и вокруг сразу запахло как в гардеробной Женевьевы. Под пальцами ощущается гладкое твердое дерево.
Снова превратив Деву в мулатку, мы окунаем пальцы в румяна и красим ее щеки, накладываем на глаза и складки платья голубые тени и мажем губы помадой «Харем ред». И наконец, снимаем украшения со своих царственных особ и надеваем на Деву. Завершив нелегкий труд, мы встаем, чтобы в молчании полюбоваться делом рук своих. Ниси, которая до сих пор не касалась статуи, выступает вперед и становится на колени. Сначала мы подумали, что она собирается молиться. Но Ниси берет у Тинси тюбик с помадой и ставит маленькие красные точки на пальцы ног Девы. Красит ее ногти! То, до чего не додумались даже кубинцы!
Я нагибаюсь и целую Ниси в щеку. Каро целует ее в другую, а Тинси смачно чмокает прямо в губы!
Лежа в постели, я ощущаю присутствие Каро. Слышу ее дыхание, чувствую, как бьется сердце. Вдыхаю ее запах, запах Каро. Рисовая мука и свежескошенное сено.
Лунный свет падает на меня и подругу. Аромат свежих оливок висит в воздухе, словно кто-то выдыхает его ртом. Я смотрю на спящих подруг. На лицах все еще остались следы косметики, хотя мы честно старались вытереться простынями, чтобы мать ничего не заметила. Я-я — это и есть моя настоящая семья. Я королева Танцующее Облако, могучая воительница из Великого Королевского племени я-я, и ни один белый мужчина никогда не покорит меня. Лунная Леди — моя мать.
Наутро мы поскорее снимаем белье с постелей, прежде чем мать успевает выйти на крыльцо и разбудить нас. Мы вскочили еще до рассвета, когда краски дня только ожили, и откинули пологи. Наше первое утро в качестве полноправных я-я.
— Девочки, — говорит мать, — не стоило снимать белье. Не будете же вы стирать эти простыни! Отдайте мне весь узел. Не хочу, чтобы ваши мамы подумали, будто я заставляю вас работать прачками за то, что позволила провести ночь с Виви.
Но мы стараемся спрятать от нее вымазанное макияжем белье.
— Миссис Эббот, — начинает Ниси, вежливо улыбаясь, — пожалуйста, позвольте мне взять их домой и выстирать. Это будет моей особой епитимьей.
Ничего не скажешь, ловко подвешен язык у нашей Ниси!
— Ах, Дениза, как замечательно! — восхищается мать. — Жаль, что Вивиан не так часто следует твоему примеру! Сегодня утром ты доставила Пресвятой Деве большую радость.
Ниси снова улыбается матери и моргает как истинная дочь Марии, гордость нашего племени.
— Пойдемте завтракать, — приглашает мать. — Мистер Барнедж принес нам свежие растонские персики.
Мы покорно идем за ней.
— Минутку, девочки, — говорит она. — Я только посмотрю, не появились ли на гардении новые бутоны.
Она обходит крыльцо и оказывается прямо напротив статуи.
— Иисусе, Мария и Иосиф! — ахает она, крестясь, закрывая ладонью рот и начиная трястись всем телом. — Кто мог это сделать? — восклицает она. — Кто?!
Тинси выступает вперед, смотрит моей матери прямо в глаза и изрекает:
— Миссис Эббот, а что, если это чудо?!
— Чудо, — шепчет мать, словно статуя заплакала или начала кровоточить.
На несколько мгновений мать сама замирает словно статуя, прежде чем начать срывать цветы жимолости, бутоны розы «Монтана», ветви сладкой оливы, все, до чего может дотянуться, — и осыпает ими статую Пресвятой Девы. Потом выбегает во двор и отламывает ветви магнолий, головки тубероз и гибискуса и собирает в передник. Я никогда не видела ее в таком состоянии. Она как одержимая летит обратно, роняет цветы к ногам статуи и с силой трясет розовую плеть, так что бутоны падают прямо на голову Божьей Матери. Наше крыльцо еще в жизни не было таким живописным. Мать превратила его в алтарь великолепной цветной Девы.
— Святая Матерь Христова, — бормочет она. — На колени, девочки! На колени и молитесь!
Мы падаем на колени, мать вынимает из кармана передника четки и громко читает молитву:
Слава тебе, ярчайшая Звезда Океанов, Слава тебе, о Матерь Цветов! Осени нас сладчайшим благоуханием Своей любви и сострадания Ты, носившая в чреве своем Его, которого не смогли удержать небеса!Мы продолжаем стоять рядом с матерью. Милость Божья спасла нас от дьявольских аллигаторов, от бушующего урагана. Выжили только мы. Гордые и могучие, едва не погибшие, но чудом сохранившие племя я-я, мы буквально купаемся в чудесах.
9
Назавтра, когда Сидда и Хьюэлин отправились на почту Куино, снова моросило. Ни дождя, ни ливня, так, серенькое небо и изморось.
Если бы Сидда могла придумать новое определение осадков, более пассивно-агрессивное, чем «изморось», наверняка бы употребила именно его. Впервые она начала понимать Мэй Соренсон, часто твердившую, что северо-запад способен поразить плесенью душу человеческую.
Она позвонила своему агенту из телефона-автомата рядом с почтой. Тот заверил Сидду, что она не пускает карьеру по ветру только потому, что решила немного отдохнуть, и что за последнюю неделю земля не перестала вращаться.
В корзинке с почтой до востребования ее ожидала открытка от Коннора с акварельным изображением одной из сцен спектакля. На оборотной стороне было написано:
«Дорогая Сидда!
Постель стала слишком велика для меня одного, когда ты уехала. Я не могу заснуть, особенно потому, что теперь в моем распоряжении больше 1/6 матраса, которую ты обычно мне оставляешь. Закончил эскизы ко второму акту и должен сказать, что сиэтлская команда неплоха. На нашем временном заднем дворе расцвел почти миллион вьюнков. Ты нашла коробку, которую я поставил в машину? Почеши за меня брюшко губернатору Хьюэлин.
Я тебя люблю.
Коннор».
Вернувшись домой, Сидда вытерла длинные курчавые уши Хьюэлин, заварила чай и натянула сухие теплые носки. Порылась в компакт-дисках, снова выбрала Рики Ли Джонса, исполнявшего хиты Виви, подошла к окну и посмотрела на озеро, напевая песню «Весна, которая тебя терзает».
Нашла открытку с изображением гигантского морского моллюска, пририсовала к нему пару крыльев, так что овальная раковина стала походить на готовый взлететь пенис, и принялась писать:
«Крошка котик!
Не драматизируй! Я всегда уступала тебе не менее четверти любой кровати, в которой мы спали. Да, мамина посылка в надежных руках. Вернее, все время рядом со мной. То тут, то там. Об остальном позже.
Люблю тебя.
Сидда».
Запечатав открытку в конверт, она потянулась к альбому и удивленно уставилась на четыре узких полоски кожи, связанных бечевкой. На каждой полоске, в аккуратно прорезанной щелке, покоился пенни сорок первого года. Задрав голову к потолку, Сидда тихо хихикнула. Четыре обрезка от мокасин!
Она живо представила, как мать вместе с остальными я-я трудится над изношенными мокасинами, проделывая в них прорези для монет. Интересно, тогда все ребятишки увлекались этим или только я-я?
На той же странице было вклеено фото четырех подружек, снятых на боковом крыльце дома Эбботов на Комптон-стрит, и принадлежащее к тому же времени, что и давно сношенные мокасины. Бросив взгляд на снимок, Сидда отложила альбом и вышла на кухню. Пришлось выдвинуть все ящички старого буфета, прежде чем она обнаружила то, что искала. Лупа лежала во втором ящике вместе с колодой карт, игрой «Монополия» и коллекцией ракушек.
Сидда снова открыла альбом, подула на лупу, старательно протерла подолом толстовки и принялась изучать фотографию. Она уже видела ее раньше, но теперь собиралась хорошенько рассмотреть каждую деталь. Плеть розы «Монтана», вьющаяся по навесу и перилам, была так густо усыпана цветами, что свет, пробивавшийся на крыльцо, должно быть, отливал розовым. На заваленном подушками гигантском плетеном диване с широкими изогнутыми подлокотниками лежали Виви, Ниси, Каро и Тинси, по две в каждую сторону, причем ноги их так переплелись, что трудно было сказать, кому которая принадлежит. На Виви — полосатый топ-флайбэк с широкими бретелями, завязывающимися на шее сзади, и шорты. Волосы подняты вверх, и легкие прядки прилипают к влажной коже. На железном столике рядом с софой стоит черный вентилятор. На полу — четыре высоких чайных стакана, в них длинные соломинки.
Кто же сделал снимок? И что происходило за кадром? Что случилось за секунду до того, как щелкнул затвор?
Отложив лупу, Сидда прищурилась, так что фото окутала слабая дымка. Полдень безделья и чая со льдом. Я-я никуда не идут. Лежат на крыльце в тени виргинских дубов. Немцы на подступах к Сталинграду, газовые камеры работают на полную мощь, но я-я еще не закончили школу и изнывают от лени и покоя. Вот он, настоящий комфорт. Настоящая радость. Только взгляните на эту четверку! Ни у одной нет часов. Этот день на крыльце не планировался. Не включен в ежедневник.
Эти девочки на крыльце понятия не имели, что собираются растянуться на диване, утопая в подушках. И понятия не имеют, когда поднимутся. Их единственная забота — подставить тела прохладному ветерку от вентилятора. Они знают только, что это единственное место, где можно спастись от жары.
Хочу лежать вот так, плыть по волнам, не ведая ни волнений, ни амбиций. Хочу населить свою жизнь, как это крыльцо.
В то время люди принимали крыльцо и проведенное на нем время как нечто само собой разумеющееся. Крыльцо или веранда были принадлежностью каждого дома. Ничего особенного, подумаешь, крыльцо! Нечто вроде открытой комнаты на полпути между миром улицы и миром дома. Если веранда-галерея идет вокруг всего здания, как у Эбботов, в ней существуют разные мирки. Если вы развалились на боковой части, как я-я, значит, вам тепло, уютно и спокойно. Именно туда выходили я-я, когда их волосы были накручены на бигуди и им не хотелось разговаривать с прохожими. Именно там они лежали часами, рассматривая свои пупки, потея, в дреме, отмахиваясь от мух, делясь секретами. А по вечерам, после захода солнца, у камелий шныряли светлячки, и их крошечные огонечки еще сильнее убаюкивали я-я, маня в безмятежность крыльца. Безмятежность, владеющую их душами даже в старости.
Когда люди встречаются годы спустя, с малышами в колясках или на руках, или еще позже, когда их руки трясутся от глубоко угнездившейся, не имеющей названия печали, их аура куда-то исчезает. Вы не можете понять, в чем дело, хотя сознаете, что этих женщин объединяет глубинное знание. Тайные коды, шифры, знаки и язык уходят корнями назад, в те текучие времена, когда кондиционеры еще не высушили тяжелую, всепроникающую сырость, висевшую над луизианскими домами, пропитывавшую ситцевые блузки, щекотавшую кожу капельками пота, замедлявшую мыслительные процессы, действия и поступки людей до такой степени, что и жили они в собственном, неспешном мире. Густая каша жизни проникала в кровь людей, в головах которых варились эксцентричные, лениво-вольготные мысли. Мысли, которых больше не возникало после того, как веранды были застеклены, а климат побежден. Когда все окна были наглухо закрыты, а доносившиеся из соседних домов посторонние звуки надежно заглушило жужжание телевизоров.
Посиделки. Так называли я-я свои импровизированные сборища, когда Сидда была маленькой. Четверо ребятишек Уокеров втискивались в «тандерберд» вместе с Виви и мчались в город, к Каро, Тинси или Ниси, врываясь на подъездную аллею в бешеных воплях клаксона, и дружно орали:
— Лучше бы вам оказаться дома!
Мгновенно появлялись стаканы с «Кровавой Мэри», сливочный сыр с перцем и крекеры, галлон лимонада и печенье «Орео» для детей, Сара Воан[37] на стерео, и начиналась вечеринка. Никаких предварительных планов или приглашений.
В таких случаях Сидда одевалась в один из пеньюаров, оставшихся от приданого я-я, и позволяла Виви обучать ее восхитительным рискованным импровизированным танцам в стиле Айседоры Дункан. Размахивая длинной волшебной палочкой со звездой из фольги на конце, Сидда бешено извивалась на любом крыльце, куда доводилось попасть. Какое это было счастье, когда отблеск сияния Виви падал на нее! Полдень перетекал в вечер, вечер — в ночь, и не успеешь оглянуться, как еще один день миновал и Виви с детишками уже мчится назад, в Пекан-Гроув, и в опущенные окна машины врывается прохладный ветерок.
— Здорово повеселились, маленькие приятели? — кричала она детям.
— О да, мама, еще бы! — хором отвечали они.
Сидда снова подняла лупу и принялась изучать глаза матери. Когда все пошло наперекосяк? Каким образом Виви, полная света, становилась Виви, полной мрака?
Ибо на каждые моменты волшебства приходилось равное количество ужасающих часов коктейлей, когда бурбон с водой уносил Виви прочь от дома, хотя она даже не трудилась встать с места.
В такие вечера, выходя из спальни, чтобы подлить в стакан новую порцию бурбона, Виви упорно повторяла детям:
— Убирайтесь прочь! Не могу вас видеть!
Сидда училась балансировать на шаре. Училась ходить по канату. Оттачивала искусство войти в комнату и тут же угадать настроение, потребность, желание каждого из присутствующих. Развила в себе способность моментально определить, накалена ли атмосфера, как настроен персонаж, как идет беседа, в чем значение простого жеста, и понять, что в данный момент необходимо больше всего, когда и сколько. Виви легко переходила от одной крайности к другой, то вальсируя с ангелами, то сражаясь с демонами, и ее дочь, наблюдая эти колебания невидимого гигантского маятника, училась сочинять и ставить драмы. Училась тому ненавязчивому, неверному, шаткому вдохновенному эмоциональному наречию, на котором обязан бегло говорить хороший театральный режиссер.
Но в конце концов Сидда устала постоянно прислушиваться, примериваться, быть настороже. Она жаждала дружбы на веранде, липкого жара ног подруги, небрежно заброшенных на ее собственные, но напрасно мечтала о «девчачестве». Желала выкинуть слова «строжайший график» из своего лексикона. Хотела сломаться, сдаться, позволить себе бездумно плыть в неизведанном, прекрасном, плодородном, отдающем мускусом болоте жизни, где кроются способности к созиданию, эротика и тайный ум.
Сидда отложила лупу и закрыла альбом, захваченная удивительным зрелищем. Большой орел снялся со своего места на старом кедре у дома, громко хлопая крыльями. Сидда склонила голову. Эти орлы совсем как ангелы — не видят разницы между игрой и работой. Для них это одно и то же.
10
Сидда вышла из домика Мэй в дождь, побрела по тропинке к озеру и углубилась в дождевой лес, где древесный полог был так густ, что редкие капли достигали земли. Тьма и тишина утешали и одновременно пугали ее. Так, должно быть, чувствует себя ребенок в полумраке молчаливого собора.
Мало-помалу она добралась до почтового отделения Куино. Почтмейстерша, сидя за прилавком, смотрела «мыльную оперу» по крохотному телевизору. Услышав шаги, она подняла глаза:
— До востребования?
— Да. Сидда Уокер, пожалуйста. Мне что-нибудь есть?
Стараясь не отвлекаться от телевизора, женщина потянулась к полке и взяла небольшой пакет.
— Из Луизианы. Заказное.
— Чудно, чудно! — выпалила Сидда и сразу смутилась.
— Служба охраны лесов обещает солнце на этой неделе, — сообщила женщина, протягивая ей пакет.
— Неплохо бы, — протянула Сидда.
— Да уж, чего в избытке в дождевом лесу, так это влажности.
— Полезно для кожи, — откликнулась Сидда, шагнув к двери.
— Именно это я и твержу своим подругам, — кивнула женщина.
Пораженная Сидда обернулась, чтобы еще раз присмотреться. «Своим подругам». До чего небрежно сказано. Сидда едва не почувствовала укол зависти.
Остановившись под навесом двери, она повертела пакет. Отправлено миссис Джордж И. Огден, больше известной Сидде как Ниси. Ей ужасно хотелось немедленно разорвать пакет, но лучше бы подождать до возвращения.
Сидда сунула пакет под парку из непромокаемой ткани и быстро зашагала по тропинке.
Едва успев войти в дом и сбросить мокрую парку, она вскрыла бандероль. Такого она не ожидала. После выхода интервью в «Нью-Йорк таймс» я-я ни разу с ней не связались.
Ниси писала на голубой почтовой бумаге с золотым обрезом и монограммой.
«10 августа 1993 г.
Дорогая Сиддали!
Поздравляю тебя со свадьбой, когда бы она ни состоялась. Делай как тебе удобно, солнышко, и не торопись. Жаль только, что вы не хотите обвенчаться здесь, чтобы я увидела тебя и твоего мистера Суженого и как следует разглядела твое платье.
И еще поздравляю тебе с огромным успехом. Жаль, мы с Джорджем не смогли приехать посмотреть постановку. Фрэнк, его жена и все пти я-я просто в восторге. И они так рады, что повидались с тобой. И хотя меня там не было, дети все рассказали в мельчайших подробностях. Я так горжусь тобой, Сидда. Всегда знала, что ты — настоящий талант.
Душечка, лично я очень рада, что ты интересуешься жизнью я-я. Я рассказала обо всем Лайзе, Джоанне и Роуз, и они считают это весьма необычным, если не сказать странным. Мои дочери не питают особого интереса к прошлому, но ведь они и не предпочли театральную жизнь. Кстати, все посылают приветы и поцелуи. Мелисса снова вспомнила, как восхищалась тобой в прошлом году, когда вместе со Стивеном летала в Нью-Йорк на тот симпозиум. Клянусь, он один из лучших мужей, которые у нее были.
Надеюсь, альбом я-я, который послала твоя мама, окажется полезным.
«Нью-Йорк таймс» ужасно ее расстроила. Уверена, ты тоже это сознаешь. Понятно, что газеты вечно все преувеличивают, но все же такому нет извинения.
Твоя мать разрешила посылать все, что может быть для тебя интересным, так что я вложила несколько писем, которые хранила все эти годы.
Я начала молиться святому Франциску Патризийскому, покровителю прощения и примирения, за тебя и твою маму, Сиддали. Мы все любим тебя, дорогая, и постоянно за тебя молимся.
Целую и обнимаю.
Ниси.
P.S. Я поклялась твоей маме, что возьму с тебя обещание вернуть ей эти письма вместе с альбомом. Знаю, что ты будешь обращаться с ними бережно».
Письма Ниси лежали в наглухо закрытом пластиковом пакете, Сидда открыла его, молясь, чтобы ее намерения были честными. Молиться за то, чтобы эти самые намерения были чистыми, означало просить слишком много.
Она вынула первое письмо, написанное на нелинованной бумаге почерком Виви, и стала читать.
«12 декабря 1939 г.
11.15 утра
В вагоне поезда Саутерн — Кресент, по пути в Атланту.
Дорогая Ниси!
Господи, сахарный зайчик, ты просто представить не можешь, как мы по тебе скучаем. Я вполне серьезно. Без тебя я-я уже совсем не те, что прежде. Ты просила писать мне обо всем, вплоть до последней мелочи, и именно это я и собираюсь сделать. Сберегу каждый клочок, чтобы мы смогли все вклеить в мой альбом «Божественных секретов», когда вернемся домой. И хотя твоя мама не позволит тебе приехать, потому что не считает Джинджер настоящей дуэньей, я постараюсь сделать так, чтобы ты почувствовала себя здесь, с нами. Мы все ужасно злы на твою маму. В конце концов, нам уже тринадцать лет! Джульетте Капулетти было лишь четырнадцать, подумать только! А Джинджер вполне сойдет за настоящую дуэнью, хотя всего лить горничная.
О, подружка, как мне нравится в поезде! Когда он отошел от перрона и мы все принялись тебе махать, мне было ужасно грустно оставлять тебя одну.
А как здорово слушать стук колес. Кажется, стоит сесть в поезд, и ты можешь попасть куда угодно! И Торнтон больше не единственное место на свете, а один из сотен городов, раскиданных по всему миру. Я впервые еду в поезде без мамы и папы и стараюсь все рассмотреть. Домишки, женщин, развешивающих белье на веревках, и маленькие убогие городки, которые мы проезжаем. Остается только удивляться, что делают люди во всей этой глухомани. Хотелось бы сойти на какой-нибудь станции, отправиться в первый попавшийся город, назваться другим именем и попытаться прожить совершенно другую жизнь! Можно стать кем пожелаешь, и никто ни о чем не догадается.
Солнышко, в купе четыре сиденья. Ты самое милое создание в мире, если потрудилась испечь нам столько печенья. А еще у нас две обувные коробки жареных цыплят с бисквитами, приготовленных Джинджер. А еще тут есть специальный вагон для цветных, и там едет Джинджер. Она ужасно расстроилась, когда пришлось нас оставить. Даже пробовала уговорить проводника, чтобы позволил ей не уходить, потому что некому следить за нами, но он ответил, что разрешил бы, если бы мог, но это против закона, и босс сдерет с него шкуру. На что Джинджер ответила: «Все верно, но миз Дилия сдерет шкуру с меня, если что-то случится с этими белыми девочками».
Я еще никогда не путешествовала с цветными, поэтому не знала, что они должны ездить в отдельном вагоне, если не хотят нарушать закон. Так или иначе, именно там поместили Джинджер, так что мы совсем одни и сами себе хозяева. Все равно что нас вообще никто не сопровождает.
Видела бы ты, как люди смотрят на Джинджер! Поверить не могут, что негритянки бывают рыжими! Впрочем, и в Торнтоне никто не верил.
Позволь сказать тебе, сладкая ягодка, что у нас купе первого класса! С двумя опускающимися полками, так что получается четыре спальных места, и это разбивает нам сердца, одна полка должна была стать твоей, графиня Поющее Облако. Сегодня, перед тем как заснуть, мы сложим на полке все наши одеяла и притворимся, что это ты здесь лежишь.
Тинси захватила с собой последний выпуск «Модерн скрин», так что мы читаем об «Унесенных ветром». На обложке портрет мисс Янки Вивьен Ли, и это разбивает наши сердца. Мы все еще не простили киностудию за то, что не выбрала Талулу. Вивьен Ли не только не южанка, но даже не американка!
А все эти шляпы! В «Модерн скрин» есть снимки всех костюмов и шляп Скарлетт, такие, что просто штанишки намочишь от желания поскорее увидеть все это в кино! Нам так повезло попасть на премьеру!
Родственники Тинси из Атланты, тетя Луиза и дядя Джеймс Тинси, богаты как смертный грех! Он был другом Губера и только что не владеет компанией по розливу кока-колы! Во всяком случае, В Атланте именно он правит бал. Отец Тинси попросил для нас разрешения погостить у них в доме.
Моя тайная мечта — познакомиться с Маргарет Митчелл. Никому не говори, но я собираюсь взять у нее автограф на балу. Ускользну потихоньку, отыщу мисс Митчелл, расскажу, как люблю ее книгу, и попрошу автограф. Что ты об этом думаешь?
Графиня, а сейчас мне нужно идти, потому что герцогиня и принцесса просят поиграть с ними в карты. Шлют тебе сто поцелуев и велят сказать, что мы любим тебя до смерти и тоскуем каждую минуту.
Попозже напишу еще.
Люблю и целую много раз.
Вивиан».
Дрожа от возбуждения, Сидда отложила письмо, вышла в большую комнату и принялась листать альбом в полной уверенности, что где-то что-то видела об Атланте среди материнских сувениров. Наконец она наткнулась на вырезку из «Атланта джорнал» за пятнадцатое декабря тридцать девятого года. Заголовок гласил: «Бал Молодежной лиги — один из самых блестящих за всю историю Атланты».
Ниже приводился текст статьи.
В романтическую историю Атланты вписана новая блестящая глава. Речь идет о костюмированном бале, устроенном Молодежной лигой[38] по мотивам «Унесенных ветром» в городском концертном зале. Можно с уверенностью сказать, что городским властям удалось достигнуть новых необычайных высот в элегантности оформления, качестве программы и уровне гостей, решивших посетить бал. Это, по нашему мнению, является эпохальным событием. Ничего подобного нам не приходилось видеть раньше.
Появление Кларка Гейбла, Вивьен Ли, Оливии де Хэвилленд, Клодетт Колберт, Кароль Ломбард, губернаторов пяти штатов, капиталистов, представителей высшего света от Мэна до Калифорнии, магнатов, чей гений создал мощную киноиндустрию, известных политиков, писателей и актеров приветствовалось спиричуэлс, исполняемыми группой негров, прихожан Эбенезерской баптистской церкви, в костюмах рабов с плантаций. Затем на сцену один за другим вышли пятьдесят членов Молодежной лиги, одетых в великолепные костюмы времен Скарлетт О’Хара.
Внимание Сидды привлек обведенный кружком абзац. На полях чернели два слова, написанных от руки: «Угадай, кто?»
В зале танцевали не менее трех тысяч человек, и у дам с непривычки кринолины то и дело сбивались в сторону. Одна молодая девушка в голубом бенгалине и зеленой тафте, решив присоединиться к танцующим, попыталась пробраться к центру зала, и, к ее величайшему смущению, юбка взлетела вверх, накрыв с головой сидевшего впереди человека.
Сидда рассмеялась и жадно потянулась к другому письму.
«Позже
11 часов ночи
На нашей полке!
Ниси-о!
Я на верхней полке вместе с Каро и Тинси. Занавески раздвинуты, и мимо пролетают поля, желтые в лунном свете. Мы надели ночные сорочки и захватили наверх печенье. И, как я обещала, сложили одеяла на твоей постели, словно это ты положила свою сладкую головку на подушку. О, Hucu! Как жаль, что тебя здесь нет! Ты должна была ехать с нами!
Не поверишь, что случилось всего полчаса назад. Мы пели и шумели, но не громче обычного, ничего особенного, и вдруг ни с того ни с сего в дверь постучали. Мы понятия не имели, кто это, но поскольку были уже в рубашках, стали хихикать, а Каро вдруг прошептала, что это Кларк Гейбл. И мы стали кататься по полкам и стонать:
— Ретт, о, Ретт!
Но тут снова раздался стук, и мы едва не уписались. Так что Каро спрыгнула с полки, приоткрыла дверь и спросила:
— Что вам нужно?
А мы с Тинси свесились вниз и увидели проводника! Я думала, он сделает нам выговор за то, что слишком шумим. Но он сказал только:
— Пришел посмотреть, все ли у вас в порядке, юные леди. Ваш отец просил присмотреть за вами.
И мы сказали ему, что у нас все хорошо. Тинси еще спросила:
— Не могли бы вы принести нам немного холодного молока к печенью?
Ты ведь знаешь Тинси, она способна попросить все, что угодно, и у кого угодно. И проводник сказал, мол, посмотрит, что можно сделать.
Каро снова взобралась на верхнюю полку и сказала, что поскольку она подходила к двери, то я должна изображать Ретта.
— Поцелуй меня, Ретт! — сказала она, и я поцеловала ее, а она сказала: — Ретт, о, Ретт! — а я пригладила воображаемые усики. И тут в дверь опять постучали.
Мы все подумали, что это снова проводник, поэтому я спустилась и открыла дверь. Но там стоял цветной официант с тремя стаканами молока на подносе. Я поблагодарила его, а он спросил, не нужно ли вычистить нашу обувь. Мы сказали: «Да, спасибо», собрали туфли и отдали ему. A он вдруг прошептал:
— Джинджер хотела узнать, все ли у вас хорошо. Сказала, если что, пробежать два вагона против хода поезда, и она все уладит.
Мы ужасно удивились, что он знает Джинджер, но Джинджер, сама знаешь, все может. Я поблагодарила его, и он сказал:
— Меня зовут Мобли, на случай, если все-таки вам что-то понадобится.
Потом Мобли ушел и унес наши туфли. Пусть только попробует не вернуть их! Тогда мне придется утром идти в вагон-ресторан в одних носках.
Ехать в поезде — так здорово! Я решила, что готова даже жить в поезде. О, видела бы ты, как выглядит мир, когда мы мчимся мимо! Не знаю точно, где мы сейчас. Где-то в глуши. Но направляемся к Воротам Юга.
Мы все желаем спокойной ночи, приятных снов и смерти всех клопов.
Тысяча поцелуев.
Виви».
«13 декабря 1939 г.
Атланта, штат Джорджия
3 часа дня
Дорогая, дорогая Ниси-пышечка!
Мы прибыли в Атланту в 9.17 утра. Вокзал огромен. В нем, наверное, поместилось бы три таких, как торнтонский, и осталось бы еще место для небольшой вечеринки с танцами.
На станции нас встречала Луиза, тетя Тинси. В роскошной шубе, с шляпой и муфтой из того же меха. Она привезла с собой кузена Тинси, Джеймса-младшего. Приветствовала нас очень вежливо, но я с первого взгляда поняла, что она сноб. Немного приличнее, чем ее сынок, но все же сноб. А вот Джеймс-младший такой сноб, что даже не имеет совести это скрыть. Сказал что-то гнусное насчет моего багажа еще до того, как мы вышли на улицу, а при виде Джинджер повел себя так, словно той запрещено показываться на улице без униформы горничной. Тинси сказала ему, что далеко не все горничные в Торнтоне носят униформу. И он уставился на нее, этот кузен, уставился с такой гримасой, словно увидел вошь. Но, Ниси, я решила не обращать ни на что внимания, поскольку мы — их гости.
И позволь сказать, девочка, что весь город просто на ушах стоит от возбуждения! В воздухе словно электричество потрескивает. В каждой витрине — киноафиши, плакаты: можно подумать, вся Атланта стала одной гигантской рекламой фильма!
Я слышала, мисс Митчелл с самого октября не выходит из квартиры — устала от всей этой суеты. Отдыхает и каждые полчаса принимает аспирин. Могу представить, как она себя чувствует после всего, что ей пришлось пережить, чтобы написать лучшую в мире книгу, а потом ждать премьеры фильма и все такое. О, как бы я хотела с ней познакомиться! Все бы на свете отдала! Мне кажется, я уже знаю ее, но хотелось бы узнать получше.
Ну вот, когда мы добрались до дома тети Луизы, у нас от удивления челюсти отвисли. Это настоящий особняк. Тинси говорит, что Женевьева втихомолку называет его «кока-коловый дворец». То есть ничего подобного в Торнтоне нет и не было. Большая круглая подъездная дорожка, и такая шикарная веранда, что ее легко принять за столовую. А внутри, о, Ниси, словно попадаешь в кинофильм! Они так богаты, что вся цветная прислуга носит крахмальную униформу и ведет себя как в Англии. Не то что дома, где мы играем на кухне в карты с Джинджер, Ширли и с кем ни попадя.
Стоит нам переступить порог, как тетя Луиза приказывает одной из горничных:
— Идите и немедленно переоденьте эту горничную из Луизианы.
Можно подумать, она не знает, как зовут Джинджер, хотя я познакомила их, когда мы вышли из поезда. Тетя Луиза смотрит на одежду Джинджер так брезгливо, словно в ней кишат блохи, клопы или что-то в этом роде. Что, разумеется, чистая неправда, ведь Дилия такого не допустила бы.
Через пять минут появляется Джинджер в черной накрахмаленной униформе и белом переднике с оборками. А на голове маленький белый чепчик!
— Джинджер, — поддразниваю я, — придется сфотографировать тебя, чтобы дома все увидели, как ты разодета.
А она ведет себя как-то странно, словно не знает меня. Дилия лопнула бы со смеху при виде Джинджер в этой французской униформе.
Нас трех поместили в роскошной большой спальне с отдельной огромной ванной, камином и окном-фонарем, выходящим на задний двор. Наши платья с кринолинами уже висели в гардеробе. Скорее бы надеть мое голубое платье из бенгалина[39]! Здесь все совсем не такое, как у нас. И куда шикарнее, чем в доме Тинси. В ванной, на серебряном блюде лежат крохотные брусочки мыла в форме теннисных ракеток, вот какие богатые люди тут живут.
Мы с Каро спим на большой кровати, а Тинси — на раскладной, с атласным зеленоватым одеялом. Дворецкий, или кто-то в этом роде, принес наши вещи, так что теперь я могу спокойно написать тебе, чтобы ты хотя бы в мыслях побыла с нами. Мне нравится все записывать, ведь в этом случае я все запоминаю лучше. Столько еще предстоит увидеть, и сделать, и усвоить, что голова идет кругом.
О, представь, что мы в Риме и должны жить как римляне.
Об остальном потом.
Целую много-много раз.
Виви».
«Позже
10.30 ночи
Ниси, девочка!
Нас позвали к ужину, очень торжественному, за которым мы наконец познакомились с дядей Джеймсом. Представляешь, чаши для ополаскивания пальцев и серебряные кольца для салфеток с монограммами! Этот ужасный Джеймс-младший скалился на меня весь обед. Не пойму, как такой мальчишка может быть родственником Тинси и Джека!
Тинси сбросила всю одежду. Видела бы ты ее! Растянулась на кровати, скрестив ноги и откинув голову, и приказывает свысока:
— Очисти мне виноградину, Бьюла[40]!
Знаешь, какая она! Когда мы поднялись наверх, заставила всех нас забраться в большую ванну на львиных ножках и мыться вместе. Опрокинула в воду целую бутылку французской соли для ванны! Целую бутылку! Мы просто лежали в ванне и мокли до одурения. Знаю, не стоило бы этого тебе рассказывать, потому что ты, наверное, успела покраснеть как свекла, маленький Винни-Пух! Ты настолько скромнее нас! (Но мы все равно тебя любим.)
P.S. Когда мы пришли в спальню, наши постели были уже расстелены. Я сразу вспомнила мать. Она всегда переворачивает мою подушку на прохладную сторону, когда приходит пожелать спокойной ночи.
P.P.S. Господи, я едва не забыла рассказать тебе. Сегодня в «Атланта конститьюшн» описывалось, что мисс Митчелл собирается надеть на премьеру: «платье из розового тюля в несколько слоев поверх розового крепа с облегающим корсажем и вырезом сердечком». Не могу послать тебе газету, потому что тетя Луиза приберегает ее для альбома с вырезками об «Унесенных ветром». Но я выписала это из статьи специально для тебя, прежде чем отдать ей газету:
Розовые камелии, олицетворение Старого Юга, послужат украшением ее платья, а из-под складок пышной юбки будут выглядывать крохотные серебряные туфельки.
Поскольку я собираюсь лично познакомиться с мисс Митчелл, расскажу подробнее о ее туалете, когда увижу сама!»
«14 декабря… нет! 15 декабря 1939 года. 2 часа ночи.
Дорогая Ниси!
Девочка, девочка, девочка! Мы только что приехали домой после самого волнующего дня в моей жизни. Джинджер ждала нас, ужасно расстроенная, потому что ее не взяли с нами, и почти в слезах, поскольку считает, будто из нее вышла плохая дуэнья. С тех пор как мы поселились в кока-коловом дворце, почти не видим Джинджер. Она все твердит, что Дилия обязательно убьет ее, когда мы вернемся домой.
— Джинджер, я даже не желаю думать о возвращении домой! — сказала ей я. — А теперь, пожалуйста, спустись вниз и сделай мне кофе с молоком, потому что я не лягу спать, а буду писать мисс Ниси.
И вот я пишу тебе, сидя в большой постели, где крепко спит Каро, а Тинси, как всегда, громко храпит на раскладной кровати. Я, как обычно, засыпаю последняя, где бы ни находилась. Но, солнышко, должна же я рассказать тебе все!
Во-первых, сегодня утром за завтраком тетя Луиза уже была одета в роскошное платье на кринолине! Да-да, прямо за завтраком! А этот маленький слизняк Джеймс-младший напялил потрепанный мундир времен Гражданской войны, который удалось раздобыть тете Луизе. Дядя Джеймс уже отправился в свою «Кока-Колу», поэтому я не знаю, что надел он. А вот тетя Луиза объяснила, что ее платье тоже снималось в кино! Целая компания ее подруг из Молодежной лиги были статистками в сцене на рынке (помнишь в книге?) и тоже должны оказаться на экране. Представляешь?
Этот болван Джеймс-младший убрался куда-то со своими дбенадцатилетними кретинскими друзьями, и тетя Луиза сказала, что собирается провести день с подругами, прежде чем отправиться в муниципальный зал и проверить, все ли готово к балу. Это означало, что с нами поедет Джинджер и одна из горничных, когда водитель Уильям повезет нас по всему городу.
Не поверишь, сколько народу уже было на улицах. И все в мундирах южан и платьях с кринолинами! В машине было радио, и передавали все, до мельчайших подробностей, словно в город приехал сам ФДР[41]! В этот момент на вокзале высаживалась целая куча звезд, включая Клодетт Колберт, но мы многое пропустили, потому что в 10.15 были на углу Уайтхолл и Алабама-стрит, где ожидали начала торжественной церемонии зажжения фонарей. Я раньше не знала, что именно этот фонарный столб остался невредим после осады Атланты войсками генерала Шермана. И именно этот фонарь сейчас зажгли, дабы показать, что дух Конфедерации не угас. Мы трое плакали и не могли остановиться, и все думали о Конфедерации. А потом губернатор объявил этот день нерабочим, потому что День премьеры теперь считается праздником штата.
А потом старина Уильям отвозит нас на Пичтри-стрит, находит хорошее местечко, откуда все видно, и мы выбираемся на крышу автомобиля, чтобы посмотреть парад. О, людей было столько, что яблоку негде упасть! А потом начался парад! Ниси, машин было не меньше пятидесяти или шестидесяти, все кабриолеты, и в них сидели звезды и махали нам руками! И все выглядели как настоящие короли и принцессы! Сам Кларк Гейбл тоже там был! Солнышко, я не вру! Своими глазами видела! И в жизни он такой же замечательный, как на экране! С ним была Кароль Ломбард, и они улыбались и тоже махали нам, и, клянусь, Ниси, он посмотрел прямо на меня! Тинси и Каро пытаются вести себя так, словно ничего этого не было, но они просто завидуют. Я правду говорю! Кларк Гейбл взглянул прямо на меня и улыбнулся!
Кстати, о параде. Я видела больше звезд в дорогих машинах, чем ты способна представить. Когда видишь что-то подобное, сразу забываешь о Депрессии. После окончания парада Уильям повез нас в отель «Джорджиан террейс». Не поверишь, там произносили речи губернаторы из пяти штатов! Пришлось подождать, пока эти зануды не наговорились, прежде чем на сцену поднялся сам Кларк Гейбл! Все орали, вопили, хлопали в ладоши и издавали клич мятежников! Так что мы тоже не отстали, а я сунула пальцы в рот и разразилась своим знаменитым свистом! Гам стоял такой, что ты наверняка упала бы в обморок!
Мы едва на ногах держались, когда вернулись домой, поэтому поели немного фруктового пирога с кока-колой и подремали. Вообразили себя южными красотками в «Двенадцати дубах», в сцене перед балом. И даже нашли Джинджер и спросили:
— Джинджер, почему бы тебе не найти опахало и не обмахивать нас, как в «Двенадцати дубах»?
На это Джинджер ответила:
— Сейчас декабрь, и никакого опахала вам не нужно. Замолкните и ложитесь спать.
— Делия даже убийство спустит Джинджер с рук, — негодующе прошептала Тинси.
Но Джинджер услышала (она слышит даже кошку, крадущуюся по ковру) и предупредила:
— Мисс Тинси, вам лучше поскорее заснуть, если не хотите на своей шкуре узнать, что такое настоящее убийство.
Долго спать не вышло, потому что горничная тети Луизы разбудила нас и сказала, что пора готовиться к балу. Явилась портниха тети Луизы, и нам пришлось померить костюмы, потому что тетя Луиза хотела знать, не нужны ли какие переделки. Мой голубой бенгалин и зеленая тафта — просто шик, но, должна сказать, в этом кринолине не так просто двигаться. Неловко повернувшись, я сбила модную безделушку с дурацкого столика на тонких ножках. Слава Богу, хоть не разбилась.
Итак, когда мы были разодеты в пух и прах, Уильям повез нас в «паккарде» на костюмированный бал. Тетя Луиза и дядя Джеймс сели в другую машину. Этот скунс Джеймс-младший ухитрился втиснуться к нам и довести до белого каления. Всего на год младше, а ведет себя как большой жирный сосунок! Я принялась строить ему рожи, прежде чем такая же мысль пришла в голову ему. Он сказал Тинси, что та, в своей белой тафте с оборками, выглядит дурочкой, поэтому она сделала вид, что вытерла сопли о его конфедератский мундир. Мы так хохотали, что у меня на спине оторвалось несколько крошечных крючков. Не пойму, как Скарлетт и все остальные ухитрялись как следует посмеяться во всех этих штуках!
Но как только мы оказались на балу, я обо всем забыла! Перед входом, в маленьком парке, толпились сотни людей. Дядя Джеймс объяснил, что это безбилетные и им следовало бы разойтись, как советовал мэр Хартсфилд. Но они стояли и стояли на холоде, похожие на тех, кто жил в «трейлерном раю» Олли Тротта у нас дома, в обносках, с гнилыми зубами, и все такое. Когда полицейские приказали им отступить, они подчинились.
И мы просто прошли мимо, Ниси. Тетя Луиза пыталась нас поторопить, но мы еле двигались в своих кринолинах. Может, в этих тряпках ты и выглядишь леди, но, поверь, далеко в них не уйдешь.
О Боже! Внутри все было обставлено под настоящий старый Юг! Звезды сидели в отдельных ложах. Кларк Гейбл и Вивьен Ли в черном бархате с миллионом горностаевых хвостиков на рукавах. И Кароль Ломбард с волосами спрятанными под черную сетку. А Оливия де Хэвилленд опоздала, и ее пришлось поднимать в ложу! Тинси, я и Каро дрались за театральный бинокль, чтобы не пропустить все это!
О, здесь были все звезды. Но не Присси, не Порк и не Большой Джим, ни даже Мамушка! Они не могли приехать в Джорджию. Потому что они цветные.
Тетя Луиза подробно описала, из чего сшиты костюмы звезд, а еще она знала, какие созданы тем типом, кто придумал костюмы для кино, а какие — нет. Тетя Луиза разбирается во всем что связано с «Унесенными ветром», потому что жила только этим фильмом целых два года. Мало того, одна из ее подруг — актриса, которая играла Индию Уилкс. Потому что эта леди сама из Атланты. Тетя Луиза говорит, что не считает ее такой уж хорошей актрисой, но она по крайней мере представляет Юг.
Наконец я спросила тетю Луизу, где именно сидит мисс Митчелл. И представляешь, тетя Луиза (ведьма противная) взглянула на меня и ответила:
— Пусть тебя не волнует эта неблагодарная писака, Виви! Она не сочла нужным даже показаться!
— Что?! Как это? — поразилась я. — Мисс Митчелл не приехала? Но ведь бал в ее честь! Она такая же звезда, как Вивьен Ли!
Но тетя Луиза только усмехнулась, словно ей лучше знать.
По дороге домой я думала лишь о мисс Митчелл. (У меня оборвались все крючки, и платье лопнуло под мышками, а еще я ужасно вспотела. Наверное, в таких туалетах просто не имеешь права двигаться и дышать.) Но я не могу выбросить из головы мисс Митчелл. Все время спрашиваю Каро и Тинси:
— Почему? Почему она не приехала? Ради Бога, почему же она не показалась.
Тинси предположила, что она заболела, но я думаю, тут что-то другое. У такой великой писательницы, как мисс Митчелл, на все должны быть свои резоны, и я обязательно узнаю, в чем дело, даже если придется из кожи вон вылезти.
Так что сегодня наш день, графиня Поющее Облако. И каждое написанное мной слово — чистая правда. А когда мы вернемся домой, я все представлю в лицах: как Гейбл и Ломбард поворачивались к каждому и перебрасывались словом-другим, пока шли рука об руку, и как актер, игравший отца Скарлетт, танцует вроде твоего дяди Колли. Но сейчас пора спать.
Скарлетт и твоя
Вивиан».
«15 декабря
3 часа дня
Дорогая Дениз!
Утром Каро и Тинси спросили меня:
— Виви-пышечка, что ты пишешь Ниси?
И я ответила:
— Протоколирую все наши божественные секреты, до того времени, когда настанет пора писать мемуары.
Потому что, Ниси, я точно знаю: все, что делаем мы четверо, очень важно. И верю, что через много лет люди захотят узнать о нас.
Ну так вот. Мы спали допоздна, особенно я, которая никак не могла поднять голову с подушки после того, как всю ночь писала тебе письмо. A когда встала, оказалось, что тетя Луиза уже вернулась с обеда в пресс-клубе и сгорала от нетерпения поскорее поделиться с подругами. Мы спустились вниз, пока она висела на телефоне, сделав не меньше сотни звонков. Мы старались не подслушивать, но ничего не получалось. Приходилось все время слоняться рядом, потому что в доме холодно, а батарея отопления — как раз возле телефона, и еще потому, что мы искали пуговицу, которую Каро якобы потеряла где-то именно в этом месте. (Ха, все вру, приходилось подслушивать, на случай если она упомянет мисс Митчелл.) Ну так вот: тетя Луиза многозначительно на нас поглядывала, но мы упорно игнорировали ее и продолжали слушать. И как раз когда она уже была готова закончить разговор, быстренько побежали на кухню и стали рыться в холодильнике, выискивая, что бы съесть.
Горничная оставила нам сандвичи с ростбифом, сыр и фрукты, и мы как раз открывали бутылки с колой, когда вошла тетя Луиза.
— Ну, полагаю, нет нужды говорить вам, из-за чего я расстроена, — начала она.
Мы сделали вид, словно понятия не имеем, о чем она, словно не подслушивали, как она рвет и мечет и вопит на всю Атланту.
Тинси сразу изобразила сочувствие.
— Тетя Лу, — пропищала она, — что случилось?
И тут тетя Луиза порылась в глубине чулана и вынула жестянку с крекерами и бутылку бренди. Налила себе стаканчик и только потом сказала:
— Никогда не называй меня Лу. Мое имя — Луиза. По-моему, я уже достаточно ясно дала это понять, Эме.
И тут, представляешь, наша Тинси улыбнулась тетке и заявила:
— Пожалуйста, мэм, не зовите меня Эме. Мое имя — Тинси.
До чего же хитрая и коварная эта Тинси!
Тетя Луиза, не обратив внимания на Тинси, уселась за кухонный стол и рассказала, что, по ее мнению, мисс Митчелл просто дала пощечину всей Молодежной лиге, не приехав на вчерашний бал, устроенный этой самой лигой. И все потому, что в начале двадцатых, будучи дебютанткой, мисс Митчелл отправилась на благотворительный бал, а там, уж неизвестно, что ей в голову взбрело, ни с того ни с сего пустилась в совершенно дикий и непристойный танец апачи и так шокировала дам, членов Молодежной лиги Атланты, что те единогласно решили никогда не принимать ее в свои ряды. Вот Митчелл и решила отплатить им, не показавшись на балу, хотя была там почетной гостьей.
— А что такое «танец апачи»? — поинтересовалась я. — Мне просто необходимо знать! Я здесь репортер, и мне нужны детали.
— Не собираюсь посвящать молодых девушек в неприличные подробности! — отрезала она, чем еще больше разожгла мое любопытство.
— Она была голая, как дикарка? — не унималась Тинси.
— Ну… не совсем, — пробормотала тетя Луиза, прижимая пальцы к вискам.
— В таком случае, — удивилась Каро, — из-за чего столько шума?
— Могу сказать только, что мисс Маргарет Митчелл исполнила то, что позже описала как «индейский танец совокупления». Все это совершенно неприемлемо для любой женщины, считающей себя леди. И поэтому, как бы высоко ни ценили в городе ее семью, родные не смогли защитить мисс Митчелл от последствий такой выходки. Молодежная лига имеет свои стандарты, и надеюсь, вы этого не забудете.
— О, мэм, конечно, — заверила Каро и, отвернувшись, сделала вид, что ее сейчас вырвет.
Мы все захихикали, и тетя Луиза велела нам бежать наверх и развлекаться там.
Ну, Ниси, думаю, замечательно, что мисс Митчелл натянула им нос! Все же мне не по себе оттого, что я так и не познакомилась с ней прошлой ночью, и теперь собираюсь сделать все, чтобы увидеть ее сегодня на премьере.
Заканчиваю, потому что мы решили прогуляться по округе, посмотреть на рождественские украшения, прежде чем начать готовиться к премьере.
Тысяча поцелуев.
В. А.».
«Позднее
10.45 вечера
Дорогая графиня Поющее Облако!
Не знаю, как описать все это словами, но постараюсь. Мы только что вернулись с премьеры величайшего фильма, самого лучшего на свете. Я беру назад все, что когда-либо сказала против Вивьен Ли. Я люблю ее. Обожаю. Вивьен Ли — это и есть Скарлетт. Я вошла в зал, думая, что никогда не позволю себе полюбить ее и что никогда не прощу киностудию за то, что не выбрала нашу милочку Талулу для лучшей роли из всех когда-либо написанных для кино. Но все мгновенно улетучилось, стоило лишь увидеть мисс Ли на ступеньках Тары, в обществе близнецов Тарлтон, и услышать, как она восклицает: «Эта святоша Мелани Уилкс!» — как я пропала! О Господи, милочка, просто не знаю, как и рассказать тебе о фильме! Ты просто обязана его посмотреть! Не знаю, что может быть романтичнее! А когда они целуются! И когда она притворяется, будто не знает, куда улетела шляпка! А когда он подхватывает ее и несет по лестнице (это куда красивее, чем в книге)! А когда она решает сшить себе платье из штор! Правая бровь Вивьен Ли взлетает вверх, и ты прямо-таки видишь, какие мысли кружатся у нее в голове! А сколько раз я-я повторяли «вздор!», корчась от брезгливости, что какая-то англичанка теперь тоже получит право так говорить! Мы были не правы, Ниси. Не правы, не правы, не правы, и я первая готова это признать.
Я хочу жить в этом фильме, Ниси. Потому что была рождена для такой драмы.
Сейчас расскажу все, что сумею. Я все еще так взволнована и так устала плакать и хлопать в ладоши… но не беспокойся, все это стоит подробного пересказа.
Я забыла рассказать тебе о театре. Люди из Голливуда смогли сделать так, что фасад «Лоуз гранд» выглядит совсем как фасад Тары! Им каким-то образом удалось даже вырастить поперек Пичтри-стрит целый газон, по которому шли в кинотеатр звезды. Мистер Гейбл — настоящий рыцарь. Он сказал именно то, что я хотела от него услышать. Сказал, что эта ночь не его ночь. Что она принадлежит мисс Митчелл. О, вот это сразу показало, чего он стоит. И я влюбилась в него так, что, наверное, никогда не смогу с собой справиться.
Он такой красивый в своем черном пальто с белым шарфом, а на мисс Ломбард было платье из золотого ламе, которое прямо-таки слепило глаза.
И тут настал момент, которого я ждала всю жизнь. Подкатил лимузин, длинный, как городской квартал, и из него вышла мисс Митчелл. О, Ниси, она такая кро-о-охотная! Рядом с ней даже Тинси кажется великаншей. И она произнесла короткую речь, в основном благодарила всех, прежде чем войти в театр. По правде говоря, я думаю, она нервничала. Мне хотелось подбежать к ней, попросить дать автограф, но вряд ли это было уместно, даже если бы я сумела пробиться сквозь толпу. Даже просто видеть ее — уже потрясение.
Итак, мы вошли в театр, который был забит до отказа. Воздух благоухал мужским тоником для волос и духами леди. Слышалось шуршание платьев. Мы с Каро и Тинси держались за руки. По-моему, я затаила дыхание, потому что, когда занавес открылся, я почувствовала себя так, словно вот-вот взорвусь.
О! Эти огромные титры плыли по экрану, словно подгоняемые ветром, а музыка была такая, что я заплакала еще до того, как увидела первый кадр. А потом я совсем перестала дышать, до тех пор, пока Скарлетт не оказалась на поле, со всей этой репой, клянясь, что, Бог ей свидетель, она никогда больше не будет голодать. А музыка стала громче, и скоро вспыхнули огни: это кончилась первая серия. И все стали хлопать как безумные, а впереди была еще вторая серия. В антракте мы просто стояли в вестибюле, держась за руки, и почти не говорили. И с трудом проглотили пунш, который принес нам дядя Джеймс, потому что все еще были в Таре. Как могли мы роскошествовать, когда Скарлетт голодала?
И столько печали. Столько скорби. О, Ниси, мое сердце разлетелось на миллион осколков по полу «Лоузгранд». Я плакала и плакала, и Каро с Тинси — тоже. Мы промочили все наши платки, а я только и думала о том, как похожа на Скарлетт. Никогда нет под рукой платка, когда нужно! Солнышко, ну почему она так обращается с ним? Почему? Ретт любил ее. Неужели она не видела? Почему была так слепа? Я никогда, никогда не позволю ничему подобному случиться со мной! И когда встречу своего Ретта, буду любить его страстно, даже если это станет моей погибелью.
О, Ниси, не могу больше писать. Я так устала, и каждый раз начинаю плакать, стоит мне подумать обо всем этом. Попробую уснуть после самого волнующего дня в моей жизни. (Я ошибалась, когда думала, что это было вчера. Представить невозможно, что нечто подобное когда-нибудь повторится в моей жизни.)
О-ля-ля и поцелуй.
Вивиан.
Я решила отныне называться Вивьен, чтобы больше походить на нее».
«Три часа утра, в кока-коловом дворце
16 декабря 1939 г.
Ниси!
Этот дом слишком большой, и в нем все время раздаются какие-то страшные звуки. Я видела дурной сон. Что-то связанное со Скарлетт. Мы вместе бежали сквозь густой туман. Я проснулась в поту и сначала не поняла, где нахожусь. Все остальные спали, поэтому я встала с кровати и пошла на поиски Джинджер. Посмотреть, удастся ли разбудить ее и уговорить сыграть со мной в карты.
Целая вечность ушла на то, чтобы найти ее комнату. То есть не столько ее, сколько горничной, с которой ее поселили. Я постучала и, не дождавшись ответа, открыла дверь и увидела Джинджер на узком топчане.
И, Ниси, она плакала. Джинджер плакала!
Ниси, кажется, я никогда еще не видела, как плачут цветные.
Заметив меня, она вздрогнула и спросила:
— Мисс Виви, что вам здесь нужно?
— Не могу уснуть, Джинджер, — сказала я и уселась на пол рядом с топчаном.
Ночью Джинджер выглядела совсем другой. На ней была старая фланелевая сорочка Дилии, вроде тех, которые мама пускала на тряпки.
— Почему ты плачешь, Джинджер? — спросила я.
— Потому что скучаю по семье.
Я ужасно удивилась.
— Скучаешь по Дилии?
A она посмотрела на меня так, словно я ее ударила или что-то в этот роде.
— Твоя бабушка мне не родня. У меня есть муж и две дочери. Ты их не знаешь.
И она снова заплакала.
— Перестань, Джинджер, успокойся, — уговаривала я.
Мне стало так страшно видеть ее слезы. Кому, как не ей, поручили нас оберегать? Дуэньи не должны плакать. А она задыхалась, будто кто-то ее душил. Я просто не могла на это смотреть!
— Джинджер, — сказала я, — завтра мы уезжаем. Не успеешь оглянуться, как мы уже будем в Торнтоне.
Она ничего не ответила, только продолжала рыдать, уткнувшись в подушку.
— Вставай, Джинджер, — попросила я. — Давай поиграем в карты, как дома. Пойдем, я хочу играть в карты.
Она замолчала и просто лежала не шевелясь. Я снова испугалась.
— Сделай мне горячего шоколада, Джинджер. Поднимайся же, мне нужен шоколад. И ты тоже можешь выпить чашечку. Хочу горячего шоколада, такого, какой ты всегда варишь мне дома.
И, Ниси, она посмотрела на теня так, как никогда в жизни не смотрел ни один цветной, и сказала:
— Пойди и свари себе сама!
Отвернулась, опять всхлипнула и вытерла глаза краем простыни.
Пришлось встать и вернуться к себе. Но все крепко спали. Я так напугана, Ниси, а почему — сама не знаю.
Твоя Виви».
«16 декабря
8 часов вечера
В поезде, по дороге домой.
Мы снова в поезде, и я буквально измотана. Противно рассказывать, чем закончилось наше приключение, но я поклялась ничего от тебя не утаивать и сдержу клятву.
Утром мы проснулись, сложили вещи и спустились к завтраку. У меня ужасно болели глаза, совсем как в ту ночь, когда мы остались у тебя и болтали до утра. Стол накрыли в столовой, и тетя Луиза, охая и ахая над снимками, читала «Атланта конститьюшн». Джеймс-младший, наглый пронырливый хорек, тоже там был.
— Мы хотели искренне поблагодарить вас за то, что позволили погостить в вашем доме и побывать на празднике, тетя Луиза, — пропела Тинси. — Дома все нам будут завидовать.
— Поскорее бы вернуться и все рассказать нашей подруге Ниси, — поддержала ее я.
Каро тоже поблагодарила тетю Луизу. Я хотела добавить еще что-то, но гнусный червяк Джеймс-младший принялся повторять за мной каждое слово.
— Прошу прощения, попугай, что это на тебя нашло? — осведомилась я.
— Пытаюсь усвоить говор деревенских олухов. Уедете, и поучиться не у кого будет, — преспокойно заявил он.
Я взглянула на тетю Луизу в надежде, что она одернет его. Но она как ни в чем не бывало откусила кусочек бисквита и принялась пить кофе. Я попробовала продолжать, но Джеймс-младший не дал мне говорить.
Вдруг из кухни вышла Джинджер, что меня очень удивило. Все это время я ни разу не видела ее в столовой. Представляешь, Ниси, она несла на подносе чашку с горячим шоколадом. Сварила его специально для меня! Джинджер подошла к моему стулу, и я уже хотела поблагодарить ее.
И тут Джеймс-младший снова открыл свою пасть!
— Ниггер, — прошипел он, — кто сказал, что ты имеешь право тащить в нашу столовую свою черную луизианскую задницу? Проваливай отсюда!
Джинджер застыла как вкопанная прямо на персидском ковре. Она не двигалась. Просто смотрела перед собой, словно осталась одна в комнате. Словно никого из нас здесь не было. Я снова взглянула на тетю Луизу, проверить, не врежет ли она Джеймсу-младшему по голове, но эта женщина спокойно продолжала помешивать кофе.
И вдруг с того места, где стояла Джинджер, я услышала дребезжание чашки с шоколадом о блюдце. Потом все как-то случилось сразу, в одно мгновение. Не успев сообразить, что делаю, я схватила свою тарелку и швырнула в Джеймса-младшего. Тарелка лиможского фарфора с яичницей, овсянкой, беконом, бисквитами и инжирным джемом полетела через стол прямо в физиономию маленького двуногого хорька.
— Заткни свою грязную глотку, ты, длинноносый толстомордый маменькин сынок! — взвизгнула я. — Неужели мать не научила тебя приличным манерам?!
И мне показалось, что за какой-то миг до того, как выйти из комнаты, Джинджер покосилась на меня и подмигнула. Не уверена, было это на самом деле или я все это придумала.
Не представляешь, что началось. Тетя Луиза завопила, прибежала другая горничная, а Джеймс-младший заревел. В самом деле заревел, Ниси! И не то чтобы так уж сильно я ему заехала тарелкой. То есть ни крови, ничего такого, если не считать, что он весь в желтках и беконе.
Но тетя Луиза стащила меня со стула и начала трясти — так яростно, что я испугалась, как бы язык не прикусить. А потом она швырнула меня на пол, как игрушку. И, Ниси, по тому, как она трясла меня, я сразу поняла: ей всегда хотелось этого, с того самого момента, как она меня увидела.
Наконец она взяла себя в руки и отпустила меня.
— Вивиан Эббот, отныне ты нежеланная гостья в этом доме! И не только в этом, но и в домах моих подруг! И это после всего, что я сделала для вас троих! Из кожи вон лезла, чтобы показать, как живут цивилизованные люди! И все потому, что брат просил меня за вас. Потому что Тинси уже искалечена Женевьевой, этой лишенной вкуса особой! Старалась изо всех сил, чтобы вы, маленькие провинциалки, не стали посмешищем всей Атланты! Ну так вот, я умываю руки! Возвращайтесь в свое захолустье и продолжайте расти дикарками, не знающими, что такое приличное воспитание! Ничего, кроме стыда и позора, от вас не дождешься! Эме, я немедленно телеграфирую твоему отцу, что не желаю иметь с тобой ничего общего. С тобой и твоей наглой шайкой потаскушек.
— Мы не потаскушки, тетя Лу. Мы я-я! — возразила Тинси так энергично, что Каро зааплодировала.
Но тетя Луиза, словно не слыша, сухо сообщила:
— Я уже говорила: меня зовут Луиза.
«Тебя зовут старая задница», — подумала я, но ничего не сказала, потому что была ее гостьей.
Тетя Луиза велела Уильяму отвезти нас на станцию пораньше, чтобы поскорее убрать из своего дома. Знаешь, Ниси, я плакала и плакала и никак не могла успокоиться. Мне было так плохо! А Каро и Тинси все обнимали и обнимали меня. Когда поезд отошел от перрона и мы в последний раз смотрели на Атланту, то видели ее такой, как тогда, разрушенной, сожженной, заваленной трупами умирающих солдат Конфедерации. И я все время думала, какой измученной и голодной была Скарлетт и как ей недоставало матери.
Я все плакала и плакала, пока вдруг меня не осенило. Ниси, я совсем как мисс Митчелл, которую не пустили в Молодежную лигу из-за индейского любовного танца. И тут я подумала: может, мисс Митчелл знала, что делает, когда танцевала этот танец. Может, она хотела, чтобы ее вышвырнули из клуба, чтобы быть свободной и написать величайшую книгу всех времен.
Да, я решила, что между Скарлетт, мисс Митчелл и мной есть вполне определенное сходство. Все мы терпеть не можем бледных, жеманных, чопорных дурочек. И если это не нравится кому-то из Молодежной лиги, что ж, тем хуже для них.
С любовью
Вивиан (помни, читается как «Вивьен»)».
«Позже
12.07 утра
Ниси!
Мы пересекаем штат Алабама. Я отправилась в вагон для цветных посмотреть, что поделывает Джинджер, и принести ей кока-колы. И не поверишь, но она развлекалась на всю катушку! Курила сигареты, жевала жвачку, прикладывалась к ходившей по кругу бутылочке и играла в карты с компанией цветных. И при этом хохотала во все горло, но, завидев меня, улыбнулась и сказала!
— Мы едем домой, малышка! Ну разве не хорошие новости?
— Еще какие! — согласилась я и отдала ей кока-колу.
— Спасибо, детка, — кивнула она и глотнула сначала колы, а потом того, что было в бутылке.
— Джинджер, — сказала я, — ты ведь знаешь, что леди не курят, не пьют и не жуют жвачку в обществе незнакомых людей.
Джинджер посмотрела на остальных, и все засмеялись словно старые друзья.
— Миз Виви, — объяснила она, — старой Джинджер ни к чему беспокоиться о таких вещах. Она не леди и никогда не будет леди. Это твоя проблема, детка. Это твоя проблема.
Ниси, довольно с меня путешествий. Скорее бы оказаться дома. Я люблю тебя. Мы все тебя любим. И нам одиноко без тебя. Сегодня Каро сказала, что ты немного похожа на Мелани. Не думаю, что это так. Но все равно люблю тебя, как Скарлетт, которая поняла, что любит Мелани, только когда та умирала. Ты наша кровная сестра, помни это, а кровные сестры не уезжают друг от друга надолго, как бы тоскливо ни звучали паровозные гудки в ночном воздухе.
С вечной любовью
Виви».
11
Сидда аккуратно сложила письма и спрятала в пакет. А когда встала, голова немного закружилась. Ее охватило ощущение нереальности, в точности как бывает, когда выходишь на солнце из полутемного кинотеатра. Оглядев комнату с удобной мебелью, типичной для северо-запада, и фамильными фотографиями на стенах, она вдруг почувствовала себя чужой. Волна ностальгии впервые за несколько лет нахлынула на Сидду. Она нагнулась к лежавшей на диване Хьюэлин и почесала ей брюшко. Хьюэлин заворчала, перекатилась на спину и раскинула лапы, требуя новых ласк. Сидда пробурчала что-то, подражая собаке, и потерла курчавые уши. Как получается, что кокер никогда не теряет добродушия и жизнерадостного настроя? Так готов любить и принимать любовь?
— Пойдем, подруга, — позвала Сидда. — Пора гулять.
Они пошли в лес, густой и старый. Было только четыре часа дня, но тучи нависли так низко, что казалось, уже наступили сумерки. Сидда вдруг задалась вопросом, действительно ли поваленные деревья, мимо которых они проходили, лежат здесь уже несколько веков?
Она остановилась у одной из табличек Службы национальных парков, гласившей:
В густых дождевых лесах с умеренным климатом деревья пропускают на землю очень мало света. Молодые саженцы могут выжить и дотянуться до солнца, только если растут на гниющих, богатых питательными веществами стволах. Эти стволы называются стволами-кормилицами.
Она подумала, что люди тоже могут стать стволами-кормилицами. Богатыми, великодушными, щедрыми, впитавшими хорошее воспитание с молоком матери.
После прогулки Сидда отправилась в торговый центр и с удивлением увидела, что в прокате имеется кассета с «Унесенными ветром».
Пока она выуживала из кармана мелочь, парень за кассовым аппаратом заметил:
— Если собираете видео, нужно обязательно иметь старушку Скарлетт и Ретта. Даже японцы хотят их видеть.
* * *
Вернувшись в домик, Сидда развела огонь в камине. Шум дождя за окном, миска с поп-корном, диетическая кола на столе… что еще нужно человеку?
Сидда развалилась на диване и нажала кнопку пульта дистанционного управления. На экране пошли титры «Унесенных ветром».
Время от времени она перематывала ленту, снова и снова просматривая некоторые сцены, или прокручивала пленку на большой скорости, иногда останавливая кадр, чтобы проанализировать освещение, пейзаж. Опять перематывала, изучая динамику сюжета. Присматривалась к отдельным деталям, штрихам, пропущенным при первом просмотре, иногда убирала звук, чтобы лучше видеть выражение лиц и мимику.
К тому времени как она закончила, прошло почти шесть часов. Рука затекла, устав сжимать пульт. Сидда выключила телевизор, потянулась и выпустила за дверь Хьюэлин. Посмотрев на часы, она удивилась. Неужели так поздно? Куда ушло время?
Она вспомнила о Конноре, представив, как он выглядит во сне. Ворочается ли он, как она, по ночам, бессознательно пытаясь прижаться животом к теплой спине?
Сидда посадила собаку рядом с собой на диван и долго молча смотрела на умирающее пламя. Хотя сегодня она впервые за много лет увидела «Унесенные ветром», чувство было такое, словно она смотрела фильм каждый день своей жизни, в некоей потаенной, личной проекционной.
Сидда вспомнила, как в отрочестве ее постоянно мучил вопрос, на кого больше похож мальчик, в которого она была влюблена в то время. Кто он, Ретт или Эшли? Если он казался Реттом, она хотела Эшли. Если Эшли — мечтала о Ретте. Каждую знакомую девочку она оценивала по шкале Скарлетт — Мелани. Если та походила на Мелани, ее стоило пожалеть. Если мнение склонялось к Скарлетт, девочке не стоило доверять.
Как отличается ее первый просмотр картины от впечатлений матери! Сидда видела киноэпопею в шестьдесят седьмом, сразу после повторного выхода фильма на экраны. Тогда ее спутником был мальчишка, чье имя она напрочь забыла. Только помнила, как он держал ее за руку и его потная ладошка все время мешала. И как она в самых драматических местах отстранялась, пытаясь как можно полнее сосредоточиться на происходящем.
Лежа на диване, она представляла, как девочка Виви держится за руки с подругами в темной пещере театра Лоу. И как ее карие, с красноватым отливом глаза широко раскрываются, когда на экране расцветают яркие краски, возвещая о появлении «Последних Дам и Рыцарей». Ощущала мурашки, выступающие на руках матери, когда в первой сцене Большой Джим выговаривает рабам: «Я надсмотрщик. И мне судить, когда время кончать работу».
Сидда почесала шею Хьюэлин. Вивьен Ли, и Виктор Флеминг, и Дэвид Селзник, и Кларк Гейбл захватили маму. И не отпускали три часа сорок восемь минут, если не считать антракта, когда она, потрясенная девчонка, слишком ошеломленная, чтобы глотнуть пунша, стояла в фойе с подругами. Маме было тринадцать лет, и где ей было знать, что причина ее смятения — три или четыре режиссера-мужчины, увлекшиеся романтикой Маргарет Митчелл. Мама не знала, насколько близок жизни самой мисс Митчелл эмоциональный скелет истории. Мама не знала, что ей скормили отрыжку мифического, несуществующего Юга.
Мама не думала. Мама просто чувствовала. Ее ладошки потели в ладошках подруг. Глаза увлажнились, сердце забилось сильнее, глаза неотрывно следили за Вивьен Ли. Она принялась бессознательно вскидывать правую бровь и уверилась, что все мужчины в мире обожают ее. Сама того не зная, мама ступила в крошечные тесные башмачки Скарлетт О’Хара и намеревалась сделать все для того, чтобы стать участницей такой же драмы. И чтобы эта драма продолжалась всю ее жизнь.
Я хочу жить в этом фильме, Ниси! Потому что была рождена для такой драмы!
Тогда мама не могла остановить, отмотать назад пленку или нажать кнопку ускоренной перемотки. Она оказалась во власти мифа.
Но не полностью. Мама швырнула ту тарелку. Скорее всего сама не зная почему. Но взорвалась и швырнула тарелку в Джеймса-младшего, этого подлого маленького отпрыска белого расистского общества.
«О, мама, ты звезда своего собственного фильма! Это ты машешь с заднего сиденья кабриолета. А я не могу поставить спектакль, как бы сильно этого ни хотела».
А Джинджер?
Сидда вспомнила дни рождения Джинджер, которые устраивала Багги: традиция, заложенная Дилией. При ее жизни этих вечеринок с нетерпением ждали все. После смерти Дилии Виви, Джек, куча родственников: кузенов, дядюшек, тетушек — собирались на праздник в доме Багги. Джинджер неизменно оставалась единственной негритянкой из всех присутствующих.
Сидда запомнила Джинджер как решительную, волевую женщину, дружившую с Виви. Подобно Дилии Джинджер не слишком жаловала Багги. На этих вечеринках Виви и Джинджер сидели вместе, курили, и Джинджер рассказывала совершенно невероятные истории о поездках вместе с Дилией по всей стране после кончины прадеда Сидды.
— Миз Виви, — говаривала Джинджер, — получила в наследство от миз Дилии пылкий дух. Пылкий дух. То, что не досталось миз Багги и перешло прямиком к твоей маме.
Сидда поднялась с дивана. Не найдется ли в альбоме фото Джинджер?
Она просматривала страницу за страницей, но не смогла ничего найти. Зато увидела себя в детстве. Сидда знала, что это она, потому что внизу было написано: «Малышка Сидда с Мелиндой».
Мелинда, толстуха негритянка, одетая в крахмальную униформу няни, держала на руках Сидду. Мелинда не улыбалась, а чересчур серьезно смотрела в камеру, словно находясь в постоянном напряжении.
Черные женщины. Они меняли пеленки Сидды, кормили ее, купали и одевали. Помогали ей учиться ползать, ходить, говорить и держаться подальше от неприятностей, даже если одна из таких неприятностей именовалась Виви. Они стирали ее бельишко и за это получали старые платьица для своих дочерей. Они делали то же самое для мамы, а теперь — для племянниц Сидды.
Сидда подумала о Вилетте, негритянке, бывшей рядом почти все ее детство. «Вилетта, ростом более шести футов, с лицом индианки племени чокто, улыбкой, открывающей кривые зубы, и большим, всепрощающим сердцем.
Вилетта, ты рисковала своим местом и крышей над головой, чтобы прийти в тот день в большой дом и защитить нас от мамы. Это ты покрывала мазью рубцы от ремня на моем теле, когда мама срывалась с катушек. Кто знает, может, мама в глубине души ненавидела нас четверых?»
Вилетта в свои почти восемьдесят лет по-прежнему убирала дом Виви и Шепа. Сидда и Вилетта до сих пор обменивались письмами. И ревность Виви не помешала Вилетте и Сидде любить друг друга.
Неужели ревность — это ген, передаваемый подобно светлым волосам или карим глазам?
Сидда не могла думать о матери, не вспомнив о Вилетте. И все же не так легко разобраться в отношениях с белой матерью, не говоря уж о черной.
А моя гражданская война? Во имя него она ведется? Может, во мне сражаются боязнь остаться в тепле знакомой любви и страх очутиться в тумане, и бежать, бежать в поисках любви? И в каждой стороне заключены свои ужасы. Каждая пытается выжать свой фунт плоти.
Плоть. Вот теперь мы приближаемся к сути дела. Вопрос в том, могу ли я любить Коннора, который умрет когда-нибудь, в любой день, и запах его плеч останется только в моей памяти. Могу ли я смягчиться для любви, твердо зная, какие страдания принимаю на свои плечи? Томас Мертон сказал, что любовь, которую мы лелеем больше всего на свете, неизбежно доставляет нам больше всего боли. Потому что любить — все равно что вправлять бесчисленные переломы искалеченного тела.
Но я хочу сама устанавливать декорации. Хочу ставить все сцены.
Сидда вернулась к дивану, легла и позвала Хьюэлин. Засыпая, она представляла я-я в кока-коловом дворце. Тинси командует девочкам забраться в большую ванну на львиных ножках, наполненную горячей водой, и щедро сыплет туда французскую соль для ванны, которую богатая тетя Луиза (Не Называй Меня «Лу») оставила для гостей. Их тела еще молоды и гладки, бутоны грудей еще только пробиваются, лобковые волосы еще трогательно редки. Ножки, затянутые в новехонькие нейлоновые чулки, которые им разрешили носить всего несколько месяцев назад, еще ни разу не бриты. Одна девочка прислонилась спиной к изголовью ванны, вторая устроилась между ее ногами. Третья лежит головой на животе второй. И все вместе плавают в ванне. Их нация еще остается нейтральной, пока войска Гитлера стальным мечом рушат границу за границей. Девочки наслаждаются теплой водой в стране, только что спасенной от Депрессии европейскими заказами на пушки, танки и все виды оружия, о которых я-я пока не знают. Война, которая их волнует, случилась восемьдесят лет назад. И все согласны со Скарлетт в том, что разговоры о войне способны испортить любую вечеринку.
«Это моя мать в ванне с подругами-сестрами. Кожа порозовела от горячей воды. Волосы мокрыми кудряшками лежат на лбу. Задолго до того, как ее тело вместило мое. Ее лонные кости еще выпирают, а живот остается плоским. Задолго до того, как ее тело в поисках душевного покоя открыло существование бурбона, утешение и тюрьму».
Сидда хочет хотя бы немного невинности я-я. Хочет иметь подруг, чтобы держаться за руки.
В четыре часа утра Сидда просыпается на диване. Лежит и вспоминает, как во времена ее детства издевалась над Молодежной лигой. Маленькая Сидда считала, что это одно слово: «молодежлиг». Тогда для нее это означало примерно то же, что «идиотский» или «омерзительный».
Это убеждение никто не оспаривал до одного вечера в доме ее подруги Милен Шовен. Они сидели за обеденным столом, когда один из младших Шовенов вытащил из кармана безобидную змейку, переполошив всю комнату. Все были настолько шокированы, что Сидда, желая показать всю степень своего отвращения, воскликнула:
— О, до чего же молодежлиг!
Горничная немедленно унесла пресмыкающееся, и миссис Шовен пригвоздила Сидду к месту хмурым взглядом.
— Что это ты сейчас произнесла, Сиддали?
— Молодежлиг, — повторила Сидда. — Это означает нечто ужасное.
Миссис Шовен подняла брови и переглянулась с мужем.
Позже, когда у Сидды налились груди и мальчики прикалывали орхидеи к ее форменным платьям, а вопрос, что надеть на котильон, приобрел необычайную важность, она осознала, какую роль играла Молодежная лига в общественной жизни Торнтона, штат Луизиана, и какое именно место занимала в ней миссис Эбби Шовен, урожденная Барбур.
Сегодня вечером, сидя в двух с половиной тысячах миль от Торнтона, Сидда решила вернуться к первоначальному пониманию термина.
«Молодежлиг»: термин я-я для обозначения фальшивки, пустозвонства, ханжества. Изобретен в 1939-м.
Сидда встала, почистила зубы и легла в постель.
— Я должна заснуть, — велела себе она. — Забраться на полку и видеть сны, пока поезд катит в ночь. Ангелы Южного Полумесяца, прошу вас, взбейте мне подушки. Позвольте луне искупать меня в своем сиянии этой ночью. Я, я-я второго поколения, пускаюсь в долгий путь.
12
Назавтра, около полудня, Сидда проснулась от громкого, ужасно фальшивого пения. На веранде стояли Уэйд Конен и Мэй Соренсен и во всю мочь орали старые мелодии диско все то время, пока Сидда выбиралась из постели, чтобы открыть им дверь. «Я люблю ночную жизнь! Я танцую буги-вуги!» — завывали они под сонным взглядом Сидды.
Короткий ежик волос дыбом стоял на голове Мэй. Длинные белокурые пряди Уэйда лежали на плечах и доходили до лопаток, обтянутых хлопчатобумажной футболкой. На Мэй были мешковатые шорты с ярким гавайским рисунком и майка с изображением женщины с потрясенным лицом. В большом пузыре, отходившем от ее головы, чернели слова: «О нет! Я забыла родить детей!»
Каждый держал пакет с продуктами.
— Эй, подруга, — воскликнул Уэйд, — ты запретила Коннору приезжать, а насчет нас не сказала ни слова!
Сидда расцеловала друзей.
— Вы привезли с собой солнце. Просто не верится! Тут все это время беспросветно лил дождь.
— Мы специализируемся в мысленном управлении погодой! — объявила Мэй.
— Рада слышать, — кивнула Сидда.
Уэйд торжественно прошествовал в дом.
— Подлинный северо-запад, хоть к гадалке не ходи! — объявил он.
— Уж будь уверен, — кивнула Мэй. — Мы, Соренсоны, — соль земли.
— Потрясающее место, Мэй, — заметила Сидда, заглядывая в пакет. — Ням-ням. Вкуснятина.
— Мы только надеемся и молимся, что не мешаем глубинному экзистенциальному самоанализу, — фыркнул Уэйд, направляясь на кухню.
— От Коннора, — сообщила Мэй, вытаскивая конверт и две бутылки «Вдовы Клико». — Он велел нам оставить тебя в покое, утверждая, что ты решила общаться исключительно по почте, но когда мы отказались подчиниться, послал это.
Сидда долго изучала конверт, расписанный от руки арабесками и цветочками, подавила крохотную дрожь возбуждения при виде его почерка, но отложила письмо, чтобы прочитать попозже.
— Спасибо. Сейчас поставлю шипучку в холодильник.
— О, мадам Войланска! — воскликнул Уэйд. — Как невыразимо грубо! Ваш возлюбленный посылает эликсир богов, а вы смеете прятать его в темных глубинах холодильника. Наоборот! Мы должны выпить его сейчас. Шампанское очень быстро портится в атмосфере дождевого леса. Не правда ли, о Стервозная Богиня Мая?
— Совершенно верно, — подтвердила Мэй.
— Вы оба ужасно напоминаете мою мамашу, — вздохнула Сидда, покачивая головой.
— Твою мать? — переспросила Мэй. — Не знала, что твоя мать была так…
— Такой алкоголичкой? — договорила Сидда.
— Нет, — возразил Уэйд. — Так увлекалась шипучкой.
И разразился весьма вольной, если не сказать вульгарной, интерпретацией песни Билли Холидей «Околдованная, обеспокоенная, озадаченная».
— Хьюэлин, — окликнула Сидда, — наше аскетическое затворничество нарушено!
— Господи! — воскликнула Мэй, выходя на веранду, где нежилась на солнышке Хьюэлин. — Забыла поприветствовать Хьюэллу.
И, вытащив из кармана прессованную косточку, презентовала Хьюэлин.
Они сделали кувшин «Мимозы», нарезали дыню и копченую ветчину и устроились на веранде. Солнце пригревало закинутые на перила ноги Сидды.
— Итак, — начал Уэйд, приподнимая брови, — ранее планируемая свадебная оргия отменена?
— Уэйд, — заметила Сидда, — со стороны может показаться, будто ты именно тот, с кем были связаны мои свадебные планы.
— Но, дражайшая, так оно и было. Твои свадебные планы были связаны со мной, Мэй и Луизой, а заодно с твоей вечно неотразимой старой наставницей Морин. Твои планы были связаны с Эрве и Линдси, с Джейсоном, если тот будет достаточно хорошо себя чувствовать, с Бейли, их выводком короткошеих чудовищ и их усатой нянькой. С Алин, которая собиралась прилететь из Англии при условии, что еще будет свободна, с Рути Мюллер и Стивеном, хотя они в ссоре друг с другом, не говоря уж о труппе «Лунного сияния» и режиссерах не менее трех региональных театров, которые намеревались быть на свадьбе и превратить ее в нью-йоркское театральное турне. Я даже не беру на себя труд перечислить остальных друзей, которые обожают тебя и теперь безутешны, переживая столь трагические известия.
Уэйд прервался и глубоко вздохнул, прежде чем пригубить «Мимозу».
— Когда планируешь свадьбу, в круг забот невольно включаются десятки людей, дорогая Сидда. Не можешь объяснить, что происходит?
Не знай Сидда, как предан ей Уэйд, наверняка посчитала бы его тираду вмешательством в ее дела. Но их дружба длилась почти пятнадцать лет. Она помогала ему ухаживать за умирающим любовником. Он миллион раз выручал ее профессиональными и личными советами.
И сейчас она встала на колени перед креслом Уэйда и принялась бить поклоны.
— Простите меня, о баба Уэйд, простите меня. Я не знаю, что делать.
— Прекрасно знаешь. И пожалуйста, поднимись. Ты же знаешь, что, когда это делают девушки, я нисколько не завожусь.
Сидда вскочила и отряхнула коленки.
— Мэй, когда он перестанет называть нас девушками?
— Я давно сдалась, — призналась Мэй.
— И ты тоже, сердечко мое? — спросил Уэйд. — Сдалась и покинула своего возлюбленного?
— Нет. Это не так. Совсем не так.
— В таком случае как именно? — допытывался Уэйд.
— Уэйд, — не выдержала Мэй, — успокойся. Может, Сидда не хочет об этом говорить?
— Спасибо, Мэй, — поблагодарила Сидда.
— Драматург, мисс Соренсон, должен обладать чувствительностью к подобного рода тонкостям, — наставительно объявил Уэйд. — Но как жалкий художник по костюмам, павший так низко, что занимался костюмами для «Лас-Вегаса» между традиционными спектаклями, я должен быть наглым и спросить прямо: вы никак спятили?!
— Ну… — пробормотала Сидда, — я не исключаю и этого.
— Видишь! — торжествующе воскликнула Мэй. — Говорила же я тебе, что она и это примет в расчет!
— Потому что, — продолжал Уэйд, — временное помешательство — это единственная причина, которую смог придумать мой слабый мозг. Повторяю: единственная для того, чтобы отсрочить — какого бы дьявола это ни означало — свадьбу с Коннором Макгиллом. На случай если ты забыла, моя маленькая конфетка, мы говорим о человеке, равном тебе во всех отношениях: психологическом, профессиональном, духовном и, если память мне не изменяет, сексуальном. Я еще помню, как трепетала ты в его присутствии, причем целых полгода, прежде чем признала, что он тебе нравится. Но старого дядюшку Уэйда не обманешь. Почему? Да потому что дядюшка Уйэд слишком долго тебя знает и наблюдал, как ты перебрала достаточно мужчин, чтобы составить не одну, а две команды регби. Это я выжимал твои платки, когда ты заливалась слезами по меньшей мере над третью этих типов, большую часть которых я бы назвал если не полностью неандертальцами, то по крайней мере лишенными некоторого самообладания, не говоря уже об интеллекте. Не думаю, что кто-то возразит, если заявлю, что ни один из этих людей не обращался с тобой с сотой долей той любви и уважения, как Коннор.
Сидда шлепнула себя по лбу:
— Совсем позабыла, что ты не только художник по костюмам, но и бродячий проповедник и психоаналитик в одном лице. Как это выскользнуло у меня из памяти, преподобный доктор Конен?
Уэйд поставил стакан.
Мэй откашлялась.
Сидда перевела взгляд с Уэйда на Мэй.
— Этот визит имеет какую-то цель, или я ошибаюсь?
— Нет, — тихо ответила Мэй и, немного подумав, пояснила: — Знаешь, когда люди вместе… им становится намного легче. Чувствуешь, что мир вовсе не так безумен, как кажется.
— Вроде того, когда видишь в зале пару, действительно умеющую вальсировать, — поддакнул Уэйд. — Не можешь дождаться, пока смолкнет музыка, чтобы подбежать и поздравить их.
Мэй легонько коснулась волос Сидды.
— Мы все хотим побывать на свадьбе. То есть мы все видели, как после стольких лет совместной работы вы с Коннором влюбляетесь друг в друга.
— Да, — кивнул Уэйд, — и сейчас чувствуем себя так, словно ты порвала с нами со всеми.
Сидда погладила Мэй по руке.
— Мне ужасно жаль, приятели, что не подумала о вас. Но я ни с кем не порвала. Мне просто нужно немного времени. Брак — штука предательская. Недаром никто из вас не спешит к алтарю, если можно так выразиться.
Она встала и подошла к перилам веранды. Уэйд шагнул к ней и обнял за плечи. Мэй сделала то же самое. Кто-то, проходя внизу по тропе, мог поднять глаза и ошибочно принять их за сестер и брата или, в отсутствие более серьезных улик, за участников «брака втроем».
— Ладно, — вздохнул Уэйд. — Думаю, Гертруда Стайн, наша общая мать, права. «Ничто не может быть слишком пугающим, когда все так опасно».
Больше в тот день друзья к этой теме не возвращались. Они взяли три надувные лодки и пошли к озеру. Погода выдалась жаркой, небо было ослепительно синим, и вся сырая серость северо-запада куда-то исчезла. Они смеялись, болтали, смотрели в небо и, наконец, вернулись к причалу, где стояли переносной холодильник и закуски. Подобная сцена с таким же успехом могла произойти тридцать лет назад, на берегу южного ручья, только вода была прохладнее.
К концу дня они собрались на веранде, чтобы поджарить лососину на гриле. Под последними лучами заходящего солнца друзья жадно набросились на рыбу, макароны и свежий хлеб. Мэй развлекала их историями о долгих летних месяцах своего детства, проведенных вместе с четырьмя братьями на озере Куино. Сидда улыбалась. Она любила эту женщину. Профессиональная жизнь Сидды вытеснила почти всех ее подруг, но, глядя на Мэй, она распознавала равную, почти сестру, и была ей благодарна.
Позже Сидда принесла материнский альбом с вырезками.
— «Божественные секреты племени я-я»! — воскликнула Мэй. — Я отдала бы все, чтобы придумать такой заголовок! Сколько лет было мивочке Виви, когда она это написала?
— Немного. Но у мамы всегда было живое воображение.
— Потрясающе! — ахнул Уэйд, переворачивая страницы. — Господи, это почти возмещает ту фетву[42], которую вынесла тебе мивочка Виви.
Все друзья Сидды называли ее мать мивочкой Виви, потому что сама Сидда, рассказывая истории об округе Гарнет, именовала ее именно так.
Гордясь и одновременно не желая делиться тем, что узнала, Сидда неожиданно для себя объявила:
— Можете посмотреть одну страницу, не больше!
И тут же вспыхнула, осознав, как по-детски глупо это звучит.
— В каком ты классе, малышка? — мгновенно поддел Уэйд.
— Во втором. Или в третьем? — фыркнула Сидда.
Мэй обнаружила снимок Виви в окружении Сидды, Малыша Шепа, Лулу и Бейлора, расположившихся на одеяле во дворе Пекан-Гроув, примерно в начале шестидесятых. Сидда оглянулась на Мэй, молчаливо изучавшую фото.
— Интересно, кто это снимал? — спросила она наконец.
— Не помню.
— Хорошо бы раздобыть такие солнечные очки, как у твоей матери, — заметил Уэйд.
— А ты была серьезной малышкой, — сказала вдруг Мэй.
— Если верить слухам.
Уэйд осторожно перевернул несколько страниц и вынул вырезку из «Торнтон таун монитор».
«Взрослые самовольно врываются на котильон», — гласил заголовок.
Уэйд прочел заметку и взорвался хохотом.
— Это правда? Или обычное газетное вранье?
— Прости, — заявила Сидда, отбирая у него вырезку, — но это «Торнтон таун монитор», отслеживающий жизнь каждого гражданина Сенлы вот уже более ста лет. Господь мне свидетель, мама, я-я и их мужья нагло ворвались на бал-котильон, устроенный в первый год моего пребывания в средней школе. После нескольких лет непристойного поведения им запретили появляться на таких балах.
Она вдруг осеклась.
— Я вам надоела? Мама прислала мне этот альбом, и я последнее время постоянно его листаю, но вам, может быть, неинтересно?
— Сидда, да брось ты, — отмахнулась Мэй. — Такие свидетельства эпохи! Как же неинтересно?
— Видите ли, — продолжала Сидда, — по правилам котильона спиртные напитки были запрещены. Поэтому все приносили с собой маленькие фляжки и смешивали спиртное в туалете. Но когда за детьми присматривали я-я, они превращали все мероприятие в собственную вечеринку. Мало того что отказывались прятать свою выпивку, так еще щедро наливали любому подростку, который хотел опрокинуть стаканчик, два или пять. И проделывали это два года подряд, причем на второй возник небольшой скандал, когда мальчики начали подсаживать девочек на плечи, чтобы те смогли ломать пинаты[43] из папье-маше. Но мы, очутившись так высоко от пола, не могли устоять против соблазна попытаться сбить других девчонок с плеч их кавалеров. И что тут началось! Ярды порванного тюля и измятой тафты! Несколько роковых женщин летят вниз, результатом чего явилось немало отколотых и выбитых зубов! Ну и все такое. После этого комитет котильона решил больше не просить я-я и их мужей присматривать за детьми на балу. Мало того, им вроде как вообще запретили показываться. Нужно признать, что у них действительно были на это основания, но беда в том, что эти бабы в комитете были самые что ни на есть мисс Алмы Тощие Задницы. Специальный термин я-я для напыщенных, официозных особ.
— Мне можешь не объяснять, драгоценнейшая, — вздохнул Уэйд. — Международное общество «Алмы Тощие Задницы» весьма активно действовало в моем родном городе Канзас-Сити. Мало того, там еще имелось и братство: интернациональная ассоциация «Альберты Тощие Задницы».
— Не томите нас, мисс Уокер, — попросила Мэй. — Что было дальше?
— Уместнее всего было посчитать, что жители Торнтона достаточно хорошо успели узнать я-я, чтобы пытаться что-то им запрещать. Но нет, они полезли на рожон, так что в следующем году я-я явились в полном составе: жены в вечерних платьях, мужья в смокингах — и прошествовали в зал мимо шеренги членов комитета, встречающих гостей. Те были так шокированы, что даже не попробовали их остановить. Очутившись в зале, они заняли большой стол, устроили там бар и, конечно, стали центром всеобщего внимания. Я была в ужасе.
— И разразился скандал? — полюбопытствовал Уэйд.
— Нет, пока не прибыла полиция. Когда их выводили, вспышки камер взрывались по всему заду отеля «Теодор». Шел шестьдесят девятый год, и мать, в духе времени, стала именовать своих приятелей «Котильонной восьмеркой».
— Шутишь? — не поверила Мэй.
— В Обнаженном городе существует миллион историй. И это только одна.
И прежде чем Сидда закрыла альбом, Уэйд успел вытащить еще один снимок.
— Вот и молоденькая мивочка Виви. А это твой отец?
Сидда даже растерялась, увидев красивого молодого человека, игравшего на скрипке. Гибкий и грациозный, он стоял, прислонясь к дереву. Темные большие глаза и самые чувственные губы, которые когда-либо приходилось видеть Сидде у мужчины. Одет просто: в белую рубашку с засученными рукавами и брюки защитного цвета. На лице — выражение счастливой сосредоточенности. Слева протянулась низкая древесная ветвь, какие бывают только у виргинских дубов, на которой восседает шестнадцатилетняя Виви в белой крестьянской блузе, широкой юбке и босоножках. Вместо того чтобы смотреть на скрипача, она склонила голову набок. Глаза закрыты, на губах улыбка, словно она целиком погружена в музыку. Тот, кто снимал эту сцену, поймал очень интимный момент, и Сидде вдруг почудилось, что следовало бы спросить разрешения, прежде чем смотреть на этот снимок.
— Нет, это не мой отец, — ответила она. — Это Джек Уитмен. Мой отец никогда не играл на скрипке.
— Не считаете, что он выглядит, как… — начал Уэйд, но Мэй поспешно его перебила:
— Не знаю, в чьих руках была камера, но можно сказать: снято с душой.
Сидда посмотрела на нее и снова перевела взгляд на фото. Ей хотелось повернуть время вспять, невидимкой появиться рядом с девушкой на снимке, услышать музыку, разделить расцветающую радость матери.
Несмотря на приглашение Сидды переночевать, Уэйд и Мэй уехали после ужина, объяснив, что уже заказали комнаты в «Калалох резорт» на побережье. Сидда проводила их до «мустанга», старомодного кабриолета Мэй, и женщины обнялись.
— Будь поосторожнее в бывшей Чехословакии, — шепнула Сидда.
— И в Греции, и Турции, и куда ее еще занесет, — добавил Уэйд.
— Не будет же твоя ма злиться вечно, Сид. Господи, почему бы ей просто не посмотреть пьесу? Не сдавайся, дорогая. Пока вы обе живете и дышите, шанс есть всегда, — сказала Мэй.
— Спасибо, — кивнула Сидда.
— Всего тебе хорошего. Если возникнут какие-нибудь гениальные идеи насчет «Женщин», немедленно шли факс Джереми. Он знает, где меня найти.
Уэйд обнял Сидду.
— Прости, если был стервозным. Просто хочу, чтобы все мои дети были счастливы. А Коннор Макгилл — такой жеребец-душка, что просто ой! Я имею в виду, та-акой гений-дизайнер.
— Я тебя люблю, Уэйди, — призналась Сидда.
— И я тебя, Сидди.
К своему удивлению, Сидда едва не расплакалась после их отъезда. Ей почему-то стало ужасно грустно. Хорошо хоть Хьюэлин составляет ей компанию! Эта ночь была первой с ее приезда, когда можно было спать с открытыми окнами, в одной футболке. Она плюхнулась в постель, натянула простыню до подбородка, предвкушая, как распечатает письмо Коннора.
Сидда лишь сейчас заметила, что он не только каллиграфически вывел ее имя, но и вплел в него крошечные цветочки, поместив изящные бутоны душистого горошка в буквы «д». Романтическая душа из другого века.
Распечатав конверт, она нашла каталог семян фирмы, именовавшей себя «Специалисты по душистому горошку, Берд-брук, Хальстед, Эссекс». Уголок одной страницы был загнут, и, открыв каталог на этом месте, Сидда увидела обведенный кружочком абзац:
«Лавджой». Один из лучших сортов душистого горошка, не имеющий себе равных. Очень быстро растет, не подвержен обычным болезням цветов. Главная отличительная особенность: цвет сомон, т. е. оранжево-розовый, с небольшим преобладанием мягкого оранжевого, что придает лепесткам яркость и чистоту оттенка. Не выцветает и не блекнет на самом жарком солнце. Идеален для сада и выставок. Дает крупные цветы на длинных тонких стеблях (тонкий сладкий аромат).
В каталог был вложен единственный листок рисовальной бумаги, на котором почерком Коннора было написано: «Очень похоже на тебя».
Сидда закрыла глаза и откинулась на подушки, потрясенная собственным возбуждением. Коннор знал, чем можно ее завести. Она представила потрясающий сад на крыше, который он устроил на своей мансарде в Трибеке. Она вспомнила, как впервые пришла в мансарду воскресным утром в феврале восемьдесят седьмого года. В печи потрескивают дрова, покрывало ручной работы закрывает голую кирпичную стену. На столе свежие устрицы и холодное пиво. Неожиданная дрожь ее тела, когда она призналась, что никогда еще за всю жизнь на острове Манхэттен не чувствовала себя до такой степени дома.
Сидда выключила лампу и сунула каталог семян под подушку. Может, за ночь здесь вырастет гигантский стебель, и она поднимется по нему, оставив позади нерешительность. Она должна, должна понять, что делает!
Но стоило ей погрузиться во мрак, как у ног встали светящиеся ангелы.
«Сначала, — шептали они, — полюби свой цвет сомон с преобладанием мягкого оранжевого и позволь ему сиять прозрачной яркой чистотой».
Поэтому Сидда коснулась себя. И ласкала свой бутон, пока он не набух и не затрепетал.
Только потом она отключилась.
13
Мэй была права: та, что сделала снимок Виви и Джека в тот день сорок первого, действительно их любила. Женевьева Сент-Клер Уитмен запечатлела сценку, не потревожив молодых людей. Она нажала на спуск быстро, уверенно и, переведя кадр, пробормотала короткую молитву за сына и Виви Эббот. Она не сомневалась, что эти двое предназначены друг для друга. Уверилась в этом с того дня, как увидела их сидящими на качелях, где-то в конце тридцать восьмого. Парочка молчала, держась за руки и предоставив качелям раскачиваться в собственном ритме.
Женевьева знала, что сын рожден с целым океаном нежности в душе, нежности, считавшейся проклятием в мире его отца. И ей было трудно представить более сильную, жизнелюбивую девушку, чем Виви, способную к тому же вместить эту нежность. Всецело доверявшая своей интуиции Женевьева всем сердцем приняла взаимную привязанность Джека и Виви и не собиралась вставать у них на пути.
О, ей пришлось время от времени приглядывать за ними, тем более что Виви, любившая Тинси как сестру, постоянно бывала у них в доме. Женевьева вела себя очень тактично: разумная степень доверия в сочетании с хорошо продуманными способами отвлечения. Оба были так заняты: Джек — своим бейсболом и треком, Виви — теннисом, группой поддержки футбольной команды и школьной газетой, — что обычно Женевьева не слишком волновалась. И в своих молитвах благодарила Деву за то, что даровала сыну любовь в столь юном возрасте.
Но Сидде ничего этого не было известно. На следующий вечер она долго изучала изображение, зачарованная выражением лица матери. Сидда не могла ничего знать об осеннем дне в начале сороковых, на байю Сен-Жак, родине Женевьевы. Не могла ничего знать о пряном, немного едком аромате cochon de lait[44] или виде этой самой свиньи, жарящейся на медленном огне, или о гигантских котлах с кипящей водой для варки кукурузы. О неподдельной бесхитростной радости кузенов, кузин, дядюшек и тетушек Женевьевы, Тинси и Джека и остальных кейджанов в этот субботний вечер полвека назад. Холодке осеннего воздуха. Веселых шутках. Маленьких девочках, танцующих с отцами. Девочек постарше, темноволосых, как Женевьева и Тинси, в широких юбках и крестьянских блузках. Атмосфере байю, запахе сырой луизианской почвы, языке этих людей, ликующих при одном упоминании о приезде Женевьевы с обоими детьми.
Бывая здесь вместе с Уитменами, Виви отчего-то испытывала чувство необычайной свободы, словно перед ней открывался другой, незнакомый мир. И она ужасно боялась, что об этом тайном счастье каким-то образом узнают. Узнают и отнимут навеки.
В тот день на байю Виви откинулась назад, едва Джек легонько поцеловал ее в шею, когда они вальсировали под звуки «Черных глазок».
«Я буду всегда любить тебя, Виви, — прошептал он. — И что бы ты ни делала, никогда не перестану любить».
Слова, казалось, вонзились в саму плоть Виви. И она расслабилась, так что, когда ноги коснулись земли, ощущение было не таким, как обычно. Ее ноги словно обрели корни, проникшие глубоко вниз и обретшие что-то неведомое прежде.
В тот жаркий день сорок первого Виви впервые поверила в возможность счастья.
Со мной все хорошо. И ничего плохого случиться не может. Джек любит меня. И обещал любить всегда.
Глядя на кружившуюся в танце, улыбающуюся Виви Эббот, никто на байю не подозревал, что она только что всем сердцем откликнулась на соблазнительное, старое как мир предложение любви, отчаянно жаждет принять его и твердо верит: Джек Уитмен и есть ее якорь спасения.
Все, чего не было дано Виви, могла возместить любовь Джека. Каждый ее маленький успех, не отразившийся в материнских глазах, каждый вопрос, на который не дал ответа отец, каждый удар ремня по ее коже истинной блондинки могли быть искуплены. Но Виви не думала об этих обещаниях, когда ее юбка раздувалась, а волосы развевались в танце.
Глядя на Виви, было трудно определить размеры тектонического сдвига, произошедшего с ней сегодня днем. Но он делал ее ранимой и мог стать причиной появления некоего комплекса неполноценности, достаточно серьезного, чтобы передаваться по наследству, как карие глаза и способности к математике.
Но Сиддали не могла знать все это. Могла лишь изучать снимок и гадать, гадать…
Отложив альбом, она взяла листок бумаги и стала писать Коннору:
«Коннор, несравненный…
Хотя я не садовница, но аромат душистого горошка преследовал меня в снах. Прошлой ночью я во сне рыхлила землю (то, в чем ничегошеньки не понимаю) и все время натыкалась на массу толстых жестких корней. Не испачкала рук (что неудивительно), хотя нагибалась, и распутывала корни, и стряхивала с них землю. Работа была тяжелой, но приятной, ведь я все время ощущала запах душистого горошка.
Откуда ты знаешь, как угодить мне?
Мэй и Уэйд рассмешили меня. Они также заставили меня как следует присмотреться к моей довольно постыдной склонности к бычьему навозу.
Целую.
Сидда.
P.S.
Клянусь, вы, садовники, способны уговорить распуститься любой самый упрямый цветок. Заставь меня потерять голову, хорошо?»
14
Измятая страница выглядела так, словно была вырвана из книги в пружинном переплете. В глаза бросались крупные буквы заголовка.
АКАДЕМИЯ ОЧАРОВАНИЯ И КРАСОТЫ
МИСС АЛМЫ АНСЕЛЛ
Курс лекций «Как стать умной и обаятельной»
Зимняя сессия, 1940
«Слезы ни к чему хорошему не приведут. Никто не полюбит девушку с потухшими, безжизненными, унылыми, несчастными глазами, едва видными в щелочку распухших и красных век. Джентльмены предпочитают глаза живые, сверкающие, сияющие, без следа грусти, печали и угрюмости. Если все же вы сочли за лучшее заплакать, немедленно после этого приложите к глазам примочки из борной кислоты, а потом тампоны с теплой водой и розовой эссенцией. Далее, очень-очень осторожно, кончиками пальцев, вбейте в веки и в кожу под глазами питательный крем с витаминами. Потом примите теплую ванну и немного вздремните, предварительно положив на глаза тампоны, смоченные в ледяной воде с экстрактом дикого каштана в равных долях. Оставьте их на двадцать минут. И помните: нужно как можно больше спать и жизненно необходимо — НИКОГДА НЕ ПЛАКАТЬ.
У девушки и без того немало помех в войне за любовь. Не умножайте их слезами».
Сидда не знала, плакать или смеяться. Она лежала на диване, лицом к озеру, под жужжащим вентилятором, жевала яблоки и ломтики стилтонского сыра. Всю жизнь она считала, что мать просто изобрела термин «Алма Тощая Задница». Но все, должно быть, началось с мисс Алмы Анселл и ее Академии очарования и красоты.
Зимняя сессия сорокового. Маме было четырнадцать. Как раз после того, как вся шайка посетила премьеру «Унесенных ветром». Интересно.
Слезы ни к чему хорошему не приведут.
Хотя Сидда была не из тех, кто цитирует Библию, сюда прекрасно подойдет изречение Луки: «Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь»[45].
Сидда считала эти слова прекрасными и была глубоко тронута их глубоким смыслом. Лука, или кто бы их ни написал, не предрек, что вы будете процветать или спасетесь. Просто пообещал, что, если плачете сейчас, рано или поздно обязательно будете смеяться.
Сидда убрала лекцию мисс Алмы обратно в альбом и унеслась в мыслях куда-то далеко. Лежа на диване, в охотничьем домике на озере, куда она приехала, чтобы обдумать свое будущее, Сидда размышляла о слезах.
Она вдруг вспомнила тот день, когда в ее жизнь вошла Лиззи Митчелл. Бабье лето шестьдесят первого. Виви не выходила из своей комнаты почти две недели. Сидда была счастлива, что мать вернулась после долгого необъяснимого отсутствия, отсутствия, совершенно измучившего детей неопределенностью, сбившего их с толку и заставившего изнывать от одиночества и заброшенности.
Золотой полуденный свет разлился по полям, где Чейни, Шеп и другие сборщики трудились над хлопковыми кустами. Воздух был теплым и одновременно прохладным.
Будь все как обычно, Сидда торчала бы на заднем дворе, собирая пекановые орехи, распевая песни собаке, мечтая стать миссионером в Африке или актрисой на лондонской сцене. Но она сидела в доме, на полу, под дверью спальни Виви, с очередным выпуском приключений Нэнси Дру на коленях, одним ухом прислушиваясь к любому звуку или просьбе, которые вот-вот могли бы донестись из комнаты. Так продолжалось уже несколько недель: Сидда считала это своей обязанностью.
Лиззи Митчелл подкатила к Пекан-Гроув в черном «форде» сорок девятого года с треснутым боковым стеклом. Услышав дверной звонок, Сидда вскочила и помчалась посмотреть, кто это. Виви не желала никого видеть, и Сидда несла стражу. В комнату матери допускались только я-я. И временами Виви отказывалась принять даже их.
Перед Сиддой возникла Лиззи Митчелл в голубом отрезном платье спортивного покроя и накинутом на плечи сером свитере. Болезненно-худая, с грустными серыми глазами, она, однако, обладала некоей хрупкой красотой. И лицо, и все тело казались невыносимо изнуренными. В начале двадцатых она могла похвастаться прекрасной кожей, но зубы всегда были плохими, и даже Сидда понимала, что оттенок губной помады выбран неудачно. В руке у нее был чемодан, и Сидда сначала посчитала, что эта женщина проезжала мимо и остановилась спросить дорогу.
Увидев Сидду, она выдавила улыбку и пробормотала:
— Добрый день, скажите, хозяйка дома?
Сидда долго непонимающе смотрела на женщину, прежде чем ответить:
— Да, моя мать дома. Но она занята.
— Не передадите ей, что приехала распространительница самой передовой линии косметических продуктов в мире?
— Минутку, пожалуйста, — кивнула Сидда и, оставив женщину стоять в дверях, осторожно постучала в спальню. — Мама? — едва слышно окликнула она. — Ты спишь?
Не получив ответа, она открыла дверь и вошла. Виви неподвижно лежала на постели. Батончик «Сникерс», многослойный сандвич и кока-кола, принесенные Сиддой по возвращении из школы, так и остались нетронутыми.
— Приехала леди и спрашивает тебя, мама, — робко пробормотала она.
— Я не желаю никого видеть, — бросила Виви. — И вообще, кто она?
— Распространительница самой передовой линии косметических продуктов в мире, — повторила Сидда.
— Что?
— Так она сказала. У нее с собой чемоданчик.
Виви медленно приподнялась и взбила подушку.
— Скорее всего просто хочет что-то продать. Неужели не можешь избавиться от нее?
Сидда взглянула на мать. Лицо по-прежнему мертвенно-бледное, с тех самых пор, как она вернулась домой. Эти недели она по большей части не вылезала из ночной сорочки. И даже не носила своих сказочных шляп, потому что почти не покидала дом.
— Нет, мэм. Не могу.
— Но почему?
Сидда немного подумала.
— Потому что у нее помада не того цвета.
— Она продает косметику и не может правильно подобрать помаду?
— Думаю, мама, тебе нужно с ней поговорить.
— О, так и быть, — буркнула Виви. — Попроси ее зайти через минуту.
Войдя в кухню, Виви увидела Лиззи Митчелл у рабочего стола рядом с Сиддой. Лиззи поспешно вскочила.
— Добрый день. Вы хозяйка дома?
Поверх сорочки Виви накинула шелковый халат с зелеными полосами и не позаботилась обуть туфли. Она хотела подойти ближе, но пошатнулась и едва успела схватиться за стол.
— Я могу чем-то помочь?
— Да, мэм, — едва слышно ответила Лиззи. Глаза ее на мгновение стали пустыми, но она тут же сунула руку в карман платья и достала клочки бумаги с нацарапанными на них заметками. Заглядывая в конспект, Лиззи начала речь. — Я здесь, — пролепетала она испуганно, — чтобы предложить вам блестящую возможность открыть для себя лучшую линию косметических продуктов, когда-либо создававшуюся для женской кожи. «Бьютери» — элитная линия продуктов красоты и здоровья, изобретенная для разборчивых леди, прежде всего заботящихся о своей внешности.
— Элитарная линия, — произнесла Виви.
Руки Лиззи затряслись.
— Да, мэм. Элитная.
— Правильно «элитарная», — механически поправила Виви.
— Простите? — дрожащим голосом обронила Лиззи. Обрывки бумаги спланировали на пол. Окончательно сконфуженная, Лиззи нагнулась, чтобы их подобрать. Сидда поняла, что бедняжка едва сдерживает слезы. А когда Лиззи подняла голову, лицо ее уже было мокрым.
Сидде захотелось ее ударить. Не хватало еще, чтобы эта женщина расстроила мать. Всего неделю назад у Виви едва не случился припадок в универсаме, и Сидде пришлось звонить Каро, чтобы приехала за ними. И сейчас мать двигается как больная гриппом — устало, неуверенно, сохраняя оставшуюся энергию, вместо того чтобы, как обычно, растрачивать ее налево и направо. И отец, и бабушка твердили Сидде, что ее обязанность как старшей дочери делать все, чтобы оберегать мать от потрясений.
Но, к своему удивлению, Сидда заметила, как мать мягко коснулась локтя гостьи.
— Пожалуйста, извините мою грубость. Я Виви Эббот Уокер, а это моя старшая дочь Сиддали. Прошу вас, садитесь.
Женщина, боясь встретиться с ней глазами, уселась на прежнее место.
— Не хотите чашку кофе? Лично я не прикасаюсь к кофе после десяти утра. Думаю, неплохо бы выпить легкий коктейль. Может, и вам тоже сделать?
— Кофе, пожалуйста, — прорыдала Лиззи, — если не трудно.
— Нисколько, — кивнула Виви, вынимая из морозилки лед. — Сидда, мивочка, не сваришь ли немного кофе?
— Да, мэм, — кивнула Сидда, радуясь хоть какому-то делу.
Виви наполнила ледяными кубиками хрустальное ведерко для льда, пару бросила в стакан. Туда же налила апельсинового сока и плеснула немного водки.
Сидда поставила воду на плиту и насыпала в кофеварку молотого кофе с цикорием. При этом она старалась не смотреть на босые ноги матери. Лак на ногтях облупился, чего Виви обычно не допускала.
— Простите, — сказала Виви, — я не расслышала вашего имени.
— О нет. Мне очень жаль, — всхлипнула Лиззи, закрывая лицо руками. — Первое, что вы обязаны сделать, — представиться клиенту.
— Ну, в таком случае попробуйте еще раз, — посоветовала Виви, смешивая коктейль. Сидда видела, что руки ее до сих пор дрожат. Виви сунула руку в карман халата и вытащила огромную таблетку витамина В12.
Отняв руки от лица, женщина тихо сказала:
— Позвольте представиться: я Лиззи Митчелл, сотрудница фирмы «Бьютери».
— Рада познакомиться, Лиззи Митчелл, — кивнула Виви, садясь.
— Я тоже рада встретить вас, миссис Уокер. И тебя, Сиддали.
— Сливки и сахар добавить? — спросила Сидда.
— Да. Если не слишком трудно.
Сидда стала вынимать голубые кофейные кружки, но Виви покачала головой:
— Мивочка, принеси фарфоровые, хорошо?
Сидда налила кофе в фарфоровую чашку и поставила на стол вместе со сливочником и сахарницей. Потом подогрела молоко в маленьком соуснике на плите и сделала себе кофе с молоком. Подвинула стул к одному из верхних шкафчиков и достала пакет с печеньем «Орео», который прятала от младших. Выложила печенье на тарелку и села рядом с женщинами.
— Скажите, миссис Митчелл, — спросила Виви, — как вы стали продавать косметику?
Лиззи Митчелл, поднесшая было чашку к губам, поставила ее на стол и попыталась ответить, но снова заплакала.
— Простите, — выдохнула она запинаясь. — Я еще только начинаю. Сэм… это мой муж, умер четыре месяца назад. Несчастный случай на лесопилке «Таллос Ламбер компани». Оставил двух малышей и никакой страховки.
Лиззи уставилась на кофейную чашку и моргнула, явно потрясенная собственным признанием. Словно пытаясь еще раз показать себя настоящим коммивояжером, она отчаянно стиснула конспекты и вновь разразилась приготовленной речью:
— Я с гордостью представляю вам линию «Бьютери». И если сама не верила бы в нее на все сто процентов, ни за что…
— О Боже! — перебила мать. — Что вам пришлось пережить! Сколько лет вашим мальчикам?
— Сэму-младшему — четыре, а Джеду — два, скоро будет три.
Сидда взглянула на пальцы матери и поморщилась от стыда. До чего же неухоженные ногти! А ведь раньше в Виви все было безупречным! Таким прекрасным! Сидда никак не могла понять, что случилось с матерью.
— Мама, — спросила она, — хочешь кофе?
— Нет, мивочка, спасибо, — рассеянно бросила Виви и снова обратилась к Лиззи: — А где сейчас ваши мальчики? Кто за ними присматривает?
— Они у моей золовки Бобби. Ее подруга Лерлин и устроила меня на «Бьютери». У нее собственный счет в сберегательном банке, и дела развернулись так хорошо, что ее наградили розовым «крайслером». Да, мэм, Лерлин молодец.
— Понятно, — кивнула Виви.
— А разве бывают розовые «крайслеры»? — удивилась Сидда.
— Люди из «Бьютери» покупают машины и красят в розовый цвет для лучших продавцов. «Бьютери» — самая научная из всех косметических линий, — тараторила Лиззи, поднося к губам чашку.
— Научная… — повторила Виви, пробуя коктейль.
— О да, мэм, — подтвердила Лиззи. — В современном мире наука очень важна.
Кофе, казалось, помог ей собраться. Теребя конспекты, засунутые в левый рукав свитера, Лиззи начала речь в третий раз:
— Косметика «Бьютери» стоит гораздо дешевле, чем продукция «Эйвон». И все же качеством этой продукции довольны десятки женщин в таких штатах, как Миссури, Арканзас, и вот теперь — в Луизиане, — весьма неубедительно продолжала Лиззи Митчелл.
Виви закурила. Сидда слезла с табурета, чтобы принести ей пепельницу, и, снова усевшись, принялась наблюдать за женщинами. Странно. Впервые за много-много недель мать проявила интерес к кому-то постороннему.
— Мэм, — продолжала Лиззи, — если только вы позволите отнять у вас минуту времени, я готова показать самую современную и научную косметику; обещаю, вы не пожалеете.
Чуть помедлив, она достала чемоданчик с косметикой, с виду совсем обычный, если не считать силуэтов двух розовых женских головок, повернутых лицами друг к другу. Подвинув чашку, она поставила чемоданчик на стол, щелкнула замочками и подняла крышку. Но тут же, словно увидев внутри что-то ужасное, легла головой на стол и зарыдала. Костлявые плечи тряслись, и Сидде вдруг показалось, что в комнате жалобно скулит маленький песик.
Виви медленно положила сигарету в пепельницу и, наклонившись к женщине, легонько приподняла ее подбородок:
— Мивая девочка, с вами все в порядке?
Лиззи Митчелл подняла глаза.
— Это все из-за моего старшего, — еле слышно выговорила она, — Сэма-младшего. Ему хуже всего. Никак не хочет меня отпускать. Старается все время быть рядом.
Под удивленным взглядом Сидды мать закрыла глаза и прислушалась.
— Когда я сегодня днем оставляла его у Бобби, он так кричал и бился! Вырвался, обнял меня за ноги и никак не хотел отпускать. Пока я шла к двери, все висел на мне. Пришлось нам с Бобби отрывать его силой.
Лиззи бессознательным жестом смяла свои шпаргалки, словно не желая больше их видеть.
— Он думает, что вы уйдете и больше не вернетесь. Как его папа, — тихо заметила Виви.
Лиззи усердно закивала:
— Это точно. Мой мальчик, Сэм, уж очень нежный. Чуть что, в слезы, — пробормотала она, судорожно вздыхая, ее тощее тельце затряслось.
— Я знаю, как это бывает, — прошептала Виви, которая к этому времени тоже плакала.
Всхлипывала и Сидда. Но не из-за Сэма-младшего.
— Сидда, драгоценная, не принесешь нам бумажных салфеток? — попросила Виви, вытирая слезы рукой.
Когда Сидда вернулась к столу, мать яростно сжимала ладонями щеки. Сидда протянула коробку с бумажными платками Лиззи Митчелл, но хотя слезы лились ручьем, та взяла всего один, явно считая, что так вежливее всего.
— Можете брать сколько хотите, — разрешила Сидда. — У нас их много.
— Спасибо, — выдавила женщина, хватая еще несколько платочков и вытирая глаза.
Сидда протянула коробку матери, которая вытащила сразу несколько штук. И тоже вытерла глаза, окруженные кляксами расплывшейся туши. Хотя Виви совершенно запустила себя после возвращения домой, одно оставалось неизменным: она с почти религиозным усердием подводила глаза и светло-коричневым карандашом подкрашивала брови. Без косметики, утверждала Виви, она похожа на альбиноса.
Виви хмуро осмотрела измазанный косметикой платок и перевела взгляд на салфетку Лиззи.
— Что такое? — спросила она, поднимая свой платок. — Взгляните на это! Только взгляните!
Лиззи и Сидда дружно уставились на грязный клочок бумаги.
— Все, что я сегодня нанесла на лицо, оказалось на этой салфетке! Дешевка, дешевка, дешевка! За что я платила такие деньги? Выгляжу, как мокрая безволосая собака! И, доложу я вам, это не впервые!
Она драматическим жестом ткнула в свои светлые, казавшиеся несуществующими брови и ресницы.
— Следовало бы законом запретить продавать тушь, которая стирается от малейшего прикосновения! — воскликнула Виви, вытягивая сигарету из пачки «Лаки страйк». Постучала сигаретой по столу и долго закуривала, внимательно изучая лежавшую на столе серебряную зажигалку, словно никогда ее прежде не видела. — Надеюсь, вы пользуетесь косметикой «Бьютери»? — спросила она.
Лиззи обследовала свой смятый платок. Он был влажен от слез, но совершенно чист. Сидда увидела, как она достает из кармана дешевую компакт-пудру и принимается рассматривать себя в зеркале. А когда Лиззи подняла голову, Сидда увидела в ее глазах что-то, отчаянное напомнившее об открытом шлюзе и свободно льющейся воде. Ничего не скажешь, иногда и мать бывает добра.
Лиззи Митчелл закрыла пудреницу, глубоко вздохнула и снова открыла чемоданчик. Потом подвинула табурет ближе к Виви и заговорила голосом женщины, наконец вернувшейся к жизни:
— Да, мэм. «Бьютери» производит прекрасную… элитарную линию косметики. Мы называем ее «Вэнд оф бьюти»[46]. Буду рада показать вам. Думаю, она обойдется вам дешевле, если приобретете ее в составе подарочных наборов со смешанной продукцией.
Вскоре после первого визита Лиззи Митчелл Виви начала одеваться по утрам. Через неделю-другую, все еще едва держась на ногах, она согласилась приехать на ужин к Тинси. Приходя из школы, Сидда и дети больше не заставали мать в постели за закрытой дверью. Она звонила друзьям и знакомым, расхваливая «Бьютери лайн», особенно «Вэнд оф бьюти», это название в устах Виви звучало как имя женщины: Вэнда Бьюти.
В эти осенние дни, когда Сидда по-прежнему старалась приглядывать за матерью, она часто сидела на кухне и слушала телефонные разговоры.
— Ты должна позволить Лиззи Митчелл показать тебе всю линию «Бьютери». Это просто чудо, — твердила Виви. — Я могу принимать с этой косметикой душ, плавать, смотреть грустные фильмы. Плачь хоть с утра до вечера, она никогда, никогда не течет!
Похоже, от частого повторения этой тирады Виви становилось только лучше. Как будто она нашла лекарство от непонятной болезни и теперь пила огромными глотками.
По приглашению Виви Лиззи теперь приезжала к ним два-три раза в неделю и привозила мальчишек. Пока дети ловили крабов или вместе с Малышом Шепом и Бейлором катались на шетландских пони, Виви учила Лиззи, как правильно держаться с потенциальными покупателями.
— Лиззи, мивочка, — говаривала она, — если хочешь прокормить своих мальчиков, никогда, никогда не говори «нетути».
Именно Виви помогала Лиззи сбывать товар в количествах, достаточных для того, чтобы не бояться за будущее, запоминать трудные наименования, так что теперь та уже не так запиналась.
Некоторые названия ужасно смешили Сидду и Лулу. «Экстра гло», предположительно, содержал эстроген. «Скин себ-лайм» содержался в пузырьках в форме губ. Запах «Хэйр мэджик» немного походил на аромат «Вечера в Париже». Все я-я по настоянию Виви накупили косметики Лиззи — просто не посмели отказать. Но с гораздо большим успехом Виви находила покупательниц среди жен фермеров, тех самых, что пьянствовали в одном заведении с отцом Сидды.
Сидда и Лулу имели обыкновение называть питательный крем «лосьоном Лиззи», и, слыша это, Виви обрывала дочерей.
— Не смейте издеваться над этой молодой женщиной, — журила она. — Лиззи пытается чего-то добиться в жизни.
И с каждым визитом Лиззи к Виви все быстрее возвращались силы. К середине ноября Каро даже смогла уговорить ее сыграть партию в теннис в загородном клубе. И хотя Сидда не могла точно описать происходящее, все же ей казалось, что «Бьютери» не только линия косметики, но и якорь спасения. Как для Лиззи Митчелл, так и для матери.
Как-то, возвратясь домой, Сидда увидела перед домом машину Лиззи и ожидала найти ее и мать, как обычно, на кухне, но в доме было так тихо, словно все ушли. Она не сразу поняла, что женщины в кабинете. Переступив порог, Сидда в ужасе застыла.
Мать, накрывшись простыней, лежала в шезлонге Шепа. Лиззи стояла позади, сомкнув пальцы на ее шее. Виви лежала абсолютно неподвижно: ватные тампоны на глазах, руки сложены на груди. Женщины так увлеклись, что не заметили присутствия девочки. На какой-то жуткий момент Сидде показалось, что мать мертва. Затаив дыхание, она подступила ближе. Сердце неистово колотилось, желудок сжимало судорогами страха. И только увидев, как дернулась рука матери, она немного успокоилась и поняла, что Лиззи осторожно, легкими круговыми движениями, втирает что-то розовое сначала в шею, потом в виски Виви.
Сидда никогда прежде не видела, чтобы до матери дотрагивались с такой нежностью.
По мере того как рос список клиентов Лиззи, а Виви возвращалась к прежней жизни, визиты становились более редкими.
Прошло года два, и Сидда, прибежав домой, увидела на подъездной аллее почти новый ярко-розовый «крайслер». Лиззи была в миленьком костюмчике-двойке. Волосы были уложены в прическу а-ля Джеки Кеннеди.
— Вы только посмотрите! — объявила Виви детям. — Лиззи выиграла розовый «крайслер»!
Лиззи широко раскинула руки, как ведущая телевизионного игрового шоу.
— Я попала в десятку лучших продавцов косметики! — похвасталась она. — И никогда, никогда в жизни не добилась бы этого без вашей матери!
— Едем праздновать! — провозгласила Виви, садясь в машину. Сидда смотрела, как Лиззи выруливает на ведущую в город дорогу. Головы женщин темнели на фоне полей зеленеющего хлопка, и Сидда вдруг подумала, что они похожи на сестер.
Сидда откусила кусочек сыра, встала, вышла на веранду и принялась разминаться. Осторожно вертя головой, чтобы немного расслабиться, она вспомнила, как много лет назад, вернувшись из Университета штата Луизиана, поднялась на чердак поискать пустые коробки для подарков. В углу промозглого чердака стоял огромный картонный ящик. Открыв крышку, Сидда обнаружила, что он битком набит прекрасно сохранившимися коробочками. Обрадованная тем, что поиски так быстро закончились, она принялась вынимать коробочки и обнаружила, что они вовсе не пусты. Присмотревшись, Сидда узнала розовато-серую упаковку с двумя женскими головками. Ящик был полон подарочных пакетов с наборами косметики от «Бьютери». Всего их было не менее тридцати. Рядом стояла еще одна коробка, и Сидда не поленилась заглянуть и в нее. Подарочные пакеты с розовыми головками были и там.
«Милая Лиззи Митчелл! — подумала Сидда. — Ты вошла в жизнь моей матери в самое страшное время, когда та пряталась в своей спальне, лелея старую, мучительную, постоянно отравлявшую ее печаль. Мама взглянула на тебя, разделила скорбь о потере мужа, оценила мужество, с которым ты пыталась продавать дешевую косметику с пышными названиями женщинам, которым так и не удавалось приблизиться к идеалу. И когда из твоих глаз потекли неуместные слезы, глаза моей матери тоже стали влажными. И над «Вэнд оф бьюти», «научной» косметикой, позволявшей плакать сколько угодно, мать учила меня тому, что называется женственностью. После этого было еще много уроков по этому предмету. И некоторые оставили след, который не сможет стереть никакая косметика. Мать подняла подбородок Лиззи Митчелл и спросила: «Мивая девочка, с вами все в порядке?» Меня же мать била по щекам так, что они до сих пор иногда ноют. Мать также любовно сжимала мягкими, намазанными кремом «Бьютери» ручками мои щеки.
Я поднимаюсь на чердак и заново открываю свою мать. Она — подарочный пакет с кучей сюрпризов внутри».
15
Наступила пятница, и, делая пробежку по вьющейся вдоль озера тропинке, Сидда увидела компанию девочек на берегу, на газоне, у подножия гостиницы «Куино лодж». Звук ее плеера был включен на полную громкость, и щелканье отбивающего ритм метронома неустанно гнало ее вперед. Она тренировалась таким образом полтора часа в день. В Нью-Йорке бегала в Центральном парке, в Сиэтле — по берегу озера Вашингтон. Только снежная буря могла заставить ее остаться дома.
Она дважды пробежала мимо девочек, прежде чем остановиться. Сидда надвинула козырек бейсболки на лоб, чтобы никто не заметил, как она подглядывает, и, притворяясь, что разминается, жадно следила за развернувшейся перед глазами сценкой. Пять девчонок, от пяти до восьми лет, бегали и играли, заливаясь смехом. На двух были только шорты, на одной — купальник с коротенькой юбочкой. Еще одна, со смешными косичками, красовалась в куцем, насквозь промокшем платьишке, а самая старшая была в подвернутых джинсах и крошечном лифчике-бикини.
Немного подальше, на одеяле, расположилась под зонтиком женщина, примерно ровесница Сидды. Опершись спиной о переносной холодильник, она что-то рисовала акварелью в большом блокноте и время от времени вскидывала голову, чтобы взглянуть на девочек.
— Смотрите! — крикнула одна. — Вот он!
Все очертя голову ринулись в воду и схватились за полузатонувший обрезок древесного ствола. Дружно работая, они вытянули бревно на берег и установили на большом камне. Это заняло немало времени, но девочки деловито перекликались, давая друг другу советы. Наконец девочки отступили, любуясь плодами рук своих.
— Качели! — воскликнула та, что с косичками.
— Качели у берега! — вторила другая, в шортах.
Третья, тоже в шортах, помчалась к женщине и объявила:
— Мы сделали качели!
— Здорово! — отозвалась та. — Потрясающе.
Малышка побежала к подругам, и все вместе, забыв о качелях, с радостным визгом бросились в озеро.
— Сюда, сюда! — позвал кто-то. Обернувшись, Сидда увидела компанию из двух женщин и троих мужчин, шествующих по тропинке, что вела от гостиницы к берегу. Показав на пару постарше, стоявшую на газоне, одна из новоприбывших женщин принялась собирать девочек.
Потом все вместе направились к женщине, сидевшей под зонтом, и сцена переменилась. За несколько минут одеяло, холодильник, босоножки, полотенца и зонт были сложены, и компания весело зашагала к лестнице. До Сидды донеслись слова:
— Овсяное печенье для наших непосед.
Одна из женщин достала из пакета печенье и раздала детям. Когда все поднялись наверх, пожилая пара, ожидавшая компанию, принялась обнимать девочек. Вскоре вся группа направилась к одному из коттеджей.
А Сидда все стояла и смотрела, словно ожидая, что они появятся опять. И когда никто не вернулся, пошла посидеть у качелей. Опустившись на землю, она повернулась лицом к озеру и прижала руки к груди.
Ей так недоставало теплых южных вод своего детства! Она тосковала по громкой суматохе летних дней на Спринг-Крик. По детям и мамашам в разнокалиберных пижамах и креме «Нокзима»[47] на своем носу по ночам. Ей хотелось стать частью той сценки, которая только что развернулась на ее глазах. Хотелось стать членом семьи. Как получилось, что она в свои сорок лет не имеет ни мужа, ни детей?
Ее жизнь внезапно показалось жалкой и смехотворной: карьера, квартира, попытки создать на сцене целые миры. Все это виделось таким неважным. Ничтожным. Как вышло, что последние двадцать лет она давала жизнь вымышленным персонажам, вместо того чтобы рожать вполне реальных, живых детей, способных кричать, бегать по песку и обнимать тебя, получив овсяное печенье? Как вышло, что она оказалась здесь, одна, на краю континента, пока другие женщины создавали семьи и окружали себя подругами, тоже женами и матерями? Что с ней неладно?
Сидда вдруг устыдилась собственного одиночества. И затосковала по шуму, гаму, всеобщему безумию, в которых родилась и воспитывалась. Становилось дурно при мысли о своих постоянных сомнениях, о постоянном самоанализе.
«Может, мне просто следует отказаться от постановки новой пьесы Мэй, уехать из Нью-Йорка, перебраться в Сиэтл и рожать детей?»
Безрассудство этой мысли так потрясло Сидду, что она сняла плеер, сбросила шорты и майку и, оставшись в одном купальнике, нырнула в воду. От холода мгновенно перехватило дыхание. Зато, вырвавшись на поверхность, она остро почувствовала себя живой, заряженной энергией. И словно впервые увидела глубокую синеву неба. Лежа на спине, раскинула руки и принялась молотить ногами по воде. Но как бы ни старалась, все равно слышала девчоночий смех.
Расслабившись и позволив себе медленно опуститься на глубину, Сидда закрыла глаза. Ледяная жидкость словно очищала. Не только тело, но и душу. Унесут ли эти прозрачные воды все сомнения, смятение и грехи?
Она оставалась внизу сколько могла и наконец пробкой выскочила на поверхность, жадно глотая воздух. И принялась кролем грести к берегу, едва поднимая лицо из воды, сгибая руки под правильным углом, чтобы разрезать воду. Плыла, как учила ее мать.
«Я уже смирилась со всем этим, — думала она. — Даже в молодости никогда не желала иметь детей, да, в общем, и сейчас не слишком мечтаю о них. Да и Коннор ничуть не возражал. Почему же мне было так не по себе, когда я видела ту семью? Почему, пусть ненадолго, захотелось похитить малышек хотя бы на уик-энд?»
Пятницы всегда действовали на Сидду подобным образом. Если что-то и вызывало у нее желание иметь семью — так это пятницы. Подобные приступы тоски всегда шокировали Сидду, но с ними ничего нельзя было поделать: они возникали снова и снова. Пятницы. Привычное чувство «конец-школе-и-впереди-целый-восхитительный-уик-энд». Оно охватывало Сидду даже на Манхэттене, при виде мам, провожавших детей домой, на Аппер-Уэст-стрит, из школы Монтессори.
Она все еще скучала по бесчисленным пятницам в Пекан-Гроув. Пекан-Гроув был для детей чем-то вроде порта назначения, куда стремились все корабли. Девятьсот акров и сколько угодно места, чтобы вопить, бегать, скакать на шетландских пони, ловить крабов, играть со щенятами в большом сарае, карабкаться на старый дуб. Старая тележка для гольфа, на которой отец разрешал детям кататься по всей плантации, когда у них не было настроения седлать пони. Большой дом, наполненный игрушками и музыкальными инструментами, и тонны еды: результаты еженедельных поездок Виви в универсам.
И сама Виви, которая в счастливые дни ждала их с распростертыми объятиями на заднем дворе, радуясь детям, своим и чужим, готовя помадку, предвкушая субботний вечер в кино и карточные игры, в которые она, а может, еще и кто-то из я-я играли с мальчишками, в надежде отобрать их последнюю мелочь.
Для пяти-шести маленьких подруг Сидды ничего не составляло отпроситься на уик-энд в Пекан-Гроув. У них был открытый, гостеприимный дом, и девочки очень его любили. Куча жареных креветок на ужин в пятницу, столько холодной кока-колы, сколько вы могли выпить, а зимой — много часов, проведенных у камина, за гадательной планшеткой, которой заправляла Виви, почти не выпуская из рук стакан с бурбоном. Дети заявлялись в Пекан-Гроув налегке, зная, что Виви снабдит их всем необходимым.
«У меня восемьдесят четыре тысячи запасных пижам и шестьдесят четыре — зубных щеток. Только не приносите с собой вшей», — говаривала она.
Как же могла Сидда Уокер не думать о семье по пятницам?
Плывя к берегу, она мысленно вычисляла годы и этапы, на случай если родит ребенка именно в этот день. «Когда мои дети начнут приводить друзей домой, мне будет сорок семь. О’кей. Когда они начнут бегать на свидания, мне будет пятьдесят пять. Очаровательно. Когда они пойдут в колледж, мне будет около шестидесяти. А когда заведут собственных детей, я к тому времени уже выживу из ума».
Она перешла на брасс и сосредоточилась на работе ногами, повторяя себе: «Я всего только испытываю последние спазмы совершенно нормального и неизбежного биологического зова. У меня уже было такое раньше, но всегда проходило. Моя жизнь вовсе не сплошная колоссальная ошибка. Ангелы Вечернего Неба, что-то просится на свет. Я только не уверена, что именно».
Вернувшись в домик, Сидда поела стоя, слушая диск Бонни Рейтт и глядя на фото, обнаруженное в тот день, когда Уэйд и Мэй были здесь: тот самый, с Виви на заднем дворе, окруженной четверыми детьми. Был ли он сделан в пятницу? Нет. Будь это пятница, во дворе слонялось бы в два раза больше ребятишек, задумавших остаться ночевать в доме Уокеров. Должно быть, день обычный.
Конец сентября, 1962 год.
Ее мать сидит на одеяле для пикников в розовую клетку. Все происходит в большом дворе, полого спускающемся до самого байю. Сидда в третьем классе, Малыш Шеп — в четвертом, Лулу — во втором, а Бейлор — в первом. Если Виви сидит на одеяле, значит, сегодня она в хорошем настроении. Если ее нет — значит, закрылась в спальне и тогда всем придется оставить ее в покое или, если повезет, найти способ вырвать ее из транса. Никогда не известно заранее, что именно сработает. Только волшебство создает или меняет настроение Виви.
— Что это все вы сегодня делали в «Божественном сострадании»? — жадно спрашивает детей Виви, словно ждет каких-то поразительных новостей. — Бросайте портфели и идите сюда.
Все четверо младших Уокеров плюхаются рядом с матерью.
— Наша Пресвятая Владычица Голода! — восклицает Виви. — Выглядите совершенно изголодавшимися!
«Изголодавшиеся» — одно из слов Виви, которые Сидда любит перекатывать на языке словно конфету.
— Интересно, все вы действительно так голодны, как кажетесь? — продолжает Виви. — Чем всех вас кормили за ленчем? Неужели большим, жирным, противным зеленым горошком? О, бьюсь об заклад, это было ужасно! Не знаю, что все эти монахини делают с деньгами, которые мы им платим? Возьми, Малыш Шеп, — продолжает она, принимаясь раздавать сандвичи. — Ты мой человечек — арахисовое масло. Сидда обожает клубничное желе. Лулу, ты любишь все подряд, так что этот для тебя, но ты можешь съесть только один, понятно? Передай мне эти пластиковые чашки, мивочка. Бей, солнышко, тебе тот, который разрезан на четыре части. Не волнуйся. Я срезала корочку со всех сандвичей, вы, эксплуататоры! Лулу, не хватай. Тут на всех довольно.
Виви разливает холодный лимонад из термоса. Дети держат сандвичи на маленьких золотых коктейльных салфетках с напечатанным на них золотом «Поздравляем с десятой годовщиной. Виви и Шеп». Время от времени Виви берется за отдельный термос, где держит свою «микстуру от кашля».
Сидда устраивается поудобнее и ест сандвич. Она ждала этого момента весь день. Вкус желе и мягкого белого хлеба вызывает ощущение счастья. Она видит, как Виви откидывается на груду подушек. Как курит и смотрит в небо. Курить и смотреть в небо — любимые занятия матери. А еще она любит утренники, хорошие гамбургеры, Спринг-Крик, лежать в постели с интересной книгой, обожает наряды и вечеринки.
Сидда боготворит руки матери. Ее ногти. Красивые, скругленные на концах ногти, которые Виви усердно полирует во время телефонных разговоров.
Доев сандвич, Сидда переворачивается на живот, Виви сует руку под блузку дочери и принимается щекотать ее спину. Ее ногти идеально подходят для этого. Никто лучше матери не может пощекотать Сидде спину. Для этого нужно иметь такие же ногти, как у Виви.
Сидда положила снимок, захлопнула альбом и, выйдя в спальню, разделась. Лежа на постели, она рассматривала свой живот. Даже после сандвича он остался плоским. Лонные кости по-прежнему выпирали с обеих сторон. Богу известно, как она трудилась для того, чтобы остаться в форме.
Сидда медленно провела рукой по впалому животу. Впервые за всю взрослую жизнь вид этой части тела не доставил ей удовольствия. Она вдруг еще острее почувствовала себя одинокой, ненужной, словно одна из тех женщин, которые больше наслаждаются сборами, чем самим путешествием.
Она снова подумала о снимке. Он был сделан примерно в то время, когда мать послала первоклассника Бейлора на урок «Шоу энд телл»[48] со своим поясом для подвязок, в результате чего директриса позвонила домой и потребовала, чтобы Виви поговорила с преподавательницей Бейлора. Виви насмерть разругалась с монахиней и в расстройстве врезалась в статую Младенца Христа Пражского, стоявшую неподалеку от церковной автостоянки.
К вечеру Уокеры очутились в доме Каро. Виви была не в настроении. Но бурбон лился рекой, и Каро подавала большие миски жаркого с соусом чили. Виви, сидевшая перед огнем, рассказала всю историю, переходя от слез к смеху под всепрощающим взглядом Каро. Кончилось тем, что женщины стали учить детей танцевать ча-ча-ча, поставив на стереопроигрыватель пластинку с инструкциями. Сидда вспомнила, как танцевала в модно обставленной гостиной с овальноизогнутым журнальным столиком и камином в виде черной дымовой трубы.
— Послушайте, дети, — объявила Виви. — Я сбила статую Младенца Иисуса Пражского. Но никто не должен знать об этом, кроме нас. Это секрет.
«Раз-два-три, ча-ча-ча. И это не единственный секрет, который мы сохранили. Нас могли подкупать и пытать, но мы не выдавали твоих секретов, мама. Есть вещи, которые ты никогда не сможешь показать всем. И описать».
16
Две вырезки из «Торнтон таун монитор» были скреплены вместе и разукрашены бесчисленными стрелочками и восклицательными знаками на полях. Сидда пораженно покачала головой. Она отдала бы все, если бы Уэйд и Мэй очутились сейчас в домике. Как было бы здорово разделить с ними новости о приобщении матери к преступной жизни.
Вот первая вырезка:
ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА, 1942
ДОЧЬ ВИДНЫХ ГРАЖДАН АРЕСТОВАНА ЗА НАРУШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Пятнадцатилетняя Вивиан Джоан Эббот, дочь мистера и миссис Тейлор С. Эббот, шестнадцатилетняя Кэролайн Элайза Беннет, дочь мистера и миссис Роберт Л. Боб Беннет, пятнадцатилетняя Эме Мелисса Уитмен, дочь мистера и миссис Ньютон С. Уитмен-третий, и пятнадцатилетняя Дениза Роуз Келлехер, дочь мистера и миссис Френсис П. Келлехер, вчера вечером были арестованы и заключены в городскую тюрьму за оскорбление общественного порядка. Им предъявлены следующие обвинения: нарушение городского законодательства (статья 106), намеренное загрязнение общественной собственности и непристойное обнажение в общественном месте. Девочки ничем не объяснили свои действия.
Сидда не раз слышала сплетни о том, как я-я, еще будучи школьницами, угодили в тюрьму, но не знала подробностей. О, как бы ей хотелось перенестись на полвека назад, хотя бы в виде мухи, и усесться на стене!
А вот вторая вырезка:
ВТОРНИК, 8 АВГУСТА, 1942
Перемоем косточки
КОЛОНКА СВЕТСКОЙ ХРОНИКИ
ЭЛИС ЭНН СИБЛИ
Маленькая птичка принесла на хвосте, что миссис Ньютон Л. Уитмен-третий, урожденная Женевьева Эме Сент-Клер, дочь мистера и миссис Этьен Сент-Клер из Марксвилла, в прошлую субботу, от четырех до семи вечера, устроила импровизированную домашнюю вечеринку для своей дочери Тинси, в доме Уитменов на Уиллоу-стрит. Присутствовали близкие подруги Тинси: Виви Эббот, Каро Беннет и Ниси Келлехер, известные в городе как «я-я». Девочки отметили это событие особенно дерзкой, даже по стандартам я-я, эскападой.
Кроме них, на вечеринке веселились Мэри Грей Бенджамен, Дейзи Фаррар и Салли Соуньет. Из молодых людей можно отметить Дики Уилера, Джона Притчарда и Уайетта Белла, а также Лейна Паркера из Санкт-Петербурга, штат Флорида. Мистер Паркер приехал к нам навестить дядю и тетю, мистера и миссис Чарлз Симсоу.
На вечеринке подавались холодные креветки, холодные початки кукурузы, томаты с укропом и луком и французский хлеб. Джек Уитмен, лучший подающий бейсбольной команды торнтонской средней школы, развлекал гостей игрой на скрипке в традициях французской Луизианы. Миссис Уитмен объяснила, что затеяла вечеринку в последний момент, из чистого каприза, чтобы отпраздновать установку нового фонтана. Эта милая вещица в виде двух прелестных русалок, разбрызгивающих воду, будет установлена в ее патио рядом с призовыми розами «Американская красавица».
Мистер Уитмен отсутствовал, поскольку в прошлый четверг отправился в свой спортивный лагерь на Долфин-Айленд, штат Алабама. Интересно, почему он вдруг решил пропустить такое суаре[49]?
«Нет, это уже слишком! Еще, еще, хочу еще! Что же там было?»
Сидда просто умирала от любопытства и желания узнать всю историю. У нее все чесалось от нетерпения. Голова шла кругом. И уже не впервые страшно хотелось быть членом той бесшабашной шайки, попавшей даже в газеты.
В ночь на третье августа сорок второго года, часов через пять после того, как Джей Уитмен объявил о решении вступить в военно-воздушные силы США, сконфуженный полисмен запер Виви Эббот и остальных я-я в камеру торнтонской тюрьмы.
Примерно за месяц до этих событий американские бомбардировщики-торпедоносцы пронеслись над Мидуэем, только чтобы погибнуть под зенитным огнем. Молодые летчики, по иронии судьбы ставшие камикадзе, гибли десятками. В городах и поселках на обоих побережьях, да и в глубине материка, по ночам не горели огни. Тихий океан казался таким далеким от центральной Луизианы, и никто не знал, как произносятся чудные названия островов. Но нацистские подводные лодки высадили шпионов на берега Флориды, и хотя правительство в Вашингтоне помалкивало, жители Торнтона слышали бесчисленные истории о немецких лодках, бороздивших Мексиканский залив.
Виви мечтала о Рузвельте, Роммеле и Роберте Тейлоре[50]. На теннисном корте она с силой отбивала мечи, воображая их бомбами, посланными, чтобы убить Гитлера. Лежа в постели по ночам, после долгих прогулок с Джеком, в мокрых от возбуждения трусиках, она молилась Королеве Мира за всех перепуганных мальчиков в далеких лисьих норах и в поездах, мчавшихся по стране во всех направлениях. Она почти не ела масла, говядины или бекона и, выходя из дому, за неимением чулок рисовала на ногах сеточку. Сдавала кровь каждую пятницу, по субботам собирала макулатуру, а по средам — металлолом.
И ежедневно слушала новости по радио. В то время как военные сводки были неутешительными, модные журналы кричали, что новые мундиры женской службы сухопутных войск поднимут престиж швейной промышленности, потому что в комплект были включены пояса и лифчики. Католический «Коммонуил» не одобрял службу женщин в армии. Одна из статей, которую Багги заставила дочь прочитать, утверждала, что «вырвать женщин из сердца и дома означает превратить их в языческих богинь похотливой стерильности».
Виви верила в облигации военного займа и огороды победы[51]. Верила, что наци и япошки были олицетворением мирового зла. Верила в демократию любой ценой. Но хотела только нежности и страсти. И поэтому не считала, что Джеку Уитмену стоит идти на войну.
Августовская ночь была жаркой и влажной. В восемь часов вечера температура еще не начинала падать. Полнолуние должно было вот-вот наступить, и в воздухе глубокого Юга стояли запахи травы, речной воды и разгара лета. На южном побережье Тихого океана солдаты морской пехоты готовились высадиться на Гуадалканале; в Европе готовили бомбы для первого всеамериканского воздушного налета.
В Торнтоне, штат Луизиана, Виви и Джек сидели в зелено-голубом «бьюике» Джека сорокового года выпуска, только что отъехавшем от гамбургерной для автомобилистов. Виви прислонилась спиной к дверце, положив ноги на колени Джека, и дрожащей рукой стиснула бутылку «Доктора Пеппера».
Узнав о его решении пойти в армию, она прежде всего спросила:
— Почему ты покидаешь меня?
— Это мой долг. Кроме того, я хочу летать, — ответил он.
— Лжешь! Я никогда от тебя не слышала ни о каких полетах! — отрезала Виви и, выпрямившись, сильно ударила его кулаком в живот. И со свистом втянула воздух, стараясь не заплакать. — Дело не в этом. Ты просто хочешь выслужиться перед отцом.
Джек долго молчал, прежде чем ответил, не глядя на Виви:
— Mais oui[52].
Виви и Джек знали друг друга с тех пор, когда ей было четыре, а ему — семь. Последние восемь лет она ночевала у них дважды в неделю. И поэтому знала о нем все. Или почти все. Да он не смог бы ничего от нее скрыть, даже если бы захотел. Но и со своей стороны знал ее не хуже. Знал невидимые следы, оставленные на ней ревнивым, осуждающим молчанием матери, особенно после рождения ее сестры Джези. Знал о следах видимых, оставленных на коже ремнем отца.
И теперь он поднял глаза, надеясь заставить Виви понять.
— Нужно же хоть чем-то порадовать старика, верно? Поступить как полагается.
Пусть он был трижды прав, но Виви это не нравилось. Никогда не нравилось. Она терпеть не могла отца Джека. Чванливый индюк! Смеялся над акцентом Женевьевы. Запрещал у себя в доме байю-французский, отказывался звать Джека французским именем и не желал слышать, как тот играет на акадийской скрипке в его присутствии. Она еще не забыла снисходительного вида мистера Уитмена (хотя в то время не знала этого слова), когда, после их возвращения из Атланты, он вынудил я-я проводить мучительные субботы в академии мисс Алмы Анселл, которой поручил превратить их в привлекательных, хорошо воспитанных молодых леди.
— Ты можешь поступить как полагается, Джек, — почти прошептала она. — Остаться дома и любить меня.
Всю свою недолгую жизнь Виви флиртовала с мальчишками и гордилась тем, что ни у кого из сверстниц не было столько свиданий. Но при мысли о том, что она может потерять Джека, сердце больно сжималось.
— Прости, малышка. Все уже сделано. Назад не повернешь.
Виви закрыла глаза, а когда вновь открыла, оказалось, что обрести равновесие не так просто. Приборная доска как-то странно покачивалась, а все предметы непрестанно кружились, словно отрезок проволоки, на котором покоился ее внутренний баланс, внезапно погнулся. Ощущение было смутно знакомым.
Она снова закрыла глаза и несколько раз быстро и резко тряхнула головой.
— Виви! — всполошился Джек, медленно кладя ее ногу себе на колени. — Ты в порядке?
Она бросила на него взгляд, полный неподдельной ненависти, и отвернулась.
Он стал гладить ее ногу неспешными круговыми движениями. И, даже отвернувшись, она видела перед собой его руки. Длинные красивые пальцы, короткие квадратные ногти. Тонкие, ловкие руки, умеющие с одинаковой нежностью и спокойной уверенностью держать бейсбольный мяч, скрипку и ее пробуждающееся тело.
— Ты вернешься? — спросила она.
— Шутишь? Думаешь, я смогу долго не видеть тебя? Конечно, вернусь.
— Клянешься?
Он коснулся ее щеки, но она не пошевелилась.
— Обещаю, Виви.
Несколько минут она сидела молча, совершенно неподвижно, глядя вдаль. И только потом обернулась, улыбаясь, широко раскрыв рот.
— Похоже, мне придется научиться любить мужчину в мундире, — объявила она, подмигнув и изо всех сил стараясь сделать вид, будто просто флиртует. Но во взгляде по-прежнему светилось нечто потустороннее, словно она увидела что-то за те короткие минуты, когда сидела к нему спиной. Увидела и не смогла забыть.
Джек нагнулся и поцеловал ее ногу. Покрытые лаком ноготки. Его темные волосы упали на лоб. Он выпрямился, и она увидела, что глаза у него влажные. Повернувшись, он положил ноги на сиденье и притянул ее к себе на колени. Оба молчали. Из приемника несся голос Джинни Симмса, певшего «Сумерки». Мимо пронесся открытый грузовик с красной кабиной. В тяжелом влажном воздухе висел запах гамбургеров и соуса барбекю.
— Когда ты вернешься, все снова будет чудесно, верно? — спросила она.
— Ма petite chou[53], пока что командует Дядя Сэм, но когда я вернусь, ты будешь править бал.
— К тому времени я, может, уже стану журналисткой.
— Мы могли бы жить в Нью-Йорке, согласна?
— Еще бы. А может, и в Париже, после войны, конечно. А вдруг я окажусь звездой тенниса? Перееду в Рио-де-Жанейро.
— И во всех газетах будут твои фото.
— Или пойду в колледж изучать неизвестно что.
— Ты могла бы поступить в Ньюком, а я — в Тулейн. Сняли бы квартирку во Французском квартале. А по уик-эндам ездили бы в байю. Как тебе это?
— Как бы мне хотелось знать, сколько еще продлится война!
— А когда она кончится, — шепнул Джек, гладя ее лицо, — ты примешь меня, Виви?
Вопрос не удивил ее. И поэтому ответ прозвучал небрежно и уверенно:
— Ты единственный в мире, за кого я мечтала выйти замуж. Если этого не произойдет, придется выходить за я-я.
Джек рассмеялся и посмотрел ей в глаза:
— Ты способна на все, Виви Эббот. Можешь делать все, что угодно. Можешь быть кем угодно. Нигде в Библии не сказано, что каждая католичка обязана иметь ripopèe.
— А что это такое?
— Целый выводок надоедливых ребятишек, — объяснил Джек. Виви хихикнула.
— Я рожу столько, сколько пожелаю, верно? Или вообще ни одного.
— Согласен.
— Может, дюжину.
— О’кей, оптом дешевле.
— Посадим их в пироги и будем возить по байю. Научим играть на скрипке концертино…
— Мама безбожно их избалует. Мы можем назвать одного в ее честь?
— Какого черта, назовем сразу двух! Мы с Тинси станем настоящими сестрами. Будем жить в трехэтажном доме и выращивать колли, о’кей? Да, и теннисный корт, обязательно теннисный корт!
Джек остановил поток слов поцелуем.
«Отец, — думал он. — Отец увидит, что я за человек. И будет очень, очень горд».
— Потому что, — заявила Тинси, наливая ром в стакан с кока-колой и протягивая Виви, — Джек заставил меня поклясться, что не скажу ни слова, прежде чем он скажет тебе сам.
Я-я, уже успевшие вернуться со свиданий, той же ночью сидели в одних трусиках и курили на верхней веранде дома Уитменов.
— Во всем штате Луизиана ни одного чертова ветерка, — пожаловалась Каро, обмякнув на подушках плетеного кресла.
— Он только этим утром во всем признался мне и родителям, — продолжала Тинси. — Днем отец приехал из банка с бутылкой французского шампанского, чтобы отпраздновать событие. Можете представить: французское шампанское?!
— Только твой папаша способен раздобыть нечто подобное в разгар войны, — буркнула Каро.
— В жизни еще не видела, чтобы отец так трясся над Джеком. Даже когда того избрали председателем класса и капитаном бейсбольной команды. Папа сказал, что собирается устроить показательный сбор металлолома в честь отъезда Джека, и мы все обязаны первыми показать пример.
— А что сказала Женевьева? — перебила Виви. Она сидела рядом с Ниси на диване-качалке, прижав стакан с выпивкой к левому виску.
— Матап спросила, нельзя ли все переиграть. Отец сказал, что она не патриотка. «Господи Боже, женщина! — воскликнул он. — Пойми, это Франция, это свободный мир! И они в опасности!» Знаешь, какой он?.. Произнес целую речь и выпил за Джека. А мама даже не притронулась к шампанскому, хотя сами знаете, как она любит шампанское. Ушла наверх, и через несколько минут Джек последовал за ней.
Обмахиваясь веером Женевьевы из корня ветивера, Тинси бросилась на кровать.
— Поймите все вы, это поистине знаменательный момент! Первый из нашей компании идет воевать!
Остальные не ответили.
— Ну разве не так? — повторила Тинси. — Здорово, правда?
— Здорово. Потрясающе! Волнующе! Просто Джимми Стюарт[54]! — раздраженно бросила Виви. — Только это означает, что Джеку придется уехать, и надолго. И еще означает, что он будет видеть в маленькой металлической сигаре высоко над землей, пока немцы пытаются его убить.
— Господи, — ахнула Ниси, — я никогда не думала об этом с такой стороны.
— Ну конечно, нет, подружка, — кивнула Каро. — Наша мисс Яблоневый Бутон.
— Джек отправился на Спринг-Крик после того, как завез меня сюда, — сказала Виви.
— Отец дал ему целую книжечку талонов на бензин, — сообщила Тинси.
— О, наша Матерь Жемчуга, — вздохнула Каро. — Да твой отец что, главарь черного рынка? Этот парень в игольное ушко пролезет!
— Не знаю, — отмахнулась Тинси. — Никогда не спрашиваю.
— С ним поехала вся кодла парней, — продолжала Виви, затягиваясь сигаретой. — Должно быть, мальчишник. Они проведут там всю ночь.
— Им бы следовало захватить и нас, — заметила Тинси. — На Спринг-Крик всегда прохладнее. Я сейчас умру от этой влажности. Хоть бы кто меня выжал!
— Ему нужно было взять хотя бы Виви, — добавила Каро, вставая и прохаживаясь по веранде.
Вернувшись, она принялась обмахивать Виви подушкой.
— Когда он уезжает? И куда?
— По-моему, у летчиков самые красивые мундиры, не находите? — спросила Ниси.
— Чтобы быть красивым, моему брату не нужен мундир! — отрезала Тинси.
— Налей, пожалуйста, — попросила Виви, протянув стакан. Тинси плеснула ей еще немного добытого на черном рынке рома.
Над центральной Луизианой взошла полная луна. Не какая-нибудь жалкая и чахлая. Такая луна достойна уважения. Восхищения. Реверанса. Большая, тяжелая, таинственная, прекрасная, властная луна. Из тех, кому хочется все поднести на серебряном блюде. Треск кузнечиков и цикад, звяканье льда в стаканах смешивались с голосами и вздохами девочек. С веранды они могли видеть целый рой звезд, споривших красотой с луной. Они по очереди постояли у вентилятора, держа перед собой мокрые тряпки. Даже попытались лечь в постель, но простыни казались влажными. Исчерпав все средства, Тинси застонала.
— Ну же, — проныла она, — постоните немного со мной. Гарантирую, дорогие, сразу почувствуете себя лучше.
Девушки послушно принялись стонать и стонали до тех пор, пока где-то поблизости не завыла собака, отчего все дружно рассмеялись. Похоже, бедняга приняла их за своих!
— Интересно, смогла бы Талула остаться здесь и свариться заживо? — спросила Тинси.
— Послушай, подруга, — наставительно объявила Каро, — да сама Элеонора Рузвельт не выдержала бы такого, а она стойкий вояка, уж ты мне поверь.
Накинув старые отцовские пижамные куртки в полоску, девочки дотолкали кабриолет Женевьевы до конца длинной подъездной аллеи, где Виви села за руль и включила зажигание. Бензина почти не оставалось, так что далеко уехать не получилось.
— Знаю одно: нам не следовало этого делать, — твердила Ниси. — Нужно было хотя бы надеть пижамные брюки.
— Ниси, пойми, это не смертный грех, — увещевала Тинси.
— И не помню, чтобы его перечисляли в Балтиморском катехизисе, — вторила Виви.
— Моисей не произнес ни одного слова насчет пижамных брюк, когда сошел с гор, — заключила Каро.
— Ну что ж, — с сомнением пробормотала Ниси, — по крайней мере куртки прикрывают намного больше, чем купальники.
Они ехали и ехали, и постепенно стало казаться, что потеют не только тела я-я, но и небо и земля. Самый воздух, которым они дышали, был густым, как сок. Лунный свет разбивался о кузов кабриолета, искрился на макушках, плечах и коленях подруг, так что кончики волос словно вспыхивали. По радио пела Билли Холидей. Виви понятия не имела, куда направляется, но знала, что подруги в любом случае последуют за ней хоть на край света.
Она остановилась у городского парка, рядом с рощицей, недалеко от того места, где на невысокой водонапорной башне стоял резервуар с водой для городских нужд. Выключив зажигание, Виви приглушила яркость фар и повернулась к остальным.
— Кто хочет подняться на небо?
— Гениальная идея! — воскликнула Каро и выпрыгнула из машины, не потрудившись открыть дверцу.
— О-о-о да! — протянула Тинси.
— Вряд ли это понравится властям, — испугалась Ниси.
— Еще одна из причин, почему мы собираемся это сделать, графиня, — пояснила Каро.
— Здесь полно сторожей, — предупредила Ниси. — Честно.
— Ниси, куколка, — начала Виви, выходя из машины, — заткнись, пожалуйста.
— Все вы, послушайте, — продолжала Ниси, — нельзя туда взбираться. Это противозаконно.
— Знаем, — улыбнулась Тинси. — Это запрещено.
Ниси долго смотрела на троицу, прежде чем наконец смириться.
— Не желаю даже думать о том, что с нами может случиться, — буркнула она.
— И не думай, сладкая булочка, — посоветовала Каро, обнимая ее за плечи.
— Буду предаваться голубым и розовым мечтам, — решила Ниси.
Они пробрались к той стороне башни, где футах в шести над землей висела грубо сколоченная лестница. Девочки по очереди подсадили друг друга. Последней поднялась Каро как самая высокая. Сердце Виви бешено билось, по шее струился пот. Если удушливой жары, рома и поздней ночи было недостаточно, чтобы ввести ее в транс, величина желтой луны оказалась последней точкой.
Добравшись до верхней ступеньки, Виви ступила на узкий помост, окружавший старый деревянный резервуар. Когда-то он использовался на железной дороге, но теперь пригодился городу, поскольку расположенные неподалеку английская авиабаза и военный лагерь Ливингстон значительно увеличили его население.
С двадцати футов над землей она смотрела на городок Торнтон. И думала о матери и отце, о Пите и малышке Джейзи, о той неопределенной, шаткой жизни, которой они жили. О том, как застывала Багги, стоило мужу подойти чуть ближе. О манере, в которой она произносила: «Вот ваш ужин, мистер Эббот», — и при этом поджимала губы. О привычке отца смеяться над домашними платьями, грязными после возни в саду ногтями и освященными свечами матери. Об исходящем от отца слабом запахе шотландского виски, не вполне заглушенном антисептической настойкой доктора Тиченора. О позвякивании пряжки, свисавшей с ремня.
Неудовлетворенность и недовольство матери лежали свернувшейся змеей в ее собственном теле. Со дня рождения младшей дочери Багги спала в детской на раскладушке. И хотя Виви не могла определить происходящее словами, все же чувствовала собственную усталость в попытках постоянно сдерживать живость, бьющую ключом энергию, чтобы не причинять матери новой боли. В пятнадцать лет Виви Эббот умела куда искуснее, чем ее сверстницы, скрывать свои эмоции, но выглядела при этом не менее воодушевленной и жизнерадостной.
Она не понимала, что подобные эксперименты над собой ни к чему хорошему не ведут. И не имела никакого представления о той привычке сдерживаться, которую ее мать приобрела едва ли не с детства. Вообще Виви многого не знала о Багги.
Не знала о том старом кошмаре, который постоянно ее преследовал. Кошмаре, родившемся из того, что случилось, когда ей было двенадцать. В этом возрасте Багги вела дневник, которому поверяла тайные чувства и маленькие сентиментальные стихотворения. Она писала о гневе и обидах на сестру Вирджинию и мать Дилию. Писала романтические девчоночьи стихи о феях, любви, Деве Марии и о восхищении лошадьми (на которых она боялась ездить).
В кошмаре Багги все происходило так, как произошло на самом деле в девятьсот двенадцатом. Дилия нашла дневник, страшно разозлилась и вынудила Багги следовать за ней и Вирджинией на задний двор. Там она принялась вырывать страницы из тетради и передавать Вирджинии, которая бросала их в огонь.
— Багги, — заявила она, — ты не писательница. И в твоей жалкой жизни нет ничего такого, о чем стоило бы писать. Если кто у нас и писатель, так это Вирджиния.
Наблюдая, как все ее тайны превращаются в дым, Багги поклялась отомстить сестре. И отомстила. В девятнадцать лет она, рассчитав все до последней мелочи, увела у нее Тейлора Эббота и женила на себе. Он твердил ей, что она самая миленькая крошка во всем округе Гарнет, и требовал, чтобы она навсегда осталась только его малышкой.
Однако победа Багги оказалась весьма сомнительной. Муж изменял ей направо и налево все годы их брака.
Стоя на вершине водонапорной башни, Виви ощущала, как растет и охватывает все ее тело облегчение. Что за удовольствие смотреть отсюда на городок! Все равно что наблюдать за парадом с крыши высокого здания! Она видела спутанные нити испанского мха, свисавшие с дубов городского парка. Различала кусты камелий и азалий, сальвии, ощущала запах ночного жасмина. Закрыв глаза, она воображала, что заглядывает в свой дом. Видит спальню и всю обстановку. Кровать с четырьмя столбиками и шелковым балдахином, купленным для нее Делией в Новом Орлеане; подаренный отцом на пятнадцатилетие новый туалетный столик, на котором красуется фото Джека в спортивной форме со скрипкой в руке; высокий комод, забитый мокасинами и свитерами, потолочный вентилятор, теннисная ракетка, прислоненная к ночной тумбочке, призы за победу в теннисных матчах, бесчисленные снимки я-я и один — Джимми Стюарта.
Отведя глаза от родительского дома, Виви представила свой квартал, а за ним и соседние. Вспомнила всех людей, с которыми была знакома лично. И тех немногих, которых знала только в лицо. Видела, как они беспокойно ворочаются в постелях, не в силах уснуть в такой жаре. Видела фонари, горящие на задних крыльцах, лучики света там, где холодильники были открыты. Где кто-то стоял на кухне, делая вид, будто тянется за бутылкой с молоком. Все, что угодно, лишь бы ощутить дуновение холодного воздуха. Видела ночники, оставленные включенными в детских комнатах, где малыши сладко спали и видели чудесные добрые сны, свернувшись калачиком на выношенных бязевых простынках, еще не опасаясь Гитлера; их маленькие сильные сердечки бились в унисон с деревьями, ручейками и байю.
Виви видела слабые огоньки свечей, поставленных монахинями Божественного Сострадания за души усопших. Различала крохотные ярко-красные точки горящих сигарет, свисавших с губ измученных бессонницей бедняг, напрасно надеющихся на легкий ветерок, давно покинувший задние дворы. Уловила мягкое свечение индикаторов радиоприемников, которые не выключали на случай боевой тревоги. На случай, если нацисты или японцы вздумают вторгнуться на побережье в эту лихорадочную ночь, претворяя в жизнь ужасы, постоянно ворочающиеся в сердцах горожан, даже когда открывался банк, развозилось молоко, а из крана лилась вода.
Взлетев еще выше, Виви покинула город и устремилась в такие просторы, откуда уже не могла видеть деревья, бульвар и лица, искаженные тревогой или экстазом. Она парила над всеми забытыми эмоциями и отношениями, висевшими в воздухе между людьми. Она поднималась над городом, пока не увидела Банки и Натчиточес, и Кейн-Ривер, больше походившую на озеро, и Гарнет-Ривер, впадающую в Миссисипи. Внизу промелькнул Спринг-Крик с прохладной древесной тенью и усыпанными сосновыми иглами тропинками, ведущими в пляжный домик, где спал этой ночью Джек. Пролетела над немецкими ирисами с их бледными серо-зелеными стеблями, над бурыми водами байю с их молчаливыми кипарисами, над болотами, над хлопковыми полями, над бараками, где вповалку лежали измученные черные люди, целыми днями сгибавшиеся над усыпанными коробочками кустами, над рисом и сахарным тростником, над болотными миртами, над миллионами крошечных притоков, над крабами в их грязевых постелях.
И, оставив все это, поднялась еще выше, к облачным грядам, напоенным каплями дождя, холодному преддверию рая. Отсюда была видна вся маленькая Земля, голубая и белая, вращающаяся в пугающе великолепном космосе. Ни единого человека: только сердца, бьющиеся сердца, бесчисленные сердца и звуки дыхания.
Вот как это было для Виви Эббот, пятнадцати лет, изменчивой во всех смыслах этого слова. Таковы были места, по которым ей довелось путешествовать, как только где-то внутри открылась маленькая дверка и мозг высвободился из оков разума. Такая заповедная и жуткая податливость не всегда безопасна и никогда не проходит без последствий и компромиссов.
На какой-то момент Виви перестала ощущать себя единым целым. Наступил миг свободного падения, несущего с собой шок от сознания собственной непостоянности… паническое осознание своей временности. Она пыталась цепляться за влажные облака, за величественную панораму. Потому что не хотела возвращаться на землю.
Снова оказавшись на платформе водонапорной башни, в городском парке, в сердце штата Луизиана, Виви подумала: «С Джеком Уитменом моя жизнь будет другой.
«Ты можешь быть кем угодно, Виви Эббот, — сказал он. — Кем угодно».
А потом Виви подумала: «Если Джек растворится в небе, я завяну, засохну и умру».
Именно Каро сообразила, как открыть крышку резервуара. Это было нелегко и потребовало определенной ловкости, но я-я были дерзки, умны, достаточно сильны и погибали от жары.
Даже Ниси, самая благоразумная из я-я, была захвачена видом лунной дорожки, протянувшейся по воде. Они сбросили пижамные куртки, и легкая ткань, пролетев через неподвижный воздух, спорхнула на иссушенную землю. Я-я выступили из своих трусиков и забыли о сборе металлолома. Говорили они мало, а думали и того меньше. Просто скользнули в прозрачную прохладную жидкую ласку городского запаса воды.
Некое дерзкое благочестие так и повисло в воздухе, когда я-я откинули головы и волосы легли на воду вокруг их плеч. Они смотрели в ярко освещенное небо, где не было никакой войны. Они считали звезды, решили, что отыскали созвездие Пегаса, и были совершенно уверены, что нашли Венеру. Соединяли пальцы ног и задирали их к небесам, как Эстер Уильямс.
Виви совершенно отдалась на волю воды. Черный камень, поселившийся в ее груди, на время исчез, и она глубоко втягивала воздух, задерживала и медленно выдыхала, словно задувая свечи. Живот стал мягким, плечи расправились, головокружение прошло. И тогда она заплакала.
Через несколько секунд к ней неожиданно присоединилась Тинси. Потом Ниси. И наконец Каро тоже обронила несколько слезинок. Соленые капли текли по щекам и падали в общинную воду. Они плакали, потому что уход Джека в армию безжалостным консервным ножом взрезал скорлупу их уютной тесной вселенной, открыв ее для страданий окружающего мира. Они плакали, потому что отчетливо сознавали: я-я никогда не будут прежними.
Виви сквозь слезы смотрела на луну. И из потаенных глубин ее души вырвалась безмолвная молитва за Джека.
Лунный свет в летнем небе, взгляни с небес на мою любовь. Озари его сейчас, когда он в безопасности, и сияй над ним, когда он полетит через вражеские небеса. Пусть небесные путешествия приблизят его к тебе, чтобы, пока он вдалеке от меня, никакая беда не настигла его. Передай, что я люблю его, тоскую по нему и всегда буду его ждать. Твое молочно-белое сияние сможет защитить его от всех врагов. Он нежный мальчик, не дай ему страдать. Лунный свет над единственным городом, который я знаю, верни мою любовь домой, чтобы мы смогли жить вместе и быть счастливы.
Повернув голову, чтобы взглянуть на подруг, Виви увидела Тинси, Каро и Ниси такими, какими никогда не видела раньше. Казалось, от них исходило внутреннее свечение, словно в девических телах горели неугасимые фонари. Они одновременно выглядели и непобедимыми, и бесконечно, бесконечно хрупкими. Их тела имели те плотность и вес, которые служили ей якорями, делали ее более реальной. Она смотрела на них, и любила их, и переполнялась благодарностью.
Увидев четыре пижамные куртки на земле, патрульный полицейский Роско Дженкинс сначала не знал, что и подумать. Он делал обычный обход, когда заметил стоявший на обочине дорожки кабриолет и решил, что у кого-то кончился бензин. Ночь выдалась такой светлой, что можно было не пользоваться фонариком, но все же он посветил вниз и окончательно растерялся, заметив на куртках монограммы. Но тут ему на глаза попались трусики, и Дженкинс встревожился. Подобрав куртки, он огляделся, но не приметил ничего необычного. И вдруг услышал слабый плеск воды. Посветил фонариком вверх, и тут ему привиделась обнаженная женщина…
Как только я-я согласились спуститься вниз, офицер Дженкинс повел себя как истинный джентльмен. Отведя глаза, он вручил каждой ее куртку, прежде чем подняться на башню и проверить, плотно ли закрыта крышка. Этих молодых леди он знал, особенно девочку Уитменов, еще с тех пор, когда она, то ли в три, то ли в четыре года, засунула в нос пекановый орех. Можно сказать, сейчас он был скорее сконфужен, чем зол. И тот факт, что позволил девочкам следовать за ним в кабриолете, вместо того чтобы усадить всю шайку в патрульную машину, вовсе не свидетельствовал о доверии. Честно говоря, он немного побаивался оказаться в одной машине с ними.
А они тем временем спорили, что лучше: выполнить приказ полицейского или плюнуть на все и податься в горы (правда, гор там не было).
Наконец победило мнение Тинси.
— Едем! — решила она. — Я еще никогда не бывала в кутузке!
Прибыв в участок, потные и взъерошенные отцы принялись совещаться.
— Жаль, что нельзя обуздать эту энергию и направить в достойное русло. Вот была бы помощь союзникам! — заметил отец Каро.
— Поражает их полное пренебрежение правилами приличия! — возмутился отец Тинси. — Мой сын совершил достойный восхищения поступок, а вот дочь превращается в преступницу. Эта четверка не доставила нам ничего, кроме неприятностей, еще с тех пор, как опозорила моих родственников в Атланте!
— Интересно, как теперь департаменту водоснабжения очищать резервуар? — вздохнул отец Ниси.
— Пусть немного охладятся в камере, — постановил мистер Эббот. — Посидят и подумают. Может, это подрежет им крылышки!
— Засадить их в камеру? — переспросил Роско, не веря собственным ушам.
— Именно, — согласились все четверо, прежде чем направиться к выходу.
— «Засадить их»! — повторила Тинси, театрально цепляясь за прутья решетки. — Что за чудесные слова!
— Тюрьма! — произнесла Каро.
— Арестованы за убеждения! — воскликнула Виви.
— О Боже, — прошептала Ниси.
Камера, куда привели девочек, оказалась, вероятно, самым прохладным местом во всем Торнтоне. Расположенное внизу, на уровне подвала с окнами по обеим сторонам и боковой дверью, открытой настежь (не говоря уже о вентиляторе, который офицер Роско Дженкинс взял с собственного стола и поставил на карточный столик прямо перед камерой), помещение выглядело весьма приятным местечком. Волосы у девочек еще не высохли, вода с кожи не успела испариться, да еще Роско принес содовой из холодильника, за что они вежливо его поблагодарили.
— Роско, — пообещала Виви, — когда я буду писать мемуары, вы станете одним из главных персонажей.
Я-я выпили содовую и растянулись на нарах.
— Мой отец, — прошипела Тинси, — совершенно, просто совершенно не способен понять человеческую натуру. Какое счастье, что Джек вовремя от него убрался!
— Мы не обычные преступники! — вспылила Каро.
— В нас нет ничего обычного, — согласилась Ниси.
Виви молча смотрела на низкий потолок камеры и думала о том, что следует подчиняться чему-то более высокому, чем законы Торнтона. Слишком много людей прячутся у себя в комнатах, когда лунный свет становится ярче, когда луна льет на землю свои лучи, хотим мы этого или нет.
И в эту ночь луна любила спящих я-я. Не потому, что они были прекрасны. Не потому, что были совершенны, дерзки или самоуверенны. Но потому, что они были ее дорогими дочерьми.
17
Если бы Сидда Уокер могла видеть Виви и остальных я-я в свете той летней луны сорок второго, видеть их чуть соприкасавшиеся молодые тела со светящимися в лунных лучах сосками, наверное, сразу поняла бы, что происходит из рода богинь. Поняла бы, что первобытная, сладостная сила, растекающаяся в жилах матери, как подземная река, — та же, что течет и в ней самой. Какими бы шрамами ни наградила ее Виви в своих необузданных метаниях между созиданием и разрушением, она также передала дочери мощную способность восторгаться, приходя в бурный, временами необузданный экстаз.
Сидда спускалась по ступенькам к озеру Куино, сгорая от тревоги. И пока луна медленно, торжественно выплывала на небо, превращаясь в невиданной красоты шар, Сидда терзалась мыслями о собственном смятении и внезапно подорванной решимости добраться до сути вещей. Но летняя луна терпела такое пренебрежение лишь до поры до времени, и когда Сидда собиралась в очередной раз поставить ногу на ступеньку, лунный луч скользнул по ее плечу и заставил поднять глаза к небу. Сидда глубоко, прерывисто вздохнула, а выдохнув, ощутила внутри простор, которого не было раньше.
«Внемли луне в ее бледном великолепии, — подумала она. — О наша Матерь Жемчуга! Только эта луна — причина появления слова “луноликий”».
Сидя на деревянных ступеньках, она опустила руку и принялась нежно растирать курчавые длинные уши Хьюэлин. Собака блаженно вздохнула, издавая смешные, тихие, фальшивые звуки, какие выдувает ребенок из губной гармоники. Сидда чувствовала, как бьется ее сердце. Слышала стройный хор кузнечиков, засевших по берегам озера.
Кузнечики. Они пели мне серенады с самого дня рождения. Вдох. Выдох. Сейчас, прямо сейчас я сижу в лунном свете. Прямо сейчас рядом со мной моя собака, и мы принимаем лунные ванны.
Она запела. Тихо. Неожиданно для себя. То, чего не делала очень давно. Сначала — «Голубую луну», партию альта, которой научила ее много лет назад тетя Джези. Закончив, она перешла к «Сияй, о полная луна», сопровождая пение легким притопыванием, особенно когда дошла до строчки: «И некому любить меня ни в январе, ни в феврале, июне иль в июле».
Хьюэлин, ритмично постукивая хвостом по деревянным доскам, внимательно наблюдала за хозяйкой. Похоже, она принимала пение за колыбельную лично себе самой. Собственно говоря, Сидда и пела что-то вроде колыбельных, чтобы убаюкать ту малышку, которая жила в ней целых сорок лет. Сидда погладила макушку кокера, там, где хохолки белой шерстки торчали, как перышки, на общем желтовато-коричневом фоне.
Продолжая ласкать Хьюэлин, она осторожно повертела головой, чувствуя, как напряжены плечи и шея. Она подумала о нежном стебле, соединявшем ее голову с сердцем, и на мгновение испытала прилив благодарности. Интересно, может ли благодарность вытеснить тревогу?
Из размышлений Сидды произросло тихое мурлыканье. И продолжалось до тех пор, пока не расцвело песней «Лунная река». Она тихо выговаривала слова, вспомнив, что после выхода фильма «Завтрак у Тиффани» «Лунная река» стала любимой песней родителей. Нередко, заходя в ресторан «Частен» с Виви и Шепом, она вспыхивала от удовольствия, когда пианист прерывал мелодию и переключался на «Лунную реку»! В такие минуты она воображала себя и родителей особами королевской крови. Скажем, был вечер субботы, в каком же году… шестьдесят четвертом? Скажем, конец лета… все лица излучали летнее сияние. Скажем, Виви надела бежевое льняное платье-рубашку, Шеп — спортивный пиджак поверх защитных брюк… на Сидде и Лулу — новые сарафаны, Малыш Шеп и Бейлор в безупречно белых теннисках. Скажем, подавали омара… все прошло хорошо. Скажем, потом им подали чаши для ополаскивания пальцев, и Шеп выдал свое всегдашнее изречение:
— Прекрасный обед. Я наелся как слон.
— Двое бродяг, — пела Сидда, продолжая сидеть на причале, — отправились мир повидать. Ах, какой широкий мир, сколько нужно обойти…
Память послушно подсказывала куплеты, которым научила ее Виви.
— Мой друг — Гекльберри, — прошептала она Хьюэлин, когда была допета последняя строка, и собачка послушно положила мохнатую головку ей на колени. Грудь Сидды вздымалась, голова казалась легкой и гудящей. Пение словно промассировал о ее тело изнутри.
«Я научилась петь у мамы. В наше время никто не поет, как пели когда-то мама и мы четверо».
Сидда не знала, какой океан песен окружал подраставшую Виви. О подобном не рассказывают учебники истории. Тогда люди без умолку распевали на свежем воздухе. В тридцатых — сороковых годах было просто невозможно пройти по улицам Торнтона, штат Луизиана, не услышав пения. Пения или насвистывания. Пели домохозяйки, развешивая белье, насвистывали старые чудаки, сидя перед зданием суда на Ривер-стрит, мурлыкали садовники, копаясь в земле, заливались дети, пролетая по тротуарам на самокатах и велосипедах. Даже серьезные бизнесмены свистели модные мелодии, отправляясь в банк или возвращаясь домой. Тогда в гостиных стояли не телевизоры, а пианино. Пение не всегда означало, что люди счастливы: иногда мелодии были траурными или церковными гимнами. Очень часто музыка лилась с губ негров, чьи песни затрагивали какой-то потаенный уголок в душе Виви, будя грусть, для которой не было названия. В те дни, казалось, пели все.
Когда Сидда была маленькой, мать учила петь ее и других детей, когда возила в школу по утрам, если им случалось пропустить школьный автобус. Показала, как правильно свистеть, еще до того, как они научились говорить, и постаралась передать все свои скаутские песни и избранные любимые хиты сороковых. Сидда и ее братья и сестры знали наизусть «Пенсильвания 6—5000», «Не могу не любить своего мужчину» и «Чаттануга чу-чу» еще до того, как самостоятельно научились завязывать шнурки туфель.
В хорошие дни Виви садилась за кабинетный рояль, подаренный Багги, и объявляла гостиную залом салуна. Даже Шеп иногда подпевал таким мелодиям, как «Ты — мое солнце» или «Желтая роза Техаса».
В такие моменты Виви поворачивалась к нему и восклицала:
— О Господи! У тебя поразительный голос! Тебе бы стоило петь почаще! Не держи свой свет под спудом! Скрывать такой талант!
И Шеп на это смущенно бормотал:
— Это ты настоящая артистка в семье, Вивиан.
И ретировался на кухню налить себе бурбона.
Сидда любила минуты, когда отец присоединялся к общему веселью, затеянному и поощряемому матерью. Но такие случаи были редки, как и общение с отцом. Шеп любил жену и детей, но знал о разведении хлопка и охоте на уток куда больше, чем о семейной жизни. И эта семейная жизнь вроде как проходила мимо него, почти не задевая. Он словно не понимал, что это такое — быть членом семьи, и поэтому придерживался того, в чем больше разбирался, предпочитая оставаться в стороне. Сидда по пальцам могла пересчитать те случаи, когда оказывалась наедине с отцом. Он был человеком, отмеченным вечным клеймом поэзии деревенской жизни, но выражение лица всегда было омрачено бурбоном и невыразимой меланхолией.
Шеп Уокер не летал так высоко, как Виви, однако тоже был способен на всякие прихоти, причуды, фантазии, проявлявшиеся часто и весьма непредсказуемо. Как в тот сочельник, когда он явился домой с костюмами ковбоев, дополненными шляпами и сапогами, для каждого члена семьи, включая маленькую задорную ковбойскую шляпу для их кокер-спаниеля. При этом он был так доволен собой, что сумел лестью и комплиментами уговорить Виви позволить домочадцам (исключая собаку) пойти в таком виде к рождественской службе. После мессы, когда друзья собрались вокруг Уокеров, выглядевших, будто разом спятившая группа исполнителей кантри, Виви рассмеялась и сказала:
— Святой Шеп Креститель посчитал, что наша госпожа Божественного Сострадания нуждается в хорошем пинке под зад.
В молодости Шеп Уокер был неотразимым сердцеедом, воплощением фермера-джентльмена, который женился на Виви Эббот, потому что жаждал вкусить ее неиссякаемой жизненной энергии. Он ни на секунду не задумывался над тем, зачем это ему нужно. Не заподозрил, что неизменная оживленность Виви имеет свою темную сторону. Шепу Уокеру в голову не пришло, что Виви с годами может его измотать. Когда-то их взаимное физическое притяжение было почти непреодолимым и даже с годами еще не иссякло окончательно, проявляясь вновь и вновь, ненужное и нежеланное, несмотря на долгие периоды воздержания и охлаждения.
Виви же вышла за Шепа Уокера, потому что обожала его голос. Ей нравилось, каким неизменно уверенным в себе он казался после того, как она целовала его. И еще потому, что (в самом начале) его присутствие заставляло ее почувствовать себя звездой. И наконец, потому, что уже в двадцать четыре года она считала: ей совершенно все равно, за кого выйти замуж.
Как-то мать сказала Сидде:
— Судьбой мне был предназначен Пол Ньюмен, но Джоанн Вудворт поймала его раньше. После этого мне было на все наплевать.
Именно эта дьявольская пляска между тихой меланхолией Шепа и лихорадочным обаянием Виви, постоянно сдабриваемая «Джеком Дэниелсом», и сформировала впечатление Сидды от семейной жизни.
* * *
Позже, вернувшись в домик, Сидда заварила себе «Эрл Грей», охладила и вытащила торшер и кресло на веранду. Не хотелось терять из виду луну. Но едва она положила на колени материнский альбом, примчалась Хьюэлин с тряпичной игрушкой, напоминая, что пора поиграть. Сидда невольно рассмеялась. Огромные глаза, слегка вытянутый нос и курчавые хлопушки ушей были такими трогательными!
Сидда опустилась на колени, потянула за игрушку и зарычала. Собака ужасно обрадовалась. И они играли, пока Сидда не сдалась и не позволила Хьюэлин выиграть.
Снова взявшись за альбом, Сидда вздохнула и на секунду прикрыла глаза.
Откройся мне. Позволь проникнуть в твои тайны.
Пальцы что-то сжали. Она посмотрела вниз и обнаружила, что держит приглашение, напечатанное на белом бристольском картоне.
Мистер Тейлор Чарлз Эббот
имеет честь пригласить вас на танцы
в честь своей дочери,
мисс Вивиан Эббот,
в пятницу, 18 декабря 1942 года,
в восемь часов.
Бальный зал отеля «Теодор»,
Торнтон, Луизиана.
Декабрь сорок второго. Должно быть, что-то вроде бала по случаю незабвенного шестнадцатилетия. Неужели во время войны устраивали подобные праздники?
Сидда перевернула карточку. Где, черт возьми, имя бабушки?
Ей стало не по себе. Это ошибка? Или сделано специально? А если так, что это означает?
Пришлось снова бороться с искушением набрать номер и спросить Виви. Но Виви дала ясно понять: «Не звони».
Сидда взглянула на часы. Девять. В Луизиане одиннадцать. Каро наверняка не спит. Сидит и цедит любимый черный кофе сорта «Коммьюнити». Единственная истинная ночная сова из всех я-я наверняка ответит на звонок, если только ее жизнь за последние дни не изменилась самым радикальным образом. До интервью в «Нью-Йорк таймс» Каро раз в два месяца обязательно звонила ей, и всегда после полуночи. Но со времени выхода оскорбительной статьи они ни разу не поговорили. С тех пор как Виви вручила свою фетву.
Схватив фонарик и поводок Хьюэлин, Сидда повела спаниеля к телефону-автомату. Дорога была пустынна, все отдыхающие уже улеглись.
Проходя мимо «Куино-лодж», она заметила, что в вестибюле все еще теплятся огоньки. Сразу стало немного легче оттого, что она всегда может зайти сюда, если устанет от одиночества. Ей нравилось собственное легкое возбуждение. Нравилось, с каким трепетом она ждет новых открытий о шестнадцатилетней Виви Эббот.
— Ем сырное печенье и слушаю чертовы компакт-диски, чем еще заняться? — ответила Каро, тяжело, с присвистом дыша. Должно быть, ее эмфизема опять разыгралась. — Как насчет тебя, подруга?
— Каро! Я здесь, на краю Соединенных Штатов, пытаюсь понять, что делать с остатком своей жизни.
— Гнусное занятие для такой красивой девушки, — невозмутимо произнесла Каро, почти идеально имитируя Граучо Маркса[55].
Сидда рассмеялась, представив, как Каро, отпустив очередную шуточку, пожимает плечами: «Ничего не могу поделать. Я своего рода наркоман».
Усевшись на узкую скамью в крошечной телефонной будке, оставшейся еще с пятидесятых, Сидда отстегнула поводок и скомандовала Хьюэлин сидеть.
— Не извращай это слово, черт возьми! — фыркнула Каро. — Я и без того сыта по горло окружающими, которым вздумалось твердить в один голос, что все они либо наркоманы, либо рабы привычек. Ты всего лишь мыслитель, и только. И была такой с четырех лет. Это в твоей натуре. Что еще новенького?
— Что-то ты не слишком удивлена моему звонку.
— А стоило?
— После… после той истории с…
— С этой толстозадой нью-йоркской репортершей? Брось, за кого ты меня принимаешь?
— За лучшую подругу матери.
— Это верно, — хмыкнула Каро и, помолчав, добавила: — Я еще и твоя крестная.
— Ты не сердишься на меня?
— Нет.
— Почему же не звонила? Не писала?
— Ну… цитируя нашего очкастого идиота Джорджа Буша, это было бы неблагоразумно.
— Каро, когда ты была благоразумной?
— Когда речь идет о моих друзьях, я иногда проявляю большую осмотрительность.
Сидда молчала, не зная, что ответить.
— Я послала Блейна и Ричарда посмотреть твою пьесу, — продолжала Каро. — Но ты уже знаешь это, верно? Я послала туда бывшего мужа и его бойфренда и потребовала подробного отчета.
Каро никогда не уставала удивлять Сидду. Много лет назад все пешеходы Французского квартала оборачивались при виде молодого Блейна, мужа Каро. В те времена он был неотразим. А когда бросил жену ради мужчины, с которым тайно встречался в Новом Орлеане, это потрясло всю вселенную я-я. Все это случилось восемь-девять лет назад. Пригрозив Блейну незаряженным ружьем и уничтожив целый альбом архитектурных эскизов к дому, который проектировал Блейн, Каро наконец его простила.
Два года назад, когда Сидда в последний раз была дома, она объяснила:
— Для меня это было потрясением, но не сюрпризом. И дело в том, что мне действительно нравится Ричард. Ради всего святого, человек умеет готовить! Никто не готовил для меня после смерти мамы!
Блейн перебрался в Новый Орлеан, к Ричарду, но они часто приезжали в Торнтон и останавливались у Каро, особенно после того, как у нее нашли эмфизему.
— Я знаю, что Блейн и Ричард видели спектакль, — ответила Сидда. — Мало того, мы с Коннором сводили их в ресторан. Но как это «ты их послала»?
— Так и послала. Я купила проклятые билеты, и я заявила этим голубкам, что, если они не вернутся с точным докладом о «Женщинах в лунном сиянии» и подробным описанием твоей внешности, костюма, голоса и манер, я донесу на них в полицию нравов Божественного Сострадания.
— И?..
— Дружки-любовники успокоили меня, посоветовав не волноваться. Утверждают, что ты была красивой, грациозной, только немного худой. Расстраивалась из-за мамы, но гордилась своими успехами. И они оба, цитирую, обожают Коннора Макгилла. Если ничего не путаю, Ричард сказал: «Он Лайам Нисон пополам с молодым Хенком Фондой, который провел несколько сеансов на диване психоаналитика».
— Исусе! — ахнула Сидда. — Как ты уживаешься с этой парочкой? Секунду, Каро… Хьюэлин, немедленно вернись, слышишь?!
Хьюэлин, медленно бредущая через дорогу в направлении озера, неохотно повернула.
— Прости, собака едва не удрала, — извинилась Сидда.
— Это секретный код или что? — осведомилась Каро.
— Нет, — засмеялась Сидда, сообразив, что только сейчас выдала фразу, типичную для я-я, желавших передать друг другу информацию тайком от окружающих. — Это Хьюэлин, театральная собачка.
— Та, которую ты повсюду с собой таскаешь?
— Да. У нее что-то вроде эпилепсии. Не хотелось бы оставлять на чужих людей. Коннор называет это щенпилепсией. Она на депрессантах.
— Только не говори, что у тебя на этом крыша поехала.
— Кто бы говорил! — огрызнулась Сидда. — Женщина, когда-то вырастившая целый выводок из четырех коротконогих гончих!
— Так что насчет этого парня, Коннора? Что насчет…
— Ты так и не ответила на мой вопрос, — перебила Сидда, сменив тему. Она не хотела обсуждать отсрочку свадебных планов. — Как ты уживаешься с Блейном и Ричардом?
— Не только уживаюсь, но и наслаждаюсь каждой минутой, проведенной с ними. Блейн стал в десять раз занимательнее! Каждый раз, приезжая, они с Ричардом принимаются готовить, менять обстановку и устраивают мне вечеринку. Да я просто на седьмом небе!
И тут Каро зашлась кашлем. Ужасным, хриплым, лающим кашлем. От этих звуков у Сидды заныла грудь. Она представила ту, прежнюю Каро, высокую, загорелую, спортивную, выходящую из бассейна Тинси и хватающую сигарету прежде полотенца. Бейлор сказал, что ее битва с эмфиземой идет с переменным успехом.
— Прости, что не звонила, подруга, — тихо выговорила Каро. — Понимаешь, нам пришлось чертовски нелегко с Виви. Она заставила нас поклясться, что мы навсегда о тебе забудем. Твоя мама очень боится предательства. Кстати, пусть мой кашель тебя не беспокоит. На самом деле все не так уж плохо. Правда, приступы чаще всего бывают по ночам.
— Ты считаешь, что я ее предала? — спросила Сидда, немного подумав.
— Не считаю. Думаю, что «Нью-Йорк таймс», как любое женоненавистническое издание, обожает сцеживать молоко из всех материнских грудей, какие только им попадутся, а затем винить их же за нехватку молока. Но нет, не думаю, что ты намеренно обидела мать.
— Спасибо.
— Не стоит, Сидда.
— Можно мне кое-что спросить?
Каро снова закашлялась. Сидда мучительно поморщилась.
— Зависит от того, что именно, — настороженно буркнула она наконец.
— Я нашла в мамином альбоме приглашение на танцы по случаю ее шестнадцатилетия. Там нет имени моей бабушки. Выглядит так, словно Багги вообще нет.
— Ты спрашивала Виви?
— Она не хочет говорить об альбоме. Вернее, вообще не хочет со мной говорить. Объяснила, что послала «Божественные секреты», и этого довольно.
— А это не так?
— Что «не так»? — не поняла Сидда.
— Разве альбома недостаточно?
— Конечно, нет! Меня ужасно раздражает… нет, выводит из себя невозможность получить полную информацию. Листая альбом, я только прикасаюсь к вашей жизни! Никаких объяснений, никакого сюжета! А ведь из этого можно сделать столько рассказов, историй, которые могли бы решить… ну, не решить, но определить… Ради Бога, мама обязана дать хоть какие-то ориентиры… — Сидда закашлялась, смущенная собственным взрывом.
Каро немного помолчала, потом спросила:
— По-твоему, мама как-то повлияла на твое отношение к Коннору?
— Не знаю, — вздохнула Сидда. — Сказать по правде, я немного шокирована своей реакцией на все это.
— А я — нет. Ты и твоя мама разбили сердца друг другу. Но пока вы мечете стрелы, позволь напомнить, что у тебя был… есть отец. Понимаю, что ты его, с его способностью исчезать на глазах, в расчет не берешь. И не слишком отличаешь от других мужей я-я.
— Да, мама всегда была звездой. А он — актером эпизода.
— Сколько лет, говоришь, ты посещала психоаналитика?
— Скажем так: на те деньги, что я потратила, пытаясь смириться с постоянными мамиными гадостями, можно было бы прожить счастливо и безбедно остаток жизни, удалившись на покой лет в тридцать.
— Позволь сказать, подруга: твоя мать ничем тебе не обязана. Ты взрослая. Она кормила тебя, одевала, укачивала, даже если при этом не выпускала из рук стакана. И какие бы гадости она тебе ни делала — а я уверена, что любая мать время от времени делает гадости своему ребенку, — все это осуществлялось элегантно и с размахом.
Сидда подтащила Хьюэлин поближе к себе. Психоанализ действительно помог. Пять лет назад она впала бы в ступор, услышав от кого-то столь откровенное, безумно мудрое заявление.
— Еще дышишь? — мягко осведомилась Каро.
— Угу.
— Последнее время я много размышляю о дыхании. Подумать только, сколько вздохов в своей жизни я принимала как должное!
Слова Каро вошли в Сидду вместе с воздухом, который она вдохнула, и заставили ее тоже подумать о собственном дыхании. Поэтому она не сразу ответила Каро. Просто плыла по течению вместе со вдохом, как серфер на полуденной волне.
Она и Каро на противоположных концах страны молча дышали в трубки. Наконец Каро сказала.
— О’кей; насчет этой истории с незабвенным шестнадцатилетием: все было ужасно мерзко.
— А подробности? — оживилась Сидда.
— Ты действительно хочешь знать?
— Ты не устала? — встревожилась Сидда, слыша прерывистое дыхание Каро. Если бы Сидда не знала ее так хорошо, подумала бы, что она притворяется.
— Как раз в то время отец Виви завершил крупную сделку. Ему не терпелось похвастаться своими денежками. Твоя бабушка Багги не хотела никаких танцев. Он устроил это ей назло. Черт возьми, Тейлор Эббот обращался с твоей бабкой, как с коровьим навозом. Пусть она была странноватой, а может, и немного не в себе, но все же такого не заслужила! Он своих лошадей уважал больше, чем жену! Дьявол, не знаю! Но твоя мама застряла или запуталась прямо в середине всего этого дерьма.
Каро выдержала паузу, прежде чем продолжить:
— Так вот, эти танцы. Тейлор Эббот подарил Виви сногсшибательное бриллиантовое кольцо. Эта вечеринка была последней до гибели Джека. Из тех дней рождения, о которых лучше не вспоминать.
Сидда ждала продолжения, но Каро молчала.
— Это все, Каро? Что произошло? И как повлияло на маму?
— Могу сказать, что ее следующий день рождения будет потрясающим, — заявила Каро, игнорируя расспросы. — Мы планируем вечеринку не на декабрь, а на октябрь. Виви заявила, что в этом году желает праздновать на открытом воздухе, так что нужно все устроить до холодов. Я печатаю приглашения на своем «Макинтоше».
Она снова закашлялась.
— Королева Отговорки, — упрекнула Сидда.
— Крестная мать Отговорки, — устало поправила Каро.
— Ты измучена. Я слишком тебя обременяю.
— Я действительно измучена, дружище.
— Спасибо, что ответила на мой вопрос.
— Я не ответила на твой вопрос.
— Не ответила.
— А ответа нет. И никогда не было. И не будет. Это и есть ответ. Гертруда Стайн.
— Ты вторая на этой неделе, кто цитирует мне Гертруду Стайн.
— Жизнь не Балтиморский катехизис, дружище. Каро Беннет Брюэр.
Сидда рассмеялась. С того места, где она стояла, виднелась часть лунного диска, просвечивающая сквозь высокие чернильно-черные силуэты старых елей Дугласа, стороживших берег озера.
— Каро, — нерешительно начала Сидда, — я хотела еще спросить…
— Ты о чем?
— О снимке… похоже, сделан в начале шестидесятых. Групповая фотография, снятая на Пасху, кажется, во дворе Тинси. Мы все выстроились в ряд, держа корзины, и разодеты в пух и прах. Там все: ты, Блейн, мальчики, Тинси, Ниси и пти я-я. Чак в идиотском костюме зайчика и с сигаретой в руке! И весь выводок Ниси, кроме Франка, который, вероятнее всего, и фотографирует нас. Тут же мы четверо и папа. Бейлор выглядит так, словно орет во всю глотку, а на мне платьице из органди и шляпка, этакая Алиса в Стране чудес. Я обнимаю Малыша Шепа и Лулу, и все мы кажемся какими-то истерзанными. Но самое интересное, там нет мамы. Она куда-то уезжала в ту Пасху, верно? Где она, Каро?
Каро не ответила.
— О черт, — уклончиво бросила она наконец, — снова те веселые дни.
— А мне становится грустно при взгляде на снимок, — возразила Сидда. — Думаю, это было после того, как мы выставили маму из дома.
— О чем ты? — удивилась Каро.
— Когда мама больше не смогла нас выносить. И уехала.
— Разве ты никогда не говорила об этом с Виви?
— Никогда, — ответила Сидда.
Каро молчала.
— Она уехала из-за меня, так ведь, Каро?
Каро закашлялась, и Сидда почувствовала себя виноватой.
— Нет, подруга. Не из-за тебя. Жизнь куда сложнее, чем тебе кажется.
— Ты о чем, Каро?
— Альбом — далеко не все. Есть еще много такого, что тебе неизвестно. А сейчас, как говорит Ниси, пора погрузиться…
— В голубые и розовые мечты.
Пауза.
— Это означает: я люблю тебя, Сиддали.
— Знаю, Каро, — сказала Сидда. — Я тоже тебя люблю.
Очередной приступ кашля.
— Хороших тебе снов, — пожелала Каро. — И не бойся призраков: я поставила под кроватью фумигатор.
Есть правда историческая и правда людских воспоминаний. И сейчас, на берегу озера Куино, цветы воспоминаний всплывали на поверхность, ничем не стесненные, словно вливая в нее свое дыхание. Как птицы, беспрепятственно перелетающие границы любых, даже воюющих друг с другом, государств.
18
Сидда уселась в телефонной будке и принялась размеренно дышать.
Ты взрослая.
«Считаю ли я, что мама до сих пор ответственна за мою жизнь? Только потому, что она дала мне физическое существование? Поэтому обязана дать духовное рождение? Разве я не простила ее за стремление вырвать меня из теплого, уютного, безопасного чрева и швырнуть, негодующую и орущую, в жестокий, злобный, великолепный, сияющий мир? Может, я ожидаю от Коннора того, что не могла или не хотела сделать мама? Боюсь, что не заслуживаю его? Боюсь, что он бросит меня, если окажусь недостаточно хороша?»
Он набрала номер Коннора. И насчитала пять звонков, прежде чем услышала автоответчик: «Привет. Коннора Макгилла и Сидды Уокер сейчас нет дома, но мы рады вашему звонку».
Звук его голоса воспламенил ее.
— Привет, Корабль Грез, — тихо сказала она в трубку. — Хьюэлин, Собачий Правитель, скучает по тебе. Уже поздно. Пахнет сосновой смолой и дикими розами. И никаких метеоров. Неужели все истории о звездном-звездном небе просто сказки?
Она чмокнула губами, изображая поцелуй, и повесила трубку.
Где Коннор? В театре или в здании оперы? Или веселится без нее на всю катушку в каком-нибудь модном местечке? «Дура. О чем ты думала, бросая его вот так?»
Возвращаясь вместе с Хьюэлин домой, Сидда вдруг поняла, что вспоминает о собственных днях рождения. И вспомнила, какими были эти утра в середине зимы на плантации Пекан-Гроув.
В такие минуты первым, что она слышала, были голоса Виви, Малыша Шепа, Лулу и Бейлора, поющие «С днем рождения».
Обычно это происходило так рано, что и поля и байю еще были окутаны темнотой. Бейлор и Лулу, так и не проснувшись до конца, терли глаза и фальшивили, стоя перед ней в помятых, перекрученных пижамах. Малыш Шеп, заряжавшийся энергией с того момента, как открывал глаза, уже подпрыгивал в дверях спальни. Сидда смотрела на людей, которых любила больше всего на свете. На лица, освещенные огоньками свечей именинного торта, который держала Виви. На свою мать, все еще не снявшую розовую ночную сорочку. Ее лицо по утрам обычно лоснилось от крема «Бьютери», и Сидда жадно втягивала ноздрями запахи этого крема и горящих свечей, ощущала мягкость бязевых простыней и тяжесть одеял. Только вот запаха отца не ощущала, потому что его никогда не бывало в такие дни. Где он был? Спозаранку уходил в поле? Спал? Или отсиживался в лагере для утиной охоты, своем втором доме?
Сидда садилась на постель, широко открывая рот при виде несравненной красоты огоньков крошечных праздничных свечей, разгонявших полумрак комнаты. Закончив петь, Виви целовала Сидду и шептала на ухо:
— Я так рада, что ты у меня есть!
Иногда ее голос был хриплым от сигарет или слез. Или от того и другого сразу. Напряжение в голосе было так заметно, что резонировало в пробуждающемся теле дочери. Порой Виви настолько мучило похмелье, что она морщилась от головной боли во время пения. Спустя год, после странной болезни и бегства Виви, в день рождения Сидды ее глаза были такими красными, а голос таким слабым, что паника угрожала вот-вот вырваться на волю. Даже в детстве Сидда понимала, каких усилий стоит матери петь, держать на рассвете украшенный розами торт и шептать:
— Сиддали Уокер, я так рада, что ты у меня есть!
И сейчас, вспоминая пение братьев и сестер, Сидда никак не могла понять, почему жизнь так их развела. Если не считать Бейлора, они совсем не общались друг с другом.
Малыш Шеп, Лулу и Бейлор взбирались к ней на постель и ждали, пока Сидда задует свечи и задумает желание. Потом Виви вновь зажигала свечи, а Сидда опять их гасила, на этот раз с помощью остальных присутствующих. Виви выходила, чтобы принести поднос с красивыми фарфоровыми десертными тарелочками, вилками и высокими хрустальными стаканами с молоком. Они включали лампу на тумбочке, и Сидда жадно совала в рот самую большую розу на торте. Оставшиеся цветы она великодушно распределяла между младшими. В такие дни Виви поощряла полное сибаритство, и простое сознание того, что в свой день рождения можно ни с кем не делиться, невольно заставляло быть щедрой. Пока дети лизали сахарные розы, Виви брала с них слово ни о чем не говорить отцу. Большой Шеп считал безнравственным есть торт в постели с самого утра, называя это завтраком шлюхи. Но остальным не было до этого дела. Счастливые маленькие шлюхи, они не вспоминали о необходимости припрятать лакомый кусочек на потом. Потому что знали о манере Виви заказывать в кондитерской на дни рождения не один, а два торта. Один — для утренней оргии, а второй — для праздничной вечеринки.
Виви много делала для того, чтобы дети навсегда запомнили свои дни рождения. Она словно заключила с собой договор, в котором поклялась сделать все возможное, чтобы не разочаровать именинника.
Бредя по тропинке вдоль озера, Сидда время от времени спотыкалась о толстые, торчащие из земли древесные корни. И хотя она несла фонарик, да и свет луны был достаточно ярок, живость воспоминаний и яркость образов вытеснили из головы все мысли об осторожности.
Здесь, на полуострове Олимпик, она чувствовала себя в безопасности. Девочкой в Спринг-Крик Сидда часто бродила по ночам, хранимая ручейками, соснами и цикадами. После долгих лет жизни в городе было настоящим утешением чувствовать, как расслабляются плечи. Какое это счастье — не оглядываться каждые пять минут, чтобы проверить, не стоит ли кто сзади, готовый напасть!
Она вдруг подумала о семинаре по теории драмы, который посещала в аспирантуре. На семинаре обсуждались пороговые моменты на сцене. Те самые, когда актер оказывается вне времени. Когда ты захвачен, пойман, настолько поглощен тем, что делаешь, что времени больше не существует.
И сейчас она поняла, что эти зимние утра в ее дни рождения и были пороговыми моментами. Мама знала, как этого добиться. Несмотря на… а может, и благодаря эмоциональной акробатике мама научила ее искусству восторгаться.
«А какими были мамины дни рождения в детстве? Каким было шестнадцатилетие? Принесла ли ей Багги торт в постель? Трудно представить такое. Что же случилось? Перетекает ли в нашем роду вязкий клей ревности и зависти от матери к дочери, невидимый и такой же смертоносный, как рак?»
Сидда не хотела думать о зависти и Виви, хотя и психоаналитик, и друзья советовали получше в этом разобраться. Она просто терпеть не могла слова «зависть» и суеверно боялась его произносить.
Но сейчас чем сильнее она старалась выбросить из головы определенные мысли, тем меньше замечала сладостный летний, напоенный ароматами сосны воздух. Розовые и голубые фантазии испуганно вспархивали. Оставались только прежние серые думы, неотступно следующие по пятам, цепляющиеся за ноги.
Ты больше не ребенок.
Впервые истинное значение слова «зависть» ударило в лицо на премьере первой пьесы профессионального драматурга, которую ставила Сидда. «Смерть коммивояжера» Артура Миллера шла глубокой зимой, в «Портленд стейдж компани» штата Мэн. День премьеры совпал с ее двадцатичетырехлетием.
Виви прилетела в Бостон, а друг Сидды привез ее в Портленд. Сидда репетировала с труппой до упада, едва ли не до первого звонка, и увиделась с матерью всего за час до начала. Все, казалось, шло лучше некуда. Никаких тревожных признаков. Виви позаимствовала у Тинси шубу и забавлялась, кутаясь в нее и вопрошая голосом Дитрих:
— Что чаще всего становится легендой?
Премьера прошла неплохо, хотя Сидда старательно делала заметки и назначила репетицию на следующий день, чтобы внести кое-какие изменения в мизансцены. Она еще не начала понимать, как важно иногда отойти в сторону и позволить спектаклю встать на ноги самостоятельно.
Один из членов совета театра, владевший огромным викторианским домом, выходившим на гавань, устроил банкет в честь премьеры. Не слишком плохое вино и много дешевой еды из ближайшей бакалеи. Актеры были счастливы, атмосфера царила теплая и дружеская, в камине горел огонь, гитарист в гостиной играл классические мелодии. Труппа и технический персонал, спонсоры и совет директоров театра были довольны постановкой, и Сидда, у которой кружилась голова от облегчения, гордилась и нервничала одновременно.
Виви уложила в чемоданы три бутылки «Джека Дэниелса», обычную норму на время путешествий. В ночь премьеры она сунула в сумочку серебряную фляжку. Это первое, что заметила Сидда. Это и еще упорный отказ матери снять шубу. После этого она стала исподтишка наблюдать за матерью, гадая, когда произойдет взрыв. Приезд матери устраивал Большой Шеп. Позвонил Сидде и рассказал, как сильно рвется Виви на первую постановку дочери. Сидда согласилась ее принять, несмотря на сомнения. В конце концов, это дебют, пусть и в дальнем северном штате, и она хотела, чтобы мать была рядом. Чтобы гордилась дочерью.
В детстве, бывая на вечеринках я-я, Сидда часто видела, как женщины исполняют свои номера: песни с подтанцовками, спетые чуть-чуть фальшиво, в стиле сестер Эндрюс[56].
Виви брала себе роль Пэтти: строила рожицы, закатывала глаза и приплясывала на месте. Сидда, притаившись у двери чулана, жадно наблюдала за каждым жестом.
— Ну как мы тебе, мивочка? — спрашивала обычно Виви. — Какие-нибудь режиссерские указания?
У Сидды неизменно находилось очередное предложение, и иногда леди к нему прислушивались. Тогда ее охватывали восторг и сознание собственного могущества и восхитительной власти. Позже, в задымленной гостиной, окруженная взрослыми, под звяканье льда в хрустальных коктейльных стаканах, Сидда наблюдала, как воплощается в жизнь ее идея, и от волнения лишалась дара речи. Она по-прежнему не знала, как объяснить свое состояние. Страсть к театру и запутанные отношения с матерью пересекались в не имеющем названия месте души Сидды.
На вечеринке она позаботилась представить Виви как можно большему числу собравшихся. Но людей было много, и вскоре их разлучили. Когда директор театра предложил тост за Сидду, а хозяин внес торт, украшенный сделанными из глазури масками трагедии и комедии, Сидда смущенно вспыхнула. Но сказала несколько слов, поблагодарив актеров и свою команду, пошутила насчет трудностей, связанных с постановкой пьесы великого Артура Миллера, и объявила вечер лучшим из всех дней рождения, которые у нее были. И совершенно забыла упомянуть о Виви.
После, стоя у камина и разговаривая с главным осветителем, молодым англичанином, она заметила собравшуюся у окон толпу.
Уэйд Конен, создавший костюмы для спектакля, подошел к Сидде и тихо спросил:
— Мама увлекается выпивкой?
Сидда сильно покраснела.
Уэйд, светловолосый симпатичный мужчина, большой шутник, изумительно пародировавший Дайану Росс, прекрасно относился к Сидде и все пытался уговорить ее вместе с ним поднимать гири в местном тренажерном зале, утверждая, что режиссеру полагается быть мускулистым. Сидда надеялась, что им выпадет удача снова работать вместе и что они подружатся.
— Ее любимый яд?
— Бурбон, — пояснила Сидда. — Хороший бурбон.
— Мой старик травился хорошим скотчем.
— Меня тошнит от запаха бурбона, — призналась Сидда.
— Попытаюсь всучить маме кусочек торта, — решил Уэйд. — А пока попробуй коктейль из креветок и помни: сегодня твой день рождения.
— Спасибо, Уэйд, — поблагодарила она, целуя его в щеку. — И еще спасибо за то, что столько трудился над костюмами. Никогда не забуду, как мы изворачивались, чтобы уложиться в бюджет. Ты поразителен.
— Это еще что! Вот видела бы ты мою коллекцию вечерних платьев из магазинов «Армии спасения», солнышко!
Сидда болтала с супругами, задававшими вопросы о роли женщины в театре, когда, перекрывая шум, раздался высокий голос матери. Сидда закрыла глаза и прислушалась. Ей были знакомы эти звуки: какофония, спровоцированная пятью порциями бурбона.
Перед камином, счастливая оказаться в центре внимания, Виви картинно вышагивала, волоча за собой шубу Тинси. Голова откинута в гротескной имитации величия, манерный акцент напоминает о Талуле.
— Не следует позволять детям ставить пьесы, — говорила она. — Не следует позволять детям прикасаться к американской классике вроде Артура Миллера.
Вертя в шубу в руках, то кокетливо кутаясь в нее, то вновь сбрасывая, так, что она едва не падала в огонь, Виви свысока взирала на толпу. Сидда пробилась вперед, и мать пригвоздила ее к месту пьяным взглядом:
— И вообще, кто разрешил тебе ставить пьесу?
Тут же воцарилась полная тишина.
Сидда закусила губу и шагнула к матери.
— Я задала тебе чертов вопрос, Сиддали Уокер, — с трудом выговорила Виви, едва ворочая языком.
Сидда остро ощущала взгляды собравшихся. Комната внезапно показалась душной и жаркой, словно жизнь в ней замерла.
— Никто, мама, — мягко ответила она. — Меня пригласили.
— О, извини! — громко воскликнула Виви. — Тебя пригласили? — И, широким жестом обведя комнату, вызывающе объявила: — Слышали? Ее пригласили.
У Сидды на глазах выступили слезы, но она держалась. Будь она проклята, если сломается сейчас, на глазах у всех.
Глубоко вздохнув, она повернулась к двери.
В этот момент на сцене появился Уэйд Конец с тарелкой еды.
— Знаете, — сказал он Виви, многозначительно улыбаясь, — я умирал от желания застать вас одну. Мне непременно нужно сказать вам кое-что. Только вам и ни одной живой душе в этой комнате.
Застигнутая врасплох Виви уставилась на него с детским удивлением.
— Что? — спросила она. — Что именно вы не можете никому больше сказать?
— Следуйте за мной, — драматическим шепотом попросил Уэйд, беря ее за руку. — Это строго между нами. И попробуйте креветочный коктейль. Просто божественно!
Сидда с изумлением наблюдала, как мать покорно идет за Уэйдом, явно счастливая быть рядом с ним и явно безразличная к дочери.
Этой ночью Сидду держала на плаву дружба коллег. Едва Уэйд и Виви исчезли, исполнительница роли Линды Ломен разразилась ирландской песней, выученной, по ее словам, у педагога по актерскому мастерству, который когда-то встречался с Джеймсом Джойсом.
Потом Шон Кавано, стареющая экс-звезда телевидения, создавший образ трогательного и героического Уилли Ломена, обнял Сидду за плечи.
— О, куколка! — прошептал он. — Церковь ошибается. Отчаяние не худший из смертных грехов. Зависть — вот что страшнее всего. — И он почтительно, словно перед членом королевской семьи, склонил голову перед Сиддой. — Потрясающая премьера, мисс Уокер. Спасибо за ваши бесценные указания. Похоже, у вас прекрасная наследственная склонность к драме. Только помните: голову вверх, а локти — в стороны.
Этой ночью Сидда одна возвращалась домой в старый деревянный дом, который временно делила с Уэйдом Коненом и другими дизайнерами. Ночь выдалась до жути холодной. Уэйд, сидя за кухонным столом, говорил по телефону. Заметив Сидду, он улыбнулся, послал воздушный поцелуй и указал наверх. Поднявшись и открыв дверь спальни, она увидела спящую Виви. Та успела переодеться в ночную сорочку, снять косметику и нанести на лицо увлажняющий крем.
Сидда долго смотрела на мать. Всегда, что бы там ни случилось, она первым делом позаботится о своей внешности. «Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешников».
В кухне было тепло, из радиоприемника неслась старая мелодия Стиви Уандера.
— Спасибо, — просто сказала Сидда, коснувшись его плеча.
— Используй это, — посоветовал Уэйд.
— Точно, — кивнула Сидда, вспомнив, сколько раз повторяла актерам слова Станиславского, требовавшего использовать в жизни все, что помогает создавать искусство.
Она села за кухонный стол. Очень хотелось остаться спокойной. Бросить циничную шутку или процитировать Шекспира. Но вместо этого она разразилась слезами.
Уэйд Конен налил ей стакан бренди.
— Театр. Чудесный театр. Он как семья для всех сирот на свете.
19
Каро легла на шезлонг и унеслась мыслями к давним временам, когда мир был другим, а каждый вздох давался ей легче.
Вся затея с тем балом с самого начала была очень странной. Не в характере Эбботов устраивать столь экстравагантные празднества в честь именин.
Она никогда не любила ни Тейлора Эббота, ни Багги. Не питала к той ненависти, как Тинси, просто не любила. И не доверяла. Багги вела себя, как горничная. Бесконечные домашние обязанности, копание в саду, посещения церкви. Вот и все. Ни завтраков с подругами, ни походов в кино. Всегда твердила, что у нее слишком много дел.
И Тейлор Эббот. Стоило этому человеку прийти с работы, как весь дом переставал жить и дышать. Если Виви с подругами, смеясь, входили в гостиную, он даже не трудился поднять на них глаза. Просто бурчал:
— Вивиан, притихни.
И Виви замолкала. Приходилось едва не на цыпочках красться по комнате и подниматься наверх, не издавая ни звука, пока девочки не оказывались в спальне Виви, за закрытой дверью. Тейлор Эббот желал сделать свой дом чем-то вроде библиотеки или музея, где он спокойно располагался почитать газету.
Девочки могли поднимать страшный шум, делать все, что хотели, пока его не было дома. Багги, словно ничего не слыша, продолжала работать. Эта женщина терпела бесчисленные набеги детей с того времени, как я-я было по четыре года, до их замужества. Став постарше, они скатывали ковры в гостиной, отодвигали мебель и часами упражнялись в модных танцах. Багги всегда готовила много, так что хватало на всех.
Но делала это, словно выполняла работу. Нет, не скаредничала, не журила девочек, но ставила перед ними тарелки, открывала кухню так, словно служила в этом доме. Словно была здесь горничной, наемной служащей, а не хозяйкой дома, как тогда назывались женщины.
Ночь именинного бала Виви выдалась холодной и ясной. Достаточно холодной, чтобы Виви смогла накинуть соболий палантин, одолженный Женевьевой. Днем раньше прибыл в отпуск Джек, красивый и высокий, в своем летном мундире. Просто чудо, что он сумел вырваться до Рождества, чтобы отпраздновать день рождения Виви.
Бальный зал отеля «Теодор» был украшен пуансеттией и цветными лампочками. Были приглашены Стен Лемуан и его «Ритм кингс», парни в модных пиджаках, один из которых, потрясающий трубач, выдувал «С днем рождения» в темпе свинга. Виви стояла у стола с подарками, на котором, кроме высокой горы свертков, стояли именинный торт и бокалы, наполненные невесть откуда взявшимся спиртным. Сегодня на ней было изумительное платье с открытыми плечами, из темно-синего бархата и органди, специально сшитое для этого вечера. Стоя между отцом и Джеком Уитменом, Виви, с широкой улыбкой и сверкающими глазами, слушала, как ей поют гости. На снимках, сделанных на балу, нет Багги. (Впрочем, и Дилии тоже. Но Дилия, с мундштуком в одной руке и стаканом в другой, в этот момент отчаянно флиртовала с двумя мужчинами на тридцать лет моложе ее.)
Виви решила, что бал стоил всех затеянных из-за него скандалов. («Я устрою дочери бал, если захочу, старая ты гарпия!» — заявил мистер Эббот Багги как-то за ужином.) Счастливая таким редким, неожиданным проявлением любви родителя, Виви виновато покраснела, а когда попыталась глотнуть, еда застряла в горле. Отец никогда особенно не замечал Виви. Все случилось разом, словно Тейлор Эббот вдруг осознал превращение дочери из девочки в женщину. Словно шестнадцать лет стараний Виви привлечь его внимание наконец дали плоды. Однако все случилось так внезапно, что Виви до сих пор этому не верила. Боялась, что, сама того не желая, разочарует отца. Ее почти тошнило от дурных предчувствий.
Идеальный момент для именинного танца настал как раз перед тем, как музыканты устроили первый перерыв. Заиграли «Сумерки», любимую песню Виви и Джека. В его надежных объятиях она плыла, танцевала, летела с полузакрытыми глазами, легкой улыбкой на губах, чувствуя себя королевой. На какой-то момент потребность остановить мгновение уступила место чистой радости. Все как в волшебной сказке. Крошечное королевство для Виви Эббот из Торнтона, штат Луизиана.
После того как гости спели «С днем рождения», я-я и их парни столпились вокруг Виви и наблюдали, как мистер Эббот, прямой и гордый в своем смокинге, сунул руку в карман, достал маленький сверток в подарочной упаковке, торжественно вручил дочери и поцеловал в щеку.
Каро с некоторым пренебрежением наблюдала за происходящим. Стоя рядом со своим молодым человеком, Редом Бомоном, бывшим не менее чем на четыре дюйма ее ниже, она вдруг подумала, что никогда не видела, как мистер Эббот целует Виви. Как по голове бьет — видела, а вот целует… Да и вообще она не помнит, чтобы родители целовали Виви.
Под звуки «Белого Рождества» Виви принялась разворачивать сверток. В нем оказалась бархатная коробочка.
— Наша Матерь Жемчуга! — ахнула Виви, вынимая кольцо с бриллиантом и обнимая отца. — Это мне?
Мистер Эббот неловко поправил галстук в полоску, словно смущенный публичным проявлением чувств. Каро ущипнула Реда.
— Сигарету, пожалуйста, — прошептала она, не отводя глаз от Виви.
Ред закурил две сигареты и передал одну Каро. Та отошла от него и подобралась ближе к семейству Эббот. Пит со своей девушкой чему-то смеялись, стоя в кругу приятелей. Джинджер, горничная Дилии, обосновалась чуть поодаль, держа трехлетнюю Джези Эббот.
На Багги было серое платье из тюля с кружевами. Волосы подняты наверх, и на этот раз она соизволила накрасить губы. Но руки скрещены на груди, лицо хмурое, словно она стыдилась своего приличного вида.
— Мама! — воскликнула Виви, сжимая ее руку. — Смотри! Правда, шикарное? Это ты помогла его выбрать?
Кольцо и в самом деле было чудесным. Пять бриллиантов в круглой оправе, всего двадцать четыре карата. Вещица со вкусом, пусть и чересчур дорогая.
Каро вдруг показалось, что Багги вот-вот ударит дочь, но та, приглядевшись к кольцу, лишь резко, как нечто омерзительное, отбросила ее руку.
— Мистер Эббот, — заявила она, — это неподходящий подарок для девочки.
Тейлор Эббот мельком посмотрел на жену и, словно не слыша, отвернулся и продолжал болтать с гостями. Багги явно пыталась сдержаться, но подошедшая Дилия дернула ее за рукав.
— Не строй из себя чертову дуру, — прошипела она. — Не будь ты такой благочестивой клячей, муж дарил бы бриллианты тебе!
Багги Эббот низко опустила голову с таким видом, будто получила пощечину, и схватилась за край столика, чтобы не упасть. Вокруг звучала музыка и беззаботный смех, нарядно одетые пары кружились в вальсе.
Тогда она повернулась к дочери, уже окруженной я-я, потянулась к ее руке и глухо, невыразительно пробормотала:
— Ну разве ты не самая счастливая девочка из созданий Божьих?
Резко отвернувшись, Багги зашагала к Джинджер и вырвала у нее Джези. Испуганная девочка расплакалась, и Багги принялась ее утешать. Потом она что-то прошептала Джинджер, и все трое отошли. Больше Каро ее в зале не видела.
Поднявшись с шезлонга, Каро медленно направилась на кухню, вынула из холодильника бутылку пива и вернулась в спальню. Увеличила звук плеера, сделала первый глоток и подумала, что жизнь не так уж плоха, если она еще может наслаждаться вкусом холодного бутылочного пива.
При мысли о той ночи сердце сжалось прежней грустью. Память о Джеке неизменно отзывалась болью в груди. Как он стоял рядом с Виви тем вечером… Молодой, красивый, влюбленный в лучшую подругу Каро. Если его смерть так мучительно ударила по ней, страшно представить, что делалось с Виви.
Она живо представила спальню Виви в доме на Комптон-стрит, с высоким потолком и огромными окнами. За окном рос старый виргинский дуб, ветки которого с шорохом терлись о раму в ночь бала, когда разыгрался ветер. Тогда сильно похолодало, и девочки жались вместе в просторной кровати красного дерева, согревая друг друга своими телами.
Я-я давно задумали провести эту ночь вместе в спальне Виви. Представляли, как будут допоздна шептаться, жевать сандвичи с ветчиной, запивая холодным молоком, обсуждать наряды гостей, кто что сказал, сделал и кто с кем танцевал.
Каро еще помнила, каково это было — лежать без всякого стеснения рядом с лучшими подругами. Ее стареющее тело живо ощущало уют и покой от простого пребывания в кровати рядом с Виви, Тинси и Ниси. Ничего похожего на то, что она получала от мужчины, все равно, от мужа или обоих любовников, которых имела во время брака. Как жаль, что сейчас они не могут растянуться вместе на постели: сморщенные тела прижаты друг к другу, ноги с варикозными венами переплетены, пальцы соприкасаются, запахи смешиваются. Воссоединившееся вновь племя!
«Наверное, тогда мы говорили о Джеке. Как все были взволнованы и рады снова видеть его! Как здорово, что он вернулся домой и сможет провести с ними рождественские праздники!»
Каро снова услышала стук распахнувшейся двери. Багги вошла в комнату, мгновенно вспоров кокон, которым успели окружить себя подружки. Разговор прервался. Смех стих.
Багги в одном халате, помахивая четками, приблизилась к кровати.
— Вивиан, дай мне руку, — велела она.
Виви недоумевающе уставилась на нее.
— Правда, красивое? — спросила она, вытягивая руку и, очевидно, все еще надеясь на одобрение матери.
Но вместо того, чтобы восхититься кольцом, Багги быстро стянула его с пальца дочери и, не сводя глаз с Виви, произнесла:
— То, что ты сотворила ради этого подарка, — смертный грех, дочь моя. Пусть Господь простит тебя.
И, повернувшись, вышла из комнаты.
Виви начало трясти. Каро почувствовала, как она дрожит. Отвернувшись, Виви спряталась под одеяло. Подруги не знали, что сказать.
— Я не сделала ничего плохого, — пробормотала Виви наконец. — Это подарок папы. Я даже не знала, что он мне купил.
И теперь, через пятьдесят с лишним лет, Каро вспоминала, как хотела тогда выбежать из комнаты, промчаться по коридору и догнать Багги Эббот. Схватить за плечи и трясти, трясти… отобрать кольцо и объяснить, что так с людьми не обращаются.
Прихлебывая пиво, Каро думала: «Моя подруга Виви так и не узнала, как сильно мать ее ненавидела. И это хорошо: вряд ли она смогла бы вынести нечто подобное».
— Она ведьма!.. — прошипела Каро той ночью. Но Виви так и не вылезла из-под одеяла. Ушла в себя.
Тинси пыталась вернуть их к веселью праздника.
— Помните, что было, когда заиграли «Начнем бегуэн»[57]? Как вы с Джеком танцевали?
— Виви, лапочка, тебе ничего не принести? — спросила Ниси.
Виви по-прежнему не отвечала. Только лежала и тряслась. Поэтому подруги легли рядом и попытались ее утешить. Подоткнули одеяло, как ребенку, расстроенному тем, чего не в силах понять.
Услышав крики и вопли в конце коридора, они сначала подумали, что это буянит Пит, брат Виви, со своими дружками. Девочки не привыкли слышать такой гам в это время, но у Пита всегда ночевали три-четыре приятеля, парни грубые и несдержанные. Кроме того, Тейлор Эббот довольно снисходительно относился к проделкам мальчиков, хотя терпеть не мог шумных девочек.
Но это оказался не Пит. На несколько минут стало тихо, прежде чем скандал вспыхнул с новой силой. До я-я доносились громкий, басовитый голос мистера Эббота и плач Багги. Потом раздался грохот, и снова тишина. Потом: «Будь ты проклята!»
Виви лежала неестественно неподвижно, вслушиваясь в долетавшие до них звуки.
Каро испугалась. Ее папулька и ма тоже ругались, но совсем не так. Они спорили, но их ссоры никогда не длились долго и кончались тем, что отец подхватывал мать на руки и объявлял:
— Вы острая тамале, да, мэм, острая тамале[58]!
Но тут было совершенно другое. И Каро чувствовала, что здесь небезопасно.
Дверь неожиданно распахнулась. И мистер Эббот, с красным лицом, тяжело дыша, грубо втолкнул жену в комнату. Сорочка Багги была порвана на плече, и Каро видела очертания ее грудей под тонким ситцем.
— Давай, Багги, — велел мистер Эббот. — Отдай ей кольцо.
Багги стояла не шевелясь, глядя на свои босые ноги.
— Я сказал, отдай девочке проклятое кольцо, ты, жалкая католическая идиотка!
И он снова толкнул ее так сильно, что она подлетела к кровати. Каро ощущала трепет Виви и видела, как трясется Багги, словно эта дрожь передавалась от матери к дочери, и даже я-я были не в силах этому воспрепятствовать.
Мистер Эббот схватил жену за руку и стал отгибать сжатые в кулак пальцы, один за другим, пока кольцо не упало на пол. И только тогда сильно ударил ее по лицу.
— Подними! — велел он. — Нагнись и подними кольцо.
Багги Эббот, словно в трансе, наклонилась, подобрала кольцо и швырнула на кровать, где оно затерялось в складках теплого одеяла.
Виви, молча наблюдавшая за происходившим, натянула одеяло на голову, чтобы ничего не видеть и не слышать. Каро опасалась, что мистер Эббот ударит и Виви. Такое уже бывало раньше.
Мистер Эббот шагнул в постели. Он был высоким, тяжеловесным мужчиной, казавшимся и в пижаме таким же грозным, как в деловом костюме. Каро сжалась, готовая защитить подругу. Она была почти уверена, что он может избить и ее тоже. Избить каждую из них.
Но мистер Эббот стал шарить по постели, пока не нашел кольцо. Схватил и сунул под одеяло.
— Возьми, Вивиан. Я подарил тебе кольцо. Оно твое. Тебе от меня. Понятно?
Виви продолжала молчать.
— Отвечай, Вивиан, — приказал он.
— Да, сэр, — пробормотала Виви из-под одеяла. — Понимаю.
Во взгляде, которым мистер Эббот окинул съежившихся девочек, промелькнуло нечто вроде смущения. Или Каро только показалось?
— Что ты должна сказать, после того как выставила себя дурой перед подругами Вивиан? — рявкнул он жене.
Багги не ответила. Каро видела, как шевелятся ее губы, вознося безмолвные молитвы Пресвятой Деве. Тишина становилась невыносимой.
И вдруг Багги резким рывком сбросила одеяло с Виви. Та свернулась тугим клубочком, так что из-под подола фланелевой сорочки выглядывали только кончики пальцев. Вид подруги разбил сердце Каро.
Багги, по-прежнему не произнося ни слова, взяла кольцо и с силой насадила на палец дочери. Виви вскрикнула от боли. Каро инстинктивно привстала, чтобы схватить Багги за руку, но не успела. Багги уже повернулась и выбежала из комнаты. Мистер Эббот последовал за ней, бросив на прощание:
— Спокойной ночи, девочки.
— Гореть тебе в аду! — вырвалось у Каро, когда дверь закрылась. — Провалиться ко всем чертям и гореть в аду!
Если бы только она могла увести свою подругу Виви из этого дома! Умчать из этого пропитанного ненавистью дома на побережье Мексиканского залива, где у родителей был пляжный домик. Она бы позаботилась о Виви, потому что любила ее. Позаботилась бы о королеве Танцующий Ручей, в маленьком, напряженном теле которой было столько жизни!
Девочки свернулись клубочками на постели рядом с Виви. Каро притянула Виви ближе к себе и обняла. Ниси расплакалась. Тинси принялась сыпать ругательствами.
— Дьяволица! — шипела она. — Сукины дети! Оба они сукины дети!
Ниси вскочила, принесла платок и, вытирая щеки Виви, шептала:
— Виви, солнышко, мы любим тебя. Мы так любим тебя!
Виви не отвечала. Каро, почувствовав, как колотится ее сердце, сжала ладонями щеки подруги.
— Ах, дорогая, — пробормотала она, прежде чем встать и раскурить всем сигареты.
Ниси, все еще плача, открыла окно.
— Брось, Виви, — вздохнула Каро, — давай покурим и поговорим.
Виви закурила «Лаки страйк», протянутую Каро, и уставилась на туалетный столик, заваленный бутоньерками и записками, где стоял снимок я-я вместе с Джеком на пляже побережья Мексиканского залива.
— Ты в порядке, пышечка? — спросила Ниси.
— Тебе необязательно жить здесь, — заметила Тинси. — Перебирайся к нам. Женевьева будет рада. И, сама знаешь, Джек тоже.
Виви промолчала.
— Виви, — начала Каро, — твоя мать спятила, а отец — псих.
— Она не спятила, — возразила Тинси. — Просто завистливая стерва.
— Мать меня любит, — выговорила наконец Виви.
— В таком случае пусть хотя бы раз продемонстрирует свою любовь! — взорвалась Каро. — В конце концов, ты ее дочь!
— Это кольцо стоит кучу денег, — сообщила Тинси, осторожно коснувшись руки Виви.
— Его купил папа. И сам выбирал.
Механические нотки в голосе Виви насмерть перепугали Каро.
— Оно твое, и ты можешь делать с ним все, что захочешь, — объяснила Тинси. — Даже продать.
Каро и Ниси уставились на нее.
— Кольцо твое, — подтвердила Каро.
— Все равно что деньги в банке, — добавила Тинси.
Виви кивнула и оглядела подруг:
— Значит, я богата, так ведь?
— Именно, — поддакнула Каро. — Ты богата.
Синее бархатное платье Виви лежало на широком, служившем скамейкой подоконнике. Дубовые ветви стучали в окно. Стояла середина декабря. Весь мир был охвачен пожаром войны, а вот в спальне Виви становилось холодно. Сигаретный дымок плыл в ночном воздухе.
Появись мистер или миссис Эббот в эту минуту в комнате, Каро вскочила бы и набросилась на них с кулаками, а потом спустила бы с лестницы.
В ту ночь, перед тем как наконец задремать, Каро поклялась, что проснется позже, прокрадется в спальни Эбботов и сотворит с ними что-нибудь жуткое. Заставит помучиться за все горести своей подруги.
Но она мирно проспала до утра. А когда проснулась, Виви давно была на ногах, одетая в теннисный костюм. Она улыбалась. Прыгала по комнате так резво, словно уже оказалась на корте. Вела себя так, будто ничего не произошло. Сегодня ей было шестнадцать лет и один день.
Поднявшись с шезлонга, Каро вышла в ванную, наполнила водой стакан и запила горсть витаминов. Потом налила в ладонь миндального масла и растерла по морщинистому лицу. Надевая пижаму, она подумала, что стоило бы давно забыть прошлое. Каждый раз она так злится… можно подумать, все это было вчера.
Она сняла с кровати одеяло, снова легла на шезлонг, укрылась и перед тем, как выключить свет, очередной раз проверила, есть ли под рукой ингалятор.
И Багги и Тейлор давно ушли, а я-я — состарились. «Интересно, когда мы умрем, наши дети тоже будут исходить ненавистью, вспоминая о нас? Или простят все те крохотные убийства, которые мы совершали с их душами? Когда Сиддали попросила у матери рассказать о нашей тогдашней жизни, я предложила: «Виви, мивочка, пошли альбом! Что ты собираешься делать с этой грудой старых воспоминаний? Да, знаю, ты жаждешь убить Сидду и «Нью-Йорк таймс». Но отправь альбом. Жизнь так коротка, подруга. Жизнь так коротка».
20
Целую неделю после того бала Багги Эббот просыпалась в слезах. Когда младшая дочь Джези, в комнате которой она ночевала, спросила: «Мама бо-бо?» — Багги так разволновалась, что не смогла ответить.
Кончилось тем, что Тейлор сказал жене:
— Если и дальше будешь вести себя подобным образом — пожалуйста. Но только не в моем доме.
После этого она плакала тайком, убедившись, что муж не слышит. Плакала и молилась Пресвятой Деве, прося совета, что делать с дочерью.
Вскоре она поняла, что получила ответ в форме предложения от членов Общества алтаря. Как-то утром, когда они крахмалили напрестольники, Багги призналась:
— Не поверите, миссис Рабеле, но я живу в смертельном страхе за душу своей дочери.
— В таком случае вам следовало бы послать ее в Алабаму, в академию Святого Августина, — предложила миссис Рабеле. — Монахини знают, как вернуть девушку на путь истинный. Не потерпят никаких глупостей. Я каждый год перевожу им деньги на поддержку их неустанного труда по очищению грешных душ.
Старый католический пансион в Спринг-Хилл, штат Алабама, основанный сразу после Гражданской войны и именуемый академией Святого Августина, находился в пяти часах езды от Торнтона и был известен в четырех штатах как место, куда без всякой опаски можно было отдать благочестивых девочек-католичек, намеренных предаться покаянию. Кроме того, это было местом, куда ссылали девиц, которые, по мнению родителей, нуждались в уроках благонравия. И в строгой дисциплине.
Багги подождала, пока дом опустеет, а Джези сморит сон, прежде чем сесть за кухонный стол и вынуть бумагу и ручку. Налив себе кофе, она с удовольствием коснулась бумаги пером. Ей так давно не приходилось писать ничего, кроме списков продуктов для бакалеи!
После четырех неудачных попыток Багги наконец сочинила послание, которым осталась довольна. И отправила сразу же после того, как проснулась Джези. Она написала аккуратным почерком, на простой белой бумаге:
«31 декабря 1942 г.
Комптон-стрит, 322
Торнтон, Луизиана
Матери-настоятельнице
академии Святого Августина
Спринг-Хилл, Алабама
Дорогая мать-настоятельница!
Вам пишет отчаявшаяся мать, которая хочет объяснить, почему вы должны принять мою дочь, Вивиан Джоан Эббот, в академию посреди учебного года. Я не писательница, сестра, но с помощью Божьей и нашей Благословенной Матери постараюсь все изложить как могу.
Моя дочь связалась с разнузданной толпой хулиганок. Компанией девиц, поощряющих в ней тщеславие. Она не обращает внимания на меня, свою мать. Виви и эти девицы — заодно, мать-настоятельница, и дурно влияют друг на друга. Курят, ругаются, бесстыдно выставляют себя напоказ. А в нашей средней школе с ними обращаются как с языческими принцессами. Эти девицы ставят сбою дружбу выше любви к Богу Отцу. Я боюсь, что моя дочь погубит свою бессмертную душу, если у нее закружится голова от того обожания, с которым к ней относятся в школе.
Они чересчур высоко ее ставят, сестра. Сделали Вивиан Джоан капитаном команды поддержки, выбрали самой популярной и очаровательной, включили в теннисную команду и позволили выпускать школьную газету. Это уж слишком для столь молодой девушки. Торнтонская средняя школа вовсе не так плоха. Мой сын прекрасно там освоился. Но моя дочь — в огромной опасности. В ней поощряют суетность до такой степени, что она считает необязательным припадать к ногам Матери Милосердия, Защитницы и Прибежища Грешников.
В комнате моей дочери нет знака присутствия Божьего. Повсюду разбросаны помпоны, теннисные ракетки и фотографии кинозвезд. Да еще снимки мальчика, в которого она якобы влюблена. Она поклоняется ложным богам, сестра, и ежечасно испытывает терпение Господа нашего.
Мой муж, Тейлор Эббот, адвокат, не принадлежит католической церкви и бессовестно баловал Виви с тех пор, как она научилась надувать губы. После рождения моего младшего и последнего ребенка Джези мистер Эббот окончательно распоясался. Дошел до того, что подарил Вивиан кольцо с бриллиантами, хотя ей всего шестнадцать. Ему не следовало этого делать. Бриллиантовые кольца предназначены в подарок законным женам, соединенным с мужьями таинством святого брака, а не юным дочерям.
Она слишком подпала под влияние мистера Эббота. Он принадлежит епископальной церкви, сестра, но при этом человек светский. Пьет ром и общается с коннозаводчиками. Теми, кто выращивает теннессийских скаковых и прогулочных лошадей. Он не тот человек, за кого я его принимала, когда мы были молоды.
Пришлось пойти против его воли, чтобы родить дочь Джези. Не моя вина, что я не способна проповедовать и насаждать веру, как обещала, выходя замуж. Я каждый день каюсь перед Господом за то, что родила всего троих.
Сестра, я не знаю точно, что совершила моя дочь. Муж запретил мне говорить об этом. Мать может Лишь представлять те немыслимо грязные вещи, которые он заставил сделать дочь свою. Мистер Эббот приказывает мне не думать ни о чем подобном и твердит, что жена должна повиноваться мужу. Но я ничего не могу с собой поделать, потому что привыкла размышлять над происходящим вокруг меня.
Мать-настоятельница, дело не в том, что причинила моя дочь мне. Дело в том, что она причинила святой Матери-Церкви, самой Матери Божьей, и это не дает мне покоя. Если бы Вивиан обидела только меня, я не писала бы вам.
Вивиан необходимо усвоить ценность самопожертвования. Необходимо находиться рядом с теми, кто чист телом и душой. Она нуждается в наставлениях и дисциплине, которые может получить только у монахинь Святого Августина.
Ваша академия должна принять мою дочь. Я благодарю Владычицу Небесную за существование такого места.
Умоляю, мать-настоятельница, и взываю к вашей мудрости: пожалуйста, позвольте моей дочери как можно скорее поступить в академию. Действуйте не колеблясь, во имя Госпожи Нашей, чтобы спасти мою дочь. Она цветок, созданный Богом, но этот цветок вянет. И если я не удалю ее от мирских соблазнов, она умрет, прежде чем получит возможность расцвести духом.
Ваша, во имя Христа, молитвами Пресвятой Девы
миссис Тейлор С. Эббот.
Р.S. Мы с мужем узнали, что вы в настоящее время расширяете жилые помещения для сестер. Мы с радостью пришлем пожертвование в фонд строительства академии Святого Августина, как только Вивиан начнет учебу.
21
Обнаружив в альбоме два свертка с письмами, отправленными Вивиан в академию Святого Августина, Сидда испытала нечто близкое к восторгу археолога при виде ценнейшей находки. Первое письмо было от Ниси, а на конверте виднелись три слабых отпечатка губ.
Сидда открыла конверт, и слова полетели в нее как встопорщенные, обезумевшие птицы. Поля бумаги и текст были усеяны кляксами и чернильными мазками. Сидда начала читать:
«21 января 1943 г.
Дорогая, милая Виви!
О, солнышко, я никогда не думала, что мое первое в сорок третьем году письмо выйдет таким грустным. Я думала, это будет год, в котором мы выиграем войну, а вместо этого мы потеряли тебя. Мое сердце разлетелось на миллион осколков при воспоминании о том, как ты покинула город на проклятом поезде, словно одинокая и нелюбимая, чего, конечно, нет и быть не может. Мы сидим у Каро. Миссис Боб пыталась развеселить нас тремя контрамарками на «Быть или не быть», но нас ничем нельзя утешить.
Твой старший брат тоже расстроен. Я никогда еще не видела Пита таким мрачным. Когда они с Каро пришли сегодня утром, я ударилась в слезы, села в машину — прямо в пижаме, представляешь? — и поехала с ними к Тинси. Пит снова и снова извинялся за то, что именно ему пришлось везти тебя на вокзал, не известив целую тысячу друзей о твоем отъезде. Говоря мне об этом, он сам едва не плакал. О, Виви-пышечка, мы бы все пришли тебя проводить! У нас было столько планов! На кухонном столе до сих пор стоит обувная коробка, полная пралине и сметанного печенья, которое я испекла специально для тебя, а потом завернула, каждое по отдельности, и все такое. Но теперь ты на пути к монахиням, не имея ни малейшего знака нашей любви! О, я снова плачу.
Мы все подошли к твоему дому еще до полудня. Прямо к кухонной двери, как всегда! Собирались высказать твоей матери все, что о ней думаем. Но дверь оказалась запертой! Мы стучали и орали, пока Багги не спустилась вниз, и тогда увидели, что она плачет. Это заставило нас подумать дважды, прежде чем отчитывать ее. Она сказала, что больна. «Ну да, — сказала Тинси. — Мы все больны. Сердца наши болят от потери Виви».
Но тут твоя мать сказала, что должна лечь, иначе упадет в обморок. Каро хотела что-то ответить, но я остановила ее и мы ушли.
O, Виви, мы так удручены, словно часть нашего тела грубо оторвали.
Пожалуйста, ни на единую секунду не думай, что мы не были бы рядом. Не стали целовать тебя, обнимать и умолять остаться дома, с нами, где твое место.
Любовь, поцелуи и молитвы.
Ниси.
P.S. Я бегу с этим на почту. Каро и Тинси напишут после того, как немного успокоятся. Они вместе с Питом сидели на твоем заднем крыльце, курили на холоде и плакали. Каро хочет вернуться, показать твоей мамаше, что почем, и плевать на то, больна она или нет. О, милая, мы так тебя любим».
Сидда словно оказалась в другом мире. Захватив с собой письма, она уселась на диван и принялась осторожно разворачивать страницу за страницей.
«21 января 1943 г.
Вонючка…
Сестричка, мне ужасно жаль. Я бы скорее согласился попасть в логово джапов, чем везти тебя сегодня на вокзал.
Не позволяй им третировать себя, слышишь? И, если что, тычь в них моим ножиком.
Твой любящий брат
Пит.
P.S. Каро сказала матери, что, если сестры святого чертова Августина будут тебя обижать, им придется иметь дело с сестрами святого я-я. Мать, не сказав ни слова, побежала обратно в спальню».
Наконец Сидда открыла конверт «Вестерн юнион» и вынула следующую телеграмму:
«22 ЯНВАРЯ 1943 Г.
МИСС ВИВИ ЭББОТ АКАДЕМИЯ СВЯТОГО АВГУСТИНА СПРИНГ-ХИЛЛ АЛАБАМА ТНК CHER ЗПТ МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ ПОЗВОНИ ЗПТ ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОНАДОБИТСЯ ТЧК ДОБРЫЙ БОЖЕНЬКА ТЕБЯ НЕ ЗАБУДЕТ ТЧК ЖЕНЕВЬЕВА СЕНТ-КПЕР УИТМЕН».
Сидда отложила первый сверток с письмами, встала и потянулась. Хьюэлин неотрывно смотрела в стеклянные двери на пару шумных ворон, яростно дерущихся из-за какой-то воображаемой обиды. Сидда вернулась к письмам и подняла связку потолще, перетянутую выцветшей голубой лентой.
«22 апреля 1943 г.
Дорогая Виви!
Вот уже десять дней, как от тебя ничего нет. Ты здорова? Я написала тебе четыре письма. Неужели ничего не получила? Подруга, мы волнуемся.
Черт бы побрал твоих родителей за все, что они творят! Твою мать следовало бы пристрелить.
Не забывай нас, королева Танцующий Ручей.
Тысяча поцелуев.
Мы любим тебя.
Каро».
«24 апреля 1943 г.
Дорогая Виви!
Думаю, мои последние два письма не дошли до тебя, потому что я решительно не пожелала поставить на конверте «Джоан». Но на этот раз пришлось поставить, хотя мне это противно. Я должна увериться, что ты получишь письмо. Куколка, вчера мне приснился про тебя ужасный сон. Рассказала о нем маме, и она решила попытаться позвонить тебе. Вот мы и позвонили, но монахиня отказалась позвать тебя к телефону. Заявила, что звонить можно только родным и только по воскресеньям. Что это за место, в котором не позволяют поговорить с любящими тебя людьми? Тогда мама сама подошла к телефону и попробовала втолковать монахине, что так не поступают, но она ничего не желала слышать, Мама очень встревожена. Знаешь, в детстве она тоже училось у монахинь, и ей там ужасно не нравилось. Она говорит, что там плохие люди. Джек пишет, что у тебя все в порядке и что, судя по письмам, ты весела и спокойна. Но я-то знаю, что ты просто не хочешь его волновать. Мы думаем, что именно тебе необходимы утешение и поддержка, bebe.
Мама хочет знать, как тебе помочь? Может, поговорить с твоими родителями? Пожалуйста, дай нам знать.
O, Виви, ты не представляешь, как мы по тебе скучаем! Все наше тайное общество страдает. В нашем тесном содружестве вдруг словно образовалась большая дыра. И это чувствуют не только я-я. Весь наш класс уже не тот, что прежде. Дух школы словно вытек в унитаз. Даже Энн Снобистская Задница Макуотерс и ее шайка постоянно о тебе спрашивают.
Не знаю, кого мне не хватает больше: брата или тебя. Могу сказать только, что теперь, когда вас нет рядом, а над головой грохочет война, мне не до веселья. Немедленно отвечай.
Любовь и миллион поцелуев.
Тинси.
P.S. Ты получила посылку с «Силвер скринс»? Мне так жаль, что я не смогла достать больше самогона! Но я попытаюсь».
Сидда нахмурилась, представив юную Виви, вырванную из круга друзей и доставленную, как бракованный товар, в монастырскую школу. Осторожно засовывая письма обратно в конверты, она до слез жалела, что не может обнять и утешить шестнадцатилетнюю девочку. Как ей хотелось прижать к себе мать, едва расцветший цветок, сорванный безжалостной рукой и брошенный на скудную, бесплодную почву. Как хотелось назвать ее истинным именем!
Если Каро, Тинси и Ниси были потрясены отъездом Виви, что чувствовала она сама? О чем писала? Если бы только она могла услышать рассказ самой Виви!
Сидда снова встала. Шея затекла, и пришлось ее растирать. Как странно, что только сейчас приходится узнавать о женщине, носившей Сидду в своем теле!
Нет, нужно больше двигаться!
Сидда пристегнула Хьюэлин поводок и направилась на прогулку вдоль озера, а затем в лес, где яркие утренние лучи пробивались сквозь толщу листвы. Ее не оставляли мысли о матери. Что случилось? Почему Виви отправили к монахиням? Что она такого сделала, чтобы заслужить это наказание?
Всю жизнь Сидда в глубине души таила гнев на Виви, не только потому, что мать так легко лишила ее своей любви из-за какого-то интервью, но и за прежние причиненные страдания. Но сейчас она почувствовала, как гнев превращается в грусть и обиду за мать. И так же скоро прежняя злость вернулась.
Она сосредоточилась на ходьбе, но все же не могла не думать о фигуре матери и своей собственной, и об их необычайном сходстве. О своих ногах, соединенных с торсом. О том, что она не просто человек, имеющий тело: она и есть свое тело, тело, проведшее девять месяцев в теле Виви Эббот. И пока она шагала вперед, ощущая пружинистую почву под ногами и слыша радостное сопение собаки, все размышляла и размышляла о подсознательном восприятии, существующем между дочерью и матерью. О доречевом знании, историях, рассказанных без слов, текущих, как кровь, как насыщенный кислород, в плаценту младенца, растущего в темном гнездышке. Возможно, сорок лет спустя она все еще получает информацию от матери через некую духовную пуповину, связавшую их через тысячи миль, и бесконечные непонимания, разделившие обеих.
День выдался холодным и дождливым. Между нависающими кронами вечнозеленых деревьев висели тонкие пласты тумана. Сидда неожиданно заметила изысканно-кружевную, давно высохшую ветвь гемлока, возникшую прямо перед ней. На кончике каждого крошечного сучка висел переливающийся бриллиант водяной капельки, как дорогое украшение вечернего платья.
Обнаженные древесные корни, ползущие через тропу, казавшиеся пурпурно-черными от воды, походили на взбухшие вены старушечьих рук. Или на притоки и рукава Гарнет-Ривер, если смотреть с самолета-опыливателя, планирующего над фермами байю. И, меряя шагами Мать-Землю, Сидда молилась:
— Сделай так, чтобы божественные секреты, кроющиеся в матери, во мне и внутри самой земли, нашли в моем сердце достаточно места, дабы принести плоды.
Багги разбудила Виви, когда на дворе еще было темно.
— Вивиан Джоан, — сказала она, включая свет, — просыпайся. Немедленно просыпайся.
Свет раздражал глаза Виви, а от звуков материнского голоса привычно сжался желудок. Она вцепилась в подушку и попыталась снова заснуть. Ей как раз снился вальс с Джеком в Марксвилле. Было зеленое лето, и она надела белое платье. Виви еще чувствовала его руку на пояснице, и запах его дыхания, когда их щеки прислонялись друг к другу.
— Вивиан Джоан! — резко бросила Багги. — Вставай и одевайся.
Она наклонилась и принялась собирать с пола одежду Виви.
— Твой отец решил, что тебе лучше ехать утренним поездом.
— Что? — поразилась Виви, вскакивая.
Этого не может быть. Просто не может быть.
— Но, мама, — возразила она, — мы же говорили о дневном поезде. И все собирались проводить меня. В два пятьдесят шесть. А наши планы?
— Ты слышала меня, — повторила Багги, со вздохом вытаскивая из-под кровати двухцветные кожаные туфельки дочери.
— Так решил папа? — недоверчиво переспросила Виви, едва дыша. Как мог отец предать ее?
— Да, — буркнула Багги, не глядя на Виви. — Вставай. Мне нужно снять белье с постели.
Виви поднялась и остановилась у кровати, переминаясь на холодном полу. Тело жаждало уюта и тепла толстых одеял. Сегодня утром в Багги будто что-то переменилось. Нечто новое, странное звучало в голосе, прорывалось нескрываемым возбуждением. Она уже была одета к службе. Голову закрывала косынка.
Багги стащила простыни, одеяла, ловко, как больничная сиделка, вытряхнула подушки из наволочек и свернула матрас. Каждым своим движением она выплескивала безумную ярость, которую испытывала к дочери. Каждым рывком молча отвергала, отталкивала упругое, цветущее молодое тело, всего минуту назад согревавшее постель.
И хотя не было произнесено ни единого слова, Виви, остро чувствуя происходящее, инстинктивно скрестила руки на груди, словно для того, чтобы защититься от Багги, нуждалась в доспехах, более прочных, чем простая фланелевая рубашка.
— Когда папа так решил? Он ничего не сказал мне вчера вечером.
— Твой отец не обязан все тебе говорить! — отрезала Багги. — Ты не его жена. Мне он сказал перед тем, как лечь спать. Он хочет, чтобы ты уехала поездом в пять ноль три.
Говоря это, она собрала подушки и слегка вскинула подбородок, словно желая посмотреть, как дочь воспримет ее слова. Сначала Виви ничего не сказала. Мать и дочь стояли, гневно глядя друг на друга, готовясь к предстоящему поединку в битве, причины которой никому не было дано понять.
На какое-то мгновение Виви показалось, что мать лжет. Но мысль эта была столь ужасной, что она не посмела высказать обвинение вслух и лишь заявила:
— Я хочу взять с собой эту маленькую подушечку.
Она показала на маленькую, набитую гусиным пухом думку, сшитую Дилией с помощью Джинджер и подаренную Виви вместе с шелковой наволочкой еще до того, как война лишила американцев такой роскоши, как шелк.
— Тебе она не понадобится, — процедила Багги, крепко прижимая подушку к груди. — В академии подушек достаточно.
— Но мне нужна эта, — настаивала Виви, — подарок Дилии.
Она бы отдала все, чтобы бабушка в этот момент была в комнате. Виви написала ей, едва Багги затеяла всю историю с академией, но Дилия гостила у своей подруги мисс Ли Бофор на ее ранчо в Техасе и поэтому не ответила на письмо. Окажись она здесь, наверняка защитила бы внучку. Но Дилии не было.
Виви хотелось наброситься на мать, бить по лицу, лягать, обличать несправедливость и жестокость.
— Отец внизу? — спросила она.
— Нет, он еще спит. Он очень устал, Вивиан Джоан. Ты извела его.
С самой ночи бала Тейлор Эббот почти ни с кем не разговаривал, но когда Багги впервые заговорила об академии Святого Августина, попытался протестовать.
— Мы можем подрезать ей крылышки. Виви и дома не хуже, чем в Алабаме, — заявил он. — В этих школах для девочек весьма странные принципы воспитания.
Но Багги отказалась смириться. И не уступила мужу, как обычно. И хотя Тейлор не дал окончательного согласия, все же наконец повернулся, ушел в свой кабинет, закрыл двери и отказался принимать участие в этой истории, заявив, что умывает руки.
Только вчера ночью Виви подошла к отцу, сидевшему в гостиной и слушавшему по радио новости с фронта.
Подождав, когда началась реклама, Виви робко спросила:
— Отец, можно с тобой поговорить?
В доме Эбботов все были обязаны просить разрешения, прежде чем обратиться к Тейлору Эбботу.
— Да, Вивиан, что тебе? — буркнул он, все еще прислушиваясь к голосу диктора.
Виви клялась себе быть сдержанной, рассуждать логично, постараться угодить отцу-адвокату. Но вместо этого дрожащим голосом выпалила:
— Я действительно должна туда ехать, папа? Но почему? Почему? Пожалуйста, отец, ты можешь помешать этому. Запретить. Ты ведь знаешь, мать всегда тебя слушает!
Он поднял глаза, и Виви впервые ощутила слабую надежду.
— Это уже обсуждалось, Вивиан. Ты поедешь в академию, — сухо объявил он.
Виви поспешно выпрямилась и постаралась взять себя в руки.
«Я должна собраться, — думала она, — иначе он не станет слушать. О, если бы я только могла казаться сдержанной, улыбаться так, как отец любит, говорить бесстрастным тоном, которым он восхищается, тогда он, может быть, и прислушается ко мне. Один внимательный взгляд, больше ничего не нужно. Один внимательный взгляд, и он поймет, что не может отправить меня туда.
Но стоило ей открыть рот, как слова снова вырвались отчаянным потоком.
— Папа, пожалуйста, пожалуйста, — заклинала она, готовая расплакаться. — Я сделаю все, что пожелаешь. Только, пожалуйста, не заставляй меня уезжать!
Тейлор Эббот снова посмотрел на стоявшую перед ним дочь. Светлые волосы стянуты шарфом на затылке, пижамная куртка сбилась на сторону, открывая веснушчатое плечо. Губы дрожали, глаза переполнились еще не успевшими пролиться слезами. Лицо бледное, под глазами синие круги. Прозрачная белизна ее кожи сейчас казалась анемичной, как начавшая желтеть по краям лепестков гардения. Тейлор до тошноты не выносил обнаженных эмоций. Именно это он ненавидел в собственной жене, вместе с запахом ее пота, тела, ежемесячным выделением крови.
— Виви, — бросил он, — никогда не умоляй. И не унижайся. Ты не нищенка.
С этими словами он прибавил звук, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и снова стал слушать новости с фронта, словно дочери не было в комнате. Но Виви продолжала стоять, изучая рисунок ковра. Она покорно дослушала известия о передвижении британских и индийских войск в Бирме. Наконец Тейлор Эббот открыл глаза, взглянул на дочь и ободряюще сказал:
— У тебя все будет в порядке. Вивиан. За тебя я не волнуюсь. Ни к чему. Ты пошла в Эбботов.
Отец кивнул, встал, выключил радио и направился к лестнице. Вивиан смотрела ему в спину. И видела только подтяжки, выделявшиеся на белом полотне рубашки.
— Скорее одевайся, — велела Багги, — не то опоздаешь на поезд. Пит отвезет тебя на вокзал.
— А папа? — вскинулась Виви. — Разве он не поедет? Я хочу с ним попрощаться.
— Твой отец просил его не будить, Вивиан Джоан. Пожалуйста, хватит с нас бед и неприятностей. Ты уже достаточно всего натворила.
— Но я не смогу увидеться с я-я, мама. Как же я уеду, не попрощавшись с ними? Мы все спланировали. Без этого никак нельзя.
— Вы прощаетесь уже целую неделю.
— Я-я — мои лучшие подруги, мать. Я должна с ними увидеться.
Но тут Багги, словно больше не в силах сдержать ярость, швырнула в лицо дочери простыни и подушки, которые все еще держала в руках.
— Прекрати! — злобно прошипела она. — Не желаю больше слышать ни слова о твоих драгоценных я-я. Больше тебе не о ком думать?
— Мама, — попросила Виви, на миг забыв о более формальном обращении, которым обычно пользовалась при разговоре с матерью, — не делай этого, пожалуйста. Они мои лучшие подруги. Я не могу оставить их просто так.
Багги одернула платье и поправила свитер.
— Неужели тебе мало тех страданий, которые ты причинила? Всему есть предел.
Но когда мать вышла из комнаты, Виви подумала: «О нет, мать, ты не права. Предела нет и быть не может».
Когда Пит распахнул перед сестрой дверцу «бьюика», мотор уже был прогрет.
— Боялся, что ты замерзнешь, — пояснил он. — Багги-сука все еще в доме?
— Проверяет, как там Джези. Может, мы опоздаем на поезд.
Пит сверился с часами и обошел вокруг машины, чтобы сесть за руль. Обычная упругая походка сменилась непривычно тяжелыми шагами.
— Хочешь затянуться? — спросил он, прикрывая дверцу.
Виви кивнула. Брат прикурил две «Лаки страйк» и протянул одну ей.
— Прости, что именно мне придется везти тебя, подруга, — пробормотал он.
— Ты-то в чем виноват? — отмахнулась Виви. Пит снял с языка табачную крошку.
— Ну и не твоя вина в том, что здесь так дерьмово.
— О чем ты? — удивилась Виви.
— Что бы ты ни натворила, все равно не заслуживаешь ссылки к проклятым пингвинам.
Виви попыталась улыбнуться:
— Если бы мать знала, что мы прозвали монахинь пингвинами, отправилась бы на тот свет.
— Ну уж нет. Стала бы замаливать наши грехи. Дьявол, она просто обожает каяться.
Пит похлопал себя по карманам куртки, словно искал что-то, и нервно глянул в зеркальце заднего вида.
— Сколько лет у нее руки чесались тебя наказать!
Виви пересчитала сумки с вещами, лежавшие на заднем сиденье, и выглянула в окно. Сад Багги казался почти мертвым. Плети клематиса и розы «Монтана» высохли и побурели.
— Что ты говоришь, Пит? — вздохнула она.
— Сестренка, я твой друг, ты ведь знаешь это, верно?
— Конечно.
— Поверь мне и берегись матери. Она тебя ненавидит. Держи ухо востро.
«Она моя мать. Она не может меня ненавидеть», — упорно думала Виви.
Пит крепко сжал руку Виви, грустно усмехнулся и пожал плечами:
— Я буду скучать по тебе, Вонючка.
Отняв руку, он полез под куртку и вытащил фляжку.
— Это на дорожку. Спер лично для тебя из отцовского бара.
Виви благоговейно, словно дар любви, приняла фляжку и сунула в сумочку.
— Я буду носить ее с собой как друга.
Она поцеловала Пита в щеку и краем глаза заметила серое пальто матери, спешившей к машине.
— Я ничего не скажу о курении, — процедила она, усаживаясь.
— Вот и хорошо, мать, — согласился Пит. — Не говори.
Устроившись на сиденье, мать принялась негромко напевать. Мелодия показалась Виви похожей на «Сальве, Регина»[59]. Питер немедленно начал свистеть, чтобы заглушить пение. По пути Виви опустила зеркальце над козырьком, словно чтобы посмотреть, не попала ли в глаз соринка. Но на самом деле ей хотелось рассмотреть лицо матери. Она сама не знала, что хочет увидеть, но надеялась уловить некое выражение, которое подскажет, как себя вести, что сказать и каким образом избежать изгнания.
Виви так и подмывало попросить мать замолчать и прекратить это идиотское пение. Хорошо бы связать ее по рукам и ногам, как глупую корову, и вывалить в кювет на обочине! А потом схватиться за руль, повернуть машину, нажать клаксон и помчаться по улицам родного города, провозглашая освобождение от этой женщины, считающей себя великомученицей нашего времени.
Но Виви не могла пошевелиться. Слишком тяжела была печаль.
У нее хватило сил только на то, чтобы спросить:
— Нельзя ли нам заехать к Каро? Они рано встают. Или к Тинси? Это по пути. Иногда Женевьева не может уснуть и читает ночи напролет.
— Неприлично врываться в чужой дом в такую рань, — наставительно заметила Багги. — Кроме того, твой отец подчеркнул, что мы должны ехать прямо на вокзал.
«Лжешь!» — едва не воскликнула Виви, но промолчала. Сказать такое означало публично обвинить мать в жестокости.
Виви взглянула на золотые часики с зелеными фосфоресцирующими точками. Четыре пятнадцать утра. Ничто никогда не будет прежним.
Она продолжала изучать Багги, теребившую четки. Она лжет, лжет бесстыдно. Виви в этом уверена. Лжет и счастлива от этого. Почему она так безмятежна?
Еще не рассвело, когда они добрались до вокзала на углу улицы Джефферсон и Восьмой. Пит выбрался из машины и обошел кругом, чтобы открыть ей дверцу. Стоя на обочине, Виви наблюдала за вырывавшимися изо рта клубами пара. Пока Пит таскал вещи в здание вокзала, она судорожно прижимала к себе сумочку и думала о фляжке бурбона. Предвкушение даруемого им утешения удерживало Виви от слез.
— Ты не собираешься попрощаться со мной? — спросила Багги, опустив стекло.
— Прощай, — ровно произнесла Виви. Багги приоткрыла дверцу и слегка повернулась, словно собираясь выйти из машины и приблизиться к дочери.
Виви жаждала подбежать к матери, уткнуться головой ей в колени, обнять и не отпускать, но лишь чуть подалась вперед и, коснувшись руки матери, спросила:
— Мама, о чем ты молишься?
Багги погладила ее щеку и мягко ответила:
— Я молюсь за тебя, Вивиан. Молюсь за тебя, потому что ты лишилась милости Господней.
Но тут пальцы Пита сжали локоть Виви, не давая упасть.
— Ма, — рявкнул он, — отцепись от моей сестры, черт бы все это побрал! — И хлопнул дверцей, оставив мать перебирать четки на заднем сиденье.
Зал ожидания оказался почти пустым, если не считать спящих солдат, увидев которых Виви сразу вспомнила о Джеке.
Купив билет, они с Питом уселись на длинную деревянную скамью. Виви попыталась вообразить, что все это происходит в кино.
Прелестная молодая девушка тоскует о возлюбленном.
Наезд камеры. Крупный план.
Она сидит вместе с братом на вокзале, ожидая окончания войны. Несчастная и одинокая, она тянется к единственному оставшемуся ей утешению.
Выглянув за дверь и убедившись, что мать не собирается выходить, Виви вынула фляжку и протянула Питу.
— Ты первая, подруга, — отказался он, и Виви глотнула из фляжки.
Бурбон маслянистым шариком прокатился по горлу и упал в желудок. Она выждала секунду, прежде чем сделать второй глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу, невольно связывая вкус виски с прежними, добрыми временами, с сознанием собственной желанности. С тем немногим, что знала о сексе. После третьего глотка Виви пожалела, что у нее нет еще одной фляжки, а еще лучше — пары бутылок виски в чемоданах.
Она передала фляжку Питу. Тот глотнул и отдал ее обратно.
— Дай мне руку, — велел он.
Виви протянула раскрытую ладонь. Пит с размаху шлепнул в нее тяжелый маленький предмет. Опустив глаза, Виви увидела карманный нож, самую дорогую вещь брата, которой всегда восхищалась. Она поднесла нож к носу и понюхала серебряную с красным рукоять, Рукоять пахла Питом. Пахла мальчишкой.
— Парень всегда должен иметь при себе нож, Виви. Это выручит тебя из кучи неприятностей. Если кто-то из этих пингвиних достанет тебя, ткни ей в зад ножом и беги со всех ног!
— Спасибо, Пит, — пробормотала Виви, стараясь улыбнуться. И за оставшееся время вырезала свое имя на спинке скамьи.
ВИВИАН ЭББОТ.
— Мемориальная скамья Виви Эббот, — пошутил Пит.
— Теперь никто меня не забудет, — вздохнула Виви.
Пит вошел вместе с ней в вагон, держа саквояж, который Виви решила взять с собой, и порывисто обнял сестру.
— Я люблю тебя, Вонючка.
— И я тебя, Пит.
Пит повернулся к проводнику-негру:
— Присмотрите за моей сестренкой, хорошо? Вы везете ценный груз.
— Да, сэр, — кивнул тот, улыбаясь Виви.
После ухода Пита Виви вынула фляжку, сделала два глотка и заплакала.
Вивиан Джоан Эббот, шестнадцати лет, сидела в поезде Саутерн — Кресент в своем голубом свитере из ангоры поверх кремовой юбки в складку. Она запахнула на горле лисий воротник тяжелого синего пальто и изо всех сил попыталась уверить себя, что ее собственные руки были руками Джека. И еще изо всех сил попыталась уверить себя, что все ее обожают.
«26 января 1943 г.
Дорогая Каро!
Все девочки в этой школе — настоящие уродины. Я не имею в виду некрасивые. Не имею в виду невзрачные. Именно уродливые. В этой школе учатся два типа девиц: 1) дочери религиозных фанатиков; 2) плохие девочки, которых необходимо наказать. Думаю, я подпадаю под обе категории.
От этих уродин еще и воняет. Все это место смердит кислой капустой и стариковскими носками. Один этот запах — достаточное наказание за восемьдесят четыре тысячи смертных грехов. Общий замысел примерно такой: повинуйся Церкви, исповедуйся в грехах и умри. Все идет от матери-настоятельницы, Бориса Карлоффа[60] монашеского мира.
Моя здешняя комната — не комната. И даже не чулан. Это загон, дыра, тюремная камера. В ней стоят топчан, стул и тазик с водой на маленьком комоде. Ни одного шкафа. Только крючки на стене.
Я спросила монахиню, приведшую меня сюда, где мой шкаф. Та ответила, что у меня нет никакого шкафа. Словно я попросила у нее номер в «Гранд-отеле».
— Мне нужно развесить платья, — заявила я, показывая на свои чемоданы и ящик с обувью.
— Твои вещи — крест, который придется нести тебе, — бросила она и ушла.
Каро, не знаю, куда я попала: в чистилище или сразу в ад.
Любящая тебя Виви».
Неделя ушла на то, чтобы понять: девочки в академии ненавидят ее.
Полторы недели ушло на то, чтобы понять: монахини ненавидят ее не меньше.
Сначала она пыталась улыбаться, но только зря напрягала лицевые мышцы. Никто, ни один человек, не отвечал улыбкой. На нее лишь смотрели сверху вниз и шептали гадости, которых она не могла разобрать. Волосы Виви были для них слишком светлыми, речь — слишком вычурной, но больше всего их раздражали ее наряды. Как ни старалась Виви, так и не смогла найти плохих девочек и подружиться с ними.
В коридорах мерзко пахло, как будто в овсянку добавили лизол. Самый воздух этого заведения угнетал Виви. Она всегда жила запахами. И мгновенно, только по запаху, могла определить, испуган ли человек, доволен ли, счастлив, ел ли персики. Стоило ей потянуть носом, и сразу становилось ясно, хорошо ли спал собеседник. Она ощущала запах тубероз в волосах женщины через много дней после того, как та прошла мимо клумбы. Но в академии Святого Августина не было тубероз.
Сестра Фермин, преподававшая Закон Божий, обожала начинать уроки, глядя на Виви и объявляя:
— Тем девочкам, кого послали сюда за дурное поведение, следует слушать особенно внимательно. Они не заслуживают любви Господа после того, как причинили своим родным столько боли, но если будут усердно учиться и помнить в сердцах своих о том позоре, которым покрыли себя, со временем, возможно, будут снова озарены светом любви Бога Отца.
И тут остальные девочки оборачивались и пялились на Виви, словно на ребенка-убийцу или нациста. У Виви чесался язык послать их ко всем чертям, но она терпела. Все равно бессмысленно. Они не стоят траты нервов.
Виви поставила ящик с обувью в своей келье, а наверх поместила снимок. Она и Джек на школьном балу в честь Марди-Гра[61]. Рядом красовались фото я-я в Спринг-Крик, на побережье Мексиканского залива. Перед семейным фото стояла корзиночка с сухими лепестками роз, которые Джек послал ей в тот день, когда отправлялся в военный лагерь для новобранцев.
Виви вынула из сундука синее бархатное платье и повесила на стену, где оно расцвело огромным цветком над распятием — обычным предметом обстановки в каждой комнате. Но она просто должна иметь что-то красочное в этой тюрьме, иначе умрет!
Возвращаясь в келью после ледяных, пропахших меловой пылью классных комнат и вонявшего гнилым зеленым горошком кафетерия, Виви делала крошечные глоточки из фляжки Пита и смотрела на стену, стараясь вернуть праздничное настроение.
Слава Богу, она успела стащить из дома подушку Дилии!
Здесь на подушках не спят — против правил.
Это пугало Виви больше, чем рвотно-зеленый цвет, в который были выкрашены стены. Просыпаясь каждое утро в этом исправительном изоляторе, она прятала подушку, чтобы надзирательница не отняла.
— Пропади они пропадом, — молилась Виви. — Пропади пропадом и они, и их академия. Только не позволяй им достать меня! Я Виви Эббот. Член королевского племени я-я. Я капитан команды поддержки. Когда-нибудь буду играть на Уимблдонском турнире. У меня прекрасный парень, который меня любит. У меня полно друзей в родном городе.
Пресвятая, преисполненная всех добродетелей Мать, терпеливая и великодушная, дай мне силы выстоять против врагов. Пошли мне прикосновение, сигарету, объятия, поцелуй. Помоги не увянуть и не умереть.
«1 марта 1943 г.
Дорогие Каро, Тинси и Ниси!
Вот уже пять недель и три дня, как я погребена здесь. Я не могу дышать. Нас будят в пять утра, оглушительно колотя в дверь, после чего я должна умыться холодной водой, надеть серую шерстяную колючую форму, натянуть серые гольфы и ботинки, накинуть на голову покрывало и молча идти в часовню. Священник с лягушачьими глазами служит мессу и выслушивает исповеди. Ни пения, ни музыки, ни танцев. Ни разу еще я не обходилась без танцев так долго! Даже мать не возражала против танцев! Когда я причащаюсь, облатка прилипает к сухому нёбу.
В этом месте позволено использовать всего два квадратика туалетной бумаги, потому что расточительство — грех. Требуют не задерживаться в туалете. Здесь есть девочки, которые просят разрешить им следить за остальными в туалетах. Считают это великой честью. Все равно что быть избранным президентом класса. Сплошные извращенцы.
О таких вещах, как ванна, здесь не слыхали. Только души, и те скорее плюются водой. Ни я-я. Ни Джека. Я бы убила за кофе с молоком, подслащенный медом, который Ширли, горничная Женевьевы, приносила нам в больших чашках. И я бы совершила двойное убийство, чтобы увидеть вас троих и Джека.
Здесь никто не смеется.
Я сохну. Умираю от жажды.
Пожалуйста, попросите Пита поговорить обо мне с отцом. Я написала матери, но не получила ответа.
Мне не стоило бы так Жаловаться, когда идет война, Но не знаю, почему они так хотят втоптать меня в землю.
Ваша Виви.
P.S. Поскорее пришлите немного самогона».
После этого она написала матери — вариант того письма, который уже посылала несколько раз со времени приезда в академию.
«1 марта 1943 г.
Дорогая мать!
Пожалуйста, прости меня. Не пойму, что сделала плохого, но все равно прости. Я не хотела обидеть тебя. Если позволишь вернуться, я тебя не подведу. Мне ужасно не хватает всех вас.
Твоя любящая Виви».
Уже через месяц после приезда Виви начала испытывать отвращение к еде. Все казалось ей слишком соленым. Четыре дня подряд ее тошнило от овсянки, которую подавали на завтрак в облупленных эмалированных мисках. Она пила только сок и вяло ковыряла кашу.
За обедом суп был таким же соленым, как овсянка, так что Виви перестала есть и его. По вечерам переваренная капуста пахла пеленками Джези. Единственное, что с удовольствием ела Виви, — яблоко, которое полагалось на ужин. Забирала его в свою клетушку, открывала окно и клала фрукт на подоконник, пока вечерний воздух не охлаждал его. И только потом вынимала ножик Пита, делила яблоко на мелкие кусочки и съедала по одному. Она отдала бы душу дьяволу за полную фляжку бурбона.
Дожевав яблоко, Виви ложилась на жесткую кровать, а сердцевинку устраивала на подушке Дилии, рядом с головой, чтобы и во сне ощущать яблочный запах.
Она тосковала по подругам, Джеку, Женевьеве, кока-коле, барабанным соло Джина Крупа, сладостным мелодиям Гарри Джеймса, каждодневным разговорам с я-я, совместным вечерам, проведенным на ковре, перед камином или на крыльце. Тосковала по всеобщему вниманию, музыке, смеху и сплетням. По карточным играм с Питом в кухне по ночам. Даже по отцу с матерью. И так ужасно тосковала по дому, что, в конце концов, начала меняться.
Виви перестала писать подругам и родителям, а когда приходили письма, боялась их читать, потому что они напоминали о том, чего ей так не хватало. Вести с фронта только печалили ее еще больше и добавляли тревоги за Джека. Она ощущала, будто ускользает в небытие, но усилия удержаться на поверхности окончательно изматывали. По мере того как шли недели, ей становилось все труднее подниматься по лестнице. Как-то в апреле она получила единственное письмо от матери.
«24 апреля 1943 г.
Дорогая Джоан!
Рада узнать, что теперь ты зовешься именем своей святой. Это твой отец и Дилия назвали тебя Вивиан. Не я.
Мать-настоятельница написала мне о беседе с тобой на прошлой неделе. Поскольку она озабочена твоим духовным благополучием, то и решила, что по Божьей воле ты с этого дня будешь известна только под именем Джоан. И станешь отзываться исключительно на это имя. Любые письма, посланные Вивиан или Виви, будут нераспечатанными возвращаться к отправителю.
Будем надеяться, что, вдохновленная именем Жанны д’Арк, ты сможешь успешнее бороться с демоном, терзающим твою душу.
Мать-настоятельница объяснила также, что ты дерзила ей. Пыталась шутить и даже заявила, будто рада, что имя твоей святой не Хедвиг. Она пожаловалась, что ты обозвала ее бородавочником. Могу лишь от всего сердца согласиться с тем, что торнтонская школа подорвала твое уважение к святости и авторитету старших. Тебе крайне необходима дисциплина.
Нет, я не могу позволить тебе, вернуться домой. Тебе придется привыкнуть к академии. Просто на это потребуется время. Делись своими горестями с нашим святым Спасителем, погибшим за наши грехи.
Ты пишешь, как жалеешь, что обидела меня. Но должна понять, что ничем не можешь меня обидеть. Ты оскорбила Пресвятую Деву и Младенца Иисуса. Именно перед ними тебе следует пасть на колени и молить о прощении. Пусть Господь наш благословит тебя, а Дева Мария наставляет во всех деяниях.
Твоя любящая мать».
Тем же днем Виви потеряла сознание во время занятий гимнастикой. Ноги подогнулись, и она медленно опустилась на землю. Колени ударились о старые выщербленные доски пола. И было почти приятно просто лежать без движения.
Монахиня, присутствовавшая при этом, осталась спокойной, деловитой и едва ли не винила Виви за такую слабость.
Ей позволили вернуться в комнату на весь остаток дня, где она впала в лихорадочный сон. А проснулась насквозь мокрая от пота, на мокрой от пота постели. Головная боль, терзавшая Виви все эти дни, сверлила виски как победивший враг. Она попробовала подняться, но комната вместе со скудной обстановкой кружилась перед глазами. И она не могла остановить ни комнату, ни собственную дрожь.
Волны жара и холода накатывали на Виви, но она понимала, что должна дотащиться до ванной. Кое-как она встала, но ноги ее не держали. Тогда она поползла к двери и, дрожа от озноба, снова попыталась встать. Теперь это ей удалось, но она никак не могла обрести равновесие, словно некий шарикоподшипник, ответственный за балансировку тела, выбила злая, бездушная сила.
Виви с трудом поплелась по коридору, хватаясь за стены и дверные ручки. Остаток сил ушел на то, чтобы добраться до кабинки. Судороги сводили шею и спину. Голова раскалывалась так, что она словно лишилась зрения, и перед глазами плыли только черные и серые мушки.
Наконец дверь кабинки открылась, и Виви едва не закричала от облегчения. Кто-то пришел ей помочь! Какая-то добрая душа явилась, чтобы откинуть волосы с ее лба, положить мокрую тряпку, как это делала мать, когда она болела!
— Ты пробыла здесь слишком долго, — прозвучал чей-то голос. — Я доложу о тебе матери-настоятельнице за напрасную трату туалетной бумаги, Джоан Эббот.
Но Виви не ответила. Потому что лежала на полу в глубоком обмороке.
В чувство ее привел шорох ветвей, царапающих оконное стекло. Совсем как дома. Виви вдруг поверила, что каким-то чудом оказалась в Торнтоне, и едва не рассмеялась. Постель оказалась мягкой, и голова покоилась не на одной, а сразу на двух подушках. По какой-то причине она была убеждена, что, если немедленно не вскочит, опоздает на партию тенниса с Каро.
Открыв глаза, Виви надеялась увидеть комод и туалетный столик, шторы из мебельного ситца с розами и зелеными листьями, но взгляд уперся в белую занавеску, протянутую сбоку от кровати. По другую сторону шел ряд окон с закрытыми ставнями.
На какой-то момент Виви растерялась. И тут до нее дошло: она вовсе не дома. Непонятно где, но не дома.
Виви плакала до тех пор, пока от слез не намокли волосы и рубашка. Странно, она совсем не помнила, кто надел на нее эту рубашку. У нее такой не было. Ей ужасно хотелось высморкаться, но платка под рукой не оказалось, и она решила, что придется обойтись уголком простыни.
— Господи, — вздохнула она, — не хочу лежать в мокрой постели! Хочу умереть. Заснуть и не проснуться.
Но тут белую занавеску отодвинули, и Виви уставилась в круглое улыбающееся лицо, молодое и почти хорошенькое. На маленьком курносом носике сидели очки без оправы. Серо-голубые миндалевидные глаза обрамляли бесцветные ресницы и брови. Из-под покрывала выглядывали такие же светлые волосы.
— Как ты себя чувствуешь, Джоан Вивиан? — спросила монахиня.
Впервые за целый месяц ее назвали настоящим именем! Впервые за все это время ей улыбнулись, если не считать чернокожего проводника в поезде.
— Вы монахиня из Святого Августина? — хрипло прошептала Виви. Ее одеяние и покрывало отличались от одежды других сестер школы, а улыбка стала для Виви настоящим потрясением.
— Я из другого ордена: ордена сестер милосердия. Меня зовут сестра Соланж.
Французское имя.
Разговор уже утомил Виви.
Она закрыла глаза.
— Хочешь немного поесть? — спросила Соланж. Доброта, звучавшая в ее голосе, удивила Виви.
Уже так давно никто не проявлял ко мне доброты. В моей прежней жизни доброты было целое море. А я принимала ее как должное. Как сахар до войны.
Пытаясь сдержать слезы, Виви громко шмыгнула носом.
— Прости, пожалуйста, — всполошилась сестра Соланж. — Прежде всего тебе нужен чистый платок.
Она на минуту исчезла и вернулась с двумя чистыми полотняными платками, выглаженными и аккуратно сложенными. И положила их рядом с правой рукой Виви. Та схватила платок и поднесла к носу. Он пах чистым бельем и цветами, впервые с тех пор, как покинула дом, она ощущала столь чудесный аромат. Виви медленно развернула платок и вытерла, сначала глаза, потом лицо и, наконец, нос. Протянула руку ко второму, но тут же отдернула, словно испугавшись.
— Могу я взять второй, сестра? — настороженно спросила она.
— Ну конечно. Может, тебе нужна целая стопка платков?
Когда сестра Соланж снова исчезла, Виви постаралась как можно тщательнее вытереть лицо. Кожа на ощупь казалась неприятно липкой. На следы старых слез наслоилась влага новых.
Появившаяся монахиня положила на постель стопку свежевыглаженных платков. Было время, когда Виви даже не заметила бы такой любезности. Но теперь появление платков, в которых она так нуждалась, казалось настоящей роскошью, и первым ее порывом было их спрятать, пока не отобрали.
И когда монахиня отвернулась, Виви подумала: «Она не питает ко мне ненависти».
На этот раз сестра Соланж внесла большую белую миску с горячей водой. Поставила на столик у кровати, смочила в ней тряпочку, выжала и наклонилась над Виви.
— Закрой глаза, пожалуйста, — попросила она, накладывая теплый влажный компресс на ее веки. Виви глубоко вздохнула. Тепло проникало сквозь кожу, а доброта сочилась в раны, исполосовавшие сердце. Она снова задремала.
А когда проснулась, рядом стояла сестра Соланж с подносом еды. Незатейливый приятный запах картофеля, моркови и лука, сваренных в крепком бульоне, ударил в ноздри. Заглянув в дымящуюся миску, Виви увидела оранжевые солнышки моркови и зелень сельдерея. Рядом на тарелке лежал ломоть домашнего хлеба и стоял небольшой стаканчик яблочного сока.
— Ну вот, — сказала сестра Соланж, — твой первый больничный обед.
Монахиня не приказывала ей есть. Просто поставила поднос на стол, где Виви могла с опаской его рассматривать. Девушка медленно села и позволила сестре Соланж поставить поднос ей на колени. Глядя на него, она с трудом подавила рвотный спазм при воспоминании о пересоленной еде, которую подавали в академии.
Наконец Виви нерешительно поднесла ложку к губам. Вкусно. Почти как дома.
Она принялась глотать суп и съела почти половину миски, прежде чем уронила от усталости ложку.
Сестра Соланж убрала поднос и ловко, как фокусник, достала из кармана передника три яблока.
— На случай, если позже проголодаешься, — объяснила она, кладя фрукты на стол.
Виви уплыла в глубокий сон, а пробудившись, так и не смогла определить, сколько прошло времени. Глядя на яблоки сквозь полуопущенные ресницы, она представляла, как они наблюдают за ней, выводя из забытья.
Сестра Соланж опять появилась рядом. Неужели сидела по другую сторону занавески все то время, что проспала Виви?
— Доброе утро, Вивиан Джоан. Проводить тебя в ванную?
— Да, пожалуйста, сестра, — кивнула Вивиан.
Но едва она села и свесила ноги, головокружение вернулось и Виви потеряла равновесие. Сестра Соланж успела обхватить ее за талию и прижать к себе. Потом медленно повела Виви в ванную, не просто ряд кабинок, как в академии, а в настоящую комнату с дверью, которая закрывалась.
— Я буду рядом на случай, если тебе понадобится помощь, — сказала она, захлопнув дверь.
Закончив свои дела, Виви попыталась встать, но ее настиг очередной приступ головокружения. Пришлось плюхнуться на унитаз.
— Сестра! — тихо позвала она, но не получила ответа. Если монахиня оставила ее одну, она просто умрет. — Сестра! — окликнула она немного громче. — Пожалуйста, помогите мне.
Дверь открылась, и сестра Соланж вошла, опустив глаза, чтобы не смущать Виви. Обняла ее и повела назад.
— Ты слаба, как котенок, Вивиан Джоан. Как маленький котенок Господень.
Виви показалось, что она различает слабый запах лаванды, исходивший от монахини. Вот оно. Лаванда. Платки тоже так пахли. Но откуда тут лаванда? Во дворе академии не было ни одного куста лаванды!
Виви аромат понравился. Она была благодарна за это маленькое удовольствие.
— Как по-твоему, ты можешь принять ванну? — спросила сестра Соланж, когда они добрели до кровати Виви.
Ванна. Наша Матерь Милосердия. Ванна!
— Настоящая ванна или душ?
— Настоящая. Это все, что есть у нас в лазарете. Одна-единственная старая ванна.
Само слово «ванна» звучало изумительно. Невероятная роскошь!
— Да, сестра. Я очень хотела бы принять ванну.
— Вот и прекрасно. Давай договоримся: ты поешь как следует, а потом искупаешься.
Странно, монахиня торгуется с ней! Ее еще никогда не подкупали ванной, чтобы заставить поесть!
Медленно, пережевывая каждый кусочек, Виви Эббот съела почти целую печеную картофелину. Шестнадцатилетнее тело, так долго не получавшее ласки и заботы, жаждало погрузиться в горячую воду, ощутить жар поднимающегося пара, оказаться в объятиях другого элемента. И ради того, чтобы заслужить такую награду, она была готова на все.
Сестра Соланж ненадолго оставила ее, чтобы сходить за полотенцами. Виви лежала в ванне, вода медленно завладевала ее подбородком, носом, лбом. А когда Виви выныривала, чтобы набрать воздуха, то чувствовала себя замерзшей. Голой. Поэтому поскорее вновь соскальзывала в воду и лежала, как это делали я-я в Спринг-Крик, когда солнце садилось. Сбрасывали купальники и намыливались мылом «Слоновая кость».
Виви уходила под воду, в другой мир. Она видела свет, струившийся сквозь высокие окна, но ничего не слышала. И подумала, что легче всего остаться внизу. Нет никаких причин стремиться наверх. Проще остаться в жидкостной жизни, не имеющей острых краев. Изумительно.
— Вивиан Джоан! — громко позвала монахиня, наклонившись над ванной. Виви неохотно всплыла. Зачем ее тревожат?
— Что? — резко спросила она.
— У меня есть для тебя сюрприз.
— Сюрприз? — недоверчиво повторила девочка. С нее хватит сюрпризов!
— В самом деле! Только никому не говори. Пусть это будет нашей тайной.
— Да, сестра, — кивнула Виви, невольно заинтересовавшись. Из складок одеяния сестра Соланж достала маленький марлевый мешочек размером со спелую фигу.
— Вот! — воскликнула она, бросив его в ванну.
— Что это? — удивилась Виви.
— Закрой глаза и вдыхай.
Виви медленно вдохнула, и ее тут же окутал аромат лаванды, смешанный с паром.
Лаванда в ванне. Божественно! Эта женщина знает, кто я на самом деле.
— Лаванда! — с трудом пробормотала она вслух. — О Господи!
— Я сама ее выращиваю, — объяснила сестра Соланж, садясь на табурет рядом с ванной. — За прачечной растут три огромных лавандовых куста.
— А почему нельзя об этом говорить?
— Ну… дети Божьи имеют разные мнения насчет способов исцеления. Другие сестры могут подумать, что я слишком старомодна… или потворствую своим пациентам.
Да, у этой сестры Соланж полно тайн! Каждый раз, когда Виви пытается уйти на дно, она вытаскивает из складок одеяния что-то новенькое.
— О, большое вам спасибо, — поблагодарила Виви. — Я люблю лаванду.
— Знаю, — кивнула монахиня. — Заметила, как ты нюхала мои платки.
Легкая улыбка заиграла на губах Виви.
— Ну и ну, Вивиан Джоан! — воскликнула сестра Соланж, широко раскрыв рот в притворном удивлении. — Первая улыбка за три дня.
— Три дня?! — ахнула Виви. — Я пробыла здесь три дня?!
— Скоро пойдет четвертый. Тебя принесли сюда к вечеру пятницы. Сегодня — утро вторника. Всю прошлую неделю ты была моей единственной пациенткой. Иногда здесь почти нечего делать. Но, думаю, все переменится через пару недель, когда многие слягут с простудой.
— А вы не стыдитесь, сестра? — неожиданно спросила Виви. — Я имею в виду, моей наготы?
— Ради всего святого! — отмахнулась сестра Соланж, засучивая рукава одеяния. — Чего тут стыдиться? Я медсестра, Вивиан Джоан. И видела немало обнаженных мужчин, женщин, детей. Все они — создания Господни. Душе необходимо тело, и ничего тут позорного нет.
Виви снова закрыла глаза. Такого от монахини она не ожидала.
— Кроме того, — добавила сестра Соланж, — у меня пять сестер. В детстве мы всегда купались вместе.
— Пять?! У меня только одна сестра, да и то совсем маленькая. Зато у меня три прекрасных подруги. Все равно что сестры.
— Держу пари, у тебя много друзей, Вивиан, — кивнула сестра Соланж. — Но пожалуй, лучше, если ты не останешься в воде надолго. Не хотим же мы, чтобы твоя кожа напоминала сушеную сливу! Кроме того, ты все еще слаба. Хочешь встать?
— Пожалуй, я сама, — решила Виви, не слишком обрадованная перспективой показываться в таком виде кому бы то ни было, даже монахине. Слишком смущалась она своей слабости и худобы.
— Нет, Вивиан Джоан, — твердо возразила монахиня. — Я за тебя отвечаю, и не стоит отказываться от помощи.
Виви сдалась и позволила сестре Соланж поддержать ее. Та вытерла Виви и переодела в простую чистую рубашку.
Остаток дня девушка проспала, проснувшись только когда монахиня принесла ей риса с овощами на ужин. Виви немного поела и стала жевать яблоко, откусывая, против обыкновения, большие куски.
Ночью, во сне, она увидела лицо матери. Багги была так близко, что могла коснуться ее щеки, но смотрела мимо, словно искала что-то утраченное.
— Мама! — позвала Виви. — Это я, мама! Взгляни на меня! Мама!
Она металась на сбитых простынях, мокрая от пота, плачущая. Дрожащее тело судорожно подергивалось, но, когда сестра Соланж включила свет, Виви так и не проснулась. На монахине, стоявшей с непокрытой головой, тоже была белая сорочка. Светлые, коротко остриженные волосы напоминали встопорщенные перышки канарейки, и вся она была исполнена бессознательной красоты и грации.
— Вивиан Джоан, — сказала она, кладя руку на лоб девочки. — Благословенное дитя.
В ее словах звучало столько искреннего участия, что Виви мгновенно очнулась от кошмара. Но сейчас ей не хотелось слышать ничей голос. Только материнский.
— Что мучит тебя? — прошептала монахиня.
— Я хочу домой. Хочу к маме.
Назавтра днем Виви проснулась от громких разглагольствований матери-настоятельницы. Она открыла глаза и принялась считать полоски света, падающего сквозь щели в ставнях. Судя по тому, как далеко они легли, было уже около полудня.
Немного погодя сестра Соланж помогла Виви встать, одеться и сунула ей в руку лавандовое саше. Ей не хотелось отпускать девочку, но, видимо, мать-настоятельница решила иначе.
Виви твердила себе, что сестра Соланж дала обет послушания, поэтому ей приходится подчиняться. Только поэтому она отпускает Виви.
По приказу матери-настоятельницы Виви пошла на занятия. Правда, ужин она пропустила и легла, сжимая в руке саше. В коридорах стояла тишина. Девочки ужинали, и Виви казалось, что она сейчас одна на большом корабле.
Сбросив школьную форму, она сняла со стены синее бархатное платье. Сейчас ей было так необходимо зеркало, но в академии не было зеркал. Поэтому Виви порылась в сундуке, вынула маленькую серебряную пудреницу, подарок Женевьевы, с розой, выгравированной на крышке. Сладко запахло пудрой. Совсем как в гардеробной Женевьевы.
Виви открыла пудреницу и взглянула на себя. Внимательно изучила глаза, нос, рот. Ей ужасно хотелось посмотреть, во что превратилось ее тело. Она поставила на топчан стул с прямой спинкой и, придерживая платье, встала перед высоким окном. Темнота уже сгущалась, и Виви, включив свет, увидела свое отражение в стекле и поспешно натянула платье. Открытое, с рядом крошечных, застегивавшихся на боку крючков, оно стало чересчур свободным для истощенного тела Виви.
«А ведь Джек не мог отвести от меня взгляд, когда я была в этом платье, — подумала она. — Легонько теребил бархат, когда мы танцевали, и его нежные прикосновения заставляли меня вздрагивать от возбуждения.
Опустив подол, Виви вгляделась в свои груди. Подняла их ладонями. Она рассматривала свое отражение, пока комната не закружилась.
Осторожно спустившись со стула, Виви поставила его на место и выключила свет. Потом широко распахнула окно и легла поверх грубого шерстяного одеяла, царапавшего спину. Глаза горели. Ей хотелось выпить, но виски не осталось. Скоро она крепко заснула.
И видела Джека, лежавшего рядом, на берегу Спринг-Крик, на одеяле в бело-розовую клетку. Они держались за руки и смотрели в огонь. Ей снилась еда, которую обычно готовили у ручья. Но вдруг пламя костра метнулось к ним, жаркое, яростное, готовое пожрать. И когда Виви дотянулась до Джека, тот уже был охвачен огнем.
Она проснулась с воплем. Комната была полна дыма. Пахло горящей тканью. Она не сразу сообразила, что это горит ее бархатное платье и огонь подбирается к постели.
Виви спрыгнула на пол, пошатываясь от головокружения и страха. Единственное, что она успела, — сорвать с топчана подушечку Дилии. Но ноги отказывались повиноваться. Она не могла заставить себя двинуться с места. Оранжевые языки уже лизали простыни. А Виви все смотрела на свое бальное платье, превратившееся в серый пепел. Огонь приятно грел ее обнаженное тело. Казалось, она наблюдает демонически прекрасный балет и не в силах оторвать глаз.
И хотя Виви никого не видела и не слышала, чьи-то сильные руки схватили ее сзади и вытащили из комнаты. Она очнулась уже в холодном темном коридоре, голая, дрожащая. Дверь горящей комнаты была закрыта. В ушах раздавался звук собственного свистящего дыхания.
Виви начала кричать, тонко, жалобно, и не смогла остановиться, даже когда другие ученицы прибежали посмотреть, что случилось; даже когда в коридор в панике ворвалось стадо монахинь; даже когда пожар был потушен; даже когда мать-настоятельница накинула на нее одеяло, крикнув:
— Прикрой наготу!
«Они сожгли мое лучшее платье, — думала Виви. — И хотели сжечь меня заживо!»
Мать-настоятельница потащила Виви в свой кабинет, где принялась трясти. Шерстяное одеяло царапало кожу Виви. Все тело чесалось.
— Немедленно прекрати визжать, — велела перепуганная мать-настоятельница. — Возьми себя в руки, Джоан!
Но Виви ничего не слушала, и тогда монахиня ударила ее по лицу, исполненная решимости привести девушку в чувство единственным известным ей способом.
Виви продолжала вопить.
Сестра Соланж примчалась в кабинет, как только узнала о случившемся. Она не успела надеть покрывало, только поспешно накинула на ночную сорочку плащ с капюшоном. Словно не замечая хмурого лица настоятельницы, она подбежала к Виви и обняла.
— Позаботьтесь об этой ученице, — прошипела мать-настоятельница, в чьих очках отражался свет лампы, придавая ей вид чудища. — Девочка перенесла сильное потрясение.
Над письменным столом матери-настоятельницы висело изображение кровоточащего сердца Иисусова. Слева находилось распятие. Под распятием красовалась надпись: «Непорочная жертва».
— Разумеется, матушка, она очень расстроена. Постель, в которой она спала, намеренно подожгли.
Мать-настоятельница потерла висевшие на поясе четки.
— Джоан могла сама устроить пожар. Нам придется расследовать это дело.
До Виви почти не доходил смысл их слов. Она замолчала, но продолжала дрожать. Монахини входили и выходили, она ничего не замечала. Решали, не стоит ли вызвать отца О’Донагана, священника, который служил мессы и исповедовал учениц.
— Матушка, — осмелилась спросить сестра Соланж, — не думаете ли вы, что было бы благоразумным позвонить ее родителям?
— Вряд ли стоит их волновать по такому поводу! — отрезала мать-настоятельница. — Лучше уладить все самим.
— При всем моем уважении, как медсестра, я советовала бы связаться с ее семьей. Вивиан Джоан была больна, и очередное потрясение может подействовать на нее сильнее, чем мы предполагаем.
— Сестра Соланж, я уже все решила. Ее родителям не стоит звонить.
— Да, матушка, — пробормотала сестра Соланж и, отведя глаза от Виви, уставилась на кровоточащее сердце, а потом на пол. Обет послушания был нерушимым. — Может, матушка согласится позволить Виви провести ночь в лазарете, чтобы я смогла понаблюдать за ней? — все же сказала она.
Мать-настоятельница спрятала руки в рукава и направилась к столу.
— Что ж, не возражаю. Вы можете забрать девочку, — кивнула она и, подняв прикрепленное к четкам маленькое распятие, поцеловала. — Довольно волнений на сегодня. Пора ложиться спать. Молитесь, сестры, за душу этой дочери Марии.
И Виви подумала, что здешние обитательницы только и способны молиться за души. Тело может сгореть, и никто этого не заметит.
Сестра Соланж привела Виви в лазарет, одела в длинную фланелевую рубашку не по размеру. Широкие сборчатые рукава белыми облаками свисали с ее худеньких рук. Монахиня набросила на плечи девочки полотняное покрывало, положила бутылку с горячей водой к ногам и еще одну — на колени. Они сидели рядом в маленькой аптеке и вдыхали запах роз, стоявших в вазе на столе. По стенам теснились стеклянные шкафы, забитые коробками и флаконами с лекарствами.
Монахиня принесла чай и тарелочку имбирного печенья.
— Поешь, пожалуйста, Вивиан Джоан, — попросила она.
Руки девушки дрожали так, что она пролила чай на рубашку, но, похоже, даже не заметила этого. Потому что упорно смотрела на крошечные ромашки, плававшие в чашке.
После того как Виви смогла сделать глоток, сестра Соланж довольно улыбнулась:
— Вот и хорошо. А теперь съешь печенье.
Виви молча уставилась на печенье, не пытаясь его надкусить. Сестра покачала головой.
— Поговори со мной, Вивиан.
Звук настоящего имени подействовал на Виви, как луч солнца, отразившийся от металлической пряжки или куска фольги и больно ударивший в глаза. Она неуверенно взглянула на монахиню.
— Как тебя называли дома?
Виви показалось, что у сестры Соланж усталый вид. Она перевела взгляд со светлых волос на руки. Монахиня нервно сжимала и разжимала пальцы. Увидев, что Виви это заметила, она спрятала ладони под плащ.
— Дома, — сказала девочка, — меня звали Виви.
— Виви, — повторила сестра. — Какое полное жизни имя! — Она склонила голову в молитве, а когда снова подняла, показалась Виви еще более усталой. — Виви, попытайся выслушать спокойно все, что я сейчас скажу.
Виви насторожилась, пытаясь определить тон ее голоса. Мягкий, спокойный, идеальных зелено-голубоватых оттенков.
Монахиня взяла ее руку.
— Виви! Пожми мне руку.
Девочка смотрела прямо на нее, но, казалось, не слышала. Ее снова начало трясти. Сестра взяла у Виви чашку, боясь, что она поранится.
Встав, монахиня вынула из ящика стола ключи, открыла стеклянный шкаф и вытрясла из пузырька две таблетки.
— Проглоти это, пожалуйста, — попросила она. С самого начала сестра Соланж была уверена, что Виви потребуется что-то посильнее, чем чай, поскольку последствия шока непредсказуемы, но не осмелилась сказать об этом матери-настоятельнице. Но теперь Виви была в ее кабинете.
Виви проглотила таблетки, и монахиня присела на корточки около ее стула.
— Виви, — прошептала она, — скажи, кому я могу позвонить, чтобы приехали и помогли тебе?
Сначала Виви подумала, что это ей послышалось. Последние четыре месяца эти слова постоянно звучали в ее мозгу. В воображении. Никогда в действительности.
Она недоверчиво уставилась на монахиню. Очередной обман? Ловкий ход, чтобы подловить ее и наказать?
Но сестра Соланж терпеливо ждала ответа. Не дождавшись, она медленно подняла руку и нежно погладила щеку Виви.
— Виви, дорогая, скажи, кому позвонить?
Это прикосновение словно воскресило девушку.
— Женевьеве Уитмен. В Торнтон, штат Луизиана. Хайленд, сорок два — семьдесят. Ничего не говорите мистеру Уитмену. Только Женевьеве.
— Она твоя родственница? — спросила монахиня.
Испугавшись, что иначе она не позвонит, Виви солгала:
— Крестная мать.
— Спасибо, Виви, — кивнула монахиня. — Ты чудесная девочка. Благословенное дитя.
Эту ночь Виви снова провела на старой лазаретной кровати и видела во сне, что они с Тинси и Джеком сидят на дамбе в Билокси и солнце ласкает их лица.
Наутро сестра Соланж помогла Виви переодеться в костюм, который кое-как собрала, порывшись в приготовленных для бедных мешках с одеждой. Вещи были разнокалиберными, уродливыми и колючими, и монахиня извинилась, отдавая их Виви.
— Это больше подходит для шахматистки, — засмеялась она, — не для теннисистки.
Виви застегнула желтоватую блузку с пятнами под мышками, поверх надела растянутый коричневый джемпер, болтавшийся на ней как на вешалке. На ногах были шерстяные носки и форменные ботинки.
— Откуда вы знаете, что я играю в теннис? — удивилась она.
— О, ты все время говоришь о нем во сне. О теннисе и о каком-то Джеке я-я.
Виви нерешительно засмеялась, но тут же закашлялась.
— Так или иначе, — продолжала сестра Соланж, — у такой хорошенькой девушки нет никаких причин выглядеть кающейся грешницей. Но лучшей одежды у меня нет.
— А мои платья? — спросила Виви.
Сестра прикусила губу, прежде чем ответить.
— Виви, они пропали.
— Все?
— Да. То, что не сгорело, испортил дым.
— Если не считать моей подушки, — кивнула Виви.
— Если не считать твоей подушки, — повторила монахиня. — Подушка уцелела, значит, выживешь и ты.
Увидев Женевьеву и Тинси, стоявших в кабинете матери-настоятельницы, Виви сначала растерялась. Растерялась до такой степени, что застыла как вкопанная. Она жаждала ринуться к ним, обнять, ощутить знакомый запах, впитать ту жизнь, которой ее лишили. Но не могла заставить себя сделать к ним шаг. Замерла на месте, сжимая в руке подушку Дилии, и в этот момент казалась куда моложе своих шестнадцати лет.
Женевьева и Тинси мигом очутились рядом и принялись ее обнимать. Внезапность происходящего ошеломила Виви, и в первую минуту она никак не отреагировала. И чувствовала себя так, словно они были праздными наблюдателями, а она — стоявшей на обочине бродяжкой.
— Миссис Уитмен, — объявила мать-настоятельница, — я не могу отдать вам это дитя. Вы не ее мать.
— И вы тоже, cher, — парировала Женевьева.
— Не смейте обращаться со мной неуважительно! — воскликнула монахиня.
— Cher — вовсе не признак неуважения, — объяснила Женевьева медовым голоском. — Это по-французски означает «дорогая».
— В таком случае не называйте меня дорогой! — отрезала мать-настоятельница.
Женевьева отошла от Виви и шагнула к письменному столу. Тинси сжала руку подруги, прежде чем подобраться ближе к матери.
Свет, льющийся в окна, казался Виви неестественно ярким. С того места, где она стояла, виднелся припаркованный у обочины «паккард» Женевьевы. Машина, казалось, прибыла прямо из снов, и Виви на секунду почудилось, что она может превратиться в лодку или птичку.
— Если вы будете и дальше пренебрегать моими словами, я буду вынуждена позвать отца О’Донагана, — прошипела мать-настоятельница таким тоном, будто предъявляла смертоубийственный ультиматум.
— Зовите кого хотите, сестра, — отмахнулась Женевьева, беря Виви за руку. — Но Виви едет с нами домой.
— Немедленно отпустите это дитя, — потребовала монахиня, но Женевьева уже уводила Виви.
— Отпустите Джоан! — повторила мать-настоятельница.
— Ее зовут не Джоан, — сообщила Тинси, — а Виви.
Женевьева решительно шагала по длинному темному коридору. Виви слышала шаги бежавшей за ними матери-настоятельницы, шорох ее одежд. Наконец монахиня настигла их и протянула руку, чтобы вырвать девочку у Женевьевы. Страх Виви был так силен, что даже во рту ощущался его вкус. Так силен, что она немного подпустила в позаимствованные у сестры Соланж широкие трусики.
Но Женевьева легко отбила руку настоятельницы. Та пошатнулась, и когда Виви оглянулась, эта женщина с неуклюже торчавшим во все стороны покрывалом показалась ей хитрым черным стервятником.
— Я ответственна за спасение души этой девочки! — взвизгнула монахиня.
— Повезет, если сумеете спасти свою, — усмехнулась Женевьева. — А сейчас прочь с дороги! Убирайтесь!
Одной рукой она обняла Виви, другой — дочь, и все трое быстро вышли из здания и, спустившись с крыльца, остановились у «паккарда». Женевьева села за руль, Тинси толкнула подругу на переднее сиденье, а сама влезла на заднее. Мотор взревел, машина помчалась прочь, и никто не оглянулся на здание академии.
По-прежнему сжимая подушку Дилии, Виви принюхалась. Ей показалось, что она различает аромат апельсинов, еловых игл и креветок, кипящих в большом железном котле. Показалось, что пахнет октябрем в Луизиане во время сбора хлопка в прохладные пятничные ночи. Показалось, что пахнет жизнью.
Она словно впервые увидела платье Тинси, надетое под жакет цвета сливы. То самое, из гранатового трикотажа, с длинной баской, которое они выбрали вместе в «Годшо» во время поездки с Женевьевой в Новый Орлеан. Виви пощупала ткань, словно обдавшую теплом ее пальцы.
Тинси положила поверх руки Виви свою.
— Bebe, от твоего наряда нужно избавиться, и как можно скорее.
— Как можно скорее, — повторила Виви, пытаясь вспомнить былой залихватский тон я-я.
— Избавиться, — подтвердила Женевьева, прикуривая. В уголках ее глаз стыли слезы.
Милю-другую они ехали молча, прежде чем Женевьева снова заговорила.
— Послушайте, дамы, — начала она, и голос ее был подобен медленно текущей воде байю, — Бог не любит уродства. Понятно? Что бы там вам ни говорили, малышки, Господь не создает уродства и не любит уродства. Le bon Dieu[62] — Бог красоты, и все вы этого не забывайте.
— Да, maman, — ответила Тинси.
— Да, maman, — эхом откликнулась Виви.
— И, Виви, ma petite chou, послушай меня: жизнь коротка, но широка. И это пройдет.
Своеобразный урок катехизиса продолжался всю дорогу, пока Женевьева везла Виви домой.
22
Девушка, снимок которой был помещен на первой странице «Торнтон хай тэтлер» от 21 мая 1943 года, выглядела такой худой и осунувшейся, что Сидда сначала не узнала мать. Господи, она кажется бездомной сиротой!
Под фото была подпись:
«ЛЮБИМИЦА ТОРНТОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
Виви Эббот, капитан команды поддержки выпускного класса, красавица и теннисистка, вернулась из академии Святого Августина в Спринг-Хилл, штат Алабама, где провела почти весь прошлый семестр, и была с радостью встречена всеми школьниками, от футбольной команды до работников столовой Красного Креста, которым так не хватало ее обычной жизнерадостности и энергии. Желаем хорошо провести лето, Виви! Даже при отсутствии Джека мы знаем, что ты и я-я будут в наилучшей форме!»
Сидде позарез требовалась информация. Она просмотрела весь альбом, исследовала каждую засушенную бутоньерку, каждый обрывок билета, пытаясь отыскать какие-то дополнительные сведения о поездке и возвращении из академии. Пыталась представить, какой была жизнь ее матери летом сорок третьего. Обувь выдавалась по карточкам, как мясо и сыр, но что еще, кроме этого? Было ли ее возвращение трудным, или Виви была «выше этого», как всегда советовала делать детям?
Ничего не найдя, Сидда принялась сочинять. «Предположим, в то лето мать процветала. Предположим, нежилась в любви и заботе окружающих. Предположим, газета не лжет: золотую девочку встретили с распростертыми объятиями. Предположим, мама смотрела только что вышедшую на экран «Касабланку» и обжималась со своим парнем, кто бы он ни был. Предположим, она была красавицей блондинкой и пользовалась куда большим успехом, чем я. Предположим, мама не знала, что ее ждет, и каждое утро просыпалась с улыбкой. Предположим, все это неправда. Предположим, остались только обрывки и клочки, которые мы тщетно пытаемся сшить в полотно».
Виви Эббот Уокер лежала на столе в маленькой розовой комнатке клуба «Здоровье», слушая несущуюся из приемника музыку и ожидая, когда придет массажистка Тори. Нисси первая открыла Тори, и теперь все я-я доверяли ей свои стареющие тела. Ложились на стол и отдавались чувственной неге, которую Церковь, под крылом которой они выросли, посчитала бы грехом потворства своим желаниям.
Раз в неделю Виви снимала одежду, ложилась и в течение десяти минут нервно болтала. И только потом, по мере того как дыхание становилось глубже, спокойно отдавалась поглаживанию, похлопыванию, разминке, которых так жаждала. Никогда в жизни телу Виви не уделялось столько внимания, причем без всяких обязательств с ее стороны.
— Прекрасная сделка. Согласна на любую цену, Тори, мивочка, — повторяла она в конце каждого сеанса, вручая массажистке чек вместе со щедрыми чаевыми.
Пока Тони массировала ей ноги и пальцы, Виви словно погружалась глубже в стол и, как много раз за последние недели, снова и снова думала о Джеке.
По приезде домой Виви делала все возможное, чтобы вернуться к прежней жизни. Она даже отправилась на теннисный корт, где потеря веса и усталость отнюдь не сослужили ей хорошей службы. Торчала в аптеке Борделона и пила кока-колу с арахисом, насыпанным в бутылки. Через день писала Джеку жизнерадостные письма и пыталась держаться подальше от матери. Первый месяц Багги отказывалась с ней разговаривать, но по мере того как шло время, обстановка постепенно приближалась к той, которая в доме Эбботов считалась нормальной.
Виви постоянно молилась за Джека, хотя пыталась флиртовать с другими парнями, с которыми время от времени еще встречалась. Но даже после того, как снова начала есть и восстановила какую-то часть потерянной энергии, в ней оставалось что-то нерешительное, колеблющееся, закрытое даже от подруг, выжидающее, ставящее преграды между ней и окружающими. Отныне Виви не знала, кто она и что должна делать. И не совсем понимала, когда именно перестала быть самой собой. Не знала даже, пройдет ли изматывающая усталость. Поэтому пыталась замаскировать ее слегка вымученной живостью. Она стала верховной жрицей самопреподнесения и вознаграждалась за это на каждом шагу. Город Торнтон, штат Луизиана, обожал самопреподнесение. Для его жителей это стало чем-то вроде религии.
Это случилось воскресным днем, на третьей неделе июня сорок третьего года, вскоре после того, как она вернулась из Святого Августина. Джек приехал в отпуск перед отправкой на базу бомбардировщиков где-то в Европе. Багги пригласила всех на домашнее мороженое.
Всю неделю не прекращались пикники, вечеринки, барбекю и веселые сборища в честь приезда Джека. Виви, Джек, Тинси, Каро и Ниси пришли из дома Уитменов, где Женевьева приготовила на обед любимые блюда сына: от биска[63] из крабов до булочек с малиновым джемом.
Хотя стояло лето, жара еще не развернулась в полную силу. Клематис цвел белыми, розовыми и фиолетовыми цветами, и по изгородям ползли ежевичные плети. Большие черные ягоды, собранные и вымытые Багги, громоздились в большой желтой миске, стоявшей на ступеньках крыльца.
Джези, младшая сестра Виви, цеплялась за ногу матери, пока та крутила ручку мороженицы. Сегодня на ней было лиловое с серым домашнее платье, которое она надевала по воскресеньям, после мессы. Красивые гребни скрепляли волосы по обеим сторонам лица, щеки слегка розовели от усилий. Пит и парочка его приятелей торчали на крыльце.
Виви сидела на качелях, между Тинси и Ниси. Каро прислонилась к колонне, небрежно скрестив ноги в щиколотках.
Между ними восседал на стуле Джек со скрипкой на коленях. Не абы какой, а настоящей кейджанской, сделанной для него дядей Ле Бланком, когда Джеку было девять лет. Той самой, на которой отец запретил ему играть дома. Потому что от нее разило байю, миром, неприемлемым для процветающего банкира.
Но Джек все-таки играл, когда гостил у родных Женевьевы — в Марксвилле, на байю. Играл прямо в полях, когда Женевьева одалживала им свой «паккард» и они отправлялись на Спринг-Крик, захватив одеяла и дюжину банок пива.
В те дни французская скрипка Джека, заодно с музыкой Гарри Джеймса, надрывала сердце Виви. Однажды, растянув ногу на теннисном корте, она в препоганейшем настроении лежала в постели, Джек играл под окном спальни, и Виви чувствовала себя Джульеттой. В другой раз она заставила его играть во время перерыва баскетбольного матча, в спортивном зале торнтонской школы. Смычок летал по струнам, длинные ноги Джека высовывались из золотой с синим атласной формы, голова откинута, на лице сияет широкая улыбка.
И теперь он снова был дома, гордость и радость отца. Никогда еще Виви не видела Джека таким довольным. Всю неделю мистер Уитмен без умолку хвастался сыном. Мало того, сам устроил несколько вечеринок. Его сын собирается бомбить Францию! И Джек был в восторге от того, что отец гордится им.
Виви втихомолку радовалась, что мать готовит мороженое. Первый дружеский поступок с тех пор, как Женевьева уговорила мистера Эббота не отсылать дочь в академию. Может, теперь их отношения улучшатся.
Солнце плясало в черных как смоль волосах Джека. Он уже успел загореть и немного похудеть. Черты лица стали чеканными. Он положил скрипку на плечо и поднял смычок. Но прежде чем начать, помедлил, улыбнулся Виви и по какой-то своей, милой Джековой причине обратился к Багги:
— Мадам Эббот, что, если я сыграю этот вальс специально для вас?
Самый джентльменский поступок, который когда-либо наблюдала Виви! И, увидев лицо матери, поняла, что никто и никогда не посвящал музыку Багги Эббот. Мать, застеснявшись, невольно прикрыла рукой рот, смущенная, застенчивая и невероятно счастливая. Она даже отпустила ручку мороженицы, и скрежет льда о дерево сменился тишиной.
И тогда Джек заиграл.
Заиграл «Черные глазки», вальс, который любила Виви.
В этот день на крыльце Эбботов не было войны. Только море скрипичной музыки, сладостной, жалобной, трогающей сердце. Ноты танцевали в теплом воздухе. Виви чувствовала, как они осыпают ее волосы и плечи, как входят в нее и внедряются глубоко, в самые кости. Ноты Джека лились на них в этот день, словно где-то хранился неисчерпаемый запас музыки, ожидающей, пока ее вызовут на свет божий.
Слушая, Виви украдкой поглядывала на Багги и замечала улыбку, так редко появлявшуюся на ее лице прежде. Улыбку девочки, лелеявшей свои тайные желания, стремления, маленькие удовольствия. Улыбку, имевшую отношение только к ее мыслям и чувствам. Исключавшую материнство, католическую церковь и ребенка, цеплявшегося за ее ногу. Музыка, и тускнеющий дневной свет, и ягоды в большой желтой миске, и луч солнца на лице Джека, и собственное костлявое тело на качелях, в окружении друзей и родных, и выражение лица матери — все это обжигало сердце Виви и наполняло любовью.
И все это благодаря Джеку. Только Джек был способен сделать это: раскрыть ее душу для нового потока любви, преобразить лицо ее матери.
Когда мелодия кончилась, все захлопали. Завороженная Джези закричала:
— Еще! Еще!
Пит и его приятели вопили и свистели. Но поразительнее всех повела себя Багги. Она приблизилась к Джеку и поцеловала его в щеку, чего никогда не делала даже с собственными детьми.
— Спасибо, Жак, — сказала она, вытерла глаза уголком передника и снова принялась вертеть ручку мороженицы.
Остальные не увидели в этом ничего особенного. Да и неизвестно, заметили ли вообще. Но для Виви это имело огромное значение. И в день смерти Багги, сорок лет спустя, Виви вспомнила тот день, и поцелуй, которым мать наградила ее любимого, и ту слезу, и любила мать за это. И хотя Виви так и не простила Багги за то, что не дала ей любви, в которой она так нуждалась, все же любила мать за тот единственный поцелуй.
В конце октября сорок третьего года Виви Эббот играла партию в теннис с Энн Макуотерс. Еще не обретшая полностью форму Виви должна была играть с Каро, но той пришлось остаться на совещании по поводу школьного альбома-альманаха с фотографиями и автографами учителей и всех учеников выпуска.
Энн Макуотерс, старая соперница Виви, пока что вела со счетом 3:2, и Виви просто на стенку лезла от злости. После возвращения домой она все свободное время посвящала теннису и, хотя еще не вернула свой обычный вес, набрала достаточно силы. Однако пока что Энн неизменно побеждала. У этой девчонки была совершенно убийственная подача, и она знала, как заставить побегать противника.
Но сейчас Виви был полна решимости взять верх, и такая возможность возникла как раз в тот момент, когда к корту подъехал на велосипеде Пит. Обычно лишний зритель только воодушевлял Виви: в отличие от многих она предпочитала играть на публику. Странно только, что Пит не притащил с собой целую банду своих дружков!
— Виви, — хрипло позвал брат и, не дождавшись ответа, подошел ближе к металлической сетке, ограждавшей городские корты. На рыжеватых волосах лихо сидела коричневая бейсболка, нос обгорел. Было девятнадцатое октября сорок третьего года, около пяти вечера. Сегодня Виви и Тинси собирались с мальчишками в кино, посмотреть «Джейн Эйр» в постановке Орсона Уэллса[64].
Мимо проехал грузовик департамента парковой службы с прогоревшим глушителем. Виви приняла идеальную позу, готовая достойно встретить атаку.
Последовала жесткая подача Энн, которую Виви удалось отбить. Она упорно работала над ударом слева и умела сосредоточить внимание на мяче. Стоило ей ступить на корт, как она больше ничего не замечала. За последние пять месяцев, в отсутствие Джека, она тренировалась еще самозабвеннее, хотя встречалась с тремя парнями сразу, каждый из которых клялся ей в любви. Но стоило кому-то скрыться с глаз, и Виви сразу о нем забывала. И гораздо больше думала о Полине Бетц, выигравшей чемпионат Америки по теннису, чем о ком-то из мальчишек. Думала о теннисе, войне и Джеке Уитмене.
Энн Макуотерс приняла мяч, и Виви отступила в ожидании очередной подачи.
Но в этот момент рядом с мячом промелькнула неизвестно откуда взявшаяся птичка, и Виви невольно отвлеклась. На ее памяти никогда еще не бывало, чтобы птица пролетела так близко от мяча. Она вдруг забыла о мяче, об игре — обо всем, кроме серо-голубых крыльев на фоне октябрьского неба.
Знаком показав, что берет тайм-аут, Виви направилась через весь корт к Питу.
— Черт бы тебя побрал, братец! Что тебе надо?
Пит посмотрел на сестру и отвернулся.
— Что тебе надо? — повторила она.
— Почему бы тебе не закончить партию, Виви? — спросил он.
— И отдать победу Макуотерс? Ты, должно быть, шутишь!
— Йо-хо! — окликнула Энн, помахав ракеткой.
— Минутку! — отозвалась Виви. — Послушай, у нас разгар игры. Либо говори, зачем пришел, либо отпусти меня на корт.
Не дождавшись ответа, она пошла назад. И словно теперь, когда Виви повернулась к нему спиной, говорить стало легче, Пит глухо сказал:
— Меня прислала Тинси. Просит тебя немедленно приехать.
— Потрясающе! — буркнула Виви, ловко подбрасывая ракеткой мяч и улыбаясь сопернице. — Передай, что приеду, как только побью Макуотерс.
— Думаю, Вонючка, тебе лучше ехать прямо сейчас, — настаивал Пит, закуривая. Лицо в тускнеющем свете казалось необычайно бледным.
— Что-то случилось? — сообразила Виви, снова поворачиваясь. Пит, стараясь не встречаться с ней взглядом, пробормотал: — Не хочешь поехать со мной? Сядешь на раму.
— Нет, — отказалась Виви, — не хочу. Мне нужно закончить партию.
И, вновь сконцентрировавшись на мяче, возобновила игру. Все чувства были настолько обострены, что на окончательную победу ушло не более нескольких минут. Они с Энн обменялись рукопожатиями, и Виви долго собирала разбросанные вещи, футляр для ракетки, жестянку с мячами, жакет. Потом жадно выпила воды, игнорируя Пита, наблюдавшего за каждым ее движением.
Наконец он подкатил велосипед к тому месту, где стояла Виви.
— Ты поедешь со мной, Виви? Пожалуйста, беби-пышечка.
— Ты что-то слишком добр сегодня, — подозрительно проворчала она. — Какого черта?
— Пойдем, — попросил он, не отвечая. — Прыгай на раму.
Виви, подхватив ракетку, уселась поудобнее. По дороге они не разговаривали. Виви смотрела прямо перед собой, и когда они добрались до конца вьющейся подъездной аллеи, ведущей к дому Тринси, у нее неожиданно закружилась голова.
— Поворачивай, — велела она.
— Что? — не расслышал Пит, продолжая работать педалями.
— Я сказала, поворачивай. Не хочу туда идти.
Пит замер. Виви, тяжело дыша, спрыгнула на землю. На лбу выступил пот, словно это она крутила педали целых восемь кварталом.
— Зачем ты меня привез? — спросила она с видом обвинителя.
— Ты нужна Тинси.
— Я хочу знать почему. Немедленно объясни.
Пит положил велосипед на бок, и Виви вдруг показалось, что брат слишком долго возится. Словно все происходит в замедленной съемке. Она ощущала исходивший от него запах мятной жвачки и табака.
— Это Джек, — выдавил он. Его руки тяжело давили ей на плечи. Но до Виви дошло не сразу.
— Что ты сказал? — переспросила она.
Пит притянул ее к себе. До нее донесся здоровый запах пота, только вот ее собственного или брата? Трудно сказать.
— Это Джек, сестричка, — повторил он.
Виви отшатнулась.
— Женевьева получила телеграмму, — пробормотал Пит.
— Ты спятил! — усмехнулась Виви. — Или шутишь?
— Господь видит, хотел бы я шутить, — выдохнул Пит.
— Морочишь мне голову, — отмахнулась Виви, игриво хлопнув его по руке, словно желая сказать, что шутка окончена. — Быстро признайся, что пудришь мне мозги.
— Нет, Виви, — ответил Пит, вытирая лицо рукавом куртки.
— Признайся, Пит.
— Виви…
Но Виви, сжав ладонями голову брата, принялась поворачивать из стороны в сторону. Пит молча терпел, но видя, что она не останавливается, сжал ее руки и положил их себе на грудь. По щекам его катились слезы.
— Да послушай ты меня, малышка. Я ничего не выдумываю. Все так и есть.
Виви продолжала смотреть на свои руки. На теннисную ракетку, все еще лежавшую на том месте, куда она ее уронила. Она думала о домашнем ежевичном мороженом. О том, каким было лицо Джека, когда он играл на скрипке. О прикосновении его руки к ее плечу во время танцев. Раскаленная нить боли пронзила ступни и добралась до сердца, где свернулась узлом так туго, что Виви пришлось отпустить руки Пита и долго растирать горло, чтобы вновь обрести способность дышать.
Ширли, горничная Уитменов, сидела на нижней ступеньке лестницы, стиснув голову руками и мерно раскачиваясь. На черном лице серебрились потеки слез.
— Так и знала, что беда будет. Тольки вчера сова кричала. О, я держала этого мальчика на руках, когда он родился. Перекрестила его листьями магнолии, как хотела миз Женевьева. Бедная мисс Виви, потеряли вы своего суженого. Я пробовала уговорить миз Женевьеву принять настой от нервов, только она не захотела. Беда, какая беда…
Из спальни доносились пронзительные вопли Женевьевы. Виви пронеслась мимо Ширли и взлетела по ступенькам. А когда вошла в спальню, Женевьева била мистера Уитмена по щекам, плечам, рукам, куда только могла дотянуться. Тинси стояла поодаль, у окна, закрывая ладонями лицо.
— Мой бедный сын! — заходилась Женевьева, продолжая наносить удар за ударом. — Ты убил моего сына! Ты и твой проклятый патриотизм!
Ее скорбь, казалось, вытесняла из комнаты весь воздух, почти не оставляя пространства для чего-то другого.
Виви хотелось обнять Женевьеву. Обнять Тинси. Хотелось, чтобы они приняли ее в свой круг скорбящих.
— О Боже, — услышала она шепот Пита, когда Женевьева набросилась на мужа и разодрала ему лицо ногтями. Мистер Уитмен даже не пытался сопротивляться и отвечать на удары. Он просто стоял и позволял себя бить.
Пит взял Виви за руку. Они не двигались.
Женевьева судорожно вздохнула. Мистер Уитмен медленно полез в карман, вытащил платок с монограммой, молча вытер слезы и кровь. И только потом протянул платок жене. Та не обратила на него внимания.
«Джек прежде всего предложил бы платок Женевьеве, — думала Виви. — У него всегда были прекрасные манеры».
Женевьева перевела взгляд с дочери на Виви. Девушки шагнули к ней. Виви надеялась, что Женевьева обнимет их, прижмет к себе и скажет, что все хорошо.
Но Женевьева и не думала никого обнимать. Она издала долгий жалобный вой и накинула подол платья на голову, открыв голые ноги и бежевую комбинацию, словно маленькая девочка, пытающаяся спрятаться от неприятностей. Словно женщина, чья скорбь была невыносимо тяжела.
И чем дольше Женевьева стояла так, тем больше цепенела Виви. Эта женщина всегда была рядом, готовая помочь, когда собственная ее мать отсутствовала. И теперь эта вторая мать тоже отворачивалась от нее.
— Сынок, — услышала она голос мистера Уитмена.
— Да, сэр? — спросил Пит, выступив вперед. Он не слишком хорошо знал мистера Уитмена, только вежливо здоровался, встречая его на улице или в банке. Мистер Уитмен тоже не был близко знаком с Питом. Всего лишь кивал, проходя мимо, думая о своем. Но сегодня протянул Питу руки, и тот упал в его объятия. Никогда, ни до, ни после, Виви не видела ничего подобного. Позже она часто жалела, что муж и сыновья так далеки друг от друга, а в этот момент ощутила зависть. Зависть, что она сама лишена утешения отца или матери.
Наконец Виви перестала ждать, когда Женевьева уберет с головы подол и обнимет ее. Она подошла к Тинси и прижала ее к себе. И девушки расплакались.
Тори принялась усердно разминать спину Виви, от основания черепа до лопаток, когда та вдруг начала всхлипывать. Тори ничуть не встревожилась: не впервые клиент плакал на массажном столе.
Виви глубоко вздохнула, содрогаясь всем телом. «В тот день я возненавидела слово “патриотизм”». Возненавидела свою должность капитана группы поддержки. И отныне всякий раз, вопя и подпрыгивая от радости, я играла. Чертовски хорошая игра, только никто не давал мне “Оскара”».
— Простите, — пробормотала она Тори. — Сейчас возьму себя в руки.
Тори принялась трудиться над плечами Виви. Прикосновения были такими уверенными, такими бесконечно свободными, что вызвали новый поток слез. Виви затряслась как осиновый лист, и массажистка была вынуждена прерваться и протянуть ей салфетку. Виви приподнялась на локтях и высморкалась.
— Хотите поговорить? — спросила массажистка.
— Нет, — буркнула Виви, потянувшись к салфеткам.
— О’кей, — согласилась Тори.
«Я не испорчу этот сеанс слезами», — подумала Виви. Но чем сильнее старалась не плакать, тем напряженнее становилось тело. И когда Тори принялась растирать ее плечи, Виви снова всхлипнула.
— Давайте закончим пораньше, ладно? — попросила она, поднимая голову. — Похоже, я никак не могу успокоиться. Мне ужасно жаль.
— Ничего, — вздохнула Тори, наливая на ладонь лосьона из маленькой бутылочки, притороченной к поясу. — По-моему, не стоит. Плач массажу не мешает. Представьте, что ваши слезы — просто легкий летний дождь.
Виви опустила голову в мягкое углубление для лица.
Тори начала легко гладить спину Виви теплыми руками, и та почувствовала, что дыхание постепенно выравнивается. Иногда было трудно поверить, что кто-то вот так может касаться ее тела, с таким смирением, с такой любящей отрешенностью, не прося ничего взамен. Ей самой до сих пор было противно дотрагиваться до некоторых частей своего тела. Например, живота. Он слишком выдавался вперед, и она стыдилась этого. Не могла смириться с мыслью о собственном уродстве. Однако были и другие места: ноги, шея, голова, — прикосновения к которым казались необходимыми и приятными.
Такие моменты Виви не могла назвать иначе, как религиозным экстазом. Моменты, когда она возвращалась в свое тело неизвестными раньше способами. Моменты, когда она ощущала его недуги, боли, варикозные вены и морщинки как слабые и незначительные, и потому стонала от неописуемого счастья. Мимолетные секунды, когда Виви познавала все несовершенства своего тела, были ее собственными, живущими в ней открытиями. Она жила в нем и умрет в нем.
Ее тело выносило четверых детей. Пятерых, если считать брата-близнеца Сидды, а Виви всегда его считала.
— Я хочу поговорить, — призналась она тихо.
И, как обычно, открыла душу массажистке. Шептала слова и фразы между вздохами и слезами, запинаясь, но с легкостью, какой никогда не знала в исповедальне.
— Я пытаюсь верить, — говорила она, — что Господь не дает нам более одного крошечного отрывка истории зараз. Ну, понимаете, истории вашей жизни. Иначе сердце разболится сильнее, чем вы сможете вынести. Он наносит такой удар, чтобы вы по-прежнему могли ходить, медленно, как человек с гипсом на ноге. Но невидимая трещина по-прежнему кроется в вас — достаточно широкая, чтобы оттуда пророс саженец. Только никто ее не замечает. Ни один человек. Все считают, что ты остаешься цельной и здоровой, и обращаются с тобой, наверное, не так мягко, как обращались бы, знай они о трещине.
Виви снова всхлипнула. Тори положила одну ладонь ей на поясницу, а вторую — на основание шеи и слегка надавила. Виви казалось, что массажистка дотрагивается до спинного мозга, посылая ему мысленный приказ успокоиться.
— Я думаю, — продолжала Виви, — о том дне, когда все трещины будут выставлены напоказ. И тогда я буду как груда разбитых горшков.
Тори вновь взялась за плечи Виви. Та слегка поморщилась, словно от боли.
— Не в моем характере так говорить, — пробормотала она, громко всхлипнув. — Но когда-нибудь я изменю свой характер. И черт с ней, с популярностью. Не считаете, что со мной достаточно весело, ну и ладно! — Виви выдавила смешок и попыталась сесть. — Господи, я начинаю говорить, как Бланш Дюбуа[65]: «Я всегда зависела от доброты незнакомых людей».
— Думаю, я не могу считаться незнакомкой, — ответила Тори, нажимая большим пальцем на лопатки Виви.
— Ой, больно! — простонала та.
— Как по-вашему, почему плечи такие чувствительные?
— О, я всегда ношу тяжкий груз, мивочка, — пояснила Виви. — Железные гири.
— В таком случае опустите их на несколько минут, пока мы разомнем эти узлы, ладно?
— Ладно, — согласилась Виви, вжимаясь в массажный стол. «Этот стол, — сказала она себе, — поддерживается полом, пол, в свою очередь, — зданием, которое вросло глубоко в землю, мой собственный дом».
23
Прежде чем выйти из массажного кабинета, Виви надела темные очки, не желая разговаривать со своими приятелями по клубу «Здоровье». Ни с молодыми людьми, вечно норовившими флиртовать с ней, ни с молодыми женщинами, работавшими на станции местного кабельного телевидения.
Только усевшись в маленький кабриолет «мията-сюрприз» — подарок Шепа, который Виви давно мечтала получить и недвусмысленно на это намекала, она вынула из плеера диск Барбры Стрейзанд. Будет невыносимо, если она снова заплачет. Хотя уже почти стемнело, домой ехать не хотелось. Поэтому она отправилась к Тинси.
Виви и Тинси потеряли не только Джека. Они потеряли и Женевьеву. Очень долго после получения телеграммы Женевьева никого не желала видеть, но потом, выйдя из спальни, объявила, что ее сын не мертв. Если верить Женевьеве, Джек сумел уцелеть и бойцы французского Сопротивления отнесли его в ближайшую деревню на юге Франции и стали лечить. С того самого дня она отказывалась пользоваться английским вариантом имени сына, на котором неизменно настаивал муж.
— Наш Жак жив, — твердила она. — Вне всякого сомнения.
Теперь оставалось только его найти.
И вскоре фантазия Женевьевы заставила Виви забыть о скорби. С ее воображением было так легко поддаться грустному обману — утешению, предлагаемому Женевьевой. Засыпая, Виви представляла возлюбленного под той самой луной, которая виднелась из окна ее спальни. Вместе с Тинси и Женевьевой она бесконечными часами изучала карты Франции. Жадно впитывала каждую весточку о французском Сопротивлении. Помогала сочинять бесчисленные письма в штаб военно-воздушных сил, которые Женевьева относила к секретарше мистера Уитмена с приказом напечатать немедленно. Виви очень хотелось верить. И она поверила. На время. Неустанно обсуждала с Женевьевой, что сейчас делает Джек, что ест, в какой постели спит. Иногда у нее голова шла кругом от сказок, которые они сочиняли. Она соглашалась с Женевьевой, что да, конечно, Джек учится играть на своей скрипке французские народные песни. Играет и думает о доме.
И каждый раз, начиная плакать, Виви чувствовала себя виноватой в том, что предает надежду. После школьного обеда они часто стояли с Тинси у своих шкафчиков. Иногда казалось совершенно невозможным идти на урок истории, потому что слезы падали дождем. Тогда они выходили во двор, садились на траву и плакали. Они не хотели никакой истории. С них пока что хватало и той, что вершилась у них на глазах. И Виви не желала, чтобы Джек стал частью истории. Она предпочитала, чтобы он ел с ней гамбургеры в придорожном ресторанчике. Хотела видеть из окна аптеки Борделона, как он сворачивает за угол, хотела видеть, как вспыхивают его глаза, когда она входит в комнату. Хотела, чтобы он крепко обнял ее и вернул жизнь.
Много месяцев подряд Виви проводила вечера пятницы и субботы с Тинси, отказываясь от всех свиданий. Потом к ним присоединились Каро, Ниси и Чак, бойфренд Тинси, чья преданность я-я ни разу не поколебалась. Никто не считал тогда странным, что девушки спят, обнявшись, в одной постели. Спят, пока не приходит время вставать, ходить и даже притворяться, что их жизнь не разрушена ужасным ударом.
Именно Багги Эббот выпало на долю разрушить этот самообман, поступок, вызвавший в Виви неприязнь, смешанную с благодарностью.
Как-то в субботу вечером, немногим более чем через три месяца после извещения о гибели Джека, Багги постучала в спальню Виви. Виви и Тинси растянулись на постели, заваленной газетами. Для них стало еженедельным ритуалом не только просматривать торнтонские издания, но и «Батон-Руж дейли эдвокет» и «Нью-Орлеан таймс» выискивая новости о французском Сопротивлении.
На Багги было платье с высоким воротом, подпоясанное рукавами халата. В руке — незажженная церковная свеча. Виви очень удивилась появлению матери. Багги редко заходила в спальню дочери.
— Виви! — окликнула она.
— Да, мэм?
— У вас все в порядке?
— Да, мэм.
— Все вы хотите что-нибудь? У меня есть немного помадки из арахисового масла.
— Нет, мэм, — покачала головой Виви. — Мы только что пили колу.
— Взгляни, Виви, — позвала Тинси, поднимая газетную страницу. — Тут насчет взорванных железнодорожных путей недалеко от Лиона. Это они, Виви. Я точно знаю.
Виви, схватив статью, впилась в нее глазами.
— Лионская группа французского Сопротивления — именно та, которая нашла Джека, — пояснила Тинси.
— Ш-ш-ш, — прошипела Виви, пытаясь заставить Тинси замолчать. Та, как и Женевьева, не пыталась скрыть своей веры в спасение Джека.
Багги немного помялась в дверях, прежде чем пройти в комнату и сесть на кровать.
— Вижу, вы очень заняты своими расследованиями, верно? — смущенно спросила она.
— Мы с каждым днем все дальше продвигаемся вперед, — объявила Виви.
— Нам еще столько нужно сделать, — вторила Тинси. — Мама считает, нам следует уделять этому не меньше четырех часов в день.
Багги кивнула. Ее пугала произошедшая в дочери перемена, но она не знала, что делать. На ее глазах Виви прочла статью, пометила красным карандашом и вырезала из газеты маникюрными ножничками.
— Дай мне лионское досье, — велела она Тинси. Подруга протянула ей большой конверт из оберточной бумаги. Пачку таких конвертов Женевьева принесла из банка специально для накопившихся материалов.
Виви наклонилась над конвертом, и непослушная прядь волос упала ей на лоб. Не успела девушка ее откинуть, как это уже сделала Багги, одновременно легонько погладив дочь по щеке. Но Виви мгновенно почувствовала неловкую нежность матери и, подняв глаза, спросила:
— Для чего ты принесла свечу?
— Хотела спросить… не помолитесь ли сегодня со мной? Всего несколько минут? — нерешительно, почти стыдливо задала вопрос она. Виви взглянула на Тинси — та лишь пожала плечами.
— О’кей, — согласилась Виви. — Мы помолимся.
Багги сунула руку в карман халата, вытащила спички, зажгла свечу и поставила на тумбочку. И только потом, встав на колени рядом с дочерью, стала молиться.
— Блаженная Владычица, — тихо начала она на языке древних месс, — Дева, которую приветствовал Гавриил, свет для слабых, звезда во мраке, сияющая ослепительным светом утешительница обездоленных, ты знаешь скорби всех детей своих. Забери нашу боль в сердце свое и благослови ее. Будь с нами во времена печалей. Святая Матерь, посылающая нам яркие лучи, помни о душе Джека Уитмена, призванного в любящее лоно твое. Помни Ньютона Жака Уитмена, которого мы любили.
И этими словами Багги Эббот пронзила плотную пелену бреда Женевьевы Уитмен, державшего в плену ее дочь. Свеча мигала у постели, и ее крохотное пламя освободило Виви.
В эту ночь Виви, прежде считавшая, что узнала настоящее горе, страдала еще сильнее. Во сне она отрешилась от фантазий Женевьевы и проснулась в новом мире, где ее потеря была реальной.
Но когда Виви и Тинси попытались убедить Женевьеву в невозможности спасения Джека из сбитого самолета, та ничего не желала слушать.
«Вне всякого сомнения, — твердила она, — вне всякого сомнения». Словно слова были молитвой, мантрой, способной осуществить любые желания.
Сейчас, подъезжая к дому Тинси, Виви вспоминала все это. Как могли полвека пролететь так быстро? Сколько лет прошло незамеченными, невостребованными?
Кусты французской шелковицы росли у кирпичной стены, окружавшей огромный двор Чака и Тинси. Газон густой травы и высокие камелии ограждали круговую подъездную аллею. Все растения были посажены тогда еще молодой Женевьевой.
«Помни о душе Джека Уитмена, — молилась Виви, открывая дверцу машины. — Помни о Ньютоне Жаке Уитмене, которого все мы любили».
Десять минут спустя Виви сидела в патио с бассейном, перебирая в памяти подробности своей долгой дружбы с Тинси. Роскошная жимолость, взобравшаяся на деревянную решетку, лениво нависала над их головами, а вокруг фонтана с русалками в диком великолепии росли белые колокольчики, фуксии и слоновьи уши. Патио было старым, и выложенный кафелем фонтан — тоже, так что создавалось ощущение безупречного равновесия культивированной и дикой природы.
— Эта история с Сиддой и альбомом заставила меня вспомнить о Женевьеве, — сказала Виви.
— Вне всякого сомнения? — спросила Тинси, помолчав.
— Именно, — кивнула Виви, находя утешение в том, что в своих воспоминаниях она не одинока.
Чак, внесший поднос с выпивкой, посмотрел на женщин и попытался поднять им настроение:
— Может, приготовить парочку филе-миньонов?
— Дай нам часок-другой поболтать, bebe, — попросила Тинси, посылая ему воздушный поцелуй.
— Без меня? — обиделся он.
— Да, — улыбнулась Виви. — Без тебя.
— Крикните, если что-то понадобится, мадам, — объявил он с театральным поклоном. — Я в доме… мариную овощи, вот.
Виви и Тинси взяли стаканы и молча уселись. Шипение газонных дождевателей и мягкое плюханье воды, вытекавшей из бассейна, мешались с песней кузнечиков и звоном струек в фонтане. Закатное солнце заливало окружающее красноватым светом.
Поразительно, как слова «вне всякого сомнения» могут заключать в себе столько смысла. Они словно воскрешали долгое угасание Женевьевы: ее неспособность осознать гибель Джека, коротковолновый радиоприемник в спальне, ночные звонки в Белый дом, долгие обсуждения планов встречи солдата дома. Наконец, после войны, последовала катастрофическая поездка во Францию, где, разумеется, никто ничего не знал о ее сыне. Ужас, опустошенность, дезориентация, вытеснение. И годы, которые за этим последовали, годы, когда Женевьева не покидала спальни, ставшей складом лекарств.
— Всего этого нет в альбоме, — коротко бросила Виви. — Маленьких важных подробностей. Личных знаков.
И услышала, как Тинси вздохнула.
— О, если бы хоть что-то осталось, Тинс, — продолжала Виви. — Его личный знак, ботинки, нарамник святого Иуды. Хоть что-нибудь. Женевьева смирилась бы, будь у нее хоть что-то, чего можно коснуться. Любая крохотная никчемная вещичка, любой дурацкий ненужный предмет. Я послала своей старшей дочери, нашему Великому инквизитору, Божественные секреты племени я-я. Но есть еще столько такого, что я не дала ей. Не могу дать. Не могу дать и себе.
— Не думаю, что у тебя остались чертовы сигареты, но все-таки? Знаю-знаю, мы больше не курим, но нужно же чем-то жестикулировать? — спросила Виви.
Тинси направилась к летней кухне в конце патио, порылась в шкафчике и вернулась с серебряным портсигаром. Виви взяла две сигареты и вручила одну Тинси.
— Закурим? — спросила та.
— А если Чак узнает? — испугалась Виви.
— Он знает, — обронила Тинс.
— Тогда закурим, — решила Виви и подождала, пока Тинси возьмет коробку спичек, лежавшую на стеклянном столике.
— Последнее время, закуривая, я каждый раз молюсь Пресвятой Деве за Каро, — сообщила Тинси.
Виви присмотрелась к подруге. Тинси, как и прежде, оставалась миниатюрной, с модно подстриженными, чуть подкрашенными темными волосами, в которых проглядывало строго отмеренное количество серебра. Сегодня на ней были красные шелковые прямые брюки и длинная черная блуза без рукавов. Крохотные ножки были упрятаны в черно-белые сандалии пятого размера на веревочной подошве. Виви заметила, как солнце лежит пятнами на руках подруги.
— Maman, — произнесла Тинси словно заклинание. — От наших матерей нет спасения. Да я больше и не хочу спасаться.
Переведя взгляд с бассейна на фонтан, Виви подумала: «Может, нам не было предназначено судьбой спастись от наших матерей. Что за чертова пугающая мысль!»
Она представила Женевьеву — в тюрбане, приплясывавшую и напевавшую, пока готовилось этуфе; Женевьеву с ее кейджанским наречием, ее смех, лукавые глаза; Женевьеву, везущую четырех я-я в Марксвилл посмотреть гонки на пирогах, поесть свежеиспеченных пирожных, жареной свинины; приносившую густой черный кофе в половине пятого утра, перед мессой Рыбака; Женевьеву, спасшую ее от ада католического пансиона. Жизнь Виви Уокер без Женевьевы Уитмен была бы совершенно иной.
— Сидда не была бы такой мнительной, знай она Женевьеву, — заметила она.
— Не утешай себя! — усмехнулась Тинси. — Maman навсегда скрылась в каком-то байю в собственном воображении задолго до того, как Сидда увидела свет дня.
Виви молча признала правоту подруги, но все же не могла не жалеть о том, что Сидда не знала эту чудесную женщину. Но почему именно сегодня ее одолевают воспоминания, словно прорвало некую внутреннюю дамбу? Из-за размолвки с Сиддой? Или это возраст?
Продолжая курить, Виви думала о том, как навещала Женевьеву, когда была беременна близнецами. Иногда, в хорошие моменты, я-я проводили целые дни в спальне Женевьевы: Виви, на шестом месяце, с гигантским животом, Тинси — на четвертом, но почти не изменившаяся, Ниси, беременная во второй раз, но уже начавшая набирать вес, и Каро, самая грузная, высокая, сильная и большая как лошадь. Все они, словно выброшенные на берег киты, окружали Женевьеву, перекусывая сандвичами, запивая их «Кровавой Мэри», которые Ширли приносила на подносе. В такие хорошие времена будуар Женевьевы приобретал вид и атмосферу несколько странноватого бистро.
Женевьева лежала на подушках в очередной своей шикарной ночной кофточке. Рядом десять тысяч пузырьков с лекарствами, густые черные волосы тщательно уложены, на ногтях идеальный маникюр. И повсюду фрезии, ее любимые цветы. Она внимательно слушала каждую подробность, каждую деталь беременности я-я и никогда не уставала. Потом, переходя на кейджанское наречие, советовала им домашние средства, о которых узнала, когда росла на байю.
— Чтобы отпугнуть дьявола, повесьте на шею младенцу ожерелье из зубов аллигатора, пусть грызет, пока режутся зубки. Покажите этим тварям, кто тут босс. Еще, когда режутся зубки, натирайте десны крабовым мясом, будут меньше болеть. Всегда помните, — повторяла она будущим матерям, — иногда bebe придется поболеть, чтобы стать здоровым.
В плохие дни лампы в спальне даже не включались. Комната была погружена в темноту. Женевьева не хотела света. Плохие дни длились неделями, иногда месяцами. И, наконец, к матери допускалась одна Тинси.
Как-то, когда Сидде было не больше месяца, Виви заехала показать ее Женевьеве. Это была ее первая поездка после смерти мальчика, и она пыталась преодолеть депрессию. Намеревалась просить Женевьеву быть крестной матерью Сидды.
Каро подвезла Виви и ребенка к Уитменам. На пороге их встретила Ширли:
— Миз Виви, миз Каро, пожалуйста, подождите в гостиной.
К ним спустилась измученная Тинси. Ее раздавшееся тело выглядело волейбольным мячом, засунутым под юбку девочки-подростка.
— Мама сегодня спит. Простите, но ей не слишком хорошо.
— Спит сама или после укола? — спросила Каро.
— После укола, — вздохнула Тинси, поднимая угол одеяльца, чтобы взглянуть на мирно сопевшую Сидду. — За такие ресницы можно все отдать.
— Как у Шепа, — пояснила Виви.
— Малышка, — прошептала Тинси, — вряд ли моя мама может стать твоей крестной.
Она снова прикрыла одеяльцем крохотную головку Сидды так поспешно, словно лишней минуты не могла вынести вида младенца.
— Виви, попроси Каро быть крестной.
— Но почему? — удивилась Виви. — Какая разница, будет Женевьева на крестинах или нет? Я хочу, чтобы она…
— Не спорь со мной, Виви, — перебила Тинси. — Пожалуйста.
— Нельзя хотя бы показать ей Сидду? — настаивала Виви. Но силы Тинси, похоже, были на пределе.
— Прости, Виви, — пробормотала она.
* * *
Сидда так никогда и не увидела Женевьеву Сент-Клер Уитмен.
Через месяц после крестин Виви лежала на зеленом с голубым пледе, наброшенном на кушетку. Рядом лежала Сидда, усердно сосавшая из бутылочки. В такие моменты Виви удавалось оставить потерянного навсегда мальчика в руках Господних и вернуться к реальной жизни, за что она бывала благодарна судьбе. Шеп смешивал на кухне коктейли и нарезал сыр к крекерам. Именно он поднял трубку, когда позвонил Чак.
Виви слышала его голос, но не разбирала слов. Она нежилась в сладкой дремоте, рядом со своей малышкой. Сейчас муж принесет коктейли, а потом приготовит на пару бифштекс. И она чертовски неплохо выглядит для женщины, которая только родила.
— Детка, — позвал Шеп, возвращаясь в комнату с ее бурбоном.
— Сам детка, — буркнула она, похлопав по краю кушетки. — Садись.
Ей хотелось собрать вокруг себя всю маленькую семью. Она молодая мать с красивым мужем и прелестной здоровой рыженькой дочкой. Пусть она потеряла ребенка и до сих пор сражается со своими демонами, но сегодня вечером она была центром их крошечной вселенной и знала это. Ощущала яркий луч прожектора, направленный на нее.
— Посмотри на это чудо, — прошептала она Шепу. — Только посмотри!
Она пригубила виски, поставила стакан на столик и стала разговаривать с Сиддой:
— У тебя чудесные глазки — большие, как блюдца; прямой носик и сладкие маленькие губки; десять вкусных пальчиков на ногах, десять на руках и красивые прямые ножки. Так и хочется тебя съесть.
— Добрая французская леди покинула нас, Виви, — тихо сказал Шеп. Но Виви не обратила на него внимания. Она подносила бутылочку к крохотным губкам Сидды и увлеченно наблюдала, как тяжелеют веки дочери. Шеп наклонился и попытался поднять Сидду, подложив ей ладонь под спинку.
— Не нужно, котик, — запротестовала жена. — Пусть заснет как следует, я дам ей срыгнуть и уложу в кроватку.
Обычно Шеп слушал наставления Виви и не касался Сидды без просьбы или разрешения жены. Но на этот раз, хоть и нерешительно, поднял Сидду и взял у Виви бутылочку.
— Что ты делаешь? Хочешь докормить ее сам?
Шеп продолжал стоять, держа Сидду одной рукой. Виви села, по-прежнему в хорошем настроении и готовая потакать мужу в его прихотях.
— Виви, Женевьева скончалась, — выговорил он, не сводя глаз с жены.
Во рту Виви мгновенно возник железистый привкус.
«Странно, — подумала она, поднимаясь. — Я не чувствовала вкуса железа, когда умер мой мальчик. Не чувствовала с тех пор, как погиб Джек».
— Что случилось? — обронила она, не желая слышать ответ. Шеп уставился на девочку. Он не хотел говорить жене то, что должен был сказать.
— Детка, мне ужасно жаль… Но похоже, аллигаторы все-таки добрались до нее.
Виви опустила глаза, уставилась на дочь, но, кажется, ослепла на несколько секунд, потому что не видела ее. Только собственное потрясенное лицо, отраженное в зеленовато-карих глазах младенца.
— Могу я что-то сделать, Виви? — спросил Шеп. — Могу я что-то сделать для тебя, детка?
Виви покачала головой:
— Ничего. Докорми свою дочь. Дай ей срыгнуть и смени пеленку. Я пойду в спальню, поговорю с подругами. Пожалуйста, не беспокой меня.
Едва она вышла, как Сидда расплакалась. Шеп Уокер поднял ребенка вверх, на уровень глаз. Он не знал, как с ней обращаться. Не знал, как ее успокоить.
— Эй, маленькая горошинка, — бормотал он. — Все хорошо. У тебя папины глазки, знаешь? Легкие от мамы, а вот глазки папины.
— Могу я говорить? — спросила Виви Тинси, успевшую сбросить сандалии и улегшуюся на шезлонг.
— То есть как это? — удивилась Тинси. — Единственный способ не попасть в «Бетси» всем нам — говорить как можно больше.
— Я поняла, что не простила святую матерь Церковь, — объявила Виви. — Думала, что простила, однако нет! Они должны были позволить нам похоронить Женевьеву во дворе Божественного Сострадания.
— СМЦ терпеть не может окончательные уходы со сцены посредством коктейля из водки со снотворным, — отозвалась Тинси дрожащим голосом, несмотря на циничность слов.
— Я по-прежнему хожу к мессе, — призналась Виви, — хотя ты с этим давно завязала. Даже Каро отказалась от исповедей. Но я все еще выполняю все обряды. Совсем как Ниси. Даже после того, как пришлось сменить исповедника, когда Сидда объявила всему миру, что я чистый Гитлер в облике невинного материнства. Всю свою жизнь я совершенно по-идиотски была падка на то несравненное минутное ощущение легкости, возникающее, едва тебе отпустят грехи. Чувство такое, что, если тебя, вот прямо сейчас, переедет грузовик, ничего лучше нет и быть не может.
— Я бросила все, когда мне заявили, что мой стриптиз — это смертный грех, — призналась Тинси.
— Ты умнее меня, Тинси.
Тинси рассмеялась.
— В стране слепых и кривой — король, — изрекла она и, сделав очередной глоток, добавила: — Не умнее. Просто знаю, что maman любила меня. И покончила с собой не потому, что меня не любила. Просто считала, что мой отец убил моего брата. Она так и написала в предсмертной записке. Этим она наказывала прежде всего мужа.
Вздохнув, она снова припала к стакану.
— Ты тоскуешь по нему?
— По Джеку? Каждый божий день, — кивнула Тинси. — Но не так, как ты. Он был моим братом. Я прожила жизнь с любимым человеком.
— Стоит мне закрыть глаза, как я вижу Джека. Вижу, как он бежит по стадиону, прыгает с «тарзанки» на Спринг-Крик, — выдохнула Виви. — Даже когда… не знаю, помнишь ли ты те дни на заливе, когда…
Она поспешно отвела глаза.
— Господи, я что, с ума сошла, причитать подобным образом? Одна из тех психопаток, которые так и не смирились с окончанием школы?
— Просто мой брат был твоей истинной любовью, детка, — усмехнулась Тинси.
— Это верно. И я бы отдала все на свете, чтобы перед смертью еще раз ощутить его запах.
— Вот это я и не прощаю, — жестко бросила Тинси.
— Что именно?
— Не прощаю Бога за то, что забрал Джека. Я рада, что мы побили япошек, горжусь, что остановили Гитлера, но все же уверена, что мой брат не должен был погибнуть в этой войне. Недаром мы так хорошо понимали тех ребят, что были против войны во Вьетнаме. Патриотизм — дурь и враки. Истинная любовь существует, а патриотизм — чушь собачья, cher.
— Католической церкви и армии Соединенных Штатов не стоило бы связываться с я-я, — заключила Виви.
— Опять вы строите заговоры против Церкви и государства? — осведомился Чак, распахивая высокие стеклянные двери. — Умоляю, Тинси, не стоит. Не желаю, чтобы фэбээр снова нас беспокоило.
Женщины рассмеялись.
— Ты старый спятивший дурень, — бросила Виви. — Как твой маринад?
— Зовите меня просто Джулией Чайлд[66], — предложил Чак. — Освежить вам напитки?
— Да-да, пожалуйста, — повторила Тинси. — И, малыш, мы почти готовы поужинать. Помочь тебе?
— У меня все под контролем. Отдыхайте. Наконец-то я могу спокойно готовить.
— Я тебя люблю, — прошептала Тинси, вставая и целуя его в щеку, прежде чем снова лечь.
После ухода Чака Виви поспешно поймала взгляд подруги.
— Сколько лет? — спросила она.
— Скоро золотая свадьба.
— Золотая с самого начала, — кивнула Виви.
— Не стоит и говорить, что он прошел вместе с нами через все это. После Джека и мамы я, наверное, не выдержала бы, не будь рядом Чака. Чака и вас трех.
— Вас сам Господь благословил, — убежденно заключила Виви.
— Мы самые настоящие счастливчики и очень мало ссорились. Не помешало и то обстоятельство, что нам ни единого дня не пришлось волноваться из-за денег. Да, мой брак выдержал, хотя временами казалось, что с детьми совсем худо.
— Это больше всего и беспокоит меня в Сидде. Как вспомню, что видела она в моем браке…
— Брось, Виви, — отмахнулась Тинси. — Вы с Шепом прекрасно ладили.
— Но ничего похожего на вас с Чаком. Впрочем, это ни для кого не секрет.
Разговор снова прервался с появлением Чака, принесшего очередную порцию выпивки.
— Знаешь, — пошутила Виви, — ты просто замечательный официант. Сколько платят в этом заведении?
Прежде чем уйти, Чак подмигнул. Виви с наслаждением сделала первый глоток, ожидая, пока бурбон согреет ее.
— Господи, сегодня полнолуние или что?
— Кто знает? — пожала плечами Тинси, прикуривая еще две сигареты. — Бывают месяцы, когда я готова поклясться, что полнолуние длится все тридцать чертовых дней. А нам полагается пребывать в постменопаузе и безмятежности. Это шутка.
Она протянула Виви сигарету, и перед тем, как затянуться, обе хором воскликнули:
— Гнусная привычка!
— Давно, когда я еще спала в одной комнате с Шепом, мне приснился сон, — сказала Виви и помедлила, пытаясь понять, захочет ли слушать Тинси. Дождавшись кивка, продолжила: — Во сне Джек улыбался своей широкой ленивой улыбкой. Ты знаешь, о чем я. Так он улыбался во время матчей. Представляешь, он поворачивается и улыбается мне. Я вижу линию его широкого подбородка и челку густых черных волос. И ощущаю то же, что и тогда: тепло внизу живота и бешеный стук сердца. Опускаю голову, чтобы откинуть волосы, как в те времена, когда расчесывала их на пробор. А когда снова поднимаю — челюсть у Джека уже снесло гранатой и кровь хлещет на землю. И так постоянно. Один и тот же сон. И повторяется вот уже много лет.
Виви замолчала и, глотнув виски, уставилась на бассейн. И только потом со вздохом продолжила:
— Однажды, в ту ночь, когда я снова его увидела, Шеп обнял меня, разбудил и принес выпить. Я была тронута его заботой, но так и не объяснила, почему плакала.
Виви нахмурилась, глубоко затянулась и медленно выпустила дым.
— Дети знают все. Моя дочь понимает, что я все эти годы держала душу на замке, так и не открывшись до конца Шепу, своему мужу, с которым прожила сорок с лишним лет. Утаила от него свою истинную сущность. И еще понимает, что мой брак так и увял, как виноград на лозе, и в засушенном виде провисел все эти годы. Она заметила, что я утаила ту драгоценную часть себя самой, которую навеки похоронила еще в юности. Даже когда Сидды не было в комнате, она все равно это замечала.
— Виви, ты слишком строга к себе, — покачала головой Тинси.
— Вовсе нет! — отрезала Виви. — Твой брат был всем для меня. И этот сон за последние полвека рвал мне сердце сотни раз. Оставлял меня, только когда дети были маленькими. А мне не хватало этого сна, Тинси. Я просила его вернуться. Хотела, чтобы он снова меня терзал. И он вернулся. Беспощадный, как всегда. Вернулся в шестьдесят третьем, когда я покорилась судьбе и сложила лапки. Но как бы этот сон ни уничтожал меня, все равно возвращает часть прежней жизни.
Тинси молча отставила стакан и подалась вперед.
Виви потушила сигарету.
— Только моя умнейшая дочь не понимает, что вовсе не обязательно тратить тысячи долларов на психотерапевта, чтобы разбираться в таких вещах. Я пытаюсь сама справиться с собой, и для этого не стоит платить сотню баксов в час.
— Хотелось бы думать, что мои ставки достаточно разумны, — заметила Тинси.
Виви, засмеявшись, вскочила и поцеловала подругу.
— Я так тебя люблю, Тинс!
— Поговори с Сиддой, — попросила Тинси.
— О нет! Нет, нет, нет. Не в моем стиле. Это моя ноша. Мои сундуки, — отказалась она и подошла к стеклянным дверям, словно высматривая Чака. — Я несу с собой все эти истории. На них мои личные ярлыки. А где наш милый официант? Неплохо бы пополнить иссякшие запасы.
— Всякая ноша, которую считаешь своей, детка, перестает быть таковой в ту минуту, когда сперматозоид ударяет в яйцеклетку.
Виви отвернулась и залюбовалась струйкой, бывшей из груди каменной русалки.
— Ты не скучаешь по ней? — неожиданно спросила Тинси.
— Ужасно скучаю. Все время о ней думаю.
— Но почему, спрашивается, не позвонишь ей? Не поговоришь? Не выслушаешь? Попытайся ответить на ее вопросы.
— Нет у меня никаких проклятых ответов, — буркнула Виви.
— В таком случае забудь ответы. Просто расскажи ей, что случилось. Попытайся уладить размолвку, — не унималась Тинси и, выудив из стакана подтаявший кубик льда, сунула в рот.
— Не смей грызть, Тинси! Зубы испортишь!
— Я грызу лед уже шестьдесят шесть лет и еще не потеряла ни одного зуба, чего не скажешь о многих моих знакомых, — объявила Тинси и, громко причмокнув, вызывающе воззрилась на Виви.
— Что теперь? Почему ты так смотришь?
— Учти, если не скажешь Сидде о больнице, которую никто не называл больницей, я сама скажу, — пригрозила Тинси. — В любом возрасте не слишком-то приятно потерять мать.
Виви вгляделась в Тинси, словно желая понять, не блефует ли она.
— Это не единственный раз, когда я покидала своих детей.
— Знаю, — мягко обронила Тинси. Виви на мгновение прикрыла глаза, прежде чем снова взглянуть на нее.
— О’кей, все в твоих руках. Делай как считаешь правильным.
— Понятия не имею, что считаю правильным, ma petite chou, — покачала головой Тинси. — Просто знаю, что сидеть и ничего не делать — огромный грех.
— Давай не будем драматизировать, — предложила Виви, протягивая руку подруге.
— Давай, — согласилась Тинси.
— Итак, доктор Фрейд, сколько я должна вам за сегодняшний сеанс? — осведомилась Виви с утрированным европейским акцентом.
— Не Фрейд, — поправила Тинси. — Пуквелл. Доктор Пуки Пуквелл.
Вернувшись в патио с блюдом филе-миньонов, Чак обнаружил плакавших и одновременно смеявшихся женщин в объятиях друг друга, но никак не отреагировал. Поскольку видел все это сто тысяч раз.
24
Буквы адреса выцвели до неузнаваемости, но Сидда сразу же узнала неразборчивые иероглифы Вилетты Ллойд, чернокожей женщины, работавшей у ее родителей сколько она себя помнила. Конверт был таким тонким, что сквозь него просвечивали буквы.
«1 декабря 1957 г.
Дорогая мисс Виви Уокер!
У меня выдалась свободная минутка, вот я и решила написать и поблагодарить за кашемировое паль-то, которое вы мне подарили. Оно теплое и красивое. Я выпустила рукава и подол, и теперь оно мне в самый раз. Мы с Чейни в порядке и посылам вам привет. Молимся за вас и надеемся, что у вас и ваших родных все хорошо.
С любовью
миссис Вилетта Т. Ллойд».
Как отличалось это письмо от остальных в альбоме! Написано на дешевой линованной бумаге, с обмахрившимся краем в том месте, где было вырвано из блокнота.
Сидда проверила дату на письме. Что побудило мать подарить Вилетте кашемировое пальто? Неужели то самое длинное мягкое кремовое пальто, которое Вилетта носила много лет?
Все еще не выпуская письма, Сидда ушла на кухню, решая, не стоит ли приготовить поесть. Она почти ощущала странную смесь запахов, присущих одной Вилетте: моющих средств «Эйджакс» и чая «Липтон». Представила статную высокую негритянку, которая кормила ее, одевала, стирала штанишки, играла с ней, пела и с нежностью выслушивала болтовню. Она вспомнила о письмах, написанных тем же небрежным почерком. Вспомнила, что каждый раз, когда говорила с ней по телефону, Вилетта твердила:
— О, мы так скучаем по вас здесь, в Пекан-Гроув!
Вспомнила ее шестифутовую фигуру, слегка смахивающие на индейские черты лица и затосковала по женщине, ставшей для нее второй матерью.
Вилетта сначала сидела по вечерам с детьми Уокеров, с тех пор как Сидде исполнилось три года, и только потом стала горничной в их доме. Но слово «горничная» далеко не полно описывало то, кем Вилетта была для Сидды. Вынужденная обстоятельствами заботиться о детях Уокеров больше, чем о собственных, Вилетта любила Сидду, несмотря на нищенское жалованье, которое получала за целые дни, а частенько и ночи, проведенные в этом доме. Живя через дорогу, в убогом домишке, с мужем Чейни и двумя дочерьми, Вилетта дарила девочке океан доброты и внимания, что было просто чудом, учитывая ее отношения с родителями Сидды.
Из всех несказанных жестокостей расизма, по мнению Сидды, выделялась одна — неписаное правило, по которому, достигая определенного возраста, дети обязаны отказываться от той страстной любви, которую питают к чернокожим женщинам, их вырастившим. Предполагается, что они должны заменить эту любовь сентиментальной снисходительной симпатией. Что должны позволить не слишком тщательно скрываемой ревности матерей затмить то, что чувствуют к женщинам, выполняющим в их домах обязанности горничной.
Что-то в истории с кашемировым пальто беспокоило Сидду. Когда-то, много лет назад, она мечтала увидеть стоявшую в дверях мать. Та расстегивала пальто и оказывалась совсем голой, с испещренной ранами кожей, словно упала на ложе из ножей.
Сидда стояла на кухне и вспоминала о той еде, которую готовила Вилетта: рис с тушеной окрой и томатами, свиные отбивные, утопающие в луке, горячие бисквиты, сочащиеся маслом и медом. Ей вдруг невыносимо захотелось наброситься на обед Вилетты. Что-нибудь с тоннами жира и холестерина. Чтобы поддержать ее в тяжелую минуту.
Сидда схватила яблоко из деревянной чашки на столе и вышла на веранду в тепло летнего утра тихоокеанского северо-запада. Оглядела высокие ели, окружившие домик.
«Я ничего не знаю, кроме запаха солнца, греющего бесчисленные иглы этих старых елей».
25
На следующий день Виви принялась яростно расчищать свои шкафы. Наполнила термос кофе, вернулась в гардеробную и принялась сбрасывать одежду с вешалок. Поставила на пол коробку для Вилетты, еще одну — для женского приюта округа Гарнет, и третью — для двадцатилетней с чем-то бойкой девицы, занимавшейся вместе с Виви на клубных тренажерах. Малышке понравятся экстравагантные вещи, которые не подойдут Вилетте и покажутся слишком фривольными для женского приюта.
Разобрав шкафы, Виви поднялась на чердак и стала рыться в горах коробок с одеждой, оставшейся еще с пятидесятых. Дойдя до коробки, обозначенной «Жакет для беременных; зеленовато-желтый муар», она прервалась и смешала себе выпивку. Для этого пришлось спуститься на кухню, захватив с собой жакет. Сунув в плеер диск Джуди Гарланд, она налила в стакан виски, закурила и открыла коробку. Там лежал жакет, фасон которого она придумала сама, когда ходила беременная Бейлором, последним своим ребенком. Скроенный как халат художника, только из роскошной ткани, с огромными пуговицами из горного хрусталя, он удивительно подходил к черным прямым брюкам. К ансамблю полагались такие же серьги и задорный маленький берет из золотистого бархата.
Но долго вынести это зрелище Виви не смогла.
Взяв стакан, она отправилась в кабинет, легла на широкий подоконник-сиденье и стала смотреть на байю.
«Не так легко потерять мать».
Она подложила под колени подушку и закрыла глаза. Жакет для беременных воскресил тяжкие воспоминания.
ВИВИ, 1957
Я так больше не могу.
Семнадцать дней подряд в центральной Луизиане идет дождь. Ноябрь. Сырость пробирает до костей. Неделя до Дня благодарения, когда приедут свекор со свекровью и вымотают мне душу. Четверо оглушительно орущих детей, замолкающих только чтобы в очередной раз поесть и нагадить. Четверо. И было бы пятеро, если бы мой мальчик не умер. Я обожаю детишек, но меня от них тошнит. Надоели до смерти. Красивые дети тоже могут быть каннибалами. Хоть бы сверху спустился кто-то и избавил меня от них на время, достаточное, чтобы без помех додумать до конца всего одну мысль.
Четырехлетняя Сидда все еще не оправилась от бронхита и задает столько вопросов, что хочется отвесить ей оплеуху, потому что у меня нет времени на разговоры и потому что трехмесячный Бейлор все еще не спит по ночам. А трехлетний Малыш Шеп снует повсюду так проворно, что за ним не уследишь. Ползает быстрее, чем ходят взрослые, и способен пробраться к двери и вылезти на подъездную аллею, прежде чем я успеваю подтереться. Двухлетняя Лулу Уокер непрерывно ест. Ненасытная глотка. И если я еще раз услышу: «Мама, я голодна», — непременно ее убью.
Шеп торчит в охотничьем лагере, стреляет уток. Там нет даже чертова телефона!
Если я спрашиваю отца своих детей, когда он вернется, получаю в ответ:
— Вернусь когда вернусь.
Я даже не могу заставить себя поговорить с я-я о том, как мне осточертели четыре маленьких чудовища. Не хочу, чтобы мои лучшие подруги знали, что я сыта по горло. Однажды я попыталась объясниться с Каро.
— Скажи Шепу, что тебе нужно больше свободного времени, — посоветовала она.
Но это все не то. Если мне нужно уехать, я могу в любое время нанять приходящую няню. Но этого недостаточно. Я по-прежнему буду чувствовать себя ответственной за них.
Ну а пока у меня есть Мелинда, чернокожая няня — великанша, которую дети называют Линдо. Она встречала меня из больницы с каждым младенцем. Мои дети привыкли к ней.
И я тоже.
Мелинда прожила у нас три месяца. Нянчила Бейлора, а потом ушла. Ей нужно было присматривать за другим ребенком.
Я умоляла ее остаться. Стояла в кухне и просила:
— Ты нужна мне, Мелинда. Не можешь объяснить миссис Куинн, чтобы искала другую няню? Она кого-нибудь найдет.
— Никак нельзя, — твердила она. — Я нянчила двух малышей миссис Куинн, и она на меня рассчитывает. Уже приготовила мне комнату. Миссис Куинн всегда отводит мне прекрасную комнату.
— Хочешь сказать, не то что я? Понимаю, она маленькая… прости, это не настоящая спальня. Но другой в этом доме просто нет. Я закажу новую кровать, если хочешь, куплю новые шторы, только скажи, что тебе нужно. Я понятия не имела, что тебе не по душе твоя комната. Дело в кровати? Знаю, кровать не слишком хороша.
Но она молча возвышалась надо мной в своей крахмальной белой униформе, такой ослепительно чистой, что от нее еще несло «Хлороксом».
— Дело не в этом, миз Виви, — вымолвила она наконец. — Просто вот-вот родится другой малыш, о котором нужно заботиться. Я не могу остаться. Сидела с беби Бейлором целых три месяца, как с другими вашими детьми.
На счастье, чудовища пока что спали. В доме было тихо. Только негромко жужжал холодильник. Я не хотела умолять цветную женщину помочь мне, но ничего не могла с собой поделать.
— Мелинда, я тебя заклинаю. Пожалуйста, не уходи. Я не могу в одиночку ухаживать за четырьмя детьми. Пожалуйста, пожалуйста, не уходи. Я заплачу сколько потребуешь. Заставлю мистера Шепа купить тебе машину. Как насчет машины?
Мне показалось, что она вроде сдается. После всего, что я сделала для нее и ее семьи, могла бы и согласиться!
— Миз Виви, — заявила она, — это ваши дети, вы за ними и присматривайте.
Я положила голову на руки и улеглась на рабочий стол. Весь дом провонял детским питанием. Детское питание — это все, что я обоняла последние четыре года. Детское питание, детское дерьмо и детская рвота.
Мелинда вынула из холодильника три бутылочки.
— Подогрей их в маленькой кастрюльке и дай бутылочку Сидде. Да-да, знаю, она уже большая, но зато спокойнее ведет себя, если все четверо едят одно и то же, когда просыпаются днем.
— Да, мэм, — кивнула Мелинда.
Мое сердце начало пропускать удары, а в живот словно ударили кулаком. Я вся чесалась с головы до пят. Разодрала кожу едва не до крови. И сказала себе, что нужно быть готовой. Готовой к тому, что Мелинда бросит меня на растерзание чудовищам. Я справлялась с двумя, верно? И с тремя тоже, пока ждала четвертого. Ведь справлялась?!
— Миз Виви, хотите, я и вам подогрею что-нибудь? Вам нужны силы.
— Нет, спасибо, Мелинда. Может, попозже? Пока выпью колы.
— Только и делаете, что тянете эту кока-колу, — проворчала Мелинда. — Нужно когда-то и поесть.
Я вынула из холодильника алюминиевый подносик со льдом и подставила под воду. Взяла низкий хрустальный стакан и наполнила колой. Она успокаивала желудок: единственное лекарство, которое неизменно действовало, как бы ни бунтовал мой несчастный желудок. Я пила так много колы, что приходилось прятать бутылки от Шепа и матери. Не хотела слышать их упреки.
Уже начинало темнеть, и дождь лил еще сильнее, когда я посадила детей в машину и повезла Мелинду домой. Остановилась перед ее хибаркой и даже не выключила зажигание. Из дверей выбежали двое длинноногих мальчишек лет восьми-девяти. Я и не знала, что у нее такие маленькие дети! Впрочем, они могли быть и внуками. С этими цветными никогда не скажешь наверняка.
— Мелинда, — спросила я, — может, ты передумаешь? Могла бы навестить родных, а я вернусь позже и заберу тебя.
— Нет, миз Виви, не могу я подводить людей. Мне нужно думать о своей работе. А если вот так подведу вас, когда снова соберетесь рожать?
Я не верила собственным ушам. Смотрела на негритянку, и руки зудели дать ей по физиономии.
— Ладно, Мелинда, — кивнула я. — Понимаю. Не дай Бог мне помешать твоей карьере!
Я дала ей на чай последнюю десятку, и она вылезла из машины, держа над головой развернутую газету, чтобы не слишком промокнуть.
— М’дорогая! О, м’дорогая! — кричали мальчишки, обнимая ее и вырывая из рук чемодан.
Но тут Сидда, сообразив, что Мелинда ее бросает, оглушительно взвыла.
— Не уходи, Линдо! — визжала она, пытаясь выбраться из машины. Со стороны казалось, что ребенка зверски избивают. Можно было подумать, уходила я, а не какая-то цветная нянька!
— Ш-ш-ш, мивочка, — уговаривала я Сидду. — Останься в машине. Идет дождь. Мама купит тебе бумажных куколок.
Но Сидда выбралась наружу, и не успела я глазом моргнуть, как Малыш Шеп тоже удрал. Оба поплелись за Мелиндой под проливным дождем.
О Господи, и кругом никого, кроме грязных дворняг, стоявших у крыльца. Не хватало еще, чтобы моего ребенка укусила бешеная цветная дворняга! Не хватало еще, чтобы бронхит перешел в воспаление легких!
— Немедленно вернитесь! — заорала я. — Сейчас же вернитесь!
Но тут Бейлор услышал мои вопли и залился плачем. И это после того, как Мелинде только удалось его утихомирить! Одна Лулу вела себя как ангел! Сидела сзади и досасывала уже третью бутылочку.
Пришлось выйти из машины и ступить прямо в лужу. Здесь, в Сэмтауне, не было ни одного чертова тротуара, а я, как на грех, надела почти новые замшевые туфли.
На крыльце Мелинды оказалась целая компания разодетых как на праздник цветных.
— Эй, Мелинда! — кричали они с уханьем и свистом. — Давай сюда, девочка. Мы только тебя и ждали, солнышко! Жареные цыплята так и просятся с тарелки прямо в рот!
— О, гляди-ка, да меня встречают! — обрадовалась Мелинда. — Вот это здорово!
Судя по тону, она уже забыла обо мне и моих детях! Словно нас вообще не существовало!
— Мелинда, — окликнула я, откидывая со лба мокрые волосы, — не будешь так добра помочь мне посадить детей в машину?
— Конечно, мэм, — кивнула она и отдала сумку одному из мальчишек. — Идите на крыльцо. М’дорогая сейчас придет.
Меня всегда поражала манера цветных обращаться к матерям «м’дорогая» — сокращенное от «мама дорогая». Не знаю, где они этого набрались.
Мелинда подхватила сразу обоих и отнесла к машине. Дети ни на секунду не смолкали. Господи, мне дурно от их воя!
— Ведите себя хорошо и слушайтесь маму, — велела Мелинда и отряхнула платье в тех местах, где его касались детские ноги. — Спасибо, миз Виви! — бросила она и захлопнула дверцу.
Вот так прямо захлопнула и направилась к дому, где горели огни и родные и друзья готовились устроить ей вечеринку.
Я вернулась в машину в своих испорченных туфлях вместе с орущими детьми. И хотя понимала, что веду себя глупее некуда, мои чувства были оскорблены. Если Мелинда с самого начала собиралась уйти и бросить меня, могла хотя бы пригласить нас зайти.
— Мама, куда мы едем? — спросила Сидда с заднего сиденья.
— Мама, мы купим гамбугевы? — приставал Малыш Шеп. — Не пойму, где он этого наслушался, но произносит «гамбургер», словно родился в Бруклине.
Я закурила.
— Пока еще не решила, куда поехать. Сидите смирно.
И у Сидды, и у Малыша Шепа еще не прошел бронхит. Они закашлялись так сильно, что их тельца беспомощно содрогались, так хрипло, что мне хотелось зажать уши от ужаса. Я не могла вынести выражения их глаз, когда они захлебывались мокротой.
— Сплюньте, — просила я. — Не глотайте, мивые, от этого только хуже будет.
Но они не понимали. Унаследовали плохие бронхи от Шепа. Я никогда не видела, чтобы кто-то из моих родных так кашлял. Детские простуды длились неделями. Благодарение Богу за сироп от кашля, прописанный доктором Поше. Он прекращал приступы и действовал как снотворное.
Дело в том, что Мелинда всегда точно знала, когда забрать Бейлора. Точно знала, когда я была готова слететь с катушек. Приходила в спальню как раз в тот момент, когда я была готова убить его. Брала его у меня, словно толстый черный ангел, посланный, чтобы не дать мне обидеть мое дитя. И так бывало со всеми моими малышами. Иногда мне становилась любопытно, откуда она знает. Может, что-то в ее огромном теле вибрировало и отзывалось на мой молчаливый призыв? Она ловила эти призывы как антенна и ощущала то мгновение, когда я была близка к тому, чтобы ударить свое дитя, лишь бы заставить его замолчать.
Я не любила шлепать детей. И не хотела. Это получалось помимо моей воли. Я не могла говорить о таком. Это Каро вечно шутила, уверяя, что отъехала, забыла кого-то из детей на заправочной станции и не вспомнила до следующего дня. Я не могла признаться подругам в тех вещах, которые творила со своими детьми, когда они слишком уж доводили меня.
Если дела бывали совсем плохи, мать присылала Джинджер, а иногда и ее внучку, Мэри Ли, но та сама казалась мне еще совсем девочкой. Этого было недостаточно. Всего было недостаточно. Будь Дилия еще жива, она позаботилась бы, чтобы я никогда не нуждалась в помощи.
Когда наконец мне удалось дотащить детей до дома и уложить в постели, я едва держалась на ногах. Этот сукин сын Шеп. Как он мог оставить меня, зная, что Мелинда сегодня уходит?
Я была так взвинчена, что не могла спать. Ощущала, как внутри все дрожит. Чувствовала миллионы собственных нервных окончаний. У детей Ниси была корь, Каро завела идиотскую привычку ложиться спать рано. Поэтому я позвонила Тинси, но Ширли сказала, что они уже уехали.
— Куда именно? — спросила я Ширли, которая сидела с детьми.
— Ужинать к мистеру Частену.
Я позвонила в ресторан и велела им позвать к телефону Тинси.
— Мне необходимы взрослые, — сообщила я ей.
— Счастлива слышать, что мы подпадаем под эту категорию, дорогая. Мы еще ничего не заказывали. Заказать тебе гамбо для начала?
— Все, что угодно. Я не слишком голодна.
С рождения Бейлора у меня не было аппетита. Желудок постоянно расстраивался: еда была тяжким трудом.
Я могла позвонить матери и попросить посидеть с детьми, но заранее морщилась, представляя ее осуждающую физиономию, когда она спросит меня, почему нельзя поужинать дома. Поэтому я позвонила Вилетте Ллойд, чей муж Чейни работал на Шепа и его отца в Пекан-Гроув, куда мы собирались переехать, когда будет выстроен дом и мы выберемся из этого убогой съемной хижины, где приходилось ютиться вшестером. В то время Вилетта убирала в доме доктора Дегре, но одновременно была моей приходящей няней, поскольку дети доктора Дегре уже выросли.
— Только не отказывай мне, Вилетта, — попросила я. — Пожалуйста, не отказывай.
Я натянула слаксы из верблюжьей шерсти, черный свитер и накрасила губы. Вид у меня был самый что ни на есть туберкулезный. Волосы с каждым днем все больше редели. Просыпаясь по утрам, я замечала на подушке целые пряди.
Выпив свой ужин у «Частена», я не нашла в себе мужества распрощаться.
— Не портите праздник! — объявила я. — Что за некомпанейские люди! Время совсем детское. Давайте поедем в «Теодор», выпьем немного.
— И рад бы, Виви, мивочка, — отказался Чак, — но нужно ехать домой, убедиться, что маленькие чудовища не взорвали дом.
— Тинси, останься хотя бы ты! Я не хочу домой. Поиграй со мной.
— Виви, крошка, я совсем измучена. Сегодня утром дети подняли меня затемно, а днем я поспать не успела. В другой раз?
— Обязательно, — кивнула я и расцеловала их на прощание.
— Виви, — удивился Чак, — а почему ты не устаешь? У нас только двое ребятишек. У тебя четверо, ради всего святого.
— Не говоря уже о том, что Шеп, похоже, считает себя бездетным, — ядовито добавила Тинси. Я-я не нравилось, что Шеп бросает меня ради утиной охоты. Ниси прозвала меня Утиной Вдовой.
— А вот я ничуть не устала! И могла бы хоть всю ночь оставаться на ногах! — похвасталась я.
— Поделись своей энергией, — пошутил Чак. — Заработаем миллион, если разольем ее по бутылкам и начнем торговать.
Но, по правде говоря, я невероятно устала, где-то внутри, под кожей. Там, где никто не мог этого видеть. Не знаю, как это случилось. Как я дошла до такого. Все произошло очень быстро.
Я любила звучание голоса Шепа. Любила смотреть, как солнце играет в его белокурых волосах или на плечах. И рассуждала так: у нас будут прекрасные дети, он хорош собой, высок, из приличной семьи. Я думала: он, конечно, не Джек, но Джек ушел навсегда.
Шеп повез меня в своем кабриолете показывать Пекан-Гроув. Все восемьсот акров. И то место, где хотел выстроить дом. С ним я чувствовала себя сексуальной. И испытывала нечто вроде любви. Потому что не знала, каково это просыпаться каждый день в постели с Шепом. И видеть его лицо. Он был не тем, кого я по-настоящему хотела. Не тем, кого я по-настоящему любила.
А вот быть беременной мне ужасно нравилось. Нравилось демонстрировать наряды для беременных, фасоны которых придумывала сама и отдавала шить миссис Бойетт.
Но результатом всего этого явились четверо созданий, во всем от меня зависящих. Они постоянно были при мне. Их нельзя было отнести назад только потому, что они болели бронхитом. Я не хотела, чтобы так вышло. Или хотела? Во всяком случае, я дрейфовала по волнам без руля и ветрил, как брошенная шлюпка, и, сама того не заметив, приплыла в гавань материнства. И не подозревала, как оно пахнет.
Не знала, что быть матерью означает бессонные, мучительные ночи. И груз ответственности, давящий на плечи. Все ли я делаю правильно? Даю ли малышам то, в чем они нуждаются? Достаточно ли делаю для них? Или чересчур много?
Буду ли гореть в аду, если не научусь ставить их нужды выше своих во всякой чертовой мелочи, которую сказала или сделала? Придется ли мне превратиться из Виви Эббот Уокер в Блаженную Деву Марию, Пресвятую Матерь Божью?
Знай я, во что вляпаюсь, сказала бы твердое «нет» на все это. Бежала бы очертя голову при одном упоминании о детях.
Вилетта ушла, когда я вернулась из ресторана. Я дала ей чаевые за то, что вызвала в последнюю минуту. Она не захотела переночевать, как я просила. Почему вдруг чернокожим взбрело в голову отказывать мне? За ней приехал Чейни. Привез еще один свитер, протянул жене. Они повернулись и как ни в чем не бывало направились к пикапу с выведенными на борту словами «Пекан-Гроув».
Последние четыре года я едва ли спала больше пяти часов за ночь. Я, женщина, привыкшая спать по десять-одиннадцать часов! Сон казался таким сладким, что я ощущала на губах его вкус. Вкус сна. Такой же осязаемый, как вкус сандвича с беконом, салатом и помидором на свежем французском батоне.
Но мне не хватало не только отдыха, но и снов. Боже, как мне не хватало снов! Даже кошмаров. Даже снов о Джеке. Я столько лет не видела снов! Меня вечно будили, требуя подогреть бутылочку, отвести сонного малыша в ванную, сменить пеленку, после чего я возвращалась в постель, злая как три черта, понимая, что завтра буду вялой как осенняя муха.
В спокойные ночи я видела, что лежу в бассейне, под водопадом, и могу находиться под водой без воздуха, а потом выныривать и взвиваться в небо. Во время такого глубокого сна я летала по всему миру, а потом просыпалась с улыбкой.
Теперь, когда у меня были дети и Шеп, я уже не могла делать все, что хочу. А я хотела убежать с незнакомцем и быть богатой, до ужаса богатой. Хотела не иметь никаких обязанностей и обязательств. И не то чтобы Шеп был плохим человеком. Вовсе нет. Мы строили большой новый дом на проклятой плантации, а пока жили в крысиной норе. Шестеро в двух спальнях, где мне было нечем дышать!
Как получилось, что я возненавидела Ширли Фрай, ставшую чемпионкой Америки по теннису? Я всегда любила победителей. И сама была победительницей. Занималась теннисом, то есть серьезно занималась теннисом. Была такой сильной! Плоский живот, загорелые ноги, почти белые волосы…
Я смешала еще одну порцию выпивки, на этот раз покрепче. Досмотрела последнюю телепередачу. Поплакала, слушая «Звездно-полосатое знамя». Выкурила сигарету в постели. Попыталась читать, но последняя порция бурбона меня доконала. Слова расплывались перед глазами.
Поэтому я пошла взглянуть на свою четверку. Господи, какие красавчики! Мои дети были самим совершенством: куда прекраснее, чем я могла себе представить. Я благодарю Господа за то, что не дал мне родить уродцев. Насколько легче любить их, когда они красивы. Я дала миру чудесных малышей.
Лулу храпела, как ее папаша, но глаза у нее были больше. А Сидда с ее вишневыми губами идеальной формы и рыжими волосами, за которые каждая из я-я была готова умереть, не говоря уже о ресницах!
И Малыш Шеп со своим игрушечным трактором, который он, несмотря на уговоры, тащил в постель каждую ночь. Этакий мускулистый маленький террор.
И Бейлор в колыбельке. Пучки белых волос торчат в разные стороны, крошечный пальчик во рту, надутые губки и громкое сопение.
Ночник был включен, но я подошла ближе и включила еще и бра. Не хотела, чтобы они испугались, если проснутся. И вообще хочу, чтобы ничто не пугало моих детей.
Вернувшись к себе, я закрыла глаза и подумала о Джеке. Представила его шею. Представила, как он подбрасывает меня в воздух. Высоко. Как умел только он. Просто так. Из чистой радости. Представила, какими были бы наши малыши.
Должно быть, я задремала. И проснулась от чьего-то кашля. Долго ждала, пока он прекратится. Где Мелинда? Куда она смотрит?
Тело налилось свинцом. Я пыталась поднять руку, но она не двигалась. Потом мне приснилось, что я встала и надела халат.
Хриплый захлебывающийся кашель. Это Сидда никак не может отхаркаться. Я должна встать. Идти к ней.
Мне кажется, что я уже на ногах. Кашляет отец, сидя в кресле у огня, и я принесла ему горячий лимонный сок. Но он меня не видел.
— Отец, — попросила я, — выпей это.
И тут я вздрогнула и проснулась. Отец давно мертв. Не вписался в поворот вскоре после рождения Сидды. Почти сразу после того, как мы потеряли Женевьеву.
Рядом с моей кроватью стояла Сидда. Волосы спутаны. Они совсем не похожи на мои. Сидда не настоящая блондинка. Она так и не откашлялась. Я словно вижу ее тело изнутри. Вижу маленькие ребра, готовые треснуть от натуги.
Я села в постели, притянула ее к себе и обхватила за ребра.
— Малышка, — прошептала я, — постарайся задержать дыхание.
Но кашель только усиливался.
— Мне больно, мама, — пожаловалась она.
Я потянулась к стакану на тумбочке.
— Дорогая, попробуй сделать глоточек.
Поднесла стакан к ее губам, и она послушно глотнула.
— Вот так, солнышко, помедленнее, еще глоток…
Неожиданно она захлебнулась, выплюнула жидкость и закатилась кашлем. Я беру стакан и подношу к носу. Это не вода. Это бурбон. Будь под рукой нож, я вырезала бы себе сердце.
— Прости, дружище. Прости, что так вышло.
— Ничего, мама. Я пришла сказать, что Лулу и Бейлор заболели.
— То есть как это заболели, мивочка?
— Они все время пукают.
Едва я переступила порог спальни, в нос ударил мерзкий запах. По-прежнему лил дождь, окна были наглухо закрыты, жара стояла невыносимая, и в комнате смердело общественным туалетом. Лулу, всхлипывая, сидела в постели. Подойдя ближе, я сразу сообразила, что у нее понос. Подгузник промок насквозь, и дерьмо лилось по ее ногам на простыни. Оно каким-то образом умудрилось попасть даже в волосы. Я поспешно подняла ее.
— О, детка… ш-ш-ш… солнышко, все хорошо.
Все содержимое подгузника мгновенно просочилось на руки и халат. При звуках моего голоса Бейлор тоже заплакал. Не выпуская Лулу, я наклонилась над ним и пощупала заднюшку. Оказалось, он тоже обкакался. Мир наполнен детским говном. В этот момент я была почти убеждена, что ничего другого мне больше не придется нюхать. Никогда.
— Бейлор, — сказала я младшенькому, словно тот что-то понимал, — умоляю тебя, только не начинай.
Но он, не слушая, вопил во всю мощь легких.
Тут Сидду снова скрутил приступ кашля. Я повернула голову, чтобы взглянуть на нее, но тут Лулу вырвало прямо на меня. Рвотные массы залили мне грудь. Все тело мигом зачесалось.
Я побежала с Лулу в ванную, где горел чересчур яркий, беспощадно холодный свет. Наклоняя ее над туалетом, я случайно заметила свое отражение в зеркале и не поняла, кто это.
В руке оказалась мокрая губка. Что вытереть сначала — лицо или попку Лулу? И когда мне удастся отмыть собственное загаженное тело?
В дверях появилась Сидда. Длинные рыжие волосы разметались по плечам. Кашель по-прежнему сотрясал ее.
— Больше тебе нечего делать, кроме как кашлять? — сорвалась я. — Немедленно прекрати! Не видишь, что у меня дел полно? Иди в спальню и возьми младшего брата! Хоть кто-то в этом доме должен мне помочь!
Моя четырехлетняя дочь взглянула на меня, прикрыла рот рукой и молча ушла. Вернулась она с Бейлором на руках. Малыш Шеп цеплялся за ее рубашку. Мне хотелось убить детей за все, что приходилось выносить по их милости.
Где мой муж? Где отец этих четверых детей? Покажите, где написано, что только матери обязаны нюхать дерьмо! В эту минуту я с радостью пристрелила бы его за то, что бросил меня в такую минуту.
— Сидда, займись Бейлором. Намочи тряпочку и хорошенько оботри ему попку.
Пресвятая Мария, Матерь Божья, где твои засаленные платья? Неужели Сын Божий не гадил в пеленки, так что запах его испражнений мешался в тех яслях со смрадом навоза? Почему ты всегда выглядишь так чертовски мило и безмятежно?
Сидда вытерла Бейлора как смогла, сменила пеленки и отнесла в кроватку. А когда снова начала кашлять, Малыш Шеп сказал:
— Плохая Сидди. Мама сказала не кашлять.
Лулу наконец отпустила рвота, и я распахнула окно ванной. Дождь так и не перестал, с улицы тянуло холодом, но я больше не могла выносить эту вонь. Ветер дул на нас пятерых, маленькое Святое Семейство, пока мы продолжали блевать, гадить, плакать и кашлять и медленно терять рассудок.
Наконец я всех умыла, сменила измазанные дерьмом, рвотой и соплями пеленки, трусики и пижамы. Открыла окна спальни и уменьшила температуру.
Дождь лил как из ведра.
Уставшая Лулу заснула. Пухлая ножка высунулась из-под одеяла, как всегда, когда она спала. Я дала не желавшему засыпать Малышу Шепу пачку крекеров-«животных», и он сидел в постели, играя с трактором и откусывая головы жирафам.
Малыш лежал на животике и тихо жаловался. Я потерла ему спинку.
— Ну же, Бей-Бей, успокойся. Пожалуйста, успокойся. Ради мамы.
Следующий приступ Сидды вынудил меня скрепя сердце закрыть окна.
Я подошла к ней. Почему ее личико такое измученное? Она еще совсем маленькая.
— Сиддали, мивочка, когда мы в последний раз принимали сироп от кашля?
— Не знаю, мама, — выговорила она, снова начиная кашлять.
Я вынула бутылочку с сиропом из аптечки и вернулась с спальню.
— Сядь, мивочка. Давай я поправлю тебе подушку.
И, налив в ложку янтарную жидкость, поднесла ей.
— Давай, только глотай помедленнее. Ладно?
Кашель прекратился. Я взглянула на бутылочку и решила налить и себе. Не повредит.
Руки у меня дрожали. Я откинула волосы с лица Сидды и сжала руками ее щеки.
— Так хорошо, мама.
— Ты моя большая девочка, Сидда. Старшенькая. Обещаешь помочь мне заботиться о младших?
— Да, мама, — прошептала она, закрывая глаза.
Я пошла к себе, легла на кровать с широко открытыми глазами. И до меня не сразу дошло, что теперь воняет ночная рубашка, которую я так и не удосужилась сменить. Я, не вставая, стащила рубашку, бросила на пол и осталась голой. Смотрела на свое тело и пыталась молиться.
Но запах был слишком сильным. Я поднялась, подошла к шкафу, вынула длинное пальто от Живанши, цвета слоновой кости, купленное на часть наследства, оставшегося после смерти отца. Ничего дороже и экстравагантнее у меня еще не было. Натянула носки и ботинки и вышла на маленькое боковое крыльцо.
Дождь так и не кончался, на востоке постепенно разгоралось устрично-сероватое сияние. Было холодно и сыро, но по крайней мере не воняло.
Пресвятая Матерь Искупителя, если бы я хоть однажды могла бы увидеть пятна от рвоты на твоих прекрасных голубых одеждах, если бы увидела хоть однажды, как ты шлепаешь Спасителя по ревущей физиономии, тогда бы, наверное, не чувствовала себя такой беспросветной мразью. Ты, проклятая Вечная Дева, если бы ты могла хоть на секунду стереть с лица эту бессмысленную нарисованную улыбку и взглянуть на меня с таким видом, словно мы в одной лодке, я бы не отчаивалась так сильно.
Я не была девой. От меня несло. Руки воняли детским дерьмом, рвотой и табаком. Даже дезодорант, которым я побрызгалась, не заглушил этот запах. Ничто не может заглушить запах жизни. Я боялась, что мои дети умрут. Боялась, что умираем мы все.
Изо рта вырывались белые облачка пара. Туман сгущался, и скоро я уже не видела даже собственных ног.
* * *
Я заставила себя подождать до половины седьмого, прежде чем позвонить Вилетте. Наврала ей, что дело срочное, и она пришла. А пока готовила детям завтрак, я накрасила губы и причесалась. И по-прежнему старалась не плакать. Порылась в шкафчике бюро, где Шеп держал наличные, но там осталось только две пятерки. Мне требовалось больше.
— Вилетта, у тебя есть деньги?
Я просила денег у цветной няни.
— Нет, мэм, только на автобус. А что вам нужно?
— Куча денег, — коротко бросила я.
— Тогда пусть мистер Роберт Б. Энтони с телевидения выпишет вам чек на миллион долларов, — засмеялась она, давая Лулу бутылочку с «Севен-ап», чтобы подлечить расстроенный желудок.
— Присмотри, чтобы Малыш Шеп съел свою овсянку, иначе не успеешь оглянуться, как печенья уже не будет.
— Да, мэм, — кивнула она, намазывая маслом кусочек тоста для Сидды. — Куда это вы в такой дождь?
— К исповеди. Хочу получить отпущение грехов.
— Эти старые святоши все хитрые как кошки. Держите ухо востро с этими злющими-хитрющими котами.
— Вернусь через час-полтора, — пообещала я.
— Хорошо, миз Виви, потому что мне нужно сразу же ехать к миссис Дегре. У нее сегодня бридж-пати.
В церкви Святого Антония меня не знали. Туда ходили одни итальянцы. Церковь была древнее и темнее, чем Божественное Сострадание, и все эти итальянцы обожали искусственные цветы. Тонны искусственных цветов. Я не была в этой церкви с детства, когда мать водила меня на похороны своей подруги.
Под пальто от Живанши на мне были только лифчик и трусики. Какая разница? В конце концов, это не грех, тем более что я накинула на голову покрывало.
— Благословите меня, отец, ибо я согрешила. Со времени моей последней исповеди прошло две недели.
Я пыталась глубоко вздохнуть, но что-то застряло в груди. Сердце билось чересчур сильно, и я не могла дышать.
Я не знала этого священника. И не могла исповедаться в нашей Деве Божественного Сострадания. То, что я собиралась сказать, было чересчур, черт побери, слишком, для моего собственного прихода.
Я вдыхала его запах, исходящий с той стороны решетки. Прижалась к ней носом и вдыхала запах. Запах ладана и переплетенных в кожу псалтырей. Потертый бархат скамеечки для коленопреклонений царапал мои колени. Мне было ужасно неудобно. Все тело чесалась. Чесалось уже четыре с половиной дня. Чесалось ужасно. Я лезла на стенку, и ничего не помогало. Я уже истратила два пузырька лосьона от солнечных ожогов, перепачкавшего половину моих платьев, и все зря. Позвонила доктору Бо Поше и попросила что-то посильнее. Он пообещал оставить бутылочку в аптеке Борделона. Спасибо Господу за Бо. Пусть он детский доктор, но никогда не отказывал мне в помощи.
Мне было двадцать девять, почти тридцать. Я не могла свободно дышать. Давили грехи. Душили, как чья-то жесткая ладонь.
Я потуже закуталась в пальто от Живанши.
— Отец, я виню себя в дурных мыслях по отношению к моей семье.
— Были ли эти мысли нечисты?
— Нет, отец.
— Ты питаешь ненависть к мужу?
— Да, отец. И к детям.
— И сколько раз у тебя возникали мысли о ненависти к любимым?
— Не знаю, отец. Не сосчитать.
— И каковы же эти дурные мысли?
Я понимала, что придется все ему сказать. Он священник, представитель Бога на земле. Я обязана признаться во всех своих грехах. Тогда, может, смогу есть. Тогда, может, смогу спать.
Мои ладони чесались. Зуд пробирался даже под кожу. Я с силой вонзила ногти в ладонь. Я не хотела открывать свои потаенные мысли этому священнику. Не доверяла идущему от него запаху тушеной капусты.
Но мне требовалось отпущение. Молитва, которая вернула бы меня в мой крохотный дом и не позволила убить четверых милых деток.
— В мыслях, — прошептала я, — мне хочется бросить детей и до полусмерти избить мужа. Хочется убежать. Хочется, чтобы меня не трогали. Хочется быть знаменитой.
— Достаточно ли у тебя мужества, чтобы приносить жертвы?
— Да, отец.
— Имеешь ли ты необходимые здоровье и возможности, чтобы выполнять обязанности жены и матери?
— Да, отец.
— Что ж, — начал он, поерзав на стуле, — семейная жизнь — дорога, проходящая через горы и холмы. Принеся брачные обеты, ты вступила в жизнь, связанную с долгом и обязанностями. Необходимо усвоить драгоценные уроки терпения и смирения из бесконечной скорби Пресвятой Девы Марии, матери нашего Блаженного Создателя. Попроси ее научить тебя молча, терпеливо нести свой крест, в полном послушании воле Господней. Мы пришли в этот мир, чтобы страдать. Только через страдания можно достичь счастья, слава приходит через унижения. Твоя главная обязанность — жить с мужем в любви, согласии и верности и растить детей в католической вере. Дурные мысли должно изгонять.
— Но, отец, что, если ничего не получается? — спросила я.
— Значит, ты совершаешь грех неверия в страсти искупителя своего. Придется тебе покаяться. Налагаю на тебя епитимью: три раза прочтешь «Отче наш» и семь — «Аве Мария», медленно перечисляя каждую из семи скорбей Марии. А теперь силой Господней, данной мне, я даю тебе отпущение грехов во имя Отца, Сына и Святого Духа. Иди с миром и не греши.
Я вышла из церкви и села в машину. И по-прежнему пахла своими детьми. Пришлось закурить. Следует покаяться, если хочешь заслужить прощение.
В машине было холодно. Я снова закуталась в пальто от Живанши. Снова закурила.
И долго смотрела на бархатную коробочку, где лежало кольцо. Подарок на шестнадцатилетие. Шеп не имел никакого отношения к этому кольцу. Оно принадлежало мне. Память об отце. Я могла брать в магазинах все, что угодно, за счет Шепа. Денег у меня никогда не было. И счета в банке тоже. У меня не было ничего своего, кроме этого кольца.
Пятьсот долларов. Оценщик в «Лаки пон» просто отдал мне деньги. И не захотел знать, откуда у меня это кольцо.
— Мне не нужны ваши истории, леди, — сказал он. — Мне нужен только ваш заклад.
Судя по карте, Мексиканский залив был довольно близко. Но это только так казалось. На самом деле пришлось ехать куда дольше, чем я ожидала. Я все прибавляла скорость. Наверное, с этим «фордом» еще никогда так не обращались.
Старый седан появился у меня после второго ребенка. И выбирала я его не сама. Он просто появился на подъездной аллее вместе с запиской от Шепа. Предполагалось, что я должна благодарить за это. Разве муж не запомнил мой джип? Не запомнил, что именно я была королевой дороги, мчавшейся вместе с я-я сквозь ночь: босая нога тяжело давит на педаль, ногти на ногах такие же ярко-красные, как индикаторы на приборной доске?
Никто не знал, где я. Даже я-я. Уеду куда-нибудь и начну новую жизнь, без друзей и знакомых, где я не известна ни одной душе. Оставлю мужа, детей, мать, старого пердуна священника и даже лучших подруг. Начну жизнь с новой страницы и попытаюсь понять, что ждет впереди. Поищу Виви Эббот, без вести пропавшую.
Я не останавливалась, пока не добралась до Мексиканского залива. И встала на берегу. Впереди ничего, кроме воды, до самого горизонта. До самой Мексики. Воздух был чист. Я оставила засранные пеленки в Луизиане. Впереди ничего, кроме воды. Дул ветер, моросил мелкий дождь, но я жаждала урагана. Я женщина, любящая ураганы. Они сразу поднимают настроение. Хочется есть свежие устрицы на половинке раковины и вести себя как неряха и потаскушка.
Я подалась всем телом навстречу ветру и шагнула к воде. Не из тех я женщин, которые сбрасывают пальто и, сдавшись, бросаются в волны. Но такая мысль пришла мне в голову.
Я думала о том чудесном, замечательном путешествии к тому же заливу вместе с я-я. Когда это было? В сорок втором? Сорок третьем? Мы примчались сюда сами. Одни. Без взрослых. Джек и вся остальная компания подъехали позже. Переночевали в пляжном домике родителей Каро, проснулись утром, натянули купальники и побежали на берег.
Я поблагодарила Бога за то, что берег остался на месте. Что вода все еще ярится. Что кричат одни только чайки. Ни детской рвоты, ни ненасытных ртов.
Я гуляла и гуляла, час за часом, и ни на секунду не соскучилась по детям.
— Дайте мне лучший номер, — велела я портье отеля «Побережье залива». — С видом на воду.
Почтовые открытки в маленьком держателе на стойке гласили: «Любуйтесь красотой и величием побережья залива. В тропическом саду на побережье».
Я записалась как Бебе Дидриксон[67]. Портье только кивнул. Идиот! Мне следовало назваться Грейс Келли!
— Пусть пришлют в номер бурбон и простую воду. Двойной. Вашу лучшую марку.
Первое, что я сделала, — напустила в ванну горячей воды и легла в воду со стаканом в руках. И встала, только когда руки перестали пахнуть детским дерьмом. Вытерлась мягким белым полотенцем, намазалась лосьоном. Натянула пальто, накрасила губы, спустилась вниз, пытаясь не чесаться на людях.
Окна обеденного зала выходили на залив. Я уселась и положила на колени льняную салфетку. Заказала бурбон с водой и быстро выпила. И ощутила, как расслабились плечи.
Заказала третью порцию, а когда стакан опустел, в желудке стало легко. Но я по-прежнему чесалась.
Попросила принести дюжину устриц и съела с соусом, острым как черт, с дополнительной порцией табаско. У меня нет детей. Я королева собственной суверенной нации.
К столу подошел какой-то джентльмен. На висках седина, внешность не слишком противная, но мне не понравились его туфли. Стандартная дешевка.
— Простите, — начал он, — не мог не заметить, что сегодня вы одна.
Посмотрев ему прямо в глаза, я ответила с сильным британским акцентом:
— Работаю над статьей для лондонской «Таймс».
— Вам заказали статью о Мексиканском заливе? — почтительно спросил он.
— Да, но это между нами.
— Какая жалость, — вздохнул мужчина. — Такая красотка, и одна.
— Что поделаешь, — бросила я. Мужчина отошел.
Я прикончила устрицы, доела салат и заказала хлебный пудинг на десерт.
— Мы славимся своими пудингами, — сообщил официант.
— Прелестно. И стаканчик бренди на ночь, будьте добры.
Я сидела за столом, и дышалось мне легко. Ничто не сдавливало талию. Следовало бы все время так одеваться. И не стоило резать пояса для подвязок картофелечисткой. Живот был полон и округлился, и еще очень хотелось спать.
Меня разбудил собственный плач.
Во рту стоял вкус и запах бананов и арахисового масла. Любимая еда во время летних поездок на побережье. Ниси, Тинси, Каро и я сидим на берегу и едим намазанные арахисовым маслом бананы. Мягкость и сладость фрукта, привкус ореха, карамельный цвет масла на бледной плоти бананов. Солнце на коже, пальцы ног зарылись в песок, звуки нашего смеха. Приезд Джека. Кручу «колесо», взбираюсь на его плечи, и мы бежим в воду. Мое гибкое тело в постоянном движении. Ем, когда голодна, сплю, когда устану. Целуюсь, когда хочу. Мне никогда-никогда не приходится ни о чем просить.
* * *
Я включила свет в номере и закурила. Открыла окно и услышала залив. Холодный ветер ударил в лицо. Потушила сигарету и отправилась в ванную. Включила отопление на полную мощь, встала перед зеркалом и оглядела свое тело. Это мое тело.
Не плачь. Кому нужны женщины с мешками под глазами?
Но слезы все лились. Мои груди никогда больше не будут упругими.
Я не кормила детей грудью. Никто, кроме цветных, не кормил своих детей грудью. Шли пятидесятые годы. Я думала, что буду сама кормить близнецов. Я хотела сама кормить близнецов грудью. Но когда мой ребенок умер, молоко пропало. Пересохло.
Я тоже пересохла. И не могла вернуться в дом, полный голодных ртов. Начну все заново, в новом городе, устроюсь в местную газету. Люди иногда делают и не такое. Начинают жизнь сначала.
Я обняла себя за талию. Нужно удержать себя. Удержать свое тело, чтобы не пересохнуть. Чтобы тебя не сдул ветер.
Даже в постели я продолжала держать себя. Пыталась сосредоточиться на запахе соленого воздуха, проникавшего через открытое окно.
— Императрица небес, — молилась я, — милостивая госпожа Поющих Людей, пошли мне знак. Иначе я буду ехать, пока не кончатся деньги, а потом остановлюсь и буду вести рубрику новостей в каком-нибудь захолустном городишке. Сладостная Дева, носившая Божественного Сына, подай мне сигнал.
Во сне ко мне пришел мой умерший мальчик, мой драгоценный и навсегда потерянный, чье тело оказалось недостаточно крепким, чтобы остаться на этой земле. Он лежал на руках у Мелинды, облаченной в голубые одеяния и корону. Увидев меня, она улыбнулась и осторожно поставила мое дитя на землю. Он был совсем крошечный, но твердо стоял обеими ножками. Потом вздохнул, оглядел меня и запел. Ни аккомпанемента, ни музыки, только чистый, высокий голос-колокольчик, поющий колыбельную, странным образом переплетенную с любовной песней.
Сумерки спускаются В сонный садик мой, Звезды загораются В тишине ночной. И тогда на память мне Вновь приходишь ты, Имя мое шепчешь, Пробудив мечты. Лишь глаза открою, Рядом нет тебя. Где любовь земная? Далеко ушла. Но пока живу я, Мы, любимый мой, Здесь, в вечерних грезах, Встретимся с тобой.Закончив волшебную песню, мой погибший мальчик шагнул ко мне и протянул ручонки. Я нагнулась и подняла его. Мы снова обменялись взглядами. Спокойными и твердыми. Я на секунду прижала его к груди и поняла, что все мои желания исполнились. Чуть погодя он сполз на землю и стал удаляться. Но перед тем как исчезнуть окончательно, повернулся и сказал громко и отчетливо:
— Проснись.
Я подчинилась.
Я проснулась и подошла к окну. За окном было светло, а тело казалось отдохнувшим и голодным. Зуд прекратился. Соски были розовыми, как у девочки.
Подняв трубку, я сказала:
— Доброе утро. Обслуживание номеров? Будьте добры принести два яйца-пашот, бисквиты и свиную грудинку. Большой стакан апельсинового сока и кофе. Да… и какой сегодня день?
— Пятница, мэм.
Сколько же я проспала?
«Проснись», — велел ребенок.
Я подняла с пола пальто и сунула руку в карман. На карточке было написано: «Ломбард «Лаки пон». Фултонвилл, Луизиана. Телефон 32427».
Я подняла трубку:
— Портье? Не соедините с междугородной? Спасибо, мивый.
— Это Виви Эббот, — сказала я оценщику. — Мое бриллиантовое кольцо все еще у вас? Я продала его за пятьсот долларов.
— Да, леди, вещь все еще у нас.
— Это не вещь, а кольцо с бриллиантами в двадцать четыре карата. Подарок моего отца, адвоката Тейлора Эббота.
— Послушайте, леди, я не желаю знать, откуда берется мой товар…
— О, заткнитесь и слушайте. Не смейте продавать кольцо. Я вернусь за ним.
— Но теперь оно мое, — возразил жлоб. — И если кто-то предложит хорошую цену, оно уйдет.
— Так вот: только попробуйте продать кольцо, и я дам показания, что вы его у меня украли. Потащу вашу задницу в суд так быстро, что оглянуться не успеете. Я знаю городского судью. И не только его. Ясно?
Наконец жлоб сдался.
— Не нужны мне неприятности, — пробурчал он. — У меня чистый бизнес. Когда хотите забрать свою вещь?
— Завтра. Может, послезавтра. Подержите кольцо до моего приезда.
— Только до конца этого дня, так что не морочьте мне голову, леди. И не тратьте мое время зря. У меня дела.
И он отключился.
Мне тридцать один год. Я все еще жива. Соберу и склею все, что от меня еще осталось, и спрячу в овощном погребе. И выну на свет божий, когда мои дети вырастут. Мой умерший мальчик подал мне знак.
Жизнь коротка, но широка. Так сказала мне Женевьева.
«Когда я вернусь домой, — думала я, — отдам Вилетте пальто от Живанши. Оно свою службу сослужило. Вилетта достойна роскошного кремового кашемира. Она достойна чертовой норки! Когда я вернусь домой, станцую чечетку для Сидды, Малыша Шепа, Лулу и Бейлора, накормлю их бананами с арахисовым маслом, и мы поговорим о лете. Поговорим о Спринг-Крик, где солнце так сильно греет сосновые иглы, что, когда наступаешь на них, с земли поднимается благоухание, пряное и острое, и хочется сгрести их и насовать под одежду, чтобы пахнуть сосной. Я буду кататься по чистому ковру со своими детишками, щекотать им спинки и расскажу истории о плавании по бурному морю в лодке, которую построила сама. Мы будем играть в Колумба и путешествовать вместе в неизведанные земли. Когда я вернусь домой, вышвырну чертов «форд»-седан и любой ценой добуду новый «тандерберд». Когда я вернусь домой, обниму своих детишек. Обниму мужчину, за которого вышла замуж. Я сделаю все возможное, чтобы благодарить за подарки в странной, прекрасной, мучительной обертке.
26
Сказать, что Сидда просто растерялась при виде трех я-я, подъезжающих к «Куино-лодж» в открытом кабриолете «крайслер лебарон», было бы огромным преуменьшением. Она только что вышла из вестибюля, где разговаривала по телефону со своим психоаналитиком в Нью-Йорке. Пересказав таинственные сны, проанализировав свои чувства и отношение к браку своей матери, вопросам, на которые нет ответа, она ушла в свой внутренний мир и сейчас просто не была готова оглушить себя видом, звуками и запахами Каро, Тинси и Ниси.
На всех были темные очки. Ниси и Тинси в шляпах. На коротких серебристых волосах Каро лихо сидела бейсболка с эмблемой «Новоорлеанских святых»[68]. Тинси нарядилась в черные полотняные слаксы с белоснежной льняной блузкой и босоножки от Робера Клержери, стоившие, вероятно, дороже билета на самолет из Луизианы. Ниси была одета в светло-голубую с белыми полосками юбку и блузку и выглядела истинной «Толбот»[69]. В противоположность ей Каро, в своих брюках хаки и белой рубашке, могла бы служить рекламой магазина «Гэп»[70].
На заднем сиденье кабриолета громоздился багаж, какой редко увидишь в лесных гостиницах запада Соединенных Штатов. Обычно подобные вещи соотносят с южанками, свидетельницами давно прошедших дней, убежденными в своем долге обеспечить швейцару и носильщику хорошую жизнь и считающих невозможным собраться в путь, не захватив к каждому наряду обувь в тон.
Сидда на несколько мгновений потеряла дар речи и могла только стоять и таращиться на эту красочную сцену. Двое молодых велосипедистов успели остановиться и спросить у Тинси, не нужно ли помочь ей с багажом. Ниси уже болтала с мамашей, державшей новорожденного в «кенгурушке». Каро исследовала дождемер, встроенный в тотемный столб. Сидда изумленно покачала головой, наблюдая легкость, с которой женщины общались с совершенно незнакомыми людьми. Позже, встретившись с ними еще раз, я-я будут приветствовать их как старых друзей.
Подойдя к машине, Сидда сняла темные очки.
— Извините, я нигде не могла вас видеть?
— Mon Dieu! — воскликнула Тинси и наскоро распрощалась с велосипедистами, объяснив: — Прошу прощения, мальчики, вот причина, по которой я здесь.
С этими словами она крепко обняла Сидду и передала в более нежные руки Ниси. Каро сжала плечи Сидды, посмотрела в глаза и тоже обняла.
— Прекрасна, как всегда, — заметила Тинси.
— Но ужасно худая! — упрекнула Ниси.
— Выглядишь совсем неплохо для женщины, поверженной кризисом среднего возраста, — заключила Каро.
— Полагаю, вы случайно проезжали мимо и решили заглянуть? — осведомилась Сидда, придя наконец в себя.
— Совершенно верно! — засмеялась Тинси. — Поскольку все равно пришлось покинуть дом…
— Не хочу показаться грубой, но что все вы тут делаете? — не унималась Сидда.
— Мы здесь, — пояснила Ниси, забирая с заднего сиденья белый с красным переносной холодильник, — с дипломатической миссией я-я.
— Сейчас на Тихоокеанском побережье четыре часа дня. Моя мать знает, где все вы?
— Более-менее, — пробормотала Тинси.
— В душе твоя мать знает все, — заверила Каро.
Заполнив карточки, я-я пересекли старомодно обставленный вестибюль и направились в свой номер. За ними следовал озадаченный подросток с горой чемоданов. Каро на всякий случай привезла также кислородную подушку. Оставив их разбирать вещи и приводить себя в порядок, Сидда спустилась в бар за напитками, которые они уже успели потребовать.
Пришлось терпеливо объяснять женщине за стойкой, как смешивать «Джин риске» для Тинси и «Бетти Мурс виски» для Ниси. К счастью, Каро заказала всего лишь «Гленливет» с содовой.
— У меня не слишком часто просят напитки с засахаренными кумкватами, — сухо объяснила барменша. — Это, случайно, не для трех старых перечниц, подкативших в кабриолете?
— Как вы догадались? — улыбнулась Сидда.
— Какие-то древние кинозвезды или как?
— Нет. Они я-я.
— Простите?
— Крестные-феи, — пояснила Сидда.
— Да ну? — вздохнула барменша. — Мне всегда хотелось такую.
Войдя в номер, Сидда обнаружила Ниси и Тинси лежащими на кровати с задранными на подушки ногами. Каро стояла у окна, глядя на спускавшийся к озеру газон.
— Ужин у тебя через полтора часа? — спросила Тинси.
— Закуски принесем с собой, разумеется, — вторила Ниси.
— Конечно! — согласилась Сидда. — Но разве все вы не устали?
— Подремать с полчасика — вот все, что мне нужно, — заявила Тинси.
— Не могу поверить, что вы еще держитесь на ногах! Я просто падаю, когда приходится лететь через всю страну!
— О Господи! — отмахнулась Ниси. — Мы прилетели не сегодня! Уже вчера были в Сиэтле! Каро сняла нам люкс в гостинице, и мы чудесно поужинали в «Кемпейне».
— Прямо во дворе, — добавила Тирси. — Изумительный паштет из гусиной печенки!
— Спали допоздна, — вторила Каро. — Дважды останавливались по пути к полуострову. И, будь воля Ниси, остановились бы четыре раза. Удобная машина.
— Не совсем того типа, какой мы бы предпочли водить дома, — оговорилась Тинси, делая первый глоток, — но сойдет для прокатной.
— Как коктейли? — спросила Сидда.
— Мой «Джин риске» напоминает дождевой лес, — объявила Тинси, драматическим жестом обводя окно, словно призывая, деревья немедленно явиться.
— Мое шотландское виски — положительно часть экологической среды, — хмыкнула Каро.
Сидда расхохоталась. Она совсем забыла, что из всех секретов племени я-я самым божественным был юмор.
Позже, немного отдохнув, дамы нагрянули к Сидде в кабриолете. Сидда поняла, кто приехал, просто потому, что никто другой в мире не стал бы так отчаянно жать на клаксон. Женщины выбрались из машины, неся две бутылки с вином, купленные в гостинице, и тот переносной холодильник, который она приметила раньше.
— Поставь плитку на триста пятьдесят и сунь в духовку, — велела Ниси, вынимая из холодильника высокий противень.
— Что там? — поинтересовалась Сидда.
— Крабовое этуфе твоей мамы, из тех лангустов, что выращивает в Пекан-Гроув твой папа, и сакоташ[71] из его же кукурузы, — ответила Ниси.
— Мама послала это мне? — не поверила Сидда.
— Ну… не то чтобы тебе… так прямо она не говорила, — усмехнулась Тинси, — но принесла его в день вылета. А на записке стояло «Сиэтл».
Взяв в рот первый кусочек, Сидда живо представила мать на кухне Пекан-Гроув. Увидела, как та топит масло в большой чугунной сковороде и медленно помешивает в нем муку, пока она не приобретает коричневатый оттенок. Ощутила запах лука, сельдерея и зеленых перцев, увидела, как блюдо меняет цвет, когда Виви добавляет мясо лангустов, свежую петрушку, кайенский перец и щедрую порцию неизменного табаско. С каждым глотком Сидда ощущала вкус родины и материнской любви.
Помедлив, чтобы вытереть слезы, Сидда объяснила:
— Так много острых приправ, что глаза слезятся.
— Верно, — согласилась Тинси.
— Табаско и кайенский перец у кого хочешь слезу вышибут, — кивнула Каро.
После ужина все они погуляли по берегу озера, выбрав тропинку, ведущую на юг, вдоль пробитой в горах дороги. Прозрачные красные ягоды гейлюссакии висели крохотными елочными шарами на близлежащих кустах, а листья березки-вьюнка уже светились оранжевым. Последние лучи заходящего солнца еще отражались в озерной воде, но на небо уже поднималась луна, казавшаяся кремовой на фоне голубого, как веджвудский фарфор, неба. Женщины остановились, пытаясь вобрать в себя окружающую красоту.
— Никогда прежде такого не видела, — вздохнула Каро. — Солнечный закат и лунный восход. Должно быть, какое-то знамение.
Вернувшись в домик, уже купавшийся в голубоватом сумеречном свечении, Ниси вынула из сумки фунт жареного молотого кофе «Коммьюнити френч».
— Кто хочет кофе? — осведомилась она, ставя чайник на плиту.
И, словно одного луизианского кофе было недостаточно, выложила на тарелку пирожные.
— Попробуй пекановое пирожное, солнышко, — предложила она Сидде, протягивая тарелку.
— Господи, Ниси, — ахнула Сидда, — а это еще откуда?
— Привезла с собой.
— Это тоже мама испекла?
— О нет. Это испекла я. Твоя мама на милю не подойдет к сладостям. Поэтому все еще носит восьмой размер, а я едва влезаю в двенадцатый.
Каро, просмотрев коллекцию компакт-дисков, поставила Ицхака Перлмана[72], игравшего старые джазовые стандарты вместе с Оскаром Питерсоном.
Тинси и Ниси прекрасно устроились на диване, Каро заняла кресло. Хьюэлин вскарабкалась на колени Тинси и довольно смотрела на Сидду, как бы говоря: «Вот видишь, нам следовало бы почаще приглашать гостей». Сидда выдвинула стул и уселась так, чтобы видеть всех трех женщин.
Крепкий кофе и греховно-вкусные пирожные с пьянящим сочетанием темного кукурузного сиропа, орехов и сахарной пудры вызвали счастливый гул во всем теле Сидды.
— Они восхитительны, но мне лучше не злоупотреблять, иначе всю ночь не сомкну глаз.
— Итак, — небрежно бросила Тинси, — где ты хранишь «Секреты»?
— Прошу прошения? — растерялась Сидда.
— Альбом «Божественных секретов», дорогая. Давай взглянем вместе.
Стоило Сидде показаться в дверях гостиной с альбомом в руках, как разговор мгновенно смолк. Сидда отдала Тинси альбом, пристально наблюдая за реакцией женщин.
Наскоро просмотрев каждую страницу, Тинси заметила:
— Да, ничего не скажешь, сюда много всего попало.
— А не попало еще больше, — возразила Каро.
Сидда закрыла альбом и положила на журнальный столик.
— Сидда, — вступила Ниси, — Каро сказала, что у тебя накопились вопросы.
— Да, мэм, — вежливо кивнула Сидда, словно во мгновение ока вновь стала маленькой девочкой и вспомнила усвоенные едва ли не в пеленках манеры.
— Сидда, пожалуйста, — упрекнула Каро, — откуда ты взяла эти «да, мэм»?! Давно бы пора забыть! Другие времена, другие обычаи.
— Сама не знаю, как вырвалось, — нервно хихикнула Сидда.
Тинси, посмотрев на подруг, взялась за сумку из желтой соломки.
— Господи, Тинси! Неужели у вас еще остались очередные луизианские сюрпризы?
— Ну… — протянула Тинси, извлекая большой конверт из оберточной бумаги, — что-то в этом роде. Каро сказала, что ты спрашивала о том времени, когда твоя мама заболела и уехала.
Сидда задохнулась.
— Тут письма, которые ты приносила мне много лет назад, когда была совсем девочкой. Просила передать их маме, — пояснила Тинси и, глубоко вздохнув, призналась: — Только я так ничего и не передала. Там же письма твоей мамы, которые мы берегли все эти годы.
— Мы хотели послать их по почте, — вторила Ниси. — Но это было как-то… неправильно, что ли. Не знаю, молишься ли ты святым, а вот я молюсь святому Франциску Патризийскому…
— Святому Фрэнку Патризийскому, — перебила Каро. — Не Фрэнки Ассизскому.
— Он святой покровитель прощения и примирения, — продолжала Ниси как ни в чем не бывало. — И нам показалось, что будет лучше, если мы будем с тобой во время прочтения этих писем…
— Спасибо. Жду не дождусь, когда будет можно их прочесть.
— Почему бы не сейчас, подруга? — удивилась Каро вставая. — Ложись и читай, пока мы моем посуду.
— О нет, — запротестовала Сидда. — Я не могу вам этого позволить. Сама все приберу после вашего ухода. Мало того что вы все привезли с собой, так еще и мытье посуды на вас взваливать? Нехорошо.
— Мы настаиваем, — сказала Ниси. — Хороший гость всегда помогает убирать за собой.
— Но разве все вы не устали?
— Ни чуточки, — заверила Тинси. — Мало того, у меня сна ни в одном глазу.
— И у меня тоже, — поддакнула Ниси. — Да и разница с домом на два часа. Это там уже спать пора.
— В это время я только встаю, — усмехнулась Каро. — Не торопись. Читай сколько потребуется. Мы никуда не уходим.
Пока я-я убирали со стола, Сидда лежала на диване, подложив под голову подушку, и изучала содержимое конверта. Всего там было две связки писем. В первой содержались только неотправленные, написанные детской рукой. Сидда не сразу поняла, что это ее собственный почерк. Все адресованы «миссис Шеп Уокер». Ни дома, ни улицы. Смещенное вбок имя, казалось, беспомощно висит в пространстве, без опоры в виде координат. При виде пустого места, где должен был находиться адрес, у Сидды стиснуло внутренности. Сама того не сознавая, она подтянула колени к подбородку, сразу став меньше, и развернула первое письмо.
«2 апреля 1963 г.
Дорогая мама. Никто не дает мне твой адрес. Тинси сказала, что сама отправит мои письма, и, надеюсь, так оно и будет. Мама, прости за то, что мы плохо себя вели и расстроили тебя. Багги говорит, ты не смогла вынести всех нас сразу. И велела писать только радостные письма. Пожалуйста, выздоравливай поскорее.
Я присматриваю за остальными.
В воскресенье мы ночевали у Багги. Потом приехала Ниси и забрала меня и Лулу. Малыш Шеп и Бейлор отправились к Каро. Я бы хотела пожить у Тинси и Чака и поплавать в их бассейне.
Я спросила у Ниси, где ты, и она сказала, что тебя нет в городе и что ты болеешь, но скоро поправишься. Ты в больнице, мама? Или гостишь у друзей? Я смотрела по телевизору «Маленьких проказников» и «Супермена», а потом мы с Лулу играли нашими Барби с Мелиссой и Энни. И ночевали в гостевой комнате Ниси, той, что на чердаке. Мне ужасно жаль. Я скоро еще напишу. Пожалуйста, ответь мне и приезжай домой побыстрее.
С любовью,
Сидда».
Сидда закрыла глаза. Воскресный вечер. Зима. Третий или четвертый класс. Ковбойский ремень отца в руке матери. Серебряный кончик, впивающийся в кожу раз за разом. Ее отчаянные попытки защитить других детей. Удары, оставляющие рубцы на бедрах и спине. Жаркое безумие; бред Виви об аде, о вечном огне. Стыд и унижение описавшейся Сидды; ее охрипший от криков голос. И, превыше всего, уверенность в том, что только она могла воспрепятствовать всему случившемуся.
Эти картины не были для Сидды внове. Ее тело слишком хорошо их помнило. Ничто: ни расстояние, ни карьера, ни Коннор, ни предположение психоаналитика, что с Виви случился нервный срыв, — не могло лишить ее уверенности в собственной вине. В том, что только она стала причиной воскресного наказания.
Затерянная в воспоминаниях, Сидда резко дернулась, когда Ниси набросила на нее легкое хлопчатобумажное покрывало. Открыв глаза, она встретилась с сочувственным взглядом Ниси, но, ничего не сказав, продолжала читать.
«12 апреля 1943 г.
Страстная пятница
Дорогая мама!
Сегодня к нам пришла Вилетта, и угадай, что было? Она принесла нам Лаки, нашего хомяка, который все это время жил в доме один, без нас. Сказала, что ему очень одиноко. Вилетта кормила его каждый день, но он скучал по нас!!! И теперь мы все вместе живем у Тинси. Он целый день бегает в своем колесе как заведенный. Видела бы ты его. Он тоскует по тебе.
Я жду от тебя письма. Тинси сказала, что оно, наверное, скоро придет. Она водила меня в кино. Только меня одну, больше никого.
Я молилась за тебя в «Остановках Христа». Этот пост ужасно долгий. Просто не верится, что это всего сорок дней. До Пасхи всего один день, и потом я снова смогу есть конфеты. Я соблюдаю свой обет весь пост не есть «М&М». Пожалуйста, приезжай к воскресенью, хорошо?
Тинси купила пасхальные платьица мне и Лулу. Дядя Чак ужасно смешной: пообещал устроить охоту на пасхальные яйца и пригласить тебя. Мы с Ширли выкрасили сто тысяч яиц. Вчера я позвонила Вилетте, и она сказала, что в Пекан-Гроув все в порядке. Не понимаю, почему мы не можем жить дома с папой. Все плохо, потому что там нет тебя.
Увидимся в воскресенье, хорошо?
Любящая тебя
Сидда».
«Пасхальное воскресенье
14 апреля 1963 г.
Дорогая мама!
Мы все разоделись и к 10.30 пошли на мессу, а потом вернулись к Тинси. Пришли Ниси, Каро и все остальные и устроили обед. Вилетта с Чейни, Руби и Перл специально приехали, чтобы привезти пасхальный пирог. На Вилетте была большая желтая шляпа с цветами. Папа тоже приехал и подбросил меня в воздух. Я все время спрашивала про тебя, но он велел мне замолчать и идти играть с другими детьми. Мы искали яйца в высокой траве, на газоне, клумбах и в горшках с цветами вокруг бассейна. Бейлор нашел золотое яйцо и получил большого плюшевого зайца. Всем нам тоже дали призы.
Взрослые пили у бассейна, а когда папа хотел уехать, Лулу укусила его за ногу. И весь праздник кончился. Папа сказал: «Пропади все пропадом», — и заплакал, мама.
И все равно остался, и ел с Тинси и Чаком сандвичи со свининой и смотрел Эда Салливана[73]. A потом уехал. Не знаю куда.
МНЕ НИКТО НЕ ГОВОРИТ, КОГДА ТЫ ПРИЕДЕШЬ. Я ужасно разозлилась. Села на колени Каро и сочиняла истории про людей в шоу Эда Салливана. Я не хотела говорить про людей в шоу Эда Салливана. Ненавижу Эда Салливана. Ненавижу всех.
Сиддали Уокер».
«23 мая 1963 г.
Дорогая мама!
Теперь мы все живем у Ниси. Пожалуйста, приезжай и забери нас. В доме Ниси слишком шумно. Теперь тут одиннадцать детей, и у меня нет своей комнаты.
Тебе нужно приехать побыстрее, о’кей? Лулу снова жует свои волосы, и я не могу ничего поделать. Мальчики очень по тебе скучают. Малыш Шеп подрался. Разбил нос Джеффу Лемойну, и монахини наказали его и заставили Каро взять его из школы. Лулу не хочет носить свою школьную форму, и даже Ниси не может ее заставить. А Бейлор снова дурачится, мама. Болтает невесть что, плюется и ведет себя как младенец. Сама видишь, нужно срочно возвращаться, о’кей? Мы скучаем по тебе. Я так хорошо веду себя, что ты даже меня не узнаешь. Возвращайся! Не поверишь, какими мы стали милыми. Прости, что рассердили тебя и ты из-за нас заболела. Тебе весело без нас? Потому что нам совсем невесело. Когда вернешься, увидишь, как мы переменились. Нет, правда! Спроси папу или я-я. Пожалуйста, мама.
Твоя любящая старшая дочь Сиддали Уокер.
P.S. Перед Пасхой нам выдали табели. У меня все пятерки (кроме поведения). Я лучшая в классе!»
«6 июня 1963 г.
Дорогая мама!
Ты не написала мне. Я думала, ты напишешь. По-моему, нехорошо, что ты уехала и не написала мне. Больше я не напишу тебе ни одного письма. Начались каникулы, а тебя нет. Я тебя ненавижу.
Сидда».
«7 июня 1963 г.
Дорогая мама!
Прости за последнее письмо. И за все прости. Мы по тебе скучаем и хотим, чтобы ты вернулась. Я стала такой хорошей, мама, что ты меня не узнаешь! Пожалуйста, приезжай. О’кей? Ниси собирается везти нас на Спринг-Крик, но я не хочу ехать без тебя. Сделай вид, будто того моего письма вообще не было, о’кей?
Я тебя люблю. Твоя любящая дочь
Сиддали».
Сидда вложила в конверт последнее письмо. Ей было душно. Голова кружилась, горло перехватывало от гнева на я-я, так бесцеремонно напомнивших о прошлом.
Но я сама напросилась.
Она села и огляделась. Я-я сидели за столом. До Сидды вдруг дошло, что она, возможно, еще никогда не видела их такими молчаливыми. Ниси вязала, Тинси играла в солитер. Каро увлеченно работала над обнаруженным в кухонном шкафу паззлом.
«Они несут вахту», — подумала Сидда, и в этот момент Тинси подняла голову:
— Ну как ты, cher?
Сидда кивнула.
— Крикни, если что-то понадобится.
— Хочешь пекановое пирожное? — спросила Ниси.
— Нет, спасибо, — отказалась Сидда. — Я не посмею.
— Представляете, — сказала Каро, поднимая голову, — если снять очки, так чтобы перед глазами все плыло, легче подбирать части паззла.
Сидде вдруг стало легче от их присутствия. До сих пор она не понимала, насколько одинока.
Она потянулась ко второй связке. Там было только три конверта, адресованные каждой из я-я и надписанные рукой Виви. Конверты от Крейна даже через тридцать лет все еще оставались мягкими и нисколько не выцвели. Открыв первый конверт, Сидда увидела, что само письмо не написано от руки, а напечатано на дешевой бумаге, слегка пожелтевшей по краям. Но буквы по-прежнему оставались четкими и словно бросались в глаза. Зудящими от волнения пальцами Сидда развернула письмо.
«11 июля 1963 г.
2.30 дня. Мой девятый день дома.
Тинси, крошка!
Единственная добрая душа, которую я могла выносить в больнице, которую никто не называл больницей, сказала, что мне полезно писать о своих чувствах, поскольку, похоже, впервые в жизни я не в силах высказаться. Поэтому Шеп потрудился и добыл с чердака мою старую «Оливетти». По крайней мере не придется различать мой не слишком разборчивый почерк.
Тинси, последнее время я не могу укладывать детей. Не могу держать их, обнимать, видеть, как они чистят зубы. Я боюсь позволить себе приблизиться к ним. Разве что когда они спят.
Дожидаюсь, когда все стихнет, и на цыпочках крадусь в их комнаты. Сначала в спальни мальчиков, с их пряным запахом маленьких мужчин и кожаными бейсбольными перчатками, свисающими с кроватных столбиков. Наклоняюсь над кроваткой Малыша Шепа. Мой свирепый маленький воин. Он спит крепко. Играет самозабвенно, спит крепко, делает все с размахом. А потом я долго смотрю на своего крошку Бейлора. О, Тинси, он по-прежнему спит, свернувшись калачиком.
И только потом иду в комнату девочек. Стоит переступить порог, и сразу понимаешь, что здесь спят девочки, с их запахом пудры и «крейол»[74] и еще каким-то ароматом вроде ванильного. Лулу, как всегда, сбрасывает одеяла. Маленькая, пухленькая, милая моя крошка лежит на животе, в чудесной рубашке с желтыми розами, твоем подарке. Она ее очень любит. Вилетта с трудом вытряхивает ее из рубашки, чтобы выстирать.
И моя старшая. В те ночи, когда ее не мучают кошмары, Сидда подтягивает одеяла под подбородок. Одна подушка стиснута в левой руке. Правая закинута за голову. Эта красивая белая сорочка, которую ты подарила… где сумела найти такое совершенство? В ней она выглядит маленькой девочкой-поэтессой. А под рубашкой на лопатке шрам от моего удара. О Боже, ей пришлось хуже всех. Но она по-прежнему заботится о других, маленькая заботливая мама. Медсестра в больнице велела мне писать, даже если я плачу. Советовала продолжать писать в любом случае. И как это ты убедила ее пойти в кино, сидеть и пить колу и только изредка бегать в вестибюль звонить и проверять, как там дети. Да, и больше всего хочу поблагодарить тебя за сорочку Сидды, иногда напоминающую мне о том, что она совсем еще маленькая.
Мне приходится быть такой осторожной, Тинси.
Merci bien, merci beaucoup, mille merci, tata[75].
Виви».
Сидда отложила письмо и прижала руку к груди, чтобы успокоить дыхание.
Больше всего хочу поблагодарить тебя за сорочку Сидды, иногда напоминающую мне, что она совсем еще маленькая.
Сидде хотелось спрятаться. Но она встала и сделала вид, что потягивается.
— Что-то на диване не слишком удобно. Пойду в спальню.
— Хочешь побыть одна? — спросила Тинси голосом Гарбо.
— Да, — призналась Сидда. — Хочу.
— В таком случае мы пойдем за тобой, — заявила Каро.
— Верно, — поддакнула Ниси. — Куда ты, туда и мы.
Хьюэлин подняла голову и громко постучала хвостом по полу. Сидда неловко поежилась: ее бесцеремонно лишили обычного убежища, куда она забивалась каждый раз, когда боль становилась невыносимой.
— Ты слишком долго пробыла в этой глуши, — объявила Тинси. — Мы только что приехали. Хочешь, чтобы дома узнали, какой плохой хозяйкой ты оказалась?
Не забывай о хороших манерах.
— Разумеется, нет. Но могу я хотя бы в ванную пойти без сопровождения?
— Не можешь, — ухмыльнулась Тинси. Бросила карты, встала и прилипла к Сидде как смола, когда та попыталась направиться в ванную. Сидда укоризненно посмотрела на Тинси, и тогда та крепко ее обняла.
— Тебе нигде не спрятаться от племени я-я, — заключила Каро.
Невольно засмеявшись, Сидда поцеловала Тинси в щеку. А когда вернулась из ванной, дамы даже не подняли глаз. Сидда забралась под покрывало и вновь взялась за письма. Но прежде чем начать читать, осмотрела комнату, впитывая звуки и зрелища. Негромкие шлепки игральных карт о деревянный стол, шорох женского дыхания, тихое похрапывание Хьюэлин, крик гагары где-то на озерной тропинке. Сидда вобрала в себя все эти звуки, прежде чем вернуться к мрачному сезону поста, еще долго-долго продолжавшемуся после Пасхи.
Что там, в следующем письме?
«14 июля 1963 г.
Каро, мивочка…
Моя лучшая подруга… может, Впервые за всю нашу жизнь у меня не хватает слов, чтобы поблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня и моей банды. Почти три месяца заботилась о моих мальчиках (месяцы, ставшие для меня адом). Приглашала Шепа поужинать, каждый раз, когда он отыскивался. Ты одна из немногих, с которыми он чувствует себя достаточно свободно, чтобы связно излагать свои мысли. Когда я вернулась домой, он заявил: «Эта Каро — совсем не дерьмо».
Считай это наивысшей похвалой от человека, израсходовавшего свой запас комплиментов году этак в сорок седьмом.
Подруга, все как в тумане. Помню только, что ты стояла рядом со мной в каком-то коридоре больницы, которую никто не называет больницей. Помню, как держала мою руку. Шеп сказал, ты приехала первой после того, как я сделала то, что сделала, после того, как сделала то, за что никогда себя не прощу. После того, как сложила лапки и поддалась судьбе.
Вчера вечером Вилетта привела девочек и велела поцеловать на ночь. Когда они ушли, я помолилась о том, чтобы им повезло иметь такую подругу, как ты. Некоторые женщины молятся о счастливых браках для своих дочерей. Я молюсь о том, чтобы Сиддали и Лулу нашли подруг, хотя бы вполовину таких верных и преданных, как я-я.
Я думаю о тебе, Каро, когда ложусь в постель. Когда обхватываю себя за плечи и укачиваю, как сделала ты в первую ночь по возвращении домой.
Шеп, правда, иногда ворчит, но пока что просто поражает меня. Взять хотя бы выражения, в которых он просил меня провести с ним первую ночь. Думаю, он подозревает, что никогда не будет так необходим мне, как ты и остальные я-я. Приходится держать наших мужчин в неведении, иначе весь мир разлетится в осколки. Спроси хотя бы меня, я эксперт по распаданию на осколки. А ты — эксперт по содействию в склеивании этих осколков.
Я люблю тебя, Каро. Я люблю тебя, моя герцогиня Летающий Ястреб.
Твоя Виви».
Последнее письмо, как и подозревала Сидда, было адресовано Ниси.
«23 июля 1963 г.
Дорогая, дорогая Ниси!
Просто не знаю, как это тебе удается, графиня Поющее Облако. Мы все подшучиваем над твоими голубыми и розовыми мыслями, смеемся над твоей рассеянностью, и все же именно ты единственная из всех нас умудряешься оставаться собранной и делаешь это в высоком стиле.
Я не могу говорить о том, что произошло. Моя жизнь была корзинкой, и я ее уронила.
Ты была той, которая помогала моему миру вертеться, пока меня не было. Как ты сделала это? Десять тысяч баскетбольных матчей, и репетиции с церковными певчими, и собрания герл-скаутов и «брауниз», и визиты к зубным врачам, и бог знает что еще. Куколка, ты, должно быть, просто жила в микроавтобусе, работая таксистом не только для своих, но и для моих детей. Приняла девочек в свой и без того суматошный дом. Поселила в этой милой комнатке на чердаке, с большими окнами и кроватями под балдахинами. Кормила, не давала Лулу жевать волосы, слушала, как Сидда с утра до вечера упражняется на фортепьяно. Пресекала все попытки Багги «успокоить» моих детей. Твои новены, твои бесчисленные розарии[76]…
И Шеп. Вчера, когда дети спали, он поджарил мне бифштекс. Принес выпить, немного, и рассказал обо всем, что ты для него сделала. Он стыдится своего поведения… в те дни, когда меня отвезли в больницу, которую никто не называет больницей. Своего беспробудного пьянства. И как ты поехала в утиный лагерь, когда никто не смог его найти. Протрезвила его и отвезла в город. И не давала пить до самой охоты за пасхальными яйцами.
Дорогая девочка, в лице моего мужа ты обрела вечного почитателя. Пожалуйста, будь терпелива с ним, поскольку я уверена, что он выкажет свою благодарность самым нескладным образом. Но может, и все мы точно так же не умеем как следует выказывать благодарность.
Спасибо от всего моего неуклюжего сердца. Ты бесконечно дорога мне, и я твоя.
Благодарная Виви».
Несколько мгновений Сидда лежала не шевелясь. Потом аккуратно спрятала письма в большой конверт и положила на журнальный столик. Повернулась на живот и свесила голову с дивана, чтобы лучше видеть я-я.
— Эй, это я, — тихо сказала она. Женщины подняли головы.
И только тогда Сидда разрыдалась. Всхлипывая и шмыгая носом, она встала и с подушкой в руке подошла к столу. Волосы растрепались и прилипли ко лбу. Она казалась сонной, грустной и растерянной.
— Я передумала, — выговорила она между всхлипами. — Можно мне кофе и пекановых пирожных?
— Конечно! — воскликнула Ниси, ринувшись на кухню. — Я привезла сто тысяч пирожных.
Тинси убрала солитер в коробку и поднялась.
— Mon petit chou, иди сюда и садись. И неси свою подушку.
— Ну, подруга, как поживаешь? — спросила Каро. — Решила провести ночку с так называемыми взрослыми людьми?
— Я хочу знать правду, — твердо заявила Сидда.
— Мы не имеем дела с правдой, — отмахнулась Каро. — Зато я знаю кое-какие истории. Сойдет?
— Сойдет, — кивнула Сидда, вгрызаясь в протянутое Ниси пирожное. — На худой конец. Сойдет.
27
Каро на секунду прикрыла глаза, собираясь с силами. Открыла вновь и начала говорить.
— Все началось как раз перед Марди-Гра. Мы все решили бросить пить на время поста. Ниси приняла наш обет всерьез и оказалась единственной, кто стоял до конца. Я считала это испытанием воли. Тинси немного извратила смысл обета, решив, что он относится ко всем дням, кроме воскресенья. А вот твоя мама добавила к этому попустительству также любой день, когда мы окажемся за пределами округа Гарнет.
Так что, подруга, мы колесили по всему штату на машине Тинси. Побывали в Лафайете, Батон-Руже и даже Тайоге, и все для того, чтобы выпить без помех. Все, что угодно, лишь бы пересечь границу округа. И вот как-то в конце недели Тинси и твоя мама отправились в Марксвилл. Я бы тоже поехала, но у одного из мальчишек началась ангина. Они уехали утром в субботу. Заглянули в несколько кейджанских танцзалов, где танцуют и пьют пиво уже с девяти утра, и так проболтались до вечера. По дороге назад загнали «бентли» в кювет. Никто не пострадал, только машина застряла в кювете, а они так надрались, что пальцем пошевелить не могут. Позвонили Ниси, чтобы приехала за ними, потому что ужасно боялись звонить Чаку или Шепу и знали, что у меня ребенок болен.
Короче говоря, Ниси нашла их в «Дюпайз-Лодж», где они ели кровяную колбасу, пили джин с тоником и веселились вовсю. Шла вторая неделя поста. Может, и третья. Не помню. Пост — долгая дорога, Сидда. Долгая дорога через пустыню.
Ниси вызвала тягач для «бентли» и отвезла подруг в Торнтон. И не успела я оглянуться, как твоя мама нашла себе нового духовника… не помню его имени. Он послал ее к доктору Лоуэллу. Большая шишка в «Рыцарях Колумба»[77]. Заставлял священников посылать к нему всех возможных пациентов. Я никогда о нем не слышала, пока Виви не получила рецепт. Дексамил. До самой смерти не забуду это название. Возносит тебя вверх и швыряет вниз. Предполагалось, что он удержит твою маму от алкоголя и одновременно сделает более ревностной католичкой. Виви обожала эти таблетки. Постоянно пела им дифирамбы. Говорила, что они дают ей энергию, лишают желания выпить и аппетита, мало того, довольно всего двух часов сна — и она как новенькая. Короче говоря, она взлетела высоко. Чересчур высоко.
За две недели до Пасхи она с тем же духовником отправилась в четырехдневное затворничество в каком-то убежище где-то в Богом забытом Арканзасе. Отреклась от бурбона и существовала только на таблетках и покаянии. Простить себе не могу, что не углядела, когда ее понесло прямо на рифы. На то и друзья, чтобы спасать утопающих. Объяснить, что сбились с курса. Но это не всегда возможно, подруга.
Понятия не имею, что случилась в этом убежище. Виви почти ничего не рассказывала. Но она никого там не знала. Монахинь там не было. Только мирянки-католички и тот чертов священник. В обычные дни это место служило небольшим туберкулезным санаторием, представляешь? А она взяла с собой запас дексамила, молитвенник, четки, смену одежды и губную помаду. Проповеди, молитвы, пост, причастие, сплошные исповеди — вот, думаю, и все, что там было. «Вложи-персты-свои-в-раны-Христовы» и тому подобное дерьмо. Она намеревалась очиститься.
Я не психолог, подруга, и не знаю, какая нить натянулась слишком туго. Вероятно, во многом виноват дексамил. Тогда люди не понимали, какая это пакость. В десять раз хуже спиртного.
Каро встала и подошла к стеклянным дверям, выходившим на озеро. Провела рукой по своим коротким волосам и закашлялась.
Сидда встревожилась. Кашель показался ей чересчур хриплым, каким-то лающим.
— Каро, что с тобой? Принести кислород?
— Вряд ли стоит опускать конец истории, — отмахнулась Каро. — Или хочешь, чтобы взамен я дала тебе мой всемирно знаменитый рецепт коктейля «Рамос джин физ» с шипучкой?
Сидда подбежала к Каро и обняла за талию.
— Тебе нелегко говорить все это, верно?
— Нелегко, — прошептала Каро.
Сидда оглядела женщин:
— Почему вы приехали? Ведь это не пикник, верно?
— Твоя мама тоскует по тебе, — вздохнула Тинси, вставая и подходя к дивану.
— Мы вроде ее посланников. Понимаешь, о чем я? — спросила Ниси.
— Это она вас послала?!
— Не напрямую. Нет, — покачала головой Тинси.
— Тогда почему же приехали вы? Почему не она сама? Почему… почему не рассказала мне эту историю?
— Потому что, — бросила Каро. — Это все: потому что.
Сидда подождала, пока она сходит на кухню и вернется со стаканом воды. Каро добрела до кресла и уселась. За окном почти стемнело, поэтому Каро вынула спички, а Сидда ужаснулась, решив, что она собирается закурить. Но Каро потянулась к подсвечнику, зажгла свечу, вытащила из кармана сигарету и, не закуривая, сунула в рот. С этого момента она выразительно жестикулировала сигаретой, когда требовалось что-то подчеркнуть.
— Виви вернулась в Пекан-Гроув, — продолжила она, — в твердом убеждении, что все четверо ее детей одержимы дьяволом.
Каро взглянула на все еще стоявшую у стола Сидду и показала на свой стул.
— Подруга, почему бы тебе не устроиться поудобнее? Мне вроде как одиноко в этом углу.
Сидда сняла с шезлонга пару подушек, бросила на пол и уселась у ног Каро. Ниси и Тинси уже лежали валетом на диване. Каро поднялась, молча подошла к столу, взяла подушку, брошенную там Сиддой, и принесла ей.
— Возьми, солдатик, — улыбнулась она. — Следующую часть, думаю, ты запомнила навсегда. Виви жестоко избила всех вас ремнем, предварительно раздев догола. К тому времени как примчалась я, Вилетта уже успела вымыть и одеть вас. Рубцы были ужасными. Никогда таких не видела. Вы бились в истерике. Вилетта и ее муж со своего двора случайно увидели, как мать порола вас, прибежали на помощь, остановили Виви и забрали вас с собой. Потом Вилетта позвонила вашей бабушке, а та позвонила мне. По настоянию Багги я прежде всего пошла к Вилетте.
Каро внезапно замолчала.
— Каро! — окликнула Тинси, вставая. — Ты в порядке? Тебе вредно так много говорить.
Каро отложила незажженную сигарету, придвинула поближе кислородную подушку и быстро, деловито привинтила трубку с раструбом.
— Помочь тебе, Каро? — спросила Сидда. — Принести еще воды?
Сама пытаясь дышать ровнее, Сидда направилась на кухню, где налила Каро воды. В кухне было темно и пахло крепким кофе. Она наклонилась, на секунду прижалась щекой к прохладной столешнице и глубоко вздохнула.
Спокойно. Ты уже все это пережила.
Каро глотнула воды, потом черного кофе и продолжила рассказ:
— Багги забрала вас к себе, а я отправилась к вам и нашла голую Виви, лежащую на кухонном полу. Сначала я думала, что смогу урезонить ее. Вытащить из этого состояния. Моя ошибка. Я любила твою мать как сестру, как родную, не меньше, чем своих детей. С того самого дня тридцать третьего года, когда встретила ее в буфете кинотеатра, принадлежавшего моему отцу. До сих пор помню ее короткое желтое платьице с красными тюльпанами на карманах и как она покупала апельсиновый «краш». И больно было видеть ее в таком состоянии.
Каро снова помолчала и потерла глаза.
— Я отвела ее в ванную, посадила на унитаз. И она не могла вспомнить, что делать. «Подруга, — сказала я, — просто попытайся расслабиться, и пусть вода сама вытечет».
Тело Виви было так напряжено, что даже на лице выступили вены. Тогда я и решила позвонить Бо Поше, вашему детскому доктору — ты, наверное, помнишь его. Понятия не имела, куда девался твой отец. Шепа никогда не бывало дома. Поэтому я сама вызвала Бо Поше, прекрасно сознавая при этом, что он всего лишь педиатр. Он знал всех нас много лет, играл на трубе в оркестре, когда мы учились в старших классах. Я не собиралась звонить тем мерзавцам, называвшим себя психиатрами, в этом городе, который позволил нам потерять Женевьеву.
Уже через полчаса приехал Бо. Виви опять лежала на полу, только в прихожей. Я едва успела накинуть на нее халат. Она не могла сказать Бо, какой сейчас год. Не помнила собственного имени. Он сделал ей укол какого-то транквилизатора, и она даже не сопротивлялась. В это время подъехал грузовик, и я пошла посмотреть, кто там. На улице уже стемнело, но я сразу поняла, что приехал ваш отец.
— Шеп, — крикнула я, когда он вылезал из грузовика, — Виви больна. Она не в себе. Ей нужна помощь.
— Где мои дети! — разозлился он. — С ними все в порядке?
— С Багги.
Он повернулся и шагнул к грузовику.
— Даже не думай, — велела я.
Ваш отец закрыл глаза руками.
— Где Виви?
— В доме. С доктором Поше.
— Ты вызвала этого человека в мой дом? — взвился он.
— Да, Шеп, и я не желаю слышать ни единого слова на эту тему.
— Может, она притворяется, Каро. Ты же знаешь, какой она бывает.
Я промолчала. Войдя в дом, Шеп проигнорировал Поше и подошел к Виви.
— Виви, детка, — позвал он, — похоже, ты сильно проголодалась. Хочешь, я что-нибудь приготовлю?
Он отправился на кухню и поджарил фунт бекона. Твоя мать пошла следом. Я стояла и смотрела, как твой отец жарит бекон, режет томаты и латук, жарит хлеб. Потом он сел на пол рядом с твоей матерью и попытался заставить ее откусить кусочек сандвича. Но она не смогла жевать. Забыла, как это делается. Еда вываливалась у нее изо рта. Шеп беспомощно взглянул на нас.
— Не можете вы заставить мою жену съесть этот сандвич? — спросил он, не вытирая струившихся по лицу слез.
— Нет, Шеп, — покачал головой Бо. — Боюсь, не получится.
Тогда твой папа снял бекон с коленей Виви и вытер майонез с ее лица.
И это было… дай сообразить… четвертое воскресенье поста.
Назавтра Чак отвез Тинси, Шепа, твою маму и меня в частную клинику на окраине Нового Орлеана. Ниси присматривала за вами. День выдался тяжелым. В больнице мы попытались уговорить Виви расписаться в книге приема больных. Шеп не хотел, чтобы она посчитала, будто от нее избавляются. Но когда администратор спросил, как ее зовут, Виви ответила:
— Королева Танцующий Ручей.
Администратор уставился на Шепа.
— Спросите ее еще раз, — велел тот. Мужчина так и сделал.
— Рита Эббот Хейуорт, — объявила Виви, — дитя любви Герберта Джорджа Уэллса и Сары Бернар.
Я засмеялась бы, не сопроводи твоя мама свой ответ тем, что схватила пресс-папье и швырнула в голову администратора. Тот едва успел увернуться. Чак бросился к Виви и обхватил за плечи. Со стороны могло показаться, что он обнимал ее, но на самом деле старался удержать, боясь, что она натворит бед.
— Боюсь, ваша жена не может ответить на вопрос, поэтому придется обойтись без добровольного согласия.
Твой отец угрожающе шагнул к нему.
— Слушай меня, Нимрод. Я оплачиваю счет в вашем поганом заведении, и если моя жена хочет назваться президентом чертовых Соединенных Штатов, так оно и будет, ясно? Ее зовут Рита Эббот Хейуорд. Моя жена подпишется любым именем, каким только пожелает, а потом вы, черт вас всех побери, будете ее лечить. Это лучшая в мире женщина. Я понятно выразился?
Господи, куда уж понятнее!
Перед уходом твой отец поцеловал Виви в лоб и плакал всю дорогу до отеля «Монтелеоне», а в номере молча напился и отключился еще до того, как мы заказали ужин. Так что нигде не сохранилось записей о помещении Виви Уокер в клинику на три месяца. И, кроме нас, никто ничего не знал. Когда Виви через три месяца приехала домой, она вполне ясно дала понять, что не желает, чтобы кто-то что-то узнал.
После возвращения галлюцинации у нее прекратились. Она снова изъяснялась связно. Только страшно похудела. И первое время не ела ничего, кроме персиков.
Мы пытались заставить ее поговорить о срыве, но она мгновенно замыкалась. Только все повторяла, что «уронила корзину». Вся история уместилась в одну эту фразу.
Только однажды, много лет спустя, когда мы с ней как-то вечером остались вдвоем, она сорвалась. Дело было на Спринг-Крик. Уже совсем стемнело, и мы пили джин. Она заставила меня подробно описать, в каком именно виде я нашла вас в то воскресенье. Заставила рассказать все… о каждом синяке, о каждой кровавой бороздке. И наблюдала за сменой выражений на моем лице, каждым взмахом ресниц, каждым движением. Проверяла, не осуждаю ли я ее. Но я не осуждала. И впредь не собираюсь. Сожалею только об одном: что никто из нас не поговорил с тобой, Малышом Шепом, Лулу или Бейлором. Прятались за давно устаревшим убеждением, что не имеем право вмешиваться в воспитание чужих детей.
Каро перевела дух и резко вскинула голову:
— Но я хочу, чтобы ты знала: во всем этом нет ни капли твоей вины. Говорю же, в Виви что-то сломалось. Может, люди куда больше похожи на Землю, чем мы предполагаем. Может, и в них есть скрытые дефекты, слабые места, которые раньше или позже способны проявиться под давлением. Да, твоя мать была алкоголичкой… вернее, была и есть алкоголичка. Признаю это и понимаю, как трудно тебе пришлось. Не собираюсь отрицать ни единого факта.
Но из всех безумных несовершенных душ, которые ты когда-либо встретишь, подруга, Виви Эббот Уокер — самая светлая. И когда она уйдет, оставшиеся будут мучиться так, словно отмерла часть их души.
Каро оглядела Тинси и Ниси и коротко рассмеялась.
— Мы — уцелевшие члены тайного племени, подруга. И в тебе течет кровь я-я, хочешь ты того или нет. Да, верно, она испорченная. Но что в этой жизни не испорчено, черт возьми?
Она снова вздохнула. Остальные молчали. Сидда встала с пола, подошла к стеклянной двери, открыла и вышла на веранду. Жара летнего дня сменилась вечерней прохладой. Она посмотрела на озеро и вдруг подумала, что могла бы спуститься с веранды, ступить на лунную дорожку, уйти в ночь и никогда не вернуться.
Оглянувшись, она обнаружила, что женщины остались в тех же позах. Свеча еще не догорела. Хьюэлин сидела у двери, склонив голову набок и пытаясь никого не выпускать из виду.
Сидда чувствовала себя одновременно очень старой и ужасно молодой в присутствии этих женщин. Все трое медленно поднялись и направились на веранду. Каро опиралась на руку Ниси. Сидда не пошевелилась, когда они обняли ее. Только вдыхала их запахи, озерный воздух, благоухание сосен. Вдыхала бескрайний мир страданий и чистой, мрачной любви, и прозрачный источник сострадания постепенно открывался в ней. Луна садилась за кроны деревьев на противоположном берегу озера… и тут что-то привлекло внимание Сидды. Тот ключик, что она повесила на окно, тускло мерцал в лунном свете.
28
Просыпалась Сидда с трудом. Было уже довольно поздно, и у нее затекла спина на неудобном диване. Она рухнула сюда прошлой ночью, уступив спальню я-я. Кто-то насвистывал «Загадай звезде желанье», и в первую минуту Сидде показалось, что сон все еще продолжается. Поэтому она поплотнее закуталась в одеяла. Но воздух был теплым, а через открытую дверь веранды плыли ароматы кедра и лилий. Свист все продолжался, пока она не сообразила, что только один человек в мире мог свистеть «Загадай звезде желанье» со всеми восхитительными уолтдиснеевскими изысками.
Хьюэлин учуяла Коннора еще до того, как его увидела Сидда. Собака насторожилась и ринулась к двери. Лай быстро превратился в счастливое повизгивание. Сидда откинула одеяла и встала.
При виде Коннора, стоявшего на веранде и чесавшего брюшко Хьюэлин, у Сидды подпрыгнуло сердце. Пришлось остановиться и прижать руку к груди, чтобы немного успокоиться. Но сердце бухало о ребра с такой силой, что Сидда всерьез испугалась инфаркта. И тут же вспомнила, что именно это постоянно повторялось с самого детства, при каждой новой влюбленности. Правда, сейчас она уже не сгорающая от любви девчонка. Ей уже сорок, но, судя по силе реакции, она не слишком постарела. И больше не могла устоять на месте. Она судорожно втянула в себя воздух и как была, в мешковатой майке не по размеру, ринулась к двери и прыгнула на Коннора, обхватив ногами его талию, а руками — шею. Коннор стиснул ее голую задницу, закружил, и они стали целоваться.
Эти две недели он постоянно думал о ней, но позабыл ловкость ее маленького тела, неистовую импульсивность и нежность запаха сразу после пробуждения.
Хьюэлин с возбужденным тявканьем носилась вокруг них в неуклюжем радостном танце, требуя внимания.
— Хьюэлин, Хьюэлин, старая блондинистая секс-бомба, до чего же хорошо тебя видеть, — бормотал Коннор, целуя глаза, щеки и губы Сидды.
— Счастлива, счастлива, счастлива, — твердила Сидда. Коннор осторожно усадил ее на перила:
— Неплохая форма для сорока лет, Острый Чили-Перчик!
— Старые болельщицы не умирают, — отпарировала Сидда, — только красят волосы.
Оба, улыбаясь, уставились друг на друга.
— Привет, Сидда.
— Привет, Конни.
— Привет! — окликнула Каро с порога. — Весьма острые ощущения для такой старухи, как я.
— Каро! — воскликнула Сидда. — Доброе утро!
— Скорее добрый день, — поправила Каро, выходя на веранду. — Доставка продуктов на дом?
На другом конце веранды стояли два солидных пакета из «Пайк-Плейс маркет».
Слегка оттягивая вниз подол майки, Сидда улыбнулась Коннору.
— В общем, да. Мой рассыльный ехал от самого Сиэтла, чтобы привезти сахар к кофе.
— А еще говорят, что рыцарство давно скончалось, — объявила Каро.
— Каро Беннет Брюер, познакомься с Коннором Макгиллом, — официально представила Каро.
— Кто научил вас свистеть, дружище? — спросила Каро, протягивая руку. — Совсем неплохо.
Коннор пожал ее руку и улыбнулся:
— Моя мать. Отношу комплимент на ее счет. Счастлив познакомиться.
— О Боже, — пробормотала Ниси, только сейчас появившаяся в дверях вместе с Тинси. — Никто мне не сказал, что здесь мужчина. Я даже зубы не почистила!
И она поспешно исчезла в комнате, оставив Тинси стоять на веранде.
— Бьюсь об заклад, вы — Тинси, — сказал Коннор, выступая вперед. — Я бы узнал вас где угодно по описанию Сидды.
Тинси, застыв, вытаращилась на него. На секунду Сидде показалось, что та его не слышит.
— Тинси, — прошипела Каро, стукнув ее по плечу, — где твои манеры?
— Excuze-moi[78], — пролепетала Тинси. — Я… у вас удивительно знакомое лицо. Вы, случайно, не Коннор Макгилл, тот самый жених?
— Да, по крайней мере я так думаю, — усмехнулся Коннор.
— Очень на это надеюсь, — кивнула Тинси, расцеловав Коннора в обе щеки, — потому что, на мой взгляд, вы просто шикарны.
— Просто не верится, — заметила Ниси. — Эти круассаны идеальны. Обсыпают тебя крошками с головы до ног, как и полагается настоящим круассанам. Где, говорите, купили их, Коннор?
Сидда, Коннор и я-я наслаждались завтраком на веранде, нахваливая покупки Коннора.
И прежде чем тот успел ответить, Ниси сказала:
— Коннор, вы должны приехать к нам в Луизиану. Я с удовольствием приготовлю вам местные деликатесы.
— Кто способен отказаться от такого предложения? — галантно заметил Коннор, отставляя чашку.
— Обещайте, — настаивала Ниси, и Сидда поняла, что попала в переплет.
После завтрака я-я отправились в гостиницу надеть купальные костюмы и сменить вчерашнюю одежду. Компания провела день на озере. Они плавали, лежали на солнышке. Леди постановили, что озеро Куино, хотя и не такое теплое, каким должен быть настоящий водоем, все же имеет свои положительные качества. Позже Коннор зажарил на гриле стейки из палтуса, купленного в городе. Каро помогала разводить огонь, а Ниси наблюдала за каждым движением Коннора, оценивая его поварское искусство. Тинси подливала мерло в бокалы, а Сидде поручили десерт: свежую ежевику, политую «Курвуазье» Ниси.
Еще не было восьми, когда я-я распрощались и по очереди обняли Сидду. И высказались одна за другой.
— Он очень милый, — прошептала Тинси.
— Выходи за того, кто умеет готовить, — прошептала Ниси.
— Не волнуйся о своей маме, — прошептала Каро. — Шаг за шагом, подруга, шаг за шагом, это единственный способ.
Оставшись одни, Сидда и Коннор сделали то, что жаждали сделать все эти недели. Разделись, не сводя друг с друга глаз. Коннор лег на постель и нежно прикусил нижнюю губу Сидды, прежде чем поцеловать. По спине Сидды прошел озноб, и скоро их тела отправились в то путешествие, куда раньше их уносило только воображение.
И пока они ласкали, гладили и любили друг друга, Сидда чувствовала себя так, словно впервые оказалась в собственном теле. Каждая новая ступень их соития открывала ее не только для чувственного наслаждения, но и для грусти, внедрившейся в кости и мышцы. Ее экстаз, обрушившийся одновременно с разрядкой Коннора, сопровождался криком. И, вздрагивая в судорогах освобождения, она заплакала. Потому что чувствовала себя раскрепощенной, открытой всем ветрам, отпущенной на волю. Все границы растворились, рухнули, оставив ее беззащитной. И одновременно с любовью и желанием она испытывала ощущение заброшенности и печали, делавшее ее трепетной и уязвимой.
— Прости, — прошептала она Коннору. — Прости, что все время плачу.
— Душистый горошек, — мягко сказал он, — что бы там ни было, у нас все хорошо.
Сидда пыталась заставить себя засмеяться, но не смогла.
— Пышечка, — встревожился Коннор, — что случилось?
Сидда отстранилась от него, села и рассказала все, что услышала от Каро. Он не сводил с нее глаз, а когда она закончила, хотел притянуть к себе. Но она отстранилась. Чувство было такое, словно она каким-то образом подсунула ему бомбу.
— Ей следовало самой мне сказать, — пробормотала она. Коннор осторожно погладил ее по голове.
— Но она ведь прислала своих эмиссаров!
— Этого недостаточно, — покачала головой Сидда. Слова застревали в горле.
Она встала с постели.
— Ты этого не заслужил, Коннор. Я старая развалина и ни на что не гожусь.
Коннор, молча дождавшись, пока обнаженная, раскрасневшаяся Сидда переступила порог и закрыла за собой дверь, снова лег, изучая комнату. Взгляд скользил по книгам Сидды, халату, висящему на крючке за дверью, букету лиловых и голубых аквилегий на тумбочке, испещренному пометками экземпляру «Женщин». Он любил эти повседневные признаки существования Сидды, любил ее сорокалетнее тело и живой изменчивый ум. И сказал себе, что Не пойдет к Сидде, пока дрозд Свенсона, заливавшийся за окном, не закончит свою песню. А пока лежал в постели и старался выделить из дружного хора голоса знакомых птиц.
Сидда тем временем стояла у круглого дубового стола, на котором лежал альбом с вырезками. Ночь была теплой и наполненной зудением легионов мошек, упорно бившихся в двери веранды.
Она вынула из альбома фото двадцатилетней с чем-то Виви, лежавшей в траве на одеяле для пикников. Подпирая подбородок руками, она уставилась на малышку, из-под крошечной пляжной шляпки которой выбивались рыжеватые волосы. Девочка не мигая смотрела на Виви, и казалось, что эти двое ничего вокруг не замечают, погруженные в свой, предназначенный только для них, замкнутый мирок.
Сидда перевернула снимок. На обороте значилось: «Королева Танцующий Ручей с Первым Королевским Отпрыском».
Глаза ее наполнилось слезами. «Почему я оставила теплую постель возлюбленного, чтобы вновь вернуться к этим свидетельствам прошлого?»
Она отложила фото и потянулась к пакету с благодарственными письмами матери к я-я. Перебирая их, она словно грелась в любви, пропитавшей слова матери. И вспоминала услышанное где-то изречение: «Слова ведут к делам. Они настраивают душу, готовя ее к нежности».
Кажется, это сказала святая Тереза… или нет?
Сидда вспомнила невыразимую радость при виде материнского лица, когда Виви наконец вернулась. Радость снова обонять запах Виви после бесконечной, необъяснимой разлуки. Ситцевые рубашки Виви. Ее шаги в коридоре. Очертания тонкой фигуры, когда она останавливалась в дверях, чтобы пожелать дочери спокойной ночи. Она так хотела, чтобы мать подошла, легла рядом, обняла ее и поклялась, что больше никуда не уйдет. Тоска по матери и сосущая боль брали верх над безумной злобой на мать, посмевшую бросить ее.
Она не слышала, как в комнату вошел Коннор, и когда на плечо легла его рука, подскочила от неожиданности и, поспешно ускользнув, схватила с дивана тонкое покрывало.
Лампа в углу мягко мерцала. Сидда поспешно завернулась в покрывало, прежде чем вернуться к столу. Коннор продолжал стоять, беспомощно свесив руки.
— Я только сейчас просматривала альбом с так называемыми божественными секретами, — пояснила Сидда. Коннор перевернул несколько страниц.
— Смотри, беременные девы я-я, — объявил он, вынимая снимок. Сидда уже видела его раньше, но не обращала особого внимания. Под надписью «Красотки-52» сидели вокруг кухонного стола все четверо я-я, совсем молодые и беременные на восьмом или девятом месяце. Каро закинула ноги на стол. Рука лежала на спинке стула Виви. Голова Ниси слегка опущена, глаза полузакрыты в улыбке. Тинси энергично жестикулирует, словно рассказывая невероятно неприличный анекдот. Голова хохочущей Виви откинута, рот раскрыт так широко, что видны зубы. Все женщины одеты в платья для беременных, у каждой, кроме некурящей Ниси, в одной руке стакан с выпивкой, а в другой — сигарета.
— Издевательство над внутриутробными плодами: момент во времени, запечатленный «Кодаком», — усмехнулась Сидда.
Коннор оперся ладонями на стол и нагнулся над снимком.
— Пятьдесят второй. Она носила тебя, Сидда.
И, показав на огромный живот Виви, добавил:
— Похоже, племя веселится на всю катушку. И ты сидела в этом гигантском раздутом чреве вместе с братом, так?
— Уверена, что он наслаждался алкоголем и табачным дымом, — хмыкнула Сидда.
— Взгляни на этих женщин. Они пьют и курят, но разве это все? Приглядись хорошенько.
Он поднес фото к лицу Сидды.
— Гляди на них. Гляди как на актеров, когда сама стоишь в стороне и не вмешиваешься.
— Прекрати, Коннор.
— Нет, Сидда, не прекращу.
Сидда заставила себя изучить снимок. Присмотреться к блеску в их глазах, наклону голов, выражению лиц, отсутствию всяческого напряжения тел, расслабленным жестам. Позволила себе как бы войти в действие, оказаться соучастницей, пока не ощутила исходившую от них нервную энергию.
— Ну? Что видишь? — допрашивал Коннор. Сидда схватилась за край стола.
— Легкость. Легкость и непринужденность. В глубине глаз матери таится страдание, но атмосфера товарищества несомненна. Смех. Дружба. Искреннее веселье.
Коннор молчал.
— Но… — продолжала Сидда и тут же осеклась.
— Но?..
Сидда выпрямилась. Отошла от стола и направилась в кухню. Коннор успел поймать ее за руку и повторил вопрос:
— Но что?
— Она не знала, как любить меня, а я не знаю, как любить тебя.
— Нет, — возразил Коннор, прежде чем потянуть ее обратно к столу. — Все совсем не так.
Он снова показал на снимок.
— Взгляни на них как следует. Я видел этих женщин, Сидда. В семьдесят они по-прежнему полны прежней непринужденности и легкости. И они любят тебя. Хотят, чтобы ты была счастлива. Конечно, я еще не знаком с божественной Виви, но уверен, что и она чувствует то же самое. Разве их смех не играет роли? Разве их родство душ, смех и возможность не быть чертовски одинокой в этом мире ничего не значат? Разве ты не питала их дух вместе со всем остальным, что проникало через плаценту?
Сидда отвернулась. Но Коннор сжал ладонями ее лицо и заставил смотреть на себя.
— Сид, я не твоя мать. И не твой отец. И хочу взять тебя на радость и горе.
Сидда немного помолчала.
— Существует такая вещь, как аллигаторы, встающие кое у кого на пути.
Глаза Коннора повлажнели, а дыхание стало прерывистым.
— Я сильнее любого аллигатора. И умнее.
Сидда всхлипнула, сотрясаясь всем телом.
— Ты не можешь сделать это для меня, Коннор. Я…
— Я не хочу ничего делать для тебя, черт возьми!
Он резко отвернулся, как был, голый, шагнул к двери на веранду и остановился, переминаясь с ноги на ногу, почти как боксер. Сидда прислушалась к шлепанью босых ног по полу и на миг залюбовалась его стройным мускулистым сорокапятилетним телом, совершенно не ведающим стыда в своей сосредоточенности и решимости.
Он пронзил ее негодующим взглядом.
— Я не хочу ничего делать. Хочу любить тебя.
Она не нашлась с ответом.
— Слушай, я на пять лет старше тебя и никогда раньше не собирался жениться, уж ты поверь. Воображаешь, мне легко далось твое решение отложить свадьбу? Да с тех пор я болтаюсь на волоске над гребаной пропастью. Я не создан для чистилища, Сидда!
Он открыл дверь и ступил на веранду.
Жуткая строка из католического катехизиса билась в мозгу Сидды: «Чистилище — не ад. Но детские души тем не менее терпят там страдания, потому что им не дано видеть лица Господа».
В тот момент, когда она вышла на веранду, почти полную луну заволокло пухлыми кучевыми облаками. Сидда подошла к Коннору, стоявшему у перил, лицом к воде, и, уронив покрывало, прижалась животом к его спине.
— Не слишком ли я пытаюсь тебя запутать? — прошептала она. Коннор, не шевелясь, продолжал смотреть на озеро, на облака, стремительно закрывавшие луну и тут же пролетавшие мимо, снова открывая светило в его недосягаемой непорочности.
— Не слишком. Как раз в меру, — ответил он наконец, тщательно выбирая слова.
И тогда Сидда обняла его и крепко стиснула, вдыхая значение его слов. Они еще долго стояли так, пока Хьюэлин терпеливо сидела у их ног.
— По-моему, полуночное купание нам не повредит, — неожиданно предложила Сидда.
Они спустились по крутой лестнице на причал, где, обнаженные, скользнули в ледяную воду. Назад они плыли на спине, глядя на луну, сильно отталкиваясь ногами и посылая в воздух целые веера брызг.
А когда вернулись в домик, сна не было ни в одном глазу. Они принялись вытирать друг друга, и Коннор случайно заметил ключик, повешенный Сиддой на окно.
— А что открывает этот ключик? — заинтересовался он.
Сидда, обматывая голову полотенцем, подняла глаза, замерла и слегка подалась вперед, словно слыша далекий слабый зов. Словно очнувшись, она поднялась на цыпочки и сняла ключ. Едва заметная улыбка заиграла на ее лице, и она поспешно прикрыла рот рукой, как ребенок, только что обнаруживший спрятанное сокровище.
Наконец она восторженно рассмеялась.
— Коннор, как насчет бутылки шампанского, таинственным образом появившейся в моем холодильнике за последние двенадцать часов?
— Ну… придется поступиться принципами, — вздохнул он.
Вернувшись с шампанским, он нашел Сидду сидящей в лунном свете. Одной рукой она гладила Хьюэлин, другой — теребила ключ. Размахивая двумя креманками, Коннор вытащил пробку, разлил шампанское и поставил бутылку в набитую льдом банку из-под оливкового масла.
— За что пьем? — спросил он.
— За Лаванду Великолепную! — объявила Сидда, целуя ключик, прежде чем показать Коннору. — Именно это и открывает ключик.
— Лаванда? Что это за история?
— Забавно, что ты спрашиваешь.
— У нас впереди вся ночь, — пояснил он. — И вся жизнь.
— Ладно. У меня чудесное настроение.
— В таком случае, мисс Уокер, — объявил Коннор, кладя ее ноги себе на колени и принимаясь растирать пальцы, — доставьте меня на луну.
Сидда прикрыла глаза, словно вспоминая, медленно поднесла бокал к губам и сделала первый глоток. Еще раз потерла маленький ключик, улыбнулась и начала рассказывать.
29
— Лаванда Великолепная, гигантская слониха, прибыла в Торнтон в шестьдесят втором, в то лето, когда я перешла в третий класс. Местные застройщики вымостили сотни акров фермерских угодий, чтобы построить «Саутгейт шопинг сентр», первый торговый центр в центральной Луизиане. Торнтон насчитывал приблизительно десять тысяч населения, и когда кто-то открывал новый бизнес, а тем более такую махину, весь город на ушах стоял. В те дни все делали покупки в центре города, особенно в магазинчиках «Кул»[79] с эмблемой пингвина и надписью: «Заходите. У нас внутри Кул»[80].
Старперы по-прежнему сидели на стульчиках перед кафе «Франт-Ривер», без конца обсуждая и осуждая очередные выходки Эрла Лонга[81]. Питьевой фонтанчик для цветных все еще оставался в самом укромном закутке, хотя кое-какие дерзкие души уже отказывались им пользоваться. Только счастливчики или богатые имели дома кондиционеры, и хотя моя семья относилась к обеим категориям, мы по-прежнему изнывали от жары и потели в субтропическом луизианском климате, где довольно прохладным летом считалось такое, когда температура и влажность не поднимались выше девяноста восьми градусов[82] и девяноста восьми процентов.
Открытие центра широко рекламировалось по радио и телевидению. Повсюду были развешаны плакаты и растяжки с объявлениями о вступлении Сенлы в двадцатый век. Конечно, во всем этом крылся определенный подтекст: последнее время цветные старались садиться за то, что испокон веков считалось нашим прилавком в «Уолгрин»[83] в самом центре города. Они пытались испохабить центр нашего города. Значит, приходите в торговый центр, где цветным пока еще нет места!
На церемонии торжественного открытия каждому белому ребенку в округе Гарнет предлагалась бесплатная поездка на слоне, а именно на «Лаванде Великолепной, Привезенной Прямо из Дебрей Черной Африки». По всему Торнтону были расклеены изображения слонихи. Все это время я думала, мечтала, читала и говорила исключительно о слонах, и когда настал великий день, была вне себя от волнения.
Я-я в полном составе, со своими шестнадцатью ребятишками, прибыли в торговый центр с утра пораньше и устроили небольшую пирушку прямо на парковке: кока-кола, коктейли, закуски. Такой огромной парковки я еще не видела и от удивления то и дело моргала и терла глаза. Там, где всю мою жизнь не было ничего, кроме хлопка, теперь стояли бесчисленные магазинчики, к которым вели асфальтовые дорожки. Поле исчезло как по волшебству. Я и понятия не имела, что такое может быть. Думала, что поле — это навсегда. В таком возрасте все кажется вечным.
К этому часу уже играл школьный оркестр, а девочки-подростки танцевали степ на сцене, перед только что отстроенным «Уолгрин». А за столом дама, словно только что вышедшая из «Точных цен»[84], вручила каждому из нас маленький ключик, точно такой, как держу я.
Сидда снова подняла ключик.
— Раньше он висел на цепочке с брелоком в виде синего пластмассового слоника. На слонике был выбит номер очереди на поездку.
— Мивочка Виви послала это? — удивился Коннор.
— Мивочка Виви послала ключ, — подтвердила Сидда и, в очередной раз глотнув шампанского, откинулась на спинку стула. Она уже успела отметить, с каким неподдельным интересом слушает Коннор.
— Никогда не забуду свое первое впечатление от Лаванды. Гигантское, прекрасное животное, отличавшееся идеальными пропорциями. В каждом ее движение сквозила несомненная грация. Огромный живот. Величественный выдающийся лоб. Глаза как большие блюдца, с длиннющими ресницами. Уши — лопухи, и ноги такие большие, что ногти на пальцах казались тарелками. Конечно, я понятия не имела о ее истинных размерах, поскольку видела все это глазами семилетней девочки.
Как водится, мама и я-я оказались единственными, кто настоял, чтобы им позволили вместе с детьми прокатиться на Лаванде. Их ничуть не волновала наша безопасность. Просто не хотелось упустить возможность покататься на слоне.
Когда настала наша очередь, мы поднялись по ступенькам на деревянное возвышение, построенное для того, чтобы сажать детей на спину Лаванды. Мама стояла рядом со мной, держа за руку моего младшего брата Бейлора. Тогда ему, вероятно, было годика четыре. Помню, что мама надела на него рубашечку в красно-белую полоску и маленькую соломенную шляпу, а на нас — то, что считала самыми подходящими нарядами для езды на слонах.
— Сидда-крошка, — сказала мама, — твоя очередь. Давай.
Я еще раз взглянула на Лаванду, чья огромная спина оказалась достаточно просторной для Лулу, Малыша Шепа и Бейлора. Не знаю, что произошло, только я оцепенела.
— Ну же, дружище, — повторила мама.
Помощница погонщика слонов протянула руку, чтобы помочь взобраться на Лаванду. Но я была парализована.
— Сидда, мивочка, не порти компанию. Присоединяйся к нам.
Сидда снова глотнула шампанского.
— Должна ли я объяснять, что прослыть некомпанейским человеком означает смертный грех в Религии Виви? Это одиннадцатая заповедь, которую Моисей забыл принести с горы: Не Будь Некомпанейским Человеком.
Погладив по голове Хьюэлин, она продолжала.
— Не могу, мама, — прошептала я. — Мне страшно.
— Подождешь нас здесь? — спросила мама. — Не побоишься?
— Нет, мэм, — прошептала я, униженно опустив голову.
— Ну ладно, — кивнула она и взобралась на Лаванду.
И с каждым шагом слонихи мой ужас рос. Они все погибнут. Она их убьет. Лаванда сбросит их и затопчет. Раздавит, как муравьев, и размажет тела по только что подсохшему асфальту.
Я спустилась с возвышения, но, оказавшись в толпе, нигде не смогла найти я-я. Народу было слишком много, и вокруг я видела только незнакомые лица. И все эти люди были выше меня. Впервые за все годы жизни в нашем городке я оказалась в толпе и не смогла обнаружить ни единого знакомого человека.
Я кое-как выбралась из толпы и остановилась, потому что не смогла отыскать взглядом ни Лаванду, ни родных, даже если вставала на цыпочки. И еще было ужасно жарко. Так жарко, как ни разу в жизни. Асфальт раскалился, едва не кипел и обжигал ступни даже сквозь подошвы туфелек.
Сжав ключик со слоником, я отправилась на поиски маминого «тандерберда». И твердила себе, что нужно было поехать вместе со всеми на слоне. Уж лучше умереть вместе с мамой, чем благополучно оказаться на земле без нее. Если я потеряю Бейлора, Малыша Шепа и Лулу, сразу умру. И если потеряю маму, тоже умру.
Я проходила через ряды машин, выглядывая красную косынку на антенне маминой машины.
«Святой Антоний, святой Антоний, будь милостив, оглядись. Что-то потерялось и должно найтись, — повторяла я молитву, пока не отыскала «ти-берд». Металлическая ручка дверцы так нагрелась, что было больно за нее браться. И хотя окна были опущены, я едва не потеряла сознания от духоты. Поскорее схватила пляжное полотенце, которое мама держала в машине, и расстелила на сиденье водителя. Повертела руль, воображая себя взрослой, нажала клаксон, включила радио. Сделала вид, что закуриваю. Потом ударила по тормозам и завопила: — Будь оно все проклято! Прочь с дороги!»
Но все это время не могла унять мрачные мысли. Что я буду делать, когда сообщат, что мама мертва? Как найду папочку? Удочерят ли меня я-я? Закрыв глаза, я мысленно умоляла Лаванду: «Пощади их, Лаванда. Пожалуйста! Не убивай маму!»
Я ощутила запах мамы еще до того, как увидела ее. К тому времени я успела задремать на водительском месте, и разбудил меня именно запах. Я мгновенно его узнала. Аромат, присущий только ей. «Коппертоун»[85] и солнце на коже, что-то еще неуловимое, лосьон Джергена и духи «Ове». Я открыла глаза, и ее рука легла на мое плечо. Она стояла возле машины. Я выпрыгнула на асфальт и уткнулась головой в ее бедро.
— Ты жива, мама! Ты не умерла!
Она подняла мои волосы и подула на затылок.
— А что, уже распространились слухи о моей безвременной кончине? — засмеялась она, вынимая из переносного холодильника пиво и холодную колу. — Мивочка, ты пропустила приключение всей своей жизни.
Она осторожно прижала холодную бутылку к моей шее, и я зажмурилась от счастья.
Позже, когда наш караван пустился в обратный путь, мама объявила:
— Плевать мне, если они выстроят здесь даже «Сакс» с Пятой авеню! Никакой торговый центр не доставит мне столько радости! Им следовало бы купить Лаванду для города, вместо того чтобы строить идиотский центр для толпы со всей округи!
— Лаванда уезжает, — объяснил Малыш Шеп. — Она приехала только на день.
— Лаванда Великолепная очень занятая слониха, — пояснила мама.
— А она узнает меня, если мы снова встретимся? — спросила Лулу.
Мама немного подумала:
— Вопрос в том, узнаете ли вы Лаванду.
Я сидела впереди, держа на коленях Бейлора. И вдруг ужасно пожалела о том, что не поехала. Я смотрела в огромные глаза Лаванды, а она смотрела на меня. Я просила не убивать маму, и она меня послушала. Лаванда предложила мне возможность прокатиться на ее широкой спине, а я ее отвергла.
И тут я расплакалась.
— Сидда, — удивилась мама, — что это с тобой?
— Неважно себя чувствую, — промямлила я, не желая признаваться, как мне горько, особенно в присутствии других, которые тут же начнут издеваться и обзывать трусихой.
Мама выудила из сумочки бумажную салфетку, дала мне и пощупала мой лоб.
— Жара вроде нет.
Но я продолжала заливаться слезами. Столкнула Бейлора с коленей и заставила переползти на и без того перегруженное заднее сиденье машины.
Когда мы приехали в Пекан-Гроув, остальные дети немедленно стали изображать слонов. Мама вышла из машины, но я осталась сидеть. Оттянула верх купальника и спрятала в него лицо. И чувствовала, как слезы капают на мой горячий живот.
— Не испытывай моего терпения, подруга, — предупредила мама. — Либо объясни, в чем дело, либо не реви.
— Хочу покататься на Лаванде, — промямлила я в свой купальник. Мама наклонилась ближе.
— Вытащи голову из чертова купальника и объясни по-человечески. Ты никогда ничего не добьешься в жизни, если будешь так бормотать.
— Я умру, если не покатаюсь на Лаванде, — призналась я.
— А почему отказалась, когда была твоя очередь?
— Не знаю. Испугалась.
— Что испугало тебя, мивочка? — спросила она, садясь на траву, рядом с подъездной дорожкой.
— Посмотрела на Лаванду и перепугалась, а потом вы все уехали и я подумала, что она вас затопчет.
— Вот как? — усмехнулась мама. — Но аллигаторы могут добраться до тебя в любом возрасте. Худшее, что ты можешь сделать, — это струсить. Понимаешь, о чем я?
— Да, мэм.
— А теперь ты просто умираешь от желания покататься на Лаванде, верно?
Я кивнула.
— Иначе не сможешь жить в мире с собой, верно?
— Да, мэм. Именно так.
Я испытывала невероятное облегчение оттого, что она читает мои мысли. И сразу перестала плакать.
— Ладно, — вздохнула мать, нажимая клаксон. — Пора приводить в исполнение План 27-В.
Каро, уже вошедшая в дом вместе с остальными, высунула голову из двери.
— Что стряслось, подруга?
— Мы с Сиддой собираемся кое с кем поговорить насчет с-л-о-н-а. Вернемся позже. Креветки в холодильнике, водка в морозилке, печенье в банке. Мой дом — ваш дом.
Я снова уселась, и мы с ревом помчались в направлении Луизианы.
Парковка почти опустела. Погонщик поливал из шланга ноги Лаванды. Помощница громоздила перед слонихой гору сена. Я завороженно наблюдала, как Лаванда захватила хоботом охапку сена и сунула в пасть.
— Привет, сэр, — произнесла мама. — Понимаю, что у вас был тяжелый день и все вы устали. Но не могли бы вы оказать нам большую услугу, прокатив мою девочку?
Погонщик что-то осматривал на толстой ноге Лаванды.
— Нет! — отрезал он не оборачиваясь.
Я тоже присмотрелась. Между пальцами слонихи застряли кусочки асфальта.
— Всего одна коротенькая поездка, — не унималась мама. — Конечно, я с удовольствием вам заплачу. Подождите секунду, сейчас приду.
Она убежала и, вернувшись с сумочкой, вытащила бумажник.
— Вот. Два доллара семьдесят два цента.
— Ни за что, — отказался погонщик. — Это стоит дороже. Девочка устала, а нам сегодня еще ехать в Хот-Спрингс, штат Арканзас.
Это он Лаванду называл девочкой!
Мама рылась в бумажнике, выискивая монеты. Но там были только папины платежные карточки. Во времена моего детства у мамы не было своего текущего счета. Она полностью зависела от многочисленных счетов отца и его щедрости.
— Вряд ли вы согласитесь принять чек, — пошутила мама. — Как насчет зеленых марок[86]?
— Вот что, дамочка, у меня и без вас работы полно, — буркнул он. Я была вне себя от горя.
— Не подождете, пока я вернусь с деньгами? — настаивала мама.
— Зависит от того, сколько ждать.
— Дайте нам пять минут.
Мы прыгнули в машину и помчались к бензоколонке Джонсона, в самом конце торгового центра, там мы всегда покупали бензин. Одно из тех мест, где, заправив машину, мама просто говорила: «Запиши на счет Шепа, мивок».
Мама подкатила к конторе, где под календарем с голыми девочками сидел мистер Лайл Джексон.
— Мне нужны наличные, Лайл, — попросила мама. — Не дашь мне пять долларов? Запишешь на счет Шепа.
Мистер Лайл поднял со стола «дворник» и повертел в руках. На маму он не смотрел.
— Простите, миз Виви, — пробормотал он. — Не могу.
— Почему это, спрашивается? — возмутилась мама. — Раньше-то мог!
— Дня два назад приходил Шеп и сказал, что вы можете получать у меня любое обслуживание и сколько угодно бензина, но ни цента наличными.
Мне на секунду показалась, что мама сейчас его ударит. Но она только крепко прикусила губу и отвернулась к окну.
Потом снова повернулась к Лайлу Джонсону и повела себя так, словно обнаружила, что перед ней Пол Ньюмен.
— О, Лайл! — пропела она. — Будь лапочкой и сделай это для меня. Я буду ужасно тебе благодарна.
— Прошу прощения, — упрямо буркнул тот, — но Шеп сказал: только бензин и никаких наличных.
Мама, красная как рак, пошла к выходу. В глазах ее стояли слезы. Я думала, что она заплачет, но ошиблась. Она снова повернулась и глухо, едва слышно, выговорила:
— Послушай меня, Лайл: мне необходимы всего пять чертовых долларов для моей дочери.
— Простите, — повторил он, — но здесь приказывает Шеп. Это он оплачивает счета.
Даже я, совсем маленькая девочка, поняла, как глубоко унижена мать. И это унижение смешивалось с моими смущением и разочарованием. Мне хотелось лягнуть Лайла Джонсона за такое обращение с мамой. И хотелось кричать на маму, потому что та в отличие от отца не носила с собой денег. Мы вышли из конторы и встали у машины.
— Наверное, придется оставить всю эту затею и сдаться, — вздохнула я.
Мама мельком взглянула на меня и, прищурившись, уставилась на белый седан «гэлекси», подруливший к бензоколонке.
— Чтобы я больше никогда не слышала от тебя таких слов, — процедила она и, взяв меня за руку, направилась к «гэлекси».
— Добрый вечер, — поздоровалась она с дамой.
— Добрый.
Женщина, показавшаяся мне очень грузной, была одета в мужскую рабочую рубаху с нитками, торчавшими в тех местах, где рукава были грубо отхвачены ножницами. На приборной доске громоздились пачки пакетиков с бумажными спичками, мухобойка и куча конфетных оберток.
— У меня для вас предложение, мивочка, — сказала мама.
Леди подозрительно прищурилась.
— Слушай, детка, ты, случайно, на голову не больна?
— Никоим образом, — засмеялась мать. — Послушайте, вы ведь платите наличными, так?
— Верно.
— Сколько бензина собирались купить?
— На четыре доллара, — сообщила леди, сунув пальцы в нагрудный карман.
— Вот что я вам скажу: я налью вам бензина на пять долларов, но за счет моего мужа, а вы просто отдадите мне наличными. Что скажете?
Женщина немного подумала.
— Что же, не вижу ничего плохого.
— Вы просто ангел, посланный мне Господом, — обрадовалась мама.
— На этот счет мне ничего не известно, — покачала головой женщина.
Мама заставила Лайла Джонсона самолично налить бензин в бак и, подписав счет, прошипела:
— Лайл, я жду не дождусь того дня, когда тебе придется просить у меня одолжения.
И подмигнула мне. Я подмигнула в ответ. Потом мы уселись в «тандерберд» и помчались обратно, к Лаванде.
— Месье погонщик слонов, — начала мама. — Мы вернулись. С наличными в карманах.
— И сколько у вас? — хмыкнул погонщик.
— Целых четыре бакса, — ответила мама, стиснув мне руку в знак того, что она еще поторгуется.
— И слышать не хочу, — отмахнулся мужчина.
— Ну… четыре с половиной, — повысила она цену.
— Четыре с половиной, — повторила я.
Мужчина улыбнулся матери. Та ответила улыбкой.
— Шесть.
— Да это просто грабеж на большой дороге! — ахнула мама, повернувшись, чтобы уйти.
— Ну, так и быть. Пять с половиной.
— По рукам, мистер, — согласилась мама.
Мы взобрались на могучую спину Лаванды и поздоровались.
— Добрый вечер, прелестная Лаванда, — сказала мама. — Ты еще красивее, чем днем.
— Добрый вечер, о, великолепная и прекрасная Лаванда. Спасибо за то, что подождала нас, — вторила я. Обняла маму за талию, и в розово-оранжевом свете заката мы двинулись через парковку. Погонщик шел рядом, с палкой в руках. Угасающие лучи вечернего солнца ложились на веснушчатую кожу моей матери, на серую складчатую шкуру Лаванды. Она ступала так неслышно и мягко, что казалось, к ее гигантским ступням привязаны подушки. Подобная грация для столь массивного животного казалась просто чудом. Она могла уничтожить нас одним взмахом хобота, но вместо этого позволила нам покататься на своей надежной, усталой спине.
— Сиддали, — велела мама, — закрой на минуту глаза.
Я послушалась. И мама заговорила своим чудесным, волшебным голосом. Голосом верховной-жрицы-европейской-королевы-цыганской-гадалки:
— О, Лаванда Великолепная, унеси Сиддали и Виви Уокер прочь от этой раскаленной асфальтовой парковки! Верни в непокоренные зеленые джунгли, откуда мы явились. Сиддали, ты готова? Хочешь в джунгли?
— Да, мама, готова! Хочу!
— Тогда открой глаза. Открой глаза и смотри, как Виви и Сидда из великого и могущественного племени я-я совершают свой великий исход на спине королевской Лаванды!
Господи Боже! Взгляни на это! Лаванда прыгает через канаву! Она вышла с парковки! О Боже, я просто не верю! Мы переходим шоссе! Сидда, посмотри! Посмотри, люди выскакивают из машин, не веря собственным глазам! О, они в жизни не видели, как слон уходит на волю с членами королевского племени я-я на спине! Такое им и не снилось! Помаши рукой, мивочка, как делают все настоящие королевы и принцессы!
Да-да! Мы на Лавандамобиле! Слушай ее трубный рев! И держись! Взгляни на нее! Мы мчимся через шоссе быстрее, чем на самолете. Мимо салона красоты, мимо похоронного бюро Хэмптона, где наше появление поражает скорбящих. Мимо «Торнтон дейли монитор», которому еще никогда не доводилось публиковать столь потрясающих новостей. Мимо старой конторы отца, мимо универмага Уэлена, где мы больше ничего не захотим купить. Мимо кафе «Ривер-стрит», и…
О! О, дружище! Держи шляпу! Мы поднимаемся по дамбе! Солнце садится, небо становится фиолетово-синим, и появляются звезды. Вот Большая Медведица, а вот — Малая. Это Пегас! Протяни руку, подружка, зачерпни пригоршню звезд! Отсюда, со спины Лаванды, мы можем коснуться неба! А теперь входим в Гарнет-Ривер, красную, медленно ползущую воду. Какая мощная пловчиха! Ощути, как погружается в воду Лаванда, дышит через свой длинный хобот! Даже аллигаторы боятся с ней связываться! Оно могла бы оставаться под водой сколько угодно, но всплывает, чтобы дать нам дышать.
О нет! Взгляни на дамбу! Это стреляют злые разбойники! У них копья и пистолеты! Но они не захватят наши сундуки из слоновой кости, не получат наши разбитые сердца! Мы не безделушки, чтобы лежать в шкатулках для драгоценностей! О нет, дружище, они еще расскажут о нас детям своих детей! О матери и дочери, сумевших сбежать от их копий!
Давай, сильная, добрая, умная Лаванда! Еще несколько футов — и нас ждет другой берег. Ах да, да. Мы вырвались! А теперь можем отдохнуть. Отдыхай, добрая великанша, отдыхай и ешь все, что хочешь.
Моя дорогая дочь, мы наконец на месте. Дома, в буйных зеленых плодородных джунглях! Чувствуешь, какой бархатный воздух? Ощущаешь запах бананов и древних деревьев? Слышишь голоса птиц и крики миллионов обезьян? Видишь, как они прыгают с дерева на дерево? Это наш настоящий дом. Ни к чему кондиционеры, не нужны наличные, и можно весь год ходить босиком, там, где деревья и животные знают, как нас зовут, а мы знаем их имена. Да-а-а-а! Скажи, Сидда! Скажи вместе со мной: «Да-а-а-а!»
И нам нечего бояться! Лаванда любит нас, и мы не боимся!
Сидда помолчала и снова подняла ключик.
— Все, что мы сделали, — объехали эту жалкую парковку торгового центра, но когда спустились на землю, я уже была другой. Мы вернулись в машину и помчались по Джефферсон-стрит в ранние сумерки. Я не отрывала глаз от матери, босой и что-то напевающей. Не отводя взгляда от дороги, она положила свою руку поверх моей. Ее кожа была мягкой и прохладной. Мимо мелькали знакомые места, которые мы видели каждый день, но сегодня мир за окнами машины казался напоенным тайной, новым и неизведанным.
Сидда в последний раз посмотрела на ключик.
Это жизнь, Сидда. Приходится каждый день обуздывать чудовищ и пускаться вскачь.
Она шагнула к Коннору, отняла креманку с шампанским и села ему на колени, лицом к лицу. И начала целовать, одновременно стягивая джемпер, который успела надеть после купания.
Сначала они занимались любовью на веранде, и Сидда, оседлавшая Коннора, никак не хотела вставать. Потом они перешли в спальню. Закрыв глаза, Сидда представляла себя и его спутником, затерявшимся в открытом космосе, но это ее не пугало. Впервые она не боялась открыться этому мужчине, себе, бесконечно широкой Вселенной, над которой не имела власти. И на этот раз, когда их наслаждение слилось воедино, Сидда не плакала. Громко рассмеялась, как счастливый, восторженный ребенок.
Когда Коннор заснул, Сидда выскользнула из постели, пошла в большую комнату и выбрала кассету из своей музыкальной коллекции. Вынесла на веранду маленький магнитофон, вылила из бутылки остатки шампанского и поставила запись «Аве Мария» в исполнении Аарона Невилла, которую как-то сделала сама. И долго стояла голая, в лунном свете, снова и снова слушая молитву.
«Мы с матерью похожи на слонов, — думала она. — В тишине ночи, на другом конце страны, вне зоны слышимости, отделенная бесплодными сухими саваннами, мать посылает мне безмолвную поддержку. В сезон засухи, когда я струсила перед лицом любви, мать не бросила меня. Она не персонаж пьесы, чей характер складывается из бесчисленных крохотных фрагментов, а я уже не тот тощий, нервный ребенок, ожидающий идеальной любви. У нас обеих свои недостатки. Мы обе ищем утешения. Мама мечтала и мечтает сейчас вырваться из засушливого жаркого места, где страх держит ее в оковах паники, а бурбон — в клетке похмельного тумана. Она по-прежнему жаждет вернуться вместе со мной в бескрайние цветущие джунгли на спине грациозного животного».
Сидда подняла бокал, разглядывая пузырьки в лунном свете. «Моя мать не Пресвятая Дева. И ее любовь не совершенна. Но может, несовершенна и я?!»
Прошло минут двадцать, прежде чем она увидела первую падающую звезду. И вдруг небо расцветил метеоритный дождь. Сидда стояла не шевелясь, слушая и наблюдая. У ее ног появилась Хьюэлин. Небо было таким чистым, заходящая луна такой доброй. И ни один городской огонек не портил пейзаж. Свет метеоров из такой дали и такой древний, что даже трудно представить до чего. Да и что тут представлять? Вот ее колотящееся сердце. Вот бьющееся сердце планеты. И времени у нее достаточно. Она не боялась.
30
Проспав до полудня, Коннор и Сидда, в майках и шортах, устроились на веранде и слушали диск Вэна Моррисона[87]. Хьюэлин разве что не всхлипывала от счастья, поедая кусочки бекона с тарелки Коннора. Он приготовил любимый завтрак Сидды: гренки с кленовым сиропом.
В душе Сидды воцарились мир и покой. Да и что еще нужно: тишина, свежий воздух, горы и деревья, синева озера и они трое на веранде.
— Спасибо, Коннор. За то, что выслушал. За то, что любишь, — прошептала она. Он медленно улыбнулся, прежде чем положить в рот кусочек дыни.
— О какой это вечеринке в честь дня рождения Виви говорили сестры?
— Сестры? — удивилась Сидда.
— Я-я. Если ты и твоя мать — слонихи, то остальные три — сестры слоних. Знаешь, те, что всюду следуют за главной и помогают ей со слонятами.
— Ты меня поражаешь!
— Эй, я тоже смотрю телевизор. Когда у Виви день рождения?
— Вообще в декабре. Но в этом году собираются праздновать в конце октября, потому что мама хочет накрыть столы во дворе, пока погода хорошая.
— Почему бы тебе не вернуть ей альбом лично?
Сидда отложила вилку и уставилась на Коннора.
— Ты спятил? Она все еще злится из-за «Нью-Йорк таймс». Прикончит меня, стоит лишь появиться ей на глаза.
— Знаешь, — вздохнул Коннор, — никому в голову не придет, что ты работаешь в театре!
— Что, чересчур мелодраматично? — засмеялась она. — Я? Да никогда в жизни.
— Ну конечно, нет, — согласился Коннор.
— Ну конечно, нет, — подтвердила она.
— Кстати, я почти ничего не знаю о твоем отце. Должно быть, храбрый человек.
— Ты это о чем?
— Брось! Не очень легко жить с такой сильной женщиной и в окружении я-я. Они все друг за друга горой.
Сидда тоже потянулась за дыней. Она совсем недавно поняла, как скучает по отцу.
— Его никогда не было дома. Я была так одержима матерью, что, похоже, не уделяла особого внимания отцу.
— Странно. Тинси сказала, что у тебя его ресницы, — заметил Коннор.
— Тинси так сказала?
— Да. И добавила, что ресницы твоей матери исчезают, когда она входит в воду. Это было, когда мы плавали на озере.
Сидда покачала головой:
— Одному Богу известно, что еще они тебе наговорили, стоило мне отвернуться.
— Ты и представить не можешь, — подтвердил Коннор.
Сидда, не устояв против соблазна, сунула палец в остатки кленового сиропа и поднесла к губам Коннора.
— Знаешь, октябрь мой любимый месяц на юге. Нет ничего фантастичнее, чем Хэллоуин в великом штате Луизиана.
— Ниси сказала, что будет готовить для меня, — похвастался Коннор. — Тинси хочет познакомить с кейджанской музыкой, а Каро уже вызвала на состязания по свисту. Я слышу зов Луизианы.
— Октябрь, — произнесла Сидда вслух. — Время жатвы. Не слишком жарко, идеальная погода. Репетиции будут закончены, спектакль поставлен, и мы сможем отдохнуть.
Коннор кивнул и подмигнул Сидде. Та подмигнула в ответ и скормила Хьюэлин последний ломтик бекона. Потом встала, подошла к перилам и широко раскинула руки.
— Слышишь, Пресвятая Владычица? Боги и богини? Ангелы? Спасибо за то, что сделали меня и Коннора Макгилла родственными душами, половинками единого целого! Спасибо за поцелуи, сладкие, как фальцет Аарона Невилла! Спасибо за незнание, за догадки, за прыжок в темноту!
— Насколько я понял, мы едем в Луизиану вместе! — воскликнул Коннор.
— Угу, — пробурчала Сидда. — Прививки и паспорта имеются?
— Люблю жить рискованно, — отмахнулся Коннор.
31
«8 сентября 1993 г.
Дорогая мама!
Я так и не поблагодарила тебя как следует за ту поездку на спине Лаванды. За наше путешествие в дикие джунгли, за твою храбрость, за верность мне на раскаленном асфальте парковки «Саутгейт шопинг сентр».
Оказывается, я не поблагодарила тебя за очень многое.
Я-я рассказали о твоей именинной вечеринке в октябре. Будут ли желанными гостями дочь из далекого города и ее суженый?
И спасибо за присланное этуфе из лангустов. Твоя кухня — это лучшее, что есть в Луизиане, сконцентрированное в одном блюде. Тронувшем меня до слез.
Я тебя люблю.
Сидда».
«16 сентября 1993 г.
Сидда, мивочка…
Я действительно заслуживаю всех благодарностей. И Лаванда, Наша Всеобщая Мать, тоже! Рада, что ты для разнообразия вспомнила о чем-то хорошем.
Что же до моего дня рождения, придется тебе рискнуть. Понятия не имею, буду я в гостеприимном настроении или нет. Это мой день рождения, и я вовсе не желаю, чтобы это событие обсуждалось в американской прессе.
Ты должна дать мне знать насчет свадьбы: она состоится или что?
С любовью,
мама».
«20 сентября 1993 г.
Дорогая мама!
Свадебные планы никто не отменял. Насчет вечеринки… поживем-увидим. Будем действовать по обстоятельствам, договорились?
Я тебя люблю.
Сидда».
«26 сентября 1993 г.
Сидда, мивочка!
Жизнь коротка, дружище. Не слишком медли со свадьбой, иначе обнаружишь, что эта самая жизнь позади.
Что же до моей именинной вечеринке в Пекан-Гроув, 18 октября, начинающейся около семи вечера… я собираюсь следовать твоему примеру и действовать по обстоятельствам.
С любовью,
мама».
В ночь на семнадцатое октября, за день до того, как они с Коннором должны были лететь из Сиэтла в Луизиану, Сидда очень осторожно сфотографировала старые снимки и памятные бумаги и вещицы, хранившиеся в альбоме «Божественные секреты». И бережнее всего она обращалась с фото, которые отыскала только вернувшись в Сиэтл. Где-то на последних страницах лежал портрет блондинки с темными глазами, сидевшей на качелях с рыжеватой малышкой на руках. Обе одеты в хорошенькие летние платьица и красиво подсвечены солнцем. Сидда сфотографировала портрет несколько раз и с каждым новым кадром все глубже погружалась в очарование момента, запечатленного на снимке.
Опустив камеру, она прочла надпись на обороте: «Виви и Сидда, 1953 г. Чудесный день, розовое платье. Снимала Багги».
Израсходовав восемь рулонов пленки, Сидда закрыла альбом и положила на обеденный стол. По обе стороны она поставила освященные свечи, одну с изображениями нашей Владычицы Гуадалупской и святого Иуды. Зажгла свечу, выключила свет и прочитала благодарственную молитвы Пресвятой Деве и ангелам ее. И только потом почти с нежностью взяла «Божественные секреты племени я-я», завернула в шелковую наволочку и положила в большой пластиковый пакет. Все это спрятала в сумку, вместе с маленьким свертком в яркой обертке.
И теперь, в четвертый раз с начала полета, проверяла, на месте ли альбом. Глотнула диетической колы и откинула голову на спинку кресла.
— Может, я рехнулась, когда решила лететь? — спросила она Коннора. — Похоже, мивочка Виви все еще сердится. Страшно подумать, что случится.
— Твоя мать пока еще не владеет Луизианой, — ответил Коннор.
— Еще как владеет! Она королева центральной Луизианы. Но она стареет. И жить ей не вечно. Я хочу ее видеть.
— Чего ты ждешь от этого визита? — спросил Коннор.
— О, всего лишь полного заживления всех ран и избавления от всяческой боли. Что-то в этом роде. А чего хочешь ты?
— Жениться на тебе в твоем родном городе.
Сидда поперхнулась орешком и поспешно схватила бутылку с колой. Немного придя в себя, она сказала:
— Я не собираюсь касаться этой темы прямо сейчас. О’кей?
— Прямо сейчас не стоит, — согласился он. — Особенно на людях.
По мере того как самолет углублялся в самое сердце страны, земля расцветала оранжево-красными и желтыми сполохами октября. Сидда и Коннор играли партию за партией в кункен, ставя на карту все: от поездки в Тоскану до массажа спины и других, более интимных удовольствий, о которых знали только они двое. Игра продолжалась, пока колеса «Боинга-707» не коснулись взлетной полосы аэропорта Хьюстона, где погода резко испортилась, нагнетая и без того мелодраматичную обстановку. Злобный, коварный ураган, зародившись где-то на побережье Африки, держал Хьюстон в клещах своего буйного разгула.
Тщательно продуманные планы Сидды: прибыть в Торнтон заранее, устроиться в гостинице, принять душ, переодеться и во всем блеске прибыть на вечеринку к самому началу — бесславно провалились. Во время трехчасового ожидания в кафе аэропорта у Сидды хватило времени в тысячный раз спросить себя и Коннора, не было ли ее возвращение в землю ураганов, субтропиков и циклонов трагической ошибкой.
— Совершенно забыла, что начинается сезон ураганов, — твердила она Коннору. — Нам вообще не следовало затевать это путешествие. Иисусе!
— Когда ты в последний раз была дома? Пару лет назад? И тоже в октябре, верно?
— Верно, — кивнула Сидда. — На крестинах моей крестной Ли.
— И никакого урагана не было? — допытывался Коннор.
— Нет. Только заурядные психологические шквалы и душевные тайфуны.
— Что же, — задумчиво протянул Коннор, — может, мы и не успеем. И следовало бы устроиться в хьюстонской гостинице.
— Смеешься? И пропустить вечеринку? Ни за что на свете! Если рейс не выпустят, возьмем напрокат машину и поедем.
— Именно так я и думал.
— Остряк-самоучка!
Когда маленький легкий самолет, направлявшийся из Хьюстона в Торнтон, приготовился взлететь, Сидда восприняла это как хороший знак: это означает, что мать ее не убьет.
К тому времени как самолет приземлился в крохотном аэропорту Торнтона, было почти десять вечера. Она взяли напрокат машину, едва не лопнув от смеха, когда единственным имевшимся в наличии автомобилем оказался большой серебристый роскошный «крайслер», обитый изнутри вишневой кожей, уместный скорее на Пятой авеню.
Когда они свернули с шоссе номер один на Джефферсон-стрит, Сидда пожалела, что не курит.
— Час коктейлей наступил и прошел, — сообщила она Коннору, — так что трудно сказать, в какой Виви форме. Да и отец тоже.
— Ты знаешь, как с этим управляться.
— Да, — пробормотала Сидда, борясь с тошнотой, — знаю, но, черт побери, что бы я не отдала за готовый сценарий в руках!
При виде родительского дома она резко сбросила скорость. Длинное кирпичное здание на холме над байю выглядело иначе, чем в ее памяти. Сосны словно выросли еще больше. Пекановые деревья и азалии состарились, а плющ закрывал всю боковую стену. Все казалось более устоявшимся и мирным, чем помнила Сидда.
На краю поля по-прежнему стоял маленький деревянный каркасный домик, где жили Вилетта и Чейни. И что-то в его незамысловатых очертаниях помогло Сидде не повернуть обратно.
— Ну, если мы сумели добраться сюда, — пробормотала она, пока машина ползла по длинной подъездной дороге, — можем по крайней мере заглянуть на часок.
Она медленно подкатила к крыльцу, и первыми, кого увидела, выключив зажигание, были ее родители, сидевшие на деревянных качелях под старыми пеканами. Качели были увиты рождественской гирляндой, и Виви с Шепом окружал ореол праздничного сияния. На Виви был шелковый брючный костюм рыже-золотистого цвета. Пепельные волосы в модной стрижке «паж» взлетали, когда Виви покачивала головой. Шеп ради такого случая надел светло-серые джинсы «Докерс» и рубашку в серо-голубую клетку. Оба за последние два года заметно состарились.
Сидда, не двигаясь с места, наблюдала, как оживленно жестикулирует руками мать. К собственному удивлению, она не узнала человека, сидевшего напротив. Сидда почему-то была уверена, что знает всех и каждого в округе, несмотря на то что вот уже двадцать пять лет не жила здесь. Машин во дворе почти не было: очевидно, большинство гостей разъехались.
Родители явно впервые видели их прокатный автомобиль и не подозревали, кто в нем сидит. Набрав в грудь воздуха, Сидда помолилась Пресвятой Владычице и ее отряду луизианских ангелов и нажала на клаксон.
— Возьми меня за руку и скажи, что я не безумна, — прошептала она Коннору.
— Ты не безумна, и я тебя люблю.
Мать сразу поднялась и направилась к машине, и Сидда вдруг с ужасом поняла, как медленно она движется. И похоже, стала немного ниже, словно съежилась, однако при всем при том выглядит абсолютно здоровой и крепкой. И с каждым ее шагом сердце Сидды билось сильнее.
Когда Виви подошла совсем близко, Сидда опустила стекло.
— Это я, мама, — с трудом выговорила она, и собственный голос показался ей чужим. Она попыталась не чувствовать себя пятилетним ребенком. Хотя бы одиннадцатилетним, и то хорошо…
Мать нагнулась, и Сидда ощутила запах бурбона, смешанный с до боли знакомым ароматом Виви.
— Сидда?! — ахнула та. — Это действительно ты?
Сидда с облегчением поняла, что мать не пьяна, только чуть под хмельком.
— Да, мэм, — прошептала она, — это я.
Виви не сразу ответила, и Сидда испугалась, что она сейчас повернется и уйдет. Но тут Виви сунула два пальца в рот и издала знаменитый лихой свист я-я.
— Ты, сумасшедшая идиотка! Во имя всего святого, как ты тут оказалась?
— Приехала на твой день рождения. Решила рискнуть.
— Святая Матерь Жемчуга! — воскликнула Виви, оборачиваясь к Шепу и неизвестному гостю. — Представляете? Это Сиддали! Мое старшее дитя!
Сидда вышла из машины и попала в объятия матери.
— С днем рождения, мама, — прошептала она.
Женщины немного постояли обнявшись, прежде чем Виви напряглась и отступила.
— Поверить не могу! — нервно бросила она. — Ты психопатка! Я не думала, что ты в самом деле приедешь!
Обогнув машину, она заглянула в противоположное окно.
— А вы кто?
— Коннор Макгилл, миссис Уокер, — широко улыбнулся он.
Виви охнула и, потрясенно всплеснув руками, отпрянула, Сидда затаила дыхание.
— Пресвятой Боженька, — протараторила Виви, шагнув обратно. — Просто невероятно! И что вы тут сидите, мивок? Немедленно вылезайте и дайте как следует взглянуть на вас!
Неловко выпростав длинные ноги из машины, Коннор встал с Виви, казавшейся рядом с ним просто крошечной. Коннор вроде бы ничуть не смущался под ее взглядом. Спокойный, с открытым лицом, он не двигался с места, позволяя себя рассматривать. Виви прижимала руку к груди, словно стараясь умерить стук сердца. Сидда встревожилась, не зная, что выкинет мать. Но Виви только охнула. Раз, другой. Тоненьким девичьим голоском.
И обняла себя за талию порывистым жестом, никогда до этих пор не виденным дочерью. Почему она молчит? Может, ей больно?
Наконец Виви порывисто уперлась кулаками в бедра.
— Сидда, — спросила она, — почему ты не сказала, что Коннор как две капли воды похож на Джимми Стюарта в «Мистер Смит едет в Вашингтон»?
Коннор рассмеялся.
— Ну и ну, — продолжала Виви, протягивая руку любовнику дочери. — Всегда обожала высоких мужчин!
И тут Коннор окончательно потряс Сидду, почтительно поцеловав руку Виви. Поднес к губам и поцеловал! Сидда едва не упала в обморок.
— Очень рад наконец познакомиться, миссис Уокер, — сказал он.
— О, пожалуйста, просто Виви, иначе я начинаю чувствовать себя ужасно старой, — кокетливо запротестовала она.
— Ты и есть старая, детка, — заметил подошедший Шеп Уокер.
— Ах, заткнись, пожалуйста, — засмеялась Виви. — И не смей выдавать моих секретов. Шеп, это Коннор Макгилл. Коннор, познакомьтесь с моим первым мужем, — пошутила она с таким видом, словно в списке числилась целая вереница мужей.
— Шеп Уокер, — представился отец Сидды, протягивая руку.
— Коннор Макгилл, сэр. Рад познакомиться.
На несколько секунд Сидда оказалась вне этого треугольника и сейчас стояла, наблюдая за матерью, наслаждавшейся наиболее предпочтительным соотношением «двое мужчин — одна Виви» и поглощенной любимым, старым как мир видом спорта: боевым флиртом, имеющим цель стравить соперников. Отец, правда, явно ждал от жены то ли знака, то ли прямого разрешения поздороваться с дочерью.
— Повезло вам добраться сюда, тем более что старина ураган еще не унялся, — заметил он.
— В Хьюстоне до сих пор льет дождь, а ветер только что крыши не сносит, — подтвердил Коннор.
— Поэтому мы и опоздали, — вторила Сидда.
— Ураган направлялся к нам, — сообщил Шеп. — Я здорово рад, что он передумал и обрушился на залив.
— Грандиозный старый Мексиканский залив! — воскликнула Виви, беря мужа под руку. — Он поглотил немало ураганов. Справится и с этим. Вы были на заливе, Коннор?
— Нет, никогда. Но Сидда много о нем рассказывала.
После тактичного отказа Коннора окончательно исключить Сидду из общего разговора Виви повернулась к мужу:
— Шеп, ты помнишь Сидду? Наша дочь с влиятельными связями в национальной прессе.
Сидда и Шеп одновременно шагнули друг к другу. Крепко и наскоро обняв дочь, отец прошептал:
— Скучал по тебе, детка. Очень скучал.
Сидда отлично понимала, что мать пристально следит за происходящим. Придется быть начеку. Мама подобна урагану. Такая же свирепость. Такая же красота. И никогда не знаешь, когда он разразится.
— У вас прекрасная усадьба, мистер Уокер, — похвалил Коннор.
— Видели бы вы ее днем! — обрадовался Шеп. — Это поле полно сюрпризов, уж поверьте. А какой у меня рис! Да и лангусты неплохи.
— Господи! Я совсем забыла про гостей! — всполошилась Виви, энергично махая рукой мужчине, с которым беседовала до приезда дочери. — Совсем из ума выжила! Где мои манеры?! Мивый, немедленно иди сюда!
Невысокий жилистый человек лет семидесяти шагнул к машине. Клетчатая бабочка и дорогая сорочка придавали ему вид стареющего жокея.
— Сидда, bebe! — воскликнул он, дружески обнимая ее. — Тинси была права. Ты неотразима.
— Чак! — обрадовалась Сидда. — Какое счастье видеть тебя!
— Вы, должно быть, Коннор, — продолжал Чак, целуя его в щеку на европейский манер. — Я меньшая половинка Тинси. Она просто бредит вами. Добро пожаловать в Торнтон, где греховная южная половина штата соединяется с жадным до покаяния Севером.
Снова обняв Сидду, он пристально всмотрелся в ее лицо и добавил:
— И нос просто шикарный.
— Нос? — удивился Коннор.
— Она снесла половину этого курносого красавца, столкнувшись с трамплином во время первого прыжка, — пояснил Чак. — Счастлив видеть, что он снова вырос.
До чего же чудесно нежиться в объятиях Чака! И вспоминать о той Пасхе, когда он и Тинси помогли сохранить ее семью.
— Дорогой мой, как же мы давно не виделись, — улыбнулась она. — Где Тинси? И остальные я-я?
— Тинси нуждается в отдыхе, чтобы сохранить красоту. Ниси и Каро последовали ее примеру. Я последний из старой гвардии, дорогая, но силы уже не те. Мне тоже пора на покой. Кроме того, я достаточно истощил хозяйское гостеприимство.
— Никогда! И ты это знаешь! — возмутилась Виви.
— Потрясающая вечеринка! — поклялся Чак, целуя Виви. — Еще раз с днем рождения, Виви. Невозможно поверить, что тебе уже тридцать девять. Явно придает новый смысл выражению «неподвластный времени».
Виви засмеялась и тоже поцеловала его.
— Доброй ночи, Чак, — сказал Шеп, обнимая его за плечи. — Спасибо за помощь.
— Доброй ночи, Сидда, Коннор, — кивнул Чак, направляясь к безупречно отреставрированному «бентли». — Сидда, пожалуйста, не стесняйся объяснить своему amoreux[88], что я не настоящий кейджан. Что поделать, если мне выпало счастье жениться на принцессе!
— Думаю, мне тоже не мешает выспаться, — заявил Шеп, едва отъехал «бентли». — Последнее время я после десяти вечера мало на что гожусь.
— Поразительно, что ты протянул так долго, — поддела Виви.
— Маленькая птичка шепнула, что сегодня вечером нас может ждать сюрприз, — хмыкнул он, едва заметно подмигнув Сидде. — Эти я-я — ужасно болтливый народец!
Сидда быстро чмокнула отца в щеку.
— Доброй ночи, папочка. Я тебя люблю.
— И я, моя горошинка. Очень.
В этот момент откуда-то из-за дома послышались взрывы раскатистого смеха.
— Кто там? — удивилась Сидда. — Еще гости?
— Наша Матерь Жемчуга! — всполошилась Виви. — Едва не забыла! На причале сидит твой дядя Пит с мальчишками. Играют в бурре вот уже невесть сколько времени!
— Бурре? — недоуменно переспросил Коннор.
— Ну да, — подтвердила Виви, вскинув брови. — Пойдемте туда. А вы играете, Коннор?
— О нет, мэм.
Сидда так и приросла к земле, услышав это «мэм». Подобные выражения никогда еще не слетали с губ этого природного янки.
— Сидда только недавно рассказала мне о бурре, — продолжал он. — Я с удовольствием посмотрел бы.
— Коннор настоящий ас в покере, мама, — вставила Сидда. — В каждом театре, где он работает, у него полно приятелей по покеру. Ночами просиживают — что в Нью-Йорке, что в Мэне, что в Сиэтле.
Она знала, что всякий картежник пользовался самыми искренними симпатиями Виви независимо от того, был ли он шулером, мошенником или республиканцем.
— Что может знать Сидда о бурре? — презрительно фыркнула Виви. — Она в жизни не играла.
— Верно, мама, — кивнула Сидда. — Зато рассказала Коннору, какой ты блестящий игрок.
— Да. И клялась, что вы одна из лучших во всем штате, — польстил Коннор.
Виви остановилась и перевела взгляд с дочери на будущего зятя.
— Это вы пытаетесь меня умаслить? — догадалась она с широкой улыбкой. — Ладно, считайте, что я настолько доверчива.
Сидда едва не заплакала, увидев, в какой восторг пришла мать от такой мелочи.
— Ужасно рада, что ты встречаешься с картежником, Сиддали, — похвалила Виви. — Жду не дождусь, когда можно будет отнять у него последние денежки.
Она привела Коннора и Сидду на маленький, выдававшийся в воду причал позади дома Уокеров. Там, в свете двух старых торшеров, от которых отходил длинный оранжевый шнур, исчезавший в маленьком домике для игр, где Сидда когда-то устраивала чай для подруг, стоял карточный стол. На небольшом походном табурете красовалось блюдо с едой. Вокруг стола на складных стульях сидели братья Сидды, Бейлор и Малыш Шеп, ее дядя Пит и кузен Джон Генри Эббот. Из небольшого плеера несся голос Ирмы Томас, поющей блюз. С деревьев, клонившихся над водой, словно ведьмины волосы, свисал седой испанский мох.
Наконец-то она очутилась в самом сердце Луизианы! Сейчас бы поднять занавес, выйти на сцену и объявить: «Это и есть моя родина!»
Но тут не сцена. Ее тянет устроить бестолковую непредсказуемую импровизацию!
Заметив Сидду, игроки, как один, окаменели от изумления. Сидда прекрасно понимала, о чем они думают: «Теперь держись, Сидда и Виви оказались в одном штате! И носи они оружие, наверняка уже схватились бы за пистолеты».
Страшно представить, что им пришлось вынести! Бедняги оказались между молотом и наковальней. События развивались стремительно. Отказ Бейлора представлять Виви в иске против Сидды. Рассылка всем родственникам заверенных нотариусом писем с формальным извещением о лишении старшей дочери наследства. Широко известное (в Торнтоне) увольнение поверенного, много лет представлявшего семью Уокер, за совет хорошенько подумать, прежде чем вычеркивать Сидду из завещания. Многократные попытки Виви добраться до Артура О. Зальцбергера-младшего, издателя «Нью-Йорк таймс», с целью высказать все, что она о нем думает. Отчаянные и бесплодные старания Виви заставить руководство библиотеки округа Гарнет сжечь выпуск и микрофиш номера «Нью-Йорк таймс» с оскорбительным интервью. Последующий отказ от абонемента. И конечно, ее восторг от собственной проделки, когда пришлось восстановить абонемент под вымышленным именем.
Бейлор неизменно сообщал Сидде о каждом новом событии, надеясь, что провинциальная драма маленького городишки искренне рассмешит сестру, но ее осиротевшее сердце болело еще сильнее. Поэтому сейчас было трудно осуждать родственников, не спешивших ее обнять.
К чести Бейлора нужно сказать, что он очнулся первым. Перекрестился, шлепнул картами о стол и вразвалочку подошел к Сидде. Не успела та оглянуться, как он подхватил ее, подбросил, закружил и притворился, будто хочет швырнуть в воду.
— Давай! — загомонили остальные. — Действуй! Ее давно пора немного подмочить! Окрестить в байю!
— Только посмейте! — весело завизжала Сидда.
В последнюю минуту Бейлор остановился, поставил ее на землю и сгреб своими лапищами.
— Ах ты, маленькая хитрюга! Как это ты пробралась сюда без моего ведома?! И никто не известил меня, Великого Стража?! Я думал, твой паспорт конфискован!
— Да уж, за ней нужен глаз да глаз! — вторила Виви.
Повернувшись к Малышу Шепу, так и не поднявшемуся из-за стола, Сидда сказала на «поросячьей латыни»[89]:
— Здравкаствуйка, Шепака-братика.
— Иди сюда, старшая сестричка, и обними меня, — потребовал он. — Думал, что уже никогда тебя не увижу.
Сидда едва не задохнулась в его медвежьих объятиях.
— Господи, какая ты красавица, — шепнул он, гладя ее по голове. — Что за волосы, что за кожа! И как ты ухитряешься выглядеть так здорово?
— Удача? Любовь? Близорукий младший брат? — предположила Сидда.
— Нет, правда, — засмеялся Малыш Шеп. — Здешние женщины недолго цветут, Сидда.
— Покорнейше прошу прощения, — вмешалась Виви.
— Нет, мама, — принялся оправдываться он. — Я имел в виду только свою возрастную группу!
— А вот на этом месте тебе лучше остановиться, сынок, — посоветовал дядя Пит.
— Как ты поживаешь, Шеп? — спросила Сидда.
— Грех жаловаться, сестричка. Разыгрываю сданные карты. Прости, что не отвечал на письма. Жизнь, сама понимаешь.
— Сидда, — улыбнулся дядя Пит, выступив вперед и тоже обняв ее, — рад видеть тебя дома. Давненько не встречались.
Виви предостерегающе кашлянула, и он немедленно обхватил плечи сестры.
— Наша именинница, — тепло объявил он. — Как ты, моя маленькая Вонючка?
Виви, смеясь, прижала руку брата к своему сердцу.
— Пока что это лучшая вечеринка из всех, что у меня были. И все здесь, кроме Лулу.
— Кстати, а где Лулу? — вспомнила Сидда. Они с сестрой почти не общались, а после газетного скандала Лулу вообще исчезла из вида.
— Талула в Париже, — сообщила Виви. — Оставила свой дизайнерский бизнес на партнера и упорхнула во Францию.
— Вернее, упорхнула с французом, — поправил Бейлор.
— Его семья владеет там винодельней, и буквально на днях он получает развод, — добавила Виви.
Сидда взяла Коннора за руку:
— Хочу представить всем вам Коннора Макгилла, моего любимого янки. И кстати, он чертовски хорошо играет в карты.
Коннор громко застонал.
— Нет-нет, она все не так поняла! Спутала с каким-то другим янки — мы все на одно лицо Я не отличу королевы от двойки… я хотел сказать «двух».
— Ну да, как же, — кивнул Бейлор, пожимая ему руку. — Слыхал я о парнях из Мэна. Настоящие головорезы. Все эти долгие ночи и тому подобное. Бери стул, дружище, выпей пивка. Будем рады обчистить тебя… то есть ввести в беспощадный мир луизианского бурре. Мы со старшим братом научились бурре еще в колыбелях, когда сосали бутылочки, сдобренные бурбоном.
— Спятивший идиот, — с наслаждением выговорила Виви. — Это был не бурбон, а табаско!
— Что нужно сделать чужаку, чтобы заслужить глоток пива?
— Не стесняйся, Коннор, — пригласил дядя Пит. — У нас еще остались холодные креветки и жареные лягушачьи ножки.
— Да я лучше поплаваю среди акул байю, — ужаснулся Коннор, открывая бутылку и придвигая стул.
Все засмеялись. Очевидно, им понравился Коннор. Сидда только улыбалась, глядя, как на ее глазах театральный художник, получивший образование в Йеле, превращается в Доброго Старину Коннора.
Он глотнул пива, встал, подошел к Сидде, перегнул ее через руку и без всякой видимой причины, если не считать колдовства байю, запечатлел на губах крепкий влажный поцелуй.
Вся шайка под зорким взглядом Виви радостно завопила, и Сидде все это было как бальзам на душу.
Уводя Сидду в дом, мать сказала:
— Гости почти все съели, но кое-что все-таки осталось. Давай я тебя покормлю.
Пока она возилась на кухне, Сидда вышла во двор и села на качели. Рядом стояли кейджанская плита и несколько столов: должно быть, здесь варили лангустов.
Виви на секунду замерла в дверях: мгновенное колебание, граничащее с застенчивостью. Но это продолжалось какие-то доли секунды, прежде чем она направилась к Сидде и протянула бокал шампанского и глубокую тарелку, до краев наполненную мясом лангустов, молодым картофелем, кукурузными початками и ломтиками намазанного маслом французского хлеба.
— Спасибо, мама, — выдохнула Сидда, только сейчас осознав, как проголодалась.
— Твой отец сам готовил. Я и пальцем не шевельнула. Прости, что так мало осталось. Гости все подмели.
— О, хватит и этого, — заверила Сидда.
— Сможешь есть лангустов на качелях или сядешь за стол?
— Мама, я еще не забыла, как высасывать головы луизианских лангустов, где бы при этом ни сидела.
— Возьми салфетки, — велела Виви, вытаскивая из-за пояса два больших квадрата розового полотна.
Заправив один за воротник блузки, как слюнявчик, а другой подложив под тарелку, Сидда принялась чистить лангуста.
— Не хочешь присоединиться? — спросила она, показывая на свободное место рядом с собой.
— Спасибо за то, что предложила мне сесть на мои собственные качели! — отрезала Виви тоном, значения которого Сидда не поняла, и уселась так близко, что их тела соприкасались. Но при этом смотрела прямо перед собой, держа одну руку за спиной. И Сидда вдруг сообразила, что мать до сих пор ни разу не закурила.
Боясь сказать что-то не то, она молча ела лангуста.
— Восхитительно.
— Слава Богу, луизианские мужчины умеют готовить, — откликнулась Виви.
— Но не так восхитительно, как твое этуфе, конечно.
— Ниси тебе оставила?
— Я и забыла, что у еды может быть такой вкус, — призналась Сидда.
— Тебе вправду понравилось?
— Понравилось?! Мама, то этуфе, что ты послала мне, посрамило самого Поля Прудома! По сравнению с тобой он недостоин быть поваром в дешевой забегаловке!
— Что же, спасибо. Я известна своим этуфе, если помнишь. Училась готовить у Женевьевы Уитмен.
— Спасибо, что послала его в Куино, мама.
— Единственное, что я делала хорошо, — кормила вас, — вздохнула Виви. И что-то в ее голосе поразило Сидду. Она неожиданно для себя догадалась, что мать нервничает не меньше ее.
— Ты делала куда больше хорошего, чем дурного! — выпалила она.
Обе замолчали, не зная, что сказать.
— Ты прекрасно выглядишь, мама. Лучше некуда.
— Это ты изумительно выглядишь. Кажется, ты похудела.
Сидда улыбнулась. Наивысшая похвала в устах матери.
— А вот я поправилась. Это все поднятие тяжестей: наращивает мышцы. И бросила курить. Плюс все эти «сникерсы».
— Ты просто невероятна! А я вот уже сколько лет не могу заставить себя поднимать тяжести! — хмыкнула Сидда.
— Я не выгляжу чересчур толстой? — спросила Виви.
Невозможно сосчитать, сколько раз она задавала дочери этот вопрос. Но теперь Сидде послышался иной смысл, словно на самом деле мать спрашивала: «Не слишком ли я погрузнела? И не похудеть ли мне ради тебя?»
— Нет, мама. Ты не выглядишь толстой. В самый раз. Не слишком много, не слишком мало.
Виви, едва освещенная лунным светом, смотрела куда-то вдаль.
— Твой отец, — сказала она, едва сдерживая слезы, — засадил подсолнечником почти триста акров. Это его второй урожай за сезон. Не хлопок. Не соевые бобы. Подсолнечник. Вот подожди, увидишь все это при свете дня. Он твердит, что приманивает птиц для охоты, но все равно никто не поверит. Триста акров подсолнечника, чтобы приманить пару несчастных голубей? Да в день открытия голубиной охоты он только и делает, что щелкает камерой!
Она глубоко вздохнула.
— Представляешь, Сидда, там настоящий Ван Гог! Думаешь, что знаешь человека, если прожила с ним почти пятьдесят лет, а он вдруг берет и выкидывает такое. И все ради красоты.
Она всхлипнула, но тут же шмыгнула носом и легонько похлопала кончиками пальцев под глазами.
— Ах, эти чертовы мешки!
Она повернулась так, чтобы Сидда могла ясно видеть ее темно-карие глаза, молочно-белую кожу с крапинками веснушек, чуть отвисший подбородок.
— Это мой праздник, — капризно заявила Виви тоненьким голоском непослушной девчонки, — хочу и плачу.
И тут же разразилась смехом. Сидда громко вторила ей. Господи, до чего же хорошо снова смеяться со своей матерью!
— Что заставило тебя сделать это? — вырвалось у Виви. — Сесть на самолет и прилететь в такую даль?
— Лаванда. Это все Лаванда.
Виви отвернулась и, помолчав, спросила:
— Ты ничего не вынула из моего альбома? Ничего не потеряла? Все, что там лежит, — бесценно. Эти сокровища не купить ни за какие деньги.
— Я привезла «Божественные секреты племени я-я» с собой, мама. Хочешь, принесу прямо сейчас?
— Нет, не вставай. Потом.
Но Сидда уже шагала к машине. Когда она открыла дверцу, Виви увидела лицо дочери в свете автомобильных огней. Такая красивая и сосредоточенная. Точно такой же она была в молодости.
Сидда вернулась к качелям, захватив альбом и небольшой сверток в подарочной упаковке, который незаметно сунула в карман полотняного жакета. Первым делом она вручила альбом матери.
— Я взяла его с собой в самолет. Не хотела, чтобы с ним что-то случилось. В своей записке ты просила вернуть его в целости и сохранности.
Виви осмотрела альбом. Осторожно погладила переплет и поднесла руки ко рту.
— Речь шла не об альбоме, — прошептала она.
— Мама, — с улыбкой напомнила Сидда, — ты настоятельно подчеркнула, что закажешь меня, если…
— Я хотела, чтобы ты вернулась ко мне живой и невредимой, — призналась Виви.
— О, мама, — с трудом выговорила Сидда, кладя руку на плечо матери. От той пахло знакомыми духами «Ове», волшебной смесью груш, фиалок, фиалкового корня и ветивера. И под этим запахом таился еще один: природный аромат Виви, исходивший от ее кожи, от самых молекул, из которых состояло ее тело. И в ночном воздухе Луизианы Сидда снова ощущала первый запах, который вдохнула, только появившись на свет.
Лампочка на телефонном столбе в конце подъездной дорожки отбрасывала какой-то старомодный, деревенский свет, сливающийся с огнями рождественской гирлянды, развешанной вокруг качелей. Сидда смотрела на мать и замечала ее стареющую, почти прозрачную, покрытую мелкими морщинками кожу. Морщинками, образовавшимися за много лет стараний скрыть страх очаровательной улыбкой. Видела мужество матери. Ее боль.
И, глядя вместе с ней в темноту полей, где росли сотни подсолнухов, Сидда думала, что никогда не узнает свою мать. Не больше, чем отца, Коннора или себя.
Я упустила что-то важное. Дело не в том, чтобы узнать другого человека или научиться его любить. Вопрос, в сущности, очень прост: насколько нежными мы способны быть? И насколько гостеприимными, чтобы принимать себя и других в свои сердца?
И здесь, во дворе плантации Пекан-Гроув, в сердце Луизианы, еще не испытавшей первого в этом году заморозка, Сиддали Уокер сдалась. Отказалась от необходимости знать. Отказалась от необходимости понять. Просто сидела рядом с матерью и чувствовала силу их совместной хрупкости.
Она вернулась домой без сознания вины.
Виви протянула руку, и Сидда взяла ее. Их соединенные ладони лежали между ними на качелях. Обе одновременно опустили глаза и заметили одинаково белую кожу, форму пальцев и расположение вен, разносящих кровь я-я по их телам.
— О Господи, — вздохнула Виви.
— О Господи, — отозвалась Сидда.
Всего несколько звуков… словно мать и дочь дышали одной грудью. И без слов принялись отталкиваться ногами от земли. Качели стали раскачиваться. Не резко и не высоко. Плавно, едва заметно, как колыбель, заключившая в себя мать и дочь, две разные и равные планеты, летящие сквозь космос осенней ночью.
— Я хочу кое-что подарить тебе, — прошептала Виви, сунув руку в карман брюк.
Сидда вопросительно посмотрела на мать. Та молча вложила что-то в ладонь дочери. Разжав пальцы, Сидда увидела маленькую бархатную коробочку. Внутри оказалось кольцо с бриллиантами, подаренное Виви отцом на шестнадцатилетие.
— Отец дал мне его в ночь моего шестнадцатого дня рождения, — просто объяснила Виви. — Однажды я чуть не потеряла его, но сумела вернуть.
И величественно, как жрица, вынула кольцо и дрожащими, мягкими, покрытыми желтыми старческими пятнами руками надела на палец дочери и поцеловала ее ладонь. Не так, как целуют руки любовника, а как целуют пальчики ребенка, розовые, пухлые и такие хрупкие, что сжимается сердце.
Ощутив влагу материнских слез, Сидда, в свою очередь, поднесла к губам ее руку и прижала к щеке. И обе дружно заплакали. Ни рыданий. Ни всхлипов, только молчаливо текущие по щекам слезы.
— Спасибо, мама, — выдохнула Сидда. — За все божественные секреты, которые ты хранила.
— Секреты? — шмыгнула носом Виви. — О, мивочка! Если ты об альбоме, так это чепуха! Половину всей этой чепухи я уже и не помню! Видела бы те документы, что я тебе не послала! Вот где настоящие секреты!
«Это и есть моя мать. Настоящая мать», — думала Сидда.
— Говорю тебе, — сквозь слезы сказала Виви, — стыд и позор, что «Ванда бьюти» больше не выпускают!
— Да, пригодилось бы таким грешницам, как мы, — согласилась Сидда, — то и дело нарушающим Пятую Заповедь Красоты и Привлекательности.
— «Мои любовные лучи постепенно меркнут. И скоро погаснут совсем».
— «Погаснут в окружении морщин и мешков под глазами, — подхватила Сидда. — Любой девушке встречается немало препятствий в войне за любовь».
— Чертовски верно, — согласилась Виви.
— О’кей. Сейчас моя очередь, — объявила Сидда, доставая из кармана сверток, который поцеловала, прежде чем вручить матери.
Виви сорвала розовую обертку и осторожно вынула крохотный стеклянный пузырек — размером с цветок наперстянки. Сосуд был очень старым, и поверх стекла вилась серебряная сеточка. В центре маленькой завинчивающейся крышки зеленела нефритовая горошинка. Виви нерешительно сняла крышку и поднесла пузырек к носу.
— Это не для духов. Для чего-то другого, верно?
— Верно, мама. Для чего-то другого.
Вив задумчиво склонила голову набок.
— Скажи.
— Это называется слезница. Крохотный кувшинчик для слез. В прежнее время это был один из самых драгоценных подарков, который только мог преподнести один человек другому. Это означало, что он разделяет с другом скорбь, которая свела их вместе.
— О, Сидда! — ахнула Виви. — О, дружище!
— Этот, по-моему, относится к викторианской эпохе. Я нашла его в Лондоне несколько лет назад, обшаривая антикварные магазинчики в поисках реквизита.
— И там твои слезы? — спросила Виви, поднимая пузырек.
— Да, но еще осталось много места.
Виви посмотрела на дочь и подмигнула. По крайней мере той так показалось. А может, смаргивала слезу. Потому что в следующую секунду поднесла слезницу к правому глазу и энергично закивала головой, пытаясь стряхнуть слезы в отверстие.
Сидда принялась хохотать. Виви улыбнулась.
— Над чем это ты смеешься, сумасшедшая дурочка? Я ждала такого подарка всю свою жизнь.
— Знаю, — кивнула Сидда, смеясь и плача одновременно. — Знаю.
Но тут Виви встала с качелей и, по-прежнему держа сосуд под глазом, принялась скакать. Сначала на одной ноге. Потом на другой.
Сообразив, что задумала мать, Сидда тоже поднялась и последовала ее примеру, подпрыгивая и наклоняя голову к сосуду, чтобы уронить туда и свои слезы. Виви, со слезницей в руках, и Сидда, с когда-то заложенным, но возвращенным кольцом на пальце, прыгали и плакали. Прыгали, плакали, смеялись и громко, торжествующе, несвязно вопили. Постороннему наблюдателю показалось бы, что эти женщины исполняют странный ритуальный племенной танец. Ритуальный Танец Матери-Дочери Из Едва Не Погибшего, Но Все Еще Могущественного Племени Божественных я-я. Древний обычай передачи слез и бриллиантов. Бриллиантов и слез.
32
Только в начале второго ночи Сидда и Коннор устроились в гостинице «Дом тетушки Мари» на Кейн-Ривер.
— Прямо как в кино, — прошептал Коннор, когда они приближались к дому в стиле креольско-греческого Ренессанса. По обе стороны широкого крыльца шли колонны, а воздух был напоен густыми сладкими ароматами. Мерцание газовых фонарей порождало тени, пляшущие на ставнях и кирпичных стенах, Сидда и Коннор, словно перенесшись назад во времени, очутились в другом веке.
Владелец представился как Томас Лекомт. Проведя Сидду и Коннора через сад к галерее, в номера, устроенные в старых невольничьих бараках позади главного дома, он решил, что эти двое, вполне возможно, родственники, тем более что семья Сидды была ему хорошо знакома.
— Собственно говоря, — начал он, входя в стеклянные двери, ведущие на галерею, — вон тот куст камелии сорта «Румянец леди Хьюм» вырос из черенка, который ваша бабушка по матери дала моему отцу. По-моему, ее звали Мэри Кэтрин Боумен Эббот, верно? Просто гений цветоводства. Чего у нее только не росло! Мой отец тоже был неплох. Помешан на камелиях. Стоило сорвать цветок, и он кричал, что куст обезглавили. Убил бы меня, если бы увидел, как мой садовник обрезал драгоценность вашей бабушки.
Стоя на галерее, Сидда и Коннор смотрели на сад — неистовое изобилие цветущих бегоний, лилий и последних белоснежных листьев каладиума. До них донесся сладкий запах белых цветов имбиря. Окруженный спутанными гривами испанского мха, свисающего с гигантских виргинских дубов, сад прятался за старой кирпичной оградой, увитой плетями розы «Монтана», на которой кое-где еще остались бутоны. В дальнем конце находились фонтан с маленьким бассейном, по одну сторону которого росла персидская сирень, а по другую — мирта с позолоченными и нарумяненными осенью листьями. Различных сортов камелий, азалий, роз, сальвий и жасмина было так много, что красный кирпич, которым был вымощен сад, почти полностью скрылся под зеленью.
Сидда с восхищением разглядывала гигантский куст камелии с большими набухшими бутонами.
— Я и не знала, что Багги — так звали мою бабушку — была столь известным садоводом.
— О, слава такого рода распространяется только в узком кругу единомышленников, — пояснил Томас и, перекрестившись, пробормотал: — Прости меня, папочка.
Коннор, тоже принадлежавший к клану истинных садоводов, прошептал:
— Эта камелия — настоящее сокровище. «Румянец леди Хьюм» такого размера приравнивается к черной жемчужине. Не думал, что они существуют на самом деле.
— Вам давно пора спать, а я вас задерживаю, — всполошился Томас.
Коннор и Сидда смотрели, как он спускается по ступенькам.
— Поверить не могу, что я в Америке! — пробормотал Коннор.
— Ты и не в Америке. Ты в Луизиане. И мы собираемся провести ночь в переделанных под гостиницу невольничьих бараках, словно скопированных прямо с «Саутерн ливин»[90]. Здесь я невольно чувствую себя виноватой. Подумать, сколько несчастий видели эти стены!
Коннор оглядел гостиную, забитую антиквариатом, пушистыми коврами и гравюрами Одюбона[91].
— Верно, много несчастий. Но жизнь текла и здесь. Парочки занимались любовью, рождались дети, люди пели и плакали. Эти стены, вероятнее всего, видели не только страдания, но и радость.
Только когда они улеглись на гигантскую старую кровать, Сидда вкратце рассказала Коннору о примирении с матерью. Но ей не особенно хотелось говорить. Они любили друг друга: коротко, страстно, яростно, сонно, сладостно. Оба устали. Но потом Сидда не заснула сразу. Коннор гладил ее по спине и напевал. Что-то насчет крошечной луковички, растущей под землей, в зимние холода. Он тихо пел до тех пор, пока голос не прервался, а сам он не заснул.
«Если Господь смилостивится, — подумала Сидда, — я буду делить постель с этим мужчиной лет до восьмидесяти».
Через несколько минут она выскользнула из постели, стараясь не разбудить Коннора, и, как была голая, босиком прошла по широким кипарисовым доскам пола, спустилась в сад, в теплую сырую луизианскую ночь и встала перед камелией, черной жемчужиной ее бабки. Еще немного погодя она подобралась к фонтану, окунула руки в маленький бассейн и стала дотрагиваться мокрыми пальцами до губ, глаз и грудей. Вдыхала и выдыхала воздух, просила пощады и милосердия, дарила себе прощение.
Иногда потерянные сокровища можно обрести вновь.
Наутро Сидда прижалась к Коннору и предложила сделать вместе то, на что она никогда не отваживалась раньше в радиусе ста миль от своего родного города. А потом прошептала ему несколько убедительных слов. Услышав все, что она сказала, Коннор молча притянул ее к себе, обнял и стал осыпать поцелуями ее лицо и кончики пальцев.
— Прости за мою идиотскую нерешительность. За то, что заставила тебя висеть на волоске над пропастью.
— Ах, Душистый Горошек, — вздохнул Коннор, переворачиваясь на бок, чтобы смотреть ей в глаза, — мы все висим на волоске над пропастью. И храним друг друга от падения.
Бездонная доброта его глаз, бесконечная нежность в голосе не оставили ни малейших сомнений в том, что она приняла правильное решение.
К полудню они вместе с Шепом и Виви уже пили чай со льдом на заднем дворе Пекан-Гроув. Вилетта, хлопотавшая по хозяйству, стала свидетелем объявления Сиддали Уокер о свадьбе с Коннором Макгиллом ровно через неделю, на поле подсолнечников, перед родительским домом.
Около получаса спустя на подъездной дорожке появились три автомобиля. Это прибыли я-я.
Можно сказать, что теперь шоу было на мази. Еще немного — и занавес поднимется.
33
Вечером 25 октября Сиддали Уокер, одетая в материнское подвенечное платье, сказала «да» Коннору Макгиллу на отцовском поле подсолнечников.
В присутствии родителей, братьев с семьями, сестры Лулу (только что прилетевшей из Парижа), я-я, пти я-я и их семейств, Вилетты с мужем и детьми, Мэй Соренсон (прибывшей в самый последний момент из Турции), родителей Коннора, его же бабушки и двух сестер, Уэйда Конена, сопровождавшего Хьюэлин и перекроившего подвенечное платье Виви так, чтобы оно открывало плечи и часть груди, и компании друзей, которым пришлось срочно изменить планы, чтобы прилететь в Торнтон по настоятельной просьбе невесты, Сиддали Уокер сказала Коннору Макгиллу:
— Буду нежно любить тебя всеми силами души и как только могу.
Семилетняя племянница Сидды Кейтлин Уокер, одна из близняшек Бейлора, позаботилась о том, чтобы все дети (а также кое-кто из взрослых) надели хэллоуинские костюмы. Посторонний, случайно попавший на церемонию, возможно, посчитал бы всех присутствующих сборищем идолопоклонников, если бы не то обстоятельство, что кузен Тинси в продолжение всего действа играл на кейджанской скрипке церковные гимны.
На вечеринке тот же скрипач, вместе с остальными оркестрантами группы «Аллигатор Гри-Гри», играл композиции из кейджанских мелодий и зайдеко[92], переплетавшихся со старыми джазовыми стандартами сороковых, которые им пришлось выучить, чтобы зарабатывать на жизнь в сети загородных клубов южной Луизианы. Под большим древним виргинским дубом, ветви которого стараниями Бейлора были увиты рождественскими гирляндами, Шеп Уокер самолично следил за приготовлением cochon de lait и раздавал восхищенным ньюйоркцам полные тарелки свинины с бурым рисом. Чейни, муж Вилетты, надзирал за огромным черным котлом, где варились креветки. Длинные столы по периметру танцевальной площадки стонали под тяжестью салатов, французского хлеба и еще тысячи луизианских деликатесов.
Повсюду стояли составленные Ниси букеты из подсолнечника и цинний, а связки сена окружали костер, разведенный Малышом Шепом. Погода выдалась чудесной, и воздух оказался достаточно прохладным, чтобы можно было танцевать сколько угодно, не потея и не задыхаясь от жары. Все соглашались, что в округе давно уже не было такой веселой и счастливой свадьбы.
Где-то в середине вечера, когда все насытились, музыка стихла, музыкант, игравший на аккордеоне, объявил, что присутствующих ждет сюрприз, и, отступив в сторону, представил четырех я-я.
Виви Эббот Уокер подошла к микрофону, высоко подняла бокал шампанского, подмигнула и провозгласила:
— Сиддали, мивочка, эта песня для тебя.
Как следует глотнув шампанского, она дала знак остальным, и вся четверка, в сопровождении скрипки, аккордеона и бас-гитары, запела. Голоса были не так уж чтобы хороши, да и пение не слишком стройным, но с их губ лилась то ли колыбельная, то ли благословение, то ли просто песнь любви.
Ночи бесконечны С тех пор, как нет тебя. Мечтаю о тебе, родной, И при свете дня. Мой дружок, мой дружок, Нет на свете лучше. Тоскую я по голосу И твоим рукам. И хочу, чтоб понял Ты все это сам. Мой дружок, мой дружок, Я по тебе скучаю.К тому времени как песня кончилась, Сидда почти смирилась с мыслью о том, что ее лицо на всех свадебных фотографиях будет изуродовано черными потеками туши: никакая косметика не выдержит такого количества слез. И когда незаметно подошедший сзади отец вручил ей платок, она благодарно улыбнулась.
— Когда я вчера вечером отправился спать, твоя мама и остальные все еще репетировали, — сообщил он.
— Спасибо за то, что вырастил эти подсолнечники, папа, — прошептала Сидда.
— Знаешь, это мой второй урожай за год. Не знаю, что это на меня нашло! Сажать подсолнечники в конце лета! Представляешь, как надо мной насмехались? Растить цветы после того, как мои поля хлопка тянулись едва ли не до входной двери! Но тогда все было по-другому: нужно было кормить и одевать четверых детей, покупать им машины, посылать в колледжи. Теперь же у меня появилась возможность растить то, что хочется. И все же я рад, что вы с Коном приехали, и теперь вроде бы эти подсолнечники имеют полное право тут находиться. По крайней мере никто не посчитает, что у меня крыша поехала. Нужно же как-то сохранять лицо!
Сидда протянула руку и осторожно смахнула слезу с отцовской щеки.
— Я люблю тебя, папочка.
— Надеюсь, твой брак будет счастливым, куколка. Может, теперь наша семья будет больше походить на настоящую, если понимаешь, о чем я.
— Да, папочка, — кивнула Сидда, беря отца под руку. — Понимаю.
— Не считаете, что сейчас отцу самое время потанцевать с дочерью? — спросила Виви, подходя к ним и целуя сначала Сидду, потом мужа. — По-моему, американской семье необходимо как можно больше танцевать, не находите?
Сидда с улыбкой посмотрела на родителей.
— Думаю, ты права, мама. Мало того, этот пункт следует включить в президентскую программу.
И когда музыканты опять взялись за инструменты, Виви сжала ладонями лицо Сидды и снова поцеловала. Потом, вложив ладонь дочери в руку мужа, подтолкнула их к танцевальной площадке.
— Потрясите хвостиками, мивочки! Покажите им всем! Постучите каблуками! — наказала она, прежде чем отправиться на поиски я-я. И скоро все четверо закружились в танце так лихо, что юбки развевались. Глаза подруг сияли.
После того как был разрезан свадебный торт, испеченный Вилеттой и украшенный, как на Хэллоуин, ее дочерью Перл, все снова пустились в пляс. И хотя было уже поздновато и малыши засыпали на ходу, никто не хотел уезжать с плантации Пекан-Гроув. Никто не хотел окончания праздника. Поэтому все остались и танцевали. Вальсировали, дергались, виляли бедрами, плясали кейджанский тустеп, джиттербаг, фокстрот и буги. До упаду. До потери сознания.
Со своего привычного места на рожке полумесяца Пресвятая Владычица смотрела вниз и улыбалась своим несовершенным детям. Ангелы, служившие ей этой ночью, ощущали непривычное желание оказаться в людском обличье, пусть и на несколько минут. Им хотелось вертеться в рок-н-ролле, испытать истинно человеческое чувство восхищения идеальной ночью, посланной в отнюдь не идеальный мир. Хотелось попробовать на вкус соль собственных слез, как Сидда, как Виви и, по правде говоря, как почти все, кто был в Пекан-Гроув в ту ночь, когда Сидда Уокер выходила замуж за Коннора Макгилла.
Так бывает всегда, когда пуповина любви протягивается с небес на землю и с земли на небеса. Так бывает иногда в штате Луизиана перед самым Хэллоуином, когда границы между небесами и землей приоткрываются и добрые духи с той и другой стороны собираются вместе. Возможно, души брата-близнеца Сидды, и Джека, и Женевьевы Уитмен тоже радовались и праздновали в ту ночь. Возможно, маленькие нерожденные духи в надломленных сердцах других гостей тоже освободились в ту ночь. И гости, запыхавшиеся, счастливые, переговариваясь между песнями, твердили друг другу, что эта ночь заколдована. И все повторяли, что кто-то их зачаровал.
На это Блаженная Матерь только подмигнула. На это Блаженная Матерь только и смогла заметить:
— Те, кто знает, промолчат. Те, кто болтает, не знают.
Для Сиддали Уокер потребность понять, по крайней мере в данный момент, исчерпала себя. Ее место заняли любовь и благоговение.
Божественные тайны сестричек Я-Я
Ребекка Уэллс известна как драматург, телесценарист и актриса.
Однако настоящую славу принесла ей именно проза, особенно роман «Божественные тайны сестричек Я-Я», который произвел в США настоящую сенсацию, был переведен на десяток языков и лег в основу хорошо известного в нашей стране одноименного фильма с Сандрой Баллок в главной роли.
О, женщины из маленьких городков американского Юга!
«Настоящие леди» или «тупые красотки», «идеальные жены и матери» или «безмозглые куклы»?..
Сколько книг написано о них, сколько фильмов снято!
Великолепная книга Ребекки Уэллс, не уступающая по силе ни «Унесенным ветром» Маргарет Митчелл, ни «Жареным зеленым помидорам» Фанни Флегг, — возможно, лучший из романов о женщинах-южанках за последние десятилетия.
Почему?
Прочитайте — и поймете сами…
Невероятно увлекательный и чрезвычайно трогательный роман.
«Вашингтон пост»
Трудно устоять… Уэллс неизменно поражает сильными персонажами и блестящими сюжетами.
«Чикаго трибюн»
Женская дружба — тема не новая в современной прозе.
Но никто не писал о ней с таким изяществом, очарованием, талантом и силой, как Ребекка Уэллс.
«Ричмонд таймс»
Прекрасный роман… Уэллс обладает несомненным талантом рассказчика.
«Сиэтл таймс»
Уэллс доводит читателя до слез в одной главе и до истерического хохота в другой.
«Беллингем гералд»
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Билли Холидей (1915–1959) — знаменитая джазовая певица, погибла от передозировки наркотика. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Гамбо — суп из мяса, птицы или рыбы с овощами и пряностями. Национальное блюдо кейджанов, жителей южных районов Луизианы.
(обратно)3
Хьюи Лонг — влиятельный американский политик штата Луизиана. Одно время был губернатором, потом сенатором. Намеревался выдвинуть свою кандидатуру в президенты, но был убит. Славился непредсказуемыми выходками. Многие сравнивали его с Гитлером. Прототип романа Р. П. Уоррена «Вся королевская рать».
(обратно)4
Проявление силы, ловкости, храбрости (фр.).
(обратно)5
Сенле — сокращение от сентрал Луизиана — центральная Луизиана.
(обратно)6
Дорогая (фр.).
(обратно)7
Хорошо (фр.).
(обратно)8
Центр Бетти Форд — клиника в Калифорнии, где очень богатые, а зачастую и знаменитые люди лечатся от пристрастия к алкоголю и наркотикам (названа по имени Бетти Форд, жены тридцать восьмого президента США Джералда Форда, страдавшей алкоголизмом).
(обратно)9
Кудзу — вьющееся растение, вывезенное из Японии. В настоящее время распространилось по всему югу США.
(обратно)10
Наркосодержащий препарат амфетаминового ряда.
(обратно)11
Опра Уинфри — популярная ведущая ток-шоу на телевидении.
(обратно)12
«Федэкс» — «Федерал экспресс», курьерская почта.
(обратно)13
Шениль — особого вида ткань с ворсом.
(обратно)14
Люсиль Болл (1911–1989) — американская комедийная актриса, звезда сериала пятидесятых «Я люблю Люси».
(обратно)15
Игра слов: Виви, вита — жизнь (лат.).
(обратно)16
Очень быстро, муз.; да здравствует, виват; живой, оживленный, бодрый, веселый; виварий; устный экзамен.
(обратно)17
Обабившийся, феминизированный, трусливый как девчонка, изнеженный (англ.).
(обратно)18
Энни Оукли — женщина-ковбой, звезда шоу Буффало Билла «Дикий Запад».
(обратно)19
От фр. deshabiller — раздеваться, снимать платье.
(обратно)20
«Брек» — средство для ухода за волосами фирмы «Брек инк.».
(обратно)21
Талула — популярная в 20—40-х гг. XX века киноактриса-южанка.
(обратно)22
Гамбо — суп из стручков бамии; креольский диалект, принятый в штате Луизиана. В перен. знач. — смесь.
(обратно)23
Нэнси Дру — знаменитый детектив, персонаж детских книг американской писательницы Кэролин Кин.
(обратно)24
Круг с буквами и стеклянный стакан, который ставится в центре.
(обратно)25
Очень оригинально! (фр.).
(обратно)26
Байю — рукав в дельте реки со слабым течением, часто соединяющий основные протоки. Слово часто употребляется на юге Америки. Байю характерен для дельты Миссисипи, испещренной островками соляного происхождения. Прозвище Луизианы — Штат байю.
(обратно)27
Кейджаны — жители южных районов штата Луизиана, потомки французов, насильственно переселенных сюда из Канады.
(обратно)28
Нервный приступ (фр.).
(обратно)29
Tiny Bebe — Малыш Бебе (англ.).
(обратно)30
Бебе Рут — первая женщина-бейсболистка.
(обратно)31
Искусство показывать фокусы.
(обратно)32
Аскотский галстук имеет широкие, как у шарфа, концы.
(обратно)33
Зад (фр.).
(обратно)34
Цитронелловые свечи — средство от комаров.
(обратно)35
Амелия Эрхарт (1897–1937) — первая женщина-авиатор, перелетевшая Атлантический океан.
(обратно)36
Хобо — значок, означающий, что в этом доме кормят бродяг и безработных. Ставился на богатых домах во время Великой депрессии.
(обратно)37
Сара Воан (1924–1990) — джазовая певица, исполнявшая импровизации в стиле бибоп. Получила прозвище Божественная. Удостоена премии за лучший вокал в джазе (1982 г.).
(обратно)38
Молодежная лига (Junion League) — женская лига, основанная в Новом Орлеане и ставившая своей целью усовершенствование общества. Получила распространение во многих американских городах, особенно в южных штатах.
(обратно)39
Бенгалин — тонкая шелковая ткань наподобие органди.
(обратно)40
Имеется в виду горничная-негритянка, персонаж телевизионных комедийных сериалов 30—40-х гг. XX в.
(обратно)41
Имеется в виду Франклин Делано Рузвельт (1882–1945) — президент США с 1933 г., четыре раза избирался на этот пост.
(обратно)42
Фетва — заключение по вопросу, имеющему отношение к принципам шариата у мусульман. Здесь — нечто вроде приговора.
(обратно)43
Детские праздничные наборы в специальных футлярах.
(обратно)44
Молочный поросенок (фр.).
(обратно)45
Евангелие от Луки, Заповеди блаженства, 5:21.
(обратно)46
Волшебная палочка красоты.
(обратно)47
Под этой маркой компанией «Проктер энд Гэмбл» выпускается ряд косметических кремов.
(обратно)48
«Покажи и опиши». На таких уроках обычно проводится работа с карточками или показывается и описывается определенный предмет.
(обратно)49
Званый вечер (фр.).
(обратно)50
Роберт Тейлор (1911–1969) — актер кино. Стал голливудской звездой после фильма «Дама с камелиями».
(обратно)51
Так назывались огороды, которые правительство США призывало разводить во время войны.
(обратно)52
Ну да (фр.).
(обратно)53
Моя маленькая капустка (фр.).
(обратно)54
Джеймс Стюарт (1908–1997) — звезда Голливуда 30-50-х гг. XX в. Создал образ мужественного и добродетельного «стопроцентного» американца.
(обратно)55
Граучо (Ворчун) Маркс — Джулиус Маркс (1890–1977), один из братьев Маркс, актер комедийного жанра, часто снимавшийся в кино.
(обратно)56
Сестры Эндрюс (Пэтти, Максин и Лаверн) — американское трио, пользовавшееся огромным успехом, особенно в годы Второй мировой войны.
(обратно)57
Бегуэн — танец, похожий на румбу.
(обратно)58
Тамале — мексиканское блюдо, лепешка с мясом и перцем.
(обратно)59
Католический гимн, обращение к Пресвятой Деве.
(обратно)60
Борис Карлофф (1887–1969) — английский актер, снимавшийся в американских фильмах ужасов.
(обратно)61
Марди-Гра — масленичный вторник. Праздник в Новом Орлеане и других городах Луизианы, с карнавалами и парадами.
(обратно)62
Добрый Боженька (фр.).
(обратно)63
Биск — густой суп.
(обратно)64
Орсон Уэллс (1915–1985) — знаменитый американский актер и режиссер; его фильм «Гражданин Кейн» признан одним из лучших в мировой кинематографии.
(обратно)65
Бланш Дюбуа — героиня пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай “Желание”».
(обратно)66
Джулия Чайлд — профессиональный повар. Автор многих поваренных книг, обучавшая кулинарному искусству по телевизору.
(обратно)67
Милдред Дидриксон (1913–1956) — самая знаменитая спортсменка в истории спорта. Имела множество достижений в области бейсбола, баскетбола, гольфа и тенниса.
(обратно)68
«Новоорлеанские святые» — футбольная команда Нового Орлеана.
(обратно)69
«Толбот импорт компани» — английская фирма по изготовлению женской одежды; выпускает модный журнал «Толбот фэшнз».
(обратно)70
«Гэп» — сеть магазинов, продающих недорогую модную молодежную одежду.
(обратно)71
Блюдо из незрелой кукурузы, бобов и соленой свинины.
(обратно)72
Ицхак Перлман — знаменитый виолончелист. Родился в Израиле, позже перебрался в Америку.
(обратно)73
Эд Салливан (1901–1974) — журналист, актер и режиссер эстрадных представлений. Создал шоу, регулярно показывавшееся по телевидению. Многие его участники позже стали знаменитостями.
(обратно)74
«Крейол» — американская марка цветных карандашей, фломастеров, рисовальных палочек или мела. Очень популярны у детей и продаются коробками в разных странах.
(обратно)75
Спасибо, большое спасибо, тысяча благодарностей, и так далее (фр.).
(обратно)76
Имеются в виду католические молитвы, которые читают, перебирая четки.
(обратно)77
«Рыцари Колумба» — консервативная католическая общественная организация. Основана в 1882 г.
(обратно)78
Простите меня (фр.).
(обратно)79
Реклама сигарет с ментолом фирмы «Филип Моррис».
(обратно)80
Игра слов: cool в переводе — «прохладный» или «крутой» и произносится точно так же.
(обратно)81
Эрл Лонг — губернатор Луизианы. Переизбирался на несколько сроков начиная с 1936 г.
(обратно)82
По Фаренгейту. Соответствует приблизительно 35 градусам по Цельсию.
(обратно)83
«Уолгрин» — сеть аптек, где наряду с лекарствами продавались мороженое и содовая.
(обратно)84
«Точные цены» — телевизионное шоу, в котором участникам необходимо угадать цену того или иного товара. Побеждает тот, чья цифра самая точная. У нас эта игра называлась «Эль-клуб».
(обратно)85
«Коппертоун» — товарный знак косметических средств для безопасного загара; принадлежит корпорации «Шеринг-Плау».
(обратно)86
Предназначались для оплаты покупок в магазинах в основном в 60-е гг. XX в.
(обратно)87
Вэн Моррисон (р. 1945) — североирландский певец и автор, песни которого были популярны в 60-х гг. XX в.
(обратно)88
Любовник (фр.).
(обратно)89
Манера коверкать слова, переставляя первый согласный звук в конец и добавляя лишний слог.
(обратно)90
«Жизнь на Юге». Популярный журнал, где печатаются статьи на тему туризма, путешествий, интерьеров, садоводства и т. д.
(обратно)91
Джон Джеймс Одюбон (1785–1851) — художник-натуралист и анималист. Опубликовал фундаментальный труд «Птицы Америки».
(обратно)92
Зайдеко — популярный негритянский стиль южной Луизианы, соединяющий танцевальные мелодии кейджанов, ритмы блюзов и музыки стран Карибского бассейна.
(обратно)




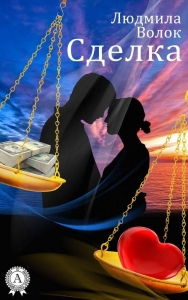
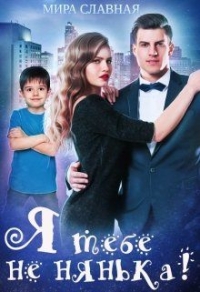
Комментарии к книге «Божественные тайны сестричек Я-Я», Ребекка Уэллс
Всего 0 комментариев