Джоанна Бриско Будь со мной
Шарлотте с любовью
Благодарности
Огромное спасибо Оливеру Беннету, Луиджи Бономи, Кэрол Бриско, Фрэнку Бриско, Холли Бриско, Клэр Калман, Эдит Кларк, Элеоноре Кларк, Рут Корбетт, Сесили д’Феличе, Тони Диксону, Питеру Гримсдейлу, Хелен Хили, Джулии Хоббаун, Аллегре Хастон, Кэрол Джексон, Таре Кауфманн, Николе Лакхерст, Фионе МакМороу, Шарлотте Мендельсон, Клементине Мендельсон, Рейчел Мендельсон, Теодору Мендельсону, Кейт Саундерс, Луизе Саундерс, Гиллиаму Стерну, Бекки Свифт, Каролине Третайн и в особенности Йонне Геллер, Александре Прингл и всем в «Блумсбери».
1 Ричард
В тот день, когда был зачат наш ребенок, из небытия появился еще один человек. Она, словно невидимый призрак, витала где-то рядом, когда сперматозоид проникал в яйцеклетку.
До ужина оставались считанные минуты, а мы с Лелией решили потрахаться. Просто, когда тебе срочно нужно переодеться и ты в спешке начинаешь срывать с себя одежду, а твоя подруга делает то же самое и вы оба знаете, что лучший секс бывает как раз тогда, когда на него совершенно нет времени, удержаться трудно. Двадцать минут мы смеялись, отбрыкивались друг от друга и поносили последними словами встречу, на которую, естественно, опаздывали. Какими лукавыми и довольными взглядами мы обменивались в такси, когда, прыская со смеху и шикая друг на друга, звонили и бормотали в трубку какое-то оправдание за опоздание, придуманное на ходу.
— Я чувствую тебя в себе, — проговорила Лелия.
Я вздрогнул. Хоть весь запас сил был потрачен во время таких активных «сборов», я почувствовал, что у меня снова встает. В голове возникла картина: стаи хвостатых клеток упорно пробиваются к цели, и неизвестно, кто же доплывет первым, кому из головастиков достанется главный приз.
Такси остановилось у входа в здание, и мы бросились внутрь, все еще не остывшие после секса. Опоздали мы сильно. Целуя хозяйку, Катрин, я подумал, что моя кожа все еще пахнет Лелией. Я до сих пор ощущал ее запах. Потом появился парень Катрин, МакДара, он вклинился плечом между мной и Катрин, и я чуть не рассмеялся: во-первых, что может быть лучше, чем поделиться с другом, какой у тебя только что был потрясающий секс, и во-вторых, настроение-то все-таки было рождественское.
— Ладно уж, заходи, — сказал МакДара и повернулся к Лелии. Обняв ее, сказал: — Привет. Замечательно выглядишь.
От рождественского шампанского гости уже слегка захмелели. Еще один мой близкий друг по университету сидел рядом с парнем, которого я раньше пару раз видел, из остальных четверых — пара и две женщины — я раньше никого не встречал. Нас представили. Была ли уже и она там, я не помню, память не сохранила того момента, когда я увидел ее в первый раз. Мы все слишком радовались тому, что вот подходит к концу еще один год, главная особенность которого заключалась в усилившемся чувстве разочарования. Разочарования оттого, что нам уже за тридцать, а ни богатства, ни славы никто так и не нажил. Время уходило, реальность начала брать свое. Хотя новый год, конечно, сулил новые возможности, и все-таки был сочельник! Пили мы много, у меня даже сок, который я забрал у Лелии, с ледяными пузырьками шампанского стал подступать к носу. По Лелии все еще было видно, чем она недавно занималась: взгляд рассеянный, движения слишком плавные. Я попытался намекнуть ей на это: подтолкнул плечом, повел бровью, улыбнулся. В ответ она рассеянно почесала меня сзади по шее. Я немного наклонился и вдохнул аромат ее волос.
Мы вмазали еще. МакДара и Катрин были побогаче остальных, поэтому всегда выставляли они. Сначала мы ели жаренное на гриле мясо, сочившееся оливковым маслом на чабатту, понятно, без шампанского опять не обошлось; потом запивали красным вином пармезан; ну а дальше дело дошло до блюд, обычных для нашего самодовольного мирка, в котором, сами того не желая, оказались все мы: для начала ризотто, потом индау и все тот же итальянский хлеб. Все до боли знакомо, рецепты из кулинарных книг, которыми пользуются все.
Отклонение от темы. Призрак тоже был там. Хотя я даже не обратил внимания, когда называли ее имя.
Я был в своем мыльном пузыре. Страсть вспыхнула между мной и Лелией с новой силой, и это после четырех с половиной лет совместной жизни, когда просто поваляться в кровати уже иногда бывало интересней, чем заниматься сексом. Пыл, еще не остывший после наших утех, помножился на выброс энергии, вызванный алкоголем. Я любил ее, потому что она была очень красивой. Любил по-настоящему, без оглядки на себя, без оглядки на свою испещренную оспинами прежних знакомств жизнь, без оглядки на надоевшие неврозы и все невидимые стоп-краны, которыми утыкан мягкий вагон под названием «любовь». Между спорадическими ссорами и внезапными вспышками раздражения она наполняла меня чем-то вроде неистовой преданности.
Призрака я, можно сказать, не замечал. Она была всего лишь одной из десяти. Разговаривала ли она вообще в тот вечер? Может быть, тогда я просто не расслышал ее чудного околдовывавшего голоса? Наверное, разговаривала. Я низвел ее в ранг неинтересных, даже не составив о ней какого-нибудь осмысленного представления. Остальные в моих глазах были слишком колоритными личностями: старый злой Рен из университета, буйный МакДара, его девушка Катрин. Мы с ними были так давно знакомы, что понимали друг друга с полуслова, полувзгляда. Единственная зацепка, оставшаяся в памяти, — смутное и едва различимое, как крючок застежки-липучки, воспоминание: она разговаривала с Катрин в коридоре перед тем, как все ушли. Что-то в ней или в том, что она говорила, вызвало желание защитить ее, как будто она нуждалась в помощи.
Потом эта первая встреча с ней столько раз обсасывалась и переоценивалась, но тогда в моей памяти она осталась всего лишь размытым пятном. Мелькнувшей серой тенью. Ничем. Опасайтесь серых мышей.
2 Ричард
Но все по порядку. Меня зовут Ричард Ферон. Я вырос на побережье Корнуолла вместе с четырьмя сестрами. Родители особой строгостью не отличались, так что детство у меня было сумасшедшим, полная свобода, что вылилось в чрезмерную страсть ко всему городскому. Как только подвернулась возможность, я уехал в Лондон, где собирался начать сногсшибательную карьеру, хотя в глубине души немного стыдился своего среднешкольного деревенского образования.
Первые годы третьего десятка ушли на работу и онанизм. Я написал рецензии на бесконечное множество романов; я взял интервью у миллиона истеричных писателей; я совмещал эту жалкую работенку с попытками устроиться в какое-нибудь солидное издательство биографом; мои амбиции всегда шли вразрез с сформировавшимся у меня бессистемным методом работы. Короче говоря, я работал, дрочил и западал на женщин, в основном не на тех, которые мне подходили. Встревоженные и заинтригованные богини спускались со своих тронов, соблазненные моей неиссякаемой изобретательностью. Чаще всего замужние или несвободные, они привносили свои радости, а порой и мучения в мою по большому счету спокойную жизнь, заставляя меня страдать от одиночества больше, чем тогда, когда я еще был мальчиком-полудевственником.
От всех этих страстных влюбленностей избавить могли только годы. Когда мне перевалило за тридцатник, они волочились за мной тошнотворным шлейфом. У других за плечами была иная школа жизни: знакомства в клубах и на чужих квартирах, головокружительные приключения в Таиланде. Я же, в душе зацикленный на одном простачок и трус, встречался с примадоннами. На тему их похорон я фантазировал не меньше, чем думал о сексе: представлял сцену на кладбище, себя я всегда видел убитым горем, но держащимся в стороне, подальше от овдовевшего мужа, играющего желваками.
Со временем я все же поумнел, потому что мне повезло: я встретил Лелию как раз тогда, когда почувствовал, что перерос это все. Такое везение бывает раз в тысячу лет. Пребывая в подвешенном состоянии, отбиваясь от своих див и ожидая от жизни очень немногого, я повстречал ее, ту, о которой мечтал.
На следующий день после ужина у МакДары и Катрин я решил немного поработать, просто чтобы успокоить совесть к Рождеству. Когда я кое-как добрался до своего кабинета и плюхнулся на кресло перед компьютером, был уже полдень. Жужжание, которым модем огласил кабинет, когда я вошел в сеть, молотком забило по голове, и без того больной после вчерашнего. Я крутанул ручку громкости. В электронном почтовом ящике оказалась пара писем по работе, несколько групповых поздравлений от друзей и рождественская открытка со звенящими колокольчиками от МакДары, ее я даже не стал открывать. Щелкнул по последнему имейлу.
«Мне было страшно, вся страсть прошла, я стала девочкой из хрупкого стекла. Надев ситцевую сорочку, спрятала голубые вены, пульсирующие кровью. Нижние юбки были из рыхлой ткани, редкой, как холст. Кровь легко впитается в нее, если я буду неосторожной».
— Что за бред? — раздраженно рявкнул я. Понажимал на «Page Up», «Page Down», но в послании больше никакой информации не нашел. Имейл послан с сервера «Hotmail», поэтому никакого намека на то, кто его отослал, не было.
— Лелия! — крикнул я.
— Что? — Ее голос послышался через пару секунд, что должно было означать недовольство.
— Иди сюда.
— Зачем?
— Иди посмотри, пожалуйста.
Почувствовал поцелуй в висок и теплое дыхание, особенно ощутимое в холодной комнате.
— Бр-р-р!
— Вот именно. У меня у самого от этого мороз по коже.
— Что это?
— Не знаю.
— Что значит «не знаю»?
— Ну… — сказал я. — Не знаю, и все.
— Ш-ш-ш, — зашипела она мне на ухо.
Я отклонил голову.
— Извини. Отходняк.
— Чего ты брюзжишь? Ради Бога, хоть на Рождество не становись строгим и ужасным.
— Это только если ты в чем-то виновата и тебя нужно наказать.
— Ну ладно. Просто пошли на их адрес письмо, напиши, чтобы они отвалили, и займись какой-нибудь работой.
— Хорошо, — сказал я. — Напишу просто «пошли на хер».
— Хочешь пирога?
— Да, принеси, пожалуйста.
Нажал на «Ответить». Еще раз перечитал письмо. Стало даже как-то противно, я как будто взял в руки чужое грязное белье. «Кто ты?» — быстро набрал я и нажал «Отправить». Со странным ощущением, как будто делаю что-то постыдное, удалил свой ответ из папки «Отправленные», потом и из «Корзины».
Вернулась Лелия с куском пирога на холодной тарелке и чашкой дымящегося горячего чая.
— Хватит прикидываться, что ты работаешь, — сказала она, целуя меня в щеку. — Это раздражает. Если уж собрался работать, работай, а нет…
— Ты же знаешь, я не могу расслабиться, если не поработаю часок.
— Или не поизображаешь страшно занятого.
— Ну да, ты же меня знаешь.
— Ты отшил того идиота?
— Да, — не очень уверенно сказал я. Но после стольких лет игр и изворотов с другими Лелии я лгать не мог. — Нет, — сказал я. — Я написал «Кто ты?»
— Ну ты и дурак! — вскипела Лелия, но потом съехала, и голос повеселел. — Ты что, не знаешь? Это, скорее всего, какой-нибудь бородатый мужик, который весь день торчит в интернет-кафе и возбуждается, когда сочиняет письма от имени девочки. От него, наверное, несет, как от бомжа. Он тебе через минуту ответит, вот увидишь.
— Может быть. — Я притянул ее к себе.
— Отстань, — раздался у меня над ухом ее смешной, мелодичный, прекрасный голосок выпускницы школы для девочек в Северном Лондоне. Никогда мне не научиться так четко произносить звуки, как это получается у нее. — Часок поделай вид, что работаешь, если уж тебе это так нужно, потом возвращайся ко мне.
Рождество стало нашим медовым месяцем. Мы праздновали то, что пока еще не обзавелись ребенком… или то, что были вместе до того, как это произойдет, если это вообще произойдет. Обоюдные недопонимания и приступы раздражительности, вечные спутники рабочих будней, с началом праздников улетучились за первые же несколько часов благодаря романтическому настроению. Нам нужно было съездить в Голдерс Грин к матери Лелии, но потом мы были свободны и могли пройтись по магазинам, посидеть в «Патиссери Валентино» и в «Полло», зайти в «Большой двор» Британского музея и наконец осесть где-нибудь в «Бар Ганза» или «Коффи Кап». Какие бы мы ни строили планы — изучить Ист-Энд или сходить на постановку Шекспира, как-то само собой получалось, что мы шли уже давно изученными маршрутами от Сохо до Камдена и дальше вглубь Северного Лондона.
Мы болтали с Лелией до самой ночи, когда благодаря темноте самые потаенные мысли обретали словесную форму, а почти не поддающиеся выражению чувства сперва робко проклевывались, а потом, распознанные, извлекались наружу на обоюдное обсуждение. Наши разговоры тогда казались чем-то волшебным, легко продолжались до самого утра. Разговаривать с ней было все равно что разговаривать с самим собой в улучшенном варианте: наши мысли сливались в контрапункте, и секс становился необязательным, кровосмесительным, требующим слишком больших затрат энергии занятием. А потом, лишенные секса, мы на какое-то время становились раздражительными, замкнутыми, начинали спорить и не понимать друг друга; общение превращалось в минное поле, воздух наполнялся страданием. Это длилось до тех пор, пока в ее последовавшей неуступчивости мне не начинали видеться старые меченые богини, на которых я когда-то тратил мужскую силу, и чувство страха и незащищенности пробуждало во мне непреодолимое желание.
В тот вечер, вымучив один параграф с несколькими примечаниями, чтобы ублажить совесть, я пошел к Лелии. Взял ее за ягодицу, шлепнул, сказал, что хочу ее раскормить, и потянулся за ключами от машины. Старушка икнула мотором и, задрожав, ожила, и мы поехали в кафе-мороженое «Марин Айсез» есть разноцветные холодные шарики под мигающими фонариками рождественских гирлянд.
— Возьми себе с манго и дашь мне попробовать, — предложил я.
Губы Лелии слегка приоткрылись.
У меня возникло ощущение, что кто-то на меня смотрит с нижнего яруса ресторана.
— Возьми себе сам, — ответила она.
— Я хочу твое.
Повернулся. Нет, за мной никто не следил. Там сидела лишь пара, занятая пиццей, да девушка, уткнувшаяся в книгу.
— Я подумаю, — сказала Лелия.
Вот это моя Лелия. Пылкое создание, непостоянное, беспокойное, но в то же время бесконечно доброе. Вдобавок она еще и бескорыстна, хотя всегда с негодованием и совершенно искренне отрицает это. Иногда, когда ей не удается соответствовать собственному уровню, она впадает в глубокую тоску, начинает беспощадно корить себя и требует, чтобы я присоединился к ней и помог выяснить причину такого падения. От этого мне иногда хочется биться головой об стену. Но потом все проходит, и она снова становится самой собой: великолепная, упрямая, общительная; яркая и болтливая путеводная звезда, втайне обожающая моду, с кожей цвета молока с медом и глазами — двумя ярко-коричневыми лунами. Она заставляет меня смеяться и забыть обо всем.
Лелия от рождения была умной и беспокойной. Единственный ребенок в семье, она всегда была готова бороться за свое счастье. Отец ее, индиец, ныне покойный, был врачом, а мать, англичанка, работала в школе ассистентом учителя. Какой путь прошла моя Лелия от скромного детства к тому, чем стала сегодня: опрятная девушка — «синий чулок» из Северного Лондона, работающая по распределению от дневной школы для девочек, со строгими представлениями о морали. Она красива, хотя сама об этом догадывается лишь иногда, потому что за красотой этой стоит коренастая толстая девочка в очках и заношенной одежде, которой была когда-то моя любимая с фигурой скрипки. Я был свидетелем расцвета ее красоты: под конец третьего десятка и с началом четвертого глаза и обвод скул у нее начали менять форму, отчего лицо ее облагораживалось.
При нашей первой встрече мне хватило одного взгляда, чтобы понять ее. Наши души признали друг друга и пошли дальше вместе. Тогда было странное ощущение, что время перестало существовать. Прошли две недели, и мы поразились, ведь мы-то были уверены, что знаем друг друга уже месяцы и годы, куда же пропало все это время? С первого дня у меня возникло желание впитать ее в себя, защитить, укрыть. Она переехала ко мне на следующей неделе, что стало полной неожиданностью для нас обоих, хотя мы знали, что это было неизбежно.
Мы заказали мороженое.
— Как здорово! — сказала она. — Целых пять дней полностью в нашем распоряжении.
— Небольшой отпуск. Надо успеть сделать все.
— Хорошо, только давай не будем валяться на постели в одежде и есть.
— Давай даже не будем наводить порядок в сервантах, — сказал я. — Лучше будем объедаться мандаринами.
— О Ричард, — Лелия стала гладить меня по руке. — Мы же уже решили.
— Ну ладно, ладно, — вздохнул я. — Шучу. Только давай договоримся, что потратим на это не больше двух часов и предварительно напьемся и наедимся пирогов.
— Как скажешь, так и сделаем, Ричард, — сказала Лелия, разводя руками в знак смирения и покорности. — Я в туалет схожу.
Я удовлетворенно хлопнул на стол меню. На обложке отразились огни гирлянд. Я покачал меню, играя с отражением, как ребенок.
— Привет.
Это нехитрое с оттенком удивления приветствие раздалось у меня за спиной. Я повернулся. Рядом со мной стояла девушка, которая читала книгу на нижнем ярусе. Лицо не выражало ничего, лишь легкий намек на улыбку.
— Привет, — машинально ответил я.
— О, — понимающе покосилась она в сторону. — Я Сильвия… — Подождала, не вспомню ли я. — Мы встречались… у друга Рена, МакДары…
— Ах да. Конечно.
Обрывки предыдущего вечера пронеслись у меня в памяти: приглушенный свет в квартире МакДары, вся та еда, вино, которое все еще гоняло похмелье по моим венам. Я попытался воскресить в памяти лица тех, кто сидел с другого края стола. То, которое я видел сейчас, при ярком освещении ламп «Марин Айсез», казалось незнакомым. Потом мне показалось, будто я вспомнил, что видел ее в коридоре, хотя полной уверенности не было. Какой же я ограниченный и тупой придурок, подумал я. Живу в замкнутом и косном мирке, который обустроил за несколько лет сидения на одном месте, и даже не думаю о том, чтобы познакомиться с кем-то новым. Хотя, когда я только переехал в Лондон, я чувствовал себя очень одиноким. У меня заиграла совесть, мне захотелось извиниться перед этой замкнутой девушкой, которая сидела за столиком одна, вспомнила меня и подошла поздороваться.
— Сильвия, — повторил я.
— Ты меня не запомнил, — тихо и спокойно произнесла она, но на лице мелькнула улыбка. — Так ведь?
Ее голос цеплял, была в нем какая-то легкая приятная необычность, которая никак не сочеталась с его спокойствием. Она бросила на меня быстрый взгляд.
— О, я…
— Не важно, — невозмутимо сказала она. Посмотрела на книгу, которую оставила на своем столике. Меня поразило, что в предрождественский вечер она сидела в кафе одна. Ее раскрытая книга лежала рядом с одиноким стаканом воды, страницам не давала закрыться миска с недоеденной пастой. Глядя на нее, я понял, что она, должно быть, недавно в Лондоне (серьезный внимательный взгляд, сдержанность, аскетический дизайн одежды), или у нее мало опыта общения, или она просто одинока. На вид она была очень молода. Ее неприметность граничила с невидимостью.
— Мне нужно… кое-что прочитать, — сказала она, проследив за моим взглядом. У нее был легкий акцент, что-то не поддающееся определению, не английское. — То есть я должна это прочитать, — просто сказала она. — До завтра.
Улыбнулась.
— Завтра же Рождество, — удивился я.
— Да… — сказала она и замолчала.
Я кивнул и улыбнулся.
— Конечно.
Она промолчала.
Стояла неподвижно и тихо. Так тихо, что мне стало не по себе, захотелось заполнить паузу, что-то сказать, вместо того чтобы просто насладиться уверенностью в себе.
— Что ж, пойду дочитаю, — наконец сказала она и снова посмотрела на книгу.
Ее манжеты были отвернуты и открывали тонкие запястья. Точечка соуса для спагетти лежала, как капля крови, на бледно-сером рукаве шерстяного жакета. Заметив эту капельку, я смутился, как будто увидел что-то интимное. На ней не было никаких украшений, как у замкнутой в себе девочки, которая предпочитает держаться в стороне от всех. Она была худой, прямые волосы, ровно обрезанные на уровне плеч, обрамляли бледное лицо с носом несколько большим, чем того требовали остальные черты, лицо, которое… которое я, наверное, при следующей встрече и не вспомнил бы.
— Теперь я уйду, — сказала она и улыбнулась, неотрывно глядя мне в глаза.
Лелия уже возвращалась, лавируя между столиками, и девушка, только что стоявшая передо мной, исчезла, растворилась где-то в зале. Я посмотрел на ее миску с остывающей пастой.
— Ты звонил мне на мобильник, когда я была в туалете? — спросила Лелия.
— Нет.
— Я так и думала, но номер не определился. Смотри, мороженое начинает таять.
— Так съешь его. — Я поднес к ее рту ложечку ярко-розового мороженого. — Ну вот, — сказал я и приложил к ее губам свой бокал вина. — Смешай красное с розовым.
— А вдруг я беременна?
— А ты беременна? — спросил я.
— Откуда мне знать, дубина ты? У меня же дела должны начаться только через пару недель. Хотя мы с тобой в последнее время не сильно осторожничаем. Ты вообще следишь за этим?
— А, да. Я забыл, — признался я. — Извини.
— Чурка ты. Деревянная. Ты ведь даже не знаешь, как часто это у меня бывает, скажи?
— Месячные, значит, раз в месяц.
— Очень умно.
— Когда мы поженимся? — спросил я.
— Давай прямо сейчас?
— Отлично. — Я достал из подставки длинный бумажный пакетик с сахаром, высыпал содержимое и попытался свернуть его в кольцо. Не получилось, он распрямлялся. Тогда я поплевал на него, придал нужную форму и скрутил у нее на пальце. Пару секунд он подержался, потом отвалился и упал на стол бесформенной массой. Она засмеялась.
— Я сделаю другое, — сказал я, высыпая в пепельницу содержимое из еще одного пакетика. Немного сахара рассыпалось на стол. — Так когда мы… ну…
— Ты просишь моей руки?
— Ты же сама знаешь. Мы ведь оба этого хотим. Давай в следующем году? Я имею в виду, в том, который скоро начнется. А если бы ты была беременна? Ты бы согласилась?
— Не из-за этого. Я просто хочу, чтобы все было красиво. Мы когда-нибудь вообще сможем позволить себе это? Настоящую пышную свадьбу?
— Хрен его знает, — сказал я. К горлу подступил комок стыда, весточка от реальной жизни. — Конечно же, мы в следующем году разживемся.
— Да? Действительно? — спросила Лелия, не почувствовав моей иронии.
— Слушай, это начинает раздражать, тебе не кажется? — угрюмо пробормотал я. — Я понимаю, все кругом дома себе покупают, непонятно за какие деньги. Но это мои друзья. И я хочу, чтобы они ели пасту и жили в небольших квартирах. В них, кстати, намного удобнее. Уже доходит до того, что нельзя принести бутылку обычного «Гарди», чтобы ее не запрятали. Меня это начинает доставать.
— Ричард, замолчи, — попросила Лелия. — Или замолчи, или переедь из Блумсбери в район получше. Или разбогатей.
— Да, — я вздохнул. — Ты права. В общем, я тебя понял. С тобой я готов жить хоть в бунгало.
— А я думала, в сарае, — зло буркнула Лелия.
— И в сарае тоже. В хибаре. В канализации.
— В сточной канаве. А ты бы смог действительно жить в канаве?
— С тобой — да. Обитать или в старом роскошном доме в Хэмпстеде в одиночестве, или в грязной вонючей канаве, но с тобой? Да легко, дорогая.
— Хорошо. А в Новой Зеландии ты бы жил со мной?
— Естественно. Если ты будешь себя хорошо вести. В Уэльсе. Узбекистане. Гуаме.
— Хорошо.
Я улыбнулся.
Она кончиком языка слизывала с ложечки последний расплывающийся кусочек мороженого.
— Так и должно быть.
— Я пойду расплачусь.
— Да, а я подгоню машину к входу. Я посигналю.
— Осторожнее там.
Направляясь к кассе, я случайно взглянул на столик, за которым сидела неприметная девушка. Она что-то писала, вокруг нее были аккуратно разложены предметы, которые больше бы подошли школьнице: маленькая записная книжка в кожаной обложке, линованная бумага, блокнот. Ее волосы отражали свет. Я уже успел забыть о ней. У меня даже вылетело из головы, что надо было сказать Лелии, что она здесь.
— Пока, — бросил я ей. Попытался вспомнить ее имя. — Рад был снова тебя увидеть.
Она повернулась.
— Да. — Она подняла на меня глаза. — Здорово было так случайно встретиться. Приятная неожиданность. Мы так недавно встречались.
Замолчала, как будто хотела что-то добавить.
Я подождал. Снова посмотрела на меня. В окружении книг она выглядела очень одинокой, как чистенькая голубка, сиротливо выглядывающая из гнезда.
— Слушай, позвони нам, — сжалился я над ней и полез в карман за визиткой, хотя на самом деле не имел в виду того, что сказал. — Мы позовем и тебя в следующий раз, когда будем приглашать на ужин Рена или что-нибудь устраивать.
Она продолжала смотреть на меня. Просигналила машина.
— Не могу найти. Извини. Просто как-нибудь заходи с Реном.
Помолчав пару секунд, она сказала:
— Это мой, — и написала на бумажке свой номер.
— О, так мы соседи! — удивился я, взглянув на маленькие буквы.
— Правда?
— Это же WC1?
Кивнула.
— Ну, до встречи, — попрощался я.
Лелия нажала на педаль газа, и машина тронулась. Неисправная печка судорожно выдохнула поток тепла, но потом из нее пошел холод.
— Я сейчас видел девушку, — сказал я. — Она вчера вечером была у МакДары.
— Да?
— Ну та, серая мышка. Ты поняла? Я даже ее не запомнил.
— А, эта… та, которая рядом с Реном сидела? Была там одна тихоня, хотя ничего, симпатичная. Я, правда, с ней не разговаривала.
— Она сказала мне, как ее зовут. Смотри, как этот придурок разворачивается! Что-то в ней есть французское, по-моему.
— Не знаю. Я хотела с ней поговорить, но так и не поговорила. Мне хотелось ее с людьми познакомить.
— Ну да. В общем, она была сейчас в ресторане.
— А я ее не видела.
— Я сказал ей, что она может как-нибудь заглянуть к нам с Реном.
— О Господи, зачем это нужно? Она же какая-то… ну… скучная, что ли. Но что-то я веду себя как стерва. Ты правильно сделал. Молодец. Иногда бываешь.
— На Рождество хочется быть щедрым.
— Да. Смешно, правда? А я на Рождество становлюсь сентиментальной. Мне хочется плакать, я все время представляю себе одиноких стариков, о которых дети совсем забыли. Это чувство вины?
— Не знаю. Мне кажется, благотворительные организации на Рождество, наоборот, собирают больше. Когда к тебе в следующий раз подойдут и предложат купить очередной выпуск «Биг исью», можешь отдать продавцу те паршивые мандарины, которые ты купила в «Сейфуэй».
— Ах ты… — Она засмеялась.
— Я вот никак не могу понять, — сказал я, — нужно ли желать счастливого Рождества, когда встречаешься с кем-нибудь незнакомым на улице в само Рождество? Или, ну, знаешь, положено не обращать внимания друг на друга. А может, надо улыбаться и поздравлять всех подряд, как у Диккенса? Продавцов, телефонных операторов. Или они думают, что ты ненормальный, даже если просто посмотреть им в глаза?
— О Ричард, — улыбнулась она. — Только ты…
— Знаю, знаю, — я наклонился и уткнулся лицом ей в колени. Потом стал подниматься все выше и выше по бедрам, пока она не засмеялась и не прикрикнула на меня, чтобы я перестал.
Когда подъехали к дому, я вспомнил письмо, которое пришло мне по электронной почте. Через окна опутанных светящимися гирляндами домов, перед которыми растут деревья в белых огнях, еще одно гаденькое письмецо прилетит в мою квартиру, чтобы замарать мой компьютер. Где-то в заплеванной кафешке в Южном Лондоне сидит бородатый алкаш и изливает свою гнилую душонку в потемки чужой души, или какая-нибудь полоумная одна в пустой квартире коверкает свою молодость. Я знал, что меня уже ждет новое письмо. Мне было любопытно, но я решил открыть его после Рождества, как будто хотел сохранить пока свою жизнь такой, какая она была.
3 Ричард
Мы жили в Блумсбери, среди зеленых теней справа от центра города, там, где обитали только студенты да странные старые дамы давно забытого средне-европейского происхождения — перелетные птицы и загнивающие под коркой американского туризма.
Я настоял на том, чтобы остаться в Блумсбери, руководствуясь каким-то вывихнутым стремлением к столичности, которое, по сути, являлось местечковой боязнью грязи и людей из провинции. Но сельский мальчик, которым я был в душе, взял верх, и лондонский район WC1 превратился для меня в ту же деревню. Так что жизнь моя теперь протекала в пространстве, ограниченном семью загаженными собаками площадями, газетными киосками под синими вывесками и магазинами, освещенными лампами дневного света, в которых покупателей обдирали как липку. Чтобы попасть на работу (четыре дня в неделю я редактировал книжные обзоры в газете, пятый уходил на составление биографии — занятие, которое вызывало у меня все большее и большее чувство ужаса), мне приходилось выбираться на соседнюю Клакенвелл. Всего-то десять минут ходьбы, но словно другой мир. А вот Лелии, чтобы дойти до университета, где она работала, нужно было прогуляться от нашего дома до Рассел-сквер. Жить в этом районе меня заставляло странное упрямство — Блумсбери все-таки не Бодмин Мур. И уж я никак не мог ожидать, что Сильвия тоже может жить в этом районе.
Наша тесная квартирка находилась в доме на Мекленбур-сквер, на высоте трех лестничных пролетов; окна с одной стороны выходили на удивительные зеленые лабиринты частного сада, а с другой — на архитектурное уродство в стиле ар деко, с бельевыми веревками и крошащимися железными балконами над постоянно шумной дорогой. Квартира преобразилась, когда в ней поселилась Лелия. Из запущенной маленькой квартирки с лестницей, заваленной старыми газетами, она превратилась в более или менее сносное жилье, похожее на крошечный частный домик.
— Коттедж! — как-то объявила она, и с тех пор мне стало казаться, что мы живем в одном из тех миниатюрных домов с покатыми крышами, которые строят на берегу моря. Одна спальня и кладовка под низким корабельным потолком, обшитым красно-коричневой древесиной; световой люк, выходящий на крохотную секцию крыши, на которую Лелия выставляла растения в горшках дышать пыльным воздухом; мой маленький кабинет и большая комната с высокими окнами во внешний мир, где мы и проводили больше всего времени, внизу. Длинные занавески подметают старые половицы, стол вечно заставлен кипами писем, бумаг, подставками для свечей, растениями с обсыпающимися листьями и всякими побрякушками, которые покупала Лелия.
Все эти предметы были уникальными в большей степени, чем я думал; даже свечные подставки, засыпанные пыльцой, можно было отнести к той или иной категории, как и само наше существование, только я, недалекая особа мужского пола, не понял этого сразу Однажды, занимаясь поиском квартиры, я, к своему огорчению, осознал, что все люди одинаковы. И на Фаррингдон, и в Камдене, и в Кентиш-таун, и в Чок-фарм, у всех одни и те же романы на полках, одни и те же компакт-диски, свидетельства посещений одних и тех же выставок и театров, одинаковые открытки издательства «Ташен» в сервантах. И таким перекрестным ссылкам не было числа: одинаковая посуда выпуска начала девяностых из магазинов «Хабитат», одинаковый кафель над раковинами, магниты со стишками на холодильниках, битые красные чугунные сковородки, и среди всех этих отвратительных подтверждений ограниченности неизбежное — в каждом доме, в каждой квартире на полу, на диване или на столе буклетик «Гайд» из газеты «Гардиан». Раздражение и клаустрофобия разгорались во мне, как будто меня помимо моей воли записали в какой-то клуб или на конкурс, где все усваивают одну и ту же культурную информацию, чтобы потом отвечать на вопросы викторины. Впрочем, нас самих можно было разделить по категориям так же легко, как и всех тех, кого я всегда презирал. «Но ведь это естественно», — невозмутимо говорила Лелия, видя мое отвращение. Я отвечал, что у нас-то меньше денег, чем у этих тупиц. Я рос за сотни миль отсюда с овцами, а она вообще наполовину индианка.
«И что?» — спрашивала она.
И то. Может быть, мы уже дожили до того момента, когда от жизни нечего ожидать? Зарабатывал я тогда немного, но по крайней мере имел стабильную работу, что, впрочем, все равно не избавляло меня от чувства неадекватности. Я чудесным образом нашел любовь. Но это казалось мне извращенной шуткой Фортуны. В ожидании расплаты за такое везение у меня развилась боязнь рака, инвалидных колясок и рассеянного склероза. Вполне вероятно, что страхи эти были всего-навсего моим страховым полисом и в глубине души мы были довольны собой и жизнью больше, чем сами осознавали.
На следующее утро я направился к компьютеру. Спину сводило от холода. Рождественское утро. Она еще спала в обнимку с пуховым одеялом, поэтому я решил не тревожить ее сладкий сон и тихонько вышел. Мурашки пробежали по телу, и волоски встали дыбом. Зашел в туалет. Помочился. Бреясь, посмотрел на улицу. По всей Грейз-инн-роуд окна были мертвы. Включил компьютер, подумал, что если она услышит мелодию приветствия, то решит, что я сошел с ума. Когда вошел в сеть, треск модема, напоминающий радиопомехи, эхом разлетелся по квартире. Вот оно. Других писем нет. Меня это задело. Я думал, что увижу в почтовом ящике пару поздравлений от друзей, живущих за границей, которым не хотелось морочиться с открытками. Щелкнул два раза по не поддающемуся расшифровке хотмейловскому адресу. Заголовка у письма не было. Я обратил внимание, что оно было послано через несколько минут после того, как вчера вечером я вернулся домой.
«Однажды утром я поняла, что родилась, чтобы страдать. Так же, как другие дети появляются на свет, чтобы скоблить дымоходы, помогать в поле родителям или чистить карманы. Я мечтала о сиротских приютах, дразнила себя видениями крепости-тюрьмы для маленьких женщин, виновных лишь в том, что не вызвали симпатию, ведь существование несимпатичного ребенка противоречит законам природы. Я знала, кем я была. Я была недомерком, которого держали дома с определенной целью, моим предназначением было принимать на себя недовольство матери».
Этот извращенец явно слал мне отрывки какого-то художественного произведения. Кто-то, знающий, чем я зарабатываю на жизнь, соблазнял меня кусочками своего рассказа или романа, чтобы я оценил его талант и поведал миру о рождении нового гения. Наверное, он и на своем веб-сайте поместил отдельные главы, чтобы пара-тройка безработных бездельников могли убить время между походами в пивную. И что я должен теперь делать? Написать в ответ «у вас божественный слог», срочно позвонить своему лучшему другу — издателю или просто с замиранием сердца ждать очередного послания? Я даже растерялся. К счастью, меня самого обошло стороной проклятие литературной амбициозности, и, поскольку по работе мне приходилось перечитывать десятки романов, к сочинениям друзей своих друзей я относился слишком нетерпимо, хотя мучился угрызениями совести, понимая, сколько сил было вложено в эти труды. Прочитав электронное послание, я снова ощутил, что прикоснулся к незнакомому человеку, почувствовал его кожу под кончиками пальцев.
Я поднялся наверх. Запустил руку в теплый, пахнущий Лелией кармашек между пуховым одеялом и простыней, который образовывало ее тело.
— Чаю, — простонала она спросонья.
Когда я принес чай, она села и прислонилась спиной к деревянной спинке кровати.
— Господи, носок с подарками! — воскликнул я.
Запустил в него руку и достал миниатюрные керамические плиточки из магазина Британского музея.
— Спасибо, — сказал я, целуя ее в губы. После сна зрачки у нее были расширены.
Потом выудил ручки, брелок с профессором Калькулусом[1], детский учебник по мореходству шестидесятых годов.
Меня чрезвычайно тронуло то, что подарки подобраны так тщательно, с душой. Я обнял ее свободной рукой и прижал к себе. Вытащил связку шоколадных монеток, и мы стали поедать эту восхитительно безвкусную рыхлую массу. С самого дна носка она выудила мандарин и стала чистить.
— Запах Рождества, — сказала она. — Мандарины и шоколад.
Я погладил удивительно теплый провал на одеяле у нее между бедер.
Волной нахлынули воспоминания. Ее ночная рубашка, гладкая и мягкая, вдруг запахла моей мамой. Мне захотелось, чтобы на Рождество с нами был ребенок.
Полуодетые, мы прошли через освещенную елкой комнату к телевизору. Как полагается, немного поспорили и, укрывшись халатом, сели на пол смотреть рождественские фильмы. Лелия не отрывала восхищенных и счастливых глаз от старых слезливых мелодрам — «Маленькие женщины», «Национальный бархат», «Дети железной дороги»; то и дело смущенно смеялась, радуясь возвратившимся отцам и детским триумфам, иногда всхлипывала; а потом мы встретили хмурый день, выйдя на улицу, чтобы наконец пообедать, купить китайской еды или выпить кофе в каком-нибудь недорогом кафе с запотевшими окнами. Я тогда понимал, что мне ужасно нравится этот круговорот праздной лени, пропитанный ароматом еловых иголок, вот только опухоль вечной тревоги, пустившая корни в животе, расползалась по мне, не давая полностью отдаться веселью, и я понимал, что радуюсь жизни меньше, чем это будет казаться в будущем, когда ностальгия вымарает из воспоминаний заумь и насытит их недалекой приятностью. Такому невротику, как я, практически невозможно поверить в счастье и принять его.
В конце декабря мы пошли на закрытый просмотр картин Рена.
Милый мудрый Рен, неразговорчивый трудоголик, его квалификация в области компьютерных технологий постепенно трансформировалась в это. Замысловатые рисунки на стекле — пятнышки, мазки, соединенные сеточкой тончайших линий, напоминающие вскрытую радиоплату, узлы пересечений поблескивают, как будто по ним проходит электричество.
Было шумно, от рождественского безделья гости вели себя беззаботно, не стеснялись. Серая мышка тоже была там. Она стояла рядом с кем-то, и, увидев ее, я инстинктивно посмотрел в другую сторону, чтобы избежать разговора с ней до того, как найду более интересных собеседников.
Рен общался с серьезного вида людьми, которые теперь покупали его работы. Выражение лица внимательно-любезное и стопроцентно реновское. Наблюдая за ним, я видел преданность работе, скрытую от глаз каменную плиту, на которой основывался его успех. Неприятно кольнуло чувство вины за собственную леность и непозволительное безволие, которым я потакал, за что сам же себя и ненавидел.
Рен изучал индийскую миниатюру с экспертом, которого нашел где-то в Саутхолле[2]. Несколько лет подряд он днем занимался компьютерными технологиями, а по вечерам тренировал руку: сотни раз чертил одну и ту же ровную линию. Всего лишь небольшой отрезок. Ничего больше. После пяти лет молчаливой работы компьютерные узлы, которыми была забита его голова, расцвели картинами на стекле. Огромные панно, плоды многомесячной напряженной работы набившего руку Рена, стали украшать коридоры крупных фирм. Видеть Рена, своего старого бесшабашного друга, отца троих детей, художником было настолько дико, что у меня захватывало дух. Выходит, кто угодно может заниматься чем угодно. Я всегда подозревал такое, но сейчас начинал убеждаться в этом. Правда, по дороге этот вопрос успел утратить для меня актуальность.
— Слушай, — предложил я Лелии, — давай выпьем.
— Может, мне не стоит? — сказала она. — Мы же не знаем, вдруг я беременна.
— Черт, — я все время об этом забывал. Это было так захватывающе и непривычно, что казалось почти невозможным. — Тогда давай возьмем тебе какого-нибудь фруктового пунша. Надеюсь, я не должен не пить из чувства солидарности? — спросил я полушутя.
— Спасибо тебе большое, — сухо отозвалась Лелия. — Смотри, а вон Кэти! Она роскошно выглядит. Пойду поздороваюсь.
— Ханжа, — бросил я ей вдогонку, тут же на память пришло выражение «Hypocrite lecteur». Что это значит? Я не знал. Надо было спросить у Лелии. Лицемерный читатель? Откуда это? Невозможность понять смысл выражения меня всегда бесила, я выходил из себя, когда мне попадались названия, которых я не мог дешифровать, — «Фреш-принц Бель-Эйр»[3], «Красное, горячее и синее»[4], «Селекта Бо»[5]. Их смысл от меня ускользал и потому раздражал. Я посмотрел на Рена, может быть, стоило подойти к нему и поздравить, но он все еще разговаривал со своими серьезными клиентами, сплошные дела и скука. У меня возникло легкое подозрение, что они так возились с ним только потому, что он не был англичанином.
— Привет! — Сквозь небольшое свободное пространство, образовавшееся между людьми, на меня смотрела мышка.
— О, привет… — Напряг память. Огромным усилием воли попытался раскидать стога сена в поисках иголки, но, как и в прошлый раз, имени ее не вспомнил. Когда решил, что дальше ломать голову бесполезно, имя вспомнилось само. — Сильвия, — сказал я. — Ты не знаешь, что значит выражение «hypocrite lecteur», помимо… прямого смысла?
— …Mon semblable… mon frère[6], — ответила она. — Бодлер.
— Точно. — В этих словах, которые она произнесла тихим голосом, я почувствовал настоящий французский выговор.
— Это из «Au Lecteur». «Les Fleurs du Mal»[7]. Он как бы обвиняет читателя в том, что тот является соучастником писателя… называет его «читатель-лжец».
— Черт возьми! Мне бы стоило это знать, верно? Спасибо, мисс.
— Это один из символов модернизма.
— Что ж, спасибо, что просветили невежду. Ты француженка?
— Нет. Совсем чуть чуть. Мой отец был французом на три четверти.
— То есть ты… как у нас с математикой… в третьем поколении француженка?
Промолчала. Я посмотрел на нее. Лицо бледное, ясное, как у девушки из французского фильма: открытое и чистое, с гладкой кожей и гордым изгибом полных губ. Глаза оттенены легкой синевой, как будто она стояла в неосвещенной комнате вечером. На ней было простое короткое и узкое платье, совершенно прямые волосы были темного тускло-каштанового оттенка. Бледность кожи как бы выпячивала каждую деталь ее лица: голубую жилку там, где начинались волосы, тени под глазами, ненакрашенные губы.
— А где же ты росла? — спросил я.
— Повсюду, — ответила она странным, тихим, немного скрипучим голоском. Я выжидающе смотрел на нее. Заметил, что, когда она говорит, я наблюдаю за ее губами. — Большей частью. А ты?
— В Корнуолле.
— О, — сказала она. — Там, наверное, очень красиво.
— Люди всегда так говорят. И так оно и есть. Но мне все время хотелось оттуда смотаться побыстрее. Подальше от коров.
Помолчали. Я колебался. С ней было невозможно разговаривать. Заметил, что разочарованно поджимаю губы.
— Что ж… — Я посмотрел в сторону, прикидывая, как бы лучше улизнуть.
— Такие выставки сплошная тоска, правда? — тихо сказала она. — Тебе вот скучно. — Посмотрела на меня, и уголки ее рта потянулись вверх в легкой улыбке. — Мне, похоже, тоже. Я представляла себе, в каких других местах я могла бы сейчас быть. — Едва заметное оживление наметилось у нее на лице.
Подождав немного, я спросил:
— И в каких?
Пару секунд она внимательно смотрела на меня, потом отвела взгляд.
— В любом другом месте, только бы не здесь, — сказала она.
— А скажи, — спросил я, задетый ее немногословностью, — чем ты занимаешься?
— О, — всматриваясь куда-то в сторону, она как будто ловила чей-то взгляд. — Я… изучаю литературу, собираюсь получить доктора философии. Еще я пишу. Для университетского журнала. А ты?
— Я…
— Знаешь, как сильно мне понравилась твоя книга? — вдруг как-то просто сказала она, не дав мне раскрыть рот. — Правда, очень понравилась. Сначала мне казалось, что совершенно не понравится, но постепенно пробрало; ты уловил его сущность. Я начала понимать его. Пока читала, мне казалось, что я жила с ним, что мы плаваем вместе, — Магелланов пролив, Огненная Земля; такие названия… — Она плавно двигала руками, причем только тогда, когда говорила; кончиками пальцев легко касалась шеи. — Это так удивительно — представлять себе места, в которых никогда не был, описывать человека, всю его жизнь.
Она отвернулась, словно сказала лишнее, потом посмотрела себе под ноги. Я тоже на них посмотрел. Оказалось, что она обута в небольшие узкие полусапожки, зашнурованные на голенищах, напоминающие обувь молодых женщин времен короля Эдуарда[8]. Я заметил, что лодыжки у нее узкие и изящные. Она как будто смутилась.
— Спасибо, — сказал я.
Удовольствие елеем разлилось по душе… вопреки собственному мнению, вопреки ужасной оценке критика, писавшего рецензию на мою работу. Похвала эта послужила для меня наградой за все те бессчетные часы, проведенные в кабинете с книгами, за которые мне даже не заплатили как следует, за все две с половиной книги, вышедшие из-под моего пера на сегодняшний день. В этом уравнении величины были настолько разновеликими, что даже эти осколки запоздалой похвалы несли в себе море удовольствия.
Мы снова помолчали.
— Ты недавно в Лондоне? — наконец спросил я, стараясь быть вежливым.
— Около года.
— И?.. — Я вопросительно посмотрел на нее.
— Да, — ответила она. — Более или менее.
«Что за игра в молчанку?» — подумал я. Хоть ее взгляд говорил о почти агрессивной самодостаточности, у меня возникло желание как-то поддержать ее. Ее губы дернулись, словно ей стало стыдно за то, что я обнаружил одинокую природу ее существования.
— Позвони мне на работу, — я достал из бумажника визитку и, ощущая себя благодетелем, вручил ей. — Если хочешь, можешь забрать себе несколько книг из моего офиса… мои друзья постоянно у меня что-то берут почитать. Заодно разгребешь мои пыльные завалы. Мое рабочее место уже становится похожим на дом Айрис Мердок.
Она рассмеялась, по-настоящему, искренне, с морщинками у глаз.
Придвинулась ко мне ближе. От нее исходил запах абсолютной чистоты.
— Однажды я видела ее, в Норд Оксфорде, — сказала она. — Она была одновременно и уродливой, и красивой. Я тогда была с одним человеком, с которым мне не стоило быть, и вот посреди белого дня совершенно случайно встречаю на улице Айрис Мердок, как дух во плоти. У меня в сознании два этих человека с тех пор стали ассоциироваться. Хороший это был день.
Она посмотрела на меня, улыбнулась, развернулась и ушла. Я проводил взглядом ее затылок, пока она не прошла через комнату и не исчезла из виду.
4 Лелия
Поговорив со старой подругой Кэти, я вдруг совершенно четко поняла, что беременна, или подумала, что поняла. Я почувствовала себя так, как никогда раньше не чувствовала. Это была моя третья беременность, предыдущие две от другого мужчины (первая — случайность, вторая — странная попытка доказать самой себе, что еще могу зачать, что меня не всегда окружает смерть), и в первый, и во второй раз меня беспокоило тревожное ощущение, что на самом деле я вовсе не беременна, и оба раза через несколько недель я теряла ребенка в сгустках спекшейся крови вперемешку с горем. Чувство потери притупилось, но так и не прошло. Я чувствовала себя виноватой перед этими детьми, как будто я была причиной того, что их жизни вышли такими недолгими. Я хотела быть за них в ответе, помнить то, что могло бы быть их душами. Когда я слишком много о них думала, я всегда начинала плакать, поэтому изо всех сил старалась вспоминать о них как можно реже.
Впрочем, вопреки всему меня вдруг переполнила уверенность в том, что мое тело работает и я смогу выносить ребенка. В душе шевельнулась надежда.
Поискала глазами Ричарда: не терпелось поделиться с ним своим открытием. Он высок, поэтому я быстро его нашла. Он, наклонившись, с кем-то разговаривал и смеялся. Ребенок, в котором слились наши ДНК, только-только начал формироваться внутри меня. Я смотрела на каштановые волосы Ричарда, на его особенные большие глаза с морщинками под нижними веками, на нос, спокойно жить с которым может себе позволить только мужчина, и счастье закипело у меня в душе при мысли о том, что наши и рост, и цвет кожи встретятся где-то посредине, когда сольются гены; попыталась представить, какой вид будут иметь глаза, в которых объединятся пигменты наших радужных оболочек, — получились спирали из полосок двух цветов: мои темно-карие и его голубо-зелено-серые, которые мне всегда казались корнийскими, хотя его родители на самом деле родом из других мест.
Пока я наблюдала за ним, волна любви и нежности накрыла меня с головой. Мне он казался похожим на рыбака из книги, эдакий морской волк, который на самом деле, наверное, ни разу в жизни не держал в руках просмоленный канат, но принадлежал к миру более широкому и открытому всем ветрам, чем улицы, на которых я его видела, — даже короткая стрижка не могла скрыть того, что волосы у него вились непослушными волнами, а его неугомонный вид больше подходил к пространствам более широким. Я не сводила с него глаз, пытаясь привлечь к себе внимание. Он не повернулся. Где-то в районе лба возникло ощущение усталости, и я села. Жуткие картины Рена окружали меня со всех сторон. Когда я закрыла глаза, веки прошлись как по сухому. Несколько секунд я сидела с закрытыми глазами, сухое пощипывание не утихало.
— Лелия, — раздался незнакомый голос.
Открыла глаза и подняла голову. Того, кто меня позвал, я уже когда-то видела. Сразу она показалась мне очень знакомой, потом это чувство отступило. Потом память словно отрубило.
А потом я поняла, кто это. Рот у меня слегка приоткрылся. Это та женщина, которую мы видели дома у МакДары.
— Привет, — сказала я и улыбнулась. Подумала добавить к приветствию имя, но это было бы как-то неестественно. Я даже буркнула что-то невразумительное, но она промолчала.
— Привет, — повторила я и добавила: — Как дела?
— О, спасибо, нормально. А вот с тобой, по-моему, что-то не то… ты очень бледна. — На мгновение ее рука коснулась моего лба. — Наверное, тебе нужно выпить воды. — Голос у нее был приятный, мягкий, с неожиданными модуляциями. — Не так ли?
— Нет, нет. Со мной все в порядке. Хотя… Я бы не отказалась. А где тут?.. — Я посмотрела по сторонам.
— Я принесу, — сказала она.
Усталость уже буром сверлила череп, я чуть не потеряла сознание, но потом мне стало легче.
Я не услышала, как она вернулась.
— Вот.
Я стала большими глотками жадно пить газированную воду. У меня возникло такое ощущение, словно я плаваю в бассейне. Голубая на фоне стенок чашки вода плескалась, накрывала рот, нос, глаза.
— Спасибо, — отдышавшись, сказала я. — Что-то мне нехорошо.
— Нехорошо?
— Нет, я хочу сказать… Ричард говорил, что недавно встретил вас в «Марин Айсез» (перед самым Рождеством, по-моему, да?), а я тебя там не заметила. Я бы обязательно поздоровалась. Извини, я тебя просто не увидела.
— Понимаешь, дело в том, что я, похоже, могу становиться невидимой, — сказала она спокойным хрипловатым голосом. Уголки рта дрогнули. — Просто я… я не умею вести себя с людьми. Я даже не уверена, хочу ли я этого. Так что все в порядке.
— Тебе нужно было подойти к нам.
— Нет, — ее лицо осталось невозмутимым. — Вы были вдвоем.
— Ну и что? Мы же не пришиты друг к другу, как видите, — сказала я, вытягивая шею, чтобы снова увидеть Ричарда. Передо мной было слишком много людей. Становилось шумно. Одежда проходящих мимо задевала мне колени. Ей, чтобы разговаривать со мной, приходилось неудобно наклоняться. — Присаживайся, — предложила я. Но когда она собралась опуститься рядом со мной, кто-то зацепил ее, и ей пришлось ухватиться за мое плечо, чтобы сохранить равновесие. Прикосновение оказалось мягким. Спина у меня затекла, мне ужасно хотелось, чтобы Ричард ее помассировал.
Она холодно посмотрела на того, кто ее толкнул.
— Вот доказательство того, — сказала она, — что я невидима.
— Да ладно тебе! — усмехнулась я.
Но ее слова попали прямо в точку. В комнате заметить ее среди присутствующих было невозможно. Хотя, несмотря на то что она была напрочь лишена каких-либо характерных особенностей, у меня было такое чувство, что мне она чем-то запомнилась. Трудно было определить ее возраст: ей могло быть от двадцати пяти до тридцати двух или тридцати трех лет, но выглядела она моложе. Стройная, с прямыми волосами, в чертах сочетаются простота с почти красотой, без малого jolie-laide[9]. Нос нельзя назвать маленьким, по сравнению с ним движения слегка скошенных губ кажутся скупыми. Кожа, светлая и очень гладкая, как будто притягивает к себе тени, которые аккумулируются у нижних век, под темными бровями и на висках. В общем, черты лица ее можно было назвать невыразительными, только губы были полными. Я уже видела, как можно эти губы подчеркнуть.
Одета она была неинтересно, как те зануды, которых мы на факультете называли «бежевыми девочками», хотя одежда у нее, вероятно, была дороже, чем выглядела. Я совершенно четко представляла себе, как можно ее преобразить: волосы подрезать ровнее, скрыть тени и подчеркнуть краской единственную выразительную часть лица — соблазнительные губы, потом полностью переодеть, чтобы она меньше жалась и смогла раскрыться. Но она наверняка на такое никогда не пойдет. Все те «бежевые девочки», которые по какой-то причине вдруг в первый и последний раз решали изменить свой образ, неизменно уходили в «этно», начинали носить обвислые розовые рюкзаки, красно-коричневые жилеты с узорами из лягушек и кричащие серьги; или же красили кошенилью отдельные пряди замызганных волос.
— Ты работаешь? — спросила я, чтобы не сидеть молча.
Однажды мы с Ричардом зашли в паб в маленьком корнуоллском городке, недалеко от того места, где он вырос. Там мы разговаривали с людьми, с которыми он когда-то был знаком; они все так же сидели в том же старом пабе, в который ходили, когда еще учились в школе, и там я поняла, что никому из этих людей я не смогу задать вопрос «а чем вы занимаетесь?». Они ходили на курсы, водили грузовики и интересовались кино. Знакомство с ними научило меня быть осмотрительнее в общении.
— Ну, — сказала Сильвия, — я заканчиваю работу над докторской, но еще пишу курсовые и контрольные. А чем ты занимаешься?
— Я преподаю в Юниверсити-колледже. Сравнительная литература. Французская и немецкая.
— Так ты научный работник! — воскликнула она. — Мне бы, наверное, следовало догадаться, да? Только я не знаю твоей фамилии.
— О, я тоже никогда не знаю ничьих фамилий. Я постоянно встречаюсь с людьми, которых принимаю за завхозов, а они оказываются какими-нибудь заслуженными профессорами византийской истории в Тринити[10].
— Вот-вот. А я всегда прохожу мимо них. Некоторые так бегают по коридорам Исторического института на Рассел-сквер, как будто они пациенты Бедлама, — сказала она и осеклась.
— Ничего страшного, — успокоила я ее. — Мне и самой приходится работать с такими людьми. Мне часто кажется, что я от них вшей нахватаюсь.
Я снова попыталась найти глазами Ричарда, но он словно растворился в воздухе, был недосягаем для меня за пустыми разговорами. Я беременна. Ощущение крайней усталости еще больше усилилось, но я была уверена как никогда раньше, знала на все сто процентов, что беременна. Думать о том, что я могу снова потерять ребенка, было невыносимо. В душе я прочитала небольшую молитву, чтобы ребенок выжил. Впилась ногтями в сиденье стула.
— А где ты работаешь? — спросила я первое, что пришло в голову.
— Дома, — ответила она. — Мою докторскую работу курируют в Эдинбурге, но я переехала сюда, в Лондон.
— Ну и как работается на дому?
Она немного помедлила с ответом.
— Ужасно!
— Почему?
— Я просто с ума схожу оттого, что приходится постоянно находиться в одном и том же месте и работать, работать, — сказала она все тем же взволнованным голосом. — Мне кажется, жизнь не должна быть такой. Это одна из форм помешательства. Мне нужны люди. Я выхожу из дому и иду работать в кафе только ради того, чтобы избавиться от этого чувства.
Я представила себе Ричарда, каким я его застаю дома врасплох по пятницам в разгар дня, когда он все еще шатается без дела по квартире, в халате, злой и раздраженный, с всклокоченными волосами; или же как он смотрит «Соседей», на коленях крошки овсяных хлопьев, доведенный до бешенства отвращением к самому себе, как жалко пытается оправдать свою инертность сказками про засорившиеся раковины или зависший компьютер.
— Но ты могла бы работать в библиотеке… Это прекрасное место. Я имею в виду университетскую библиотеку, в Сенат-хауз.
— Но как? Я же не студентка университета.
— Я могу оформить тебе карточку читателя.
— О! — воскликнула она, глядя прямо на меня таким взглядом, будто я сделала ей бесценный подарок.
— Я могу сказать, что ты — одна из моих студенток.
— Как… О, это было бы так здорово. Спасибо, — горячо сказала она.
Опять надолго замолчали. Я попыталась придумать, что бы такого еще сказать или спросить.
— Где ты выросла? — спросила я.
— Да так, повсюду.
Я подождала продолжения.
— Во Франции?
— Я какое-то время ходила во Франции в школу.
— В какую?
— Это была американская школа.
— Ну да, — сказала я. — А воспитывалась ты тоже здесь?
Она покачала головой. Когда она повернулась, я уловила исходящий от нее запах, запах дорогого мыла, миндально-молочного, которое легко впитывается в кожу и навевает мысли о старых домах.
— А… семья? — спросила я и сразу же почувствовала, что вторгаюсь на опасную территорию, где могу задеть чувства того, кто, возможно, страдает от одиночества. Помедлила. — Есть у тебя семья?
— Нет, нету… — ответила она.
— О, — понимающе кивнула я.
Она промолчала.
— Ты должна зайти к нам, — сказала я. — То есть… это никак не связано с… — неуклюже добавила я.
— Буду очень рада, — вежливо сказала она.
— Заходи на следующей неделе. Скажем… — я достала свой ежедневник. — В пятницу я свободна. В пятницу сможешь?
— Думаю, да, — согласилась Сильвия. Она сидела, плотно сжав колени, прямые волосы, доходившие до подбородка, казались почти безжизненными, что делало ее похожей на неразговорчивую школьницу-француженку. — С удовольствием зайду к вам. Спасибо.
— Отлично. Заходи.
Комната наполнилась звуками светской болтовни, смехом и перезвоном бокалов.
— Все-таки тебе нехорошо, — сказала она. — Меня это беспокоит. — Ее тихий голос успокаивал.
— Я просто устала.
— На тебе лица нет. Мне кажется, я понимаю, отчего это, — сказала она и улыбнулась.
Я смутилась.
— Понимаешь?
— Думаю… да! — Она продолжала улыбаться.
— Действительно. — Сердце взволнованно зачастило.
— Иногда я это определяю сразу.
— Что ж…
— Можете сказать, права я или нет… когда увидимся в следующий раз, — сказала она и повернулась ко мне. Совершенно неожиданно, перед тем как встать, она поцеловала меня, и я сразу же почувствовала желание довериться ей, рассказать этой незнакомке, о чем я еще несколько недель не буду говорить даже родной матери.
Она положила руку мне на плечо.
— Мне пора идти, — на прощание сказала она.
На щеке еще чувствовался поцелуй, на плече ощущалось прикосновение ладони. Я приложила руку к животу и обвела комнату глазами, пытаясь найти Ричарда, мне хотелось, чтобы он был рядом со мной, чтобы он отвез меня домой.
5 Ричард
«Меня обижали, унижали, презирали, но во мне осталась способность ненавидеть, дар такой же редкий, как ум, данный мне от природы, и я соберу в кулак всю ненависть, когда настанет время спасаться. Я пробовала быть хорошей; корпела над вышиванием, готовила подарки, сюрпризы. Я так старалась, чтобы у матери со мной не было проблем, но все оказалось напрасным.
В то утро я почувствовала, что в ней что-то изменилось: в глазах появился едва заметный огонек; садясь, она держалась прямо и аккуратно, в ту секунду я поняла, что враг пришел. Туго стянутые шнуры на корсете матери скоро будут распущены, слуги начнут друг другу шикать, будет нанята няня. Меня швырнут в угол, и на этот раз начнется голод».
«Какого черта?» — подумал я. Что это за муторная писанина? Я щелкнул на «Ответить» и написал: «Отвали».
Несколько секунд смотрел на иконку «Послать», потом нажал. Послание полетело в эфир. Я усмехнулся, собственная грубость все еще вызывала у меня удовольствие, подогреваемое старым страхом наказания. В детстве я всегда выходил победителем в играх на выполнение желаний. Ожидание возможного наказания, которого я в душе ужасно боялся, лишь подстегивало меня, заставляло идти на самые отчаянные поступки, отчего опять же в душе я испытывал неимоверное удовольствие. Даже когда я вырос, мое суперэго, обтесанное учителями, иногда заставляло меня идти на риск.
Единственным человеком, который не пытался нас приструнить, была мать. Воспитывая пятерых беспокойных детей, не имея ни приличного заработка, ни перспектив, она благодаря своей доброте и ангельскому терпению видела в наших «подвигах» повод лишний раз улыбнуться, и за это я любил ее еще сильнее, какое бы расстояние или время нас ни разделяло. Она одна была для меня неизменной величиной, старым другом. Теперь рядом со мной была еще и Лелия, но она не так терпимо относилась к моим припадкам глупости. Я знал, что должен благодарить судьбу за то, что они обе были в моей жизни.
Несколько минут я не отключался от сети, ожидая ответа. Ничего.
— О Боже… совсем забыла, — сказала Лелия, заглянув в свой ежедневник, который лежал открытым на столе. — К нам должна прийти Сильвия… ну, та девушка… я пригласила ее в гости в пятницу.
— Зачем? — удивился я.
— Просто захотелось.
— Но зачем?
— Она мне понравилась. Мне показалось, что ей не с кем проводить время и мы могли бы подружиться, вот и все.
— О Господи. Да она самый обыкновенный «синий чулок». Дорогая, ты начинаешь превращаться в…
— Слушай, иди ты, а! Она все-таки лучше, чем те совершенно невменяемые личности, с которыми ты общаешься. И интереснее.
— Ладно, ладно, — недовольно согласился я. — Первый раз вижу таких сумасшедших женщин. Слушай, дорогая, я соглашаюсь только потому, что ты — единственная красавица среди своих благочестивых коллег… звезда, сияющая на фоне всеобщей тупости. Они тебя не стоят.
— Но это мои старые друзья, — как всегда в подобных разговорах, сказала Лелия. — Они на самом деле мне нравятся.
— Отлично! Только давай не будем приглашать к себе и знакомить с родственниками очередную книжную крысу.
— Она не такая. Просто немного скромная. А разве ты сам чуть не пригласил ее к нам, лицемер несчастный? — сказала она, вцепилась мне в плечи и, глядя на меня в упор широко раскрытыми глазами, стала приближать свое лицо к моему. — Скажешь нет?
Мы смачно поцеловались.
— Кто, я? — сказал я, хмурясь. — Ах да. Я пожалел ее. Ладно, в любом случае, она может продолжать оставаться такой же стеснительной… или скучной, как ей хочется, потому что в пятницу у нас будут другие гости.
— Что?
— Фероны. Всей бандой! Будут все, кроме Рейчел.
— О Боже!
— Давай пригласим МакДару, он хоть как-то разрядит обстановку.
— Ладно, только, когда они приедут, не надо впадать в хандру, как ты любишь, хорошо? Я этого терпеть не могу.
— Хорошо, хорошо. По крайней мере будет не так скучно.
Родственнички явились шумной склочной компанией. Не было только Рейчел. Старшая из дочерей, она была наделена родительской любовью в меньшей степени. Рейчел, которая всегда приводила в недоумение мать своей серьезностью и трудолюбием, поддавшись тем же чувствам, что и я, сбежала в Эдинбург. Я всегда чувствовал себя в ответе за нее, ощущал особенную связь с ней, часто ей звонил и писал. Родители разошлись, когда мне еще не было двадцати, и я всегда ощущал, что мать, которая годами пыталась скрасить сильно колеблющимися доходами отца, частнопрактикующего архитектора, деревенское убожество нашего детства, заслуживает покоя на старости лет. Но она, не в силах подавить в себе материнский инстинкт, до сих пор держала на своих плечах груз ответственности за трех великовозрастных отпрысков.
И эти трое в пятницу днем явились на Мекленбур-сквер в микроавтобусе, не задумываясь о том, что я могу быть чем-то занят. Необходимость платить за парковку их сильно удивила и возбудила, и мне, как я и предчувствовал во время бессонной ночи, пришлось бросать из окна однофунтовые монеты, потому что ни у кого не оказалось достаточно мелочи.
— Идиоты, — прорычал я Лелии.
К тому времени, когда, на мое счастье, приехал МакДара, а Лелия из последних сил не давала разгореться старинным взаимным семейным обидам, воздух в квартире уже пропитался запахами «Олд Холборна»[11] и чайных пакетиков в лужицах танина на кухонной плите; было сделано несколько срочных звонков, перемежаемых яростными спорами относительно парковки, которые именно я должен был разрешить; пару раз кто-то бегал к машине за подходящей музыкой, после того как наши компакт-диски были просмотрены, отторгнуты и сложены шаткой горкой. Но наконец сочетание вина, правильно падающего света и подходящей бразильской музыки удовлетворило их, так что, когда пришла Сильвия, они уже нежились под елкой, веселый бабский коллектив. Клода, Бетан и Дэн. Трое младших Феронов, вплывающих во взрослую жизнь на плоту собственного исключительного легкомыслия, живущих различными пособиями и уловками. Для меня они были как пришельцы с другой планеты, на несколько лет младше, во много раз безответственнее, но в то же время такие же привычные, как дыхание или биение сердца.
— Спаси меня, — шепнул я Лелии, которая была в яркой узорчатой юбке, новой, как она утверждала, и туфлях на высоких каблуках, которые мне очень нравились. Сделав вид, что, пока никто не смотрит, хочу схватить ее за зад, я заставил ее захихикать.
Сильвия исчезла, появилась снова, чтобы помочь Лелии, и опять стала невидимой, или просто я забыл о ней; МакДара уже битый час разговаривал в моем кабинете по телефону с каким-то американским банком; я остался в одиночестве готовить еду для гоняющих лодыря Феронов, а после предался веселью в компании сестер и собственного чувства привязанности к ним. Каким все-таки озлобленным ублюдком я был! Ведь вся моя жизнь вертелась вокруг закладной, книг и мелочных интересов. В отличие от меня они были свободны как ветер, жили так, как им нравится, в дешевых пристройках и халупах недалеко от нашего «фамильного гнезда», работали от случая к случаю, регистрировались на бирже труда, обирали бедную мать, которая вынуждена была пускать к себе квартирантов, чтобы по доброте душевной помогать им деньгами. Незавидное существование, состоящее из платьев, сигарет «Ризла», копченой семги за последние деньги и пустых депрессивных разговоров по беспроводному телефону. Передо мной открывался новый мир, новый язык, которым разговаривали о «тачках» и «травке», о фестивалях, о «бодуне», о мятных сигаретах, пишущих дисководах, покупках через eBay, о том, как не встретиться с судебным приставом и об инфракрасном слежении. Мне поведали последние слухи о соседях, недалеких фермерах, чьи фамилии я слышал с рождения, и мне показалось, что все мое детство прошло передо мной, как в кино. Я пил вино и хохотал над их несдержанностью, требовал рассказать что-нибудь еще. К нам присоединился МакДара. Умостив свою медвежью фигуру рядом с нами на полу, скрестив ноги, он изо всех сил старался изобразить то, что ему казалось корнским акцентом, прерывал нас на полуслове и требовал объяснить то, что ему было непонятно. Потом мы перебрасывались мандаринами. Сильвия тоже была в комнате, я ее представил, но она оставалась невидимкой, вела себя даже тише, чем раньше. Я забыл о ней, замечал ее лишь в перерывах между выпивками и карикатурными воспоминаниями о Бодмин Муре. Лелия в пылу разговора иногда обращалась к ней, но остальное время она сидела молча.
Я окинул их одним взглядом: плоть и воздух, женщина и привидение.
Лелия разговаривала, нарезая хлеб, переступая с ноги на ногу из-за каблуков, и то и дело бросала на меня взгляды — тончайшие намеки, заряженные иронией, понятной только нам, обещавшие веселье позже, в кровати, когда мы будем обсуждать гостей. Когда дело дошло до скользких тем (деньги, их и мои; неравное участие в ведении домашних дел Феронов; старые обиды и ревность), она снова стала поглядывать на меня, готовая вступить в спор, защищая мои позиции. Раньше мы часто ссорились из-за моих родственников, но встреча с ними лицом к лицу объединила нас. В душе закипела любовь и разлилась по всему сердцу. Я потянулся через весь стол, его край уперся мне в ребра, и прикоснулся к ее руке. Мне нравилась ее простота в общении, я обожал ее доброту.
— Кинь хлеба, Дик, — с ужасным простяцким акцентом прервал мои мысли МакДара.
Когда я в следующий раз обратил внимание на Сильвию, она сидела в тени и делала вид, что изучает книги на полке. Когда я пошевелился, опьянение дало о себе знать с новой силой, и я, пока она пыталась замаскировать необщительность интересом к книгам, стал рассматривать ее узкую спину в темном вязаном свитере с вырезом в форме буквы V на груди, микроскопическую юбку, полностью открывавшую взору ноги в плотных черных колготках, которые в приглушенном свете мне показались даже соблазнительными. Интересно, подумал я, а этот набросок на женщину вообще с кем-нибудь спит? Кто-нибудь ее хоть раз трахал? Не похоже (совершенно дикое предположение по отношению к такой странной и замкнутой особе, сама мысль о таком казалась покушением на ее холодную чопорность), хотя кто знает? Я припомнил, что в колледже несколько самых скучных девушек (очкастые зубрилы из Мидлендс[12] и робкие католички из Барнета[13]), по рассказам девушек, с которыми я был знаком, жили активной и даже иногда извращенной половой жизнью. Предположение было настолько же омерзительным, насколько и приятным: никогда не знаешь наверняка, никогда не угадаешь. Жизнь хранила свои секреты.
От выпитого вина в голове гудело. Я доел и пошел в свой кабинет искать книгу Карла Ларссона. Клода утверждала, что я взял ее у нее лет двадцать назад, и теперь требовала вернуть.
Там было не так душно, тени деревьев на Мекленбур-сквер рассеивали свет с улицы. Я остановился у окна. Прислонился лбом к стеклу. В полумрак комнаты из коридора вошла Сильвия, вздыхая, как ребенок.
— Привет, — сказал я.
Мы стали вместе смотреть вниз на улицу. Она, как всегда, молчала, а я был пьян: нужды в разговоре не было. Микроавтобус Бетан на площади был темной массой, похожей на корабль. Дальше светлым пятном горели залитые светом прожекторов теннисные корты на Брансуик-сквер.
— Как ты? — спросила она через какое-то время.
— Хреново, — сказал я.
— Это родственники тебя доводят?
— Кто ж еще? А твои разве тебя не достают?
— О, с родственниками всегда так, — сказала она тихим невеселым голосом. — Они способны по-настоящему свести с ума. Хотя твои мне понравились.
— Артистки хреновы. Халявщицы. Не знаю… Шаромыги.
Она улыбнулась.
— Но они и настроение могут поднять. Они знают, как жить.
— Это уж точно.
— Я думаю, тебе тоже просто нужно расслабиться, а не завидовать им, — неожиданно сказала она.
Я удивился.
— Завидовать? Тебе что, кажется, что я напряжен? — раздраженно спросил я.
— Ну, может быть. Все мы… все люди, такие, как мы… как ты, я и Лелия, слишком напряжены. Я натянута, как струна. Иногда мне кажется, что я довожу себя до истощения. В тебе я вижу то же самое, — сказала она, заглянув мне в глаза.
— Да, — буркнул я. Выпитое вино сделало меня немногословным. Она же вообще не пила, в этом я был уверен. Я наклонился к окну, чтобы стекло остудило лоб.
— Похоже на зеленое кладбище, правда? — сказала Сильвия. — Никто здесь не живет… кроме нас. Может быть, поэтому мне здесь и нравится.
— Почему?
— Именно поэтому. — Голос у нее был приятным, спокойным, тихим. Ее волосы были распущены и свободно свисали наподобие каре, как у маленькой Алисы Лидделл[14], капризной девочки викторианской эпохи. Вот на кого она похожа, понял я: старинная кукла, а не толстощекая красотка, очень чувствительное и искреннее создание, мелкая вещица, спрятанная в шкафу, а не выставленная на полку.
Мы стояли рядом, вместе смотрели в окно, и я почувствовал какое-то духовное родство с ней. Мысли шевелились медленно, мозг отказывался переходить в рабочий режим.
— Если бы ты жил в Сохо или Камдене, — сказала она, — ты бы не чувствовал себя так, словно вокруг гудит вечеринка, а тебя на нее приглашают. Здесь сплошная зелень и тишина. Университетские преподаватели, прячущиеся от мира. Вот что я люблю, потому что тут я сама могу строить свою жизнь, получать от этого удовольствие.
— Ты имеешь в виду, что здесь не носятся со своими огромными портфелями всякие педики из газет и телевидения? По-моему, все это может достать кого угодно. Это как… — Я раскрыл окно, выпитое вино уже начинало казаться теплым и тошнотворным. — Господи, — сказал я, вдыхая запах сырой земли за пятном асфальтированной дороги. — Я еще никому этого не говорил, даже самому себе, я… ненавижу всякие там первые листочки на деревьях и тому подобное. Мне повеситься хочется или свернуться клубком, чтобы никого не видеть, вернуться обратно в зиму.
— Мне тоже, — взволнованно сказала она. — Точно как ты говоришь. Даже когда я вижу первые подснежники в конце января, мне хочется, чтобы время остановилось, чтобы не было слышно звуков лета, радио на улицах, детей на площадках. Но все, что я могу, — это сидеть дома, думать, читать книги. Сидеть у камина. Лежать в кроватях.
— В кроватях?
Она промолчала.
— Во множественном числе?
Я повернулся к ней. Мне было так свободно и легко, механизмы моего тела работали так плавно, я как будто мог сделать и сказать абсолютно все, чего бы мне ни хотелось.
Сильвия коротко усмехнулась, глядя в холодную ночь. Она стояла совсем рядом, легкий ветер из распахнутого окна играл ее кукольными волосами.
— Возможно, — сказала она наконец.
Ну конечно, подумал я. Она же женщина, не невинный ребенок. Вдруг я уловил, что ее внешняя сдержанность содержит в себе намек на сексуальность.
— У меня не всегда есть… своя, — сказала она.
— Своя? Своя что?
— Ну… я…
— Кровать. Свой дом, ты имеешь в виду?
— Да, точно.
— Пользуешься добротой незнакомцев? — сказал я.
Она улыбнулась, продолжая смотреть в окно, и глаза ее, скрытые тенью, оставались непроницаемыми.
— Ты был очень добр.
— Неужели?
— Да.
— Боюсь, что это не так.
— Ты пригласил меня сюда… дважды.
— Да. Извини. Мы ведь так ни разу как следует и не поговорили.
— Ты не обращал на меня внимания, потому что я показалась тебе неинтересной. И с чего бы мне быть интересной? Я же… Когда я с кем-нибудь встречаюсь первый раз, я закрываюсь в себе. А ты наоборот. Удивительно. Ты такой живой. Ты разговариваешь с людьми, шутишь, но это не обычная болтовня ни о чем. Когда ты разговариваешь со мной, мне кажется, что я тебя давно знаю.
— Я…
— Хотя, если на меня не обращают внимания, я ухожу в себя. Но мы-то сейчас разговариваем.
— Да. Господи, извини, я ведь такой невоспитанный вахлак. Иногда я просто забываюсь. Запутываюсь в собственных странных мыслях.
Сильвия замолчала. Она казалась очень худой, стояла, сильно наклонившись и далеко высунувшись из окна, словно собиралась нырнуть вниз головой, тонкие ноги даже немного прогнулись назад. Она посмотрела на деревья, окинула взглядом крыши домов. Из-за соседней двери в комнату вплыли звуки возни, разговоров и смеха трех Феронов, периодически прерываемые раскатистым хохотом МакДары. Иногда слышался голос Лелии. А ведь когда-нибудь здесь, в этой квартире, может жить ребенок, доказательство вечности человеческой жизни, еще одна единица в строю уже существующих. К нему будут приезжать мои родители, мать Лелии и будущие дети моих сестер. Но сейчас здесь была эта странная девушка, живущая одна в Блумсбери, не связанная кандалами семейности или прошлого, которая словно взирала на мир со стороны. У меня вдруг возникло желание пробиться сквозь ее гордость и защитить ее, обнять это хрупкое тело, затянутое в простой вязаный школьный свитер, поделиться с ней своей судьбой и заслонить от печалей, которые ее судьба уготовила ей.
— Приходи ко мне в офис, — сказал я. — Выберешь какие-нибудь книги. Чтобы почитать у камина.
— Спасибо. Когда будет время, — ответила она, и ее слова неприятно кольнули меня. — Было бы здорово.
— Можешь приходить, когда захочешь, — добавил я.
Она отвернулась от окна, посмотрела на меня и улыбнулась. Поддавшись внезапному порыву, я обнял ее, и она, поколебавшись какую-то секунду, прижалась ко мне так, словно я был ее отцом, и позже, проведя рукой по груди, я ощутил влажное пятно, которое оставили ее слезы, впитавшись в мой свитер.
6 Лелия
Я проснулась за минуту до того, как приехали мусоровозы. Сердце билось как бешеное. Ночная рубашка была мокрой от пота и липла к груди, как будто я ночь пролежала в лихорадке. Ричард лежал рядом и храпел, как корнуолльский боров, а в перерывах между звуками, которые он издавал, с улицы доносился металлический лязг.
Я рывком поднялась.
— Дорогая, — пробормотал он, поворачиваясь ко мне. Его дыхание зацепилось за последний всхрап. Мы обнялись. Здесь, в темноте, под пропитавшимся потом одеялом, я была в безопасности. В такие минуты, как сейчас, жизнь казалась мне простой штукой: главное — это чтобы рядом с тобой всегда был человек, готовый обнять тебя.
— Чего ты вскочила? — спросил он.
— Кошмар приснился.
Он недовольно вздохнул, потрепал меня по голове.
— Опять тот же самый.
— Про экзамены? Бедный мой «синий чулочек».
— Нет, не этот, — сказала я.
К моему удивлению, оказалось, что кошмар про выпускные экзамены (в котором ты то никак не можешь найти аудиторию, где должны проходить экзамены, то твою курсовую неожиданно заворачивают, а то и вовсе про нее забываешь и вспоминаешь в последнюю секунду в совершенной панике) — это настоящее проклятие, преследующее всех преподавателей колледжей и вузов, даже тех, кто давно вышел на пенсию. Другой периодически повторяющийся сон снился мне реже и поддавался определению в меньшей степени.
Он был связан с сексом. Когда я его видела, я просыпалась от страха, но разгоряченная желанием. Действие в нем происходило в прошлом, когда я была ребенком. Сон был о детях, и дети занимались любовью, перешептываясь, залазили друг на друга, шурша телами. Они были где-то далеко, в другом пространстве, но иногда фокус невидимой камеры изменялся, происходящее приближалось, я становилась одной из этих детей и видела над собой ритмично движущееся лицо другого ребенка. Ребенок выглядел бесполо, как кукла, у которой на месте промежности лишь пластмассовый бугорок, но он терся об меня, отчего внутри меня все загоралось. Я знала, кто это. Но не могла заставить себя думать об этом. Мне хотелось ощущать себя в безопасности. Я хотела быть беременной и не бояться самой себя.
Я попробовала незаметно залезть себе под ночную рубашку, чтобы убедиться, что во сне поддалась желанию.
— Руки!!! — гаркнул Ричард, схватил меня за пальцы, понюхал и поцеловал их кончики. — Это моя территория.
Я прижалась к нему сильнее. Желание переплелось с чувством вины.
— Что-то тебя завело. Да ладно, во сне тебе разрешается изменять, но только если ты поделишься со мной. Что же приснилось нашей милой безумице?
— Ничего, — сказала я. — Ничего.
Я не могла ему рассказать. Истоки этого преследующего меня кошмара лежали во Франции, где я впервые поняла, что такое желание, но его сексуальная грань вызывала у меня отвращение, поскольку тот период был связан со смертью. Незадолго до того умер мой отец. Я никогда не могла спокойно говорить о нем, даже когда выросла. Я любила его сильнее всего на свете. Было такое, что я не хотела вспоминать из-за него, из-за скорби по нему, но оно приходило ко мне по ночам, а теперь, похоже, начинало вторгаться и в реальную жизнь. Взрослея, я поняла, что скрывала от себя столько же, сколько скрывала от Ричарда или матери, все глубже замыкаясь в себе от боязни столкнуться лицом к лицу с правдой.
— Поделись со мной, — сказал Ричард.
Я уткнулась лицом ему в шею, рот у меня раскрылся и в отчаянии приник к его коже.
— Клеопатра, — позвал он меня, его голос, как всегда в таких случаях, сделался недовольным. Называть меня Клеопатрой, королевой Нила, было одной из его любимых шуточек.
До поездки во Францию в моей жизни не происходило ничего интересного, по крайней мере она была беззаботной, в ней не было места ни сексу, ни смерти, вообще ничему, что находилось бы за пределами пригородов Северного Лондона и тихого существования в них маленькой послушной девочки, какой я была. Наверное, я когда-то была образцовой дочерью, старалась из всех сил, чтобы родители мною гордились, безумно боялась, что они умрут, или разведутся, или разочаруются во мне, и от этого любила их с такой силой, на какую только было способно сердце. Только тогда я этого не понимала. Мы были единым зданием, в котором я, трудный, но любящий ребенок, выступала в роли цемента.
— Я о тебе позабочусь, — сказал Ричард. — Ты же это знаешь, моя безумная и скверная прелесть.
Я вздрогнула.
— А что, я скверная? — сказала я ему в шею.
Ричард рассмеялся. Поднял мою голову, заглянул в глаза и поцеловал.
— Нет, ты хорошая, — серьезно сказал он. — Ты такая хорошая, что мне с тобой никогда не сравняться.
— Ничего подобного.
— Это правда, любимая. Кроме тех случаев, когда ты портишь воздух и делаешь вид, что это не ты.
— Кто бы говорил.
Я уехала во Францию (по обмену, Пасха, Клемансо-сюр-Луар) в состоянии скорби. Это произошло через две с половиной недели после смерти отца. Мать не должна была меня пускать, ей надо было оставить меня дома, обсудить со мной эту тяжелую утрату и заметить, что юная дочь отравлена горем, но она этого не сделала и так никогда и не узнала, как мне было тяжело.
Там я стала мыться намного чаще: в долине Луары не было других девушек индийского происхождения. Лежа в железной ванне в доме на задворках Клемансо-сюр-Луар, я до красноты терла кожу мылом, читая Паньоля, Колетт, Саган, всех этих певцов одиночества, задыхалась от смрада, идущего из труб, и наблюдала за тем, как усыхает, сжимается от тоски мое либидо, пока в конце концов мне не стало казаться, что оно меня задушит. Там не было даже на четверть индийцев, «квартеронов», как я про себя их называла. Там были одни бледные женщины в очках; потаскушки; подростки продажного вида в одежде с барахолки да пробирающиеся в Париж алжирцы, на которых все косо смотрели. Я могла лишь наблюдать за ними через щели в узорчатых оконных ставнях и думать о том, что если буду сильнее скрести мылом и люфой руки, грудь и шею, то смогу сделать свою кожу хоть чуточку светлее. Где-то недалеко, в комнате на верхнем этаже, двое детей занимались любовью.
Ричард потянулся, откинув пуховое одеяло. Холодный воздух тут же забрался мне под ночную рубашку.
— Лелия.
— Я подумаю об этом, когда проснусь, — демонстративно зевая, я переложила голову ему на живот.
— Хорошо, дорогая, — он погладил мои волосы. — Только мне надо рано на работу, — тихо добавил он.
— Мне нужно выспаться, — сказала я, усталость уже снова тянула меня к себе. — У меня семинар начнется не раньше полвторого. — Я подтянула колени почти к подбородку.
— Тогда поцелуй меня на прощание прямо сейчас, — попросил он.
Я чмокнула его в подбородок и заснула.
Когда проснулась, его уже не было. Надеюсь, он не решил, что я опять впала в то состояние, которое ему казалось дурным настроением и злило его больше всего, но на самом деле было лишь проявлением моей тревоги.
Достала из пачки тест на беременность (хотя нужно было подождать как минимум один день) и помочилась на палочку. Результат должен был проявиться через две минуты. Но уже через несколько секунд голубая линия подпрыгнула ко второй отметке.
Я села на унитаз и закрыла лицо руками. Вся будущая жизнь проплыла у меня перед глазами. Говорят, что так же умирающие видят свое прошлое в последние секунды жизни.
Что-то заставляло меня верить в то, что эта беременность не прервется. Но под уверенностью плескались волны страха, черные, стремительные, словно я стояла на мосту и случайно посмотрела вниз, где прямо под ногами бушует темный поток воды, приводящий в движение мельничное колесо. Сердце заколотилось, я позвонила Ричарду на работу. Он был на собрании. Ничего передавать ему не стала, опустилась на кровать и какое-то время сидела неподвижно, пока не заболела рука, все еще сжимавшая телефонную трубку. На локтевом суставе забилась маленькая жилка. Я встала на матрас, немного наклонилась, чтобы увидеть в зеркале отражение своего живота. Когда я снова опустилась, из груди вырвался короткий отрывистый смешок, какое-то беспокойное «яхей». Мне нужно с кем-то поделиться. Сейчас мне нужно было проверять сочинения, но вместо этого я надела любимую сиреневую куртку и отправилась к своему врачу на Грейт-Рассел-стрит, где объявила, что беременна, и приняла поздравления от медсестры. Я хотела попросить своего терапевта, добрую женщину родом из Австралии, измерить мне температуру и заодно посоветовать что-нибудь, но она была занята. Я поднялась по лестнице. Как мне хотелось оказаться в объятиях Ричарда! Выходя на улицу, я столкнулась с Сильвией.
— О! — воскликнула я.
— Это ты! — Она улыбнулась сначала одними губами, потом глазами, а потом и вовсе засияла. — Ты сегодня очень красива.
Я тоже улыбнулась, но она как будто уже догадалась о моем секрете. Возбуждение распирало меня. Я попыталась себя успокоить.
— Я беременна! — вырвалось у меня. Голос дрогнул.
— Я знаю, — сказала она. Мы нервно засмеялись, чуть было не обнялись, потом постояли молча. Теперь полагается меня обнять, подумала я. Чего ты ждешь?
— Ребенок… — Через пару секунд со словами «Поздравляю!» она обняла меня.
Мимо пронесся автобус.
— Спасибо, — ответила я. Даже на улице, среди выхлопных газов машин, я уловила исходивший от нее запах дорогого мыла и чистых волос.
— Но как ты догадалась?
— Ты, как ребенок, почти засыпала на ходу от усталости.
— О… да.
— Главный признак — ощущение сильной усталости. Я замечала это и раньше у женщин, которые забеременели. Я это вижу.
Я представила, что на это сказал бы Ричард: «Предсказательница хренова!»
— Надо всего лишь замечать разные мелочи, ничего тут сложного нет, — объяснила она и окинула взглядом мою фигуру.
Я подняла руку к шее. Грудь уже начинала побаливать и немного разбухла.
— Боже, зачем же я вам все рассказала? — Меня вдруг охватила паника. Небо над музеем было ярким и чистым. Рождество явно закончилось. — У меня… у меня ведь это уже не первый раз. Я же собиралась рассказать только матери да еще одной подруге. Об этом пока знает только медсестра моего врача.
— И Ричард не знает?
— Даже Ричард!
— О! — сказала Сильвия, как будто даже довольно. — Давай сходим в кафе. Отпразднуем. — Она посмотрела на часы. Я отметила идеальную овальную форму ногтей у нее на руках.
Я представила себе пустую квартиру, вымученные сочинения старшекурсников, которые мне предстояло читать, в то время как во мне зарождалась новая жизнь, и решительно кивнула:
— Идем!
На улицах владельцы магазинов все еще драили тротуар перед своими дверьми. Когда мы проходили мимо кафе, теснившихся на Мьюзием-стрит, Сильвия презрительно морщила нос.
— Это все для туристов, — заметила она, отчего я рассмеялась. — А вот это вроде ничего. — Она увлекла меня в кафе, в витрине которого была выставлена итальянская посуда.
На Сильвии были белая блузка с большими лацканами и темно-серая юбка, сидевшие на ней идеально, и у меня еще раз возникла мысль, что ее внешне невыразительная, неяркая одежда на самом деле была совсем недешевой и подбиралась очень тщательно. Об этом свидетельствовало то, что каждая деталь была тщательно отделана и четко занимала отведенное ей место. Она показалась мне похожей на маленькую французскую монахиню, вышедшую в город в выходной день.
— Я беременна! — прошептала я, когда мы сели за столик, как будто до сих пор не могла поверить, что такое могло случиться со мной.
— Ты счастлива? — спросила Сильвия.
— В эту секунду да, — сказала я и задумалась, потому что эти слова прозвучали неожиданно даже для меня самой. Лучи солнца проникли в зал и угодили на желтую, расписанную вручную тарелку, отчего стали различимы отдельные мазки, которыми художник наносил на нее краску.
— Здорово, — сказала Сильвия и улыбнулась. Солнечный свет попал и на нее, и от этого ее кожа стала казаться такой бледной и чистой, как будто это был не человек из плоти и крови, а призрак, обретший видимую оболочку. В ярком свете выяснилось, что глаза у нее были не неопределенно-ореховые, как мне раньше казалось, а светло-коричневые, почти золотые, с вкраплениями зеленого.
— Я, может быть, даже буду получать от этого удовольствие, когда стану толстой и сонной, как корова.
Она улыбнулась.
— Как бы я хотела, чтобы у меня была такая мать, как ты, — произнесла она.
— Правда? — от такой обескураживающей прямоты я вздрогнула и почувствовала, что заливаюсь краской.
— О да, — подтвердила она и, слегка склонив голову, стала читать меню; волосы наползли ей на брови. — Вы ведь будете любить этого ребенка?
— Конечно, — сказала я. — Я уже его люблю.
Она провела пальцем по узору на бумажной скатерти, едва касаясь изящным ногтем поверхности.
— Ты всегда будешь его любить. Как бы сильно ты ни любила Ричарда, ребенка ты будешь любить еще сильнее. Он принесет тебе счастье.
Она говорила, не поднимая головы, челка спадала ей на лоб и не давала заглянуть в глаза, но по бокам волосы были заправлены за уши, как у типичной школьной зубрилы. Она выглядела молодой и серьезной. Я понаблюдала, как ее пальцы (без колец) скользят по столу, как солнце омывает ее видимую из-под одежды кожу, и мне снова захотелось переодеть ее. Нет, не сделать из нее другого человека, которым она не была, а просто одеть, как мать одевает ребенка, чтобы и тепло ему было, и выглядел он симпатично. Меня даже потянуло усадить ее на колени, но это желание было уж слишком абсурдным, а неожиданные и неприятные сексуальные импульсы, вызванные им, заставили меня содрогнуться, словно ночной кошмар все еще тянул ко мне свои щупальца. Как недавно во сне, я ощутила давление чужого тела на лобковую кость и сразу же захотела как можно быстрее избавиться от этого наваждения.
— Я в этом не сомневаюсь, — отозвалась я. — Но ведь… такое бывает со всеми матерями. Кто-то ведь и тебя любил.
Она фыркнула, давая понять, что я ошибаюсь.
— Но тебя же наверняка кто-то любил, — смешалась я. — Родители должны были тобой гордиться, — добавила я. — Ты такая восприимчивая, проницательная…
— Нет, — отрезала она.
— О! Что ж, я…
— Ничего, — сказала она и только сейчас подняла на меня глаза. Наши взгляды встретились. Несколько секунд она так внимательно смотрела на меня, что мне пришлось улыбнуться. Смотрела она немного исподлобья, и в таком ракурсе глаза ее казались большими и выразительными. Я поняла, кого она мне напоминала. «Любовник». Завораживающая фотография на обложке: маленькое кукольное лицо с густыми расплывающимися тенями под глазами и бесстрастным ртом, лицо, которое говорило: бей меня, поклоняйся мне. Юная Маргерит Дюра[15]. Я все время перечитывала ее книги, когда была маленькой. Мне всегда казалось, что именно благодаря ей у меня возникло желание изучать французскую литературу, а позже и nouveau roman[16].
— Странно, — сказала я. — Мне показалось, что ты похожа на Маргерит Дюра, поэтому твое лицо мне кажется знакомым.
— Le Ravissement de Lol V. Stein, — перешла она на беглый французский. — «L’Amant». «У меня такое лицо, которое хочется перекроить». Я недавно прочитала «L’Amant de la Chine du Nord».
Я улыбнулась.
— Значит, ты знаешь меня по французской литературе, — заключила она. — Лицо на обложке. А тебя я знаю несколько лучше. — Она посмотрела на стол. Застывшее мраморное лицо под воздействием зимнего солнца начало слегка розоветь. У нее был красивый рот. — Тебе не кажется?
Жар ударил мне в лицо. Поколебавшись секунду, я спросила:
— А тебе?
— По-моему, да.
Я помолчала. Сердце быстро забилось в груди. Появилось желание нарушить неловкое молчание.
— Мне кажется… мне кажется, будто ты чувствуешь меня, а я чувствую тебя, — сказала она. И после короткой паузы добавила: — Я ведь знала, что ты беременна, не так ли?
— Наверное. Мой… парень, похоже, еще не догадался об этом, но мне очень хочется с ним поделиться.
— Тогда пойдем отсюда, — решительно произнесла она. Когда мы вышли на улицу, она взяла меня за руку (или это я взяла ее?), и мы шли вместе до самого дома, словно я была уже на восьмом месяце.
Посмотрев на окна спальни, которые отражали тусклый солнечный свет, я вспомнила старый ночной кошмар. По всему телу пробежала дрожь. Дыхание сбилось, воспоминания об удушье и ощущение трения тел смешались с позывом к рвоте. Хотя где-то глубоко снова завибрировала струнка сексуального возбуждения, неотъемлемая часть того ужасного сна. Эти ощущения наложились, и у меня закружилась голова, мне захотелось как можно скорее избавиться от ее компании.
— До свидания, — выпалила я, чувствуя, как рот наполняется слюной, и бросилась наверх. До туалета добежать я не успела, меня стошнило прямо на лестнице.
7 Ричард
МакДара позвонил мне на рабочий телефон.
— Слушай, тут такое дело, — сказал он.
— Что? — спросил я.
Но вместо ответа он начал скороговоркой давать инструкции кому-то у себя в офисе. В последнее время он переставал быть тем МакДарой, которого я знал. Я представлял себе, как он сидит, небритый или с порезами от бритвы на щеках и подбородке, с распущенным галстуком, за рабочим столом в большом здании из стекла на одной из улиц Сити где-то в миле на восток от меня. Воображение рисовало мне быков и медведей, когда я думал о нем, МакДара был и тем и другим одновременно — «бычий» медведь, рычащий и неповоротливый.
— Можешь встретиться со мной после работы?
— Да, — ответил я. — Только ненадолго.
— Хорошо.
— А что ты опять учудил?
— Ничего.
— Неужели?
— Блин, Ферон, я вообще-то на работе нахожусь.
— Ну тогда хватит по телефону трепаться, — сказал я. — Встретимся часов в семь.
Я положил трубку и заглянул в ежедневник. Посмотрел на часы в компьютере. Странно. Вообще-то мне не хотелось никуда Идти. В тот день мы на работе веселились вовсю: пересылали друг другу по электронной почте порнорассказ про нашего редактора политического раздела, которого все терпеть не могли, и каждый, кто получал письмо, должен был дописать что-то от себя. Время от времени сдавленный смешок слышался из-за мониторов. К тому же я обменивался еще более непристойными вариациями на тему рассказа со своей подругой Софи из редакции отдела передовиц, и вдобавок мне еще предстояло утрясти с редактором содержание спецвыпуска, посвященного Америке.
Мне позвонили с проходной и сообщили, что пришла Сильвия. Пришлось подниматься и идти к ней.
Интересно, откуда она вообще появилась, подумал я, когда увидел спину ее куртки. Мне это было неизвестно. Рен? Я улыбнулся. С него станется. Естественно, Рен со своей женой Вики захотели бы помочь ей так же, как они раскрывали объятия бесчисленным чудакам, оригиналам и другим заблудшим овцам — албанским студентам, неимущим артистам маргинального вида, друзьям каких-то дальних родственников, которые учились в Лондоне и чаще всего оказывались страшными занудами. Вследствие душевной доброты, полного отсутствия социального снобизма и преисполненный чувства благодарности к стране, в которой он обрел жену, работу и счастье, Рен, самый удачливый из аутсайдеров, часто устраивал вечеринки, на которых было много разговоров на ломаном английском и сдержанно-вежливых улыбок. Сильвия, должно быть, приехала на хвосте кого-то из посторонних, чьего-то соседа по комнате или студента-иностранца, и была тут же безоговорочно принята Реном и Вики.
Сильвия объяснила, что опоздала, так как неожиданно встретилась с кем-то и с этим человеком ей пришлось выпить чаю. Меня это немного задело. Естественно, мы направились в дорогое кафе, которое было совсем рядом, за углом. Там стоял страшный шум, и вся еда готовилась на раскаленных угольях.
Никогда еще Сильвия не была так молчалива. Она напоминала простодушную девушку, зажатую тисками собственной гордости. Замкнута в себе, неприветлива, как будто боялась открыть рот. Ела она мало, почти все время молчала, а когда говорила, то так тихо, что я с трудом разбирал слова. Я попытался развязать ей язык вином, но она сделала пару небольших глотков и отставила бокал.
Я посмотрел на часы. Прошло уже около часа. В конце концов благожелательность уступила место раздражению.
— Ну ладно, — сказал я. — Извини, но я, наверное, буду сваливать. У меня встреча.
Она посмотрела в мою сторону. В нерешительности опустила глаза.
— Рад был тебя увидеть. Извини, что ухожу так быстро, но мне действительно пора.
— Офис, — произнесла она.
— Что? — не понял я.
— Я хочу сказать… По-моему, ты забыл, зачем мы договорились встретиться. Ты разрешил мне взять какие-нибудь книги.
— Ах, да. Книги. Действительно. Черт! Я и забыл.
— Я бы лучше порылась в книгах, чем сидеть в кафе.
— Ты же должна была разгрести мои книжные завалы. Боже, мне действительно очень неловко, но сегодня это вряд ли получится, потому что…
Я посмотрел на нее. Она молчала.
Я колебался.
— Хорошо, — наконец решил я. — Извини. Давай по-быстрому. Идем прямо сейчас. Можешь покопаться там, пока еще есть время до встречи.
— Да, — сказала она. — Конечно.
Пока я разговаривал с рекламщиком, она сидела в офисе на полу и просматривала стопки книг в твердой обложке с видом сортирующего пресс-релизы опытного секретаря, которому достаточно один раз взглянуть на название, чтобы понять, стоит книга внимания или нет.
— Слушай, забирай их все, — сказал я, положив телефонную трубку и увидев ее скромный выбор. — Кроме вот этой. Какая на ней дата публикации?
Она ответила не сразу.
— Шестнадцатое февраля.
— Еще есть время просмотреть ее. А вообще пошла она к черту! Забирай и ее. Все равно на эту старую склочницу мне отзыва не писать.
— Но ведь она… гений, — возразила Сильвия.
— Правда? Ее никто не читает.
— Я читаю.
— Серьезно?
— Я прочитала все ее книги. Все до единой. Все, что выходило с пятидесятых годов. Даже статьи.
— В самом деле? — Я начинал терять терпение. — Надо же! Все равно забирай. Подожди… А она что, действительно хорошо пишет? Я-то у нее читал только… что?.. кое-что из самого известного.
— Исключительно, — тихо сказала она.
— Тогда, прочитав эту книгу, напиши небольшой отзыв. — Это прозвучало как любезность с моей стороны. Но я тут же спохватился. Какая глупость! Попытался замять неловкость: — Может, это поможет и мне оценить ее…
Воцарилась тишина. Я посмотрел на Сильвию. Она стояла на коленях, рот слегка приоткрыт. Тишина затягивалась.
— Напиши краткую рецензию, — не выдержал я. — Слов на триста.
По ее лицу пробежала едва заметная улыбка.
— Это серьезно?
— Ну конечно, серьезно, — подтвердил я, потому что не мог сказать ничего другого.
После работы я в том же кафе встретился с МакДарой. Теперь там было полно народу. Посетители сидели за столиками, потягивали «Саличе Салентино»[17] и обсуждали прошедший рабочий день. У меня разболелась голова. Мне хотелось поскорее попасть домой, но МакДара был для меня чем-то вроде рудимента прошлой жизни, вооруженного стрелами свободы, маленькими оперенными символами освобождения, и казалось, что, когда наши разговоры станут превращаться в почти бессвязную болтовню с перекрикиваниями, мы плюнем на все и поедем с надувными лодками на пороги или отправимся в горы кататься на лыжах, будем, как в каком-нибудь рекламном ролике к фильму, пролетать на фоне невыносимо синего неба, вздымая за собой клубы белого снега. С Лелией больше хотелось думать о домашнем уюте и тепле.
— Происходит какая-то лажа, — закричал он мне на ухо, когда мы уселись за шаткий столик в углу и принялись за соленый миндаль.
— Что именно? — поинтересовался я.
— Купи мне выпить, — попросил он. — Мне нужно промочить горло. Блин, здесь так шумно!
Я послушно пристроился к очереди за выпивкой. В бар вошли мои коллеги, завязался обрывочный разговор. Интересно было пообщаться с людьми из новостийного отдела. Мысль о том, что всего несколько часов назад здесь, в этом самом кафе, сидела Сильвия, уже не беспокоила меня, показалось непонятным, почему мысль о ней вообще промелькнула в голове. Сейчас на ее месте восседал гигант МакДара, успешный, но непокорный сын итальянки и шотландца, работавших в кафе. Он был настолько же крепок, насколько она хрупка.
— Ну ладно, — сказал я. — Давай, рассказывай.
— В этом помещении придется найти рупор, чтобы поделиться секретом, — недовольно крикнул он.
— Хватит тебе. Говори мне на ухо.
— По-моему, у меня завязывается роман.
— Да ты что?! — искренне поразился я. Страх, удивление и, совершенно неожиданно, крупицы удовольствия по очереди пронеслись у меня в душе.
Он не спешил продолжать. Мой старый друг был невесел, его нижняя челюсть, покрытая порослью щетины, ходила так, как у родителя, расстроенного поведением ребенка. Я подумал о Катрин, которая сейчас дома ждет его возвращения с работы, гордая, независимая и в то же время женственная, с гладкой светлой кожей и непоколебимой любовью к неистовому МакДаре.
— Не может быть!
— Я уверен, — сказал он. — Не знаю, как…
— Ну, продолжай, продолжай.
— Как мне от этого избавиться, я хотел сказать.
— О Боже!
Он замолчал.
— Слушай, МакДара.
— Да знаю я.
— Кто она? Это та… как бишь ее… Ну та старая гламурная крыса, с которой ты работаешь?
— Ты что?! Нет, конечно. С ней это так, легкий флирт. Ничего серьезного.
— А с этой, значит, серьезно? Так кто же она?
— Никто.
— Ясно. Дух бестелесный. Никто. Кто?
Он затряс головой.
— Ты имеешь в виду, что я ее не знаю?
Он кивнул.
— И как вы с ней встретились?
— Господи, да как обычно, через друзей чьих-то друзей или типа того. Не спрашивай, кто она. Если я тебе не расскажу, ты не сможешь случайно о ней проболтаться Катрин.
— А так меня хлебом не корми, дай поболтать с ней о твоих делах! «О, привет, Катрин, да, да, все хорошо, спасибо. У МакДары роман с одной женщиной. Чернявая, фигуристая, зовут так-то… тра-та-та».
— Кончай! — не выдержал он.
Я представил себе реакцию Катрин. Ей уже довелось пережить проблемы с алкоголизмом, неудачный брак, но, несмотря на это, она всегда оставалась спокойной, почти по-матерински заботливой. Она была одной из тех девушек, потомков кельтов, природная окраска которых всегда мне нравилась, — белая кожа и черные волосы длиной ниже талии. Мне почему-то казалось, что измена вернет ее в прежнее, не такое уравновешенное состояние.
— А ты что, все время ни разу? — сказал я. — Что-то я не могу вспомнить… Хотя нет, было же, Казанова хренов!
— Только раз, — выдохнул он. — Один перепих, всего-то. Я ее после этого ни разу не видел. За все восемь лет. И это все. Просто это не мое. Полное безумие.
— И что ты собираешься делать?
— Попытаюсь выбросить ее из головы.
— Только ничего у тебя не выйдет, жеребец ты наш.
Он покачал головой. На верхней губе на щетине блеснула капля вина.
— Как тебе удается с ней встречаться? — спросил я.
— Мы редко встречаемся. Все это только недавно закрутилось. Мы это… разговариваем. Звоним друг другу, и все дела. Она держит меня за самые яйца. Я тебе клянусь. Я хочу со всем этим покончить.
— Что ж, может быть, — произнес я и закашлялся. — Может быть, так действительно будет лучше.
— Но я не могу, — тут же возразил он, качая головой. — Сделай что-нибудь, заставь меня! — взмолился он, подняв на меня глаза, печальные, как у старой собаки.
Я рассмеялся.
— Попробую, — сказал я и сделал большой глоток вина. — Хотя, если честно, мне было бы намного интереснее, если бы ты сам это сделал. Я бы с удовольствием послушал твои рассказы, а сам бы остался чистеньким и довольным. Мы могли бы общаться каждый день.
— Ну ты и гад, — сказал он.
— Ладно, мы разыграем комбинацию в двенадцать ходов. В день по ходу. Завтра ей не звони и не пытайся встретиться, вечером сообщишь мне, как успехи. Я буду держать тебя в ежовых рукавицах. Для тебя этого будет достаточно, потому Что ты в душе немного извращенец, ну и в конечном итоге ты сбережешь свою совесть, брак, социальное положение и т. д., и т. п.
Он невесело улыбнулся. Немного помолчал, собираясь с мыслями.
— Я… это правда серьезно. Я не знаю, что мне делать, — начал он слабым голосом. — Я ведь все равно… черт! Не откажусь от нее. Мать его, да! О Боже. Я же знаю, что это неправильно и так нельзя. У меня же есть Катрин и чувство ответственности.
— Дети?
МакДара уткнул лицо в ладони, чтобы не встретиться со мной взглядом.
— МакДара? — позвал я.
Он сделал вид, что не услышал.
— Она что, замужем, да?
Он едва заметно кивнул.
— Она держит меня за яйца, — приглушенно сказал он.
— Да, плохо дело, — я рассмеялся, не в силах совладать с собой.
— Бред какой-то, — подхватил он и тоже рассмеялся.
— Завтра расскажешь, как пошло. Так как мы будем ее называть? Мадам Икс?
Он посмотрел вдаль. Щелчком ногтя покатил по столу миндальный орешек.
— Нет. Как-нибудь по-другому, — сказал он.
— Тогда Таинственная Женщина, — объявил я. — Она будет ТЖ. Ты похож на ищейку, взявшую след.
Он улыбнулся.
— Хорошо. Только переписываться будем лишь по внутренней офисной сети. Это важно.
— Да? А я уже собирался по всеобщей, чтобы послания дошли до Катрин, Лелии, твоего босса, твоей сестры, соседей и так далее. Успокойся, МакДара. Первый отчет жду завтра.
Я свернул на Лейстолл-стрит, прошел по Маунт-плезент, в морозном воздухе проплыли конструктивистские очертания стен почтового отделения. Днем солнце прогрело воздух, но сейчас, в восьмичасовой темени, холод, звенящий и пахнущий железом, начал сжимать объятия. Дыхание сгущалось вокруг меня в клубы пара, я был возбужден. Состояние было такое, словно я оказался внутри какой-нибудь мыльной оперы. Жалко было Катрин, которая в этой драме оказалась в незавидном положении. Раньше я бы позавидовал МакДаре, но сейчас его ситуация вызывала у меня сожаление, смех и какой-то нездоровый интерес. Грейз-инн-роуд была расцвечена горящими окнами. От мыслей о МакДаровой дилемме у меня почему-то поднялось настроение, и я пошел быстрее с ощущением того, что жизнь прекрасна и впереди меня ждут очередные неожиданные и интересные повороты сюжета.
Дойдя до дома на Мекленбур-сквер, я взбежал по ступеням к своей квартире, в легких покалывали кристаллики морозного воздуха, и, не снимая промерзшей на улице куртки, налетел на Лелию, как порыв ветра со снегом, заключил ее в крепкие объятия. Мы вместе повалились на диван, я подтянул ее к себе, чтобы она оказалась у меня на коленях. Лелия, наклонив голову, уткнулась носом мне в щеку. Ее шея пахла маслом для ванны, теплом и кожей — запах Лелии. Я вдохнул этот аромат.
— Я беременна, — сообщила она.
Я словно полетел вниз с высоченной стены, обламывая ветки деревьев, обрывая листья, мелькнуло небо, картинки из прошлой жизни.
— Ты уверена? — спросил я. Услышал себя со стороны: машинальная и неуместная реакция. — То есть я хотел сказать…
Слишком поздно. Слезы застлали ей глаза, она отвернулась.
— Да, я уверена, — сказала она так медленно, что по телу побежали мурашки.
Когда она пускала в ход этот свой голос, я уже ничего не мог поделать.
— О Лелия! — я стал целовать ее в шею, в щеку, чувствуя себя слюнявым псом, подлизывающимся к хозяину, но она упорно отказывалась повернуться. — Милая, — говорил я. — О, это… Здорово, ты такой молодец, ты такая красивая. У нас будет ребенок!
Ужасно захотелось, чтобы время остановилось, чтобы можно было отмотать свою жизнь на несколько минут назад. Ведь это возможно! Наверняка даже до смешного просто. Ведь мне всего-то и нужно вернуться в тот морозный воздух, в тот шум проносящихся мимо автомобилей, в то время, когда я спешил домой с сигаретой в зубах и вкусом «Саличе Салентино» во рту, когда самыми важными вещами в мире для меня были лучший друг на краю совершения интересной ошибки, работа над книгой, любовь к женщине. Я и она. Квартира в Блумсбери. Последний оплот нашей юности. Неужели все позади?
Это стремнина, подумалось мне. Стремнина. Мне никогда не приходилось плавать по горным порожистым рекам. В детстве я ходил под парусом, и мне всегда было интересно, каково это — сплавляться по бурной реке со стремнинами и порогами. Точно так же, когда я уже жил на Мекленбур-сквер, когда одно время года сменялось другим, от запаха земли и листьев моя душа требовала свободы, хотелось валяться на земле, залезть на дерево, но только не сидеть в Лондоне, наблюдая, как тонкой струйкой утекает жизнь.
— Я-то думала, ты обрадуешься, — произнесла Лелия. Она неподвижно сидела у меня на коленях.
— Я рад! — сказал я, но слова прозвучали сухо и неестественно. Попробовал еще раз. Осекся. Что-то было с голосом.
— Я так хотела… Так хотела позвонить тебе. Потом решила не звонить, потому что сомневалась. У меня было такое чувство… ужасное чувство, что ты будешь не рад.
— Но я рад, рад! — принялся убеждать ее я. — Я же люблю тебя. Пожалуйста, дорогая, посмотри на меня.
Я представил, каким я буду. Папашка в старом свитере. Рассеянный сутулый старый дурень, который строит из себя идиота, чтобы остальным было веселее жить, которого посылают в гараж чинить сломанный мотоцикл, пока жена звонит подругам по телефону, чтобы поговорить про школьный родительский комитет. Стало противно. Я разозлился то ли на себя, то ли на весь белый свет. Мне до сих пор казалось, что мы только что получили дипломы, что мы просто смеха ради делаем вид, что живем в своих домах, и что со временем добьемся оглушительного успеха. Другой моей части уже все обрыдло и было смертельно скучно.
Лелия не поворачивалась. Попытался потрепать ее по щеке, повернуть лицо к себе, но рука натолкнулась на сопротивление, и нежный жест примирения превратился в грубость. Я сдался. И тут она повернулась. Все щеки в слезах.
— Что ты, милая? — пролепетал я. Такого я не ожидал. Притянул ее лицо к себе и поцеловал сначала в уголок рта, потом в ухо, уткнулся носом в щеку. Волосы прилипали к мокрой от слез коже. — Зачем ты так? Я же люблю тебя. Ты у меня умница. Ну что я могу сказать? Я так рад.
— Ты не рад, — сказала она.
— Это просто… просто так неожиданно! И… то, что было с тобой раньше…
— Сейчас не так. Давай надеяться, что все будет хорошо.
— Я просто не ожидал, честно. Я понятия не имел.
— Я говорила тебе. Предупреждала.
— Да, я знаю, но я тогда не придал значения. Не поверил, что это возможно. А ты как себя чувствуешь? Ты… ты волнуешься?
— Да, — еле слышно сказала она, я притянул ее к себе и обнял. Когда она склонила голову и прижалась к моей шее, я с удивлением почувствовал, что у меня у самого на глаза навернулись слезы. Непривычное ощущение. Я сбросил на пол куртку, мы пошли в спальню и легли в кровать, потом разговаривали и лежали, крепко обнявшись, пока оба не заснули в девять часов. Посреди ночи проснулись и сделали странное: заказали в китайском ресторане ужин на дом, который привезли только в час, и съели его прямо на постели.
— Прости меня, прости, — повторял я. Напряжение потихоньку спадало благодаря темноте и ощущению, что я все-таки могу быть прощен, которое появилось, когда мы легли под одно одеяло. — Конечно, я счастлив. Просто я… о Лелия, я не могу себе этого представить. Наш ребенок!
— Ты и я, — проговорила она. — Если это действительно произойдет. Это будем мы. Мы, слитые в один организм, но все равно кто-то другой. Я люблю тебя. Не оставляй меня одну.
— Конечно же, я тебя не оставлю, — заверил ее я, и сердце сжалось от жалости. Я обнял ее за плечи. Погладил по животу.
— Не надо, — сказала она.
Сдержал раздражение. Поцеловал ее в голову.
— Прости, — повторил я. — Прости, что я… повел себя не так, как ты ожидала. Я все сделаю ради тебя.
Мы заснули под скомканным душным одеялом, покрытые испариной. Меня разбудил собственный всхрап, застрявший в горле. За окном висела огромная луна, в ее свете я легко мог рассмотреть Лелию, которая лежала рядом в легкой шелковой ночной рубашке, светящейся призрачным светом на фоне прозрачного темно-синего неба. Она лежала совершенно неподвижно, слегка изогнувшись, дыхание ее было спокойным. Я смотрел на нее, преисполненный благоговейного трепета, но, когда подумал, что она превратилась в контейнер, содержащий в себе другое живое существо, в душе начала вибрировать потаенная струна отвращения. Это существо было составлено из нас. Новые конечности. Новые стеночки, пленочки, пульсирующие переплетения, полости, которые существо формировало для своей подводной жизни. У него могли быть недоразвитые отростки или животноподобное тело: внутри Лелии, моей невесты, находился маленький пришелец. По небу прожужжал полицейский вертолет. Пролетай, пролетай, подумал я. Не буди ее. И уже тогда я понял, что готов буду отдать жизнь свою за нее и то маленькое существо, которое находилось внутри нее. Она что-то пробормотала во сне. Я наклонился к ней и вдохнул ее дыхание, теплое, человеческое, пахнущее слюной. Через какое-то время я снова заснул и проснулся разбитый ужасной усталостью. Она… они… уже не спали.
«Я знала, я была уверена, что мать носит в себе ребенка, еще до того, как об этом узнали слуги. Я знала это до того, как рассказали отцу. После рождения мертвых детей и смерти нескольких младенцев, последовавших за моим появлением на свет и давших мне несколько лет благостной отсрочки, ее чрево снова наполнилось жизнью. Если раньше она смотрела на меня через решетку, теперь нас разделяла тюремная дверь.
У меня была единственная родная душа — подруга. Эмилия. Я стала еще чаще искать встречи с ней. Но следующий удар, который нанесла мне судьба, заставил меня заплакать. После него я почти потеряла интерес к жизни. У Эмилии появилась новая подруга — маленькая индианка, недавно осиротевшая. Она приходила к Эмилии в платьях из альпака, аккуратная, как чучело белки, но дикая».
— Господи Боже, — сказал я. У меня не хватило терпения даже дочитать электронное письмо до конца. Я нажал «Удалить», налил себе еще кофе и отправился на работу. Голова раскалывалась. Не нужны мне ни разговоры о беременности, ни непонятные художественные отрывки. И почему этот псих выбрал именно меня? Я отправил МакДаре сообщение по электронной почте:
«Ну?»
Тут же пришел ответ:
«Только с рабочего компьютера».
«Этим адресом пользуюсь только я», — написал я.
«Она звонила», — сообщил он.
— Ричард! — громко позвала меня Лелия.
Я удалил сообщение МакДары и вышел из сети.
— Дорогая моя, я думал, ты уже ушла, — крикнул я.
— Встреча с первым студентом отменилась. Я свободна до одиннадцати.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я. Направился в большую комнату и обнял ее.
— Нормально, — ответила она и посмотрела на меня снизу вверх блестящими глазами.
— Правда?
— Извини. Извини меня за вчерашнее, я просто очень расчувствовалась. Ты же знаешь, какой… сумасшедшей я иногда становлюсь.
— Ну что ты? Это ты меня извини. Все так по-дурацки вышло.
— Да?
— Да! Знаешь, как бывает, когда что-то чувствуешь и не можешь выразить это словами. Это было ужасно. Я чувствовал себя, как животное. Моя жизнь в твоих руках. Я люблю тебя. Ты беременна! Удивительно. Так как ты?
— О Ричард, — произнесла она.
— У тебя все нормально?
— Все нормально. У меня все хорошо. Не тошнит, ничего такого.
— Хорошо. Давай я приготовлю тебе… поссет[18] или что-нибудь в этом роде.
— Не надо! Сумасшедший.
— Ну хочешь… творога?
— Ричард, прошу тебя. Меня сейчас стошнит.
— Горячего молока с тертыми мускатными орехами и медом? Хорошая детская еда. Свежего… э-э-э… апельсинового сока из испанских апельсинов?
— Чаю.
— Будет тебе чай.
Дорога на работу была усеяна сухими трупами рождественских елок на углах. Когда я пришел, почти все уже оказались на месте. Мне было так муторно, будто мы всю ночь пили. Уже ездила между столами тележка с едой. Я взял кофе и кекс: то, что обычно покупали остальные, а я раньше всегда с презрением отвергал. Мерный гул голосов коллег, разговаривающих по телефону, и запланированное на день интервью вернули мои мысли в обычное русло. Нелепости офисной жизни даже подняли мне настроение: совершенно лишняя здесь семифутовая фиолетовая надувная пальма, присланная из пиар-отдела, которая с лета стояла у ксерокса, шуточки сотрудников отдела путешествий о том, чтобы подложить розовые кокосы, которые шли в комплекте с пальмой, на кресло редактору. Я любил свою работу, хотя, бывало, заявлял, что в гробу я это все видел, и постоянно жаловался на то, что времени написать что-то путное дают слишком мало. Иногда я позволял себе поддаться чувству восторга оттого, что я, охламон из Корнуолла с полуцыганским воспитанием и средним школьным образованием, сижу в одном из офисов редакции центральной газеты. Остальное время я вместе со всеми жизнерадостно поругивал работу, страдал от заедающей текучки и неминуемой тупости редакторских решений.
В электронном почтовом ящике меня уже ждали несколько посланий от МакДары. Я усмехнулся.
«Где ты?» — говорилось в первом. Я стал открывать их все по порядку. «Сопротивляюсь изо всех сил», «Перезвони», «Блин, где тебя носит?», «Экстренное: ТЖ берет за горло». Я рассмеялся, меня рассмешили серьезность, с которой МакДара отнесся к этому делу, и тон его посланий — какой-то детский и очень забавный, все это мне напомнило записочки на тетрадных листах, которыми обмениваются в школе.
«Живи и радуйся», — написал я ему.
«Да пошел ты», — ответил он.
Я прошелся по остальным письмам в почтовом ящике. Наткнулся на незнакомый адрес. Оказалось, это рецензия от Сильвии.
«Черт!» — вырвалось у меня. Я совершенно об этом забыл Пришлось задуматься над последствиями своего поступка. Никогда в жизни я не думал, что буду заказывать рецензию у непрофессионала со стороны. Это так, ерунда, ничего важного, поспешил напомнить я себе. Можно «отложить ее работу в долгий ящик», сослаться на нехватку места, извиниться и заплатить ей символический гонорар. Я долго не мог себя заставить прочитать статью, но мысль о ней не давала мне покоя. Наконец поморщился и открыл присоединенный файл.
На мониторе возникло несколько сотен слов. Я поморщился и принялся читать. Первые два предложения оказались неплохими. Я даже подумал, что она попросила кого-то другого написать рецензию. Фыркнул. Решил прочитать еще пару предложений и заняться другими делами, но увлекся. Статья была живой, убедительной, мысли изложены ярко и выразительно. Это были как раз те качества, которых не хватало ее предполагаемому автору. Сочинение даже можно было назвать смелым, его утонченность граничила с фиглярством и захватывала почти показной эрудицией. Какая-то старая кошелка, на которую я даже не обратил внимания, была представлена как открытый заново гений, который был одним из главных выразителей духа и идей своего времени. Повторяющееся упоминание Айрис Мердок вызвало у меня улыбку: я перечитал письмо еще раз и понял, что это имя было введено специально, чтобы заставить меня улыбнуться. Я задумался. Неужели это лучше, чем то, что написал бы я? Я заглянул в расписание. Материал можно было бы укоротить на пару сотен слов, кое-где подчистить и сдать в середине февраля. Сделал пометку в ежедневнике.
После этого я занялся более насущной бумажной работой, но мысли постоянно возвращались к рецензии Сильвии. Она была подписана «Сильвия Лавинь». И это имя подходило к ней. Я написал ответ в осторожно-поощрительном тоне. Еще одна мысль неожиданно пришла мне в голову. Она написала эту статью вчера днем или ночью. Получается, что она работает быстрее, чем я. «P.S., — добавил я несколько грубоватый постскриптум. — Я бы ни за что не догадался, что это написано тобой. Может, ты заплатила какому-нибудь профессиональному критику?»
Позвонил Лелии. Я и раньше звонил ей из офиса пару раз в день. Только когда пошли гудки вызова, я вспомнил, что нужно будет спросить у нее про ребенка. Сначала накатил панический страх, потом возникло чувство вины. Собственная эмоциональность поразила меня. Я-то считал себя человеком выдержанным, мужчиной, не подверженным воздействию гормонов, практичным, хотя время от времени склонным заниматься самоанализом и жалеть о неверно принятых решениях. Наверное, все-таки внутри меня сидел монстр, упрямое нечеловеческое существо, которое я лишь на время загнал в клетку. Раздалось еще несколько гудков. Наконец она взяла трубку. Ее голос меня успокоил.
— Я была в ванной, — объяснила она.
В папке входящих сообщений появилось письмо от Сильвии Лавинь.
Пока читал его, пришло письмо и от МакДары. «Не связывался с ней весь день, — писал он. — Я скоро на стену полезу. Скажи: что делать? Придумай какой-нибудь стимул. Альтернативу».
«Проститутка?» — написал ему я.
«Но она-то мне мозги трахает, — ответил МакДара. — Как с этим быть? Она замужем… фактически. Как с этим быть?»
«Всему свое время, МакДи, — написал я. — Это у тебя ломка. Завтра, возможно, разрешу один телефонный звонок. С самого утра свяжись со мной».
Улыбнулся. Сердце снова усиленно забилось, когда я в очередной раз получил садистское удовольствие от мучений бедного МакДары.
Кликнул «Ответить» на письме Сильвии. «Но все равно, — написал я, — спасибо».
Позвонила Лелия. Я увидел номер на дисплее телефона.
— Любовный канал слушает, — сказал я, сняв трубку.
По голосу было слышно, что она улыбнулась:
— Хочу сходить в «Джон Льюис»[19], — сказала она. — Там открыто допоздна.
— Хочешь сходить? Допоздна?
— Да.
— Мне этого хочется меньше всего на свете, — радостно сообщил я.
— Да знаю я, — сказала она, сдерживая смех. — Знаю. Ты там дуреешь. Но я тут одна с ума сойду. Мне так хочется или на УЗИ сходить, или рассказать всем, но ведь нельзя. О Ричард, мне правда так хочется сходить и купить что-нибудь, какую-нибудь детскую безделушку, это же не будет плохой приметой. Идем со мной. Или мне одной идти?
— Ну конечно, я пойду, — сказал я, понимая, что сегодняшний вечер потерян. Пришло несколько больших корректур, которые мне обязательно нужно было вычитать. Вдруг я понял, что смотрю на бледно-салатную перегородку, которая отгораживала меня от редактора отдела кино. Из курилки, где всегда происходили самые интересные разговоры, доносились звуки оживленного спора, причем дискуссия велась на таких высоких нотах, что было слышно по всему офису.
В папке входящих сообщений снова появилось имя Сильвии Лавинь.
Оксфорд-стрит была вся окутана паром, валившим из ртов вечерних покупателей. Ведя Лелию сквозь толпу, я бережно обхватил ее за талию, словно защищал стеклянный сосуд, содержащий ребенка. Одета она была элегантно, даже изысканно. Магазин, затянутый в светящиеся одноцветные гирлянды, производил такое впечатление, будто мы находимся на каком-то складе или в магазине из другой эпохи — «Маркс энд Спенсер» конца пятидесятых. Но детский отдел, куда мы попали, поднявшись на нескольких эскалаторах, выглядел совершенно иначе: огромный тошнотворно-серый гулкий зал, забитый разнообразными приспособлениями и мазями против раздражений. У меня возникло ощущение, что меня с остальным стадом загнали на молочную ферму. Даже Лелия, похоже, на время утратила свой энтузиазм. Я подумал, что она, может быть, сейчас вспомнила про свои предыдущие неудачные беременности, и взял ее за руку.
Почти с отвращением посмотрел по сторонам. Всяческие молокоотсасыватели и другие, напоминающие орудия для пыток приспособления неведомого мне назначения стояли на полках под гроздьями каких-то штуковин с лямками и клетчатыми кармашками, которые свисали с крючков, как куски туш на скотобойне. После уличного холода прогретый воздух помещения оглушал, нам уже начало казаться, что наши куртки не дают нам дышать.
— О! — воскликнула Лелия. — Ты только посмотри на это.
— Это настоящий дом страха, — определил я.
— Но… Ричард, перестань! Это шуточка в стиле МакДары. Если тебе здесь неуютно, пойди посиди в кафе, хлюпик несчастный.
— Извини, — сказал я. — Но сама посмотри.
— Можно мне уже что-нибудь купить? — спросила она.
— Э-э-э… Да.
Я подумал о матери. Когда нам с Рейчел было пять и четыре, она родила ребенка, а потом очень быстро еще двоих. У меня сохранились смутные и неприятные воспоминания об обгаженных подгузниках в тазах с дезинфицирующими средствами, о скучных обязанностях следить за младшими сестрами и о бесконечном детском плаче. И как-то ей удавалось со всем этим справляться, несмотря на почти постоянное отсутствие отца, сидевшего либо в своей студии, либо в пристройке, где он мастерил деревянные коробки, которые вскоре стали отнимать у него все время, но очень редко продавались.
К тому времени, когда Клода, самая младшая, научилась ходить, мы уже превратились в маленькую банду, постоянно ссорились, росли в основном предоставленные самим себе, хотя всегда ощущали материнскую любовь. Нас запихивали в старые машины, рассаживали на колени, втискивали в багажные отделения вместе с соседскими детьми и везли к черту на кулички в постоянно меняющиеся школы, где мы с Рейчел, руководствуясь своими соображениями и поощряемые в меру эрудированным отцом, садились за книги, пока остальные пили сидр с пивом и разучивали новые гитарные аккорды. И Рейчел, и я покинули отчий дом, как только закончили школу, наши пресытившиеся сельской грязью души тянуло к яркой городской жизни, к более широким горизонтам. Очарованный и подавленный жизнью, которая ждала меня в Лондоне, я все же был рад, что сумел вырваться из толпы, хотя и постоянно поддерживал связь с матерью. С тех самых пор мысли о маленьких детях не тревожили мой разум, даже до недавних пор, даже сейчас, когда моя девушка оказалась «в положении». Надо было мне, дураку, вовремя думать о контрацептивах!
Я окинул взглядом отдел. Женщины с огромными животами проходили мимо меня, чинно и неспешно, как морские корабли. Некоторые несли на животах детей в тех самых матерчатых кармашках. Младенцы, практически неотличимые друг от друга пухлощекие создания с чахлыми волосами на головах, в основном спали. Некоторые громко и неприятно кричали. Я заметил, как одна мамаша смотрела на своего отпрыска стеклянными глазами, в которые уже, очевидно, навсегда впечаталась гордость. Со стороны казалось, что она находится в каком-то трансе, но, замкнутая в своем крошечном субъективном мире, она выглядела отвратительно. Лицо ее в ту секунду было таким сосредоточенным и отрешенным, будто она мастурбировала. Внезапно я понял, что каждая мать здесь считает своего ребенка лучшим. Именно так. Самым лучшим. Какими бы извращенными или гормональными критериями они ни пользовались для оценки качеств своих чад, все они находились во власти счастливого заблуждения, что их маленький дышащий комок жизни более совершенен, чем остальные.
Коляски, которые, насколько мне известно, называют «багги», были выстроены в каком-то недоступном для меня порядке. Я не мог себе представить, как мне изобразить хоть какой-нибудь интерес. Мне становилось тоскливо. Лелия, присев на корточки, в задумчивости смотрела на пакет с какой-то одеждой со светлой окантовкой, который держала в руках. Я взял у нее из рук пакет и бросил в ее корзину.
— Берем, — сказал я.
Я увидел затылок (темно-каштановые волосы, доходящие до плеч, худая спина, знакомая осанка), и у меня появилось странное чувство, что я сплю или что надвигается беда. Не может быть, чтобы это была она, опять та же женщина, подумал я, хотя понимал, что глаза мне не лгут. Она стояла рядом с какой-то другой женщиной. Я молчал. Мне было неловко, оттого что я общался с ней после того, как подшучивал над Лелией из-за ее слишком заученных подруг; еще больше мне было неловко, оттого что я заказал у нее рецензию. Отвернулся в другую сторону. При мысли о том, что сейчас придется придумывать какие-то отговорки, мне стало не по себе. Я задумался, как лучше рассказать Лелии о том, что я встречался с этой женщиной и дал ей задание.
— Я… что еще? — сказал я.
— Ну… — сказала Лелия. — Не стоит заранее закупать слишком много всего.
— Почему же? — неуверенно спросил я, с ужасом рассматривая коробку каких-то штуковин, которые назывались «насадка на сосок», рядом с пузатыми бочонками крема для подгузников. Неужели все эти вещи действительно необходимы или они нужны лишь для того, чтобы выкачивать у молодых неопытных мамочек деньги? Снова почувствовал тошноту.
— Плохая примета. Хочу посмотреть на багги, — сказала Лелия.
— Ну сходи, посмотри, — не стал возражать я. — А я тут пока… э-э-э… приценюсь к детским ванночкам. Нам же это тоже понадобится?
— Мне кажется, ребенка можно купать в обычной раковине. Хотя, если честно, я не знаю. Посмотри лучше муслин. Встретимся через минуту.
— Какой еще муслин? — пробормотал я.
Зашел за угол. Хотел почитать газету, но подумал, что Лелия, если застанет меня за этим занятием, может рассердиться или, что еще хуже, обидеться. Видеть ее раздраженно-недовольное лицо мне совсем не хотелось.
Сильвия стояла ко мне спиной, она еще несколько секунд поговорила с подругой, потом подруга ушла, и она повернулась ко мне.
— Ты что, за мной следишь? — спросил я.
Она ответила не сразу.
— А я собиралась сказать тебе то же самое, — наконец невозмутимо заговорила она.
Я чуть было не вскипел, но потом задумался. Она права. Исходя из ситуации, вполне могло оказаться, что это я слежу за ней.
— Мы оба живем в Блумсбери, — примирительно сказал я, пожимая плечами.
— Это не Блумсбери. Но я все равно рада тебя видеть.
Мое внимание привлек ее рот. Когда она говорила, верхняя губа плавно двигалась, изгибаясь, словно ее движения подчинялись какой-то своей, независимой пластике. Сильвия была в твидовом костюме, до смешного английском, строгом и старомодном, но в ту минуту я в первый раз смог отчетливо увидеть ее «французскость». Глаза ее были ничем не примечательны. Но рот, хотя и без признаков помады, бросался в глаза. Ее черты словно перегруппировались, теперь она не казалась бесцветной, пустой, ее лицо превратилось в смесь отдельных элементов.
— Ты написала гениальную рецензию, — сказал я первое, что пришло на ум, хотя прилагательное можно было употребить и не такое сильное.
— Гениальную? — переспросила она. — Не думаю.
— По крайней мере очень хорошую.
— Я просто прочитала все, что нашла по этой теме, — тихий, но какой-то сухой голос отчетливо выводил все слова — солнце в туманную погоду. — Я целую ночь выискивала новые ссылки, которые казались мне существенными. Мне, кстати, почему-то показалось, что ты тоже не спишь. — Она отвела назад выбившуюся прядь волос. — Когда наступил рассвет и начали летать эти непонятные чайки — что они вообще так далеко от моря делают? — я закончила. Как ночь прошла, я и не заметила. Я переживала, что вышло слишком мало.
— Совсем нет, — сказал я. — Ты написала лучше, чем может добрая половина моих писак или старых экспертов, к которым я иногда обращаюсь и которые все живут вчерашним днем. Все, что нужно, — это причесать ее немного, и все.
Она улыбнулась.
Повисла тишина.
Я попытался заставить себя молчать и не сказать то, что напрашивалось. Я почти услышал свои слова еще до того, как они слетели с языка, попытался сдержаться, но:
— Если хочешь, можешь что-нибудь еще для меня написать… — произнес я и осекся.
— Что-нибудь еще? — переспросила она, и губы ее чуть-чуть раздвинулись, хотя лицо осталось сосредоточенным и бледным, как у скульптуры. Потом улыбнулась, отчего верхняя полная губа изогнулась.
— А что ты здесь делаешь? — скороговоркой сказал я, чтобы сменить тему: ее напряженность начала меня беспокоить.
— О, — она устремила взгляд вдаль. — Мне нужно кое-кому купить подарок. А где твоя…
— Лелия.
— Ах да, Лелия. Ну конечно же. Какое красивое имя.
— Ее назвали в честь кого-то, — сказал я и задумался. — Я…
— Кого? — сказала она одновременно со мной.
— Ну, я…
— Ладно, не надо, — сказала она.
— В честь герцогини Вестминстерской, — объяснил я и замолчал. Посмотрел на угол, за который зашла Лелия, когда направилась к коляскам. Она всегда стыдилась говорить о происхождении своего имени и нежных родительских чувствах, которые за этим стояли. Во рту пересохло — я предал ее.
Сильвия бросила взгляд в сторону.
— Мне нужно идти, — вдруг сказала она.
— Почему? — удивился я. — Куда? — Внезапно мне захотелось еще хоть чуть-чуть посмотреть на ее чистое лицо, послушать ее странный голос, узнать, что она скажет дальше.
— Не знаю, — ответила она. — Мне нужно встретиться с человеком. Но ты знаешь, как меня найти. — Она повернулась, шепнула на прощание «Ну, пока» и исчезла, и в следующую секунду появилась Лелия. Если бы Лелия смотрела прямо перед собой, она бы заметила затылок Сильвии, но она смотрела на меня, улыбаясь и неся что-то в пакете.
— Я только… — начал я и остановился, подыскивая подходящие выражения, чтобы объясниться; но я мешкал слишком долго, и момент был упущен. Я не сказал, потому что она стала бы подначивать меня, или удивилась бы, или рассердилась. Лицо Лелии по-прежнему оставалось бледным, как белое золото или солома. Она приложила руку к животу. В глазах вспыхнули беспокойные огоньки.
— У нас будет ребенок! — сказала она.
Это первые признаки шевеления плода. Движение происходит, когда еще наполовину сформировавшийся зародыш, крошечное создание совершенной формы, поворачивается в своем водяном мешке. Правда, мне потомок моей матери представлялся не в виде пухлого пупса, которым он станет, когда чуть-чуть подрастет, а в виде цыпленка в яйце. Некое безобразное создание, законсервированное в рассоле: мокрый бесформенный комок коготков и косточек; зачатки перьев, пропитанные склизким желтком; клювик, оранжевая точка. Человеческий цыпленок. Превратится ли когда-нибудь это существо в человека?
8 Лелия
К седьмой неделе у этого крошечного человечка со сложенными зачатками ручек и ножек уже было свое сердце (не больше макового зернышка) и свой язычок. В своем жидком мире он мог раскрывать ротик. При мысли об этом у меня на глазах выступали слезы счастья. Я представляла себе зародыша в виде детеныша динозавра, с подвижной квадратной головкой и малюсенькими треугольными зубками, которые показывались, когда он открывал рот. Я зашла в кладовую в дальнем конце квартиры, которая превратится в детскую, если ребенок выживет. А он выживет. Какое-то внутреннее чутье, а может, и отчаяние говорило мне, что на этот раз все будет хорошо.
— Тебя тут дожидались, — раздался голос снизу, когда я подошла к окну.
На тротуаре стояла Люси, соседская дочь. Ричард считал Люси подозрительной, довольно неглупой и пронырливой, дал ей прозвище «назойливая маленькая муха» и, обращаясь к ней, называл Люсиль, а в разговорах со мной — Люсифер. Она заметила меня в окне и замахала рукой. Несмотря на то что на улице было холодно, она была в джинсах, крошечном топике и массивных ботинках. Она знаком попросила меня открыть окно, отчего топик приподнялся и стало видно несколько дюймов ее голого живота.
— Когда? Кто? — спросила я.
Она пожала плечами.
— Какое-то чучело. Она ошивалась тут, хотела с тобой встретиться, — скривила губы она. — Никогда ее раньше не видела, — она снова пожала плечами и начала нетерпеливо переминаться с ноги на ногу.
— Как она выглядела? — спросила я, и в лицо мне дохнул холодный ветер.
— Да никак, — бросила Люси, разворачиваясь и отправляясь по своим делам. — Отстойная одежда. У нее для тебя, по-моему, какой-то пакет был.
— Она его оставила? — крикнула я ей вдогонку.
— Не знаю, — не оборачиваясь, отозвалась Люси.
Понятно. Понятно было, что это Сильвия приходила с каким-то подарком для ребенка.
Вчера я подписала библиотечный формуляр, по которому она могла посещать библиотеку в Сенат-хаузе. Мне это было нетрудно. Нашла номер телефона, который она мне дала, и позвонила.
— Я оформила тебе читательский билет. Можешь забрать его в регистратуре, — сообщила я, когда она сняла трубку.
— Спасибо, — мягко произнесла она своим хрипловатым голосом, явно обрадованная.
— Тебе теперь осталось только добиться отдельной кабинки в читальном зале, — пошутила я. На Мекленбур-сквер с севера надвигались яркие белые облака.
— Я и так уже получила то, что хотела, — сказала она.
Вот здесь, подумала я, проводя пальцами по оконной раме, моя малышка будет в безопасности, она будет лежать в деревянном манежике, пока родители будут заниматься своими делами — читать, готовить, работать, не пускать в дом чужих. С самого начала я воспринимала своего ребенка как девочку.
— Я хочу подарить вам кое-что для ребенка, — сказала Сильвия.
— Как мило, — ответила я. — Спасибо.
Облака уже неслись с бешеной скоростью, клубились, распадались на лоскуты и снова собирались. Сквозь старые рамы потянуло сквозняком.
— Это так здорово!
— Да, — согласилась я, чувствуя, что настроение улучшается. — Хотя Ричард не в восторге, — добавила я в шутку, но осеклась, поняв, насколько точны эти слова. Я снова помолчала в нерешительности. Правда причинила мне боль. Сердце у меня в груди превратилось в ноющую рану.
— А я в восторге, — раздался ее голос. — Он мужчина. Разве может он понять? Вам теперь нужна забота…
В трубке раздался какой-то шум.
— О, — обратилась к кому-то Сильвия. — Вон туда.
— Кто это? — спросила я.
— Да так… — несколько неуверенно ответила она.
Судя по звуку, в комнате Сильвии происходила расстановка вещей, но вскоре все стихло.
— Рядом с вами кто-то есть?
— Это просто Чарли, — сказала она.
— Кто такой Чарли?
— Это мой… сосед по комнате.
— Ясно! — сказала я, удивившись. Меня почему-то всегда оскорбляло, если кто-то оказывался не таким человеком, каким я его себе представляла. Ведь все в ней указывало на то, что она одинока. Я, особо не задумываясь, приписала ей жизнь среди книг в самодостаточном затворничестве. Однако оказывается, что существует еще некий Чарли, о котором раньше никогда не упоминалось и который принимает участие в ее повседневной жизни. Я испытала облегчение с привкусом разочарования, когда поняла, что мне уже не нужно быть в ответе за нее — за ее читательский билет, за ее отношения с обществом, за ее ранимость.
— Ты никогда не говорила, что живешь с кем-то, — сказала я.
— Нет, — возразила она. — Нет. Мы вместе снимаем квартиру, но иногда по нескольку дней не видим друг друга.
Я высунулась из окна и посмотрела на площадь. Над головой стремительно проносились облака, я крепко взялась за подоконник.
— Да что об этом говорить! — ушла она от этого разговора. — Мне так хочется вручить подарок для твоего малыша!
Твоего малыша. Моего малыша. Употребление притяжательного местоимения наполнило душу радостью. Я почувствовала себя важной, значимой, нормальной. Удивительно, но оказалось, что я все-таки могу иметь ребенка. Я поняла, как одиноко мне было до этого.
— Ну, заходи как-нибудь. — Я в уме стала подсчитывать, сколько у меня осталось свободного времени до запланированной встречи со студентом, которого я вела. Отчаянно захотелось отвлечься, и в ту же секунду я поняла, что не смогу противиться своему желанию, мысленно позволила себе несколько дней передышки, отодвинув на второй план кураторскую работу, которой становилось все больше и больше, и заедавшую возню с докторантами.
Включила компьютер, вошла в Интернет. Я подозревала, что Ричард по утрам только то и делает, что через «Google» шерстит всемирную сеть, но сама редко пользовалась Интернетом, ссылки, которые я находила, вечно заводили в какие-то дебри, не имеющие никакого отношения к интересующей меня теме. Мой ночной кошмар все еще не выветрился у меня из головы, поэтому я набрала «Sophie-Hélène», имя своей французской партнерши по обмену, ее фамилии я не вспомнила. Нашлось пятьсот сорок пять ссылок. Я дописала «France». Появился список упоминаний четвертого ребенка Марии Антуанетты и информация про велогонку «Тур де Франс». Тогда я добавила название «Loire», после чего нашлось только описание генеалогического древа принцессы Бирон и еще какие-то новости с велогонки. Ричард, помешанный на Интернете, был бы на седьмом небе от счастья, если бы я обратилась за помощью к нему.
Попыталась поискать еще, но уже без особого энтузиазма, проснулись грустные мысли. Я вспомнила, что Ричард был не рад ребенку. Он притворялся. Я подумала, неужели все мужчины действительно боятся отцовства, неужели и Ричард, который казался мне совершенно другим существом по сравнению с тем мужчиной, который обидел меня сильнее всего, тоже был эгоистичным и грубым мужланом, а вовсе не исключением из общего правила, каким представлялся мне до сих пор?
Практически не было таких тем, на которые я не могла бы с ним поговорить. Я рассказывала ему о самых страшных унижениях, которые мне пришлось испытать в жизни, при этом, если хотелось плакать, я плакала, сопливо, с завываниями. Могла долго не брить ноги, носить очки для чтения и не мыть голову, потому что с ним это не имело никакого значения.
Но был у меня один смутный страх, который я, как зачатки безумия, не могла четко обозначить и извлечь на Божий свет для осмысления. Если я хоть прямо, хоть косвенно была причиной смерти двух нерожденных детей и отца, на что еще способны глубины моего подсознания? Кто еще может умереть из-за меня? Я сама боялась себя. Успокоиться удалось, только сильно впившись ногтями в ладонь.
Я начинала понимать, почему меня преследует образ Франции. Ребенок обострил переживания. Мне казалось, что существует некая дверь, за которой начинается тошнота.
Родители считали меня хорошей дочерью: в перерывах между латынью я зачитывалась рассказами про пони; с младых ногтей понимала, что образование — это мой билет в лучшую жизнь, но в душе у меня творилось такое, о чем они не догадывались. Меня терзало чувство вины за то, что я наполовину белая при отце индийце; за свое отношение к тому, что меня воспринимают как индианку, еще у меня было чувство вины перед родителями, которые возлагали на меня столько надежд. По-моему, отец, который долгие годы изучал медицину и получил лицензию врача, когда ему перевалило за тридцать, хотел, чтобы я пошла по его стопам. Вместо этого я стала изучать французский. Французский, потому что мне казалось, будто другого выбора у меня нет. Отец умер от сердечного приступа в сорок три, мне тогда было четырнадцать. В ночь его смерти я, заключив договор с Богом, поклялась себе, что больше никого не подведу, ведь я не оправдала надежд отца, когда он так в этом нуждался.
Во Францию я поехала уже не такой, какой была раньше. Французская семья, у которой я жила, оказалась очень доброй: не упоминая вслух о моем горе, они окружили меня заботой и лишь в приглушенных разговорах между собой позволяли себе высказать сочувствие ко мне. Впрочем, я без труда понимала, о чем они говорят. Софи-Элен, моя подруга по переписке и партнер по обмену, казалось, идеально подходила мне. Единственный ребенок в семье, она жила недалеко от крохотной главной улицы городка Клемансо в необычном маленьком частном доме с низкими балочными потолками и пристройкой, которая стояла за ручьем, струящимся через сад, над которым вывешивали сушиться белье. Мне выделили свободную комнату с двуспальной кроватью, над гаражом. Комната была похожа на номер в гостинице системы «бэд энд брэкфаст», но такого узора на обоях, как там, мне раньше видеть не доводилось. В гараже внизу хранился мотоцикл несовершеннолетнего двоюродного брата.
Мы с Софи-Элен в периоды оцепенения между приступами печали читали и шептались о книгах, а потом о мальчиках. Местные мальчики школьного возраста, прыщавые, замкнутые и длинноволосые, курящие сигареты и ездящие на мопедах, были для меня неотличимы от крестьян и автомехаников. Я посещала школу с Софи-Элен последнюю неделю семестра. Мы ходили, взявшись за руки, как две француженки, нас окружал мир миллиметровки и «Оранжины»[20], и мне казалось, что я повторяю судьбу отца.
Потом наступила Pâques, и начались пасхальные каникулы: все были такие благочестивые, такие правильные, но из пансиона вернулся ее сосед, серьезный, странный и добрый мальчик, и все изменилось. Я потеряла подругу по переписке. Она стала ходить к нему в большой дом со ставнями. Дом этот стоял у перекрестка и принадлежал его матери, которая была врачом. И там они, католики в белых перчатках и со стрижками «под пажа», исследовали в перевязочной тела друг друга, я же стала для них всего лишь sans-papiers[21], грязным варваром, спускающим свою печаль в воду тонкой струйкой.
Мне почему-то вспомнился запах младенца, хотя домик в Клемансо был пропитан ароматами французского супермаркета (чехлы для гладильных досок, коржи для тортов), а вовсе не детским запахом. Попыталась напрячь память и почувствовала, что начинает тошнить. Стоп! — прервала я себя. Пусть подозрения лучше останутся где-нибудь в стороне. Ричард назвал бы меня Клеопатрой.
Грянул дверной звонок. Как быстро она добралась! Хотя это и неудивительно, она ведь живет всего в нескольких минутах ходьбы от нас, в одном из тех кварталов, которые составляют особняки и дома старой постройки. Ей нужно всего лишь перейти через пару площадей.
— Здравствуй, — весело произнесла она хрипловатым голосом. Слышно было, что от стремительного подъема по лестнице у нее сбилось дыхание. Выглядела она лет на двадцать.
Сильвия улыбалась.
— Вот, — она протянула мне подарок. Я развернула пакет, и на стол высыпалась целая куча хлопковых детских вещичек — ярко-белые маечки кукольного размера, крошечный лиловый комбинезончик, несколько нагрудничков с разноцветными кантиками по краям. Я прижала их к лицу и вдохнула свежий магазинный запах чистоты.
— Спасибо, — прошептала я, не отнимая ото рта одну из маечек. Робко поцеловала ее в щеку. — Это у меня первый подарок.
— Я успела даже раньше твоей матери?
— Больше пока никто не знает. Давай я тебя чаем угощу.
— Я заварю, — предложила она.
Наполнив чайник, она выставила на стол чашки и прижалась к батарее. Наверное, она замерзла, подумала я, глядя на ее худые лодыжки в тонких колготках. Когда она садилась за стол, ее тело покрылось мурашками. Был январь. Она была в тонком светлом топе, на плечи наброшен темный джемпер. Волосы с одной стороны были заткнуты за ухо, а с другой спадали на щеку рядом с пухлыми ненакрашенными губами.
Проходя мимо компьютерного стола, я случайно зацепила мышь. Тут же ожил монитор, экранная заставка исчезла, и стали видны результаты моего последнего поиска в «Google». Сильвия повернулась и посмотрела на экран.
— «Софи-Элен + Клемансо», — прочитала она своим характерным тихим голосом. Посмотрела на меня и отвела взгляд. Услышав имя, произнесенное на идеальном французском, я оторопела, как если бы сама Софи-Элен вдруг материализовалась в моей комнате. Сильвия впилась в меня своими коричневыми с зеленым оттенком глазами.
— Есть французская версия «Friends Reunited»[22]? — спросила я у нее.
— А что такое «Friends Reunited»?
— Хороший вопрос, — я подумала о Ричарде, у которого этот сайт вызывает прямо-таки щенячий восторг. Когда по вечерам я застаю его за компьютером, он, читая последние обновления, тихонько посмеивается или, наоборот, презрительно хохочет во весь голос. Он вырезает, копирует, вставляет блоки информации, пересылает файлы своим старым школьным друзьям. Но, бывает, становится мрачен и раздражителен, если случайно натыкается на рассказ о чьем-то неожиданном успехе. Странно видеть его крупную фигуру скрючившейся перед компьютером, но что поделать, сейчас монитор притягивает его так же, как раньше притягивали моря и парусные корабли.
Даже одежда его словно принадлежала иному миру: он носил отцовскую темно-синюю шерстяную фуфайку (старшеклассницы побогаче в моей школе надевали такие, когда ездили на экскурсии), все его рубашки, которые он гладил сам, причем на удивление хорошо, были из мягкого хлопка и довольно застиранные. Чаще всего он ходил в джинсах и вылинявших футболках, и, сколько бы он ни прожил в Лондоне, все равно оставалось в нем что-то деревенское или морское. Я все время покупала ему полосатые футболки, зная наверняка, что они ему понравятся, вместо дырявых носков подсовывала новые. Еще я покупала ему черные рубашки и настоящие стильные вещи, но он их почти не надевал, и в душе я была этому рада, потому что в его редакции и так все носили черные рубашки. К делам житейским он был совершенно не приспособлен, когда-то поняла я; например он сам никогда не видел, что ему уже пора стричься, шел в парикмахерскую только после того, как я ему говорила. Однако он был наделен самоуверенностью человека выше среднего роста, которого в детстве любили, позволяли сколько душе угодно носиться по берегу моря и ждали дома с горячей едой и интересными рассказами. Я всего лишь раз видела его плывущим в лодке. Это было в Корнуолле на закате в окружении порхающих летучих мышей. Мы выплывали из устья реки, он был на веслах и сидел спиной ко мне, в те минуты у меня возникло странное ощущение, что я могу однажды его потерять.
Сильвия рывком подтянула колени к подбородку, открыв взору весьма недурные ножки, которые вообще-то редко демонстрировала. Выглядела она очень молодо, но были в ней какая-то тонкая аккуратность, ухоженность, которые придавали ей женскости, так что она скорее была похожа на взрослую женщину с детской внешностью, чем на какого-нибудь подростка, достигшего полового созревания. Ее сексуальная привлекательность в глазах мужчин, если таковая у нее вообще имелась, должна была носить несколько тревожный характер.
— Ты так хорошо выглядишь, — сказала она, снова внимательно рассматривая меня. — Наверное, это начинают работать гормоны.
— Да нет, это я только что губы накрасила, — уточнила я.
— Мне нравится. Но ты всегда хорошо одеваешься и…
— Давай я и тебе накрашу! — предложила я.
Подумав пару секунд, она согласилась.
— Ну хорошо.
Я наклонилась к ней, попробовав пару оттенков, выбрала подходящий и стала красить ей губы. Когда закончила, она открыла глаза и посмотрела на меня.
— Вот так, — сказала я, любуясь своей работой. — Теперь пусть на тебя посмотрит твой… кто-нибудь, кто тебе не безразличен.
— Правда? — спросила она, теперь ее лицо с подчеркнутыми и выделенными линиями губ казалось более уверенным. Эффект получился несколько неожиданный: словно невинное дитя превратилось в куртизанку.
— Да! — подтвердила я. — А есть у тебя?.. — начала было я, но осеклась, все-таки задавать такие интимные вопросы означало вторгаться в личную жизнь.
— Кто-нибудь? — Она продолжила за меня.
— Да… — несколько смутилась я.
— Есть один человек, который мне… нравится. Которого я понимаю.
— А он тебя понимает?
— Надеюсь. Немного. Наверное, понимает. Насколько вообще один человек может понимать другого.
— И вы… встречаетесь? — спросила я, надеясь не дать зачахнуть этому скромному ручейку признаний.
— Я очень жду, что он позвонит.
— Понятно, — сказала я.
Я встала и взяла ее чашку. Но она ухватила меня за запястье.
— А ты? — шепотом спросила она. — Ты… когда-нибудь любила? Сильно?
— Да, — ответила я. — О, да.
— Много раз?
— Три. Вообще-то два с половиной.
— Да? — сказала она. Ее рука сдвинулась с моего запястья, коснулась ладони и опустилась. — Ричард.
— Да. Ричард. Его я люблю так, как не любила никогда раньше. Но вот мой первый настоящий парень (такой придурок на самом деле!), тогда мне казалось, что сильнее любви на свете просто не бывает. Потом был мужчина повзрослее… Этот такое творил!.. Но в него я тоже была влюблена по уши, буквально боготворила его! Это явно было связано с моим отцом, он умер, когда мне было четырнадцать. Обычные фрейдистские дела. Потом всякая ерунда, а потом появился Ричард.
— Любовь и смерть, — сказала она. Ее теперь яркие полные губы завораживали. — Liebestod[23]. Они часто связаны.
— Правда? — спросила я. — А тебе приходилось… приходилось сталкиваться со смертью?
— Давно, — неопределенно ответила она.
— О, извини.
— Давай поговорим о чем-нибудь другом, — предложила она. — Пожалуйста…
— Извини, — я положила руку ей на плечо.
Мне захотелось, что рядом был Ричард. Но когда он действительно придет с работы (с растрепанными волосами, неся с собой запах офиса) и, несмотря на усталость, примется поить меня чаем, он будет продолжать притворяться. Он поинтересуется, как мои дела, задаст несколько коротких вопросов, которые придумает, поднимаясь по лестнице, его буду волновать я, но не живой комочек внутри меня. Вдруг, впервые за все время, проведенное рядом с ним, я ощутила одиночество.
— Ты побледнела, — сказала Сильвия. — Присядь. Правда, тебе надо посидеть. Тебе не холодно?
— Нет.
— Тогда садись сюда. Ложись на диван, я тебе почитаю. — Она подошла к книжному шкафу и наугад выбрала книгу. Это оказался «Ангел» Элизабет Тэйлор. Нашла в холодильнике какой-то лимонный энергетический напиток, налила мне стакан, села рядом со мной, взяла меня за руку и стала читать. Ее приятный хрипловатый голос успокаивал, убаюкивал, я не заснула, но мне начало казаться, что я перемещаюсь в другое пространство, в другое время, мне снова было четырнадцать лет.
9 Ричард
«Она не выходит у меня из головы», — написал МакДара.
Я хмыкнул.
«Не думал, что твоя башка так связана с членом», — послал я ему ответ.
Он откликнулся кратко:
«Ха!»
«Сегодня разрешаю небольшой контакт, потом на два дня — полный запрет». — Я наслаждался ощущением власти над бедным МакДарой.
«Насколько небольшой?»
«Один краткий телефонный звонок/один имейл, максимум два ответа от нее. Что вообще ТЖ может сказать такого интересного?»
«Не знаю, не знаю, просто она не отпускает меня. Хочется разговаривать с ней всю ночь — да, да, Ферон! — если уж не могу ее всю ночь трахать».
«А до этого еще не доходило?»
«Нет, нет, нет, нет. Она что-то мудрит. Специально поддерживает во мне этот гребаный огонь. Мы почти не видимся. Как мне концентрироваться на работе? У нас с ней ничего еще не было.
«Ничего?»
«Ну, почти ничего. Я постоянно на взводе, как пацан какой-нибудь. Места себе не нахожу. Если не проверяю голосовую почту, то звоню 1471[24]».
Я рассмеялся.
«Займись чем-нибудь полезным, МакДи, — написал я. — У меня и своя жизнь есть».
Я был помешан на электронной почте. В моем почтовом ящике были и другие письма: штук десять от моих внештатных писателей и два от Сильвии Лавинь. Постепенно у нас с ней вошло в привычку обмениваться письмами по электронке каждый день. Я не видел ее уже несколько недель. После той встречи в «Джон Льюис» я ни разу с ней не сталкивался, но когда я читал ее послания, мне казалось, что я слышу ее голос.
В тот вечер я пошел на Марчмонт-стрит купить крючков и увидел ее, точнее, ее затылок. Каштановые волосы были распущены и ниспадали на плечи. Изящная маленькая спинка, затянутая в макинтош. Она быстро шла по другой стороне улицы, тускло освещенной оранжевым светом. Мое сердце затрепетало. Дыхание в ту же секунду сбилось, отчего окликнуть ее сразу не удалось. Между нами проехало такси, на секунду заслонив ее от меня.
— Сильвия! — крикнул я. Она приостановилась, слегка повернула голову, потом пошла дальше той же стремительной походкой.
— Сильвия! — еще раз крикнул я, на этот раз громче, но она продолжала идти, словно не услышала моего крика. Зашла за угол, я бросился следом за ней, но почти сразу остановился. Что я делаю? По инерции прошел еще, услышал звук собственных шагов и остановился окончательно. Сердце билось неровно. Что ты творишь, придурок, идиот? — заговорил во мне внутренний голос. Я стоял в растерянности перед окнами прачечной, не зная, что делать дальше. Увидел свое отражение в стекле: набыченный сумасшедший, замерший в карикатурной позе. Что это на меня нашло? Я развернулся и двинулся быстрым шагом, иногда сбиваясь на рысцу и глубоко дыша, по направлению к Мекленбур-сквер.
Дверь квартиры была закрыта всего на один замок, но внутри было тихо. Я понял, что Лелия спит. Попытался привести в норму дыхание, хотя все еще чувствовал себя как лунатик. Я отогнал мысли о Сильвии Лавинь. Отгородил от них свой разум, как небо, которое скрывает себя под одеялом облаков, собрался с духом и посмотрел по сторонам. Радиатор мерно гудел. Рядом с чайником несколько небольших пакетов, схваченных наверху пластмассовыми зажимами (есть у Лелии такая привычка): имбирь в сахаре, имбирные орешки, имбирный чай, печенье «Рич Ти». Каждый пакет был распечатан, потом аккуратно закрыт. Все это было куплено Лелией, чтобы отгонять приступы тошноты. Она сходила в магазин одна. Одна… и, как я с горечью понял, страдая от одиночества. Это я должен был купить ей все это или, по крайней мере, сходить с ней в магазин. Мне же это даже не приходило в голову. Я — свинья, настоящая эгоистичная свинья, которой, чтобы вспомнить об отвращении, нужно окунуться головой в выгребную яму.
Но тут я вспомнил, как она стала смотреть на меня с того дня, когда узнала, что беременна. Это ее выражение я называл «Мадонна в скалах»[25]: одухотворенное лицо мученика, глядя на которое преисполняешься неимоверным чувством вины. Это выражение заставляло меня затыкать подальше свои чувства и желания и мчаться в магазин за какими-нибудь напитками или никому не нужными подушечками. Ее реакция на беременность меня втайне раздражала. «Что тут особенного?» — иногда хотелось мне заорать, когда я, убитый, приходил с работы и чувствовал, что должен хвататься сразу за десять дел. Приди в себя! Можно подумать, ты единственная за всю историю мира женщина, которая вынашивает ребенка. Ее постоянная усталость, которая необъяснимым образом переплелась с новой волной интереса к сексу, трудно поддавалась пониманию, и поэтому мелкая, но противная частица меня заставляла сомневаться в ней.
Я снова посмотрел по сторонам. На столе увидел остатки трапезы. Опять кольнула совесть. Накатила глубокая печаль. На столе лежала открытая книга о беременности. Еще одна висела на ручке дивана. Я никогда в них не заглядывал; они для меня были невидимы, более того, вызывали отвращение. Я взял один из пакетиков с имбирем, понюхал и решил, что, каким бы я ни был ублюдком, я приложу все силы, чтобы исправиться.
Я постарался неслышно подняться наверх, но деревянные ступени предательски заскрипели под моими неуклюжими ногами. Вот она, спит в кровати, нежно-розовая, как персонаж мультфильма; слегка раздвинутые губы пропускают спокойное и мягкое дыхание; ресницы кажутся такими длинными, что доходят до щек, таких красивых, таких золотистых и покрытых румянцем сна; я наклонился, чтобы почувствовать ее запах, вдохнуть в себя ее дыхание, однако был настороже, потому что она могла в любую секунду проснуться и, увидев меня так близко, испугаться. Стал внимательно изучать каждую деталь ее лица, крохотные волоски на щеках, ритм дыхания. Неужели на каком-то страшном, глубинном уровне она вызывала у меня неприятие тем, что была наполовину индианкой? Женщиной? Возможно, я, сам того не осознавая, чувствовал некое классовое превосходство? Может быть, я на самом деле расист или озлобленный женофоб? Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Попытался заставить мозг проанализировать мысли, потерпел неудачу, вопросы остались без ответов.
Потом я стал медленно гладить ее по волосам, пока она, слегка вздрогнув, не проснулась. Я лег рядом, прижался к ней, обвил руками. Сильвия Лавинь на секунду возникла в моих мыслях, но я отогнал от себя ее образ.
Позже, когда на дворе стояла глубокая ночь, Лелия проснулась.
— Я заснула… — пробормотала она.
Погладила меня по спине. Было приятно. Я заворчал от удовольствия. Зашевелился, придвинулся к ней поближе. Откуда-то из-под руки раздался смешок. Ее зубки ухватили мой сосок. Я открыл глаза, погладил ее по голове, поцеловал. Почувствовал, что ее разгоряченное тело задрожало. Уловил ее легкий запах.
— Иди ко мне, — прошептала она, скользя пальцами по моим бедрам.
— Лелия! — воскликнул я, но она уже взяла меня в руку.
— Я хочу тебя, — сказала она.
— Что? — тихо спросил я.
Попытался напрячься. Провел рукой по ее груди.
— Лелия, я не могу, — прошептал я и засмеялся вполголоса.
Она тоже засмеялась, прижалась ко мне низом живота.
— Ты что, еще проснуться не можешь? — спросила она, пощекотала сзади мою шею. Ее шепот лился мне прямо в ухо.
— Да, — ответил я. Ее запах нарастал горячими волнами. Возбуждение уже проникло в меня.
— Мне нужно выспаться, — объяснил я.
— О милый! — в голосе ее слышался смех. — Но мне так…
Мои пальцы стали опускаться ниже.
— Да, да, — зашептала она, возбужденно раздвигая бедра навстречу моей руке.
— Что на тебя нашло? — спросил я. — Что, опять интересные сны видела? Или влюбилась в кого-нибудь?
Она прыснула.
— Погладь. Надави. Сильнее, сильнее!
— И все-таки?
— Влюбилась. В тебя, — сказала она между судорожными вдохами.
Потом оттолкнула мою руку и быстрыми движениями, вздрагивая всем телом и вскрикивая, довела себя до оргазма.
— Дорогая! — сказал я.
— М-м-м, — простонала она, разгоряченная и потная, прижалась ко мне и заснула.
Утро было морозным. Я проснулся раньше нее. Встал, сделал посильнее отопление, нашел и натянул свой старый рыбацкий свитер, еще из Корнуолла. Когда брился, дрожал от холода, порезался, выругался. Февраль выдался холодным. Я посмотрел на свой компьютер, меня так и подмывало побыстрее проверить свой почтовый ящик, решил зайти в Интернет перед тем, как пойти на работу, хотя у меня была целая стопка бумаг, которые нужно было отредактировать. Письмо с хотмейловским адресом уже ждало меня. Скептически хмыкнув, стал читать.
«Однажды я, прячась за шторами, подсматривала за тем, как маму одевала служанка, и увидела вздутие, белое и похожее на бочку, как гриб. Она превратилась в сосуд, хранящий в себе идеального толстого ребенка, как будто ее тело хотело исправить ошибку, которую совершило, выносив меня. Я отыскала в себе место поукромней (где-то в глубине, под внутренними органами) и спряталась там. Если бы я родила карлика, каким была я сама, я бы его любила, заботилась о нем, всматривалась бы в его уродливое курносое личико, пока он пил бы молоко через тростинку, целовала и целовала бы его тельце с просвечивающимися серебряными жилками. Я бы передала ему свою душу, когда он стал бы сжимать ладошки, бессознательно цепляясь за жизнь. Я бы надела на него чепчик. Я бы прижала к себе и никогда больше не отпустила это беспомощное голое тельце. Но моей матери был не нужен недомерок, который когда-то рос внутри нее, потому что кто позарится на некрасивую девушку? С волосами цвета воды в ванной для слуг. С маленьким треугольным лицом с резкими чертами и открытым взглядом глаз, которые, несмотря на все усилия, продолжали жадно всматриваться в окружающий мир. Кто ее захочет? Никто. Кроме одного человека. Единственной подруги, Эмилии. И мы с Эмилией становились все ближе и ближе, пока наши тела и души почти не слились в единое целое».
— Да, да, да, — протянул я. После недолгого раздумья удалил файл.
В кабинет вошла Лелия, помятая и заспанная. Ее грудь явно увеличилась в размере.
— Честное слово, я ненавижу компьютеры, — сказала она хриплым со сна голосом, посмотрев на монитор. — Как мне «сузить поиск» или как там это называется?
Ее напряженное выражение лица заставило меня рассмеяться.
— У меня находится только или фигня всякая, или одно и то же по десять раз, — недовольно буркнула она. Зевнула. — А ты чего в Интернет залез?
— Ищу сайт девомальчиков и цыпочек с пипочками.
— Ричард, о чем ты думаешь? — спросила Лелия, толкнув меня в плечо. — Где ты был, когда был нужен мне?
— Послушай, — сказал я. — Если тебе вдруг посреди ночи начинает хотеться перепихнуться, дорогая, я не могу гарантировать, что буду готов как штык.
— Не можешь? — спросила она, вскинув бровь.
— Ну, не всегда, — сказал я и шлепнул ее по попке. — Вот вы, женщины, всегда так! — вдруг начал возмущаться я. — Твердите без умолку, что нам, мужчинам (сволочам!), не нужна прелюдия, мы и слова-то такого знать не должны, так ведь? Пишете на эту тему длиннющие статьи с нападками в своих журналах, а потом вам подавай мужика, готового в любую секунду дня и ночи, как итальянский жеребец, и без всякой подготовки.
Выждав пару секунд, она лениво произнесла:
— Заткнись, — и обняла меня одной рукой.
Я ущипнул ее за сосок.
— Ой, — сказала она. — Осторожнее, я беременна.
— Хорошо, — я сообразил, что опять забыл об этом. Собственная забывчивость начинала меня удивлять. — Как ты себя чувствуешь?
Она посмотрела на меня с выражением святой девы на лице.
— Нормально. Немного подташнивает.
— Слушай, — сказал я, встал и вышел в большую комнату. — Давай я тебе что-нибудь сделаю. Имбирного чаю хочешь? — Я зачерпнул из раковины желтоватой, маслянистой на вид воды и поморщился.
— Чаю, пожалуйста. Чайного чаю.
— Понятно, никаких лесбийских глупостей. Приличная доза настоящего танина — и снова в койку.
Я отправился на работу, холод сковал ступни, как только я вышел из дому. Поднял воротник куртки, на душе было хорошо, и такая мелочь, как плохая погода, не могла испортить мне настроение. В офис я пришел намного раньше, чем всегда, поэтому, чтобы коллеги прочувствовали необычность этого явления, стал предлагать всем разные напитки, пока шел на свое рабочее место. Сел за компьютер. Мне нужно было «причесать» пять рецензий и продолжить боевые действия с одним журналистом, пописывающим для нашей газеты, которого я терпеть не мог, но вместо этого первым делом заглянул в почтовый ящик. От Сильвии Лавинь сообщений не было. Я удивился. Нажал на «Читать сообщения» и еще раз внимательно просмотрел адреса всех принятых файлов. Ничего. Ни одного из ее странных, глубокомысленных писем. Не было и статьи. Я решил не задумываться по этому поводу, но тогда нужно было как-то отвлечься, поэтому я поднял телефонную трубку и набрал номер МакДары, который на своей работе, приносящей в пять раз большую, чем у меня, зарплату, торчал уже минимум три часа.
— Мак, — сказал я. — Мне скучно. Какие у тебя сегодня новости?
— Ничего. Она не всегда может говорить. — В трубке были слышны телефонные звонки и крики трейдеров.
— МакДара, сейчас для нормальных людей все еще раннее утро, — я махнул рукой приятелю из раздела искусства, который вошел в офис. В курилку вошла коллега, и мне захотелось встать и пойти за ней, поговорить о чем-нибудь. Все что угодно, лишь бы не сидеть здесь и не заниматься работой.
— Она часто не может много разговаривать из-за него.
— Ах, да, — согласился я.
— Из-за этого козла. Ублюдка, — прошипел он.
— Но у тебя же у самого есть девушка, дубина ты, — сказал я и засмеялся.
— Да, — мрачно буркнул МакДара.
Но вдруг ситуация, в которую он угодил, перестала казаться мне такой уж забавной. Что, если он потеряет в общем-то неплохую девушку Катрин, после чего начнет жалеть, что оказался таким идиотом, вспугнет своим одиночеством старую замужнюю Таинственную Женщину, потом пройдет через этап заливания жалости к себе алкоголем, отколется от нашей группы, в конце концов встретит какую-нибудь женщину, которая никому из нас не понравится, и проведет остаток жизни в раскаянии? Впрочем, гадать было бесполезно.
— Кто ее муж?
— Не знаю… Я не хочу слишком глубоко влезать в ее жизнь Она, в свою очередь, не спрашивает о Катрин. У нас такое молчаливое согласие.
— А как вообще выглядит эта цыпа? Ты мне никогда не рассказывал.
— О, она как… — он издал восхищенный стон. — Хотя нет. Но… да. Немного худовата, правда.
— Очень четко выразился, как всегда. — Редактор, которого я не заметил, положил передо мной на стол лист корректуры.
— Она даже… она даже не в моем вкусе, понимаешь? Совершенно. Но… блин, она держит меня за мозги, за яйца, за кишки, не знаю, за что еще.
— И чем это все закончится? — спросил я, вертя в пальцах ручку. Страница передо мной была вся в редакторских исправлениях.
— Знал бы я! — невнятно пробормотал он и закашлял. По звукам я догадался, что он достает из пачки очередную сигарету. — Ты, наверное, считаешь меня идиотом, да, Ферон? — трагическим голосом спросил он. Не дождавшись ответа, добавил: — Да, я идиот. Но… она так прекрасна. Хотя нет, она совершенно не прекрасна. Нет, прекрасна. Она пылкая, она холодная. Она…
— Замужняя женщина, которая пышет то жаром, то холодом, все понятно. Но ведь она не одна такая, правда же, МакДи? Сегодня с ней на контакт не выходить, — отрезал я, роль вершителя судеб мне давалась без труда.
— Ну ты гад!
Я рассмеялся и положил трубку. Мне пришло три новых сообщения. Быстро просмотрел их — это были Рен и пара начинающих литераторов с предложениями о сотрудничестве.
Я представил себя со стороны: возбужденный и неуверенный человек, готовый броситься по вечерней улице, с взволнованно бьющимся сердцем. Мне на ум пришли строки какого-то смутно знакомого стихотворения:
Когда по улицам идешь, Никто тебя не признает. Никто… не взглянет на ковер и золотой, и алый, Который топчешь ты, когда проходишь,Несуществующий ковер[26].
Пришло еще одно сообщение. Кликнул по нему. Не от нее.
Начал было сам ей писать, но остановился. Отредактировал половину рецензии. Плюнул на работу и вернулся к письму. «Ты где?» — написал я.
К полудню ответа так и не пришло. Несколько недель назад я то и дело случайно встречался с этой женщиной. Тогда она присылала мне списки книг, достойных, по ее мнению, того, чтобы написать на них рецензии. Она явно шерстила все доступные книжные каталоги и просто выбирала из них подходящих авторов. Такой халтурный метод работы как-то не вязался с образом ученого-отшельника. Постепенно мы стали обмениваться электронными письмами регулярно и часто.
По-прежнему ни ответа, ни привета. Я ждал. Что со мной такое? Может быть, мне не хватает работы? Нет, корректуры, с которыми нужно было работать, накапливались; названивали писатели, обеспокоенные судьбой своих рецензий, к работе над недельными страницами я едва приступил. Мне казалось, что я медленно схожу с ума. Пришло новое сообщение. На нем было ее имя. Кликнул по нему.
«Только что, глядя на экран, я услышала твой голос. Ты, может быть, удивишься, но сегодня ночью я видела тебя во сне, хоть мы так давно не встречались. Мне приснилось, что ты мелькнул где-то рядом, но когда я подняла глаза, тебя уже не было. Где ты прятался?
Я совершенно запуталась… Мне нужно было поработать, и я только сейчас освободилась, не успела ни одеться как следует, ни поесть. Похоже, сейчас день… Надеюсь, у тебя все хорошо.
Целую, Сильвия».
В воображении зазвучал знакомый хрипловатый голос, как всегда, немного официальный и с едва заметным акцентом, мне ужасно захотелось услышать ее голос на самом деле, увидеть ее бледное простое лицо. Вдруг вспыхнуло страстное желание встретиться с ней, хотя я и сам не понимал, с какой целью.
С одного из соседних рабочих столов раздался смех, несколько голосов его поддержали. Зазвонил мой телефон. Я не стал снимать трубку, пусть поработает моя голосовая почта.
Нашел номер ее телефона и торопливым движением набрал. Посмотрел на целый ворох писем и пресс-релизов, которые пришли с сегодняшней почтой. Я не мог представить, что в оставшееся время найду в себе силы нормально работать, если сперва не увижу ее. У меня возникло такое чувство, что мне во что бы то ни стало нужно удовлетворить эту странную потребность, очень похожую на сильнейшее любопытство. Я твердой рукой прижимал к уху трубку, каждый гудок, прерываемый гремящей паузой, затягивавшейся на минуты, был испытанием на прочность моих нервов. Я напомнил себе, что могу бросить трубку в любую минуту.
Она ответила.
— Привет, это Ричард Ферон. Привет. Слушай, не хочешь со мной позавтракать? — сбивчиво затараторил я. Потом кашлянул, со стороны я, наверное, выглядел полным идиотом.
Она помолчала немного.
— А не слишком ли поздно для завтрака?
— А я еще не завтракал. И ты написала, что сама ничего не ела. Если ты сейчас придешь, мы могли бы вместе позавтракать.
— Я не могу, — ответила она.
— Почему?
— Мне нельзя, тут кое-кто…
— Но почему?
Она замолчала.
— Мы же с тобой никогда нормально не разговариваем, — сказал я. — Общаемся только по электронке. Это уже становится смешным.
— Правда? — быстро спросила она.
— Мне так кажется.
— Ну, вообще-то я могу зайти ненадолго. Но у меня много работы.
— Пишешь отзывы?
— Я не… в общем, да, — смутилась она.
— Для кого? — удивился я. — Для кого-то другого?
— Понимаешь…
— Вот гады!
Она засмеялась.
— Они не имеют права. Пиши для меня.
— Я очень занята, — повторила она.
— Занята? — вскричал я. — Это же я тебя открыл, забыла? Прояви благодарность! За сколько ты сюда доберешься? — спросил я, не спуская паров. — Пятнадцать минут хватит?
— Двадцать, — сказала она.
Двадцать минут. Я посмотрел на часы в уголке компьютерного монитора. Было уже без четверти два, а я еще практически ничего не сделал. Принялся за работу с пугающей энергией, просмотрел почти всю почту.
Встретились мы все в том же кафе ниже по улице, там, где никто не станет обращать на нее внимания. Она сидела, зажатая между другими, безмятежно улыбаясь, и была практически незаметна. Я уже успел забыть ее сущность, ее внешний образ. Даже немного смутился. Ее волосы были аккуратно и туго зачесаны назад в хвостик. От этого ее прямой нос стал казаться самой заметной частью лица. Хотя ротик у нее сексуальный, неожиданно подумал я. Раньше я никогда не обращал на это внимания, потому что она не красила губы, как другие женщины. Ужасно соблазнительный ротик, свет лишь подчеркивал его бледно-малиновые контуры.
— Я сегодня подумал… вспомнил стихотворение Неруды, — сказал я. — «Когда по улицам идешь…»
— …te reconoce, — подхватила она. — Nadie ve tu corona de cristal…
— Черт возьми! — изумился я.
Она посмотрела на людей, толкущихся вокруг нас.
Даже в такое время в клубе было очень людно и накурено. Мы заняли последние свободные места на длиннющей старой церковной скамье со спинкой. Другие сидели на ней же, но за отдельными столиками. Ее локоть касался куртки того, кто сидел рядом с ней с другой стороны. Время от времени ее подталкивали в моем направлении, и, несмотря на запахи вина, дыма и жареной еды, я чувствовал ее собственный аромат.
Ну же, поговори со мной, думал я, вспоминая ее письма, вроде бы несерьезные, но в то же время формальные, как будто она жила мыслями в давно минувших временах.
Мужчина, сидевший по другую сторону от нее, двинул рукой, снова подтолкнув ее, отчего локоть Сильвии прижался к моей руке. По моему телу волной прошла дрожь. Она уже сидела совсем рядом со мной, и теперь я совершенно четко различал ее запах, который, похоже, шел от ее шеи, млел от ее голоса и думал лишь об одном: снова почувствовать ее прикосновение. Прикоснись! — мысленно взмолился я, удивляясь самому себе. Мужчина двинулся, отчего она тоже шевельнулась, и в ответ мое тело затрепетало.
— Я не знаю, как вести себя в окружении таких людей, — бесстрастно сказала она.
— Не знаешь? — переспросил я.
— Их прически. Язык… даже то, как они произносят слова. Вся их жизнь полностью лежит за пределами… моего понимания.
— Идиоты, — коротко сказал я.
— Ты знаешь, как вести себя с ними. Ты знаешь, как вести себя с кем угодно.
У меня появилось ощущение, что по моему телу постепенно разливается тепло, словно вино просочилось во все чувства, хотя я не выпил еще ни капли. Мы разговаривали, мне было легко на душе, я мог говорить что угодно и какими угодно словами, мог проводить любые параллели и не бояться, что буду не понят.
— Плачут ли они по ночам? — говорила она. — Когда я встречаю кого-нибудь, у кого жизнь построена правильно, не так, как у меня, я задаюсь вопросом: а плачут ли они по ночам?
Мне казалось, что моя рука рассекает воду, оставляя за собой пенистый след, Восхитительное ощущение сладчайшего возбуждения накрыло меня с головой.
— А ты плачешь?
В ответ она улыбнулась. А я улыбнулся ей.
Но я не позволил своим чувствам выплеснуться наружу. Мы просто сидели рядом и разговаривали, прерывая друг друга. Я долгое время держал себя в руках, но потом по моим нервным окончаниям прошла волна электрических импульсов, сперва по плечу, потом по грудной клетке. Я приблизил лицо к ее волосам, чтобы ощутить ее восхитительный запах. Незаметно втянул носом воздух, пропитанный дымом.
Сидящий рядом с ней мужчина развернулся на пол-оборота, чтобы позвать официанта. Его движение передалось ей, отчего она на мгновение потеряла равновесие и скользнула рукой по моему бедру. Тут же тело покрылось мурашками. Она отдернула руку. На лице появилось выражение, которое трудно было понять. Снова на ум пришло все то же стихотворение. «Есть более достойные, чем ты. Есть более красивые… когда являешься, звенят все реки в теле моем». Было уже двадцать пять минут пятого. Мне этого не хотелось, но нужно было уходить. Ни она, ни я ничего не сказали. Поерзав на месте с полминуты, я поднялся. Мы коротко попрощались, и она растворилась в Клеркенуелл-роуд, с лицом неподвижным, как у беломраморной статуи.
Когда я вернулся домой, наша квартира сияла. Лелия сказала, что все убрала, из духовки доносился запах чего-то горячего, мучного, что было непривычно, потому что она редко сама готовила. В квартире было натоплено от души, как будто она весь день держала отопление на максимуме; горели все лампы, каждая светящаяся точка отбрасывала яркий круг на деревянную поверхность. Создавалось впечатление, что мы живем в старом домике, смастеренном на ветках дерева, который мерно покачивается себе над Мекленбур-сквер: здесь тесно, зато пахнет деревом. Она сидела, скрючившись, на куче подушек прямо на полу и, глядя на экран монитора, покусывала себе ногти. Волосы у нее были гладко причесаны, но такой красивой я ее еще не видел. Я рассматривал ее в ярком свете ламп, как будто увидел заново, такое происходило со мной каждые несколько недель. Больше всего меня удивляла идеальная правильность ее черт, несомненно прекрасных.
Увидев меня, она улыбнулась. Выражение «Мадонны в скалах» уже исчезло с ее лица.
Струи дождя колотили по окну, на улице с металлическим звуком упало что-то тяжелое. Недавно проклюнувшееся солнце снова спряталось в зимнюю берлогу. Я посмотрел в окно на изменчивую непроглядную синь. Мне было радостно. Не я один понимал красоту чахлой зимы. Кто? По окну хлестнул дождь. Сильвия. На длинных занавесках понизу собралась полоска пыли.
Вдруг любовь к Лелии накатила на меня с неведомой раньше силой, да так, что мне захотелось взвыть, закричать: «Никогда не бросай меня, я твой единственный, выходи за меня».
— Выходи за меня, — сказал я, но голос захлебнулся волнением, и слова, которые пришлись на секундное затишье между порывами ветра, прозвучали как-то скомканно. Хочу ли я этого? — мгновенно возникла мысль. Неужели я этого действительно хочу?
— Ты серьезно? — спросила она, повернувшись ко мне. Она пожирала меня глазами, своими большими азиатскими глазами. Я утонул в их бездонной коричневой глубине.
— Да, — подтвердил я.
— Ты правда этого хочешь? — Один уголок ее рта нервно дернулся. Похоже, она колебалась.
— Ну конечно же, конечно. Я всегда этого хотел. Каждый раз, когда мы произносили это. Но теперь я хочу это сделать прямо сейчас. Сколько можно тянуть кота за хвост? Давай поженимся сейчас.
— Сейчас?
— Да.
— А разве для этого не надо заранее записываться? То есть ты предлагаешь выйти на улицу, найти свидетелей? Так, что ли? Но я хочу, чтобы при этом мама присутствовала.
— Хорошо, хорошо. Тогда на следующей неделе. Завтра.
— Я согласна, согласна, но к чему такая спешка? Не из-за этого? Точно?
— Нет, что ты, — нетерпеливо сказал я, сжимая ее руку, которую она положила себе на живот. За окном бесился ветер, то и дело просачиваясь в комнату отдельными струйками. — Просто я хочу. Мне и этого вполне достаточно. Мне вдруг ужасно захотелось как-то выразить свою любовь к тебе, Лелия Гуха. — Я сел рядом и взял ее за плечо, довольно резко. — Валяя дурака, мы лишних пятнадцати штук не заработаем, а мне действительно до чертиков хочется на тебе жениться. Назови хотя бы дату. Просто назови дату.
Она снова заколебалась. Я обиженно нахмурился.
— Двадцать шестого июня, — сказала она.
— Почему аж в июне? Почему так не скоро?
— Это же… А ты не помнишь?
Мысли завертелись, я напряг память. Это был один из этих невозможных тестов, которые устраивала мне Лелия и которые вечно заставали меня врасплох.
— Э-э-э… — протянул я.
— День рождения папы, — сказала она.
— Ах да, точно! — воскликнул я. Ее губы немного напряглись. Она посмотрела в сторону. Теперь в любую секунду можно было ожидать появления «Мадонны в скалах». Я не стал об этом задумываться. — Так ты хочешь этого?
— Да, хочу.
— Тогда мы обязательно сделаем это. Согласна ли ты стать моей женой двадцать шестого июня?
— Да.
Я выразительно посмотрел на нее, выжидательно подняв бровь.
— Согласен ли ты взять меня в жены? — спросила она.
— Да, — сказал я, притянул ее к себе и поцеловал.
Мы поужинали чабаттой, которую она разогрела в духовке, нашли в холодильнике несколько кусочков сыра, хумус[27] с истекшим два дня назад сроком годности и какие-то ужасные вегетарианские сосиски, потом после пробежки из холодной ванны нырнули под одеяло, побросав халаты прямо на кровать.
— Я все думаю, — сказала она.
— О чем, любовь моя? — буркнул я, пытаясь, пока не нагрелась постель, надышать теплым воздухом под одеялом.
Она прижалась ко мне спиной.
— У меня из головы не выходит один образ, — прошептала она в одеяло, так что я с трудом разобрал ее слова.
За окном с жалобным криком пронеслась чайка. Кто это говорил о чайках в Блумсбери? Попытался вспомнить, но решил не напрягаться. Погладил Лелию по бедру. Она вся задрожала и вдруг, совершенно неожиданно, повернулась ко мне лицом. Я думал, она в моих объятиях засыпает. Я погладил ее по спине через ночную рубашку.
— По коже, — попросила она.
Я запустил руку под легкую ткань и прошелся пальцами по лопатке. Кожа была горячей. Моя рука двинулась ниже вдоль спины. Она, немного приподнявшись на бедре, подалась ко мне.
— Вот этот образ, — она придвинулась еще ближе, так что ее груди прижались ко мне. — Два тела, плотно прижатых друг к другу.
Я губами взялся за ее мочку.
— М-м-м, — промычал я.
Ее жаркое дыхание обжигало мне шею.
— Вот… — неопределенно буркнула она и щелкнула меня по соску.
— Так расскажи мне, — шепнул я, целуя ее в грудь. Дыхание Лелии начинало меняться.
— Я постоянно представляю себе прижатые друг к другу тела, — произнесла она. — Не наши.
Я крепче обхватил ее руками и приник губами к шее.
— Может быть, это я, только намного моложе.
— Изменщица, — ласково укорил ее я.
— Двое… почти дети. Рядом.
— Что?
— Ричард, — позвала она, и я услышал, как у нее во рту хлюпнула слюна. Дыхание ее опять стало другим. Она легла на спину и призывно посмотрела на меня. — Прижмись ко мне, — еле слышно выдохнула она и тихо застонала, когда моя рука стала опускаться ниже. Теперь я гладил ее быстрее, но мягче.
— Так ты, Лелия Гуха, оказывается, любитель клубнички.
Она прыснула и прижалась ртом к моей шее. Она была возбуждена, ее тело источало жар и запах. Ее желание каким-то образом подчиняло меня.
— Что самое развратное ты делал в своей жизни? — произнесла она, ее слова веселым ручейком влились мне в самое ухо. — Кроме того, о чем ты мне рассказывал.
— Господи! — сказал я, чувствуя, как она сжала пальцами мою ягодицу. Я уже почти не шевелился. — Не знаю. Секс втроем?
— Наверняка было что-то покруче, — предположила она.
Я повернулся на живот. Воспоминание о бледном гордом видении, прижавшемся к моей руке, вспыхнув в мозгу, перетекло в чресла. Издав невольный стон, я взял Лелию за бедро. Прогнал воспоминание, но оно вернулось, взбаламутив остальные мысли. Несколько долгих секунд я обдумывал его, потом опять отделался от него. Открыл глаза, посмотрел на Лелию, увидел ее темные глаза и вычеркнул из памяти призрак.
— Так-то лучше, — проворковала Лелия и придвинулась ко мне. — Сильнее, — велела она. Я впился в ее кожу зубами, она вскрикнула. — Больно, — пожаловалась она, и голос у нее был грудной, томный.
— Такой я тебя никогда не видел, — сказал я.
Не глядя на меня, она улыбнулась, прошептала что-то так тихо, что я не смог разобрать слов.
Я положил согнутую в колене ногу на ее бедра.
— Да, — быстро, на выдохе согласилась она.
Я лизнул плечо в том месте, где укусил. Она резко выдохнула. Фантом задрожал.
Ее губы дрогнули и устремились навстречу моим, она приняла меня, наши тела переплелись, мы обнимались и ласкали друг друга лихорадочно, вскрикивая, и в первый раз в жизни мы достигли оргазма одновременно.
Утром в компьютере я обнаружил очередное электронное письмо с отрывком из романа. Я уже стал к этому привыкать.
«В доме у нас был свой уголок. Рядом с погребом был маленький дворик, где рос мох и плодились улитки и где мы копошились в зарослях светло-зеленого папоротника, который рос на кучах сажи. Там мы и играли, и строили планы. Мы становились одним человеком, лишь когда бывали в доме, в гардеробной.
Я очень старалась быть хорошей. Пыталась проявить силу воли, но моя «неправильность» брала свое, я отказывалась от еды, пока голод не начинал реветь во мне с такой силой, что становилось страшно.
Пока новый ребенок подобно опухоли рос внутри живота, я поняла, что пришло время воплотить в жизнь планы, которые бурлили у меня в голове. Однажды в гардеробной мы задумались о размерах грудной клетки младенца».
Мне кажется, на какое-то время я понял, кто шлет мне эти отрывки. Но я отнюдь не хотел этого. Под защитой добровольного неведения я бегло просматривал их, не в силах отделаться от чувства, что оказался в роли преследуемой жертвы, после чего удалял их из памяти компьютера и, в меньшей степени, из своей. Но чем больше я думал о Сильвии, тем больше мне хотелось читать ее странные фантазии. Я прочитал и удалил последний отрывок. Было без четверти девять.
На работу пошел не напрямую, а сделал крюк через небольшой парк, спрятанный в дальнем конце Мекленбур-сквер. Я вышел довольно рано, что в последнее время со мной происходило часто, и, прогуливаясь в этом потаенном уголке природы по извилистой дорожке, петляющей между теплиц и старых могил, осознал, что на самом-то деле шел не на работу. Я неторопливо прошел к дальним воротам, хрустя по обледеневшим пучкам травы, подталкиваемый туманными побуждениями. Последний раз я видел ее на Марчмонт-стрит, когда она свернула за угол по направлению к Тависток-сквер, я не знал точно, где она жила. У секретаря, скорее всего, есть ее адрес, но я не помню, чтобы когда-нибудь спрашивал ее об этом, и в любом случае я не стал бы околачиваться на ее улице в надежде на встречу. Но мне ничто не мешало просто бродить по промерзшему парку, мимо грузовых машин и удовлетворять свое неоформившееся побуждение.
Марчмонт-стрит еще не проснулась, только газетный киоск, узкий, с провисшим потолком, как картонный домик, источал желтый свет. Я подошел, купил жвачку. Небо хмурилось, я подумал, пойдет ли снег. Естественно, ее я не встретил, никакая тень, закутанная в макинтош, не подошла к киоску купить газету. Поколебавшись, повернул в сторону Тависток-сквер. Мимо проезжали такси. Почти ни в одном окне, выходящем на площадь, не горел свет.
Я должен был остановиться. Я обязан был остановиться прямо сейчас. С выпрыгивающим из груди сердцем я повернулся и бросился назад, пробежал по Грейз-инн-роуд и, запыхавшийся и надышавшийся морозным воздухом, прибыл на работу.
— МакДара, — я схватил телефонную трубку. — Расскажи, расскажи, что происходит!
— Ты почему так тяжело дышишь?
— Что происходит? — говорил я, пытаясь успокоить дыхание. — С тобой?
— Ты имеешь в виду… Ты же знаешь, я не могу говорить, — сказал он, понизив голос.
— Я… я… — попытался что-то объяснить я, но понял, что мне нечего сказать.
Мне нужно было увидеться с ней. Еще один раз. Чтобы покончить с этим раз и навсегда. И это нужно было сделать сегодня. Работал я урывками, в перерывах, чтобы скоротать время, которого у меня не было, размышлял о своем плане, мерил шагами офис, позвонил нескольким своим журналистам, вместо того чтобы, как обычно, послать им письмо по электронной почте. Заместитель редактора давил на меня, чтобы я нашел какого-нибудь известного писателя, у которого можно было взять интервью, поэтому мне нужно было сделать еще несколько звонков.
В двенадцать двадцать пять я вдруг совершенно отчетливо почувствовал, что, если сейчас, именно сейчас, выйду на обеденный перерыв и двинусь на запад по направлению к Блумсбери, я обязательно встречу ее. Это озарение явилось мне в форме нехорошего предчувствия. Я встал, ощущение безумия, как песок, просеялось через мозг, когда я схватил ключи и бумажник, позабыв о куртке. Я замешкался, толкнул ногой свое кресло так, что оно отъехало к столу.
Терять было нечего.
— Нужно встретиться с писателем, — сказал я редактору книжного раздела, на что он понимающе кивнул. — Надо прийти пораньше, — добавил я, и он посмотрел на меня внимательнее.
От жара стискивало грудь.
Порыв холодного воздуха на улице остудил меня. Мороз резанул по телу прямо через пиджак, я засунул руки в карманы, понимая, что не буду, как дурак, возвращаться за курткой. Воздух впивался в легкие, а я в облаке пара вприпрыжку бежал по Теобальд-стрит на запад, пока не достиг Брансуик-сквер. Мимо проходили люди, ледяной воздух делал их фигуры особенно отчетливыми. Я был уже в Блумсбери, но ее пока не встретил. Недоуменно посмотрел по сторонам.
Перебежал на другую сторону улицы и, перепрыгивая через три ступеньки, поднялся по лестнице «Брансуик-центра». Может быть, она в фойе кинотеатра? Я мог выманить ее в китайский ресторанчик напротив, из которого на улицу шло тепло (о, теплота!) и запах чего-то горячего и соленого, от которого сводило живот. Там мы могли бы поговорить. А где сейчас Лелия? Что, если она решила сходить за покупками в «Сейфуэй»? У нас дома вообще есть какая-нибудь еда? Пока шел, попытался напрячь мозги, но они, похоже, совершенно промерзли, я смог только представить себе пустой холодильник с коркой льда на морозильнике, прямо какой-то символический образ из фильма для детей. О Лелия. Ох-охо.
Мой недавно появившийся внутренний психорадар вроде бы уловил какие-то дрожащие волны, я ощутил приступ тошноты, когда меня ошарашило очередной твердой уверенностью: я ее наверняка встречу, если пойду на Марчмонт-стрит. Туда я и поспешил нетвердой походкой — ноги уже задеревенели от холода. На улице было людно и грязно, наперебой сигналили машины. Сильвии Лавинь там не было. Я побежал обратно, влетел в кафе, где мой промерзший насквозь пиджак обволокло теплом, хотя в легких все еще чувствовался лед. Черт побери, подумал я. Я же был уверен, что встречу ее, как только выйду из офиса. И не встретил! Но я же был уверен. Нет, для этого нужен другой глагол, раздраженно подумал я и представил себе комиссию этимологов. В памяти всплыло имя С. Т. Онионс, оно приходило мне на ум всякий раз, когда я думал о словарях. Имя редактора старого толстого «Краткого оксфордского словаря» въелось мне в память, еще когда я корпел над ним во время учебы в школе, и теперь ассоциировалось с самим словом «словарь». Это был один из тех маленьких раздражающих пунктиков, предвестников безумия, которые постоянно роились у меня в голове.
Я стоял в окружении дешевой сосновой мебели и железных чайников и крутил в кармане мобильник, меня распирало от негодования и собственной тупости. Но я должен был сделать это. Должен был довести дело до конца.
Достал обжигающе холодный кусок металла. Набрал номер, который сохранил в памяти, когда она прислала мне первую эсэмэску.
— Привет, — сказал я, когда она ответила, и, как только я услышал ее голос, на душе у меня потеплело. — Мы можем увидеться?
— Конечно, — ответила она.
В теплом кафе я забыл о «Сейфуэй». Втянул голову в плечи, чтобы, не дай Бог, не быть случайно замеченным, дрожащий человечишка в грязной забегаловке. Ждал.
Сильвия пришла с шарфом на шее, в своем макинтоше, который на этот раз был перевязан на талии поясом, и выглядела очень по-европейски, тени под глазами и бледность кожи делали ее похожей на худенькую француженку времен войны.
— Давай пройдемся, — предложил я и взял ее за руку. Мы молча отправились на Брансуик-сквер, где высокие конские каштаны щерились голыми ветками, голая земля была вся в окурках и молодые матери в окружении мужчин, потягивающих пиво «Спэшиал Бру», безмятежно толкали перед собой коляски.
— Джейн Остин считала, что здесь особенный воздух, — заметила она.
— На Брансуик-сквер?
Над нами, мигая огнями, пересек небо самолет. Потом мне часто вспоминался этот самолет, который выбрал именно тот момент, чтобы низко пролететь над нашими головами в начинающем сереть небе.
— Наверное, снег пойдет, — предположила она, когда мы остановились на дорожке у одного из каштанов.
— Да, — согласился я, осматриваясь по сторонам. — Наверное.
Дерево вздымалось над нами, как башня. Я нагнулся; мне было так холодно, что казалось, будто кровь превращается в лед, будто я в Арктике, мое тело коченеет и я умираю; и мои губы, две ледышки, встретились с ее горячими устами и растаяли. Время остановилось и рассыпалось на отдельные краткие секунды. Ее губы чуть-чуть шевельнулись, едва заметное напряженное движение — и в следующую секунду она отвернулась. Чувство унижения захлестнуло меня. Кожа на шее загорелась от детского ощущения ущемленного самолюбия.
— Я… — раздался голос у меня за спиной.
Обернувшись, я увидел Катрин, которая стояла на дорожке совсем рядом с нами. Смутившись, я вспомнил, что она работает на Кингс-кросс. На ее лице застыло ужасное выражение, которое как будто говорило «не может быть».
— Я… — повторила она. Я заметил, что у нее вспыхнули щеки, когда она отвернулась от нас и пошла своей дорогой. У меня сжался желудок, и снова подступила тошнота. После этого наступило странное состояние, мне начало казаться, что я вообще ничего не чувствую.
10 Ричард
В дом я вбежал. Перепрыгивая через две-три ступеньки, взлетел по лестнице к нашей квартире, вогнал ключ в замочную скважину, замок открылся со щелчком. Мыслей не было. Лелии дома не оказалось. Плеснул себе кофе. Если я буду суетиться; если открою кран так, что вода, обдав меня брызгами, с гулом хлынет в чайник, который задрожит под напором; если буду действовать механически и быстро, это будет означать, что моя жизнь осталась нормальной. Вскрывая бумажный пакет, я порезал палец. Краткий миг боли вселил надежду. Я достал из пакета луковицу, потом приложил к отошедшему лоскутку кожи, который шевельнулся под лезвием. Не произнося ни звука, полоснул ножом. Небо за окном светилось темно-синим. Был обычный день. Нахлынуло чувство облегчения: ширма нормальности оттенила значимость того, что я совершил. И происшествие из повседневной жизни показалось чем-то величественным. Что было не так с моей жизнью до всего этого? Ничего. Хотя тогда я этого не знал.
— Я дома, — раздался ее голос. Щелчок замка, эхо захлопывающейся двери. Внутри нее ребенок. Меня словно обдало холодной водой.
— Что случилось? — спросила она, улыбка сползла у нее с лица.
Как я мог? Как я мог? Я застрял, попал в ловушку в тот самый заснеженный сумбурный миг, когда покусился на недозволенное. Нет, нет, нет. Мне захотелось взвыть. Ощущения, появившиеся у меня, когда я ее увидел, были совсем не такими, как я предполагал, намного больнее. Я опорочил наши отношения. Идеальная конструкция была разрушена, как это случалось в ночных кошмарах, когда, совершив измену во сне, я резко просыпался, возбужденный, но с чувством облегчения, оттого что в эти моменты всегда видел рядом с собой ее. Я оставался верен ей, она мне, и мы вдвоем лежали в своем хлопковом гнездышке под теплым одеялом. И она была беременна.
До того дня я не понимал, чем для меня был дом. Что вообще включает в себя понятие «дом»? Когда-то это было здание в Корнуолле, белые с узором из роз и пятнами от грязных пальцев обои на кремовых деревянных стенах спальни, отдельные уголки двора, деревянные панели на старых стенах, овраг, речка, росистая трава, и в конце пути — море, до которого можно было добраться, если пройти через обжигающую крапиву и сосновый лесок, набрав при этом полные сандалии песка. Но сейчас, в этот миг, домом была Лелия, стоящая передо мной в дверях комнаты, обшитой деревом.
Я закашлял. Попробовал улыбнуться, но губы замерли, так и не растянувшись в улыбку.
— Что случилось? — повторила она и подошла ко мне.
Я обнял ее, уткнулся носом в волосы. Само прикосновение к ней было актом предательства.
Под веками забрезжил образ Сильвии.
Но ведь это даже не было поцелуем. Мои губы прикоснулись к ее губам лишь на какую-то мизерную долю секунды. Разве это считается поцелуем? Наверное, нет. Господи, пожалуй, все-таки не считается. Знакомый запах Лелии окружил меня, как эфир, притупляя чувство вины. Возможно, по меркам, на которые согласились Всевышний и люди, этот грех был таким незначительным, что его можно было не принимать в расчет.
Но вмешалась Катрин.
Я пошел в туалет, уселся на унитаз и уткнул лицо в ладони, меня снова тошнило. Тут я вспомнил, что Лелия так себя чувствует каждый день.
— Милая моя, — пробормотал я.
Ночью зазвонил телефон. Сердце так дернулось и забилось с такой силой, что я испугался, не случится ли у меня сердечный приступ. Я вскочил с кровати, слегка сбитый с толку спросонья, неуклюже сбежал вниз по лестнице.
— Извини, что так поздно, — раздался в трубке голос МакДары.
— Сука! — вырвалось у меня, я одновременно почувствовал и облегчение, и раздражение.
— Ты чего? — удивился МакДара.
— Ты меня разбудил.
— Извини.
— Ты где? — спросил я, возвращаясь в сонное состояние.
— Дома. Внизу, — прошептал он.
Дома, подумал я. МакДара, Катрин. Сердце снова гулко забило в грудину. Мне захотелось до того, как он начнет изливать мне душу, швырнуть телефонную трубку на рычаги.
Мы помолчали.
— Она не выходит на связь. Просто-напросто исчезла, — пробормотал в трубку МакДара.
— Что? — не понял я, мои мысли в полусонном состоянии разъезжались в разные стороны. — Кто? — вяло поинтересовался я. — А, ты имеешь в виду…
— Три дня. Ни слова. Я и звонил, и по электронной почте писал несколько раз, ни ответа ни привета.
— Ты же не должен был, — заплетающимся языком пробормотал я; сердце уже начинало успокаиваться.
— Да, но все равно. Понимаешь, она просто игнорирует меня. Ничего похожего раньше не было.
— Три дня, МакДара.
— Ты же знаешь, каково это.
— Лучше ложись спать, — посоветовал я и представил, как он поднимается по лестнице, обитой густым мягким ковровым покрытием, за которое выложил немалые деньги, в комнату, где на кровати возлежит Катрин, как чудище в своей берлоге, и решает, как поступить с моей судьбой.
— Есть еще кое-что, — сказал он.
Снова сердце сжалось.
— Мы ни о чем не договаривались, но как бы решили, что сделаем это, — сказал МакДара. — По полной программе. Мы уже вели подготовку.
— Серьезно?
— Я уже не мог терпеть возбуждения. Мне на работе приходилось уходить в душ. А тут она пропала!
— Ложись спать, — спокойно повторил я. — Не переживай. Поговорим завтра.
Он положил трубку. Я подумал, не стоит ли постоять и подождать, пока он перезвонит, когда узнает новости про меня.
Я лег в кровать с мыслью о том, что, наверное, уже скоро рассвет и заснуть мне никак не удастся. Последующие часы были заполнены отрывочными энергичными калькуляциями. Стальной корпус холодного расчета вероятности распарывался айсбергом ужасных сценариев развития событий с Лелией, Сильвией, МакДарой и Катрин в главных ролях, со случайными встречами, телефонными звонками и выкидышем.
Я никогда не был образцом верности с тем небольшим количеством девушек, которые у меня были до Лелии. В результате мое чувство вины варьировалось от легкого волнения до полного отсутствия, сопровождаемого спорадическими всплесками гордости за свое поведение. Но с Лелией все обстояло иначе. Здесь целью было прожить долгую и счастливую жизнь вместе с ней. Мы часто всматривались с напускной серьезностью друг другу в глаза и обманчиво-обыденным тоном, призванным замаскировать топорно выстроенные ловушки, задавали вопросы о верности и измене:
— А в тот раз, когда ты встречалась с Джо… Ну, когда вы обнимались-целовались…
— Я с ним не целовалась!
— Не целовалась? Серьезно?
— Да! Честно, я тебе клянусь.
— Но мы же тогда только познакомились, Я точно помню, ты говорила, что он тебе нравился, или что-то в этом роде.
— Нет!
Нам казалось, что, если пристально глядеть друг другу в глаза, обязательно можно заметить сигналы, указывающие на неверность, но все эти попытки неизменно заканчивались смехом и возобновлением обычных доверительных отношений. Существовали определенные правила — поцелуи шли в счет. Мысли о возможных в будущем временных увлечениях на стороне не отрицались, смаковались, после чего подавлялись. Любые желания, способные привести к более или менее серьезным и длительным последствиям, обсуждались, дабы избежать их возможного развития.
На легкое прикосновение к чужим губам, очевидно, можно было закрыть глаза; но я-то хотел поцеловать Сильвию Лавинь по-настоящему, а раз было намерение, значит, есть и вина. Меня передернуло. Жгучий стыд проложил дорожку чувству вины, он вонзал в меня свое жало всякий раз, когда на ум приходила мысль о том, что я открыл свои потаенные чувства этой мышке и в ответ получил отказ.
Я вдохнул дыхание Лелии. Горячее, густое, сонное. Всмотрелся в ее мирное лицо и ощутил привкус ночного кошмара.
Катрин. Если бы не она, я мог выйти сухим из воды. Можно было потерзаться угрызениями совести и посчитать этот эпизод суровым предостережением, как удар током. Но Катрин все видела, видела, как я, в одном пиджаке, несмотря на мороз, наклонялся к лицу Сильвии, чтобы прижать свои губы к ее губам. Вот блин! Черт! Проклятая Катрин. Бывшая алкоголичка с мягким уэльским выговором, бледным лицом и черствой душой, в руках которой теперь находился ключ к отчаянию. Она мне всегда нравилась. Но имя ее я терпеть не мог. Катрин. Что за отвратительный анахронизм?! Раньше я ненавидел ее имя, теперь — ее саму.
Наверное, меня сморил крепкий, но краткий сон, потому что я вдруг увидел на своей подушке пятнышко слюны и несмелый свет, пробивающийся через окна в комнату. Я подскочил, вдруг осознав, что Лелия уже встала.
— Лелия! — в отчаянии закричал я, но оказалось, что она стоит у лестницы.
— Что, плохая ночь была? — спросила она, я кивнул, и она протянула мне руки.
В моем кабинете царила тишина, как будто в преддверии какого-то важного события. Я молча походил по комнате, чтобы отвлечься. Нужно было спасаться бегством в офис. Лелия собиралась поработать с курсовой дома, а Катрин могла позвонить в любой момент в течение ближайших нескольких часов. Что еще хуже, у Лелии намечалась пара свободных дней в связи с коллективной забастовкой. Я надеялся, что она проведет это время в интернет-магазинах и библиотеке, но стопроцентной уверенности в этом не было. У меня возникло желание не отходить от телефона, чтобы не дать Лелии подойти к нему. Я даже бросал на него косые взгляды, подумывая, не снять ли его вообще со стены, пока она не видит, руки так и тянулись это сделать.
Пока я работал в офисе, меня не покидало чувство пустоты, и никто не пытался связаться со мной: Сильвия Лавинь молчала, как я и предполагал (что было для меня ужасным унижением), Катрин, судя по всему, еще ни с кем не поделилась, не звонила и Лелия. Только МакДара слал по электронке письмо за письмом о своей пропавшей женщине. На его письма я не отвечал до тех пор, пока он наконец с чисто макдаровским упорством не прислал мне очередное электронное письмо, набранное гигантскими буквами, в котором требовал ответа. Я послал осторожный и мрачный ответ затаившегося преступника, ожидающего неминуемой расплаты за свои грехи.
День был серо-белым, я сидел и ждал.
Позвонил Лелии, в животе вдруг появилось ощущение какой-то легкости и слабости, и Лелия была просто Лелией, смешной, рассерженной на меня за то, что я до сих пор не покрасил буфет. Я машинально выводил на бумаге каракули, пока прикидывал в уме, как бы сообщить ей о своей попытке поцеловать Сильвию до того, как это сделает Катрин, но любое объяснение, которое приходило в голову, казалось глупым и неестественным. День продолжился бессобытийно. Мне нужно было подготовить к набору несколько страниц, но даже неумолимо приближающийся конечный срок сдачи работы не мог отвлечь меня от мыслей, несмотря на давление сверху. Опьяненный тем, что ни одно из доказательств против меня до сих пор не всплыло на поверхность, я уже начал радоваться этому затишью, стал молиться, чтобы оно продолжалось и дальше.
Вспомнил Сильвию, как она шла по Брансуик-сквер, и во мне зашевелился червь вожделения. Я тихо застонал и уронил голову на руки. Попытался заставить себя вспомнить, каким скучным человеком она была, ее совершенно невыразительное лицо, но она больше не казалась мне скучной.
Снег так и не пошел. Когда я вернулся домой, небо было по-прежнему свинцовым, угрюмым, на следующее утро похолодало еще больше. И опять ничего не происходило. Лелия отправилась в университет, я остался работать дома. Время от времени во мне просыпалась непрошеная похоть, приходилось силой заставлять свои мысли переключаться на что-то другое.
Наступил конец недели. Я открыл книжный раздел «Санди Таймс» и под одной короткой рецензией увидел инициалы С. Л. Взгляд метнулся к концу страницы, где перечислялись имена авторов материалов номера. Среди прочих фамилий значилась Сильвия Лавинь. Я не смог сдержать восклицания. Лелия оторвалась от своей газеты и посмотрела на меня, но ничего не сказала. Сильвия Лавинь. Как она посмела? Как, черт возьми, они посмели? Почти все то же самое слышал раньше от нее и я, но рассчитывал, что она будет писать для небольших университетских изданий, а не для центральных газет. Это же я открыл ее, благодаря моей проницательности это совершенно неопытное «пустое место» выбилось из небытия. Что она могла предъявить кроме того, что написала по моему заказу? От этой мысли мне захотелось взреветь. Сильвия Лавинь, которая никогда в жизни не попадала в издательскую среду и никак не могла обзавестись нужными контактами, каким-то образом просочилась в другую газету. Я очень сильно помог этой неразговорчивой неофитке, а потом умудрился нагадить под самого себя и к тому же при этом отпугнуть ее.
— Ты что? — спросила Лелия.
— А что?
— Ты как-то странно дышишь. — Она снова уставилась в бумаги.
Головная боль погуляла в районе висков и начала всверливаться в лоб. Снега до сих пор не было. Но он вот-вот должен был пойти. Я видел это. «Наверное, снег пойдет», — три дня назад пропищала мышка своим хриплым голоском. Снег задерживался на три дня, может, это затишье перед бурей? Как и молчание Катрин Какая-Там-У-Нее-Уэльская-Фамилия. Мне хотелось, чтобы пошел снег. Хотелось, чтобы позвонила Катрин и все это наконец закончилось. Или чтобы мне сделали лоботомию и я смог остаток жизни прятаться за ширмой скудоумия.
— Ты вообще собираешься красить этот буфет? — поинтересовалась Лелия, подняв бровь и не отрываясь от работы, когда я перелистнул газету на спортивный раздел.
Я попытался скрыть раздраженный вздох. Хлопнул рукой по столу.
— Да, — с напором сказал я.
— Можешь и не делать этого, — сказала Лелия. — Реши наконец, будешь ты это делать или нет, только не тяни резину.
— По-моему, это тебе этот буфет покоя не дает, — бросил я, чувствуя, как внутри закипает злоба.
— Ну так не крась, — ответила она на это. — Пусть эта старая развалина, кишащая древесными червями, которые расползаются на пол, стоит и дальше в своей чудной осыпающейся коричневой краске.
— Хорошо, — резко сказал я. Встал. Скорчил ей рожу. Она в ответ сделала то же самое. Напряжение спало. Я взял со стола несколько газет, чтобы застелить пол, посмотрел на кипу конвертов и счетов, которые лежали под ними. На задней стороне одного из конвертов рукой Лелии было написано «Катрин».
Я обмер. Посмотрел еще раз. Точно, написано «Катрин». Покосился на Лелию. Потом повернулся и вышел из комнаты в кабинет. Стал осматривать этот идиотский старый буфет, которому место на свалке, и почувствовал тошноту. Нужно было с этим письмом разобраться. Я вернулся в большую комнату, сделав вид, что мне нужны еще газеты.
— Катрин, — сказал я, взяв конверт из пачки, мой деланно безразличный голос прозвучал так неестественно, что пришлось прокашляться.
Она промолчала.
Я не отступал.
— М-м-м, — невнятно протянула она.
— Что ей нужно? — спросил я.
— Не знаю, — рассеянно ответила Лелия.
Выждав секунду, я сказал:
— Почему?
— Ну что? — спросила Лелия, недовольно отрываясь от работы. — Не знаю я. Она оставила мне записку, но сама куда-то уехала.
— Откуда ты знаешь?
— Что?
— То, что она уехала.
— Так говорит автоответчик ее голосовой почты. А что?
— Ничего.
Лелия вернулась к чтению.
— Интересно, МакДары тоже нет? — как бы между прочим спросил я.
— Не знаю.
— И на сколько?
— Что?
— На сколько она уехала?
— Понятия не имею.
— Я просто так спрашиваю. Мне… нужно было встретиться с МакДарой. Да Бог с ним. Где старая кисточка?
Я выглянул в окно. Увидел переплетение черных голых веток. Небо было таким тяжелым, неподвижным и серым, что мне захотелось ткнуть в него чем-нибудь, проколоть, чтобы из него повалил снег. Небрежным жестом плеснул на деревянные бока буфета ядовитые химикалии, подспудно надеясь, что жидкость попадет мне на руку и это отвлечет мое внимание, как-то уменьшит напряжение, и сделал глубокий вдох холодного воздуха, распространившегося по комнате через незакрытое окно. Едва закончив работу, я включил компьютер и вошел в сеть.
«Мать со своим огромным животом выглядела нелепо и смешно. Больше всего он был похож на коровий зад. Мне уже хотелось, чтобы все поскорее началось — чтобы она наконец отрыгнула свою любовь к тому, что находилось внутри нее, чтобы осуществилось то, чего я ждала с ужасом.
Нас оставили дома одних. Только няня внизу должна была присматривать за нами, так что мы с Эмилией смогли пойти в маленькую комнату с кремовыми стенами, чтобы тренироваться. Чем мы занимались, вряд ли смогу рассказать. Мы упражнялись в супружестве. Я была джентльменом, который приехал, чтобы забрать ее, она — девицей, конечно же, прекрасной.
Я знала, что значит быть маленькой и незаметной, но она заставила мои щеки загореться огнем, от груди до шеи меня обсыпало пунцовой пудрой. Огненная волна, на которой я неслась, причиняя мучительную боль, вынесла меня к берегам такого наслаждения, что из глаз хлынули слезы. Здесь, наверху, куда я увлекла ее, не хватало воздуха. Мы летели рядом, как чайки сквозь лазоревые арки.
Я отчетливо слышала шуршание одежды. Юбки отслаивались от меня, как обгоревшая кожа. Когда я уже не могла дышать и кровь прилила к глазам, превратив свет в темноту, тело восприняло экстаз, и я вскрикнула. Индианка, следившая за нами, подслушивала».
Утром в спальне царили сияющая тишина и спокойствие. На меня накатило мальчишеское возбуждение. Весь мир окрасился в белый цвет. На ветках непонятно как держались причудливые шапки снега. Машины засыпало по самые окна. Кабинет мой превратился в холодную светлую клетку, которая, впрочем, казалась совершенно незнакомой.
— Боже, какая красота, — произнесла Лелия и наклонилась к унитазу, ее рвало.
Вытерев рот бумажной салфеткой, она улыбнулась.
— Теперь мне намного лучше, — сказала она.
Я поцеловал ее, почувствовал запах рвоты, но мне было все равно. Отвел ее на кухню, поддерживая под руку. Где-то на задворках памяти затрепыхались какие-то смутные воспоминания из предыдущего вечера. Вспомнил. «Индианка». Вот то слово, которое меня беспокоило. Подумал, может быть, так она употребила это слово в качестве некого расистского оскорбления в адрес моей подруги? Я тут же забеспокоился, возникло яростное желание защитить Лелию. Я обнял ее и потрепал по плечу.
В кристальном холодном воздухе идти было легко. Мы заметили соседа, который стоял в безрукавке с дымящейся кружкой в руке и осматривал площадь. По небу пролетела одинокая птица. Никогда я еще не видел столько снега в центре Лондона. Лелия сейчас работала дома (проснулся «инстинкт гнезда», как она говорила), так что пол теперь сверкал старыми половицами, окна украшали новые занавески. Мы поставили на плиту кофеварку эспрессо, и к запахам снега и теплой древесины добавился аромат кофе, что напомнило мне о зиме, проведенной в лесах Новой Англии. Лелия достала клетчатые салфетки («гинем», называла их она, завсегдатай одежных магазинов), и мне захотелось, уютно устроившись вместе с ней в кровати, наблюдать за развитием этого изумительного настоящего зимнего дня по движению теней на потолке, подумать.
Она была спокойной и мягкой. Волосы небрежно зачесаны назад и схвачены заколкой, в складках халата видны недавно увеличившиеся груди. Я надеялся, что ей сейчас не захочется говорить о ребенке. Она помыла яблоко и неожиданно бросила его мне, чтобы я взял его с собой на работу. Открыла рот, изображая удивление, когда я его поймал, и у меня в голове родилась странная мысль: как здорово было бы видеть в этом теплой квартирке, которую мы сделали своим домом, ребенка, бьющего ножками и ручками, улыбающегося, капризничающего.
Я вышел на улицу навстречу холодному утру. Воздух проник сквозь одежду, зашевелились неопределенные сексуальные фантазии. Все вокруг было таким белым, что у меня заболели глаза. Когда я отошел на несколько шагов, в окно постучала Лелия, я повернулся, и мы помахали друг другу.
Где сейчас Сильвия Лавинь? А какая разница? Может быть, где-то тут на снегу можно было найти отпечатки ее маленьких ног, но мне было на это наплевать. Люди на улицах улыбались. На Гилфорд-стрит из окна высовывался какой-то мужчина, он курил и что-то тихо напевал. Медленным шагом я дошел до работы. Настроение у всех в офисе было приподнятое, словно еще раз наступило Рождество. Незначительное изменение в погоде наполнило день новым смыслом. Меня так и подмывало кому-нибудь позвонить только ради того, чтобы обсудить погоду. В обеденный перерыв мы затеяли игру в снежки на плоской крыше над офисами редакции воскресного приложения. Взрослые мужчины и женщины хохотали и носились по снегу, их отрывистый кашель сотрясал холодный воздух. В небо поднимался сигаретный дым. По очкам всегда чопорной редакторши образовательного раздела стекали капельки растаявшего снега; секретари и другие работники, получив законный способ проявить накопившиеся обиды и желания, забрасывали друг друга снежками. Мы горланили и смеялись, доходя до изнеможения. На черной полоске внизу гудели машины. Вдалеке в дымке была видна громадина собора Святого Павла.
Когда снег попал мне на губы, я в первый раз за несколько дней почувствовал себя счастливым. Здесь, наверху, Катрин и Сильвии до меня не добраться. Ничего плохого просто не может произойти, когда царит такое возбуждение и веселье.
Вниз спускались, переводя дыхание и откашливаясь, волосы у меня на голове были влажные, на лбу все еще не растаял снег. Напротив двери в свой офис я заметил стройную фигуру с каштановыми волосами, за стеклянной перегородкой она разговаривала с литературным редактором воскресного выпуска.
От удивления я чуть не поперхнулся. «Что за черт?!» — подумал я.
Не веря своим глазам, я оторопело вперился в них взглядом, ощущения были такие, словно я со всего разгона налетел на стену. Какие у нее могут быть дела с Питером Стронсоном? Как у нее хватило наглости приходить сюда? Как она вообще посмела? Мимо меня прошли остальные, тяжело дыша, оставляя на ковровом покрытии снежные следы и возбужденно переговариваясь. Я подождал, пока все забьются в лифт или отправятся вниз по лестнице. И что теперь? Сильвия Лавинь. Нужно было как-то отквитаться за унижение. Приступ негодования требовал выхода. Захотелось послушать, что она теперь скажет. Стал ждать, пока последняя партия коллег упаковалась в лифт, потом и она пошла по направлению ко мне, продолжая говорить, глядя немного перед собой. Коротко попрощалась со Стронсоном и пошла по коридору прямо на меня.
Мне она показалась исхудавшей, жалкой, под глазами нездоровые тени. Белоснежный свет, льющийся из окон, высветлял ее коричнево-зеленые радужные оболочки, так что в них даже стали видны янтарные вкрапления. Глаза выделялись на фоне бледной кожи. Когда она увидела меня, ее лицо озарилось широкой улыбкой, и сердце у меня в груди тут же радостно затрепетало. Безотчетно я сделал шаг ей навстречу, мы обнялись и поцеловали друг друга в щеку, как принято у нормальных людей, как будто ее можно было назвать нормальным человеком.
— Куда направляешься? — спросила она.
— Хочу прогуляться с тобой, — не задумываясь, ответил я. Собственная смелость меня одновременно и приятно удивила, и испугала.
Она опустила глаза.
— А я… — проговорила она и сделала неопределенный жест рукой, зацепив при этом кончиками пальцев тыльную сторону моей ладони. От этого прикосновения я обомлел.
— Пойдем, — сказал я и схватил ее за руку. — На улице так красиво. Можно просто прогуляться… Куда? Да хоть в Грейз-инн-роуд…
Зашли в лифт. Я провел ее по нашему этажу, обходным путем вокруг моего рабочего места по коридору между рядов увешанных верхней одеждой ширм, и вывел на улицу через проходную.
— А тебе не влетит за то, что ты ушел с работы? — поинтересовалась она, в ее голосе я почувствовал нотки веселья.
— Очень может быть.
Я повел ее по Клеркенуелл-роуд, где мы губами и ртом ловили бесшумно падающие с белого неба снежинки, потом вышли на широченную Грейз-инн, испещренную оставленными ногами выходивших на обед шрамами, которые уже засыпало новым снегом. Мимо однотипных домов группкой прошли несколько барристеров[28], выделявшихся черными костюмами на фоне свежего снега. В какой век мы попали?
Я любил Лелию. Но сейчас рядом со мной была другая женщина. Меня настигло и поглотило безумие, но я продолжал идти, упрямо, преступно не думая о последствиях, как будто чудо, спасшее от Катрин, и на этот раз не обойдет меня стороной. Еще я немного успокоился, когда вспомнил о сдержанной манере вести себя, присущей Сильвии, и о ее внешней неброскости. Я знал, что мужчины вряд ли обращают на нее внимание, хотя время от времени у меня возникала мысль, что кто-то другой (некий неопределенный достаточно проницательный соперник) в конце концов сможет увидеть в ней то, что разглядел я. Я принял решение оставить свой гнев при себе, отчего на душе сразу стало радостно и спокойно. Мы просто пройдемся по улице, я объясню ей свою ситуацию, и мы вместе решим, как быть с Катрин.
Она молчала.
— Что это за роман ты пишешь? — хотел я спросить ее, но у меня не хватило духу, я побоялся, что она воспримет это как вторжение в частную жизнь, обидится и уйдет.
Она была спокойна и собранна, мелкими шагами протаптывала дорожку по снегу и озиралась по сторонам. Я посмотрел на нее. Мне хотелось, чтобы она хоть как-то проявила активность — воспылала бы ко мне страстью или, наоборот, велела бы больше никогда не целовать ее, но она не делала ни того ни другого. Она как будто просто не обращала на меня внимания. Не поворачивала в мою сторону лицо (в профиль казавшееся точеным) и даже не обращалась ко мне. Я заметил, что начинаю пороть всякую чушь, чтобы рассмешить ее или вызвать интерес у этой всезнайки. Все время она сохраняла невозмутимый вид, ее губы были слегка приоткрыты. Снежинка легла на верхнюю губу в том месте, где она переходит в кожу. Мне захотелось слизнуть ее. Захотелось сделать что-нибудь из ряда вон, чтобы она проявила хоть какие-то эмоции.
Ну давай же, подумал я. Сделай что-нибудь. Повернись ко мне. Улыбнись мне. Пошли меня. Скажи что-нибудь. Но она оставалась невозмутима. Только слегка дрогнули уголки губ, то ли улыбнулась своим мыслям, то ли вздрогнула от холода. На меня по-прежнему никакого внимания. От такого откровенного пренебрежения я начинал звереть. Захотелось толкнуть ее в снег, прорваться через все слои одежды, овладеть ею прямо здесь и сейчас. Я еле сдержал стон.
— «Если женщина хоть раз запятнает свою чистоту, ей бессмысленно пытаться оставаться такой, какой она была до того, это все равно что пробовать смыть пятно грязи со снега»[29], — произнесла она тихим вкрадчивым голосом. — Это было написано еще в 1860-е, но, по-моему, и сегодня ничего не изменилось. Как ты думаешь?
Я ошарашенно повернулся, но она продолжала спокойно говорить, словно сделала замечание по поводу погоды. В промежутках между словами под ногами поскрипывал снег.
Я попытался представить себе, как это могло бы происходить. Миниатюрное тело, аккуратный треугольничек волос. Эти мысли, показавшиеся какими-то даже дикими, заставили меня вздрогнуть. Я представил, как мое тело ходит меж этих узких бедер, и ее неопытная сдержанность разжигает огонь в венах. Это было как дыхание другого времени года, другого мира.
По заснеженной улице прошли группкой еще несколько черных, как вороны, барристеров. Наше дыхание слилось.
Все-таки она красива, подумал я и позволил себе увлечься этой мыслью. Она не простушка. Хорошая фигура, утонченная натура и приятный запах, в ней была какая-то загадка. Гладкая белая кожа, покатые темные брови, маленькая грудная клетка, все это вместе сочеталось идеально. Она пахла миндалем и молоком. Если присмотреться, все в ней было гармонично: изящные руки, запястья, лодыжки, движения.
В нескольких окнах загорелся свет. За парапетом прошипел автобус. И все. Тишина. Только мы, деревья и ягоды, выглядывающие из-под снега.
Она продолжала говорить, голос удивительный, околдовывающий.
Я почувствовал напряжение между ног.
— У меня руки замерзли, — сказала она.
— Где же ваши перчатки, замерзшие лапки? — улыбнулся я, но над душой нависло ужасное ощущение измены. — Суй эту мне в карман.
Я снова взглянул на нее. Она смотрела прямо перед собой, упрямо, строго. Мысль о том, что можно прикоснуться к этой алебастровой коже, казалась почти невозможной, но, с другой стороны, вот же она, совсем рядом, рассуждает на тему внебрачного секса таким тоном, которым могла бы читать ребенку сказку на ночь.
Она опустила руку в глубокий карман моей куртки. Пошевелила пальцами, устраиваясь там поудобнее, ткань подкладки мягко прошлась по тазовой кости. Снова замерла. Интересно, подумал я, это движение было вызвано ходьбой? Тут я почувствовал какое-то шевеление в кармане, как будто она растопырила пальцы и снова их сжала. Пальцы как бы случайно прошлись по мне мелким уверенным движением. Нервы наверху бедра ожили.
— Давай сядем, — сказал я и кивнул в сторону заснеженной скамейки. Мы уселись на гору снега под деревьями, ощущение было такое, словно мы попали в белоснежную пещеру, и наше дыхание, слившись, превращалось в стену, загораживающую нас от всего остального мира. Мы были одни. Одним движением я прижал к себе ее хрупкое тело и попытался снова поцеловать. На этот раз она не осталась безучастной. Кровь бросилась мне в голову. Несколько секунд мы целовались словно во сне, жарко, жадно, потом она отвернулась.
Она отвернулась, но рука ее все еще находилась в моем кармане и двигалась кругами, отчего кровь закипала. Закружилась голова. Она прекратила движение, вскинула бровь. У меня разжались губы. Я снова замер. Ее рука с вытянутыми пальцами осторожно двинулась к уголку кармана, ногти так медленно прошлись по ткани, что у меня по телу пробежали мурашки и я чуть не вскрикнул. Я обнял ее сильнее, так что ее лицо оказалось прижатым к моей шее. Ее рука замерла.
— Не шевелись, — прошептала она.
— Нет, — сказал я, но в ту же секунду почувствовал, что она укусила меня в шею под затылком. Этот маленький бледный призрак впился мне в кожу, причинив неожиданную боль. Я захлебнулся негодованием, вскрикнул; она сжала зубы сильнее, не отрывая рта до тех пор, пока боль не сделалась такой острой, что перестала ощущаться, породив волны наслаждения.
Соскользнув с ветки, на нас упал снег. Она зачерпнула его ладонью и приложила к моей шее, тихо засмеялась, когда холод иголками впился мне в кожу. Я повернулся к ней. Я больше не мог бездействовать. Каждая клетка моего организма требовала взять инициативу в свои руки. Но если я шевельнусь, она остановится. Она спокойно рассматривала меня, глаза с синими тенями внизу в зимнем свете казались странными, но красивыми. Она молчала, полные губы были сжаты, пока она волнообразно водила рукой по моему бедру, отчего дыхание у меня участилось и сделалось сбивчивым. Это было невыносимо. Я повернулся к ней всем корпусом и заключил в крепкие объятия. Она аккуратно прижалась головой к моей шее, но рука ее перестала двигаться.
— Пожалуйста, — тихо сказал я.
Крушение мира пришло в виде коротких слов, произнесенных жизнерадостным хрипловатым голосом:
— В другой раз, — шепнула она.
Снег прекратился, все теперь засияло голубым светом. Один раз я посмотрел ей вслед, увидел, как ее спина то исчезает, то появляется между деревьями, она направлялась к дому. Скрылась. Как только она исчезла из виду, мне до одури захотелось отыметь проститутку. Раньше такое желание возникало у меня только как гипотетическая и пустая фантазия. Но все, что мне было нужно сейчас, — это укрыться в одном из этих чопорных домов двухсотлетней давности, которые нависали на улицей, и выпустить накопившееся в кого-то телесного, земного, с чесночным дыханием, а уж потом вернуться в возвышенное и безмятежное состояние и начать снова думать о Сильвии. От этой мысли я рассмеялся, но и содрогнулся.
Я уверенно вошел в офис, ничего никому не объясняя, взялся разгребать кучу служебных записок, которые накопились за время моего отсутствия. Завтра был крайний срок сдачи моих страниц, а у меня еще и конь не валялся. Подошло шесть часов. Я отправил МакДаре имейл. Я был не в состоянии оценить проделанную работу, мои мыслительные процессы превратились в мешанину из приступов радостного возбуждения и панического страха, которые никак не поддавались словесному выражению. В таком виде мне нельзя было встречаться с Лелией.
Для встречи с МакДарой я выбрал итальянский ресторанчик через несколько улиц от офиса, где мы могли бы спокойно поговорить и напиться в тихом углу. Когда он вошел, мы оба усмехнулись, обрадованные встрече, и сразу начали говорить, еще до того, как он успел сесть за столик.
— Я превратился в подростка, мать его, — сказал он, бухнув дипломат на стол.
— Ночные поллюции и грязные мыслишки? — спросил я. — Шалунишка МакДи.
— Хуже, — буркнул он, раскладывая перед собой пачку газет, заснеженные перчатки и мобильник.
— Что, стал агрессивным себялюбцем, у которого единственным другом остался тот, что между ног?
Он хмыкнул.
— По большому счету да.
— Однолюбец. Как у нее дела?
— Откуда мне знать? Спроси ее муженька.
— Вы не встречались?
— Не-а.
— Почему?
— Откуда я знаю? Наверное, мне запрещено… чтобы я знал место. По-моему, она решила держать меня в ежовых рукавицах. В общем, женушка должна быть дома, чтобы быть готовой отсасывать у мужа, когда ему захочется.
— Чем он занимается?
МакДара пожал плечами.
— Не знаю. Может, дерьмо лопатой разгребает.
— Так что, она к нему вернулась? — осторожно спросил я, беря в руки меню, запечатанное в прозрачный пластик в масляных пятнах. — Я имею в виду, она с ним общается?
— И почему тебе так нравится копаться в чужом грязном белье? — недовольно проворчал он, просматривая страницу с перечнем фирменных блюд, напечатанным нечитаемым готическим шрифтом. Он был, как всегда, небрит, снег, растаявший на растрепанных волосах, высохнув, превратил их в набор коротких колючек.
Я засмеялся.
— Ты похож на Денниса-бесенка[30], — сказал я.
— Спасибо.
— Так что случилось?
— Ну, в общем, это… Она удостоила меня телефонным звонком. Сука. Завтра я с ней должен встретиться. Черт, от этого у меня кишки наизнанку выворачиваются.
— Ты еще с ней не переспал?
Он удрученно покачал головой, как медведь, которого он так напоминал.
— Было все, что хочешь, только не это. Мы уже собирались. Но она сбежала. Не знаю, что случилось. У меня член уже…
В памяти незваным гостем всплыло воспоминание. Кровь прилила к низу живота, когда я вспомнил руку, скользившую по моему бедру, острую боль на шее, превратившуюся в сладостное удовольствие. Мне захотелось рассказать. Захотелось удивить его, поразить, ошеломить. Я залпом выпил бокал терпкого красного вина. Потом еще один. Тепло поднялось по хребту до мозга, отчего в голове стали складываться различные сценарии развития событий. Разве легкий тайный роман на стороне (секреты, торопливые встречи на квартирах, поспешные сборы) не привнесет в замужество восхитительный привкус живости? Это было бы как хобби, каждый день добавляющее новую жемчужину в коллекцию.
— Рассказывай, — сказал я, улыбаясь, оттягивая время, когда надо будет залпом выпалить признание. Это при условии, что Катрин еще не разболтала.
— …не стоит. От перенапряжения.
— Понятно.
— Никогда еще такого со мной не было, — неожиданно рявкнул МакДара и так ударил по столу, что подпрыгнула солонка. Я рассмеялся. — Я делаю вещи, которыми последний раз занимался в девятнадцать лет. Наша эпоха коммуникационных технологий — это кошмар какой-то, Ричард. Если я не звоню по 1471, я проверяю чертов автоответчик, факс, мобильник… голосовую почту, свой почтовый ящик.
— Я ведь говорил тебе прекратить с ней всяческие контакты, — я придал лицу самый строгий вид. — Она часто тебе пишет по электронке?
— По электронке — да, но нормального живого человеческого общения нет.
— Ясно, — сказал я. — Рассказывай дальше.
— Я не могу… не могу спать. Ты помнишь, чтобы я когда-нибудь не мог заснуть?
— Нет, — я покачал головой. — Ты же храпливый бородавочник, страдающий сонной болезнью.
— Вот именно.
Кабинки начали наполняться людьми, помещение заволокло дымом. Мы поели отличной пасты и безвкусной рыбы в масле. Я заказал еще вина.
— А Катрин? — осторожно закинул удочку я, сердце забилось учащенно. — Она не говорила ничего? Ну то есть… — я многозначительно замолчал.
— Да нет, — безразлично ответил МакДара.
— Понятно… — сказал я.
Засмеялся. Стал подталкивать его к очередным признаниям, пытаясь угадать, какие нездоровые привычки появились у него в последнее время, начал безжалостно подтрунивать над ним, придумывая новые извращения, которыми он мог бы страдать. Выпил еще вина. Окна ресторанчика с наружной стороны были залеплены снегом. Заходили все новые люди, они тяжело дышали и оббивали снег с обуви. Строгие официантки хлопотливо сновали между столиками, забитыми крикливыми посетителями, атмосфера была праздничной. И у меня поднялось настроение, как у камикадзе, летящего на смерть. У меня-то еще была отсрочка на пару дней, правда, грехи мои несколько приумножились и организм был отравлен неудовлетворенной похотью. Но помимо простой похоти было и другое чувство — изумление, вызванное тем, насколько сильное желание вызывала у меня странная викторианская дева. По венам, как яд, распространилось хмельное веселье. На загривке опять почувствовалась боль.
— Так что, изувер, сколько разрешаешь завтра имейлов послать?
— Два, — рассеянно ответил я. — Когда ты с ней встречаешься?
— Днем. В три часа, — сказал МакДара и раскрыл свой ежедневник. — Она прямо тут написала, — хохотнул он.
Я придвинул ежедневник к себе. «И если встретимся, то улыбнемся»[31] было написано в нем. Почерк мелкий, непримечательный.
— Это же цитата! — воскликнул я. — И для такого троглодита, как ты. Что, эта женщина любительница почитать? — спросил я, и мысли сразу полетели к Сильвии, я вспомнил, как она всегда ведет себя по-книжному, вспомнил ее губы, их прикосновение к моей шее. — Как же ты с ней общаешься, МакДи? — поддразнил его я.
— Слушай, заткнись, — огрызнулся МакДара. Помолчал смущенно, потом сказал: — Отдай.
— Ты бы лучше книгу какую-нибудь почитал.
— Ну хватит уже, Ферон, — сказал МакДара, подливая мне в бокал еще вина. — Лучше скажи мне вот что, — он забрал у меня ежедневник и аккуратно его закрыл. — Что нового слышно в мире хакерства?
Вино медленно, по спирали разлилось по телу. Я посмотрел на часы. Скоро надо будет идти домой, а то Лелия начнет беспокоиться и злиться и в результате мы поругаемся, но я не мог. Я не хотел возвращаться домой. Чем больше вины я чувствовал за собой, тем раздражительнее становился, отчего само чувство вины усиливалось. Я выпил еще бокал. От спиртного во рту стало противно. Меня вдруг покинули все силы. Накатило осознание того, что на самом деле со мной происходило. После стольких мытарств я наконец нашел женщину, любовь, жизнь, о которых всегда мечтал, но теперь разрушал все своими собственными руками. Словно за моей машиной увязались полицейские, а я, хоть и веду очень аккуратно, осознаю, что уровень алкоголя у меня в крови превышает допустимую норму и, если меня остановят, я попаду за решетку. И спасенья от этого нет. Мне не было известно, что меня ждет впереди: долгое петляние по бесконечным улочкам прочь от неизбежного либо приказ прижаться к обочине и остановиться.
11 Лелия
Чем сильнее становилась тошнота, тем крепче я сжимала пальцы, наблюдая, как меняется цвет под ногтями. Иногда мне становилось удивительно, что у меня тоже, как у всех людей, есть кровь, которая невидимо струится по венам и сейчас окрашивает кончики пальцев в красный цвет. Какой бы странной, неадекватной или ранимой я ни была, тело мое вело себя так, словно принадлежало другому человеку, и это волновало и удивляло меня, когда я начинала впадать в отчаяние.
Я склонилась над унитазом. Тошнота подкатила к горлу, рот наполнился слюной. Когда спускала воду, услышала, что звонит телефон, но трубку взять не успела. Зато на автоответчике обнаружила послание от Катрин, она просила перезвонить ей. Но я не могла с ней разговаривать, потому что моим единственным желанием в тот момент было блевать. Нормально ли это? Может быть, именно тошнота приводит женщин в закрытый от посторонних мир навязчивых идей и воспоминаний, наполненный ночными кошмарами и обрывочными видениями из прошлого?
Тело мое менялось. На животе появилась темная вертикальная линия, похожая на ствол дерева. На груди стали просвечиваться синие вены.
Я потеряла способность концентрироваться. Впервые в жизни тяжелая работа превратилась в муку. Мне обязательно нужно было закончить одну статью, из-за которой на меня наседал начальник, но я до сих пор к ней почти не приступала. Наклонилась над раковиной, пару раз чуть не вывернуло наизнанку. Через полчаса у меня было намечено занятие с одним острым на язык аспирантом, который писал работу о «nouveaux romanciers»[32] в кинематографе. Там была ссылка на Бютора, которую мне требовалось проверить, как и уточнить несколько цитат из Роб-Грийе[33].
С улицы на наше окно смотрела соседка Люси. Вокруг губ у нее горело розовое пятно — след долгих и страстных поцелуев с кем-то сильно небритым.
— Хреновая погода, — заметила она.
Я посмотрела на небо над садом. Оно было затянуто хмурыми тучами, предвещавшими новые снегопады.
— А мне нравится, — сказала я. — Как у тебя дела?
Она неопределенно пожала плечами. Повернулась на каблуках лицом к улице.
— Я много чего вижу здесь, — сказала она.
— Не сомневаюсь, Люси, — несколько устало отозвалась я и вдохнула полную грудь воздуха, чтобы заглушить тошноту. Вспомнилось, что Ричард называл Люси малолетней злой силой. Горло у меня сжалось.
— Пока, — поспешно попрощалась я и пошла на кухню заварить чаю.
Я так устала, голова была такой тяжелой, что мне казалось, будто она раскачивается из стороны в сторону. Я заснула. Когда проснулась, дело уже шло к вечеру, мой аспирант уже, наверное, давно ушел домой, не дождавшись меня. Собственная безответственность меня изумила, но в глубине души и позабавила. Когда тошнота отступала, у меня всегда улучшалось настроение. Я пошла в спальню и легла на кровать.
Первые настоящие мысли о сексе у меня появились во Франции, когда я была девчонкой в очках. Моя подруга Софи-Элен, которая заплетала волосы в толстую черную косу, не брила подмышки и носила белье с пятнами крови, в этих вопросах разбиралась лучше меня. Когда боль от утраты становилась невыносимой, я разговаривала с ней о сексе, потому что секс казался противоположностью печали, чем-то невероятно захватывающим. Мы садились на ветхий горбатый бетонный мостик над ручьем в саду, и она шепотом рассказывала мне, чем занималась с парнями, и я, несмотря на плохое знание французского, понимала ее.
Но когда наступила Пасха, были извлечены на свет Божий молитвенники и заглушены мопеды, а Софи-Элен просто-напросто забыла обо мне, я поняла, что для нее я была не более чем тем раком на безрыбье, с которым можно отвести душу, пока не приехал настоящий друг. Его звали Мазарини, как кардинала. Это был невысокий парень себе на уме, с тускло-коричневыми волосами, из тех, о ком, если увидишь на улице, сразу и не скажешь, кто перед тобой — парень или девушка. Я с трудом понимала его речь и старалась держаться от него подальше, даже когда он обращался ко мне самым вежливым официальным тоном.
Мне было нечем заняться. В нашем доме должны были собираться молодые родители с маленькими детьми, готовящимися пойти в школу, и мать Софи-Элен каждый день открывала нараспашку входную дверь, чтобы выветрить невидимую пыль. Моя комната была превращена в спальню, где проходил тихий час малышей. Мне было противно ощущать себя обузой, я не могла выносить недовольных взглядов, поэтому я стала ходить с Софи-Элен и Мазарини в дом его матери и часами сидела там, в одиночестве, прячась от всех.
Мать Мазарини была врачом. Она принимала пациентов на дому, как это заведено в маленьких французских городах. Пациенты через боковую дверь заходили в приемную, переделанную из зимнего сада. Запахи, доносившиеся оттуда, вызывали у меня ужас, наполненный чувством вины, это был запах лекарств, дезинфицирующих средств, сердечного приступа и «скорой помощи», приехавшей, чтобы унести моего отца на носилках. Мадам Белье, врач, хоть и была беременна, всегда работала до позднего вечера, хмуро поглядывала из-под непослушной челки, делавшей ее похожей на упитанного бутуза, через очки с роговыми дужками. Эта неулыбчивая женщина, с вытянутым, как у дромедара, лицом, в рубашке и очках с мощными линзами, казалась двуполой. Ее сын был полностью предоставлен самому себе, вскоре я поняла, что она совершенно им не интересовалась. Смотреть на это было больно.
В разговорах отец Мазарини не упоминался никогда, его мать была беременна от другого мужчины. Мальчик проводил все время (девять-десять часов в день, у меня появилась привычка засекать время) во дворе, куда выходила дверь с кухни, или уходил с Софи-Элен наверх, в свою комнату, туда, где мать не могла его ни слышать, ни видеть. Если мне, когда я спускалась вниз, случалось столкнуться в коридоре с мадам Белье, ожидающей очередного пациента, она равнодушно осведомлялась о моем настроении, сухо хвалила мой французский или говорила, как я хорошо выгляжу, как будто жалела меня, и в сочувствии к темнокожей девочке, потерявшей отца, иногда слышалась жалость к собственному ребенку.
Хоть Мазарини и находился в таком же положении, что и я, его попытки понравиться матери казались мне жалкими. Он так старался быть хорошим. Что бы с ним ни происходило, старался изо всех сил. Когда мать входила в дом, он с обеспокоенным видом прислушивался к ее шагам, заставлял свою подругу говорить вполголоса. Я никогда не видела, чтобы мальчики дарили матерям всякие мелкие подарки и готовили сюрпризы так, как это делал он. В его поведении не было какой-то четкой направленности.
Когда они уединялись в комнате наверху, я начинала исследовать этот миниатюрный замок, забитый старыми вещами (выцветшие шерстяные занавески на карнизах в виде копей, ночные горшки, растыканные по изысканно украшенным резьбой шкафам), просматривала книги, принадлежавшие мальчику, который меня так пугал. Но однажды на этаже над современными душевыми комнатами я обнаружила ванную. Старую ванную, которой редко кто пользовался, с пыльным деревянным полом и закрытыми ставнями. Я лежала в ванне почти весь день, слушала тишину, приглушенные разговоры, звуки секса и благодарила Бога, своего отца.
Он прятался в узорах на потолке (каждое утро, лежа в бурлящей желтой воде, я в отчаянии всматривалась в них, пока наконец не увидела одно пятно, которое и было им); его сущность обволакивала меня вместе с водой; он говорил со мной, хотя комната была пуста. В архипелаге трещин и отколовшихся кусочков эмали в голове ванны был и его островок, и чем больше я прикасалась к этой точке лбом, тем спокойнее становился разгневанный Бог, слившийся с отцом в единый образ, который негодовал на меня за безразличие и своенравие, предшествовавшие его смерти. Сколько бы я ни молилась, я знала, что сама убила его. Всего за полторы недели до того, как это случилось, я для сочинения по английскому выбрала темой смерть отца (слезы у одра умирающего; душевная красота, обретенная через страдания осиротевшего рассказчика), а потом он умер. Я своей властью каким-то образом подтолкнула его к смерти. Неблагодарный ребенок.
Я прижимала ладонь к шероховатому полу, машинально проверяя свои познания во французском языке. Из комнаты на другой стороне дома, находившейся на этом же чердачном этаже, доносились приглушенные стоны и вскрики двух детей. Нам было по четырнадцать. Мальчику, как мне казалось, было меньше: он был худеньким, голос его еще не подвергся ломке, а гладкая кожа была бледной. Я заметила, что все чаще и чаще думала о нем. Для меня было настоящим потрясением то, что они могли доставлять друг другу такое удовольствие. Я с трудом представляла его, такого сдержанного и маленького, в объятиях Софи-Элен, но все же… представляла.
Потом жизнь в доме изменилась. Врач скоро должна была родить, что для маленького городка было небольшой сенсацией. Когда ее сын однажды подслушал, что матери в конце недели будут делать кесарево сечение, его стошнило, я это слышала.
Лежа в кровати в нашей квартире на Мекленбур-сквер, я скучала по Ричарду. Мне хотелось почувствовать его вес, забыться в темноте под его телом. Но Ричард со свойственными ему несдержанностью, упорством и жестокостью отдалялся от меня и ребенка. Часть меня, которая заключалась в моем собственном мире, была в безопасности, но в глубине души я чувствовала незащищенность, страх и готовность умолять его не оставлять меня одну. Я всегда втайне этого боялась, думая, что, разобравшись во мне получше, он сочтет меня недостаточно привлекательной. А если бы он стал копаться во мне еще глубже, он бы обнаружил вещи и пострашнее, потому что я подозревала, что во мне было и такое, о чем я не смогла бы себя заставить рассказать ему. В моей сердцевине жил червь.
В ту зиму ему хотелось проводить время с МакДарой, или пить, или думать, что настало время сменить скучное городское существование на жизнь поинтереснее. У него не было желания проводить время с беременной женщиной.
— Давай все бросим и переедем в домик на воде, — любил повторять он.
— Но это же ужасно, — отвечала я, с ужасом вспоминая ночь в раскачивающейся влажной и холодной постели, проведенную в плавучем домике друзей, живущих на Темзе.
— Я серьезно считаю, что мы должны переехать на лодку, — не так давно опять заявил он.
— Хорошо, только не сейчас, попозже, — так я научилась отвечать, и ему вполне хватало того, что я не возражаю.
Когда начало темнеть, я опять отправилась в спальню. Его все не было. «Ричард», — прошептала я и послала ему мысленный сигнал вернуться домой, ко мне. Я легла на спину и раздвинула ноги, снова подумала о маленьком инкубе. С легкостью мастурбацией довела себя до вялого оргазма. Было десять часов. Я оставалась с ребенком, который рос внутри меня. Мой любимый медленно покидал меня.
12 Ричард
Возможно, у меня осталось всего несколько дней. Даже без вмешательства чертовой Катрин меня доконает собственное чувство вины или какой-нибудь фортель судьбы, которого совершенно не ждешь. Хотя, с другой стороны, мы же всего лишь целовались. Здравый разум, перемешивая осторожность с чувством облегчения, говорил мне, что я все еще могу спасти то, что имею, хотя ради этого придется пройти через тяжкое испытание — злость и обиду Лелии. Но всякий раз, когда я вспоминал страстного маленького призрака на фоне снега, как фильм, который смотрел когда-то давным-давно, мне хотелось увидеть ее снова.
Она не звонила. Катрин, похоже, тоже не объявилась. Лелия по-прежнему была моей Лелией, мы оба были очень заняты. Я перехватывал ее взгляд лишь изредка в промежутках между деловыми встречами, стремительными зимними ночами и поздними укладываниями в кровать. Мало-помалу прошли два бесконечных дня. Рано утром я выходил на замерзшую улицу, где было так холодно, что даже не шел снег, и брел на работу, чтобы опять не обнаружить в почтовом ящике писем от Сильвии. Я смотрел в окно, размышляя над тем, что лучше: признаться во всем Лелии или с покорностью и веселостью слабоумного дожидаться своей участи. На тыльной стороне при прикосновении продолжало побаливать то место, которое она еще не обнаружила.
Еще один день долой. Я умираю, Египет, смерть — такая истошная, безумная мысль не давала мне покоя, мой внутренний голос превратился в серпантин нелогичных заключений.
— Я сейчас недалеко, — как гром среди ясного неба прозвучал в трубке офисного телефона голос Сильвии. — Мы можем встретиться ненадолго, если хочешь.
— Да, — тупо прохрипел я. — Но где? И когда?
— За домом, где ты работаешь, есть кафе, я буду проходить мимо него минут через десять.
— Десять минут? — глупо переспросил я, по скальпу прошел нервный тик.
Она промолчала. Мне показалось, что у меня стремительно поднимается температура.
— Буду ждать тебя там, — сказал я.
В кафе после морозного воздуха на улице мне показалось по-домашнему уютно. Она улыбнулась мне из дальнего темного угла, где сидела за столиком в берете и куртке, выпрямив спину. Берет придавал ее волосам жизни. Она снова выглядела безукоризненно, как монашка, чистенькая и благоухающая, но бесцветная. Я не сомневался, что в этом чопорном образе она обязательно появится в моих ночных фантазиях.
Я двинулся к ней через облако кофейного запаха, собираясь поцеловать, но она не шелохнулась, поэтому я просто прикоснулся уголком рта к ее щеке и сел рядом, несколько сбитый с толку. Несмотря на табачный дым и запах свиного жира, я уловил легкий аромат ее кожи. Снег таял у нее на берете, оставляя блестящие влажные овалы.
— Привет, — я улыбнулся ей.
Она повернулась ко мне и тоже улыбнулась, ее глаза сузились.
— Я так рад тебя видеть, — вырвалось у меня.
— Я тоже, — сказала она. — Очень.
— Куда направляешься? — спросил я.
— Надо кое с кем встретиться, — ответила она. Я опустил взгляд и заметил на ее мизинце кольцо из трех переплетенных золотых колечек.
— С кем? — слегка встревожился я, подумав, что, естественно, у нее есть жизнь и помимо квартиры, работы и встреч со мной. От этой мысли стало как-то не по себе. — С кем? — уже настороженно повторил я.
— Тебя это не касается, — сказала она.
— Касается, — упорствовал я, ошеломленный таким ответом.
— Но я же не обязана отвечать, — настаивала она.
Тогда я обнял ее и прижал к себе, но осторожно, не забывая о том, какое хрупкое и прекрасное тело скрывается под этой невзрачной одеждой.
— Ты же знаешь, мы не должны этого делать.
— Нет, — выдохнул я, сердце уже готово было выскочить из груди.
Она молчала.
— Конечно же, это весьма опрометчиво, — галантно выразился я.
Внезапно мне в голову пришла мысль: а что, если Катрин снова нас увидит? Что, если (это было также вероятно) Лелия увидит нас? Посмотрел на часы.
Мимо кафе прошел коллега из отдела новостей. Я опустил голову и с отвращением понял, что если я собираюсь выступить в роли неверного мужа, то ничего нового не сделаю. Я вспомнил уортоновского Ньюланда Арчера[34], который, попав в подобную ситуацию, осознал, что ступил на проторенную дорогу, вымощенную уловками и обманом.
Я молчал, не зная, что сказать. Вокруг стоял мерный гул голосов, таксисты разговаривали с местными женщинами в спортивных костюмах.
— А какие у тебя дела с Питером? — неожиданно для себя спросил я, повернувшись к ней.
— С кем?
— С Питером Стронсоном. Литературным редактором.
— А. Я просто поговорила с ним.
— О работе?
— Да.
— Больше так не делай.
— Почему?
— Меня это раздражает, — сказал я.
— С чего бы это?
— Я не хочу, чтобы этот ублюдок печатал тебя. Еще больше я не хочу, чтобы он с тобой разговаривал.
— Но ведь и с тобой разговаривают другие. Ты принадлежишь и другим.
— Верно, — согласился я. Наши руки коснулись.
Маленькая ладонь нащупала мою руку под столом. Это принесло мне неслыханное удовольствие. Из человека я превратился в некую простую форму, наделенную жизнью, контейнер для ее причуд. Я сжал ее ладонь, потом прошелся по ней кончиками пальцев.
— Ты женат…
— Почти, — сказал я, повесив голову, словно скрепя сердце соглашаясь с очевидным.
— И она милая девушка. Мне нравится. Напомни мне, как ее зовут. Ле…
— …лия.
— Да.
Помолчали.
— Я думал о вас, сударыня, — сказал я. — Много.
Она отдернула руку.
— Я тоже думала, — отозвалась она, смотря прямо перед собой. — Думала о тебе, хотя не должна была.
— Не должна была? Или не следовало бы? — глупо переспросил я.
— Ты сам знаешь ответ.
— Да, но….
— Как это трудно. Понимаешь, когда наконец находишь это понимание, когда двое людей начинают узнавать друг друга…
«А мы начинаем?» — захотелось мне спросить. Или это просто мне показалось, что начинаем? Чувствуешь ли ты то же, что и я?
— Помнишь тот вечер, когда мы впервые встретились? — спросила она.
— Я тогда напился, — сказал я. — Я помню, как ты… По-моему, я видел тебя в коридоре. Но ты же не про это спрашиваешь, верно?
— А я тебя запомнила, — сказала она. — Очень хорошо. Ты мне показался очень смешным. Ты много говорил. И показался мне красивым.
— А ты мне кажешься… прекрасной, — произнося эти слова, я понимал, что это правда. На ее лице не дрогнул ни один мускул, словно она привыкла слышать о себе такое.
Я приобнял ее одной рукой, и она, поколебавшись, подалась ко мне, но холодно, без страсти. Моя рука покоилась у нее на талии, а Сильвия так и сидела, с прямой спиной, как будто до этого я никогда не прикасался к ней и она была согласна терпеть это. Обычное для нее чередование душевности и холодной сдержанности, естественно, зацепило меня и разозлило. Но все же я почувствовал в ней какую-то боль, грусть, которые подталкивали меня.
Сильвия говорила. Смотрела перед собой и говорила, так же витиевато и легко, как и писала, и постепенно я перестал слышать что-нибудь, кроме ее простуженно-хрипловатого голоса. Но она по-прежнему не двигалась. Потом я, сделав вид, что хочу взять сахар, которого тогда не употреблял, из упрямства и гордости убрал руку.
Она отвернулась от окна.
— Ты чего? — спросил я.
— Там человек, которого я не хочу видеть.
— Кто это?
— Он меня преследует, — сказала она с отвращением.
— Что? Кто? — удивился я.
— Да так… бывший.
— Бывший! — воскликнул я.
— Только не надо расспросов, — предупредила она, и ее полная верхняя губа изогнулась.
— Но я хочу поговорить об этом, — упорствовал я.
— О Ричард.
«В другой раз», — говорила она. Эти три слова, слетевшие с ее уст, прижатых к моей шее, прозвучали у меня в памяти неожиданно, как выстрел в тишине. Теперь мы снова сидим рядом, и этот раз настал.
— Но, — она продолжила свой прерванный монолог, — мы слишком плохо знаем друг друга. Я не знаю тебя, хотя в мыслях инстинктивно обращаюсь к тебе, когда мне нужно поделиться с кем-нибудь. Иногда я просыпаюсь среди ночи с очень странными мыслями, и мне начинает казаться, что я слышу твой голос. Я совершаю непонятные поступки, безумные…
Под шелест голосов таксистов я ждал, что она скажет дальше.
— Какие? — сказал я, не в силах думать ни о чем другом, кроме как об укусе в шею и прикосновению ее пальцев к моему бедру. Посмотрел на эти пальцы. Маленькие, изящные, неподвижные.
— Какие? — переспросила она. — Например, думаю, что названия дней недели окрашены в разные цвета. Из яблок в миске выбираю одно, а оставшиеся жалею. Мое сердце обливается кровью, если потом одно из них остается несъеденным, сморщивается и его приходится выбрасывать. Почему именно оно? Почему именно ему так не повезло?
В эту секунду мне на ум пришел образ викторианской девочки, ставшей изгоем, ее голос витал вокруг моих ушей, мягко переливаясь различными оттенками, так что я почти не понимал, о чем она говорит.
— Излишнее отождествление себя с неодушевленными предметами, — пробормотал я. — У меня такое тоже бывает, Сильвия, — снова вспомнил ее пальцы, поглаживающие мое бедро.
— Что ты! Не надо так говорить, — она толкнула меня локтем. У меня взыграли чувства.
— Нет, правда. И синэстезия. И воображаемые игры, чтобы чем-то порадовать себя в качестве награды за победу.
— А такое у тебя бывает, когда не расслышишь, что кто-нибудь сказал, и не переспросишь или поленишься перечитать что-то, что не совсем понимаешь, а потом начинаешь думать, а не будешь ли потом всю жизнь жалеть об этом? Ведь можно же просто попросить повторить или потратить пару минут и перечитать непонятный отрывок? Я никогда этого не делаю, хотя все время об этом думаю.
— Я тоже. Что это, дог или волк какой-нибудь только что пробежал по Хэмпстед-хит[35]? Стоит ли повернуть голову и посмотреть? Если не посмотришь сейчас, будешь ли потом всю жизнь гадать?
— Давай как-нибудь съездим в Хэмпстед-хит, — сказала она.
— А что? Давай съездим!
— Или просто так трахнемся, — добавила она.
Я застыл от изумления. Вокруг загромыхала посуда (горы белых глазурованных тарелок в облаках пара, которые того и гляди рухнут и разлетятся вдребезги), зазвучала какофония гортанных звуков.
Я кашлянул и повторил вслед за ней:
— Или просто так трахнемся.
Загудела машина для варки эспрессо.
Медленно я повернулся к этой молодой женщине, которая сидела рядом со мной: прозрачная кожа, глаза с синяками, темный школьный свитер с вырезом в форме буквы V. Именно эту утонченность мне хотелось познать, крошечные родинки, едва различимые на бледной коже, это миниатюрное совершенство. Она по-прежнему держалась сдержанно. Раскрыла тонкими пальчиками меню, на губах легкий намек на улыбку. Я взял ее за плечи обеими руками. Удивительно, какими узкими они были.
— Я все время думаю только о тебе. — Голос ее совсем не изменился.
— И я. Встретимся в Прайорс-филд. Знаешь, где это? Там редко кто встречается, но мы могли бы там… погулять, — сказал я.
— Я знаю это место. — Она посмотрела куда-то вверх. На весь зал пронзительно засвистел паровой двигатель эспрессоварки.
— Тебе нужно идти, — я решил первым сказать это, потому что больше не в силах был терпеть напряжение. Кивнула. Впервые за все время повернулась ко мне. Посмотрела прямо в глаза, словно заглядывала в саму душу. И мы поцеловались. Вспоминая, прокручивая в памяти эту сцену весь остаток дня до тошноты в животе, я не смог вспомнить, кто сделал первое движение. Забыв о людях, сидящих за соседними столиками, забыв о барменах и официантках, о возможной близости коллег, мы поцеловались. И пока мы целовались, я не дышал. Когда снова выпрямил спину, почувствовал головокружение от нехватки кислорода.
— Теперь я впустила тебя в себя, — сказала она.
Я снова наклонился к ней и провел носом по уху, волосам, мое дыхание попадало на ее кожу. Мы снова поцеловались и замурлыкали что-то нечленораздельное, улыбаясь.
Она подалась ко мне. Ее голос был полон страсти и тихой нежности одновременно.
— Если ты возьмешь меня, — прошептала она, — если я тебя возьму. Если… когда-нибудь… Я хочу, чтобы это было необузданно.
Я смог лишь тихо простонать:
— Да.
Она встала, не выпуская моей руки. Я проводил ее до двери. Расставаясь, мы прошлись пальцами по рукавам друг друга, потом я вернулся за наш столик, сел на то же место, с которого только что встал, и уткнулся взглядом в противоположный конец зала.
Хэмпстед. Той ночью я представлял себе это место. Дикие, заросшие вереском и папоротником пустоши, где когда-то водились кабаны, завывающий ветер, высокие холмы на фоне прозрачного зимнего неба. Лег я рано, чтобы сильно не терзаться чувством вины и иметь время подумать о Хэмпстед-хит. Почему я выбрал место, где встречаются гомосексуалисты? Почему я выбрал этот открытый со всех сторон клочок заросшей кустами земли, который назывался Прайорс-филд? Есть же места получше, посадки под Палэмент-хилл например, с рощей старых узловатых дубов и живописной маслобойней. Какая разница! Пустошь взывала ко мне звериным воем: «Собака Баскервилей», «Волки Уиллоуби-чейз»[36], «Возвращение на родину»[37]. Туда я уведу ее. Рядом примостилась Лелия. Сегодня она рано легла.
— Нет… читать сегодня не будем, — сказал я ей.
— Нет, нет, — отозвалась она. — Я просто хочу побыть с тобой.
Я предавался своим мыслям, пока она, укладываясь, тихо ворчала что-то непонятное, потом искала свою книгу, потом опять что-то ворчала.
Свернувшись клубочком, она прижалась ко мне. Было приятно чувствовать, как края ее ночной рубашки скользнули по коже, это сладостное ощущение вплелось в канву моих фантазий. Она укусила меня за плечо, протянула ослиное «и-а»: мы часто в постели издавали разные звериные звуки, хотя уже никто и не помнил, откуда это повелось.
Я позволил себе расслабиться. Лег на спину, свободно раскинул ноги, слегка согнув их в коленях, как лягушка. Сколько бы я ни представлял себе встречу с этой миниатюрным бледным созданием на пустоши, мое сердце сжималось холодными металлическими щепами, как у подростка, который не в состоянии контролировать свои желания. Когда это произойдет? Завтра? Завтра — это слишком рано, слишком страшно. Лучше, чтобы попозже, чтобы я успел посмаковать, но и тянуть слишком долго тоже не стоит. В среду? Я представил себе свой ежедневник, он был открыт и ожидал, когда я внесу в него запись. Любой день, любой день подходит для того, чтобы я встретился с ней там под спасительным покровом ночи, не было такой работы, не было такой жизни, которая могла бы остановить меня. Я стал прикидывать в уме, как мне лучше будет сбежать в Прайорс-филд в день сдачи в типографию.
Лелия хотела секса. Но я не мог, просто не мог. Ничто во мне не шелохнулось. Ее рука гладила мою грудь, а я в этот момент видел перед собой кенвудские равнины, замерзшие пруды, дорогу среди холмов у Саут-энд-грин.
Решил проверить, что почувствую, если прикоснусь к Лелии. Рука погрузилась в горячие складки ее ночной рубашки. На ночь она надевала свободные широкие рубашки, как будто у нее уже был большой живот. От одного этого у меня пропадал всякий интерес. Ее грудь налилась. Там, где Сильвия была миниатюрной, она была пышной. Я не мог себя заставить. Из тенистого парка Прайорс-филд за мной следила Сильвия. Губы Лелии приоткрылись. Ее темные волосы разметались по подушке.
Мы обнялись. Ее рот приблизился к моему. Притягательный запах ее феромонов чувствовался в дыхании, на языке.
Девочка-дикарка с хитрецой во взгляде, словно сошедшая с одной из фотографий, сделанных Льюисом Кэрроллом, закрыла собою Прайорс-филд как раз в тот миг, когда я подумал, что ничего у нас не выйдет. Чем ближе я придвигался к ней, тем женственнее и красивее она казалась. Бедро Лелии осторожно вжалось мне между ног. Но я не могу жениться на обеих. Я не могу отдать Лелии эрекцию, предназначенную для Сильвии Лавинь.
Она хотела, чтобы я лег на нее сверху. Эрекция ослабела. В отчаянии я стал думать о шлюхах, морячках, кинодивах из старых пожелтевших фильмов, о чем угодно, что могло бы помочь мне сохранить твердость. По Хэмпстед-хиту промелькнула тень. Я не стану ее преследовать.
«Наняли няню. Иногда мне казалось, что я слышу крик ребенка, но эти звуки были лишь порождением моего воображения, или же еще не родившийся ребенок, плавающий в своем жидком соленом мире, решил опередить время, чтобы посмеяться надо мной. Сияющая улыбка будущего мальчика играла на губах матери, словно след от поцелуя.
Каждый день тренировалась быть лучше, безропотно слушалась, училась, следила за своим поведением. Я вышила для нее несколько картинок. Чтобы вышивать, я пряталась в яслях. Если я попадалась ей на глаза, ощущала на себе взгляд, полный отвращения. Я изо всех сил старалась держаться от нее как можно дальше. Я думала, что если мне удастся затянуть себя в корсет, чтобы остаться такой маленькой, насколько позволяет тело, стать невидимой, если буду учиться еще напряженнее, с еще большим рвением, до безумия, то однажды найду свое место в мире.
Мы с Эмилией упражнялись. Когда я наряжалась джентльменом и мы были женаты, у меня получалось заставить ее кричать и вздыхать».
Было раннее утро, еще не рассвело. Я поднялся с кровати, включил компьютер и прочитал анонимные письма Сильвии, которые в моем сознании непонятным образом стали ассоциироваться с их отправителем. Бывало, я бегло просматривал первые строки файла, перед тем как уничтожить его, не желая, чтобы ее образ, сложившийся у меня в голове, был испорчен на весь день этой странной гранью ее внутреннего мира. Хоть трудно было представить причину, по которой она занималась этим, маленькие жутковатые отрывки мелодрамы задевали меня за живое. Впрочем, я никогда бы не решился (так же как избегал и многих других вещей) заняться поисками ответа на вопрос «почему?», чтобы не разочароваться в ней.
Не находя себе места, я ждал встречи на Хэмпстед-хит, но Сильвия Лавинь умела быть уклончивой, так же как и я умел быть по необходимости осторожным. Погода все еще стояла морозная, на улице были видны остатки снеговиков, вылепленных детьми. Я оставлял на столе записки и шел на работу, пока Лелия (бедная Лелия!) не проснулась, чтобы не видеть, как ее снова будет тошнить из-за того, что в ней рос наш общий ребенок. Думая о своем поведении, я приходил в ужас. Но скоро это закончится, успокаивал я сам себя. Я заставлю себя прекратить все это, потому что это неправильно, несправедливо и низко. Этому придет конец, и все будет так, как должно быть, а я попытаюсь стать хорошим мужем.
Часто, сам того не замечая, я ходил окольными путями, смутная и становящаяся уже привычной мысль о том, что я могу случайно встретить ее на улице, проходя мимо почтальонов, уборщиков и первых громыхающих автобусов, доставляла мне удовольствие. Теперь мне уже было известно, в каком многоквартирном доме она живет. Поэтому я шел по Эндсли-стрит, пересекал южный край Тревисток-сквер, прежде чем повернуть назад. По пути я проходил мимо Грейз-инн-гарденз, чудесная земля, которая сейчас представляла собой поле промерзшей грязи. К разгару утра я уже обычно связывался с ней.
Теми зимними днями мы часто вместе пили терракотовый чай в маленьких кафешках, грязных, прокуренных и пропитавшихся запахом жареных сосисок, куда приходили отдыхать таксисты. Но там можно было не бояться встретиться с коллегами, друзьями или Катрин, хотя я все равно то и дело нервно поглядывал на улицу за окнами. С грустью я вспомнил, что Лелия так же, как и я, любила дешевые забегаловки, понимала их красоту, ценила за то, что здесь на столах всегда лежали дешевые бульварные газеты, которые свободно можно брать и читать, ей нравилось, и как здесь готовят. Нет никакого сомнения в том, что ни МакДара, ни уж тем более Сильвия этой красоты не понимали.
Изучая грязное меню над дымящимися чашками с чаем, мы негромко разговаривали о книгах, людях, абстрактных идеях, и иногда в пылу разговора она упоминала какие-то отдельные эпизоды своей жизни — случайные осколки, отколовшиеся от того, что тщательно скрывалось от посторонних. То были картинки из того другого мира, в котором она обитала, из иного прошлого, из жизни, в которую мне очень хотелось проникнуть, чтобы сделать частью своей жизни, из жизни друзей, о которых она рассказывала, и ее «бывших», и ее призрачных и нежеланных поклонников, и разговоры с Питером Стронсоном. Но, как бы я ни старался, мне не удавалось разложить все это по полочкам. Если в ее рассказах проскальзывало название какого-то места, она практически никогда не упоминала его снова. Когда она однажды вкратце рассказала о своем детстве, я уловил некоторые параллели с ее странной повестью: ее мать, источник некого пока непонятного мне горя, сейчас, похоже, была вычеркнута из ее жизни, так же как отец и сестра. Очевидная оторванность Сильвии от семьи меня беспокоила, но мне пришлось держать при себе свою тревогу, точно так же, как приходилось мириться с ее отговорками и отказом отвечать на вопросы. Было очевидно, что она имеет какой-то небольшой дополнительный заработок, который позволяет ей заниматься научной работой, и деньги, похоже, были для нее источником тревоги, но даже в этот вопрос она не захотела внести ясность. Несмотря ни на что, когда она была рядом, я был на седьмом небе от счастья, потому что был понят; как она говорила, мы понимали друг друга.
— Ты такой же, как я, — говорила она.
— «Я и есть Хитклиф»[38], — поддразнивал ее я.
— «Правда, он носил заурядное имя Ричард»[39], — в тон мне отвечала она.
Она расспрашивала меня про мою жизнь, про детство и про все, что сделало меня таким, каким я был до встречи с Лелией. А потом иногда немного приоткрывала дверь в свою душу: высказывала вслух какую-нибудь мысль, вспоминала какой-то эпизод из детства, говорила, что думает по поводу сочинительства. А я зачарованно слушал, не обращая внимания на визг автобусных тормозов и болтовню на итальянском вокруг (этот язык она немного понимала), словно мне читали увлекательный роман. Голос у нее был такой, что я готов был слушать его вечно. Я упивался ее настроением, ее манерой говорить, ароматом волос, каждым отдельным оттенком гаммы ее запахов и цветов.
Бывало, посмотрит на меня внимательно и начнет говорить вещи, которые мне то хотелось, то не хотелось слышать, как будто вторгается на нашу с ней территорию с объективностью постороннего, отчего я приходил в замешательство и воодушевлялся одновременно.
— Твой голубой начальник… — могла она как бы вскользь начать предложение.
— Что? — удивлялся я, и отвергнутые когда-то подозрения сразу же вспыхивали с новой силой. — Он что, голубой?
— Конечно.
— Откуда ты знаешь?
— Но это же очевидно, — говорила она и совершенно спокойно продолжала затронутую тему, переключившись на обсуждение моей собственной гипотетической гомосексуальности. — Если бы ты был педерастом, ты был бы влюблен в МакДару, — говорила она.
— Ну уж нет. Никогда! — хохотал я в ответ.
— Был бы, был бы. Он бы доводил тебя до безумства, но ты все равно был бы ему предан всей душой.
— Что за бред, Сильвия! — говорил я.
— Он как раз из тех мужчин, которые тебе нравились бы, — продолжала она, подняв одну бровь. — Вечно беспокойный. Возможно, причина тут в том, что ты полуненавидишь своего отца.
— А что, я его полуненавижу? — поражался я.
Или спрашивала сухим тоном:
— А почему тебя так волнует финансовое положение родственников? — Или вдруг заявляла, что я на самом деле намного добрее, чем догадываюсь, или напористее, после чего бралась за мою любовь к морю и парусникам (которая вообще-то ей нравилась) и утверждала, что для меня она — повод как-то отключаться от работы за письменным столом.
— Мне кажется, что ты очень умен, но стараешься этого не показывать, — говорила она. — Изображаешь из себя шута.
— Никогда бы не подумал, — только и мог произнести я в ответ.
— Да. Кого ты этим защищаешь?
По ночам я снова видел перед собой обстановку той удушливой забегаловки или какой-нибудь чистенькой маленькой булочной, где в тот день мы касались друг друга руками. Хэмпстед-хит превратился в данное когда-то обещание, оно высилось надо мной, как некий отвесный скалистый уступ, до которого никак не удавалось дотянуться. Кажется, вот он уже совсем близко, только руку протяни, ан нет, рука натыкается на пустоту, уступ ускользает, как будто уходит в сторону. И тогда я старался как можно быстрее заснуть, ища во сне спасение от чувства вины и супружеского секса.
— Помнишь ту француженку, Сильвию? — одним мартовским утром спросила Лелия.
— Что? — встрепенулся я. — А она что, француженка? — добавил я, чтобы скрыть охватившее меня волнение.
— Ну, частично. Скорее всего, да, — сказала Лелия.
— Ага, понятно, — пробормотал я, чувствуя, как у меня передернуло губы.
— Знаю, знаю, ты не хочешь влазить в наши скучные научные дела и так далее. На днях я ее видела из окна.
Сердце екнуло.
— Я помахала ей, но она меня не заметила.
— Понятно, — повторил я.
— Я тут подумала про нее. Как у нее дела. Я ей когда-то сделала читательский билет в Сенат-хауз.
— Да? — удивился я.
— Да.
— Понятно.
— Она какая-то странная. Вот мне она всегда казалась отшельником, но она упомянула, что живет с кем-то, и я стала воспринимать ее совсем по-другому. Я думаю, она…
— Что? — не смог сдержать волнения я.
Лелия посмотрела на меня. Удивленно вскинула бровь.
— Ну, просто замкнутая какая-то, что ли. Но вовсе не одинокая.
— Но как же… я хочу сказать, не может этого быть, не может быть, чтобы она с кем-то жила! Она ж такая маленькая, бледненькая, у нее наверняка еще ни разу и мужика-то не было. Господи Боже, она… ни разу… она наверняка живет с бабушкой какой-нибудь.
Лелия рассмеялась.
— Да нет, она живет с Чарли. Я, когда узнала, тоже удивилась.
— Так, и чем занимается этот урод? — я уже начинал слетать с катушек.
— Нет, нет, это женщина… соседку ее так зовут.
— Чарли?
— Да. — Тут Лелия нахмурилась. — По крайней мере я так поняла из ее слов. — Она помолчала. — Нет, я думаю… Чарли… А знаешь, может, я и ошибаюсь. Может быть, она просто прикидывалась скромницей и так зовут ее парня. — Лелия пожала плечами.
— Невозможно! — взорвался я. Сердце уже выскакивало из груди.
Лелия опять посмотрела в мою сторону и рассмеялась.
— Ты, похоже, действительно считаешь ее уродиной несусветной? Скучная, забитая девственница, как некоторые мои подруги, да? Я бы не была так уверена в этом.
— Да какая, блин, разница, — я наконец взял себя в руки, стараясь теперь сохранить хоть какое-то подобие спокойствия. — Не знаю я. Мне все равно. Как твои соски? Как тошнота? Давай кофе выпьем.
Вот сука, думал я, выходя на работу. Хитрая лживая потаскушка. Но тут я вспомнил про Хэмпстед-хит, и ноги чуть не подкосились от приступа вожделения, словно ко мне вернулись юношеские привычки: когда меня отторгали, я странным образом возбуждался еще больше. Но я задушил в себе это чувство. Просто решил не поддаваться ему. Эта бесстыжая сучка может проваливать ко всем чертям. В офисе я первым делом взялся заполнять ежедневник. Потом послал по электронке письмо Рену с предложением встретиться в среду вечером. Позвонил старой университетской подруге Катарине и договорился с ней пообедать вместе. Позвонил МакДаре, но он был весь в своих делах, раздраженно прокричал, что перезвонит мне, и бросил трубку. Софи из отдела передовиц предложила вместе пообедать, я не стал отказываться. Потом я рьяно принялся за работу, которая скопилась за последнее время. И все-таки я должен был знать, живет ли Сильвия Лавинь с каким-нибудь похотливым ублюдком, который, трахая ее, нашептывает на ухо скабрезности, или же она снимает квартиру с тщедушным желтокожим хлюпиком, который вывешивает на батарею ее колготки и ноет по поводу счетов за телефон.
После умеренно бурного общения с Софи во время обеда я снова ушел в себя. Это, наконец-то понял я, и был ее образ жизни. Это могло продолжаться неделями, месяцами. Убрал со стола кипу корректур, посмотрел кое-какие статьи и случайно наткнулся на лист бумаги в линию, неровно вырванный из записной книжки. На нем маленькими прыгающими буквами была нацарапана короткая записка: «Привет. Это я… Не скучай, счастливо поработать, чем бы ты сейчас ни занимался. Люблю. Осыпаю поцелуями. С.».
Внутри все оборвалось. Я словно остолбенел, только мысли начали работать в ускоренном темпе. Когда она могла это написать? Как она попала в офис? Снова перечитал записку. Сердце заныло. Так вот, значит, какой почерк у серой мышки из околонаучных кругов. Я подумал, что в общении со мной она до сих пор ни разу ничего не написала от руки, мы общались эсэмэсками или по электронной почте. Хотя почерк казался отдаленно знакомым.
Лелия через пару дней после нашего знакомства как-то сказала: «Я как-то странно себя чувствую, мы вроде бы знакомы, но я все еще не знаю ни твоего дня рождения, ни второго имени. Даже не знаю, какой у тебя почерк».
Так оно и было. Эти указывающие на действительную близость двух людей мелочи, которые вскоре навсегда врезались в сознание, нам тогда только предстояло открыть. Теперь же почерк Лелии я знал, как свой собственный. Я его узнавал, даже когда она специально меняла его, чтобы написать мне поздравление на валентинке. Я знал ее прописные буквы, как она пишет цифры, даже с ходу мог узнать ее запятые. И тут я понял, почему почерк Сильвии показался мне знакомым. Дело в том, что я когда-то давно (кажется, уже прошла целая вечность) уже видел его, это было в «Марин Айсез», когда она вручила мне листок со своим именем и номером телефона. Эта записка, наверное, до сих пор валяется где-то у меня в кабинете среди бумажек.
— Послушай, — резко начал я, когда мы встретились в следующий раз, но замялся. Все заготовленные заранее гневные и обличительные слова куда-то пропали, на их место пришло лишь детское: — Что же ты своего Чарли бросила?
Глаза ее расширились, когда она удивленно и как-то даже презрительно уставилась на меня.
Я попытался придать своему голосу жесткость:
— Ну, что скажешь?
Она отвернулась, горделиво вздернув нос.
— За все это время ты даже не упомянула об этом.
— Ты и не спрашивал.
— Я… Но ты же не рассказывала.
— Ты не спрашивал. Ты делал выводы.
Я слабо покачал головой.
— Что, разве не так? — сказала она. — Ты сам решил, что у меня никого нет.
Я открыл рот, собираясь возразить.
Она замолчала. Бледность Сильвии лишь подчеркивала ее ледяной тон.
— Ладно, кто он? — наконец выдавил из себя я.
Она слегка качнула головой.
— Мы были вместе… — отрезала она.
— То есть вы когда-то жили вместе?
Взгляд, брошенный в мою сторону, означал согласие.
— А теперь он разрешил тебе остаться в вашей квартире?
Никакого ответа.
— Просто так, по доброте душевной?
— Я… — промолвила она. — Чарли очень добр ко мне.
— О, неужели? Так кто же он такой, этот милый человек? — злобно рявкнул я. — Сожитель и сосед? Ты с ним трахаешься или кашу готовишь? — продолжал наседать я. — Или, — добавил я, вспомнив предположение Лелии, — может быть, это женщина? Тогда зачем было скрывать, что ты живешь не одна?
Она искоса посмотрела на меня и сказала:
— Не надо так со мной разговаривать.
— И все-таки, кто он? — не отступал я.
— Это сложно, — уклонилась от ответа она.
— Да ну? Так вы живете вместе или нет? — спросил я, понимая, что время уходит.
— Мы редко бываем вместе, — уклончиво ответила она.
— Ну да, конечно. То есть вы с Чарли…
— Ты, — оборвала меня Сильвия, — живешь в собственной квартире. У тебя есть жена. Подруга. Любовница.
Я опешил. Замолчал, подбирая слова, но так и не нашелся, что ответить. В шее неприятно запульсировала жилка.
— Значит, что позволено тебе, не позволено мне? — горячо продолжала она. — Что за двойные стандарты? Такого я от тебя не ожидала. Это ужасно! — Голос ее начал слабеть, но она попыталась это скрыть. Заговорила с надрывом. — Просто отвратительно! Кто тебе дал право так на меня орать? Я ненавижу тебя! Ты не имеешь права так со мной поступать. Оставь меня в покое.
Когда я посмотрел на нее, у меня перехватило дыхание. Я увидел совершенно белое лицо, перекошенное болью. Я обнял ее и прижал к груди.
— Это нечестно, — послышался ее голос. — Ты… устроен в жизни. Женат. А ты ведь все равно женишься на ней, так ведь? Я точно знаю, женишься.
Я немного отстранил ее от себя, чтобы поцеловать, и в уголке глаза у нее блеснула слезинка. Она попыталась вытереть ее.
— Не надо, — сказал я. — Пожалуйста, не надо.
— Ведь женишься, да? — спросила она, бегая глазами по моему лицу. И в ту секунду она выглядела такой незащищенной, слабой, доведенной до отчаяния, какой я ее никогда не видел. — Конечно, женишься.
Я не знал, что сказать. Снова прижал к себе. По ее щеке скатилась еще одна слезинка. Она вытерла ее рукавом. Посмотрев ей в глаза, я впервые за все время нашего знакомства увидел в них страх загнанного животного. Я хотел как-то успокоить ее, утешить, но тут она обвила мою шею руками и прижалась своими губами к моим, жадно, страстно. На ее губах чувствовался солоноватый привкус слез, и, когда она стояла, всхлипывая, а я покрывал поцелуями каждый квадратный сантиметр ее лица, терзая себя за то, что довел ее до такого состояния, меня охватило странное ощущение. Я как будто почувствовал облегчение, оттого что понял, что мы теперь с ней равны. Она — мой маленький сообщник. Я стал всего лишь соучастником преступления. Вину теперь можно было делить на двоих. И мы будем идти дорогой, которую укажут нам наши желания, вместе до конца, пока однажды, очень скоро, сами не поставим точку. Любой преступник ищет оправдания своим поступкам.
13 Лелия
Сколько себя помню, меня всегда преследовало тягостное ощущение, что я могу становиться причиной смерти. Меня преследовал ее запах: сначала отец на носилках в продезинфицированной комнате, потом, после выкидыша, такой же точно запах, пройдя через носоглотку, осел на языке. Во Франции мне пришлось устроить проверку своей силе, чтобы убедить себя, что я ею не обладаю. Мой внутренний суд присяжных (а фактически к тому времени это уже были голоса, которые я начала слышать) внимательно изучал все доказательства. Думая, что окончательно свихнулась, я написала на французском языке несколько строчек про птиц и лягушек, которых видела в саду, и закопала бумагу в землю. С помощью этих маленьких существ я хотела выяснить, могу ли я привести их к смерти только тем, что напишу про них. Потом я ходила по саду и искала их маленькие тела в росе.
Мне не давали покоя мысли о смерти. Все потому, что отец уже перешагнул эту черту и теперь существовал в форме гранул пепла или вообще полностью испарился, а я, крепенькая живая девчушка, двигаюсь, дышу, ем и возвращаю съеденное природе. Когда мы с Софи-Элен уходили в сад, где она до заката рассказывала о своих любовных переживаниях, мы с ней, как это делают дети, принимались экспериментировать со своими телами: играли в левитацию, в отключение сознания, сначала глубокими вдохами вентилировали легкие, а после надолго задерживали дыхание — до помутнения в голове (только тогда образ отца исчезал). В кустах над бурлящим потоком воды она хриплым голосом рассказывала, как днем Мазарини чуть не задушил ее в момент близости. Даже показывала на мне, что он с ней делал.
— Вот так, вот так, — возбужденно говорила Софи-Элен, прикладывая пальцы к моей шее. Ее круглые глаза казались двумя черными точками, взирающими на меня сверху вниз. Для нее я была всего лишь слушателем, с которым можно поделиться впечатлениями о том, что было пережито за день, pis-aller[40]. Мы возбуждались все больше и больше, задерживая дыхание и заставляя себя терять сознание на несколько секунд, погружаясь при этом в полную, абсолютную темноту, повторяя их с Мазарини эксперименты. Боль от удушья медленно растворялась в звездном небе.
На следующее утро Софи-Элен, как всегда, исчезла со своим другом, оставив меня в одиночестве. Редкий косматый экземпляр, пойманный и посаженный в клетку в белом городе. Моя ванная в доме Мазарини, вместе с архипелагами пятен и картами трещин, в бамбуковом утреннем свете превратилась в Африку. В тенях притаились охотники в пробковых шлемах. Я услышала шаги Мазарини и Софи-Элен, поднимающихся по лестнице. Меня снедала ревность. Иногда я плакала. Мне хотелось выследить их, накинуть на них сеть, сделать чучела и поставить пылиться на полку, чтобы при свете дня взять себе кусочек того удовольствия, которое они переживали. Мне нужно было, чтобы он оценил меня по достоинству, чтобы он посмотрел на меня.
Днем мать ушла. В коридоре на столике я увидела нераспечатанный пакет с рентгеновскими снимками, которые привезли для нее из Жьена. С одного из лестничных пролетов послышался возбужденный шепот. Я спряталась за дверь. Когда они, оживленно разговаривая, прошли по коридору и стали подниматься по другой лестнице, я осторожно выглянула и посмотрела на них. Оказалось, что они совершенно голые. Софи-Элен была выше, грудь — два маленьких конуса. Когда мой взгляд скользнул по Мазарини, я увидела плоскую грудную клетку и узенькое расщепление на месте соединения ног, как у бесполой куклы. Я смотрела до тех пор, пока два почти одинаковых тела скрылись за углом.
Мазарини был девочкой. Шок, вызванный этим открытием, был настолько сладким и одновременно отвратительным, что навсегда засел у меня в голове. Я часто вспоминала об этом, живя обычной жизнью. По-моему, мне всегда хотелось самых обычных вещей. Или я заставляла себя хотеть обычных вещей, опасаясь возможных неудач. Я бы никогда не смогла стать актрисой, как некоторые из той группки счастливых девочек, которые заправляли делами в нашей школе, у которых были и отцы — телевизионные продюсеры, и контракты с домами моделей, и дома в Суффолке. Я бы никогда не стала адвокатом-криминалистом или врачом, в особенности врачом. Конечно же, я мечтала о карьере, но не то что из кожи вон не лезла, чтобы пробиться в какой-то одной области, но даже и не задумывалась о том, чтобы выбрать конкретное направление. Пожалуй, несмотря на то что тогда такие мысли были не в моде, мне больше всего хотелось иметь дом, дом, в котором жили бы я, мужчина, который не умрет у меня на глазах, и наш ребенок.
Все свое время я проводила за книгами, мечтая о том, какой я буду уверенной в себе и умной и что однажды, когда настанет час, я встречу своего единственного. И когда после стольких ошибок я повстречалась с Ричардом, ощущение было такое, что на следующий день после нашего знакомства как раз перед обедом я вдруг поняла, что встретила свою любовь. Уверенность была такой твердой, что я не сомневалась ни секунды.
— И у тебя было это, и у меня было это, — всегда повторял Ричард. — Не забывай об этом, невеста.
Впервые мы увидели друг друга на катере. Потом мы называли его «Корабль любви», хотя его настоящее название (написанное полувыцветшей краской на носу) — «Гленкора». Это название я никогда не произносила вслух (даже при Ричарде), чтобы не сглазить любовь. Это случилось рано утром в Норфолке, в городке Блейкни, под доисторическим небом, рядом с кустом критмума. Мы сели на один и тот же катер, который вез желающих посмотреть на колонию тюленей. Но ни его, ни меня тюлени на самом деле не интересовали: я тогда пыталась забыться после неудачного романа, а его всегда тянуло к себе море. В тот день он собирался днем взять напрокат скоростную моторную лодку и воспринимал эту морскую прогулку как небольшую разминку.
Я тогда еще встречалась с археологом по имени Пол, который к тому времени уже перестал быть мне интересен. Слава Богу, прошлым вечером он в местном пабе наелся креветок сомнительного качества, так что в тот день у меня появился отличный повод избежать его домогательств. Ричард попал туда в командировку, которую выпросил у себя на работе в отделе путешествий. Его престарелая актриса не вылазила из отеля. Он случайно попал на тот катер. Если бы тогда Пол не заказал креветок, а Ричард не подошел к окну, мы бы с ним так никогда и не познакомились. Позже он рассказывал, что в то утро лежал в кровати в своем номере и думал, как бы склонить свою подругу к утреннему сексу, но унылый рассвет и крики ловцов устриц заставили его подойти к окну. Он увидел катер, покачивающийся на волнах у причала (образ, волновавший его с детства). Быстро побрившись и кое-как одевшись, он вышел на пристань. Однако он чуть не опоздал к отплытию, потому что, ощутив морские запахи, принесенные бризом, захотел сесть на берегу и поесть крабов. Случись так, он бы отправился на экскурсию с совсем другими людьми. Я сидела на скамье в самом конце палубы одна, поэтому видела, как, когда канат соскальзывал с причальной тумбы, в последнюю секунду на палубу запрыгнул Ричард Ферон, запыхавшийся, с растрепанными волосами. Он засмеялся, когда катер оторвался от пристани с легким толчком.
Повернулся ко мне.
— Можно сесть рядом с вами? — обратился он ко мне.
— Садитесь, — разрешила я.
Он сел.
— Спасибо, — поблагодарил он и добавил: — Мне не понравился вид вон тех спортивных костюмов, но очень хотелось бы укрыться от холодного ветра с юго-запада.
Нахмурившись, он бросил взгляд на неприветливый серый горизонт. На нем были потертые вельветовые брюки и бесформенный плащ, на фоне которого его глаза казались голубовато-зелеными, хотя, как я заметила позже, были в них и серый оттенок, и бронза. В ту минуту они показались мне ужасно красивыми.
— Посмотрите только, — сказал он. — Весь Чизвик здесь.
— А я думала, Патни[41], — отозвалась я.
Он обернулся ко мне, улыбнулся, и мы стали разговаривать под шум работающего мотора. Прямо под локтями бурлила вода; когда винт начал работать быстрее, нас обдало веером брызг. Катер, описав дугу, выплыл из устья реки в открытое море. Ричард выглядел, как персонаж старого черно-белого фильма, сделавшегося почему-то цветным. Над нами — мрачное, хотя и яркое, небо, внизу — черная вода в белых барашках. Я чувствовала запах его пены для бритья, заметила пятнышки на подбородке и щеках, указывающие на то, что он собирался в спешке. Он напомнил мне молодых людей с фотографий пятидесятых годов: традиционный плащ, выразительный нос, непослушные волосы, несколько густоватые брови и рот, который, если не находился в движении, приобретал легкий оттенок грусти, как у мужчин, наделенных особой харизмой. У него были красивые руки. И голос его мне понравился: звучный, веселый; еще он задавал слишком много для мужчины вопросов.
Он посмотрел на галдящую толпу и посерьезнел.
— Я не только хотел побыть подальше от этих болтунов, — объяснил он. — Я хотел, чтобы ты была со мной в паре, когда мы будем смотреть на тюленей.
— Понятно, — кивнула я, и мы проболтали все два часа экскурсии, перебивая друг друга, разговаривая все быстрее и быстрее, смеясь и (уже тогда) обмениваясь шуточками, которые со стороны показались бы чрезвычайно грубыми. Тюленей мы удостоили лишь беглым взглядом. Над катером кружили чайки, мотор старательно пыхтел, борта уже успели нагреться, небо очистилось, и ярко светило солнце. Я начала задумываться, увидимся ли мы когда-нибудь снова, и вопрос этот тревожил меня все сильнее и сильнее под конец нашего плавания, когда катер, покачиваясь, уже подплывал к причалу, пробираясь через соленые болота.
— Мы сегодня вечером вместе могли бы вернуться в Лондон, — сказал он. — Завтра можно будет еще раз встретиться.
— Я не против, — ответила я, не веря своему счастью.
— Давай позавтракаем вместе перед работой.
— А где? — спросила я единственное, что пришло на ум.
— В Сохо.
— Отлично. Идет.
— Ты сегодня можешь возвращаться?
Молча кивнула.
Не дав Полу опомниться и даже позавтракать, я вытащила его из гостиницы, и мы уехали из Блейкни, чтобы провести день где-нибудь в Уэльсе, Бернеме или Кромере, мне это нужно было, чтобы случайно не встретиться с Ричардом, чтобы он не разочаровался, увидев меня с обветренным лицом или моего безвольного спутника, или я еще, чего доброго, не потеряла бы дар речи от неожиданности. Я все еще всматривалась в корабли в разных портах, боясь увидеть на одном из них Ричарда. Кроме того, специально вернулась в тот вечер очень поздно, чтобы Пол начал еще больше злиться и подозревать. Моей целью было отменить совместный уик-энд, который мы с ним запланировали. Не испытывая никаких угрызений совести, я использовала возникший спор как повод к разрыву с ним.
На следующее утро мы встретились с Ричардом ровно в восемь часов. Мы бродили по городу, несколько раз заходили в кафе и сразу срывались дальше, нетерпеливо, как птицы, и шли, шли мили и мили. Мы оба в тот день прогуляли работу и встретились снова после обеда, и к тому времени во мне уже все клокотало. В тот день я плакала, потому что не знала, как по-другому выразить чувства. Вечером мы снова увиделись, а через две недели я переехала к нему.
Зимой, когда Ричард начал поздно приходить с работы, стал редко заниматься со мной сексом и совершенно забыл о нашем ребенке, его пренебрежение мною стало воплощением моих всегдашних страхов, которые, впрочем, давали мне надежду, что реальность меня не коснется. Мне всегда казалось, что этот беспокойный, самонадеянный энергетический вампир постепенно охладеет ко мне, потому что в его глазах я была всего лишь невразумительным маленьким ничем из пригорода. Но что еще хуже, я была жестока, во мне было такое, в чем я не признавалась сама себе и что не могла заставить себя объяснить ему. Раз в год я давала себе обещание все обдумать: к концу января, к концу лета; но, когда наставал ноябрь, исполнение обещания отодвигалось на следующий год, старые переживания и тревоги объявлялись паранойей и отметались. И я так и не рассказала Ричарду, чего я боялась.
Ощущение было такое, будто я заблудилась в пещере, в которой хотела спрятаться. У нас появились секреты друг от друга.
Зазвонил телефон, и мне пришлось спуститься вниз.
Звонила Катрин.
— Привет! — сказала она.
— Извини, Катрин. Я тебе перезванивала, но тебя не было дома. Уже несколько недель ведь прошло.
— Да ничего страшного, — сказала Катрин. Спокойная и апатичная, как всегда.
Я посмотрела в зеркало на свой живот, погладила его.
— Между прочим… — сказала я, мне ужасно хотелось поделиться с кем-то еще. — Я беременна!
Какое-то время в трубке было молчание. Бурного проявления радости от вечно вялой Катрин ждать не приходилось.
— О! — отозвалась она наконец, потом таким же спокойным голосом добавила: — Ух ты. Поздравляю.
— Спасибо.
— Я… — начала она, но снова замолчала.
— Да, — продолжала я. — Меня так тошнит! Я… — Я подождала, что она поддержит разговор.
— Да, — сказала Катрин. — То есть я хотела тебе сказать, что… — Снова тишина.
— Что ты хотела сказать, Катрин? — терпеливо спросила я, чувствуя, что это может затянуться надолго. Посмотрела на себя в зеркало, подняла брови. Потом подняла их еще выше, чтобы узнать, как высоко они вообще поднимаются.
— Не знаю. Я… в общем…
— Странно, — меня вдруг разобрало любопытство. — Ведь ты же звонила не один раз.
— Ты придешь на день рождения МакДары?
— Да. Наверное, приду. Ричард, по-моему, тоже будет свободен. Но о чем ты хотела поговорить со мной?
— А, да так. Ни о чем, — сказала Катрин. — Извини, я звонила просто так. Мне нужно было… Хочу приблизительно понять, сколько гостей будет.
Я удивилась, но потом мне стало даже смешно.
— И это все? — спросила я.
— Да, — ответила она, но голос уже звучал отдаленно, как будто она теперь говорила не прямо в трубку, а издалека. — Да, все. Надеюсь, ты придешь.
14 Ричард
Телефон начал звонить, когда я снял и бросил куртку на диван. От неожиданности я аж подпрыгнул на месте, нервы совсем расшатались. Недавно в Лондон вернулась Катрин, хотя Лелия про нее как будто не вспоминала. Я собрался с духом (мне до сих пор это приходилось делать каждый раз, когда звонил телефон) и снял трубку. Это был МакДара. Он хотел знать, приду ли я к нему на день рождения.
— Да, да, Мак, — устало сказал я.
— И все-таки, придешь ты или нет? — кричал в трубку МакДара, ему приходилось перекрикивать шум многочисленных звонящих телефонов.
— Вообще-то в следующем месяце у меня куча дел, — сказал я. Никакие более или менее правдоподобные отговорки в голову не шли. — Но я постараюсь.
— После такого тебе лучше подарить мне какой-нибудь офигительный подарок.
— Я привезу тебе бегемота из зоопарка, — произнес я и рыгнул.
— Двоих, — рявкнул МакДара. — Самца и самку. — Он бросил трубку.
Лелии дома не было. Я подошел к окну, потом распахнул его и стал мерить комнату шагами. Без нее наша квартира казалась больше. С улицы потянуло холодным воздухом, я не стал закрывать окно, наоборот, подождал, пока холод проберет меня. Ощущение было такое, будто я плыву на паруснике против сильного встречного ветра. Выглянул на улицу, посмотрел на сад. Мороз может в любую минуту прекратиться, и тогда ледяной куб безумия, в который вмерз я, растает и я полечу вниз. От этого ощущения мне сделалось тошно.
— Дорогой! — сказала Лелия, входя в комнату. — Я не думала, что ты уже дома.
Она опустила глаза.
Мы обнялись. Было видно, что она устала. По-настоящему устала. От выражения святой девы уже не осталось и следа.
— Сядь, — сказал я. — Как ты?
— Нормально, — коротко ответила она. Наши глаза встретились. Ее взгляд говорил о том, что она знает. Меня охватила паника. Но и я знал Лелию. Она все держала в себе, моя Клеопатра. Иногда мне казалось, что она даже лучше, чем моя мать и ее друзья, прошедшие войну, умела переносить плохие новости. Но в таком-то деле она наверняка не стала бы сдерживаться, накинулась бы на меня с криками, начала бы плакать.
В какой-то миг я даже настолько растерялся, что чуть было не сказал: «Слушай, давай все это обсудим». Слова уже сложились в голове в предложение. Как легко было произнести его вслух! Я уже видел, как обниму ее, прижму к груди, склоню голову ей на плечо, признаюсь во всем, после этого обязательно будут слезы, крики, ссора.
Она снова подняла на меня глаза. Боли в них уже не было. «Мадонна в скалах» исчезла. Мы слишком хорошо знали друг друга. В какую-то секунду мне пришла в голову мысль признаться во всем просто так, поддавшись безрассудству, взять и швырнуть гранату в наши отношения, чтобы посмотреть на интересный взрыв. К тому же я уже не мог держать в себе отвратительное напряжение, с которым я жил последнее время. Но я промолчал.
— Четырнадцатого у МакДары день рождения, — напомнила она.
— Четырнадцатого? — в нерешительности произнес я. — Ах да, точно.
Немного помолчали.
— И у нее будет юбилей, — сказала она, показав на свой живот. — В пятницу.
— Ну конечно, — сказал я, наклонился, поцеловал ее в живот и на несколько секунд остался в таком положении. Когда распрямился, в голове гудело от чувства вины.
— А потом… весна. Потом июнь, — как-то невпопад сказал я. О свадьбе никто из нас не упоминал.
Она кивнула.
— Июнь, двадцать шестое, — добавил я.
— Давай поговорим об этом в другой раз, — предложила она.
Когда настал день рождения МакДары, я все еще находился в этом ужасном состоянии неопределенности. Я оделся, побрился, решил: будь что будет, и уже собрался выходить, но тут на мой электронный ящик пришло письмо с хотмейловского адреса.
«Индианка так же, как и я, могла читать по памяти целые поэмы, знала много интересного про дальние страны. Когда я увидела, как она целует Эмилию, мне захотелось разорвать ее, задушить или сделать ее такой же, как я. Но Эмилия принадлежала мне, с ней мы сливались и улетали в такие далекие края, до которых даже индианке никогда не добраться. Но это было нужно, нужно, так я готовила себя к тому дню, когда я повешусь или каким-нибудь другим способом спасу себя от матери. Поэтому мы упорно продолжали работать, недоедать, упражнять дыхание, не обращая внимания на трудности».
Я наскоро прочитал письмо, удалил его и вышел к Лелии, которая уже ждала на лестнице. Она была нарядно одета в яркое и разноцветное и казалась очень красивой. Поездка к МакДаре напомнила мне нашу поездку к нему на Рождество, когда мы ехали на такси (как же давно это было, словно в прошлой жизни!), только на этот раз у нас не проснулось горячее желание заняться любовью, мне не предстояло встретиться с мышкой, и теперь я знал, что внутри Лелии растет ребенок. Что-то бередило мне душу. Иногда по утрам я просыпался с чувством беспокойства, приходилось напрягать мозг и пытаться отыскать причину тревоги. Так и сейчас я не мог понять, что меня гложет. Потом я понял, что это был роман Сильвии.
Дверь нам открыл МакДара. К встрече с Катрин я подготовился заранее. Все обдумал, даже порепетировал, как при первом же удобном случае стану просить ее о сострадании, без всякого притворства скажу, что вверяю себя в ее руки. Перспектива такого разговора была не из приятных. Я бросил МакДаре подарок и направился прямиком на кухню пить.
Стоя под расположенными рядом встроенными светильниками, направленными на блестящий бледно-голубой холодильник марки «Смег», я подумал: вот что значит быть богатым. Сначала меня разобрала зависть, потом проснулась злость. Лет до тридцати МакДара вызывал у меня сочувствие из-за полного отсутствия артистического начала. Но теперь я видел перед собой плоды жизни, которую он для себя выбрал, — квартира в роскошном четырехэтажном доме викторианской эпохи в Ислингтоне[42], под завязку набитая дорогой мебелью из «Хилз»[43], на стенах мазня Рена, а на полу ковер, такой мягкий, что хочется опуститься на колени и вгрызться в него, забить рот длинным ворсом. У меня такого никогда не будет. Мне уже не казалась такой уж привлекательной идея всю жизнь прожить в мансардном помещении. Возвышенные и непрактичные амбиции не помешали мне стать неудачником. Все честолюбивые юношеские замыслы, в свершение которых так искренне верилось, были реализованы в лучшем случае наполовину и кое-как. А Рен! Рен, который столько лет горбился на работе, пока не превратил свое хобби в коммерческое предприятие, не испытав при этом ни капли тех мук, через которые должен пройти настоящий художник, и даже не задумываясь заняться чем-нибудь другим. И вот уже тихий и скромный Рен, обитающий в «половинке» частного дома, загребает деньги лопатой. С нарастающим чувством беспокойства я отогнал от себя ощущение собственной ущербности. Я могу жить в корабельной каюте или вообще в сарае, подумал я, но у меня есть любимая, моя Лелия, а это поважнее всех денег на свете.
Но тут я вспомнил.
Тело свело судорогой, я покачнулся, как будто вдруг потерял равновесие, и мир вдруг накренился.
Стакан выскользнул из рук, я потянулся за другим и налил себе вина, чтобы набраться смелости перед встречей с врагом, Катрин. Кто-то сделал громче музыку. Я притаился за тихо гудящим холодильником, начал высматривать ее. Тут я был в относительной безопасности — через арку, ведущую на кухню, гостиная просматривалась отлично, разве что какому-нибудь придурку вроде меня придет в голову залезть в холодильник за пивом, но это вряд ли, потому что МакДара, богатенький ублюдок, выставил целую ванну шампанского со льдом, чтобы показать всем, какой он щедрый, как ему безразличны деньги.
Увидел Катрин. Она пересекла комнату. Бледна и собранна, как всегда, хотя за всей этой кельтской невозмутимостью чувствуется какое-то безумство. Сердце заколотилось, как перед боем. Сделал еще один глоток вина, дождался, пока его огонь доберется до головы, и браво шагнул в гостиную. Она как раз отвернулась от одного из гостей, но на меня даже не посмотрела.
— Катрин, — позвал я, но слишком тихо. Она упорно не замечала меня.
Посмотрел на Лелию, залюбовался ее такими знакомыми и такими прекрасными чертами. Она лучше всех их, вместе взятых. Двинулся к ней, но Катрин пошла в том же направлении с таким видом, будто собирается начать с ней разговор. «Нет!» — в ужасе захотелось мне крикнуть, визгливо, по-бабски. На долю секунды я замер в растерянности, но когда Катрин уже подходила к Лелии, кинулся вперед и вклинился между ними, оттирая Катрин плечом. Она свернула, не произнося ни слова.
— Дорогая, — задыхаясь, сказал я.
— Что ты делаешь? — тихо засмеялась Лелия.
Я взял ее руками за плечи и развернул к себе. Она удивилась. Катрин покрутила регулятор силы света, и в комнате стало темнее. В эту секунду раздался звонок в дверь. Из коридора донеслись радостные крики. Я поцеловал Лелию в щеку, и прикосновение губами к гладкому и мягкому кусочку плоти вдруг показалось неприятным, хоть это и было самым обычным нашим приветствием, за которым обычно следовал легкий поцелуй в губы. Я почувствовал себя, как жестокий отец из старых романов. Повернул к себе ее лицо и снова поцеловал. Ее губы не пошевелились.
— Люблю тебя, — произнес я.
Ее прекрасные печальные глаза не выдали ни капли эмоций, но я знал, что за этим скрывается. Я доставил боль и обидел человека, которого больше всего на свете хотел защитить.
— Слушай, я правда тебя люблю, — повторил я, делая вид, что начинаю сердиться, и зарылся носом в ее упругие пышные волосы.
Она промолчала. Я поцеловал ее в макушку.
— Ты стал таким далеким, — наконец проговорила она.
— Знаю, знаю. Но я… — пожал плечами.
— Мне это не нравится, — сказала она ровным голосом и отвернулась. Ее взгляд устремился в другую сторону, словно меня и не было, словно без меня она вполне могла жить самостоятельной, совершенно другой жизнью. Она ведь может меня бросить, словно осенило меня. Впервые подобная мысль четко оформилась в голове, отчего по спине пробежал холодок. Раньше такой исход событий воспринимался по-книжному, просто как закономерный результат, следующий из факта измены, и казался так же невозможным, как и то состояние неопределенности, в котором я сейчас оказался.
Я задал вопрос про ребенка. Ее лицо немного просветлело. Подобная власть над ней граничила с жестокостью.
Погладил ее по животу. Она накрыла мою руку своей, хотя в глаза не посмотрела. Я снова поцеловал ее. Каждая деталь, каждая черточка ее, казалось, были навсегда выбиты на скрижалях моей памяти. Ее сережки показались такими родными, хотя раньше я целенаправленно никогда их и не рассматривал.
— Знаешь что, — сказала она. — Оно, чтоб ты знал, не может укусить через шейку матки.
Снова отвернулась, на лице то же холодное выражение.
С Сильвией придется расстаться. Она была моим последним глотком свободы, мальчишеской попыткой восстать против неминуемого, перед тем как отдать себя навеки. Когда-то я втихаря занимался онанизмом, представляя себе Николь Кидман или взрослых женственных садисток, которых было так много в дни моей юности, в особенности мне не давала покоя одна замужняя малоизвестная актриса, не выходившая из образа женщины-вамп, ее фотографии в газетах пробуждали во мне старые фантазии. Как все эти женщины, которые, не принося никакого вреда, проплывали у меня перед глазами по ночам (за что Лелия, догадываясь, что к чему, всегда поднимала меня на смех), так и Сильвия должна остаться для меня недосягаемым объектом сексуального желания. Мне никогда не хотелось быть ходоком.
— Ты выйдешь за меня? — спросил я, но даже когда эти слова слетали с моих уст, даже когда я старался успокоить ее, ужасная правда открылась мне: я не найду в себе силы расстаться с Сильвией. Ощущение зависимости сосало сердце. Согласно какой-то извращенной игре фантазии, существование Чарли продолжало, вызывая негодование, подогревать интерес к ней.
— Ты согласна? — сказал я, беря ее за руку. Сильвию я отодвинул на задний план сознания.
Лелия колебалась.
— Да, — вместо нее ответил я.
Она снова промолчала. Ее губы искривились, противясь словам, готовым сорваться с них. Именно этого я и боялся больше всего.
— Я не знаю, что сказать, — проговорила она. Интересно, блестели ли ее глаза в тот момент? Она смотрела в сторону. Тоска сдавила грудь.
— Скажи «да, да», — не унимался я.
Она задумалась. Я увидел, что ей пришла в голову какая-то мысль, на губах заиграла улыбка. У меня отлегло от сердца.
— Да, — кивнула она, и я прижал ее к себе сильнее. — Вот только я не знаю.
— Чего?
— Не знаю, хорошо это или плохо.
— Почему ты об этом думаешь?
Она уткнулась носом мне в шею, и какое-то время мы так и стояли, обнимаясь, разговаривая, перебивая друг друга, заканчивая начатые предложения, слова, целуясь. Я говорил громко, напористо, чтобы она не могла ответить на мой вопрос.
Взял с подоконника бутылку и подлил себе вина в бокал. Хотел подлить и ей.
— Нет, — сказала она, накрывая бокал ладонью.
— Почему?
Взгляд, брошенный на меня, был достаточно выразительным. Либо неодобрение, либо сочувствие.
— Черт! — догадался я. — Я идиот!
— Это точно.
— Ну извини, извини, — затараторил я. — У меня амнезия. Болею я. Тебе придется заботиться обо мне, пока я не выйду из комы.
— Дурак, — коротко бросила она.
— На самом деле мне больше всего хочется самому заботиться о тебе, женушка. А давай махнем куда-нибудь. Подальше отсюда.
— До выходных я не могу.
— Скажи, что заболела. Давай устроим себе долгий уик-енд.
— Хорошо, — согласилась она. — Но до тебя когда-нибудь дойдет наконец, что я беременна?
— Да, — торжественно произнес я. — Клянусь запомнить это раз и навсегда.
Я посмотрел вокруг. Катрин, за маневрами которой по комнате я следил, заговаривая зубы Лелии, куда-то вышла. Увидел МакДару. Он оживленно делал знаки какой-то женщине, мне неизвестной. Выглядел сильно возбужденным, глаза прямо-таки горели. Может быть, это та самая ТЖ, которую он зачем-то держал в тайне, подумал я.
— Представь себе, как вел бы себя МакДара, если бы Катрин забеременела! — сказал я и тут же пожалел, что привел в пример такое сравнение, но деваться было уже некуда. — Он был бы намного хуже, чем я. Он бы вообще по ночам только то и делал, что заключал сделки с японцами, а ей только бы ром в кофе подливал.
Лелия поморщилась.
— Он даже забыл бы прийти в больницу, когда бы она рожала! — настойчиво продолжал я развивать тему в ответ на ее молчание. — Ты только посмотри на него: здоровый неуклюжий бык.
— Если бы ты был похож на него, я бы тебя выставила через неделю.
— Но ведь это я шут гороховый, у которого не хватает ума запомнить про ребенка. Только не забывай, что у меня опухоль мозга. Ну ладно, давай все-таки свалим отсюда в какое-нибудь более романтическое место. На ветряную мельницу где-нибудь в Норфолке[44], например. Подумай только, в Норфолке! Можно пожить в пляжном домике на берегу моря. А можно и в отеле поближе к Лондону, черт с ними, с деньгами! Поедешь со мной?
— Поживем, увидим. — Она отвернулась. Когда повернулась обратно ко мне, я встретил ее поцелуем. Мы опять обнялись, я подлил еще вина.
— Попробуй. Чуть-чуть можно. Попробуй его у меня на губах, — сказал я и поцеловал ее. — Давай еще раз, — на этот раз я набрал в рот вина и попытался процедить его сквозь губы ей в рот. Но она чуть не подавилась и засмеялась, так что вино оказалось у меня на ногах. Несколько капель я слизнул у нее с подбородка. Она закашлялась, закачала головой, я попробовал повторить эту процедуру, но она отпихнула меня. Потом попробовала меня пощекотать, чтобы заставить меня прыснуть, но я успел проглотить вино. Откашлялся, захохотал. Потом мы стали шепотом обсуждать присутствующих, используя язык намеков и полувзглядов, который никто, кроме нас самих, не понял бы. Вот у кого-то одежда просто мрак, вот кто-то скрытый гомосексуалист, а вот кто-то пытается сделать вид, что настоящий богач, хотя у самого за душой ни гроша. Наш странный язык позволял нам обсуждать даже того, кто сидел рядом с нами, не боясь быть услышанными.
Я часто думал, что, если бы нас попросили объяснить коды и знаки, которые как-то незаметно, сами по себе выработались у нас за все те годы, что мы были вместе, мы бы не знали, что ответить. И если бы случилось такое, что нас бы разлучили (скажем, какие-нибудь инопланетяне), то и через десятилетия нам, чтобы узнать друг друга, хватило бы полуслова из нашего лексикона, какого-нибудь незначительного жеста из секретного арсенала наших условных знаков, например гибридов разных животных или животных и людей, которые появлялись на свет Божий по ночам, когда мы хотели спать. У этих существ, не имеющих ничего общего с сексуальными отношениями, были свои голоса. Так, существовала полулошадь-полубелка по имени Пеструшка, она рождалась, когда Лелия изображала голосом ржание, переходила на странные отрывистые звуки, если начинала возиться в гнезде или есть предложенные орешки. Но она не обладала каким-либо более или менее сформировавшимся характером. В нашей ванной несколько месяцев обитал говорящий головастик, пока мы не забыли про него, когда я каким-то образом превратился в пушистого полутигра-получеловека по имени Пирр, разговаривающего солидным голосом, похожим на голоса актеров сороковых годов, и живущего в собственном огромном мире, в котором было место и доброму укротителю, и целой компании друзей-циркачей, и любимым кушаньям, согласованным со строгой диетой, были у него даже собственные песни. Впрочем, чаще всего мы общались ослиными звуками. Когда она звонила по телефону, я часто вместо обычного «алло» кричал в трубку «иа», а она то и дело поминала мои копыта и называла ужин овсом. Каждые несколько месяцев у нас как будто раскрывались глаза и мы начинали видеть себя со стороны и тогда уж хохотали до упаду.
Я тихонько иакнул ей на ухо и поцеловал. Мимо нас прошла Катрин. Она по-прежнему не замечала меня, садистка забулдыжная. Я насторожился.
Она прошла на другую сторону комнаты, чтобы поменять в проигрывателе компакт-диск.
— В туалет схожу, — сказал я Лелии, и даже эта крошечная ложь (ничто по сравнению с лживым миром, в котором я обитал в последнее время), соскочив с моих губ, причинила мне адскую боль.
Я медленно пересек комнату, остановился, постоял и нерешительно шагнул к Катрин.
— Катрин, мы можем поговорить? — обратился я к ней.
— Не сейчас, — холодно бросила она.
Такой пренебрежительный тон был неприятен.
Я посмотрел на Лелию, она оживленно болтала с какой-то подругой. Чувство страха оттого, что могу потерять ее, снова наполнило душу.
— Пожалуйста, — попросил я Катрин.
— Я не хочу об этом говорить, — отрезала она и пошла по своим делам. Я двинулся за ней.
— Послушай, — крикнул я ей вдогонку, когда она стала подниматься по лестнице.
— Что? — она остановилась на верхней ступеньке и обернулась ко мне с таким выражением на лице, какого я никогда раньше не видел.
Я взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Кельт в гневе был страшен.
— Послушай, — заговорил я приглушенным голосом, оглядываясь вокруг, не видит ли кто. — Я сделал глупость. Я по-настоящему раскаиваюсь.
— Ты это должен говорить не мне, — раздраженно бросила она.
— Я знаю, знаю, — взволнованно зашипел я, примирительным тоном стараясь успокоить ее. — Слушай, Катрин, я… облажался. Но это никогда не повторится, ты же это знаешь.
— Не повторится?
— Никогда. Давай просто это обсудим. Прошу тебя… прошу тебя, не надо…
— Я не хочу говорить на эту тему, — с нескрываемым отвращением сказала она.
— Но…
— Я звонила ей, чтобы рассказать, но на мои звонки она не ответила. Теперь выяснилось, что она беременна. И я не хочу ее расстраивать, — с этими словами она развернулась и вошла в спальню.
— Катрин! — вырвалось у меня, когда мысль о спасении вспыхнула у меня в голове, затмив страх, но Катрин захлопнула за собой дверь. В наступившей гробовой тишине я просто-напросто не решился постучать. Постоял так минуту, ощущая, как на меня накатывает чувство благодарности или даже какого-то уважения.
Нашел туалет, стоя над унитазом, испуская длинную струю мочи, глубоко вздохнул. Ощущение было такое, будто живот или желудок (в общем, какие-то внутренности, изъязвленные и перекрученные) были разодраны на клочки. Я стоял, не шевелясь, медленно прокручивая в голове мысль о том, что Катрин решила не ставить Лелию в известность о моем преступлении. «Спасибо, Катрин, спасибо, Катрин», — как безумный, повторял я. Прислонился лбом к стене, зацепив ухом картину в рамке, которая от этого тревожно закачалась. В ту секунду я был готов кричать от радости и неуместного чувства признательности. Пару раз ударил кулаком черно-белую плитку на стене, надеясь, что, может быть, случайно мне удастся расколоть дорогой кафель и упиться ощущением боли. У меня появился второй шанс. Когда-нибудь, когда ребенок уже родится, я найду способ признаться Лелии, что пару раз обнимался с другой женщиной, покончу с прошлым и заживу счастливо. А пока постараюсь, очень постараюсь не встречаться с Сильвией. Буду держаться от нее на расстоянии при помощи старых проверенных методов: работы ее буду передавать ассистенту, о личных контактах не может быть и речи. При случайных встречах буду любезен и краток. Перед тем как жестко взяться за переделку внутреннего мира, я позволил себе последний раз с тоской подумать о Сильвии: пошептал ее имя в кафель, чувствуя, как дыхание концентрируется на его гладкой поверхности и возвращается ко мне легкой теплой волной. Так я простоял несколько долгих секунд, и громкая музыка, идущая откуда-то снизу, отдавала в ноги.
Вдруг я услышал ее голос.
Он возник у меня в памяти, пока я стоял, уперевшись лбом в стену. Звуки музыки и веселья сливались в сплошную какофонию, но постепенно один из голосов выделился из общего шума и стал явственно различим. Хоть мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что ее голос мне не мерещится, как я сначала подумал, а звучит по-настоящему, мысль о том, что это именно ее голос, повергла меня в шок.
Отдернул голову от стены. Сердце зашлось от волнения. Что она тут делает? Неужели придется запереться в туалете, чтобы определить, в какой комнате она находится, и улизнуть незамеченным? Какое-то время подождал. Уже давало о себе знать легкое подташнивание от выпитого. Попытался переключить мысли на что-нибудь другое, подумать о будущем ребенке. Не получилось. Он по-прежнему представлялся мне либо курносым пришельцем, плавающим в соленом растворе, либо вовсе чем-то несуществующим. Я продолжал ждать, хотя больше всего на свете мне хотелось открыть замок и вдохнуть полную грудь воздуха, пропитанного ароматом Сильвии Лавинь. Время стало измеряться ударами моего сердца. Кожа покрылась холодным липким потом, как у наркомана, лишенного привычной дозы. Еще несколько бесконечных минут ожидания. Ее голоса я уже не слышал. Все звуки опять перемешались в общий гул внизу. Медленно повернул ручку замка и открыл дверь.
Она стояла на противоположной стороне лестничной площадки, в изящной позе прислонившись к креслу, и улыбалась мне.
— Я так и думала, что найду тебя здесь, — сказала она.
— Что ты делаешь? — резко спросил я.
— Жду, пока освободится туалет.
— Зачем? Зачем ты пришла? — Наши голоса гулко разносились по пустой лестнице.
— Меня пригласили Рен и Вики, — снова улыбнулась она. Вид у нее был какой-то уж слишком безукоризненный, как это иногда бывает у женщин.
— Ты бываешь всегда и везде, — удивленно протянул я. — Или вообще нигде.
— Я хотела тебя увидеть. МакДара и Катрин даже пока не знают, что я здесь.
— Как это? — удивился я.
— Кто-то другой впустил нас. А я надеялась, что ты откроешь дверь. Мне так хотелось увидеть твое лицо!
— Сильвия, ты должна уйти, пока тебя не увидела Катрин…
— Иди ко мне, — сказала она и протянула руку.
Но я не взял ее. Ничего не говоря, она повернулась и пошла вверх по следующему лестничному пролету, и я последовал за ней. Просто пошел следом, не задумываясь над тем, что влечет меня. Она вела меня за собой. Призрачное манящее видение, за которым я шел, словно в замедленном кино, чувствуя, как кровь стучит в висках. Вдали от вечеринки дом пах по-другому. С чужими домами всегда так: взрослые запахи незнакомых блюд и чистящих средств. Где-то в глубине дома спустили воду в туалете. Мы прошли мимо окна, убранного роскошной шторой. Мыслей в голове не было никаких, движения мои были механическими. Я уловил легчайший след запаха ее кожи и, как гончий пес, молча поспешил вперед с удвоенной решимостью. У меня тряслись поджилки. На Сильвии была узкая коричневая юбка, я никогда раньше не видел ее в таком обтягивающем. Маленький зад отчетливо обрисовывался, когда она поднимала ногу, чтобы сделать шаг на следующую ступеньку. Мне захотелось войти в нее сзади, почувствовать особенное божественное наслаждение, которое дает такая поза. На ней были остроносые туфли с ремешками, какие носят девочки, но у них были маленькие узкие каблучки. Эти каблучки запали мне в душу, может быть, глубже, чем все остальное. Я поднимался выше и выше, все дальше и дальше от Лелии. Что, если она ищет меня? Рассудок на секунду проснулся, но тут же снова растворился. Мой мозг как будто наполнился густым вязким веществом, не позволявшим мыслям шевелиться. Сильвия прошла на самый верх, ни разу не обернувшись проверить, иду ли я следом, она и так знала, знала, что я буду неотступно следовать за ней, как на привязи. Наверху, за ванной обнаружилась еще одна маленькая лесенка, которая уходила вверх под углом.
— Смотри, что я нашла, — сказала Сильвия.
Мы молча стали карабкаться по ступеням, которые больше напоминали приставную лестницу. Она — слегка пригнувшись, я — вжав голову в плечи.
— Каким образом? — спросил я.
— Случайно наткнулась, когда никого рядом не было.
Налево от последней ступени располагался маленький темный чердак (пыльные шершавые деревянные балки, простая рама окна, выходящего в кроны деревьев, секция дымохода), в котором стоял большой бак для воды. В стену, покрытую штукатуркой, были вкручены несколько винтов, уже проржавевших. На них висели свернутая кругом заросшая пылью струна и календарь. Страницы с фотографиями шелохнулись и замерли. «1994», — прочитал я. Окно озарялось ярко-оранжевым светом уличного фонаря, расположенного прямо под ним. В этом молчаливом пыльном, но теплом помещении Сильвия остановилась и повернулась ко мне.
— Наконец, — сказала она, — мы одни.
Особенный оттенок ее голоса отразился от стен и впился мне в кожу крошечными невидимыми сверлами. Перед глазами у меня стоял лишь контур ее бедер, скрытых под облегающей юбкой.
Рядом с домом с воем стремительно проехала «скорая помощь».
В ту секунду я подумал о Лелии, которую с таким трудом удалось умилостивить. Она, очевидно, сейчас сидит на диване несколькими этажами ниже и терпеливо ждет моего возвращения, не понимая, куда я запропастился. Или же, наоборот, ей надоело ждать, лицо у нее сделалось холодным и сосредоточенным, и она уже разговаривает с кем-то другим. Мне так отчетливо представились ее глаза, коричневые, бездонные, видящие меня насквозь, что я на мгновенье опешил. Тут же вспомнились ее голос, привычки, тело, вся наша жизнь вместе, и мне стало стыдно за себя, стыдно до тошноты. Она — живой человек, с ребенком внутри, а не призрак, который в тот момент находился рядом со мной.
Нужно было что-то сказать. В этой комнатушке я чувствовал себя нескладным гигантом, которому не хватает решительности встать и уйти.
Она стояла, облокотясь о резервуар с водой, и, казалось, улыбалась каким-то своим мыслям.
— Помнишь, как мы сидели под снегом в парке на скамейке? — спросила она.
— Да, — я кивнул. Тут же почувствовал, как понизу разливается тепло.
— «Пятна грязи на снегу», — произнесла она.
— Да, — снова повторил я, как умственно отсталый.
— Может, сядешь сюда?
Она повернулась к длинной лавке, стоявшей под окном. Поскольку я так и не придумал подходящего повода опустить огромную голову, которая находилась на уровне занозистых стропил, я сел на пыльный сучковатый подоконник и прислонился спиной к оконному стеклу. В оранжевом свете все вокруг как будто испускало странное свечение.
— Иди ко мне, — вырвалось у меня, когда нос ощутил ее успокаивающий и одновременно возбуждающий запах, и он разлился по всему телу. Слова застряли у меня в горле, и я закашлялся. Вода в баке пришла в движение и забулькала.
— Не сейчас, — сказала она.
— Не сейчас? — переспросил я. — Но мы же должны когда-нибудь закончить все это?
— Да, — согласилась Сильвия. — Но не сейчас.
Она опустилась на колени рядом со мной. Лицо, колени, руки обрели светящийся коричневый силуэт, как будто ее окунули в сепию. Мы обменялись горячими, быстрыми, как спазм, поцелуями. В голове промелькнула мысль: я не должен этого делать. Голова Сильвии склонилась набок, отчего волосы свесились на одну сторону. Так она выглядела намного женственнее. Я поцеловал ее в шею, и запах, исходивший от ее кожи, стремительно прошелся по моему телу с головы до пят. Когда я поцеловал ее в губы, они слегка раздвинулись. Она оттолкнула меня и прижала к стеклу.
— Нет, — слабо попытался противиться я, но, чувствуя, как ее руки ходят у меня по шее, купаясь в ее запахе, я не мог упорствовать. Я потерял контроль над собой настолько, что мог просто выпасть из окна. В голове вспыхнули последние сполохи панического страха.
Кончиком пальца в плечо она нежно отодвинула меня.
— Я весь день ждала тебя, — тихо произнесла она. Меня обволокло ее голосом, словно облаком манящего фермента.
— Но мы не виделись уже… Сколько? Две недели.
— Мы не можем видеться всегда, когда захотим, — сказала она.
Ее губы находились на уровне моих глаз, яркий свет подчеркивал их прекрасную форму.
— Я знала, что сегодняшнего вечера придется долго ждать, — почти прошептала она, расстегнула у меня на рубашке две пуговицы и провела внешней стороной ногтей по моей ключице. Я протянул руку, чтобы погладить ее по щеке, но она перехватила ее и прижала к моему же бедру. — Помни, шевелиться нельзя. Прошлый раз ты пошевелился, и я ушла. Я сделаю это и сейчас.
Я хмыкнул, давая понять, что не согласен с такими правилами игры.
— Ты должен быть совершенно неподвижен, — прошептала она. — Ричард. Тебе нужно оставаться спиной к стеклу.
Тут же внутри меня вспыхнул огонь. Она придвинулась ближе. Всего лишь придвинулась, больше ничего. Потом наклонилась надо мной и стала всматриваться в меня так внимательно, как старательная ученица в свою тетрадь. Темные брови сошлись к переносице, и теплое дыхание, пропитанное ее запахом, обожгло живот. По телу пробежали мурашки, когда напряглись мышцы пресса. Каждый мой выдох сопровождался едва слышным стоном. Она аккуратно присела на корточки, край ее юбки коснулся пола, я увидел каблуки на ее туфлях. Очень медленными, аккуратными движениями она начала раздевать меня. Во власти возбуждения я обнял ее одной рукой за талию. Она насторожилась. Замерла. Я убрал руку, и она снова взялась за дело, водя губами по груди, дыша на соски. Я вспомнил, что на мне старая майка, и поежился. Она задрала ее одним пальцем. К счастью, майка просто отражала призрачный янтарный свет.
— Представь, что я кошка, я трусь о тебя, ласкаюсь, лижу, — прошептала она. Ее голос завораживал, лишал воли, как паутина. Тени у нее под глазами, которые мне казались притягательными (что в душе меня всегда тревожило), исчезли под более глубоким темным пятном, которое скрыло ее лицо, когда она наклонила голову.
— Хватит, — не выдержал я, встал с подоконника, нагнулся к ней и взял руками за талию, чтобы поднять. — Я хочу тебя прямо сейчас. Я…
Она дала мне пощечину. Словно оса ужалила в щеку. Я оторопел. Никто еще так не поступал со мной. Уставившись на нее изумленными глазами, я выпалил:
— Ты что делаешь?
— Ты лежишь под водой, — сказала она и провела пальцами по моему животу. — Ложись. Ты в зеленой воде. Вокруг колышутся водоросли, они извиваются и спутываются. — Ее пальцы медленно переместились на мою грудь, потом под мышки и по бокам снова опустились к животу. Все это время у меня в ушах стоял звон от пощечины. — Вот рыбы. Маленькие и юркие. Фарфоровые рыбки плавают у тебя в ногах и целуют в шею.
— Сильвия, — не сказал, а простонал я.
Маленькими проворными пальчиками она за рукава стащила с меня рубашку, скомкала, поднесла к лицу, вдохнула запах и отбросила в угол. Потом стянула позорную майку.
— Ложись на спину. Не шевелись. Пока ты лежишь, тебя омывают водные течения. Они пузырятся, обвивают тело. Подводные растения, шевелясь, касаются твоей кожи, Ричард. Прозрачные извивы щекочут тело.
Ее пальцы скользнули мне под верхний край брюк. Я напряг мышцы живота. Она наклонилась и прикоснулась губами к коже. Погладил ее по волосам. Застонал. Я не мог больше сдерживаться.
— И маленькие пузырьки поднимаются из-под камней и прилипают к твоей коже, — сказала она. Я уже просто вслушивался в ее голос, его оттенки, едва ли понимая смысл слов. Ее рука продвинулась еще немного глубже. Я судорожно вздохнул. Бедра подались вверх, жаждущие прикосновения, любого, хоть даже просто натяжения ткани. Ее руки замерли.
— Сучка, — прошипел я. Она улыбнулась.
— Плавают розы, — сказала она.
— Что?
— Видишь? Под водой маленькие бутоны роз, они источают пузырьки, и те несутся вверх, все выше и выше. — Кончиками пальцев она провела по бедру. Рука остановилась на пуговице брюк. Расстегнула. Мышцы у меня напряглись. Каждый гормон, каждое сухожилие отдавало мне приказ вскочить на ноги и овладеть ею.
— Лежи, — приказала она, и ее ногти прошлись у меня по промежности. Я вжался спиной в окно и, хрипло и быстро дыша, стал вслушиваться в ее голос. — Розы разбухают от воды. — Я почувствовал, что напряжение между ног усилилось, стало диким. Она расстегнула ширинку, молча, одним движением стащила с меня брюки и трусы. Я остался сидеть на выступе стены голый, с прилипшим к животу членом. Она, полностью одетая, обняла меня, прижалась юбкой, окутала волосами, дыханием, голосом. Что-то прошептала на ухо, мы стали целоваться, страстно, с укусами. Моя рука потянулась вниз и коснулась ее груди.
Она отпрянула.
— Господи Боже! — воскликнул я. — Я хочу… — Она повела бровью. — Переспать с тобой.
— Переспать со мной? — бесстрастно сказала она. — Мы не спим вместе. Ты спишь с другой. Ты имеешь в виду трахнуть меня?
— Да, — горячо сказал я.
Она едва заметно покачала головой.
— Бога ради! — громко вскричал я, соскользнул с подоконника и встал рядом с ней.
Выше талии она выглядела очень скромно: сбившаяся маленькая блузка, обтягивающая грудь и осиную талию. Она стояла на одном колене, из-под ниспадающей до пола юбки была видна часть бедра в рассеянном оранжевом свете. На ней были чулки с простыми кружевными ленточками. Обычно с одеждой прилежной школьницы она носила колготы и выглядела, как персонаж одной из картин Балтуса[45]. Я снова посмотрел вниз. Почувствовал едва уловимый запах чего-то знакомого, но в то же время не похожего ни на что. Теплый, грибной, сокровенный аромат. Потом у основания бедра в косматой коричневой темноте я заметил черную тень, похожую на лужицу крови. У меня перехватило дыхание. Я впился в нее взглядом. Глаза жадно всматривались в каждую деталь, которая становилась видна благодаря рассеянному свету. Я подался к ней, наклонился и поцеловал в бедро. Окунулся в этот восхитительный запах. Выше, выше к его влажному сладкому источнику, к той точке, которую она открывала мне навстречу.
Она отвела ногу.
— Только если сядешь, — как всегда спокойно сказала она.
Как испуганное животное, я отпрянул и сделал то, что она велела. Она встала передо мной на колени, и моя рука тут же устремилась ей под юбку. Я нащупал кружевные вставки наверху чулок, потом гладкую и теплую полосу голой кожи, а потом и то, что не было закрыто бельем. Пальцы, оказавшись там, задвигались, заскользили вперед и назад по гладким влажным складкам. Каждый изгиб, каждый теплый закуток — откровение. Я окунул в нее пальцы, стал тереть, гладить, ласкать.
— Я хочу тебя, — дрожащим голосом, запинаясь, сказал я.
— Нет, — ответила она.
Приподнялась и несколькими движениями вверх-вниз потерлась о мои пальцы, крепко ухватив меня за плечо.
Она приподнималась и опускалась, издавая такие звуки, от которых возбуждение стало еще крепче. Движения ее были плавными, бедра двигались по кругу, а волосы и тело между ног стали такими мокрыми, что я раскрыл ладонь, прижал к скользкому треугольнику и стал гладить, введя в него средний палец.
Она бросилась мне на плечи, прижалась к груди. Мой член оказался на уровне ее живота и становился все тверже и тверже, все больше и больше, пока я судорожно глотал воздух.
Схватив ее бедра, я придвинул их ближе к себе.
— Давай сейчас, — с трудом вымолвил я и усадил ее к себе на колени.
— Нет, — сказала она. Ее дыхание участилось.
— Что значит нет?
— Только когда…
— Твою мать!
— Ты не свободен, — сказала она.
— Ты тоже.
— Это не одно и то же.
— Так ты не хочешь?
— Только когда…
— Черт, — воскликнул я. — Хэмпстед-хит.
Она промолчала.
— Да ладно тебе, — сказал я. — Ну прошу тебя, дорогая.
Она покачала головой и вцепилась зубами мне в шею. Я почувствовал, как мне на ладонь пролился чудесный сок. Ее рот, испускающий соленую жидкость, стал горячим.
Я должен был получить ее. В голове даже мелькнула мысль об изнасиловании. Я представил себе, как толкну ее на пол, вгоню в нее член и выпущу фонтаном адское вожделение. В страхе я отогнал от себя это видение. Она прижалась ко мне еще крепче. В паху я почувствовал первые спазмы приближающегося оргазма.
— Давай убежим, — вдруг сказал я. — Убежим вместе.
Быстрым движением она крепко схватила меня за плечо.
— На выходных. Куда захочешь. И навсегда.
Я почувствовал, как по ее телу прошла дрожь, долгая и сильная, заставившая ее прогнуться назад, открыть рот. Глаза ее сделались черными, как ночь, а крик, который она испустила, не имел ничего общего с ее обычным голосом. Моя разрядка последовала через несколько мгновений, и в секунду восхитительного наслаждения я понял, на что был готов пойти ради нее.
15 Лелия
Во вторник свадьба. Менее подходящий для заключения брака день недели трудно себе представить, но день рождения отца пришелся именно на него, так что выбора у меня не было. У меня всегда было страшное подозрение, что наша свадьба все же состоится, как и было запланировано, несмотря на то что лжи между нами становилось все больше, отношения портились, и двадцать шестого июня в Марилебонском загсе я выйду замуж за Ричарда Джозефа Ферона. По крайней мере, я осознавала, на какую глупость иду.
В то утро, перед тем как выйти из дому, я подошла к компьютеру Ричарда и пошевелила мышку, чтобы убрать экранную заставку. Недавно на работе мне показали, как сворачивать документы, и я увидела, что какое-то окно было свернуто Любопытства ради я нажала на квадратик в углу, и на весь экран развернулось электронное письмо, пришедшее с незнакомого адреса.
«Существо пришло. Оно не захлебнулось водной оболочкой, пуповина не задушила его. Под чепчиком и пеленками я видела следы воска, шерсти и крови, как будто его безжалостно вырвали из другого тела. Под желтой оболочкой пульсировала жирная маленькая куколка. “Умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей” — вспомнила я, но его мать не знала скорби. Окруженная облаком хлороформа, она целовала и гладила это существо.
Когда няня вышла из комнаты, я развернула пеленки и достала младенца. Из его живота, как у циркового уродца, торчало подобие мужского органа. Под ним виднелся настоящий скрюченный мужской орган. Если бы душа существа слабее держалась в теле, я могла бы вспугнуть ее одним лишь шипением, но жир сделал объемным сосуд, содержащий ее. Оно задыхалось, как выброшенная на берег рыба с крепенькими розовыми мышцами. Чем дальше оно будет отходить от того полуживого состояния, в котором вызрело, тем сильнее будет становиться его молочное дыхание. Все, что мы придумали, теперь казалось недостаточным. Я поняла: мне предстояло стать еще сильнее».
То, что я прочитала, показалось мне отвратительным, хотя и вызвало любопытство. Было в этом что-то непотребное, непристойное. На душе стало тревожно. Когда я снова свернула файл, я почувствовала легкий приступ боли в животе, как перед месячными. Пошла в туалет. Когда вставала, краем глаза заметила крошечное розовое пятнышко на туалетной бумаге. Или показалось? К горлу подступила тошнота. Дрожащей рукой снова потерла себя, свернула бумажку и всунула внутрь. Поднесла к свету. Она как будто окрасилась в цвет внутренней стороны морской раковины. Слезы навернулись на глаза. Я с воем пошла в пустую гостиную. Бросилась к телефону, схватила трубку, но Ричард, который ушел раньше, еще не добрался до работы. Снова пошла в туалет и еще раз подтерлась, но на этот раз бумага, похоже, осталась чистой. Я не решилась звонить в больницу — вдруг действительно все хорошо? Я стану ждать, я стану молить, беда обойдет меня стороной.
Впервые за три месяца я ощутила тошноту, потом мне стало лучше, почувствовала, что дрожу и хочу есть. Я решила ехать к матери одна: с Ричардом я уже не увижусь до самого загса. Как странно, что мы, считавшие себя вправе в любой момент отказаться от выполнения договора, так и не нашли времени, чтобы спокойно и серьезно обсудить наше решение, просто плыли по течению в ожидании назначенной даты. Итак, я покинула нашу квартиру в одиночестве — невеста, возвращающаяся к матери с чемоданом вещей. В метро я чуть не заснула от усталости. Было такое ощущение, будто я бросила его или будто он — фермер-джентльмен[46], который отправился за удачей в колонии и я его уже никогда не увижу.
Матери очень хотелось, чтобы свадебное платье я надела в ее доме. Она считала, что мне обязательно нужно обратиться в ее любимый салон красоты, который она сама посещала уже тридцать лет. В этом заведении на севере Лондона, очевидно, были свои понятия о том, как должна выглядеть невеста. Мне хотелось сделать ей приятное, и в начале одиннадцатого я уже стояла перед ее домом. Но, как только я шагнула на порог, меня охватило чувство вины. Захотелось придумать какое-нибудь оправдание тому, что я вот уже несколько месяцев не появлялась в этом доме, хоть для этого нужно было всего лишь сесть на Северную линию метро и проехать несколько остановок. Мать обняла меня, но даже в этот день она не смогла сдержать показной гордости и попреков, впрочем, в четко отмеренных дозах.
Я направилась в свою спальню, но сперва заглянула в туалет — еще раз проверить, будет ли на туалетной бумаге кровь. Бумажка оказалась чистой. Сердце глухо билось в груди, когда я прижалась лбом к ладоням, думая, стоит ли звонить в больницу. Решила не пороть горячку. Я уже на шестом с половиной месяце беременности. Ребенка я не потеряю, преждевременных родов не будет. Отголоски тошноты, которую я почувствовала после того электронного письма, все еще были слышны где-то в глубине.
В спальне я провела рукой по стенам. Обои были настолько знакомы, что почти не узнавались, — узоры на них оказались грубее и бледнее, чем помнилось мне. Сначала я отводила глаза от фотографии отца, но потом взяла ее в руки и поцеловала. Такое вот безмолвное общение произошло между нами в день моей свадьбы. Я подумала, что сожалею, что так все получилось. Я опустилась на свою кровать, к которой долгое время никто не прикасался. Легла на спину и стала рассматривать декоративный карниз, металлическую оконную раму и потускневшие занавески марки «Лоа Эшли», на которые я когда-то долго копила деньги, а потом подшивала их в школе на швейной машине. Когда открыла платяной шкаф, чтобы взять вешалку, увидела там нечто неожиданное. На полке между керамических фигурок животных, которых я когда-то коллекционировала («причуды», так я их называла), стояла белка, она была выше остальных и не такая яркая. Я долго рассматривала ее покрытые пылью эмалированные бока, они сразу же напомнили мне о давно минувшем прошлом, о том периоде детства, который я провела во Франции. Софи-Элен, узнав о моем детском увлечении этими безделушками, купила мне эту французскую поделку в Бриаре, когда я уезжала.
Поблагодарила ли я ее за это в письмах? Этого я не смогла вспомнить. Я не могла вспомнить, что и когда ей говорила, потому что с того дня я о ней больше не слышала. На мои письма она попросту не отвечала. От этого мне становилось грустно и тоскливо, а где-то в глубине сердца, когда по ночам я вспоминала, как проходил мой отъезд, даже тревожно. В назначенное утро немногословные взрослые с серьезными лицами спровадили меня обратно в Англию без лишних церемоний. Я была сбита с толку, с ужасом думала о том, что стала причиной их недовольства, но больше всего мне разрывало сердце то, что Мазарини так и не пришла попрощаться со мной. Позже, когда я наконец отыскала в справочнике номер хирургии в Клемансо и решилась позвонить, мне ответили, что семья Белье переехала. Так что инкуб оставил меня, ее дух возвращался ко мне только в ночных кошмарах.
Когда я спустилась вниз, мама помогла мне разобраться с платьем. Я взглянула на стол, накрытый скатертью с нарисованным садом. Когда-то эта картинка казалась яркой, сочной, играющей всеми оттенками зеленого. На столе лежала декоративная подставка для тарелок с нашей с Ричардом фотографией (почему в тот день занавески были прикрыты? Почему дома было так неестественно чисто?). Снова внизу живота я ощутила менструальную тяжесть. Пока мама расправляла последние складки на платье, я пыталась не дышать. Я не могла поделиться с ней. Ричард тоже меня не понял бы. Мне нужна была Сильвия. В тот миг я понимала, что только Сильвия Лавинь сможет поддержать меня.
Извинившись, я оставила маму и снова пошла в туалет проверяться. Потом позвонила Сильвии и пригласила ее на свадьбу. Увидев ее, Ричард, конечно же, начнет насмехаться надо мной, но она может затеряться в толпе, так что есть шанс, что он даже не узнает о том, что она пришла. Она поможет мне. Когда я спускалась вниз, в голове снова ожили мысли о Франции и о ребенке. Опять почувствовала тошноту, пришлось идти в туалет. В животе сильно урчало. Мама удивленно наблюдала за тем, как я нажарила себе целую горку тостов. Ее жизнь постепенно обрастала запахами, которые раньше казались мне атрибутами старушечьей жизни — электрозажигалки, горчичный порошок, «Деттол»[47], копченая семга, хлопья для мытья рук. Еда начинала залеживаться у нее в холодильнике, она уже завела привычку хранить мясо в морозильной камере и размораживать его, завернув в скатерть и выставив на подоконник под солнце. Мне она предложила газированный йогурт.
Потом мы поехали в парикмахерскую, в которой было ужасно душно и воняло серой, там я отдала себя в руки мастера, который, колдуя над моей прической, немилосердно дергал за волосы. По дороге домой каждый раз, когда мама выглядывала из окна такси, я тихонько подправляла какой-нибудь выбившийся или раздражавший меня локон. А мама, хоть и выглядела очень опрятной, казалась до такой степени несчастной, что мне ужасно захотелось прижать ее к груди, выкинуть из головы все старые обиды и недопонимания, поцеловать, смяв идеально выглаженный белый воротник, уткнуться лицом в плечо и разрыдаться. Как же мне хотелось, чтобы в тот день с нами был и отец! Думаю, она этого тоже хотела.
Ричард, неотразимый в костюме, ждал нас у загса. Он улыбался, уткнувшись взглядом в пол, и выглядел ужасно серьезным. Потом повернулся ко мне. Мы поженились.
16 Ричард
— Она здесь, — прошипел мне на ухо МакДара и шагнул к столу.
— Кто? — сказал я и ухватил его за руку.
— Блин, глазам своим не верю. Как она сюда попала?
— Кто? — еще раз спросил я. Глаза МакДары горели, на подбородке уже пробивалась щетина.
— Ну ты и идиот! Кто, по-твоему? Полный придурок. Ну кто, как ты думаешь?
Я пожал плечами.
— Она!
— Что… ТЖ? — наконец сообразил я.
МакДара раскрыл глаза еще шире и пьяно закивал головой.
— Она. Какого черта она здесь делает? Ты ж ее почти не знаешь. Как она оказалась у тебя на свадьбе?
— Я что, ее знаю? — я был совсем сбит с толку. — Где? — я закрутил головой. — Где она?
— Вон там, — МакДара, не сводя с меня глаз, кивнул головой. — У меня за спиной. С левой стороны.
— Так, спокойно. Скажи нормально, где?
— Я не могу смотреть, дурень, — брызгая слюной, зашипел МакДара. — Там она, около цветов, как они… не знаю, как называются. Рядом с едой. Разговаривает с… тем парнем, который с тобой работает.
Тут он не сдержался и резко повернулся.
— О, уже нету. Куда она делась?
— Мак, — позвала его Катрин, увидев, что он повернулся. Меня она словно не заметила.
— Так кто же она? — спросил я, но МакДара уже направился к Катрин. Он, на ходу пожав плечами, обернулся, одними губами произнес «блин» и растворился в толпе гостей.
Свадебная вечеринка началась ранним вечером после официальной церемонии, прошедшей в семейном кругу без гостей. Мне хотелось, чтобы вечеринка прошла на открытом воздухе в саду, но, поскольку наш личный сад представлял собой два квадратных метра закатанной битумом крыши, на которую можно было попасть через световой люк, Лелии через университет удалось зарезервировать место в Гордон-сквер гарденз по сходной цене. Кроме того, мы взяли в аренду большой и какой-то нелепый шатер, который обошелся намного дороже. Мне казалось, что собирать гостей в шатре глупо и банально, но в то же время как-то трогательно, как будто это хлипкое полосатое строение должно было стать домом для меня и Лелии. Она стала моей. С остальным я разберусь позже, времени теперь достаточно.
Прохладный, несмотря на яркое солнце, июньский день постепенно превращался в ночь. Пара уличных обогревателей щедро источали тепло. Сквозь густые заросли деревьев мелькали огни проносившихся мимо машин, некоторые из случайных прохожих подходили к ограждению и заглядывали внутрь. Они напоминали привидения, проплывающие в темноте, и вызывали у меня желание пригласить их присоединиться к нам. Бледные лики на фоне темно-синего сумрака напоминали мне о Сильвии. Ближе к ночи гости, расходившиеся от выпитого, стали бегать по парку, изучать овраги, крытые аллеи из вьющихся растений, кусты, потом возвращались обратно через газоны, покрытые яркими точками полузакрывшихся маргариток. Я люблю своих друзей, думал я, умильно наблюдая, как они шатаются среди круглых клумб с розами посреди северного газона. Даже Катрин (едва заметный кивок, сухие поздравления ледяным голосом) я уже не мог ненавидеть. В старых больших зданиях по обеим сторонам парка не горел свет, были освещены лишь несколько окон, в которых за настольными лампами и уродливыми растениями в горшках угадывались силуэты бедняг, которым приходилось торчать на работе допоздна. Желтый свет, горевший высоко, под самой крышей, заставил меня вздрогнуть, высветив в памяти коричневые силуэты, какими мне представлялись события того дня на верхнем этаже дома МакДары несколько недель назад, — мое безумное возбуждение, вызванное близостью ее тела, бессильный крик в момент оргазма. Я вспомнил отдельные фразы из писем и имейлов, которые она написала мне впоследствии, когда зачем-то (якобы по учебе) уехала в Эдинбург, чем сильно обидела меня. Ее постоянная уклончивость уже перестала меня удивлять, но по-прежнему приводила в ярость. Мысленно я швырнул все ее письма на землю, растоптал ногами, достал спички, разжег огонь и сжег дотла. Я представил себе, как огонь лижет и превращает в пепел слова. Все. Их не стало.
Мимо прошел МакДара. Взглянул на меня и пошел дальше своей дорогой.
Я разыскал Лелию, свою жену. Она была бледна и невероятно красива. На нее явно что-то нашло.
— Ты жалеешь, что вышла за меня, жена моя? — шепнул я ей на ухо.
Она покачала головой.
— Тогда что с тобой?
— Ничего, — как я и ожидал, угрюмо ответила она. Я вздохнул.
— Ты переволновалась, — я поцеловал ее.
Я походил по парку, пытаясь вычислить загадочную ТЖ. Единственными из гостей, которые более или менее соответствовали тому весьма расплывчатому описанию, которое дал мне МакДара и с которыми я не был знаком лично, были несколько коллег Лелии. Я пошел искать МакДару, но оказалось, что он вместе с Катрин разговаривает с другим знакомым. Рен тоже был недалеко, мне было слышно, как вежливо и культурно он разговаривает, хотя остальные гости упивались вином и ругались напропалую. Ясно было, что скоро дойдет до поцелуев и объятий.
Лелия нервничала. Поглаживала живот. Опять я забыл, что она беременна. Потом вспомнил.
— Может, тебе лучше сесть? — спросил я.
Она покачала головой, улыбнулась.
— Поздравляю вас, — сказала она.
— И вас поздравляю, миссис…
— Не смей даже произносить этого! — возмутилась она. — Даже в качестве шутки. Мистер Гуха.
— Хорошо, хорошо, — успокоил ее я. В голове вдруг зазвучал голос тигра Пьерра, который вообще-то чаще всего просыпался по ночам. Я шепотом передал ей его слова и ущипнул за зад, в ответ она сделала вид, что хочет заехать мне коленом между ног. Я обнял ее за плечи:
— Хочу сказать в твою честь тост. Прямо сейчас.
— О Ричард, какого черта? Мы же, кажется, договаривались, что обойдемся без этого.
— Да, но знали, что все равно без этого не обойдется. В любом случае гости потребуют тост. Они же знают, что я блестящий оратор. Я хочу сообщить миру, что теперь ты моя и я могу заниматься с тобой любовью, когда захочу.
— Помечтай! — хмыкнула она.
— Что? — я сделал вид, что возмутился. — В день свадьбы у меня нет секретов от гостей. Так что мне нужно сделать? Постучать вилкой по бокалу? Покричать? Изо всех сил пукнуть? МакДара того и гляди сам начнет тосты толкать, если за ним не уследить. Ты только посмотри на него.
МакДара не находил себе места. Он был всклокочен, будто постоянно теребил себе волосы рукой. В свете ламп, развешанных вокруг шатра, его щетина казалась совсем темной, отчего он стал походить на большую обезьяну. Глядя на него, я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Он стоял с одной из коллег Лелии, рыжей худышкой, может быть, она и есть ТЖ? Он посмотрел на меня.
Я вопросительно поднял бровь.
Наслаждаясь прохладой ночи, я под присмотром матери Лелии направился к навесу, где был накрыт шведский стол для гостей. Порывы холодного воздуха были напитаны запахами вечерней сырости и выхлопных газов машин с соседних улиц. Ветви жасмина гладили меня по лицу, когда я неторопливо шел по усыпанным мелким гравием дорожкам, вокруг которых в тени деревьев во множестве цвели колокольчики. На самом деле мне в ту минуту больше всего хотелось народных танцев под песни какого-нибудь деревенского музыканта, чтобы все накурились травки, чтобы была атмосфера всеобщего пьяного веселья. Но в Центральном Лондоне, как своевременно напомнила мне Лелия, это было неосуществимо. Более того, я, естественно, слишком уж романтизировал свои юношеские годы с их всеобъемлющей скукой, дешевым сидром и мотоциклами с колесами в комьях навоза.
Как бы то ни было, раз уж народные танцы отпадают, думал я, наблюдая, как гости напиваются все больше, говорят все громче и все сильнее рвутся в парк бегать среди деревьев, именно о такой свадьбе я мечтал. Белоснежные маргаритки на газонах в сумерках были похожи на сотни маленьких фонариков. Кто-то обнаружил, что небольшой сарай, непонятно зачем находившийся здесь, был не заперт, и теперь туда то и дело шныряли люди. Из него доносился смех, внезапно обрывающийся тишиной. Я лениво думал о том, что сейчас в кустах, наверное, занимаются случайным сексом парочки, что на ближайшие несколько дней обеспечены скандалы и сплетни и что в общем царит здоровая атмосфера пьянства и плохого поведения (в этом можно было положиться на МакДару). Несколько коллег и еще одна приглашенная со стороны Лелии (она отказывалась говорить, кто именно), очевидно, уже вырубились в туалетах. Я был рад, что все так быстро выбросили из головы правила хорошего поведения. Меня беспокоила только Лелия. В общем она была весела, но что-то явно беспокоило ее. Я огляделся по сторонам, но ее нигде не было видно. Вообще-то я уже довольно давно не видел ее. Снова осмотрелся, напряг глаза, чтобы лучше видеть в темноте. Опять безрезультатно. Расстроившись, я попросил Вики, жену Рена, найти ее.
От земли паром поднималось отдающее бензином дыхание трав. Под лимонным деревом одна из моих сестер о чем-то спорила с братом. Отец просто слонялся без дела. Уж не знаю, как они с матерью решали, кому из них ехать, только отношения у них были слишком натянутые, чтобы вместе присутствовать на одном мероприятии. Странно, но матери мне не хватало сильнее, чем когда бы то ни было. Мне бы очень хотелось, чтобы на мою свадьбу приехала она, а не мой старик. Несколько лет, прожитых в атмосфере взаимных обид и исключительной несовместимости, привели к разводу, который был для нас очень болезненным. Нас просто развели в стороны и заставили выбирать, так что следующие десять с лишним лет я своим присутствием пытался скрасить жизнь матери, заставлял ее забыть, что это эмоционально ограниченный муж своим поведением заставил ее бросить его. Мне хотелось защитить ее, укрыть от всех невзгод. Я остановился и отослал ей праздничную эсэмэску.
Впереди по газону прошла Сильвия Лавинь. Грудь пронзило невероятной болью, и я испугался, что у меня случился сердечный приступ. Несколько секунд я в оцепенении наблюдал за ней, потом парализованное тело пришло в движение.
— Какого черта?! — воскликнул я и двинулся к ней. Не останавливаясь, прошел прямо перед ней и направился к клумбам с розами в центре парка. Она последовала за мной на некотором расстоянии, поэтому мне пришлось остановиться и обернуться к ней, чтобы поговорить. Она стояла в нескольких футах от меня в легком платье.
— Я не стану осуждать тебя в духе Джен Эйр, — сказала она. — Не беспокойся.
— Какого… — начал я, но посмотрел на нее и осекся.
— Я знала, что ты удивишься, — продолжала она.
— Как ты сюда попала?
— Лелия пригласила меня.
— Лелия? — удивился я.
— Да, — просто ответила она.
— Нет, не может этого быть…
— Спроси у нее.
— Сильвия. Сильвия, дорогая, тебе нельзя здесь находиться, — мягко заговорил я и почувствовал, что на глаза вот-вот навернутся слезы.
— Я тоже так думала. Я знаю, что нельзя, но все-таки пришла. Все будет хорошо. Я люблю тебя. Я благословляю тебя, Ричард, возлюбленный мой, — сказала она и улыбнулась, но глаза у нее остались печальными. После этих слов она ушла.
Я остался на своем месте, глотая воздух, как рыба, выброшенная на берег. Хитросплетение противоречивых эмоций перемешалось у меня в голове с воздействием вина. Глядя пустыми глазами в ночь, я громко рыгнул. Потом рядом с шатром я заметил Лелию. Двинулся прямиком к ней через травяной газон, взял ее за руку и сказал:
— Хочу поговорить с тобой. О тебе.
Она улыбнулась. Волосы у нее выглядели не так, как раньше.
— А у нас весело, правда? — ее голос показался мне лучом солнечного света среди освещенного электрическими лампами всеобщего веселья.
Я забрался на стол и изо всей мочи закричал. Начала собираться толпа. Люди, продолжая трепаться, выходили из посадки. Лелия, безумно красивая, стояла в чем-то восхитительном, темно-розовом и смотрела на меня; я в первый раз заметил, насколько увеличился у нее живот. Сильвия появилась из-за ряда лимонных деревьев с другой стороны сада. МакДара, который тоже стоял неподалеку, посмотрел на нее, тут же отвел взгляд и стал внимательно всматриваться в шатер.
Страшная догадка сверкнула у меня в голове и осела где-то в кишках. Небо замерло: бордовые облака перестали двигаться, кинолента с вечеринкой задрожала и оборвалась. Я раскрыл рот, сделал большой глоток вина. Сильвия с бокалом в руках остановилась рядом с МакДарой и как ни в чем не бывало поглядывала по сторонам. МакДара, наихудший актер на земле, изо всех сил старался не смотреть на нее. Его рот напрягся, а лицо словно свело судорогой. Гребаный тупорылый ублюдок! У меня, наверное, что-то с головой, подумал я. Слабоумие. Хроническая тупость. Тот почерк — мелкий, неразборчивый, робкий. Она даже цитату из Шекспира МакДаре в ежедневник написала! Я мысленно прикинул, долетит ли бокал вина до его морды, если я швырну, но подумал, что расстояние все же слишком большое. Начал импровизировать, речь получилась безрассудная, рискованная, но дикая ярость добавила мне красноречия. Потом под одобрительные выкрики и редкие аплодисменты я одним головоломным шагом спустился со стола, схватил МакДару за руку, потянул за дерево и изо всех сил саданул ему кулаком по лицу.
Мне всегда хотелось сделать это с кем-нибудь. Смачный хруст костяшек о твердую плоть заставил меня почувствовать необычайное, почти сексуальное возбуждение. Это ощущение я запомню навсегда. У МакДары из носа хлынула кровь.
— Ричард, что ты делаешь? — закричала Лелия, подбегая к нам. Несколько больших капель крови попали ей на платье. «Вода морских пучин от крови покраснеет»[48], — беспрерывно повторял я про себя, как сумасшедший. Повернулся ей навстречу с открытым ртом.
МакДара стоял, покачиваясь. Из ноздри выдулся пузырь, на воротнике кровь. Вокруг уже толкались гости. Странно, но МакДара не издал ни звука. Мне хотелось продолжения, поэтому я снова поднял кулак, но он тоже занес руку. Между нами вклинилась Лелия.
— Что вы делаете, идиоты?! — закричала она. Из ее глаз текли слезы. — Прекратите!
Я заколебался.
— Как ты можешь? — крикнула она мне.
— Держи свои вонючие руки подальше от нее! — рявкнул я МакДаре.
— Что? — опешила Лелия. Я обнял ее за талию.
По толпе зрителей прошел шумок. Кое-кто стал переводить взгляд с МакДары на Лелию. На лицах стало появляться карикатурное удивленное выражение. Мне пришла в голову идея. Надеясь на спасение, как приговоренный к смерти с накинутой на шею петлей, я решил воспользоваться ситуацией.
— И пошел вон отсюда, чтоб я тебя не видел! — рыкнул я МакДаре. Мы оба тяжело дышали и смотрели друг другу в глаза. Во мне бурлила дикая ярость. Весь подбородок у него был в крови. Наконец он вытерся.
— Что случилось? — Лелия уже не плакала, она гневно смотрела на меня.
— МакДара — полный урод, — начинал успокаиваться я. — Как он мог…
— Только не на свадьбе, — зашипела Лелия. — Что бы это ни было, отложи до завтра.
— Послушай, — не унимался я. — Он вообще забыл, кто он такой. — Я схватил ее за плечо и развернул.
— Что ты делаешь? — возмущенно закричала она, когда я потащил ее в сторону от деревьев.
— Ты видела, какими глазами он на тебя смотрел? — в отчаянии понес я, и ложь лилась по-детски легко.
— Что за глупости!
— Я тебе говорю. Этот недоносок прямо слюни пускал.
— Да не было ничего такого! Ричард, не будь идиотом, я в жизни не давала ему повода на что-то такое надеяться.
— Я думаю, он в тебя влюбился, — меня прямо-таки распирало от негодования.
— Хорошо. Как скажешь, Ричард. Как скажешь, — насмешливо произнесла она. Я недоуменно посмотрел на нее. Из-за кустов послышались одобрительные возгласы. Я обернулся. Катрин нигде не было видно. Так же, как и этой стервы Сильвии.
— Что на тебя сегодня нашло? — спросил я.
— Ну… — начала она и замолчала, а я похолодел от страха. — Кроме того, что ты натворил… Что это вообще было? Ты же в жизни никого не ударил. Господи, Ричард… кроме того, что ты натворил, у меня была кровь.
— Да, знаю, извини. Это МакДара со своим рылом. Отвратительная картина. Я попробую отстирать.
— Нет. У меня шла кровь.
— О!
— Ну да.
— Ну так ведь ничего страшного. Я уверен, тебе нечего бояться, дорогая.
— Откуда ты знаешь? — спросила Лелия.
— Ну, это, наверное, что-то… естественное. Выходят какие-то соки. Что-то типа менструации.
— Не верю я тебе. Какая менструация? Я же беременна. Неправильно все это, — покачала она головой. Ее трясло.
— О Лелия, извини, я неточно выразился. Но ты же понимаешь, что я хочу сказать. Скорее всего, так и должно быть. Что-то выходит из матки.
— Вот именно. Что-то из матки. Вспомни, к чему это привело в прошлый раз, Ричард. — Навернувшиеся на глаза слезы заставили ее замолчать.
— Ну что ты, милая, — мне вдруг стало ужасно жалко ее. — Любимая моя, все будет хорошо.
— Ты гинеколог? Скажи, гинеколог?
— Милая… — я покачал головой.
— Кровотечение… любое кровотечение… может привести к выкидышу. Уж я-то знаю. У меня же двадцать восьмая неделя, еще слишком рано. Я… — Она судорожно всхлипнула. — Я так и знала, что ты не поймешь. Ничего не поймешь. Совершенно.
Я обнял ее и прижал к груди. Мой внутренний радар все еще сканировал окрестности в надежде увидеть Сильвию, но чутье подсказывало, что здесь ее уже нет. МакДара тоже куда-то пропал, наверное, пошел мыть свой вонючий нос. Бедная Лелия прижималась ко мне, как беззащитный ребенок.
— Можно пойти в больницу, — сказал я, поглаживая ее по голове. — Что это у тебя с волосами? Больница тут рядом, за углом. Пойдем?
Она покачала головой.
— Если еще раз повторится, тогда пойдем.
— Хорошо, дорогая. Если это случится, сразу говори мне, и я отведу тебя к врачу. Это через две улицы от нас. Я тебя на руках отнесу. С тобой все будет хорошо, дорогая. Я обещаю. Я буду о тебе заботиться, и врачи помогут, если что.
— Зачем? Зачем ты это сделал? — спросила она.
— Ну, — я рукавом смахнул волосы со лба. — Я тебе позже объясню. Обещаю. Он стал позволять себе лишнего, и мне это в конце концов надоело. Все хорошо. Он пьяный, я тоже выпил лишнего, никому это неинтересно.
— Интересно, — в темноте голос Лелии звучал как бы в отдалении. — Они просто делают вид, что им неинтересно. Они думают, что ты свихнулся.
— Ну и пошли они все!
Она внимательно посмотрела на меня.
— Мне показалось, что он тебя рассматривал, — смутился и залепетал я: нужно было как-то разрядить обстановку. — Ну я и разозлился. — На лбу выступил пот. Даже эти еле слышные слова дались мне с большим трудом. В конце голос вообще затих.
— Ричард, — произнесла она. — У него же явно роман.
Отвернулась. Мне захотелось наложить на себя руки. Прямо сейчас. Я представил себе, как моя рука поднимает с земли острый камень и вонзает его в грудь, а потом, когда я бьюсь в агонии, обрушивает его на голову МакДаре. Кровь. Пульсирующая боль. Животное удовольствие. Я тихо выругался, сшиб ногой головку какого-то цветка под ногами и принялся топтать каблуком его листья, пока они не выпустили пахнущий лекарствами сок, который приняла в себя сырая земля.
Лелия отошла к шатру и уже разговаривала с Энзо, этим типичным с виду гомиком, которого знала по университету. Этот жирный выродок, наверное, сейчас успокаивал ее, говорил, что он (он! это тот, у которого на лбу написано, что он явный гомосек) все равно всегда считал, что я ей не подхожу. Что ж, опоздал ты слегка, приятель.
Куда, черт возьми, подевалась Сильвия? Постепенно злость, как будто сконцентрированная и отфильтрованная, стала направляться на нее. Мелкая вероломная предательница. Она была совсем не тем, чем казалась. Чарли. МакДара. Боже мой. Еще одна ужасная мысль вспыхнула в голове. Неужели она трахалась с МакДарой? Нет, нет, нет. Она (я напряг память) все еще держала его на расстоянии; по крайней мере за неделю до того, как уехать, она ему отказывала. Та же история, что и со мной. Но ведь она уже вернулась. А когда она вернулась? Этого я никогда не узнаю. В это время ТЖ якобы была с мужем в Канаде. Пока Сильвия торчала в Шотландии, я в душе даже сочувствовал МакДаре. Такое вероломство просто убивало. Какой же я идиот! Нижняя челюсть у меня отвисла, как у деревянной марионетки.
Я сорвался с места. Шел все быстрее и быстрее, почти добежал до лимонной рощи, стал метаться между деревьями. В домах уже погасли все окна, кроме одного. От этого света на душе стало еще гадостнее. Может ли вообще Сильвия быть этой ТЖ? ТЖ ведь какая-нибудь замужняя обольстительница, решившая развлечься, секс-символ, а не бесстрастная маленькая невидимка, необъяснимым образом запавшая мне в душу. Голова пошла кругом. Замужняя. Сильвия была не замужем. На миг забрезжила надежда. Но у нее был Чарли. Он его имел в виду. Господи Боже. Я ринулся обратно через заросли. Ее уже не было. Исчезла, как всегда. Я спросил пару человек, не видели ли они ее. Питер Стронсон оказался единственным, кто смог сказать уверенно, что она ушла. Постепенно до меня дошло, что Сильвия общалась и с ним. Она разговаривала с ним и еще с парой редакторов, которых мы пригласили. Я изо всей силы ударил кулаком по стволу лимонного дерева. Кусочки коры прилипли к лопнувшей на костяшках коже.
Брачную ночь мы провели в больнице с прикрепленным к животу Лелии сканером. Дежурная акушерская бригада не спешила отпускать ее домой. Только под утро разрешили уйти, предупредив, что ей нужно побольше отдыхать. Не произнося ни слова, мы шли по Торрингтон-плейс, освещенной первыми лучами солнца, когда начинают просыпаться птицы, но еще не ездят мусороуборочные машины.
Дома мы забрались в кровать и так же молча прижались друг к другу. На душе было тоскливо. Я провел рукой по изгибам ее тела, теплого и пахнущего. Она скользнула немного вниз, обдав теплом мой живот, прижалась налившимися грудями. Непривычный запах, приятный, напоминающий о неизъяснимом счастье (отголоски прошлого, или юношеской страсти, или просто совершенства, законченности), шел от нее. Я начал понимать, что напоминал мне этот аромат. В нем было что-то от запаха Сильвии, который, как наркотик, лишал меня воли, притягивал к себе.
— Ты по-другому пахнешь, — уткнувшись носом ей в шею, прошептал я.
Она повернулась ко мне спиной. Я был рад, что в брачную ночь она не захотела заниматься сексом.
— Ты по-другому пахнешь, — еще раз прошептал я. — Что это за запах?
— Средство для волос, — тихо ответила она. — Тш-ш!
— М-м-м, — протянул я. Поцеловал ее. Отдался ощущениям. Окунулся в запах Сильвии. Большего мне и не надо, подумал я. Вдруг я почувствовал желание, влечение к жене. Все казалось таким простым. Так теперь будет всегда.
— Мне нравится. Пользуйся им и дальше, — сказал я. Мысль о собственной измене больно кольнула и заставила обнять ее крепче.
Я приник к ее спине и целовал, целовал ее, пытался перестать думать о МакДаре, прогнать мысли о Сильвии, которые жгли разум, словно кислота. Прижался к ее шее, стал вдыхать ее запах, запах Лелии, и шептать, как же я счастлив, что теперь могу называть ее своей женой.
Лелия заснула. Я же продолжал лежать с открытыми глазами, и мне казалось, что отныне я обречен на жизнь без сна.
Утром, когда я вешал свой свадебный пиджак на плечики, в одном из карманов я обнаружил записку, нацарапанную мелким почерком. «Хотела тебя» — было написано в ней.
17 Лелия
Сейчас мне нравится об этом думать. Вспоминать, как мы познакомились. Как любили. О чем думали, когда впервые увидели друг друга.
Когда мы пошли в кафе в тот день, когда я узнала, что беременна, и когда она пришла ко мне с детскими вещичками, мне не понравилось, что она была такой сдержанной; а может быть, просто я сама засмущалась, оттого что уже тогда она запала мне в душу. Пока я лежала на диване, она читала мне «Ангела». Потом я заснула, а когда проснулась, мне захотелось, чтобы она и дальше разговаривала со мной, мне хотелось слушать ее хрипловатый негромкий голос. В конце концов сдержанность покинула ее, мы разговорились, и разговорам нашим не было конца. Так самозабвенно, как с ней, раньше я разговаривала лишь со своими самыми близкими подругами (и то только до определенного возраста) в своей спальне в Лондоне и еще один раз во Франции на Рождество, стоя на берегу реки. Мне хотелось беседовать с ней всю ночь. Говоря, она поглаживала мне ладонь.
Потом мы пошли гулять в сад на Мекленбур-сквер. Постояли у каштана, остановились у ворот, не переставая разговаривать, хотя уже расходились в разные стороны. Меня охватило то замешательство, которое возникает, когда понимаешь, что только что зародилась крепкая дружба, встретились две родственные души, которым нужно обсудить так много очень важных и интересных вопросов и у которых есть на это целая жизнь. Но несмотря на то что разговорам нашим не было конца, мы не смотрели друг другу в глаза, потому что это ощущение коснулось нас обеих.
Я не спускала глаз с улицы, чтобы не пропустить Ричарда, который мог возвращаться домой. Я хотела расстаться с ней до того, как он увидит нас вместе, чтобы избежать вопросов о том, что в этот темный зимний вечер я делаю в компании с этой, как он считал, занудой, с которой мы даже не были толком знакомы. В конце концов мы все-таки расстались, причем расставание было неожиданным, почти поспешным, мы просто разошлись в разные стороны, и это было еще одним необычным переживанием, которое я часто воскрешала у себя в голове.
— О чем думаешь? — придя домой, спросил Ричард, когда я сидела на диване и разбирала кое-какие расписания.
— Ни о чем. О своих графиках, — ответила я.
Он прищурился и посмотрел на меня внимательнее.
— Врешь, — не поверил он. — Тебя что-то волнует, ведь так? Неприкаянная душа… Откуда взялось это выражение?
— Поинтересуйся у С. Т. Онионса.
— Когда-нибудь я найду в себе что-нибудь такое, чего ты обо мне не знаешь, — сказал он и вдруг покраснел, чего с ним никогда раньше не случалось.
Я удивленно посмотрела на него.
Я начала перебирать в памяти все наши встречи. Однажды я видела ее в «Джон Льюис», но тогда в суматохе решила не подходить к ней, просто потому что так было проще. Дважды я встречала ее на улице, один раз даже заметила ее из окна на нашей площади. Я испытывала странные чувства, как будто она раздражала меня, хотя я сама не знала чем. Было в нашей дружбе какое-то напряжение, даже в самом начале, хотя ничего подобного с другими знакомыми женщинами я не ощущала.
После той прогулки по Мекленбур-сквер она прислала мне эсэмэску. Я была приятно удивлена и тронута. Послала ей эсэмэску в ответ, но потом на меня что-то нашло и я, поборов в себе некоторое сомнение, позвонила ей в тот же вечер, пока Ричард торчал за компьютером. Было слышно, что она рада звонку.
Через пару дней она прислала мне следующую эсэмэску, я ответила ей. Каждый раз, когда мой мобильник неожиданно оживал, подавая звуковые сигналы, я улыбалась. Однажды я позвонила ей утром по пути на работу и договорилась встретиться после семинара в кафе у здания Сената. Когда она пришла, со мной были еще несколько моих студентов. Она подсела к нам. Какое-то время мы сидели все вместе, окруженные плотным колпаком шума, поднимающегося над деревьями Рассел-сквер.
— Я все время ожидаю, что мой телефон вот-вот зазвонит и это будешь ты, — сказала я ей, пока студенты разговаривали между собой.
— И я, — сказала она. — Только я еще и очень скучаю по нашим разговорам, — на секунду замолчала. — Даже когда засыпаю, мне кажется, что я разговариваю с тобой.
— Правда? — удивилась я. Ее напористость иногда заставала меня врасплох.
Подошла моя коллега с подносом в руках и тоже села за наш столик. Моя запланированная тихая встреча с Сильвией превратилась в некое неофициальное мероприятие: студенты, возбужденные и порывистые, как все выпускники, изо всех сил старались понравиться нам и одновременно поразить легкой долей нахальства. Сильвия говорила очень мало, но ее немногословность, как я догадывалась, объяснялась не только сдержанностью, но и осторожностью. Студенты продолжали болтать, их быструю свободную речь (неужели и я когда-то так разговаривала?) я как будто воспринимала ее ушами. Время от времени Сильвия вставляла слово или просто отворачивалась и смотрела в другую сторону, словно ее все это не касалось, и вдруг в первый раз я увидела в ней живое существо, некую дрожащую физическую силу редкой природы, расположения которой необходимо добиваться.
К ее следующему приходу я все убрала дома. Я нервничала. Переживала, что, может быть, простота общения на Мекленбур-сквер пропала и нам опять будет неловко разговаривать, снова возникнет скованность. Я прямо места себе не находила, суетилась, бегала из комнаты в комнату, убирала кучи бумаг, включала лампы.
Она пришла в тридцать пять минут шестого. Узкое черное платье, волосы зачесаны назад, из-за чего она выглядела еще красивее. От нее сильно пахло сигаретным дымом, я даже пару раз пошутила по этому поводу.
— Как ребенок? — спросила она. Протянула руку и приложила ладонь к моему животу.
— Все отлично, — сказала я. — Она на месте. Растет.
— А это она?
— Не знаю. Мне кажется, я чувствую, что это девочка.
— Дочь, — сказала она. — Она будет красавицей с косами… сильной и горячей… маленькой копией тебя.
— О! — воскликнула я. — А я все время думаю о косичках.
— Они у нее уже есть?
Она наклонилась, подняла краешек моей блузки и сделала вид, что всматривается внутрь моего живота. Я почувствовала животом прикосновение ее холодных тонких пальцев. Потом она подалась вперед и поцеловала его.
Мы стали ходить по квартире и разговаривать.
— А вот еще… — беспрестанно повторяли мы. — А еще вот…
Пока мы переходили из комнаты в комнату, что-то рассматривали, останавливались и беседовали, у меня опять появилось ощущение, что я ее давно знаю, мне знакомо ее дыхание, ее голос, ее неброский шарм, ум. Мы понимали друг друга. Это взаимное чувство было очень чистым и сильным. Я знала, что если все эти качества разглядела в ней я, то и другие увидят их, я не одна такая, такой же эффект она произведет на других людей, которые будут судить о ней не по первому впечатлению.
Все лампы в квартире горели, они разливали маленькие озерца света на темных половицах или мрачных стенах. Я включила отопление посильнее, мне не хотелось уходить из комнаты, в которой мы остановились. Я приготовила для нее кексы, они наполнили своим запахом горячий воздух. Мы разговаривали негромко, барабанили ногтями по тому, что попадало под руку. Она бросала на меня короткие внимательные взгляды. Несколько раз мы замолкали одновременно, и повисала тишина. Начала ощущаться неловкость. Пахнущая пылью жара, идущая от батарей, сушила горло. Я рукой откинула прядь волос с покрывшегося испариной лба.
— Очень красиво, — заметила Сильвия.
— Что именно?
— Вот это. Твои волосы. Как они струятся.
— Спасибо, — скромно поблагодарила я и попыталась представить, как бы они выглядели в движении. Заблестели бы на свету? Увидит ли она это? Напряженность нарастала, еще чуть-чуть — и она зазвенит. «Она хочет поцеловать меня!» — вдруг с ужасом подумала я. Эта женщина поцелует меня. Сердце в страхе сжалось. Шли секунды. Мне хотелось закричать, проколоть пузырь скованности. Она придвинется ко мне. Я стану сопротивляться или…
— Я… — начала она.
Я порывисто вздохнула и замерла в наступившей тишине.
Наши взгляды встретились. По Гилфорд-стрит проезжали машины, издалека доносился вой сирен, гудки такси. Я попробовала выглянуть в окно, чтобы успокоиться и вернуть себя в нормальное состояние. За окном был целый мир: залитые светом теннисные корты, бледные зубчатые стены «Брансуик-центра».
Мы находились в спальне и стояли рядом. В воздухе чувствовалось напряжение, но оно было сконцентрировано где-то в середине комнаты. У меня все поплыло перед глазами. Я почувствовала такой прилив сил, словно умирала, но не знала об этом. По мне прошла теплая волна возбуждения, как воспоминание о далеком прошлом, — первый сексуальный опыт, первая любовь, измена. Измена, восхитительное чувство. Запретный плод. Секс с тем, с кем тебе нельзя заниматься сексом, — с учителем, с отцом подруги, с другой женщиной.
Ричард повернул с Гилфорд-стрит и перешел дорогу. В зимнем пальто и с большим темно-зеленым шарфом на шее он выглядел очень хорошо.
— Он идет, — воскликнула я, и голос предательски дрогнул.
— Да? — вроде бы продолжалась беседа.
Я наблюдала за тем, как он приближается к нашему дому, как двигаются его ноги, как он спешит побыстрее укрыться от холода в теплой квартире. Я прекрасно знала, когда и что он чувствует. Я любила его мятежную прекрасную душу так же, как какая-то часть меня буквально ненавидела его за то, что он был так далек от меня и моей беременности. Я представила себе его плечи, рельефные мышцы на плоском животе, подумала, что, если бы у него возникло такое желание, он, когда мы занимаемся сексом, запросто мог бы или раздавить меня как муху, или играть мною, как кошка пойманной мышкой. Вообще-то у меня никогда не возникало желания целоваться с женщиной. Но она была так не похожа на меня — меньше и изящнее, такая сдержанная, рассудительная. Она казалась каким-то иным существом. Мне хотелось, чтобы она захотела меня, чтобы предпочла меня другим людям, тогда я бы знала, как поступить.
— Да, — подтвердила я, глядя в окно. — Он уже подходит.
Я отступила от окна и стала посредине комнаты. Она подошла ко мне.
— Мне пора уходить, — сказала она.
И в эту секунду как-то само собой получилось, что я обняла ее и прижала к себе, ее голова оказалась у меня на плече, а моя рука — у нее на шее, сзади, под тем местом, откуда начинают расти волосы. Собственный поступок потряс меня. Мне она показалась очень хрупкой. Наверное, такое же ощущение возникает у мужчин, которые ее обнимают, подумала я. Так мы простояли несколько долгих секунд.
Я прислушивалась к входной двери, ощущая на плече ее теплое дыхание. Из-под наслоений сигаретного запаха (паб? какая-нибудь вечеринка вчера вечером?) проступил ее собственный приятный запах. Нужно было что-то сказать.
— Он сейчас поднимется, — тихо произнесла я.
Мы услышали, как открылась дверь в квартиру. Посмотрели друг на друга. Наши лица находились в такой близости, что сделалось страшно. Ричард чем-то погромыхал внизу.
— Лелия! — раздался его крик. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но она убрала голову с моего плеча, поэтому я промолчала.
Она подняла руку и легонько провела кончиками пальцев по моей щеке. Сейчас она меня поцелует, подумала я и даже представила себе, как это произойдет. В ужасе застыла.
Не поцеловала.
На щеке еще чувствовалось прикосновение ее пальцев. Я услышала, как открылась и захлопнулась дверь в туалет.
— До свидания, — торопливо бросила она.
— Но… — растерянно произнесла я. — Нет.
Она озадаченно посмотрела на меня своими темными глазами. Потом улыбнулась.
— В следующий раз, — пообещала она, — будет больше времени.
Она сбежала по лестнице. Я на ватных ногах последовала за ней, зацепив по дороге картину на стене. Пока спускалась вода в туалете, она открыла входную дверь и выскользнула на лестничную площадку.
Я бросилась в большую комнату, закинула в еще горячую духовку чабатту и, дрожа, кинулась на диван, зарылась в кучу подушек, схватила ручку и какие-то бумаги. Когда в дверях появился Ричард, я сделала вид, что оторвалась от работы и улыбнулась.
Позже, в июне, у меня возникло сильное, но неразумное желание пригласить ее на свадьбу. Я несколько недель пыталась придумать какой-нибудь повод позвать ее, но все, что приходило в голову, казалось надуманным. Только кровь заставила меня решиться.
Она пришла поздно, когда уже начало смеркаться, старалась держаться в стороне от всех. На ней было сиреневое платье с воланом, не такое строгое, как она обычно носила, но все же довольно скромное. Встретившись с ней на тенистой, посыпанной гравием тропинке между деревьями, я бросилась ей на шею. В полутьме рот у нее выделялся сильнее обычного, четко прорисованные брови на фоне бледного лица казались черными.
— Поздравляю, — тихо произнесла она.
— О, спасибо, — смутилась я, хоть и была тронута. Вдруг я заметила, что держу руки сложенными перед собой. — Большое спасибо. Это так… мило. Нет, не мило… Что-то я… Глупо как-то все звучит. Я правильно сделала?
— Я не знаю, — отозвалась она.
Повисла тишина. «Зачем я это сделала?» — подумала я, глядя на нее.
Она так же внимательно рассматривала меня.
— У меня кровь шла, — прошептала я.
— О Лелия! — она обняла меня одной рукой. Прижала к себе (я знала, что она так сделает), убрала у меня со щеки волосы, поцеловала ухо. — Давай сядем. — Она повела меня под руку к скамейке на краю тропинки, туда, где сгущались тени лимонных деревьев. — Ты что-нибудь делала? Нужно обязательно позвонить в больницу.
— Да, — кивнула я.
— И до сих пор идет?
— По-моему, нет. Я все время проверяю.
— А в… в прошлый раз тоже так было?
— Да, но тогда это было намного раньше. Было… больнее, что ли.
— А сейчас боли нет?
Я покачала головой.
— Я не хочу в больницу. Я хочу быть здесь с… — посмотрела на нее, — друзьями. С Ричардом. С тобой.
Она притянула меня к себе, так что моя щека оказалась у нее на плече. Пригладила волосы на затылке.
— Милая моя, дорогая Лелия, — ее голос звучал так близко, теплой волной вливался прямо в ухо. — С тобой все будет хорошо. Хуже ведь не становится. Я буду рядом.
— Боже, я знала, что ты поступишь именно так.
— Если возникнут осложнения, поедем в больницу вместе.
— Спасибо, — сказала я и задышала спокойнее. Расправила плечи и села рядом с ней. Мы смотрели поверх лимонов на оранжевое небо, и, расставаясь с ней, я поцеловала ее ладонь. Я пошла к остальным гостям, а она медленно растаяла лиловым пятном в тени деревьев.
Позже я снова ее встретила. Увидела возле старого куста боярышника, там, где жасмин зелено-черной волной наваливался на забор. Похоже, она либо нарочно держалась в тени, либо просто вела себя так тихо, что Ричард до сих пор не заметил ее присутствия. Он как раз разговаривал с МакДарой у шатра. Галстук у него уже был распущен, и он водил рукой по волосам, которые слегка ниспадали на лоб. Когда я смотрела на него, я не могла поверить в то, что он стал моим мужем. Что бы я теперь ни думала, я официально стала его женой. В ту секунду я почувствовала, как во мне нарастает панический страх (что означает моя подпись? каким законам я теперь вынуждена подчиняться?), сменившийся чувством вины. Гости бегали вокруг, кричали и веселились, как дети. Глядя на них, я даже улыбнулась. На газонах было так много маргариток, их крохотные белые головки уже закрывались. Темно-красные розы сорта Элис в темноте казались черными, как кровь.
— Сейчас я… — нерешительно заговорила Сильвия. — Сейчас я… что? Ведь после этого…
Она взяла меня за руку.
— Да?
— Да. Я хочу сказать это именно сейчас. Я люблю тебя.
— О! — сказала я. — Знаешь, я бы…
— Тш-ш-ш, — шепнула она и, чтобы заставить меня замолчать, накрыла мой рот своим. Долго еще это прикосновение ощущалось на губах.
Со стороны шатра послышался громкий хлопок. Тишина. Взрыв хохота. Оркестр начал новую мелодию.
— Я нашла для нас маленький домик. Это наше первое убежище… и последнее, — сказала она.
— О Сильвия, — воскликнула я. К горлу подкатился комок. Несмотря на то что я всегда была уверена, что кроме Чарли в жизни Сильвии существуют другие люди, и подозревала, что она догадывалась, что я это понимаю, в тот миг больше всего на свете мне хотелось остаться с ней; поддержать ее, защищать, главным образом от себя самой. Почему мы выходим замуж за мужчин? В другой жизни или с другим складом ума я бы могла сбежать с ней, имела бы шанс жениться на своей нежной и хрупкой лучшей подруге, мы стали бы жить где-нибудь в небольшом доме и разговаривали бы ночи напролет.
Она взяла меня за руку и повела прочь от шатра в тень старого раскидистого бука с низко опущенными ветвями, где земля была сочнее и мягче, а трава выше.
— Смотри, хижина, — тихо сказала она. — Это хижина садовника.
— Хижина? — глупо повторила я. Я позволила ей увести себя в ночь с собственной вечеринки. Меня подстегивало детское волнение оттого, что я участвую в чем-то тайном, веду себя неправильно, и первое чувство провоцировало второе и наоборот.
— Давай зайдем туда, а то другие ее займут, — сказала она. — Здесь не заперто. Нужно только слегка подтолкнуть дверь, и она раскроется, специально для нас. Я приготовила место, на котором ты будешь лежать, как настоящая красавица.
Мы наклонились и сели рядышком, прижимаясь друг к другу висками, стали разговаривать. Я была уверена, что могу разобрать значение пульсации ее крови, разобрать смысл того почти не слышного звука, с которым соприкасались наши лбы, когда мы читали мысли друг друга.
Никогда еще в своей жизни я не переживала такой дружбы, как эта. Даже с Софи-Элен до Мазарини было не так, и с Кэлли, моей любовью из начальной школы, и с Энзо, проверенным другом, которому я полностью доверяла, и даже с Сюзанной, лучшей подругой, с которой мы дружили уже лет пятнадцать. У нас был роман, который протекал в плоскости мыслей, книг, магазинов, бесконечных разговоров. Мы звонили друг другу, когда Ричард и Чарли засыпали, и, сидя у телефонов в ночных рубашках, обсуждали Фонтане[49], Саррот[50] или Флобера, смеялись над всякой ерундой и бесконечно разговаривали о ребенке.
В спальне на Мекленбур-сквер она меня не поцеловала. Этого не случилось и в последующие дни. В то время я была сильно занята на работе — нужно было «подтянуть» некоторых своих студентов, подкомитет по образованию тоже отнимал много времени. Когда я принималась за работу, думала о ней, проводя сквозь дебри знаний очередного настырного выпускника, или тупо разбирала отчеты, я заметила, что к ощущению облегчения добавляется легкий привкус разочарования. Хоть об этом никогда не говорилось вслух, со мной она общалась так, чтобы об этом не узнал Ричард, что тревожило меня поначалу, — она записывала короткие музыкальные отрывки на моей голосовой почте, оставляла для меня записки на работе, слала эсэмэски и электронные письма на рабочий адрес. Каждое утро после приступа рвоты я ложилась на кровать и выдумывала новые способы нашего общения.
— Я приручу голубя, — говорила она. — Он станет почтовым голубем и будет каждый день летать к тебе через Блумсбери с моими посланиями.
Ребенка мы вынашивали вместе. Вдвоем заботились о нашей девочке — моя матка была ей уютным домиком, а разум и воображение Сильвии защищали матку, и даже зимой в парке, когда мы сидели в кафе со стеклянными стенами на Расселл-сквер и внезапно повалил снег, я чувствовала себя окруженной теплом и заботой. Мы следили за развитием малышки, Сильвия говорила что у нее есть специальная книга, где описаны все стадии развития плода. Каждую неделю, в пятницу, она рассказывала мне, какие изменения происходят внутри меня. Она покупала в киосках линейки и перематывала ленточкой сантиметр, соответствующий росту ребенка, а еще бывало, покупала мне книги, или открытку, или цветок соответствующей длины. Она знала, когда формировались внутренние органы, когда появлялись ногти, когда зародыш начинал воспринимать свет. Когда началась двадцатая неделя и нужно было идти на УЗИ, я взяла с собой Сильвию. Ричарду я об этом даже не сказала.
— На этой неделе у нее сформировались веки, — сообщила она. — Представь только!
Отношения с Сильвией я держала в секрете — мои подруги не поняли бы меня. Да я и сама с трудом это понимала. Сейчас студентки-старшекурсницы запросто целуются, когда выпьют лишнего, и никто из этого не делает трагедии, но, когда мы были студентами, мы даже не предполагали, что можно себя так вести. Если бы я стала ее спрашивать, краснея и смущаясь, как подросток, но все же решилась бы как-нибудь намеком или иносказательно затронуть сапфийскую тему, она бы просто, слегка пожав плечами, ответила: а что вообще подлежит четкому определению? Можно ли категоризировать человеческие желания? Она всегда говорила тихо и спокойно, как профессор, рассуждающий вслух о каком-нибудь гипотетическом предположении, и неизменно оставалась на некотором расстоянии. И именно эта ее вечная отстраненность вызывала во мне душевное волнение.
Расскажи, хотелось мне говорить, умолять. Расскажи мне все. Хотя нет, не все.
Мир изменился. Деревья стали пахнуть спермой, тротуары — собачьими экскрементами. Проезжающая мимо тележка с восточной едой вызывала у меня рвотные спазмы. Кофе на вкус стал напоминать пережженное масло. Я давилась во время еды, блевала на тротуар, на деревья, в мусорные ведра, но каждый новый приступ рвоты был подтверждением того, что мои гормоны крепко вцепились в ребенка. Это было искупление. За предыдущих нерожденных детей, за смерть отца, за остальные неприятности, причиной которых вольно или невольно я могла стать. Вот только полное искупление невозможно.
По всему телу у меня пошли пигментные пятна, напомнившие мне архипелаги на ванне Мазарини. Соски увеличились, живот округлился, разум затуманился. Я до последнего обходила стороной магазины для беременных, с удвоенной энергией скупала одежду в своих любимых обычных магазинах. Присутствие Сильвии ощущалось во всем. Это проявлялось даже дома: мне казалось, что я чувствую ее запах, и я начинала бояться, что и Ричард уловит легкую перемену в воздухе. Я нервно выглядывала в окно, чтобы вовремя заметить его приближение, несколько раз они разминались всего на несколько секунд.
Как-то раз вечером, когда он отправился к МакДаре и не возвращался допоздна, Сильвия осталась со мной и, уходя, встретила его на площади. Как она сказала, он ее не заметил, но лишь потому, что она вовремя спряталась. Ей пришлось шмыгнуть в тень у ворот в сад, там, под залепленными снегом ветвями деревьев она простояла минуту, наблюдая за тем, как он проходит мимо нее и входит в дом. А еще, когда на вечеринке МакДары мне показалось, что со мной хочет поговорить Катрин, я отчетливо почувствовала, что она догадалась, что происходит.
— Ты чувствуешь себя виноватой? — спросила Сильвия, с открытой улыбкой заглядывая мне в глаза и зажав ладонями мои виски.
— Нет, — ответила я. — Практически нет.
— Хорошо.
— Только я не знаю почему.
— Я знаю, — сказала она. И действительно, после того как Ричард отдалился от меня и ребенка, чувство вины меня почти покинуло, хотя до того у меня был такой комплекс вины, что каждый раз, когда я смотрела на фотографию отца, мною начинал овладевать привычный панический страх. Я как бы со стороны и с большим удивлением наблюдала за эволюцией собственной двуличности, отделывалась от Ричарда простодушными замечаниями по поводу серой мышки. Сама же Сильвия вела себя так хладнокровно, если не сказать цинично, что я с легкостью, даже с удовольствием переняла у нее эту манеру.
Наш с ней первый поцелуй оказался мимолетным. Резкие порывы воздуха, предвещавшие бурю, волновали деревья на Мекленбур-сквер, листва нависающих над оградой веток мелко дрожала, сами ветки тянулись вслед ветру. Небо уже сделалось таким серым, что начало казаться, что оно вот-вот порвется и на землю обрушится неимоверная масса воды. Наши волосы развевались, нужно было спешить домой, расставаться, но так много еще оставалось невысказанного. Когда мы в попытке перекричать ветер потянулись друг к другу, чтобы попрощаться, вдруг оказалось, что наши губы сомкнулись и мы начали целоваться. Слова перемешались с холодом воздуха и теплом дыхания. Неожиданный контраст (электрический удар от прикосновения ее рта в стремительном движении воздуха, акт близости между двумя людьми) был для меня таким шоком, что впоследствии всякий раз, когда я вспоминала о нем, меня охватывало сильнейшее волнение.
На Гордон-сквер нам пришлось подпереть изнутри дверь в хижине садовника, поскольку я, беременная невеста, не могла допустить, чтобы меня застукали лежащей на кровати в обществе другой женщины прямо в день свадьбы. На приготовленное для меня ложе падал луч лунного света, пробивающийся сквозь вечерний туман. Гул вечеринки доносился с улицы, как шум моря. В голову снова пришли мысли о смерти. Я представила себе, как встаю и вижу лужу горячей крови, которая впитывается в солому, и мне начинает отчаянно хотеться жить. Если ребенок умрет, я хотела, чтобы моя девочка умерла здесь вместе с матерью, чтобы рядом был кто-то, кто заботился о ней, любил ее, в отличие от отца, который даже не знал, какой у нее рост и какие пропорции или в какой день недели у нее начинался новый недельный цикл.
Сильвия укрепила дверь и вернулась ко мне. Я протянула ей навстречу руки, и она опустилась в своем напоминающем лепесток сирени платье на пол, мы обнялись. Поцеловались (шелковистая мягкость прикосновения к женским губам после стольких лет трения о щетину взволновала меня, правда, мысль о том, как это выглядит со стороны, заставила волноваться еще больше). То были первые девические поцелуи, перемешанные с шепотом. Она говорила, что будет заботиться обо мне.
У меня возникло такое чувство, будто я запечатываю в закрытый сосуд свою любовь к Сильвии Лавинь, вписываю ее в свиток с завещанием. Я попытаюсь сохранить свой брак, брак, который продлился пока всего лишь один день. Вот только от мысли о том, что придется с ней расстаться, мне хотелось плакать с той же силой, с какой хотелось умереть, если я потеряю ребенка.
— Ты мой лучший друг, — она гладила меня по плечу, постепенно приближаясь к вырезу вокруг шеи. — Я нашла тебя.
Там, в этой хижине, было сыро. Пахло мокрым песком и мельчайшими блестящими капельками влаги, скопившимися на паутине, прицепившейся между старых кирпичей. Выдохнув, я почувствовала запах гниющих папоротников. В темноте начинали различаться стоящие у стены лопаты и ворох камышей.
Только бы ребенок выжил, подумала я. Пусть эта хижина станет для него сказочным домиком с кошками и галошами, как в волшебных рассказах Беатрис Поттер[51], с которыми можно играть, а не мавзолеем.
Сильвия накрыла меня одеялом, или мне показалось, что она это сделала. На самом деле это была ее куртка. И от нее едва уловимо исходил тот же аромат, что и от самой Сильвии. Я вздрогнула. Она села надо мной, взяла мое лицо в ладони и заглянула в глаза.
— Позволь мне позаботиться о тебе, — сказала она.
Я кивнула.
— Подарим ей жизнь, — шепнула она, уткнувшись мне в шею.
«Так же нельзя говорить!» — ужаснулась я. В суеверном страхе я впилась ногтями в ткань, на которой лежала. На жизнь моего ребенка имею право только я.
Она поцеловала меня.
Во всем мире остались мы втроем. Моя дочь. Сильвия. Я. Все остальные люди исчезли. Наши жизни сконцентрировались в одном месте. Мы трое выпали из общего течения времени, и я знаю, что такое ощущение больше не повторится никогда. Когда-нибудь я скажу своей дочери, таинственно улыбаясь: «Видишь эту старую хижину? (Тогда на этом месте будет уже стоять ларек, торгующий бургерами, или интернет-кафе.) Когда-то я любила в ней одного человека». Я не расскажу ей, когда именно, и не назову имени; для нее эта загадка из невинного прошлого матери навсегда останется нераскрытой. Но в ту же секунду мне захочется неслышно добавить: «И ты была там; я тогда была влюблена; и случилось это в день моей свадьбы».
Она поцеловала меня в ключицу. Голова ее была почти неподвижна, лишь губы вытягивались, шевелились.
Я была так возбуждена! Меня переполнила тревога. Но мне не хотелось, чтобы восторг заставил меня потерять голову.
— Я так хочу этого ребенка, — произнесла я, и на глаза навернулись слезы.
— Я тоже, — сказала она. — Больше не будет крови. Расслабься, любовь моя, не шевелись. Позволь мне любить тебя. Позволь, я помогу тебе расслабиться.
Гладкостью и белоснежностью кожи она напоминала призрак. Я прикоснулась к ней, чтобы ощутить ее тепло и убедиться, что передо мной действительно человек. В полумраке ее брови по форме напоминали фрагменты японских иероглифов, выведенных кисточкой, глаза казались черными, а красивый рот воспринимался отдельно от всего лица.
Она провела языком по моему лицу там, где остался влажный след от слез.
— Тш-ш, — шепнула она, я поцеловала ее волосы, а она, сильная и уверенная в своей легкости, скользнула на меня. В горле родилось сдавленное дыхание, бабочка, которая не может найти выход.
Нежные звуки, которые мы издавали, становились все громче, словно мы думали, что тень, скрывающая нас, способна каким-то волшебным образом защитить от посторонних глаз. Впрочем, я представляла себе мать, молча, с пылающим взором смотрящую на меня в ту секунду со стороны. Мы с Сильвией старались не шуметь. Я сопротивлялась. Боялась за ребенка. Она провела по мне рукой, и мое тело изогнулось, подалось вперед, жаждя еще, но руки отталкивали ее. Где Ричард? Этого я не знала. Он находился где-то в другом месте, на другой планете, где царили другие правила, была другая жизнь. Я вспомнила, как происходит любовь между девушками. Эта маленькая щель на лобке. В конце концов ведь Мазарини была девушкой.
— Я нашла тебя, — произнесла она.
На меня упали ее волосы. Черной змеей соскользнули на кусок материи, на котором мы лежали. Я припала губами к открывшемуся уголку ее холодной кожи под шеей. Едва касаясь пальцами, она легонько провела ладонью мне по стопе, потом выше. Замерла, внимательно посмотрела на меня своими темными глазами (рот неподвижен и безразлично расслаблен) и начала медленно двигаться так, как когда-то двигалась Мазарини.
— Вспоминаешь?
Я беззвучно рассмеялась.
Она тоже улыбнулась и, чтобы не дать мне произнести ни звука, запечатала мне губы поцелуем. Образ преследовал меня, пока мы двигались. Две девочки творят акт любви. Она была творцом. Она нежила меня. Я, двигаясь, ощущала, что внутри меня плавает ребенок. Она полностью перекроила меня. От ее прикосновений по моим нервам бежали волны возбуждения, заставляли меня вскрикнуть и не давали произнести ни звука, усиливались. Лоб покрылся потом. Однажды Ричард облизал каждый квадратный дюйм моего тела, но Сильвия делала со мной такое, чего не в состоянии сделать ни один мужчина.
И тут я почувствовала этот запах: насыщенный жизненными соками уголок первозданной природы на Блумсбери-сквер и аромат Сильвии Лавинь, Клемансо и каштаны вдоль Луары. И когда запах травы смешался с благоуханием ее волос, мне захотелось остаться там навсегда, возноситься все выше и выше, бесконечно.
— Я люблю тебя, — наконец вымолвила я.
— И я люблю тебя и буду любить всегда, — сказала она.
Я всхлипнула и поцеловала ее в скулу. Разговаривая, мы почти плакали. Ночь была такой темной, снова стали слышны звуки свадьбы, они становились все громче и отчетливее. Ее руки обнимали меня, прижимали мою голову.
Мне вспомнилась широкая река, ужасный страх, просачивавшийся в вакуум наслаждения. Она была сверху. Наши тела сплелись в одну горячую, скользкую и влажную массу. Если мой ребенок умрет, умру и я, потому что я не смогу этого пережить. Я умру во время оргазма. Она двинула руку вниз, по моему животу, вздыбившемуся светлым холмом, освещенным лунным светом.
— Теперь мы расстанемся? — спросила она и заглянула мне в глаза, сверху вниз. Во мне зародился и стал нарастать спазм.
— Нет, — возразила я, но это короткое слово исторг мой рот, но не я. Я услышала голос Ричарда. Я стояла высоко на краю обрыва, вокруг была непроглядная ночь. Я не могла дышать. Внутри загорался огонь, он стал разливаться по всему телу, пылать все жарче. Я лежала молча, отдавшись ощущениям: блаженство на мгновение замерло, потом вышло из берегов и хлынуло по венам во все уголки тела.
— Нет, — повторила я.
18 Ричард
МакДара. Лживый жирный ублюдок. О МакДаре я думал, наверное, больше, чем обо всех остальных. Больше, чем о жене, больше, чем о любовнице или о своем неудачном двухнедельном браке. Я тратил драгоценные рабочие часы, представляя себе, как они с Сильвией занимаются или не занимаются сексом, а потом тратил еще больше времени на то, чтобы осознать весь объем и степень цинизма, возможно, заложенного в их отвратительный сговор. Я прошерстил его безграмотные электронные письма, которые еще не успел удалить, в надежде обнаружить в них скрытые намеки на Сильвию. Но ТЖ мне всегда представлялась совершенно другой — замужней, эффектной и, что важнее всего, обычной.
Я скучал по нему. Ненавидел его больше, чем кого-либо на свете. В понедельник после свадьбы первым моим порывом было вломиться в его офис, для начала хорошенько навалять ему, а потом вытрясти из него все, что ему известно о Сильвии Лавинь. «Когда? — думал я. — Как?» Я смог вспомнить только один раз, когда видел их рядом после того ужина у меня дома в компании с оравой галдящих Феронов. Она была совершенно незаметна, держалась всегда в стороне, не пила и не вступала в разговоры. Потом вдруг совершенно четко вспомнил, как будто вывел на чистую воду преступника: в тот вечер МакДара долго разговаривал по телефону в моем рабочем кабинете. Была ли с ним она? Была? Сумела ли она тайком просочиться в его жизнь именно в тот раз?
На следующий день, утром, на работе я поднялся на крышу и стал всматриваться на восток, туда, где были видны высотные здания, в которых МакДара проводил все свое время, и было у меня лишь одно желание: запрыгнуть в такси, ворваться туда и выбить из него правду, так, чтобы он стал молить о пощаде. Но я был не настолько глуп. Мне нельзя было идти на такой риск и подвергать еще большей опасности свой брак. Совершенно очевидно, что этот кретин ни сном ни духом не знал о том, чем еще занимается его любовница, так что та вспышка насилия с моей стороны была наверняка отнесена на счет слишком уж разыгравшегося желания защитить от посягательств честь и невинность нашей с Лелией общей знакомой. Так что его фальшиво-возмущенные просьбы выйти на контакт, оправдания и внезапные лживые просветления холодно игнорировались мной в простой форме — когда он звонил, я сразу посылал его к черту.
— Давай сейчас устроим себе медовый месяц, — обратился я к Лелии после нескольких дней супружества, которые прошли в таком напряжении, что я мог говорить только подобными воззваниями.
— Каким образом? — вяло спросила она, и мне пришлось задуматься о наших трудовых обязательствах, вспомнить о том, какую идиотскую ошибку я совершил, согласившись отложить наш медовый месяц до ее университетских летних каникул, чтобы потом она смогла уйти в декретный отпуск. Нужно было сразу хватать ее в охапку и уезжать куда-нибудь, подальше от всей этой нервотрепки. Впрочем, в глубине души ни она, ни я не хотели никуда ехать.
— Пожалуйста, — попросила она. — Поговори со мной.
Но от одной мысли об откровенном разговоре глаза в глаза мне становилось муторно. Точно так же меня пугало то, что мы утратили способность общаться свободно. После свадьбы мы почти не разговаривали, и это при том, что раньше болтали постоянно, иногда даже жертвуя сном или сексом. МакДара был единственной темой для разговоров, которая возникала регулярно, как будто он каким-то образом превратился в изначальную причину наших печалей. Мои жалкие потуги придумать более или менее достоверное объяснение своему поведению не смогли облегчить ее душевных страданий. Она плохо спала, редко говорила о своей беременности, перестала хватать мою руку и с восторженным и напряженным выражением, которое я должен был отзеркалить, прикладывать ее к животу, чтобы я почувствовал, как бьется ребенок (чего мне ни разу так и не удалось).
— Ты все еще… ходишь к врачу? — хотел я спросить ее, но, боясь, что сам вопрос вызовет непостижимую для меня бурю негодования, так и не нашел подходящего случая задать его.
Вот из этого, понял я, и состоят дерьмовые браки. Так живут все эти ненавидящие друг друга парочки; пенсионеры, молча читающие меню в гостиничных столовых; все те, кто десятилетиями копит в себе чувство обиды и тянет за собой капризных бледных детишек. Наши самые давние темы для споров, появившиеся, как я теперь понимал, еще в первый год нашего знакомства, всплывали на поверхность вновь и вновь, приобретая все новые отвратительные формы, которые не могли скрыть их повторяющейся природы. Одно лишь показавшееся подозрительным изменение тона могло привести к вспышке новой серии хорошо отрепетированных обвинений и контробвинений, заканчивающихся слезами. Однако крики и напряженное молчание служили лишь защитой, помогающей нам в пылу перепалки забыть о самом предмете спора, который мог бы вскрыть правду. После мы обходили друг друга стороной и с головой окунались в работу, чтобы лишь поздно ночью, совершенно без сил, лечь в кровать не вместе.
Однажды утром я засмотрелся на ее лицо, на котором июльское солнце рассыпало веснушки. Кожа у нее под глазами сделалась дряблой и растянутой, казалось, что она постарела и поникла, словно это я изменой подорвал ее жизненные силы. Вдруг стало ужасно жаль ее.
— Прости меня, — пока не проснулась она, шепнул я ей на ухо. — Прости.
О самой Сильвии Лавинь не было слышно. На следующее утро после свадьбы я проснулся с мыслью отныне относиться с презрением к этой мелкой кошке-предательнице. Мне хотелось вымарать ее имя из страниц своих мыслей, гордым молчанием встретить ее мольбы, наказать ее так, как она того заслуживает. Но к тому времени мне бы уже стоило ее знать получше. Как всегда неуловимая, она просто исчезла. Предположение о том, что она проводит время с МакДарой (поездки в его роскошное гнездышко, изысканные свидания в барах Сити), породило во мне желание снова дать ему кулаком по морде, но на этот раз сильнее, так, чтобы у него челюсть вылезла вперед, как у Отчаянного Дэна[52], и чтобы всем стало не только жалко его, но и смешно. Ощущения были такие, словно в желудке у меня развивалась язва.
Где же ты? Любовь моя, я так скучаю.
Она преследовала меня, даже несмотря на то что я искренне пытался изгнать из памяти ее образ. Теперь я думал о ней неохотно, как будто у меня была на нее аллергия, но она глубоко засела у меня в мозгу, посылая, когда я терял бдительность, спазмы плотского желания и старого невинного чувства любви. Я находил записки, когда-то, в незапамятные времена, написанные ею, под грудами книг на столе у себя на работе, один раз даже дома. Я включал компьютер, чтобы увидеть отрывки ее романа. Однажды на работе залез в свой электронный почтовый ящик и увидел там новое письмо. Хватило глупости открыть его. «Она мне мозги трахает», — как-то написал МакДара. Это было несколько недель назад или месяцев, когда он все еще был мне другом, ТЖ была неким абстрактным образом любовницы, а мир еще не сошел с ума.
«Наш дом гудит. Индианка околдовала меня, но нельзя ей позволить встречаться с моей Эмилией. Она, рыдая, вспоминает своего умершего отца, когда думает, что никто ее не видит. Младенец заходится и бьет ручками по стенкам колыбели, когда я всего лишь прикладываю ладонь к его подбородку. Как-то раз я взяла одну из мочалок, которыми ему моют голову, и сильно прижала к нему. Он зашипел, как дикий гусь, и захныкал, зовя мать, которую считал своей матерью. Тут же прибежала суетливая няня. Однажды я подумала, что можно выбросить его из окна комнаты горничной, он покатится по склону холма внизу и умрет там. Там его никто не найдет, как будто он и не рождался вовсе. Но что, если не получится? Тогда у нас будет, возможно, несколько недель до того, как младенец выдаст нас, обратит на нас свои большие, как блюдца глаза с таким видом, что все поймут, что мы собирались сделать. Ни мать, ни я больше не смотрели друг на друга; когда я по вечерам возвращалась с уроков, Господь взирал на меня и мои греховные помыслы с печалью. Я сделала себя такой маленькой, что наконец вовсе перестала быть видимой.
Пока мать поправляла сборки на пеленках младенца и отдавала ему свое тело, мы с Эмилией тренировались друг на друге, изогнутые пальцы скользили по телу, в голове у меня зарождался черный гул».
Я удалил ее имейл, даже не прочитав внимательно, так же как заставлял себя выбрасывать письма, которые она слала мне. На рабочем столе я как-то нашел любовную записку, которая меня тронула, но и ее я скомкал и бросил в мусорную корзину, перед тем как пойти с работы домой. Как бы я ни ненавидел ее, МакДару, Чарли, всех их, странная фраза застала меня врасплох, заставила неровно дышать, пронеслась по венам. Но только я любил Лелию. Мысль о том, что я мог потерять ее за те две ужасные недели, породила во мне отчаянное желание не ловить журавля в небе, а сохранить синицу, которая когда-то была у меня в руке. Я хотел ее больше всего на свете. В один прекрасный день я понял это совершенно отчетливо. Наконец-то я это осознал.
Однажды, выходя из «Сейфуэй», я увидел внизу лестницы женщину с ребенком. Когда я уже подходил к двери, женщина упала на тротуар, подвернув ногу, и ее поврежденная лодыжка, ноги, расставленные в стороны перед толпой незнакомых людей, ее унижение вызвали у меня невероятную жалость; сама ситуация выбила у меня из головы все, кроме сочувствия и ужаса, в мгновение ока обнажив ценности, которые были для меня важнейшими в жизни. Я бросился к ней. Ребенок вцепился в нее, уткнув лицо в живот, а она обнимала его рукой, хотя у самой был раскрыт рот в беззвучном крике. В ту секунду я понял, что в жизни главное.
Лелия. Она была нужна мне, она и жизнь с ней. Мое предназначение — защищать ее и ребенка, который находился в ней и которого я по-прежнему не мог себе представить. В этот момент прозрения я дал себе обещание, которое для меня было важнее любого свидетельства о браке.
Я шел домой. По правде говоря, нельзя сказать, чтобы этот ребенок был для меня желанным. Но и нежеланным он не был. Желанной была она, а вместе с ней и наш ребенок. И, как все нерадивые и плохие отцы, я попытаюсь себя заставить полюбить его.
Посмотрел на выходившее на площадь окно нашей квартиры и, увидев, что внутри не горит свет, понял, что только от меня зависит, смогу ли я вернуть ее, смогу ли сломать барьер молчаливого отчуждения, понял, насколько все на самом деле просто. Во мне горело желание посвятить себя и всю свою жизнь той любимой женщине, которая стала моей женой. Это откровение и облегчение, которое оно принесло, ошеломляли. У меня даже запершило в горле. Я снова посмотрел на темное окно, отогнал выползший откуда-то страх и бросился вверх по лестнице, повторяя про себя: «Слава Богу, слава Богу, слава тебе, Господи, за то, что предупредил меня». Сердце выскакивало из груди. Я бежал, перепрыгивая через ступеньку. Что бы теперь ни случилось, я больше никогда не предам ни ее, ни ребенка. В квартире было тихо. Но она должна быть дома, наверняка она должна быть дома.
— Лелия! — крикнул я.
Еще раз выкрикнул ее имя и вбежал в комнату. Квартира изменилась. Ее вещей не было.
19 Ричард
Я обхватил голову руками. Запустил пальцы в волосы и медленно царапнул в надежде, что собравшаяся под ногтями перхоть убедит меня в том, что тело мое еще живо, хотя у меня было ощущение, что я умер.
«Когда? — подумал я. — Как?» Когда она узнала? Когда? Когда? Кто? Или она сама догадалась благодаря своей жуткой женской интуиции, которая и про МакДару ей подсказала? Иди она просто решила, что не сможет жить с таким потерянным идиотом, который и двух слов связать не может? Накатила тошнота. В записке, которую она оставила на кухонном столе, говорилось, что она уехала к матери. И все. В конце пририсованы губы, сложенные в поцелуе. Тогда этот поцелуй успокоил меня, дал надежду на то, что все наладится. Я изо всех сил пнул ножку стола, намеренно причиняя себе боль. Стол подпрыгнул и отлетел в другой угол. Может быть, это сама Сильвия призналась ей во всем? Сильвия, которая словно растворилась в воздухе, но присутствие ее продолжало ощущаться во всем.
«Как убить младенца? Я не знала. Я поднимала это пухлое тело на руки и роняла с высоты. Я не могла этого сделать. Я его била, как это делала няня, когда он кашлял, подавившись молоком. Потом била сильнее. Он судорожно задерживал дыхание и через секунду начинал пронзительно кричать. И тогда я начинала его жалеть.
Однажды в детской комнате, куда его приносили на ночь, я спихнула его (катись-катись, вертись-вертись) с вершины лестницы на ковер внизу. Его упитанное тело довольно мягко переваливалось по ступенькам, но в самом низу он ударился лбом о деревянную панель на стене и начал кричать и плеваться так, словно в него вселился дьявол.
Я решила набраться терпения.
Индианка, которая навещала Эмилию, приходила к нам каждый день. Она ходила по дому, источая чары, с видом истукана, которому поклоняются язычники. Ее привлекательность была заключена в волосах, которые локонами рассыпались по плечам. Глаза ее тоже завораживали — два раскосых огромных коричневых камня посреди пустыни. Ей улыбалась даже моя мать. Каждый день она ложилась в ванну, в которой было слышно, как играет Эмилия, и втирала в кожу душистые мази, беззвучно оплакивая отца. Когда индианка с Эмилией возвращались вечером домой, мне хотелось идти рядом с ними, окутаться их запахом, впитать тепло кожи индианки. Всем, чем обладала индианка, хотелось обладать и мне — обаяние, веселая красота, сиротство, которое было эхом моего тайного одиночества. Я хотела жить в ее доме, который находился в том сверкающем городе, о котором я читала. Я хотела жить жизнью индианки».
Когда я бегло просмотрел последнее электронное письмо в своем компьютере, подозрение, которое раньше беспокоило меня, переросло в уверенность. Эта коварная маленькая лиса писала о Лелии, с которой она практически не была знакома. Женщина, которая вторглась в мою жизнь, теперь в своих безумных фантазиях выводила мою жену в виде ребенка, чтобы каким-то образом заинтриговать меня или наказать.
— Зачем вообще нужен этот роман? — как-то раз решился спросить я, когда мы сидели в темном углу кафе. В ответ она лишь отстраненно посмотрела на меня и в своей обычной манере отказалась отвечать.
Ударом по клавише я отправил электронное послание в корзину и позвонил матери Лелии, единственному человеку в Лондоне, без голосовой почты. Гудки продолжались до тех пор, пока «Би-ти»[53] не отрубила звонок.
Никогда еще я не мастурбировал так яростно, как в те дни. Никогда еще я не ходил с такими грязными волосами и не оставлял так много денег в закусочных, где продают готовую еду навынос. Так много я не спал со студенческих времен. По ночам я, как лунатик, бродил по квартире, оглашая ее криками, и валился в постель, изнывая от боли, потея и заворачиваясь в простыню, которую решил не стирать до тех пор, пока ко мне не вернется Лелия.
Я продолжал звонить матери Лелии, но ответа так и не дождался. Я писал ей. Часто я рано утром садился на метро и ехал туда, чтобы встретиться с ней, выходящей из дома, и потребовать объяснений, но безрезультатно. Начал подозревать, что она уехала куда-то в другое место. Мать Лелии, всемогущая Джоан, неизменно отказывалась говорить мне, где находится ее дочь или что с ней происходит, даже если я успевал перехватить ее утром, когда она уходила на работу. У Лелии все «хорошо», она «в безопасности», вот и вся информация, которую я от нее получал. Лелия — моя жена и носит нашего ребенка, говорил я ей в ответ. Вопреки обычной сдержанности престарелая мадам бросала на меня испепеляющий взгляд и уходила на работу. Я смотрел ей вслед с болезненным и вымученным восхищением и возвращался через университет, на тот случай, если Лелия была там, но так и не встретился с ней.
Ее мобильный телефон почти всегда был выключен. Я слал ей эсэмэски, я донимал ее мать, звонил ее тете, на кафедру, немногим ее друзьям, которые оставались оскорбительно вежливыми, и приезжал в университет, но семестр уже закончился, поэтому, когда я видел пустые коридоры и разложенные бумаги, мной овладевало отчаяние. Я даже опустился до того, что обратился к ее сторожевому псу Энзо. Снова умолял ее мать; ругался с ее подругой Сюзанной; звонил на кафедру, где недовольный дежурный администратор вежливо отказывался отвечать на мои вопросы.
— Я же просила тебя оставить меня в покое, — неизменно говорила она, когда мне пару раз удавалось поговорить с ней по телефону. Голос у нее был уставший, такой, что мне становилось страшно.
— Где ты? — кричал я в трубку. — Как у тебя дела? Как ребенок?
— Пока, Ричард, — всегда отвечала она и отказывалась продолжать разговор. — Пока, милый, — один раз сказала она, отчего бешено забилось сердце.
Постепенно квартира сделалась похожей на помойку. Горы бумаг и всяческих дурацких вещей на столе, которые теперь стали так дороги мне, что я не мог на них смотреть, превратились в плато, усыпанное мусором. Сухие листья растений лежали вперемешку со счетами и рекламными буклетами, которые, как магнит, притягивали к себе пыль, штукатурную крошку и какие-то ломкие хлопья непонятного происхождения. Груды бумаг, которые всегда загромождали лестницу, стали жить своей тайной жизнью, как сорняки, угрожающие запутаться у меня в ногах. Ночью мне приходилось вспоминать запутанный маршрут, чтобы пройти по лестнице: сначала два шага, потом нужно, держась узкого прохода, схватиться за перила и перепрыгнуть через пачку бумаг. Однажды я поскользнулся, выругался, больно ударился большим пальцем ноги. Сел на лестницу и расплакался, как безумный.
Моя дорогая мать, чувствуя, что что-то не в порядке, стала названивать мне, и в конце концов я признался ей во всем, откровенно и многословно. Как я ждал ее звонков; как хотел услышать ее тихий встревоженный голос; ее советы, которые были для меня и всем, и ничем одновременно; и даже ее отказ сочувствовать моей панике. С таким же трепетом я когда-то ждал ее многословных открыток, когда по обмену ездил в Германию, где на какой-то вонючей, Богом забытой ферме только то и делал, что курил и возился с мотоциклами.
Так прошла неделя. Каждый раз, приходя домой, я первым делом бросался к телефону и звонил 1471, потом обыскивал рабочий стол Лелии в поисках телефонных номеров, вздрагивал, обнаруживая все новые свидетельства тех времен, когда мы были влюблены, и не чувствовали под собой ног от счастья, и нам не за что было стыдиться. Я звонил другим ее старым знакомым, и мои попытки что-либо разузнать в непринужденной форме мне самому казались абсолютно фальшивыми, наконец я потерял всякую гордость, стал плакаться и раскрывать душу перед почти незнакомыми людьми. Каким-то образом в моем лице мазохизм удачно соединился с мачизмом, так что был момент, когда я даже получал определенное удовольствие от всей этой ситуации, и в результате меня даже начали жалеть. Я звонил и другим родственникам Лелии, которых было удивительно немного и которые были разбросаны по всей стране. Они предпочитали, чтобы их называли тетями, двоюродными братьями и сестрами, даже если приходились ей очень дальними родственниками, но мне они ничем помочь не могли, и лихорадочные поиски ничего не принесли. Когда у меня появлялось свободное время на работе, я направлялся прямиком в университет в надежде, что она решит вдруг заглянуть в свой кабинет, но эти походы заканчивались либо неприятным разговором с секретарем факультета, либо бесцельным ожиданием перед закрытыми электронными воротами библиотеки Сенат-хауза.
Она сама позвонила мне.
— Честно, Ричард, мне на самом деле нужно какое-то время побыть одной, — сказала она, после чего задала вопрос о моем здоровье и своей почте.
— Где ты? — поспешил спросить я.
— У подруги. У меня все хорошо.
— И как долго ты собираешься пробыть у нее?
— Не знаю, — ответила Лелия, и этот ответ лишь усилил боль, которая пронзила меня, как только я услышал в телефонной трубке ее сдержанный голос.
— Послушай… — порывисто начал я, но было уже поздно.
Я подошел к кровати и рухнул лицом вниз на матрас, разинув рот в подушку, но даже тогда, когда я оплакивал Лелию, где-то глубоко внутри теплилась мысль: теперь я могу получить Сильвию. Впервые я имею право привести ее в свой свинарник и тупо оттрахать.
Где ты? Любимая моя, я так по тебе скучаю.
Ее тень не оставляла меня, провоцируя приступы сексуального неистовства. Доведенная до отчаяния крайняя злость, направленная на нее, оборачивалась противоположной крайностью: у меня стали возникать мысли, что я, возможно, мог бы жить с ней, мог бы связать свою судьбу с этим странным и коварным существом, обладающим прекрасным маленьким телом, которое возбуждало меня и пленило мой разум. По утрам я содрогался от подобных мыслей. Все, что я хотел, — это вырвать ее с корнем из своей головы и жизни. Но, каковы бы ни были мои желания, сама Сильвия Лавинь, как МакДара и Лелия, исчезла.
Все чаще я стал встречать ее имя в чужих газетах. Мне в руки попалась новая антология рассказов, которую прислали к нам в редакцию, ее имя значилось и там. Я швырнул книгу на пол и бросился наверх к Питеру Стронсону.
— Что с Сильвией Лавинь? — задыхаясь, спросил я.
— С Сильвией Лавинь? — переспросил он, стараясь оставаться невозмутимым. — Она готовит для меня Этвуд[54]. По-моему.
— Ну, это ненадолго.
— Она, кажется, редактирует ее роман.
Я недоверчиво фыркнул.
— Она это обсуждала с агентом.
— Что? — не понял я.
— Ну, знаешь… с Лакланом.
— Неужели?
— Это я посоветовал его.
— Но зачем?
— Она никого не знала.
Я громко рассмеялся, пожалуй, слишком громко.
— Он мой старый друг, — сказал Стронсон явно смущенно.
На долю секунды я задержал взгляд у него на лице, специально чтобы немного напугать его, потом опустил глаза и посмотрел на обручальное кольцо у него на пальце.
— И что ты о ней думаешь? — спросил я, наслаждаясь ситуацией.
— Она — мастер. Пишет уверенно. Ярко.
— Нет… о ней.
Он на миг замялся.
— Ну… — начал он. — В плане общения, — он засмеялся, — она ни рыба ни мясо.
Я тоже хохотнул.
— А разве для тебя она не пишет? — спросил он.
— В последнее время нет. Я с ней не разговаривал, — сказал я. Помолчали. — А где она? — наконец спросил я.
— Где она? — повторил за мной он, как будто застигнутый врасплох. — Не знаю. Дома она, кажется… не бывает.
Я многозначительно поднял брови и вышел из кабинета.
Началась новая неделя. Я снова написал Лелии в Голдерс Грин. В письме я, ссылаясь на свой проступок, впрочем, избегая каких-либо определенных признаний, в общих чертах обрисовал свою вину и любовь, что далось мне небезболезненно. Меня ежедневно терзали мысли о том, что она уже скоро должна рожать и, вероятно, ей нужны будут деньги. Я не находил себе места, ругался, бил кулаками в стены. Осознание того, что она бросила меня, заставило меня чувствовать тяжесть в челюсти, словно после удара, и удар этот нанесла печаль. Я готов был на все, лишь бы снова ощущать ее обычные командирские замашки, иметь возможность прикасаться к ее растущему животу, чтобы услышать неуловимое шевеление ребенка, слышать ее такой родной голос. Я вытянул руку и опустил ее на холодную подушку, словно надеялся найти ее там. Жадно проглотил несколько блюд из индийской закусочной, не стал сдерживать отрыжку, выпустил газы. И чем громче и продолжительнее были звуки, тем легче становилось на душе. Кухонная плита с прилипшими овсяными хлопьями покрылась жирными пятнами. На работу я пошел небритым.
Я понимал, что в те дни готов был сношаться с кем угодно. Я даже додумался до того, что стал винить Лелию в собственной неверности, когда обмозговывал возможные варианты. Соседка мне всегда нравилась; потом, в магазине диетических продуктов на Марчмонт-стрит работала одна продавщица, известная потаскушка, я даже однажды привел туда МакДару, чтобы он на нее посмотрел. Еще я мог разыскать свою бывшую подругу, актрису, с которой можно было бы вспомнить прошлое и заодно активно отдохнуть в номере отеля. Подобные мысли не давали мне сойти с ума, когда я в три часа утра просыпался и уже не мог заснуть. К тому моменту, когда звонил будильник, они уже казались смешными.
В субботу я проснулся поздно и сразу включил компьютер. Письмо с хотмейловского адреса уже ждало меня.
«Я попыталась не дать яду распространиться по своему телу, но остановить его не смогла. И тогда я подумала, что мне нужно плакать, так рыдать, чтобы сердце в груди разорвалось. Мне нужно было одно — семья, родственники, которые ухаживали бы за мной, прижимали к груди, просто были бы моей родней, как у других девочек.
Хотя в моих мечтах было место и учебе. Я читала о Ловудском приюте[55], о том, какие любовные страсти разыгрывались в нем и как там болели туберкулезом, и, когда я была еще совсем маленькой, меня из родного дома отправили в школу для девочек. А позже, когда мир сошел с ума и оделся в черное, меня в наказание должны были сослать в другое место, с более жестокими порядками — в институт для таких девочек, как я, от которых отвернулся Бог и чье зло привело лишь к тому, что от них отказались родственники. Там было не лучше, чем в бесплатном детском приюте, те же болезни, тот же ядовитый воздух, и там я должна была прожить свою жизнь.
Я не поеду, кричала я. Но моего согласия не спрашивали. Меня связали. Прибегли к нюхательной соли и наказанию. Я кричала, кричала, пока легкие наконец не выдержали и стали исторгать слизь. Мне не нужно ничего».
Где Сильвия? Еще одна кошмарная мысль поднялась по позвоночнику и разлилась по коже головы: может быть, они где-то вместе, Лелия, Сильвия и будущий ребенок? Может быть, она, не в силах вырваться за рамки своего маленького одержимого мирка, замыслила отомстить мне, причинив вред Лелии? Впервые копившаяся до сих пор неприязнь обрела форму страха.
Я так разволновался, что уже не мог сидеть сложа руки. Необходимо было что-то делать. Больше терпеть было нельзя. На площади я поймал такси и сказал водителю ехать по Эндслей-стрит. Окна Сильвии находились высоко, металлические рамы казались пустыми. На перилах ее балкона примостился одинокий голубь. Я велел таксисту проехать по периметру Гордон-сквер и вернуться на то же место. Я тенью кружил по тем улицам, которые видели ее. Листья на деревьях здесь были темные, а трава, наоборот, отличалась светлыми тонами. Я еще раз посмотрел на ее окна, и ко мне вернулось воспоминание о том времени, когда я был одержим ею. Я отогнал его.
Сначала я проехал по Блумсбери, потом попросил водителя вернуться. Возможно, Лелия снова решит позвонить.
Я посмотрел на окна нашей квартиры. Истерзанный разум исторг надежду на то, что, может быть, Лелия сама вернулась, пока меня не было дома. Если окажется, что это так, я брошусь ей на шею и большего от жизни мне будет не нужно. Расплачиваясь с таксистом за безрезультатную поездку, я бросил хмурый взгляд в сторону Люси, местной потаскухи. С ее лица, покрытого отвратительными следами нездорового образа жизни, на меня смотрели пустые густо подмалеванные глаза.
— Жену мою не видела? — небрежно бросил я, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту образом Лелии.
— Видела, — ответила она.
— Что? — я резко развернулся к ней.
Она криво ухмыльнулась, глядя из-под полуопущенных век, и пожала плечами.
— Она забирала почту.
— Она приезжала сюда, чтобы забрать свою почту?
Люси кивнула.
Какое-то время я ждал, что она еще что-нибудь добавит.
— Куда она пошла?
— Она что, тебя бросила? — спросила она, и лицо ее расплылось в злорадной усмешке, даже кончик ее маленького острого носа приподнялся.
— Да, да, бросила она меня! — закричал я. — Куда она пошла?
— Не знаю, — сказала Люси.
— Она одна была?
— Нет.
— А с кем? — спросил я и покачнулся.
— Да так, — она снова неопределенно пожала плечами.
— С кем? — я чуть было не набросился на нее.
— Не знаю я, — недовольно сказала она.
— Она была с женщиной?
— Да.
— Ясно. И ее ты не знаешь?
— Нет, — сказала Люси с таким видом, словно мой вопрос ее оскорбил.
— Послушай, Люсиф… Люси. Ты точно не можешь сказать, куда она направилась? — Я уже подумывал вытащить из кармана и дать ей двадцатифунтовую бумажку. — Тебе точно ничего не известно? — Голос у меня начинал срываться.
— Нет. Извини. Ты бы лучше, пока не поздно, разыскал ее, мистер. — Она одарила меня хитрым взглядом и пошла к себе.
Невдалеке возле герани сидел незнакомый кот. Неоспоримость факта его присутствия наполнила меня надеждой. Когда я поднялся по лестнице и вошел в квартиру, пустота, царившая в ней, наполнила мое сердце таким отчаянием, которого мне еще никогда не доводилось испытывать. Луч света падал на узоры и пыль на воротнике зимнего пальто Лелии. Страх того, что она действительно бросила меня навсегда, с новой силой сдавил сердце. Рядом с компьютером лежал ворох корректур, которые нужно было просмотреть. Пытаясь успокоиться, я, обливаясь потом от жары, полез в Интернет. Решил, что зайду на сайт «Google» и стану задавать поиск по всему, что придет на ум. Мне даже захотелось поучаствовать в каком-нибудь чате. Но меня ждало новое безумное письмо.
«Однажды я притаилась в зарослях, чтобы напугать индианку. Эмилия уехала с матерью в гости, и сирота вышла погулять на улицу. Я так долго пролежала на своем ложе из травы, что совсем замерзла. Я стала вспоминать об отце и обо всем, чего не хватало мне с матерью, начала думать о том, как печально складывается моя участь.
Заросли папоротника раздвинулись. Показалась маленькая изящная туфелька. На берег речки, где беспокойная вода плещется и собирается в воронки, вышла индианка. Я впилась взглядом в ее стройную спину. Я подумала выскочить из своего укрытия и обхватить ее руками, чтобы заставить немного поволноваться, но разве могла я наказывать ее за то, что она опорочила мою любовь? Вместо этого мы с индианкой стали разговаривать о постыдном: о джентльменах и девицах, о том, как они обнимаются и стискивают друг друга так крепко, что пропадает дыхание, и от этого они испытывают что-то наподобие смерти.
Индианка была красива. В тот день мне захотелось, чтобы она стала моей. Я тоже оказалась во власти ее чар.
Я показывала ей новые миры. Во мне пробудилась любовь к заклятому врагу. На берегу реки ей стало холодно, я согрела ее. Она сидела, упершись руками в землю за спиной, и волосы ее блестели на свету, когда она наклоняла голову. Трава вокруг постепенно темнела, а наши речи струились, как вода в реке, становились все тише и мягче.
Я рассказала ей о своем горе. Чуть не расплакалась.
Я сказала:
— Я умру, этот ребенок погубит меня.
Индианка накрыла ладонью мою руку и попыталась успокоить меня. Ее изящно очерченные губы напряженно сжались.
— Нет, — возразила она. — Ты не должна так говорить.
— Я хочу, чтобы умер он, а не я, — объяснила я».
20 Лелия
Она пленила меня. Такая сексуальная, такая красивая, такая порочная. Я вошла в ее мир, но какая-то часть меня уже начала испытывать к ней неприязнь.
— Давай уедем, — сказала она во второй половине июля, после того как мы вместе сходили к акушерке, а Ричард опять не удосужился поинтересоваться здоровьем нашего несчастного ребенка.
— Уедем?
— Давай будем вместе, — уточнила она.
Конечно, я узнала ее сразу, хоть и видела Мазарини два десятка лет назад всего-то раз шесть, и то по нескольку секунд. Несомненно, это она, бесполый французский ребенок из большого докторского дома со ставнями на окнах, сидела за столом у МакДары. Я узнала ее голос.
Эта встреча заставила меня задуматься: что случилось с ней там, на берегах Луары? Воспоминания об этом были стерты из моей памяти так же, как моя последняя ночь во Франции.
Третья неделя в Клемансо, я наконец-то поговорила с Мазарини. В тот день Софи-Элен помогала матери с детьми, а меня милостиво освободили от подобных обязанностей. Я вышла за границу города, прошла мимо фабрики, выпускающей плащи, и нырнула на дорожку, ведущую к старому каналу, который протекал параллельно реке. Пока я шла, меня не покидало ощущение, что я сегодня обязательно где-нибудь повстречаюсь с Мазарини. Я тогда уже настолько хорошо изучила их отношения с Софи-Элен, что, несмотря на все их старания, всегда могла определить, где они прячутся. Рядом с дорогой под присмотром женщины паслось стадо коров, ярко освещенных низким солнцем. Русло реки сплошь заросло травой, так что вода с трудом пробивала себе путь. И в косых лучах солнца среди высоких зарослей травы и крапивы я натолкнулась на Мазарини. Он… она плакала. На ней вместо привычных длинных шортов и трикотажной рубашки унисекс была юбка. Мазарини, с большими карими глазами и бледной гладкой кожей, выглядела беззащитной, почти как маленькая симпатичная девочка.
Она рыдала, шмыгала носом и размазывала слезы по покрывшемуся пятнами лицу. Чувствовалось, что она унижена, наверное, в таком же состоянии она оказалась бы, если бы тогда, когда она голая ходила по дому, я вдруг вышла бы ей навстречу. Я знала, что причиной ее слез были мать и ребенок. Я молча смотрела на нее. Она отвернулась, и я подумала о том, какими жестокими бывают родители к своим детям: не любят их или, умерев, бросают на произвол судьбы. Я тоже заплакала, пытаясь скрыть растекшиеся по лицу слезы.
После долгого молчания она сказала:
— Я покажу тебе другое.
В мою сторону она не смотрела. Она повела меня вдоль старого канала, мы пробирались сквозь заросли на берегу, шли по платановой аллее, которая, расширяясь, выходила на круглую площадку, обсаженную каштанами.
— Я покажу больше, — добавила она и опять замолчала. Мы шли дальше, переходили через старые мосты и écluse[56], пока не вышли к Луаре. Эта огромная текущая масса воды просто ошеломила меня, ничего более внушительного и могучего я никогда не видела. Дома, ставни, замки — все меркло перед ее величием.
— Как Меконг, — пояснила она. — Равнина птиц.
Она стала всматриваться вдаль.
— Посмотри туда, где вода расходится, она как море, — сказала она. — Там целый мир.
Задрожав от волнения, я представила себе, как взметаются ввысь флаги, раздуваются паруса, гремит торжество и дует такой сильный ветер, который мог бы поднять меня над землей.
— Там остров, — продолжала она. — На нем можно жить. Мы могли бы жить там.
После этих слов она замолчала, развернулась, и мы пошли обратно.
В тот день мы как будто полюбили друг друга. На обратном пути мы шли по дорогам, пробирались через заросли, и снова вела она. Как, каким образом могло такое худосочное с прямой спиной тело, гладкий, лишенный растительности лобок и кукольные ручки доставлять другой девушке такое удовольствие? Если она не парень, то как, как, КАК? От этих мыслей у меня закружилась голова. Она снова заговорила со мной. Мы разговаривали по-английски. Разумеется, как я и догадывалась, можно было не сомневаться, что она владеет английским почти в совершенстве. Спокойно, почти монотонно, изредка поглядывая на меня, она рассказывала о том, чем занималась с Софи-Элен. Она легко поддерживала меня под руку, иногда приобнимала за талию, и у меня возникло странное ощущение, что в ее восприятии (в моем восприятии, которое стало и ее восприятием) она говорила о нас, о наших телах, соединившихся, переплетенных в удивительные, немыслимые фигуры.
У меня тогда возникла мысль, что, пока она будет вот так вести меня за руку, я буду идти за ней, и мы вместе забредем в неведомые дали, где нас никто не разыщет, и станем жить в травах. Мы дали друг другу какие-то клятвы, но не напрямую, а намеками, робкими эллипсисами. Я что-то болтала, заполняя ее молчание и думая угодить ее недюжинному разуму, потому что, как только вдалеке появятся крыши Клемансо, она снова будет принадлежать Софи-Элен. Мы выдумывали новые причины, чтобы задержаться в пути и сделать еще пару крюков по траве. Мы продолжали говорить, сидя на коленях, для чего очень медленно опустились в траву, словно одновременно растворяясь в ней. Над нами, шурша, сомкнулись лепестки полевых цветов и зеленые клинки трав. Из этого укрытия мы вышли много позже, когда дело уже шло к вечеру.
Шепотом на ухо она рассказала, что уже все знает и поэтому поддалась отчаянию. Нахмурившись, глядя под ноги и почти прижимаясь друг к другу, мы двинулись дальше и по дороге говорили о ребенке. Потом я иногда пыталась восстановить в памяти тот разговор. Но так и не смогла.
Когда я в следующий раз увидела Мазарини, у меня было такое чувство, словно я пробудилась от долгого сна и в удивлении озираюсь по сторонам. Едва забеременев, я почувствовала появление ее призрака. Придя в гости в чужой дом, я увидела того, кто обязательно должен был снова появиться в моей жизни и встречи с кем я ждала годы. Тогда же я увидела, что мои воспоминания расходятся с действительностью, и поняла, насколько лжива и ненадежна человеческая память. Подспудно я ожидала встречи с ней всю свою жизнь. Чувство неудовлетворенного детского желания, стыда, страха всегда возрождалось, когда мне казалось, что я узнавала ее в определенных девушках, в женщинах, случайно встреченных на улице. Эйфория узнавания возникала всегда и медленно угасала, когда незнакомка проходила мимо, не обратив на меня внимания.
Я даже однажды попробовала переспать с женщиной. Я разошлась со своим «старичком», мне было обидно и одиноко, и я была готова к новым впечатлениям. На одной из вечеринок меня познакомили с женщиной. Ее сдержанная манера поведения чем-то напомнила мне Мазарини, и, снедаемая любопытством, вызванным нервным перенапряжением, я отправилась к ней домой. Мне хотелось вновь пережить какие-то ощущения из прошлого, но из этого ничего не вышло. Огонь во мне так и не зажегся, я разволновалась, и в конце концов мне пришлось, стыдливо извиняясь, уйти посреди ночи.
В гостиной МакДары за другим концом стола сидела Мазарини, и теперь ее звали Сильвия. От безмерного волнения и страха я чуть не лишилась чувств. Но она не стала разговаривать со мной. Я начала подозревать, что она не хочет быть узнанной. Постаралась перехватить ее взгляд, но она все время держалась в тени и редко поднимала глаза. Позже она рассказала мне, что не сомневалась тогда, что сможет разыскать меня через Рена.
Когда я увидела ее во второй раз, я уже не была так уверена, что это она, подумала, что могла и ошибиться.
— Мазарини! — полушепотом обратилась я к ней. Она подняла на меня ничего не выражающие глаза. Этот взгляд привел меня в смятение, ведь, в конце концов, я-то видела ее всего лишь несколько раз. Софи-Элен мне узнать было бы проще.
— Мазарини, — повторила я позже, как будто проверяя ее реакцию, хотя все так же страшилась соприкосновения с прошлым. Но она просто-напросто не обратила на меня внимания, с обычным спокойным и сдержанным выражением лица посмотрела в сторону, словно я и вовсе не обращалась к ней. Позже я поняла, чего она добивалась. Кем бы она ни была, ей хотелось, чтобы мы заново узнали друг друга, открыли бы себя как женщины. Все это было словно упоительный экзамен на взрослость.
— Мне действительно хотелось заново узнать тебя, — призналась в конце концов Сильвия после столь многих недель намеренного молчания, в течение которых она лишь слегка, тончайшими намеками давала понять о существовании прошлого. — И я хотела, чтобы ты узнала меня, а не того ужасного ребенка.
— Ты не была ужасным ребенком. Поэтому у тебя теперь другое имя? — спросила я.
Она помолчала.
— Имя мне дала мать, — ответила она наконец.
После разговора с Мазарини, после того как она впервые ко мне прикоснулась, во Франции мне оставалось пробыть еще всего пять дней. Подобного наслаждения я не испытывала никогда в жизни, и пройдут годы, прежде чем мне удастся испытать нечто похожее. Мои моральные устои были подорваны: мы уходили тайком, пока Софи-Элен помогала матери с детьми, я же, к тому времени уже вся в мыслях о мальчиках, каким-то образом смогла безболезненно принять тот факт, что занимаюсь любовью с девочкой. К тому же то, как я узнала, что она не мальчик, подлило масла в огонь моих чувств. Я стала ее любовницей. Она засела в моем сердце; проделывала со мной те штуки, о которых я уже слышала от Софи-Элен, контролировала мое дыхание, сознание и болевые пороги. Почти неосознанно я погрузилась в этот черный мир лишь затем, чтобы по прошествии многих лет удивиться самой себе.
Мазарини держалась подальше от новорожденного, и мы, уже испытывая зависимость друг от друга, старались проводить вместе секунды и часы. В мой последний вечер во Франции мы пробрались в мою комнату над гаражом. К тому времени я уже была влюблена, каждую секунду думала только об этом удивительном ребенке, которого всего-то неделю назад считала своим противником. Мы не могли остановиться. В ту ночь на восемь часов, говорили мы, мы стали друг для друга невестами.
Мазарини ушла на рассвете, а я, проснувшись, безошибочно поняла, что с того дня беззаботная атмосфера дома Софи-Элен изменилась. Взрослые с растерянными лицами лишь позволили мне обменяться поцелуями со своей подругой по переписке, после чего сразу же передали меня в руки матери, которая, с трудом скрывая слезы, повезла меня прямиком в аэропорт. Для меня так и осталось загадкой, что тогда произошло, то ли наши детские сапфические эксперименты всплыли наружу, то ли случилось что-то другое. Об этом другом мне даже не хотелось думать.
Для меня самым ужасным (шрам на сердце после этого кровоточил еще года два-три) было то, что Мазарини пообещала, что встретится со мной за гаражной дверью, чтобы попрощаться. Я догадывалась, что там, в пропитанной запахом бензина темноте, она станет целовать меня, а я, как всегда, буду восхищаться ее странным необузданным разумом. Назначенное время прошло, а я продолжала ждать, бесцельно слоняясь по гаражу, еле волоча ноги от нарастающего отчаяния. Я бы ждала и дальше, но меня позвали завтракать. На кухне, которую от гаража отделял ручей, я то и дело проходила мимо окна, зажав в руке салфетку и бормоча что-то о том, что мне нужно в туалет, и посматривала, не сдвинулась ли гаражная дверь. Потом, сославшись на то, будто я что-то забыла у себя в комнате, поспешно выбежала на улицу. Но Мазарини так и не пришла, и меня отправили обратно в Англию с очередной душевной раной.
После свадьбы я должна была оставить Ричарда, его становящуюся все более очевидной неверность, ложь и то, что он заставлял меня чувствовать. Ближе к истине было бы сказать, что я хотела бросить его до того, как он бросит меня. И еще ближе к истине — я уже не находила в себе силы жить без Сильвии Лавинь. Я была слишком влюблена, слишком погружена в то, чего всегда хотела в душе и что находилось во власти нездорового разума.
Решение было не самым удачным, но нас оно устраивало полностью. Моя дальняя родственница по линии отца, старая тетушка Нанда, захворала, была отправлена в больницу, после которой, вероятно, ее ожидал дом престарелых. Моя милая мамочка, хоть и смотрела на меня молча и с укоризной (впрочем, возможно, и не так осуждающе, как мне всегда казалось), не оставила меня в трудную минуту. Она выпросила у тетушки разрешение для меня пожить в ее доме и раздобыла ключи. К тому же, поняв с нескольких слов состояние наших отношений с Ричардом, она пообещала не допускать его ко мне.
Когда мы отыскали в Саутворке[57] жилье пожилой родственницы и вошли в квартиру с отделанным бетоном балконом, я увидела надраенную до блеска кухню с пластмассовой посудой, почувствовала въевшийся в стены запах чужих, давно вышедших из моды вкусов и мутных взглядов на жизнь, мне до боли захотелось вернуться к Ричарду, быть с ним в нашей квартире. Телефон был отрезан, почтовый ящик уже почти забит, а в стиральной машине гнило влажное бежевое старушечье белье. Я подошла к окну, его стекло вибрировало от звуков дорожных работ недалеко внизу.
— Ричард, — прошептала я в стекло. «Я люблю его», — подумала я, и эта мысль вызвала неожиданно сильный прилив эмоций.
Я приложила руку к животу, посмотрела на реку. Эта крошечная квартирка находилась на двадцать первом этаже построенного еще в шестидесятых годах многоквартирного дома. Стоило выйти на балкон, как тут же в глаза бросалась протекающая невдалеке затейливая река. На горизонте виднелись блестящие на летнем солнце подъемные краны. Звук ремонтных работ усиливался. Тут я вспомнила о любовнице Ричарда, сам факт существования которой отравлял мне жизнь где-то в Лондоне. Я подавила вспышку панического страха. Ребенок внутри меня пошевелился.
Сильвия отводила назад мои волосы и шептала мне на ухо. И пока набирало силу утро, мы ходили по квартире, открывая нараспашку окна, впуская внутрь крики чаек и грохот отбойных молотков, наскоро распихивали по углам наши вещички, выставляли еду и анемоны, которые захватила с собой она. Мы были как две подружки, и растущий малыш был одинаково дорог нам обеим. Я чувствовала себя так, как ребенок, играющий в пустом доме.
Каждое утро в наши окна дышал прилив, мутный и шумный. Над водой галдели чайки, из прогретых речных испарений неожиданно вылетали вертолеты. Когда закончился семестр, мы выходили днем на реку и шли вдоль берега, открывая совершенно незнакомые мне уголки Лондона, и после долгих лет жизни в пригороде мне они казались такими же экзотическими, как далекие страны. Или же ложились в кровать, закрываясь жалюзи от соседей и отдаленных звуков тормозящих внизу автобусов. Ричард являлся ко мне неожиданными воспоминаниями, и сердце билось учащенно, когда я начинала думать о нем.
— Иногда мне казалось, что я тебя никогда больше не увижу, — как-то сказала Сильвия, когда мы прожили там больше трех недель, к тому времени я против воли уже начинала задумываться, почему Ричард так долго не находит меня. Он не из тех людей, кто легко принимает поражение. От моей самоуверенности не осталось и следа: я хотела, чтобы он обыскал весь город и все-таки нашел меня, и тогда я смогу разобраться в себе. Но в то же время мне хотелось оттянуть наступление этого момента, чтобы я могла провести как можно больше времени в этом странном, заполненном сексом заточении с Сильвией. Он по нескольку раз на день слал мне эсэмэски, которые я оставляла без ответа, но рука у меня постоянно тянулась к мобильнику. Однажды я забыла телефон в своем кабинете, куда ходила, чтобы взять кое-какие книги. Без него я чувствовала себя, как голая. Странно, но, не имея возможности читать сообщения Ричарда, я будто ощутила, что он бросил меня. Однажды я вернулась на Мекленбур-сквер, чтобы забрать накопившуюся за время моего отсутствия почту. На столе он оставил для меня письмо, его я перечитала несколько раз, но потом Сильвия поймала такси, и, пока мы ехали обратно через реку, она поглаживала мне волосы на затылке.
Мы с Сильвией начали разговаривать о прошлом, вспоминать те эпизоды, упоминание о которых до сих пор ее стойкое нежелание делало невозможным, и каждая новая деталь, всплывшая из прошлого, была для нас сравнима с находкой драгоценного камня — Клемансо, первые дни в Лондоне.
— Знаешь, когда я в первый раз снова о тебе услышала? — спросила она.
— Мне казалось, мы встретились случайно…
— Это случилось, когда я была в Эдинбурге. Я пошла на выставку, где были представлены несколько картин Рена… Тебе нравятся картины Рена? — спросила она, нахмурив брови и многозначительно качая головой. — Лично у меня вызывает отвращение такое… В общем, он был там с Вики, и я услышала твое имя.
— О! — вставила я.
— «Я знала одну Лелию», как бы между прочим обронила я, хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я спросила фамилию, и оказалось, что это ты.
— Ты не забыла меня.
— Конечно, я не забыла тебя. В тот день я поняла, что, может быть, смогу снова тебя увидеть.
— Зачем?
— Я хотела приехать в Лондон…
— Зачем ты искала встречи со мной?
— О… мне пора было уезжать, — сказала она, на секунду опустив глаза. — Рен и Вики были очень добры ко мне. Они позволили мне остаться у них на несколько дней, когда я переехала в Лондон, и у меня не было ни денег, чтобы снять жилье, ни знакомых. Потом они договорились со своими друзьями, чтобы я пожила у них, и…
— С кем? — перебила я ее.
— Я не помню, — ответила она, и тени у нее под глазами придали ее лицу такую яркость, что мне захотелось броситься к ней, прижаться губами к благоухающей коже. Но в то утро она ко мне не прикасалась.
— Но… — растерянно начала я и остановилась на полуслове, потому что уже давно выучила, что излишнее любопытство приводило лишь к тому, что она уходила в себя. Когда Сильвия отвернулась, кончики ее волос коснулись моих губ. Но она снова повернулась, и моего волнения как не бывало.
— Я очень хотела увидеть тебя. Но, знаешь, — сказала она и сомкнула пальцы вокруг моего запястья, почти не касаясь кожи, — два раза я видела, как ты переходишь Рассел-сквер, еще до того как вышла на тебя через Рена. Ты мне показалась очень красивой, мне нравилось на тебя смотреть. Мне понравилось, как ты одеваешься. Уже тогда, наблюдая за тобой, я сопоставила увиденное лицо с твоим именем.
— О! — изумилась я. — Но почему же ты не подошла ко мне?
— После встречи с тобой, — сказала она, сев на кровати и откидывая с лица волосы, — я даже следила за тобой… однажды… Мне так хотелось смотреть на тебя. Я следила, как ты шла к врачу, и дождалась тебя снаружи.
— Ой! — я совсем смутилась. — А я думала…
— Как я была рада, что ты беременна!
— Я знаю.
— Я все время о ней думаю, — сказала Сильвия и прижалась щекой к моему животу, внутри которого бился ребенок, моя малышка, которая пережила кровотечения и УЗИ и теперь носилась в моей матке, как собака на привязи, колотила ручками и ножками, икала.
— Она и твоя тоже, — откликнулась я. — Ты заботилась о ней. — Я хотела поцеловать ее ухо, но она отодвинулась.
— Я хочу ее, — произнесла она, обдав холодным дыханием мой живот.
— Ты кормила ее рыбой и брокколи…
— По-моему, я люблю ее.
— И она тебя любит, — заверила ее я. — Но почему ты не подошла ко мне у университета, если знала, что это я?
— Разве это не показалось бы странным?
— Нет.
— Ты так думаешь? — обронила Сильвия.
— Странно было не подойти, — я нахмурилась.
— Иногда мне кажется, — начала Сильвия, и в ее лице я увидела то выражение боли, которое раньше никогда не замечалось, а теперь так часто бросалось в глаза, — что я не понимаю значения слова «странно». Это потому, что я иностранка?
— Нет, — засмеялась я. — Потому что ты — это ты.
— Не надо! — Сильвия вздрогнула, как от пощечины.
— Но именно это мне и нравится, — я протянула к ней руки. — Почему я полюбила тебя? Ты была такой странной девочкой. Я просто влюбилась! А ведь я даже не была у тебя первой, — покачала я головой. — Даже не была первой.
Она улыбнулась одними уголками рта.
— Да. Но и я с того самого дня не переставала любить тебя. Я все время хотела, хотела, жаждала увидеть тебя снова, — сказала она. Потом медленным движением немного приподняла краешек моего платья и отпустила. Ребенок ударил ножкой.
— Обними меня, — попросила я.
Она смотрела прямо перед собой, словно не услышала моих слов.
— Тебе нужно есть, — посоветовала она, снова бросив взгляд на мой живот.
— Слишком жарко.
— Нет, тебе обязательно нужно есть.
— Мне сейчас не хочется. — У меня было одно желание — чтобы она обняла меня. Сильвия лежала на боку рядом со мной, растянувшись, и смотрела на меня, словно оценивала, на нежный изгиб ее бедра полосами падал свет. Я затаила дыхание. В голове у меня была какая-то удивительная пустота, в душе нарастала буря. Вечернее солнце медленно ползло по небу, отбрасывая через прикрытые жалюзи рыхлые тени. Город затих, словно наступила короткая тишина, после которой должны грянуть звуки ночи. Сильвия протянула руку и легонько провела кончиками ногтей по моему плечу. Я, беременная, с задеревеневшим телом, как всегда, отдалась ее власти. «Молю!» — подумала я. Откинулась на спину, ноги остались слегка разведены в стороны. Мне казалось, что живот вздымается надо мной огромной горой, она же не сводила с меня глаз. Строгие брови слегка приподнялись, словно усомнившись во власти, которую она надо мной всегда имела. Молю, думала я, потому что только она могла быть со мной грубой; только от нее я принимала такие быстрые, уверенные и жесткие движения, которые не позволила бы ни одному мужчине; только она могла заставить меня погрузиться в ту странную темноту, когда мозг словно отключался, и я начинала чувствовать в ней нечто, вызывающее беспокойство, даже злое, что-то такое, что отталкивало и в то же время манило, сжимало грудную клетку и заставляло задыхаться. Она властвовала надо мной, она управляла моими чувствами, и я отдавалась ей, задыхаясь от стыда и обиды, с тем чтобы на следующий день почувствовать еще большее желание.
— Когда малышка родится, любовь моя, мы увидим, что вся эта брокколи, скумбрия и абрикосы, которыми я кормила тебя, пошла в ее розовые ноготки, в ее ясные карие глазки.
Через складки платья она провела пальцами по вертикальной темной линии, появившейся у меня на животе, когда он начал увеличиваться.
Я выдохнула через нос.
— Снова, — сказала я.
— Помнишь нашу последнюю ночь во Франции?
— Конечно.
— Я знаю, что ты помнишь, дорогая.
Беспокойство заставило меня слегка насупить брови. Она погладила меня по ноге.
— Это была волшебная ночь, правда? — спросила она.
— Я все это время вспоминала о ней, — тихо ответила я, наблюдая за последними пятнами света, крадущимися по ее бедру.
— Я тоже об этом думала, — произнесла она.
— Я потом несколько лет целовала себе руку, чтобы почувствовать губами что-то похожее на те ощущения, — продолжала я. — Моя кожа словно ожила тогда. После этого я столько лет не… занималась любовью. Следующий раз это у меня было в… в девятнадцать. Стыдливая девственница. Но до того у меня уже была ты.
— Да.
— Я надеялась, что когда-нибудь повстречаю тебя на улице, — сказала я. Она надавила на мое плечо и оказалась надо мной. — Когда я ездила в Париж, я не сомневалась, что встречу тебя там.
— Я там не была.
— Где же ты была?
— Я действительно там не была. К сожалению.
— Так где же ты была?
— Я… Можно сказать, что я… наверное, пряталась от людей. Пока ты жила, была студенткой, влюблялась, принимала решения.
— А с тобой такого не было? Я имею в виду, ты всего этого не делала?
Она прямо посмотрела на меня, потом ее взгляд как будто сделался рассеянным, зеленовато-карие глаза потемнели еще сильнее, и вдруг я почувствовала то, что уже раза два замечала раньше, — было в ней что-то грязное, почти убогое, словно эта маленькая с виду девочка на самом деле опытная проститутка, с кругами под глазами и прогнившей душой.
— Помнишь, что случилось в тот вечер? — спросила она.
— О чем ты? — я попыталась заставить себя посмотреть на нее.
— Мы сбежали, — напомнила она.
— Да.
— Ну?
— Я знаю. Мне нехорошо, — сказала я.
— Почему?
— Не знаю, просто что-то нашло. Мне нужно в туалет. Живот заболел.
— А, — осторожно протянула Сильвия.
Я поднялась с кровати. Совершив первое же движение, я ощутила невыносимую тяжесть, словно мой внутренний центр тяжести наконец-то сместился до той отметки, где я уже не могла ему противиться. Вернувшись в кровать, я сказала:
— Расскажи мне что-нибудь. Я себя как-то странно чувствую.
— Как именно?
— Ну, что-то похожее на месячные.
Меня трясло.
— Это матка сокращается! — сказала Сильвия.
— Да? — поморщилась я. — Живот как будто сводит. Больно.
— Просто небольшая «тренировка» перед схватками, — Сильвия развернулась и положила руку мне на живот, там, где находился ребенок.
Я выдохнула.
— Все нормально? — нежно спросила она.
Я кивнула.
— Сейчас ты можешь потренироваться, и когда ей придет время появиться на свет, — она убрала мне со лба волосы, — мы будем готовы.
«Я не знаю, не знаю», — хотелось сказать мне.
— Ее передадут тебе и мне, и мы будем любить ее.
— Не знаю, — пробормотала я.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Сильвия, слегка побледнев.
— Мне плохо.
— Милая, иди ко мне.
Я легла рядом с Сильвией. По коже, которая у меня во время беременности всегда пылала огнем, прошло покалывание. Место между грудями покрылось потом, хотя мне было холодно.
— Во Франции… — начала она.
— Знаешь, — отрывисто произнесла я, — а я ведь не должна была туда попасть. Я так переживала. Матери нужно было оставить меня дома.
— Но у тебя была мать, — сказала она. — Она любит тебя. Посмотри, что она до сих пор для тебя делает, — она обвела рукой комнату, потом опустила ее обратно мне на живот.
— Да, была. А у тебя…
Она вскинула бровь.
— Не помню, видела ли я вас с ней вместе когда-нибудь, — с сомнением произнесла я.
— А я видела вас вместе. Она болтала с тобой в приемной. Один раз я даже видела, как она, проходя мимо тебя, погладила тебя по голове.
— О Сильвия! — воскликнула я, почувствовав жалость.
— А еще она пила. Ты об этом догадывалась?
— Пила? — удивилась я. Пустое лицо докторши всплыло у меня перед глазами, словно я видела его только вчера, только теперь уже я воспринимала его иначе, как взрослый человек.
Матку сжало словно тугим ремнем. Я не смогла сдержать стон. Мне представился массажер для похудения пятидесятых годов. Резиновая лента, трясущая жир улыбающейся женщины.
— Еще слишком рано, — простонала я.
— Дыши! — сказала она. — Дыши, как тебя учили на курсах подготовки. Это просто сокращения матки.
— Откуда ты знаешь? — процедила я сквозь сжатые зубы.
— Она не любила ничего, кроме выпивки, — сказала Сильвия.
Воображаемый ремень стянулся еще крепче.
— Ричард, — вырвалось у меня.
Сильвия повернулась и посмотрела на меня сверху вниз, рот слегка приоткрыт.
— Что?
На минуту стало тихо.
— Я… — Мне показалось, что она вот-вот заплачет, отчего у меня у самой защипало в глазах.
— Дыши, Лелия.
— Да. Я…
— Это не давало нам сблизиться, как мне казалось, — решительно сказала она. — И еще то, что она презирала вонючий комок грязи, мерзкое отродье, которое называлось ее дочерью.
Меня передернуло.
— Она пила каждый вечер, — тихо продолжила она. — Все время, пока была беременна. Я думала, что водка погубит ребенка. Но я вела себя тихо, потому что боялась, что она выйдет из себя. Я все время только то и делала, что читала, так ведь, Лелия?
— Ты и сексом занималась, — сказала я. — Ты была ребенком, но у тебя была подруга.
— Да, когда Софи-Элен была рядом. Но все остальное время я читала. Мне больше нечем было заняться. Я думала, что она превратилась в алкоголичку. Считала, что она была не способна любить. А потом…
— Но она ведь так напряженно работала, — сказала я, дрожа всем телом. Напряжение в животе начало спадать. Я попыталась дышать спокойнее.
— Да знаю я, знаю. Она была прекрасным врачом и работала на износ. Но у нее одно другому не мешало. Хотя потом выяснилось, что все-таки мешало… Люди стали замечать. Кроме вина, она ничего не любила. Красное, марочное. О эти чертовы виноградники! Эти долбаные виноградники моего сбежавшего папочки… Но потом (кто бы мог подумать!) оказалось, что она любит не только приложиться к бутылке, оказывается, она еще души не чаяла в ребенке. Она любила этого младенца до безумия, хотя ходила как в тумане.
— Ты сама сейчас говоришь, как безумная, — сказала я.
— Замолчи! — выкрикнула Сильвия.
— Вот видишь, — отшатнулась я.
— А как бы ты разговаривала на моем месте? — успокоилась она и погладила меня по ноге.
— Тебе пришлось нелегко, — заметила я.
— Я хотела, чтобы у меня было то, что есть у тебя, — она обняла меня и прижала к себе.
Какое-то время мы лежали, обнявшись, и ее запах по-прежнему казался мне восхитительным.
— Я всегда хотела, чтобы у меня было то, что есть у тебя, — наконец вновь заговорила она. Ее теплое дыхание коснулось моей груди у шеи.
— Что?
— Мне всегда хотелось, чтобы ты поделилась со мной.
Улыбнувшись, я пожала плечами.
— У меня не было отца, брата и сестры тоже не было. Я была толстой. И денег у нас не хватало. К тому же я была несговорчивой и упрямой.
— Но, по крайней мере, для отца ты была желанным ребенком. Моя мать любила тебя больше, чем меня, это и понятно, потому что ты была офигенно очаровательной. Твоя кожа, твой ум, то, как ты говорила по-французски. Ты…
— Что?
— Все. Дом. Внешний вид, и все такое. Все у тебя было. Теперь пропустим некоторое количество лет, и вот уже… наша прекрасная Лелия обзавелась и мужиком, и ребенком.
— Перестань, — я оттолкнула ее от себя. Встала и начала ходить по комнате.
— А что было у меня? — она поймала меня за руку.
— Не знаю, — сказала я, не сбавляя хода. Движение принесло облегчение. Мне показалось, что ребенок оказался зажатым где-то в нижней части живота.
— Нет.
— Ты мне не рассказывала. И не рассказываешь.
— Нет, — повторила она.
— Я не знаю, как ты жила после того, ты никогда…
— Это потому, что ты не захотела этого узнать. Так же как не захотела узнать многих других вещей.
— Прошу тебя, Сильвия.
— Я могу напомнить тебе, чем мы занимались в ту последнюю ночь. Помнишь, за кем мы должны были присматривать?
Младенец. Я часто вспоминала его. Сестра Мазарини, совсем крошечная. Более очаровательного, милого и красивого ребенка я не видела. Это было само очарование. От нее пахло теплым молоком и горячим хлебом. Она держала ручки у головки, как плюшевый мишка. Мы с Софи-Элен часто спускались вниз, не в силах удержаться, чтобы лишний раз не посмотреть на это совершенство в уменьшенном масштабе. Хмурая врачиха превратилась в любящую мать с прилизанными волосами и мягким лицом. В ней уже было не узнать мать Мазарини.
Сама Мазарини почти все время сидела наверху и даже почти перестала спускаться, чтобы поесть, превратилась в тень той тени, которой была раньше. Тело ее истощилось, лицо сделалось бесцветным. Она стала нервной и замкнутой. Наделала огромное количество картинок и открыток, на которых цветными карандашами было написано: «Я люблю малышку», или «Добро пожаловать», или «Ты такая милая».
Однажды утром я застала ее внизу, и ее лицо напомнило мне очень маленького ребенка, который потерялся и теперь, охваченный паникой, мечется под ногами у взрослых. Таких глубоких и темных глаз, как у нее, мне не приходилось видеть ни у одного ребенка. Ее лоб прорезали маленькие морщинки, что делало ее похожей на старичка. Я не подозревала, что дети могут испытывать такой ужас и такую боль, которые я увидела в ней. Все еще остро переживая смерть отца, я поняла тогда, что даже очень молодых людей может терзать такая боль, которая заставляет думать, что какая-то часть тебя умирает.
— Давай поговорим позже, — еле смогла проговорить я. — Пожалуйста…
— Ты можешь поспать, — мягко отозвалась она. — Попытайся сейчас заснуть, тебе могут понадобиться силы.
Картонный дух, исходивший от фланелевого одеяла тети Нанды, перемешался с невидимыми кружевами ароматов Сильвии, в уютном запахе собственной печали и волос, раскинувшихся по подушке, ощущался ее привкус. Я все еще прислушивалась к двери, вдруг Ричард все-таки найдет способ разыскать меня и появится.
Сильвия прикоснулась к моей шее. Легла рядом, свернувшись калачиком. Я отодвинулась. Подумала, что похожа на моллюска, раскрывающего створки раковины перед тем, как метнуться в сторону.
— Я не могу заснуть, — сказала я, хотя понимала, что сознание за это время уже несколько раз то покидало меня, то возвращалось, боль в животе отступала. Шум грузовых машин, с грохотом перелетающих через ограничители скорости, далекий вой сирен и шипение ночных автобусов вплеталось в полусны о Ричарде, Сильвии, боли. По реке поднимались полицейские катера. Меня словно окутало неподвижным облаком тумана; не смыкая глаз, я видела себя девочкой. Было слишком жарко. Я то ощущала приступы дурноты, то, наоборот, чувствовала себя прекрасно, но собственное тело казалось мне чужим.
— В ту ночь я тоже не могла заснуть, — сказала Сильвия.
— В какую ночь?
— Ночь перед… ночь перед той ночью, которую мы с тобой провели вместе.
Она прижалась ко мне, обхватила меня руками, положила сверху согнутую в колене ногу. Я по-прежнему лежала к ней спиной, старалась дышать медленно, чтобы не вызвать новых приступов боли. Перед глазами у меня высился незнакомый шкаф, каменной стеной с башнями уходил вверх и терялся где-то в жаркой темноте. Если я буду лежать неподвижно и спокойно, ребенок успокоится. Она еще не готова.
— Я знала, что в ту ночь не засну, потому что уже тогда, уже тогда они собирались послать меня обратно в школу.
— Да? — еле слышно проговорила я.
— Помнишь? Перед тем как ты уехала?
— Нет.
— Что ж. Ладно. Семестр еще не начался, а они уже хотели отправить меня обратно в Париж. Жила там одна… бывшая коллега матери, к которой меня хотели направить. Я была как ребенок, родители которого живут в колонии.
— Бедная, — я погладила ее по руке.
Я уткнулась в подушку и стала беззвучно молиться, чтобы с ребенком ничего не случилось.
— Я начала думать о смерти, — сказала Сильвия. — Ночью я не могла заснуть. С тобой такое когда-нибудь было? Это совсем не то, что не ложиться до самого утра, а потом заснуть. Особенно когда ты еще ребенок. Это похоже на пытку, маленькую смерть.
— Конечно…
— Мне нужно было что-то делать, — ее речь стала немного быстрее, французский акцент теперь слышался явственнее. — Я спустилась вниз… Пошла в кухню и по дороге услышала голос матери. Она была наверху. Наверху с ребенком! Не знаю, куда ушла няня. Мать, которая по ночам почти всегда была пьяна, лежала с ребенком. Потом я услышала, что она поет. Напевает вполголоса. Из-за этого все и случилось. Из-за этого чарующего звука, который напоминал пение русалок. Она пела. Это было так красиво. Раньше я никогда не слышала таких звуков. Мне так хотелось слушать и слушать. Так хотелось! И тогда я поняла… мне нечего было терять. Нечего! Я обрела свободу.
— Боже мой, Сильвия.
— Я несколько раз ударила себя по голове. Это было единственным, что я могла сделать. У меня возникла мысль разбежаться и размозжить голову, верх черепа, о стену, об определенный участок стены рядом с окном. Об этом я думала, когда лежала и не могла заснуть, и перед глазами у меня волнами проплывало изнеможение.
— Сильвия, — шепотом произнесла я в темноту. — Не надо.
— Вместо этого я стала ломать деревянные ложки. Я прикладывала их к черепу и жала до тех пор, пока они не ломались. Они дрожали у меня в руках. Мозг понемногу отключался. Мне это было нужно. Я жала все сильнее и сильнее, пока боль не становилась нестерпимой и непрерывной, все быстрее и быстрее, и мне казалось, что это правильно. Я наказывала себя за то, что была мразью, дрянью, я продолжала истязание, но потом мне стало страшно. Я попробовала остановиться.
— О Боже, Сильвия, — я еле сдерживала слезы.
— На следующий день, вечером, я пошла в ту комнату, чтобы самой посмотреть на ребенка. То был твой последний вечер во Франции, любовь моя. Занавески над ней были прикрыты, она лежала на животе, подоткнув под себя ручки. Я никогда не забуду этого. Правда, она была похожа на ангела. Только тогда я поняла это. Наверное, ее бедная кровь перемешалась с пуйи-фюме[58]. В первый раз в жизни я вдохнула ее теплое молочное дыхание, почувствовала запах пропитанных мочой подгузников. Она была такой спокойной. На верхней губе у нее был небольшой нарывчик. Мне захотелось поцеловать ее, прижать к губам. Она была такой милой, такой красивой, неудивительно, что мать хотела оставить ее у себя. Оставить, чтобы потом бросить? Нет, не думаю.
— Сильвия! — чуть не закричала я. — Перестань.
— Почему? Почему ты не хочешь слушать?
— Не хочу. Это неприятно.
— Но это часть моей жизни. Это вся моя жизнь, разве не так?
— Нет, Сильвия. Нет, — твердила я, качая головой. По мосту через реку прошел поезд.
— В тот вечер ты должна была прийти ко мне домой, мы собирались вместе незаметно уйти. Подальше от Софи-Элен. Ты мне казалась такой красивой, такой необычной, ты приехала из Лондона, города, где хоронят поэтов. Ты была прекрасна.
— Неправда, — сказала я. — У тебя была Софи-Элен.
— Софи-Элен… Она спасала меня все те годы, она была мне другом. Но я не переставала думать о тебе. Я так хотела тебя. Я не могла жить без тебя… годы шли, а это чувство только усиливалось. Я хотела снова лежать рядом с тобой на траве, чтобы все остальное мое детство перестало существовать.
Мои мышцы напряглись. Я судорожно глотнула воздух. Убрала ее руку с талии. Ремень снова сжался, и по телу растеклась боль.
— Дыши, — шепнула она и стала тереть мне плечо.
— Не надо, — попросила я. — Не прикасайся ко мне.
Я резко подалась в сторону, чтобы не чувствовать ее дыхание у себя на шее.
— О Господи, — воскликнула я. Встала и прислонилась к стене. Августовская жара выжгла в комнате весь воздух. Я уткнулась лбом в бороздки на обоях. Запах сделался невыносимым.
Схватки не прекращались, приступы боли были неожиданными.
— Сильвия, — простонала я. — Позвони в больницу.
— Ну что ты, милая! — сказала Сильвия. — Еще рано, любимая. Это только начало. Ты им еще не нужна.
— У меня преждевременные… — превозмогая боль, говорила я. — Еще слишком… слишком… сколько уже? — Я стояла, прислонившись к стене, и пыталась подсчитать сроки, но цифры никак не хотели складываться в недели, хотя раньше я в уме легко могла высчитать все до дня. — Тридцать…
В голове все перемешалось.
— Тридцать шесть, — сказала она. — Все хорошо, любовь моя.
— Нет, не хорошо! — закричала я. — Это не мой срок! Тридцать восемь. Я должна рожать на тридцать восьмой неделе.
— Да, дорогая. У тебя все будет хорошо.
— Неужели? Откуда ты знаешь? Звони в больницу.
— Милая, мне пока незачем звонить, — Сильвия приблизилась ко мне и погладила по спине. — Я сама могу о тебе позаботиться. У тебя пока самая ранняя стадия. Это еще не роды.
— Сильвия, — взмолилась я и вцепилась ей в руку. — Прошу тебя, позвони.
— Хорошо, — она пошла к окну, прижав к уху мобильник.
Я не могла лежать, поэтому начала ходить по комнате. Наклонилась над умывальником и стала глубоко дышать. Мне захотелось, чтобы меня вырвало. Как Сильвия разговаривала по телефону, я не слышала. Я открыла краны. Вода хлынула яростно, разлетаясь брызгами, она была чистая и теплая, совсем не похожая на ту ржавую жижу, которая шла из крана в ванной Мазарини. Несмотря на спертый воздух, мне хотелось ощущать тепло на животе. На ногах я заметила пятна кровавой слизи.
В ванну вошла Сильвия.
— Нужно измерить время между схватками, — сказала она. — Послушай меня, дорогая, — она стала убирать мокрые волосы у меня со лба, — нам не нужно ехать в больницу, пока они не станут происходить чаще, чем каждые пять минут. Тебе еще, наверное, ждать несколько часов. Ты можешь пока отдохнуть.
— Но ведь мне еще рано, — уже не сдерживаясь, кричала я. — Все же и так понятно. Ты им описала? Что ты им сказала?
— Конечно, конечно. Они не видят в этом ничего серьезного. Нам нужно наблюдать и позвонить им позже.
— Почему?
— Это предродовое.
— Не похоже.
— Это всегда не похоже. У тебя схватки, но они несильные и редкие. Они даже могут на какое-то время прекратиться. Позже они станут продолжительнее и чаще. Ты же и сама все это знаешь, милая.
Я покачала головой.
— Мы и сами с этим пока справимся.
— Я хочу пить, — сказала я.
— Ну конечно.
Я жадно выпила стакан воды. Ко лбу толчками подступала боль, кожа горела огнем. Наверное, я выгляжу ужасно, подумала я, глаза безумные, волосы — мокрая, сбившаяся в клочья копна. Я ходила из ванной в комнату и обратно. Села на унитаз, мне было так плохо, будто тело выворачивалось наизнанку. Пошла в спальню, уткнулась головой в кровать. На улице завывали сирены. Я старалась дышать ровно.
— Я больше не хочу слушать, — я почувствовала, что к голове прилила кровь.
— Хочешь.
— Нет, — я впилась зубами в подушку. Боль уже не отступала от головы. Я попыталась собраться с мыслями, сильно прижала к лицу подушку, пока не погрузилась в полную темноту и перед глазами не появились желтые круги, которые мое безумие превратило в совиные глаза. Я хотела, чтобы ребенок выжил. Чувство вины, которое преследовало меня всю жизнь (медленно полыхающий страх, который невозможно было объяснить Ричарду и который отвергался как детские суеверия; невнятное чувство тревоги, испытанное в последний день во Франции; печаль в глазах взрослых из Клемансо; отъезд семьи Белье) доставала меня и теперь, когда я стала взрослой. Сильвия однажды призналась, что познала смерть. Liebestod, говорила она. Я задыхалась. Стала стонать в подушку. В ее и без того уже мокрую поверхность изо рта потекли слюни.
— Почему нет, дорогая? — она поцеловала меня в шею. — Помнишь?
— Нет. Я не помню, — сказала я.
— Тот вечер. Твой последний вечер…
— Да, — простонала я.
— Она спала в кроватке, а я стояла над ней и смотрела. Она посапывала и пыхтела. Иногда она на некоторое время переставала дышать, сама, и в комнате становилось очень тихо, но потом она с новой силой начинала сопеть, как трактор.
Вдруг мокрая подушка скользнула у меня под щекой.
— Не надо, — взмолилась я. Сильвия одним движением притянула меня к себе и накрыла рукой мою голову, которая оказалась у нее под мышкой, мой раскрытый рот впечатался в подушку. Я услышала стрекот вертолетов, пролетающих над домом, с улицы донесся крик молодого мужчины и эхом разлетелся по комнате.
— Я часто представляла себе, как прикрою рукой рот малышки. Мягко, как бабочка, — сказала Сильвия. — Я проделала это несколько раз, гладила ее по губам, но убирала руку, потому что я не могла. Я целовала ее в лоб. Поначалу она даже не проснулась! Она лишь немного покрутилась во сне, нахмурилась, но потом начала плакать, и я подняла ее из кроватки, чтобы успокоить. Она пускала слюни и вопила. Я поцеловала ее ротик. Тогда я почти полюбила этого ребенка, хоть и ненавидела его всей душой. Мы с ней появились из одного и того же места. Я крепко прижала ее к плечу, притворилась ее матерью, стала качать. Я целовала ее. Ждала, когда ты найдешь меня, войдешь в дом, такая цветущая, застенчивая, милая.
— Мне…
— И ты пришла, ты увидела меня в детской комнате. Помнишь? Ты сказала… чтобы я прекратила. Прекратила так качать ребенка, сказала, что я сжимаю его слишком крепко и что так я задушу ее. Потом тебя позвала мать, и ты ушла.
Вот тогда меня захлестнула любовь. Я обнимала малыша изо всех сил, качала, плакала и целовала. Мне сделалось жалко ее. Водка раздула ее живот, текла через ее мозг. Я просто продолжала качать ее. Тогда еще я не могла заставить себя причинить ей боль, потому что начала любить ее. Я качала и убаюкивала ее, прижимала к себе и разговаривала с ней. Мы могли с ней стать сестрами. Я целовала ее сотни раз, словно впав в транс от любви, исступленно зацеловывала ее макушку. Она была горячей, мягкой, почти лысой.
— О, — выдохнула я, все еще зажатая между ее рукой и туловищем. Слезы жгли глаза. Все лицо уже было мокрым, и рот раскрылся в беззвучном вопле.
— Постепенно она затихла, — продолжила Сильвия. — Я уложила ее обратно в кроватку. Бедная малышка. Я вышла из комнаты и услышала, как мать собирается уходить. Няня все еще не пришла. Я пошла к тебе. Ты была такая красивая.
— Нет…
— Правда, была. Я всегда знала, что снова найду тебя и мы опять будем вместе. В будущем, когда повзрослеем и станем шикарными женщинами. Но когда я вновь услышала о тебе, ты уже принадлежала другому. Было слишком поздно. Но я все равно хотела тебя.
Мои мышцы напряглись, новый приступ боли пронзил живот. Я перекатилась на колени и руки.
— Пожалуйста, — застонала я. — Ведь мне еще рано. Еще… целый месяц или около того. Я не знаю. Месяц. Слишком рано.
— Я могу помочь тебе, дорогая, — успокаивающим тоном заговорила Сильвия. — Мы сможем это сделать вместе. Ты можешь рожать прямо здесь.
— Нет! — закричала я. — Черт побери, нет. Ты… лучше позвони еще раз в больницу.
— Схватки слишком редкие, — спокойно и мрачно произнесла она. — У тебя еще матка не раскрылась.
— Я не смогу нормально родить. Мне же еще рано.
— Сможешь, конечно. А ребенка осмотрят потом.
— Что ты им сказала? — крикнула я. — Я хочу сама поговорить с кем-нибудь.
— Ш-ш-ш, ш-ш-ш. Позже, — попыталась успокоить меня Сильвия.
Она удерживала меня за плечо, ее рука лежала у меня на груди. Я отвернулась.
— Мне очень больно, — сказала я, забираясь в ванну, которая уже наполнилась водой. Моя нога соскользнула, и через край волной пролилась вода, словно в ванне плеснулся кит. Боль буравила живот, ее отголоски чувствовались ниже, в бедрах. Я раздвинула ноги и перекинула одно колено через край ванны. Сама отвернулась и постаралась отвлечься от боли.
— Ты уверена, — сказала я, обливаясь потом, — ты точно уверена, что врачи сказали…
— Да, милая, — мягко ответила Сильвия и посмотрела на часы. — До пяти минут еще далеко. У тебя и трех сантиметров пока не будет.
— Откуда ты можешь это знать? — сказала я и дернула плечом, к которому она прикоснулась.
— Конечно же, я знаю. Курсы всякие. Ты и сама все это знаешь, просто сейчас не в состоянии вспомнить. Именно поэтому и нужно, чтобы с тобой все время кто-то был рядом.
— Я хочу, чтобы рядом со мной был акушер. Мне страшно. А что, если ребенок…
— Будет у тебя ребенок, — успокаивала меня Сильвия. — Когда врачи решат, что тебе пора. Они знают, на каком ты сроке. А теперь расслабься. Прислушайся к тому, что происходит в тебе. Плыви. Пусть схватки несут тебя.
— Замолчи.
— Когда малышка появится, мы возьмем ее с собой и пойдем гулять вдоль реки, — успокаивающим тоном заговорила она.
— Здесь мы не останемся. Боже, ребенок. Пусть приедет Ричард. Позвони ему. Дай мне свой телефон.
— Ему еще не время звонить, дорогая, — Сильвия окунула в воду полотенце и приложила его мне ко лбу. — Дыши. Давай дышать вместе. Вспомни. Думай о дыхании, как о круге. Вдохнув воздух, задержи дыхание, потом медленно выдыхай. Начинай.
— Сильвия, — сквозь слезы выкрикнула я. — Позвони Ричарду.
— Зачем?
— Он нужен мне.
— Мы с тобой нужны друг другу, — сказала она.
Я посмотрела на нее. Закусила губу и изо всех сил сжала зубы, чтобы почувствовать боль в новом месте. Закачала головой, прижалась щекой к стенке ванны.
— Если хочешь, я могу еще раз позвонить в родильную палату.
Мои мышцы стали расслабляться. Я, обливаясь потом, лежала в ванне, и горячая вода подхватила и усилила все запахи моего тела: запах складки кожи между грудями, соленый запах спины, запах пота, скатывающегося по лицу. Кровь, пульсируя, толчками била в лоб. Я дышала. Чувствовала себя, как рыба, выброшенная на берег, но я была жива. Радовалась тому, что боль отступает, не могла поверить, что смогла пережить такое.
— Мне сказали засечь время и перезвонить через час.
— Я сама хочу с ними поговорить.
— Тебе нельзя, милая, — возразила Сильвия. — Посмотри на себя. Просто расслабься.
— Сильвия, — сказала я, тяжело дыша, прислушиваясь к тому, как в груди колотится сердце. — По срокам мне еще слишком рано рожать. Ребенок может… еще слишком рано. Прошу тебя. Разве ты не понимаешь? Мне нужен Ричард. Прошу тебя.
— Ты действительно хочешь его видеть? — медленно проговорила она. Ни один мускул у нее на лице не дрогнул. — В самом деле? — казалось, она смотрела в угол комнаты. — Но если мы сделаем это, если мы пройдем через это вместе, дорогая… мы же такие сильные, мы сможем, и ты, и я, мы переживем это… ведь получится, что мы сделали все наоборот, — в ее тихом голосе чувствовались нотки удивления.
— Что ты хочешь этим сказать? — быстро спросила я. Расслабившись между схватками, я старалась дышать медленно и глубоко. Я снова почувствовала власть над своим телом, словно можно было уже не бояться возвращения боли. Разве возможно, чтобы такая боль снова вернулась? Я хотела, чтобы рядом со мной был Ричард. Хотела, чтобы ребенок оказался в безопасности. Попыталась отогнать страх. Протянула руку и положила ей на плечо. — Помоги мне, — попросила я. — Сделай все, как положено. Ты же поможешь мне, правда?
— Конечно. Для этого я здесь и нахожусь. Я помогаю тебе. В чем бы я ни была виновата… и, наверное, когда-нибудь ты возненавидишь меня…
— За что? — спросила я.
— Да, так и будет. Люди… все ошибаются.
— За что?
Она притянула меня к себе, так что я уткнулась лицом ей в шею, обняла меня за плечи, а я ее — за талию.
— Я так боюсь за ребенка, — прошептала я. — Мне так страшно.
— В чем бы я ни была виновата, поверь, я любила тебя, — сказала она, и ее дыхание жаром обдало мне ухо. — Я хотела, чтобы и ты прошла через это.
— Через что? — не поняла я.
— Я думала, когда-нибудь ты догадаешься, скажешь мне, что я вела себя глупо, и все будет хорошо.
— А что случилось с тем ребенком? — наконец спросила я, но от страха голос мой дрогнул.
— Ты помнишь, о чем она тогда попросила? Помнишь?
Я молча покачала головой.
— Моя дорогая матушка сказала: «Присмотрите вечером за Агнес. Мазарини, Лелия, присмотрите за ребенком». Теперь вспомнила? Наверняка вспомнила. Мы с тобой вместе кормили ее из бутылочки, укладывали в кроватку, договорились проверять ее по очереди. И кто… кто предложил сбегать через поле в комнату над гаражом? Кто? Невинное создание Лелия. Которой захотелось потрахаться.
— Что случилось с ней? — простонала я.
— Кто решил, что интереснее будет трахать друг друга всю ночь, чем смотреть на сопливого и вонючего ребенка, а? Давай вернемся на нашу большую кровать и займемся неземной любовью! Подумаешь, ребенок будет всю ночь один! Что тут такого, ведь алкашки не будет всю ночь.
— И что… — сказала я, начиная задыхаться, и простонала, долго и глухо.
— Мы должны были смотреть за ней вместе.
Вместо ответа я ртом судорожно втянула воздух. Моя голова словно застряла у нее под рукой.
— Ты не пришла попрощаться со мной, — голосом, больше похожим на сдавленный стон, сказала я.
— Они уже решили, как со мной поступить. Выбрали для меня будущее. Но никто со мной не разговаривал и не рассказывал, что происходит. Взрослые маячили надо мной, как великаны, они все были такие высокие, такие вытянутые, и никто со мной не разговаривал. С того дня я со своей матерью почти не общалась, — покачала она головой. — Два раза. Два раза я видела ее, это случилось намного позже.
— Куда тебя послали?
— Обратно в Париж, к той женщине, у которой я жила. Потом в школу. После — в другую школу, и…
— Потом?
— Мы жили раздельно. Школа. Вечная школа. Как дальние родственники.
Я задержала дыхание.
— Канада. Опять Европа.
Медленно выдохнула.
— А потом я оказалась предоставлена самой себе.
— Что с ней случилось? — прошипела я, хотя уже знала ответ. Мои губы почти не шевелились. Вечный страх, живший в глубине души, уже готов был обрушиться на меня. Кончиками пальцев она прикоснулась к моей руке. Погладила. Я резко отдернула руку.
— А разве ты не знаешь?
— Нет, — ответила я. По щекам хлынули слезы. Поначалу это было даже приятно, как будто попала под теплый дождь. В уголках глаз появилось жжение.
— Она… ну… она… малышка умерла той ночью, — в нос ударил запах кожи Сильвии. Она дрожала. — Моя сестренка, — добавила она.
— Из-за того… из-за того, что… — рот наполнился слюной, как перед рвотой.
— Она перестала дышать, — сказала она, приблизив рот вплотную к моему уху.
— Перестала дышать? — повторила я, чувствуя, что Сильвия уткнулась в меня лбом.
— Да.
— Потому что… почему?
— Никто этого так и не узнал. Решили, что…
— Что решили?
— Решили, что она просто умерла во сне, такое бывает с младенцами.
Судорожным вдохом я отогнала тошноту. Подняла голову, чтобы не чувствовать запах, тепло ее кожи, ощутить воздух.
— Меня сейчас стошнит, — и я вырвала прямо на свою руку и в воду.
— Я думала, что когда мы с тобой, — сказала она, беря полотенце и аккуратными движениями вытирая мне рот, — снова станем… друзьями, любовниками… ты возьмешь на себя свою часть вины. Я думала, что когда-нибудь мы будем вместе, я поделюсь с тобой и ты сделаешь так, что на душе снова станет спокойно. Мы бы вместе добились этого. Ты забеременела. Но я чувствую, что это тоже может помочь. Все будет хорошо.
— Ничто тут не может помочь, — сказала я, наблюдая, как рвотные массы расползаются по поверхности воды.
— Господи Исусе!
— Но ведь ты не виновата в том, что случилось.
— Да? — отрывисто спросила Сильвия.
— Конечно.
— Ты так же виновата, как и я.
— Да, да, но только в этом никто не виноват. Это произошло случайно.
Я вспомнила все в деталях, «Присмотрите за ней», — сказала мать. Молоко стояло в холодильнике. У малышки была простуда, она капризничала. «Хорошо», — ответили мы, но ребенок заснул и перестал хныкать. В любую минуту к нам могла прийти Софи-Элен. Вынужденные сдерживать желание, мы не произносили ни слова. Я представляла себе, как эта девочка с уверенным лицом возьмет меня и мы с ней займемся таким сумасшедшим сексом, что мысли об отце вылетят у меня из головы. В ту минуту мне хотелось этого больше всего на свете. Младенец в кроватке приоткрыл глаза и посмотрел на меня сквозь решетку, я забеспокоилась. Я наклонилась над кроваткой, чтобы убедиться, что с ней ничего не случится, если мы на какое-то время оставим ее. Все, что я делала тогда, я делала из чувства первобытного страха. Клетки моего головного мозга сузились от ужаса, разум уступил место иррациональной вере, когда я решила испробовать свои внутренние экстрасенсорные силы, чтобы раз и навсегда убедиться в том, что их у меня нет.
Мы сбежали. Через поле позади дома дошли до калитки в глубине сада Софи-Элен и пробрались в мою комнату. «Нужно будет проверить, как там она», — все время повторяла я. Чувство вины возбуждало еще больше, но мы так ни разу и не вернулись к ребенку. И пока Мазарини увлекала меня на все новые уровни наслаждения, какая-то струнка у меня в душе начинала вибрировать от понимания ненависти, которую она испытывала к этому клочку живой материи, который приходился ей сестрой. Мне самой почти захотелось начать в той же степени презирать ее, забыть о ней, чтобы доставить удовольствие Мазарини.
Впоследствии из-за этого меня всю жизнь терзало чувство вины: я плохо подумала о ребенке, не проявив к нему ни капли внимания. Впрочем, я считала, что в жизни все будет не так, и это доказывает мои детские страхи. Я заставила себя видеть ее пухлой, здоровой девочкой с торчащими в разные стороны косичками, в красных колготках, которая весело бегает по полям Клемансо и растет, растет наперекор моим страхам.
— Давай не будем искушать судьбу, дорогая, — сказала Сильвия. — Мы сами все сможем. Пусть роды пройдут здесь. Если мы поедем в больницу, они спросят, кто отец. У нас у самих все получится.
— Ты сошла с ума, — сказала я. Все мои мысли, похоже, переключились на ее сестру. Пока темное пятно запоздалого раскаяния расползалось по мозгу, я представляла себе, как можно было ее спасти. Мне показалось, что я умираю. Стискивающая боль в животе становилась невыносимой. Я не смогла сдержаться и закричала, но этот крик скорее был вызван чувством страха за безопасность ребенка. Невидимый ремень стянулся еще туже, боль пошла наружу и вниз, вызвав новый приступ тошноты, и обволокла уже всю меня горячими и липкими щупальцами.
Я не представляла себе, что такая боль существует. Я не хочу умирать, думала я, я не хочу, чтобы умер ребенок. Мысль о том, что я потеряю ее, просто не укладывалась у меня в голове. Один ребенок уже умер. Умер отец. Но мне нужен был мой, собственный ребенок. Больше я не хотела ничего. Я уже любила малыша, который крутился внутри меня, как юла. Я была готова на все, лишь бы то, что уже пыталось выбраться из меня, никогда не узнало, что такое страдание.
— Отвези меня в больницу. Вызови такси, — попросила я.
Сильвия улыбнулась. Покачала головой и посмотрела на часы на руке.
— Черт возьми, вызывай такси! — закричала я.
— Тебе не…
— Нет. Позвони Ричарду.
— Но зачем, милая моя? Я не понимаю, почему ты…
— Потому что он отец ребенка, — я уже не могла говорить спокойно.
Я стала ходить по квартире. Вода стекала у меня по спине и ногам. Подошла к кровати и легла. Ощущение было такое, словно я проглотила огромный комок воздуха, который душит меня. Бедра заходили ходуном.
— Но… — поникла Сильвия. — Это же наш дом.
Она не пошла за мной, а осталась стоять на месте.
— Сильвия, — я покачала головой, чувствуя, что схватки ослабевают.
— Для меня это наш с тобой семейный дом. Мы сбежали от всех. Хотели быть счастливы вместе…
— Сильвия, дорогая, — голос у меня стал сухим, надтреснутым. — Я сейчас не соображаю. Не знаю что… Я просто хочу, чтобы он был рядом.
— А я думала… он нам не нужен.
— Он мне нужен. Прямо сейчас.
— Вот как, — коротко сказала она, и губы ее остались открытыми.
— Извини меня, — я повернулась к ней. На ее лице я увидела то же выражение, которое было много лет назад, когда появилась на свет ее сестра, — в глазах старческая скорбь, на лбу морщины. У меня по щекам потекли слезы. Я плакала по ее сестре, по своему ребенку.
— Вот, значит, как, — повторила она. Ее рот по-прежнему оставался приоткрытым, и мне стало жаль ее.
— Позвони Ричарду, — настаивала я.
— На ваш номер? — монотонно произнесла она. — Но я же не могу звонить вам домой, верно?
— Да. Да. Звони. Скажи, пусть он приедет сюда.
— Хорошо, — согласилась Сильвия.
Она вынула из кармана мобильник.
«Это Сильвия», — услышала я, но потом Сильвия ушла в ванную. Голос ее был слышен, но слов нельзя было разобрать. Я встала на четвереньки и стала качаться, обливаясь слезами, выгнула спину, кое-как сползла с кровати.
— Ричард! — закричала я, ковыляя к ванной. Припала к двери.
— Он приедет, — сказала Сильвия и сунула телефон обратно в карман.
— Я хотела поговорить с ним, — сквозь слезы пролепетала я. — Он пообещал, что приедет?
— Да, — сухо ответила Сильвия.
— Правда, я… — начала я, качая головой.
— Ты снова покидаешь меня, — оборвала меня Сильвия. Ее маленький рот все еще был похож на страшный провал.
— Я никогда не покидала тебя.
— А я думала, ты хотела, чтобы я была рядом с тобой.
Я, обливаясь потом, села на край кровати.
— Мне нужен он, — простонала я. — Я не в состоянии думать. Вызови «скорую».
— Я…
— Скорее. Мне нужна анестезия. Где Ричард?
— Дорогая.
— О Боже! — мне казалось, что матка разрывает меня пополам. — Я этого не вынесу.
— Давай поедем в больницу и останемся вместе, — сказала Сильвия.
Я яростно замотала головой из стороны в сторону.
— Ведь так не должно быть, — повернулась я к ней. Заглянула в глаза. — Что же ты творишь? Отвези меня в больницу, или я сама пойду. Я…
— Господи, — покачала головой она.
— Мне страшно, — выкрикнула я.
— Я хочу, чтобы мы были вместе. Чтобы жили одной семьей.
— Этой мой ребенок! Мой.
Она отвернулась.
— Ты все-таки бросаешь меня?
— Я не знаю, что я делаю! — закричала я в ответ. — Этот ребенок… — Очередная схватка не дала мне договорить. Возникла и в одну секунду сделалась нестерпимой, заставив задохнуться. Промежутков между приступами боли уже почти не было.
— Дыши. Медленно. Вот так.
Я разинула рот.
— Замолчи, — закричала я ей. — Отвези, отвези меня…
Она опять отвернулась. Я увидела, что ее шея прогнулась, словно потеряв точку опоры на спине.
— Куда ты? — мой вопрос невольно перерос в крик.
— Вниз.
— Что?
— Я всего на пару минут.
— Господи, Сильвия, не бросай меня.
— Мне нужно.
— Нет.
— Подожди несколько минут, — сказала Сильвия, повернувшись ко мне вполоборота. — Продолжай дышать.
— Нет! Сильвия! — протяжно закричала я, протягивая к ней руку, но в эту секунду волны боли, которые до сих пор накатывали одна на одну, наслаивались и набирали силу, обрушились на меня, сбили с ног. Я скорчилась на полу и заревела, как зверь. Входная дверь захлопнулась.
21 Ричард
Телефон зазвонил посреди ночи. Пришлось на заплетающихся ногах идти в ванную и брать трубку из умывальника, куда я ее швырнул вечером.
— Это Сильвия.
В ушах от неожиданности загудело, но мне было прекрасно слышно ее дыхание, так, если бы она, прося меня о встрече, плотно прижимала трубку к уху. Эта необъяснимая просьба, да еще в такое раннее время, отдавала галлюцинацией, как спокойный сон, пришедший на смену ночному кошмару. Она была тонкой линией, ведущей к Лелии, а я был готов ухватиться за любую возможность хоть что-то изменить в своем затянувшемся безрадостном и одиноком существовании.
— Ты не знаешь, как там Лелия? — торопливо выкрикнул я, но Сильвия, пропустив вопрос мимо ушей, спокойным, ровным голосом (привыкла, что ее слушают) назначила место встречи. Я попытался перезвонить ей через 1471, но она звонила с мобильного.
Я посмотрел на себя в зеркало. Небритый, в грязной до сальных пятен футболке. Что, если эта лисица, которой хватило пары мимолетных встреч с Лелией, чтобы получить от нее приглашение на свадьбу, сможет вывести меня на след жены? Я бросился в душ и наспех побрился, при этом несколько раз порезавшись. Чистых трусов не нашлось. Вообще выстиранного белья у меня почти не было. Одеваясь, я заметил, что дрожу. Решительно пошел к машине (старушка не подвела, завелась сразу) и выехал на площадь, направившись оттуда к мосту Ватерлоо. Пересек реку, освещенную белыми и голубыми огнями, и на меня вдруг обрушилось до противного слащавое чувство радости, надежды и любви к Лелии, к нашему ребенку и даже к своему драндулету. Я, как дурак, позволил фантазиям, которые пробудили во мне Темза и Сильвия, на время успокоить себя.
На Стамфорд-стрит вздымались офисные здания, в которые я когда-то часто ездил на встречу с разными девушками из журналов, их окружала запутанная сеть новых, незнакомых мне построек. Я остановил машину на двойной желтой, вышел и на секунду задержался, чтобы сделать глубокий вдох. Захотелось закурить, хоть я и бросил несколько лет назад. Меня немного качнуло, тут же в голове мелькнула мысль, что у меня сердечный удар. Судорожно вдохнул влажный речной воздух. Сильвия назначила встречу у галереи Тейт-модерн. Но я приехал за двадцать пять минут до условленного времени, поэтому спустился к реке, чтобы посидеть на скамейке, посмотреть на воду и подумать о Лелии.
Мне вспомнилось, как я впервые увидел ее на лодке. Я запрыгнул на корму и чуть не столкнулся с ней носом. Она показалась мне подвижной и какой-то шаловливой, хоть и была одета слишком хорошо для того места. Ее прекрасные карие глаза обещали много радости. Я представил себе ее формы, скрытые под ветровкой. На фоне остальных она сильно выделялась своей жизнерадостностью. Мне очень захотелось увидеться с ней еще раз, снова поговорить, может, даже рискнуть поцеловать. Возникло страстное желание отбить ее у любого, с кем она встречалась, кем бы ни был этот урод. Вода Темзы тогда так же билась о край лодки, как сейчас накатывала на берег передо мной.
Вода далеко отступила от берега. Я вспомнил, как когда-то, когда я только обосновывался в Лондоне, мы с коллегами спускались на пляж под набережной после очередной смены в «Экспресс», чтобы покурить травки. Там обычно было полно туристов, алкашей и чистильщиков старых сточных труб, но с наступлением темноты это уединенное место пустело и казалось еще более темным на фоне мириад ярких огней, словно куполом накрывающих реку вверх по течению на запад.
Я перелез через ворота и спустился к воде по бетонным ступеням. Меня привлек запах, который навеял мысли о море, о портах, о крикливых чайках и вызвал тоску по чему-то далекому и невыразимому, что осталось в прошлом. На этой полоске пересыпанного камнями песка, вдали от городского транспорта и уличной жары, воздух был подвижнее, здесь пахло мутной, холодной на глубине водой. Я снял туфли и пошел босиком, осторожно переступая через гладкие камни и старые бутылки, вдали горели огни моста. Река плескалась у моих ног, и едва заметного намека на когда-то знакомые мне водные запахи хватило, чтобы я начал думать, каким же надо быть идиотом, чтобы заставить себя жить в городе и дышать углекислым газом. Крупный песок приятно покалывал ступни. Я вдруг с волнением подумал о наркоманах и гуляющих в одиночестве странных личностях, которые могут оказаться у меня на пути. Я напряг глаза, но расшифровать тени под железнодорожным мостом было невозможно.
Бетонная стена, возвышавшаяся рядом со мной, потемнела вместе с небом. Мимо проплыл полицейский катер, прошелся по берегу лучом прожектора и растворился в ночи. Я занервничал, непривычная для Лондона тишина начала давить на меня. Легким наполняться воздухом помогало лишь дыхание реки да огни уличного движения на противоположном берегу. Что-то неуловимое напомнило о Сильвии Лавинь. Воображение нарисовало ее четкий портрет. Я попытался отогнать этот образ. Возникло такое ощущение, что я почувствовал ее запах, и от этого у меня чуть не подкосились ноги, когда я медленно двинулся в обратную сторону. Я приказал своему мозгу избавиться от этого наваждения.
Вокруг было очень темно. На противоположном берегу, окутанный светом, словно саваном, возвышался собор Святого Павла. Когда я раньше бывал здесь, у меня никогда не возникало чувство страха, но сейчас, когда я продвигался вдоль берега, переступая чернильно-черные тени, отбрасываемые столбами на набережной, и думая о Лелии, о том, как было бы хорошо, если бы она оказалась в эту минуту рядом со мной, тишина ускорила мое дыхание, а волнение сделало его сбивчивее. Если даже закричать, на набережной никто не услышит. На миг мне показалось, что рядом кто-то есть. Заставил себя обернуться. Ничего не видно, лишь в нескольких ярдах слышен плеск воды, накрытой тенью моста.
— Привет, — совсем рядом раздался голос Сильвии.
Я громко вскрикнул.
Руки Сильвии Лавинь мягко легли мне на плечи. Я судорожно вздохнул. Даже в смятении, когда сердце заколотилось так, что в ушах загудело, я уловил и воспринял запах, исходивший от нее. Очаровывающий аромат тела странным образом слился с испарениями грязной воды, так пахнут чайки. Она была взволнована и с трудом переводила дыхание.
— Ричард. Ш-ш-ш! Ричард, Ричард, — возбужденно произнесла она откуда-то из-под моего подбородка.
Глубоким вдохом я попытался прогнать испуг. При виде Сильвии во мне начала закипать злость.
— Как ты сюда попала? — почти раздраженно спросил я.
— Увидела тебя и спустилась, — сказала она.
— Зачем ты хотела меня видеть? — Я был несколько захвачен врасплох тем, что она так неожиданно возникла совсем рядом со мной. Даже в темноте она казалась такой знакомой, неестественно реальной, несмотря на то что последний раз я видел ее несколько недель назад. Только волосы у нее были уложены не так гладко, как обычно. Луна и огни на мосту позволили мне различить светлое летнее платье, обтягивающее грудь, и брови, два темных вопросительных знака. Гнев вспыхнул с новой силой, когда я вспомнил о ее предательстве. Она повернулась и, немного подавшись назад узкими плечами, начертила ногой на песке у самой кромки воды дугу.
— Что ты делаешь здесь, внизу?
Не ответила.
— Что, сочиняешь свои грязные романы про мою жену? — неровным голосом вскричал я.
— Нет, — промолвила она. — Я пришла…
— Зачем?
Мне показалось, что она занервничала. По лицу трудно было понять, что творится у нее на душе.
— Я жила с одним человеком.
— Не сомневаюсь! — насмешливо хохотнул я. — Эти добрые незнакомцы. Почему бы тебе не вернуться к бабуле Чарли? — сказал я и почувствовал, что моя грубость заходит уже слишком далеко.
Немного помолчав, она сказала:
— В Блумсбери я не вернусь.
— Неужели?
— Я не хочу на каждом углу встречаться с тобой и с Лелией. Теперь, когда вы поженились. Не хочу себя заставлять. Я хотела попрощаться.
— Где Лелия?
— Она… с другом, — бесстрастно сказала Сильвия.
— С кем? — громко выкрикнул я, разворачиваясь к ней. — Где она?
Сильвия посмотрела на меня с сочувствием и, выдержав паузу, сказала:
— Она с…
— С кем? — мой крик понесся над темной поверхностью воды и растворился вдалеке.
Сильвия отвернулась к реке. Она собиралась с духом.
— Не знаю, как сказать, — она вся напряглась и то и дело посматривала вверх, туда, где проходила набережная.
— Что? — яростно зарычал я.
— Она с другим человеком.
— Чего-чего? — мне показалось, что мой голос прозвучал, как крик тюленя. — Что? Как? С кем?
Она покачала головой.
— Господи, — прошептал я. В голове стало свободно, мысли распались на отдельные фрагменты, как будто прошли через мясорубку ужаса ее слов. — Откуда ты знаешь?
— Я была… Мы с ней были очень близки, — сказала Сильвия.
— Где она сейчас? — Голос мой сделался высоким и задрожал. Меня разозлило то, что я оказался в положении, когда вынужден был выпрашивать у нее сведения, а она при этом еще решала, отвечать или нет. Захотелось схватить ее за плечи и встряхнуть или как-то иначе наказать этого наделенного волшебным ароматом взволнованного вестника.
Она скрестила руки на животе. Мне было видно, как дрожала ее рука, прижатая к боку.
— Она не хочет тебя видеть, — покачала головой Сильвия.
— Но где она находится?
— Я не знаю. Мне известно только, что они вместе.
— О Боже. Нет! — простонал я и пнул камень. Чуть не сломал себе большой палец. Вскрикнул. Устыдившись, пнул его еще раз, выворотил из грязного песка и скатил в воду. — Прошу тебя, Сильвия, скажи, кто это.
Она покачала головой.
— Я не знаю…
— И даже имени его ты не знаешь? — я схватил ее за руку и придвинулся к ней вплотную. Под маской спокойствия она, похоже, начала волноваться.
— Не знаю, честно…
— Ты его ни разу не видела? — Воображение нарисовало карикатурный портрет здорового красномордого мужика.
— Ни разу. Правда.
— Черт, она же беременна… так что, ты вообще о нем ничего не знаешь?
— Я знаю только о ней. Она очень… очень увлечена…
Я уставился на нее. Мне ужасно захотелось двинуть что-нибудь ногой или вмазать кулаком в ограду.
— Так, значит, это серьезно.
Сильвия, поколебавшись, сказала:
— Думаю… наверное, да.
— О Господи.
— Ричард.
— Она беременна.
— Мне кажется… они собирались вместе воспитывать ребенка.
— Ну уж нет. На это пусть не рассчитывают! — Ущемленный собственнический инстинкт заставил меня взорваться. — Господи! Слушай, отведи меня к этому ублюдку. Этот ребенок мой. Я имею право видеть его тогда, когда захочу, и Лелия меня не остановит.
— Нет.
— Значит, она меня… бросила. Господи Боже. Черт.
На глаза навернулись слезы, и я начал всхлипывать, громко и жалко. Ясность, с которой явился мне образ Лелии (спокойное лицо Лелии, моей Лелии, беременной, веселой, угрюмой, просто Лелии; Лелии, которая принадлежала мне!), породила желание зареветь, как зверь, оттого что я не мог поверить в происходящее. Она моя. И останется моей. Благословение было дано мне свыше, и я не допущу, чтобы что-то изменилось. Какая-то похотливая сволочь обманом соблазнила ее, забила ей голову. Я чувствовал себя так, словно она умерла, словно ее отняли, украли у меня, хотя я любил ее больше жизни. В эту секунду я дернулся, потому что над нами пронеслась тень, чайка, которой вздумалось полетать ночью.
— Ты ее романтизируешь, — сказала Сильвия. Голос у нее сделался тоньше, отчего сразу она стала казаться незащищенной, ранимой.
— Что ты имеешь в виду? — резко спросил я.
— У всех есть свои недостатки. Даже у Лелии.
Злость снова закипела.
— Замолчи, — в сердцах бросил я. — Оставь ее в покое, слышишь? — Мне на память пришли отдельные слова из ее романа и впились в мозг, как пиявки. — Индийцы. Утонченные викторианские девы в ночных сорочках, душащие друг друга. Младенцы, катящиеся с лестницы. Меня от всего этого тошнит.
— Что с тобой происходит? — просто спросила она.
— Она бросила меня, — произнес я, мои плечи вздрогнули и поникли. Я пошел, понурив голову, переступая через камни и использованные пластиковые стаканы. Босыми ногами я ощущал мокрый песок, превращающийся в грязь, ускорив шаг, начал спотыкаться о разбросанные кирпичи и камни, почувствовал, что разбиваю подошвы в кровь, отчего на душе стало легче. Сильвия, которая пошла за мной, тоже споткнулась и слегка потеряла равновесие, но успела схватить меня за руку. Я не стал противиться, и к стене набережной мы подошли вместе. За нашими спинами берег реки огласился воем сирены.
— Ненавижу я это, — сказала Сильвия.
— Что?
— Видеть, как мужчина плачет, — пояснила она и неуверенно положила руку мне на плечо. — Это так грустно.
— Извини, — буркнул я. — Я просто…
— Мне скоро нужно будет возвращаться, — нервно проговорила она.
— Да, да, — сказал я и сел у огромной бетонной тумбы, опутанной цепью, которая уходила на набережную. Обхватил голову руками. Под кожей головы пальцы прощупали кости черепа, твердого, старого человеческого черепа. Вот, значит, как чувствуют себя брошенные женами мужчины. Мелькнула мысль о самоубийстве. Вокруг было так тихо, а на душе так тоскливо. Передо мной поблескивала, набегая грязной водой на берег, Темза. По мосту Миллениум, крепко обнявшись, шла парочка.
— Пожалуйста, не плачь, — сказала она. — Я этого не перенесу. Извини, что я… Извини, что это я принесла тебе эти вести. Ты потрясающий человек, Ричард. И всегда таким будешь. И будет у тебя ребенок… наверное, самая важная вещь в твоей жизни. Никуда он от тебя не денется…
— Мне нужна Лелия, — механически произнес я глухим голосом, который, казалось, не принадлежал мне. По мосту с грохотом пронесся поезд. Я не сводил глаз с мрачной покачивающейся воды посредине реки. Надо мной широко раскинулось небо, такое небо бывает, когда выезжаешь на природу, только сейчас оно было замарано огнями города.
— Я знаю, — сказала Сильвия. — Я все понимаю.
Она обняла меня и прижала к груди так, что ее ключица надавила мне на закрытые глаза и я не видел ничего, кроме красных пятен, поплывших перед глазами, и абсолютной черноты, породившей миллионы звездочек, ринувшихся навстречу мне, как на взбесившемся скринсейвере, но за всем этим черной тенью бесконечной ночи расползался ужас того, что происходило.
Я почувствовал, что она гладит меня. Я позволил ей себя погладить. Вспомнил, как мать, склонившись надо мной, убирала у меня со лба волосы, когда я, жалкий и несчастный, лежал в кровати и не мог заснуть от гриппа.
Из глаз снова потекли слезы. Я не стал их прятать.
— Где мне ее найти? — спросил я.
Она, продолжая гладить меня, покачала головой. Виновато посмотрела на меня, и эта ее женская готовность все понять и смириться взбесила меня, привела в ярость, так же всегда было и с Лелией, хотя в душе я всегда был благодарен им за это.
Начинающий терять тепло ветер не знал покоя. Но я снова ощутил ее запах, и он опять на долю секунды околдовал меня, как электрический разряд в воздухе, который мелькнул и тут же исчез. Но одновременно с этим запах показался мне неприятным, словно его слишком долго берегли, отчего он потерял силу. Эта смесь отвратительного и приятного захватила меня. Сильвия продолжала прижимать меня к себе, и у меня из груди все еще вырывались жалкие судорожные всхлипывания.
Она что-то шептала мне, обдавая ухо жарким дыханием, пыталась подбодрить и успокоить, и я был благодарен ей за слова, которые ворвались в круговерть моих отчаянных мыслей. Мы вместе прислонились к стене под нависшей набережной, обнялись и стали говорить. Ее рука лежала у меня на груди. Я вслушивался в ее тихий успокаивающий шепот, и один раз мне показалось, что она тоже заплакала. Сильвия прижала мою большую мокрую звериную голову к плечу, и, когда я шевелился, чувствовал на ухе теплое и влажное.
— Я любила тебя, — сказала она после того, как мы поговорили обо мне, обо всем, что было у меня в жизни и что ждет меня впереди, обо всех моих смешных и дурацких поступках, о том, как мои слова по-прежнему смешат ее, о книгах, которые она недавно прочитала, и о мыслях у нее в голове.
— Ты много кого любила, — пробормотал я, подставляя голову под ее руки. Она продолжала гладить меня по спине, по напряженным плечам, кончиками пальцев коснулась шеи. Я с ужасом понимал, что это удовольствие так же быстротечно, как и все то, что приносит успокоение. Ко мне так давно никто не прикасался, что я оставался неподвижным, думая лишь об одном — чтобы облегчение, которое я испытывал в ту минуту, длилось как можно дольше, успокаивало мой разум. Ее пальцы касались позвонков у меня на спине, один за одним, посылая легкие электрические разряды по всему телу; неразборчивый и спокойный, как колдовское заклинание, шепот теплом опускался на кожу.
Она посмотрела на меня. Ее лицо было очень близко. Я слышал, как легкая волна, накатывая на берег, шуршит галькой. Ее рот оказался прямо у меня перед глазами. Возникло желание податься вперед, потянуться к нему губами, но я осадил себя.
— Ты плачешь? — спросил я.
Она покачала головой.
— Не надо, — я обнял ее крепче, погладил. — Прошу тебя, не надо.
— Мне так грустно, — сказала она. — От всего этого.
— Не надо.
— Но это так, — вздохнула она и склонила голову мне на плечо.
— Я понимаю…
Она поцеловала меня. Ее губы прижались к моим. На них был песок, он даже царапнул мои зубы.
— Нам нельзя, — напомнил я.
— Можно.
Юбка мокрыми складками спуталась у нее между ног. На ее бедрах налип песок, пересеянный мелкими камешками. Она наклонилась немного в сторону. Контур ее челюсти, ровный и изящный, показался мне божественно красивым; припав ко мне, она лежала, словно мертвая, и казалась прекрасной.
Я почувствовал ее зубы на нижней губе, ощутил неожиданную влажную прохладу ее рта. По всему телу пробежала волна феромонов, заставив меня снова всхлипнуть, когда я подумал о Лелии.
— Ш-ш-ш, — произнесла она, поглаживая меня. — Ш-ш-ш, — ее губы коснулись моего уха, и мы обнялись. Ее рука скользнула на мое бедро. Я снова расплакался, забормотал что-то невнятное.
Она смотрела на меня. Рот приоткрыт, между темными губами — еще более темный провал идеальной овальной формы. На фоне бледной кожи он казался похожим на кроваво-черную фиалку. Я впился в нее глазами. Я дышал через нос, грудь то вздымалась, то опадала, а я беззвучно плакал, проклинал все на свете, еле сдерживал приступы смеха. Где-то в глубине зародился жар и стал распространяться по телу. Я отпрянул. Форма ее рта вызвала в памяти призраки прошлого. И тут мы впились друг другу в губы, во рту я почувствовал ее слюну, чистую и холодную. Я подумал, что наступает агония. Мне захотелось исторгнуть из себя боль.
— Мы ведь тоже любим друг друга, — произнесла она.
Я что-то пробормотал, такие звуки я обычно издавал, обдумывая фразу, которую собирался произнести вслух.
— Дело не только во мне, — сказала Сильвия. Она плакала. Воздух был пронизан запахом ее кожи. — Не я одна виновата. Кое-кто еще. Не все так…
— Но… — нахмурился я, не понимая, о чем она говорит. — Что…
— Не сейчас.
Мы легли. Под спиной я почувствовал твердую и мокрую каменную поверхность. Вокруг нас валялись груды речной гальки и осколков камней. Ее горячие приоткрытые губы надвинулись на меня и легко коснулись моего лица. В ее волосах был песок. Мы уже двигались, переплелись телами, тяжело дыша, губы искали шеи; она вскрикнула, лизнула меня, я стал целовать ее в губы, плечи. Она подтянула меня к себе. Я раздвинул ее бедра. Она прижалась ко мне. Я погрузился в теплое, мягкое. Это произошло так быстро, что я не сразу понял, что произошло. Момент слияния был похож на внезапное погружение в воду — мгновенное и горячее скольжение. Я словно летел в пропасть. Блаженство блеснуло, на неимоверно короткое время задержалось и излилось через переплетение искрящихся нервных окончаний.
Я вскрикнул.
Вдоль противоположного берега, переливаясь огнями, плыл прогулочный катер, до нас долетели отдаленные раскаты музыки и крики веселящихся пассажиров. Переводя дыхание, я прижал Сильвию к себе и стал растирать ей плечи так энергично, словно эти движения были вызваны непроизвольным спазмом, по рукам и ногам у меня все еще проходили судороги.
— Пойдем, — прошептала она.
— Куда? — недоуменно спросил я, поворачиваясь к ней лицом. Уткнулся в шею. Вдруг я почувствовал себя так, как будто из меня выпили все соки, и задрожал. Мысли стали возвращаться к действительности. О Боже, подумал я. Лелия. Лелия меня бросает. К горлу подкатил комок.
— Ричард, прошу тебя, давай уйдем отсюда.
— Куда мы пойдем?
— Куда угодно. К тебе. В какое-нибудь… новое место.
— Господи, — сказал я, поглаживая ее. — Сильвия. Знаешь…
— У нас все получится, — сказала она и посмотрела на меня глазами, которые в темноте показались мне огромными. Я смотрел в эти глаза как зачарованный, безвольно приоткрыв рот, и пытался прогнать чувство стыда, которое уже начало проклевываться где-то на задворках сознания. У меня было такое ощущение, будто я проснулся после длительного запоя, и все проблемы стали опять наваливаться на меня, всверливаться в мозг с напором бура.
— Время настало, — продолжала она. — Мы сможем.
Она поцеловала меня в подбородок, потом в щеку, в ухо и снова крепко прижалась к выступам и узлам под моей шеей, отчего мне стало немного спокойнее, и, пока мы сидели, прижавшись друг к другу разгоряченными телами, и нас обдувал прохладный ночной ветер, мне на секунду подумалось, что, может быть, мы все-таки смогли бы с ней сбежать. Я мог бы обмануть судьбу и рискнуть с этой вероломной и прекрасной чудачкой, которая ускользала от меня, влекла к себе, возбуждала во мне желание. Я больше никому не был нужен. Терять мне было нечего, я мог бы попытать счастья с ней.
— Давай сделаем это, — настаивала она с решимостью человека, готового на отчаянный поступок.
Я не сразу ответил.
— Нет.
— Почему? — ее губы приоткрылись.
— Ты ведь и сама знаешь, — я поцеловал ее. Рот Сильвии остался недвижим. — Твоим я никогда не буду, а тебя я уж точно никогда не смогу назвать своей.
— Сможешь, сможешь…
Я рассмеялся.
— Чарли, — начал перечислять я, — Питер Стронсон, МакДара…
— Чарли просто… очень хорошо ко мне относился, — стала защищаться она, двинула ногой, погладила меня по груди. — Но это было давно.
— Неужели?
— С Питером Стронсоном мы почти не знакомы. МакДара…
Я засмеялся.
— Думаешь, меня интересует МакДара? — Она сжала пальцами мое запястье.
— Уж не знаю, — сказал я.
— Мне нужно было… привлечь МакДару, чтобы… добраться до тебя, попасть в мир, в котором живешь ты и… — Она замешкалась.
— И кто?
Я ощутил приступ тошноты. Сильвия спокойно смотрела на меня и молчала, губы ее по-прежнему были слегка приоткрыты.
— У тебя это не в первый раз, не так ли?
— Не надо… — прервала меня она. — Не надо сейчас об этом говорить.
— У тебя же всегда было что-то на закуску, какой-нибудь Рен, какой-нибудь МакДара. Тебя ведь всегда окружают дурачки, готовые на все ради тебя.
— Или друзья.
— В любой стране, — я усмехнулся, — тебе найдется кому помочь.
Она, как это часто бывало, ничего не ответила. Стала поглаживать меня по плечам, по груди.
— Когда у тебя это произошло с МакДарой? — спросил я, проклиная себя за то, что не нашел в себе силы прекратить этот разговор.
— В прошлом… году.
— Черт. До… до Рождества? До меня? Ты что, была знакома с ним до этого?
— Он и Катрин… помогли мне. Разрешили мне пожить у них несколько недель, когда я только приехала. У меня не было денег. Не было знакомых.
— Боже мой, — медленно произнес я. — Сильвия…
Темная, казавшаяся маслянистой с проблесками света вода осторожно подступала к нам, песок у меня под ногами сделался влажным.
— Мне нравилось, как его зовут. МакДара, — сказала она, всматриваясь в реку. — Мне нравится, как зовут некоторых людей… Лелия. Это так красиво. У побережья Коннемары[59]есть остров, на котором празднуют день святого МакДары. Он об этом даже не знал… В Ирландии праздники проводят под открытым небом.
Я представил себе, как она шепотом рассказывала ему разные истории, когда он лежал в ее объятиях. Остатки злости вскипели во мне.
— Рыбаки, проплывая мимо этого острова, погружают паруса в воду. Мне нравится представлять это себе.
— Не сомневаюсь, что они это делают. Ну и как он? Когда ты с ним сблизилась? — не отступал я.
— Этого… так и не произошло, — ответила она. На пляж выбежала собака и торопливо просеменила мимо нас. Откуда-то далеко сверху раздался крик ее хозяина.
— Ты с ним так ни разу и не переспала? — резко спросил я.
Она не ответила, только слегка качнула головой.
Охватившее меня чувство безмерной радости было таким, что я рассмеялся во весь голос. Ощущение триумфа оттеснило посткоитальное чувство вины на второй план. Я представил себе лицо МакДары и снова рассмеялся.
— А что еще мне оставалось делать, когда я приехала сюда? — спросила она.
— Что ты имеешь в виду?
— Не понимаешь? — она повернулась ко мне, лицо напряжено, внезапная вспышка гнева заострила ее черты, отчего она стала еще красивее.
— А что?
— Понятия «Чарли» и «дом» несовместимы, — резко сказала она. — Ты этого не понимаешь. Тебе этого никогда не понять. Ты, со своими корнийскими родственничками, со своей зарплатой, живешь в своем богемном мире. Любишь мамочку, — она бросила быстрый взгляд наверх, на набережную.
Я удивленно смотрел на нее, не зная, что ответить.
— Уедем вместе, — неожиданно успокоилась она.
— Сильвия, — смутился я. — Господи.
— По-моему, после всего, что было, у нас нет другого выхода.
— Но ты же знаешь… ты же знаешь, что из этого ничего не выйдет.
— Когда-то, — сказала она и, подумав, продолжила: — Я действительно любила… Я была готова на все, чтобы быть с вами двумя, с вами тремя. Жить с вами.
— Не надо, — от жалости у меня сдавило горло. В лицо дохнул холодный и вонючий соленый ветер. — С кем с тремя?
— Так ты не поедешь со мной? — спросила она. Голос ее был тихим и спокойным, хотя тело дрожало.
— Это не… из этого ничего не выйдет, — упавшим голосом ответил я.
— Тогда мне нужно прощаться, — сказала она мне в самое ухо и обхватила голову руками. — Но я не могу.
Она прижалась лбом к моему плечу, стала гладить, и теперь уже было ясно слышно, что она плачет. Пытаясь дышать ровно, она заговорила, но голос у нее дрожал:
— Я так надеялась, что после того, как я столько лет искала, наконец все могло бы…
— Слушай, — хрипло сказал я. — У нас ничего не выйдет, Сильвия. Я же такой… Извини. Зачем тебе такой придурок, как я? Ну зачем я тебе сдался? Я же не смогу… Не получится у нас ничего.
— Да. Я знаю.
— И я люблю Лелию, — добавил я.
— Я тоже, — сказала она.
— Чего? — не понял я и смущенно засмеялся.
Она не ответила.
— Что ты сказала? — нахмурился я.
— Я люблю Лелию Гуха. И она любит меня.
— Как это понимать? — переспросил я. В голове замелькали разные варианты, один безумнее другого.
— В прямом смысле.
— У тебя… э-э-э… ты поэтому о ней пишешь? У тебя к ней… какие-то чувства?
— Не чувства. Она — моя любовница.
— Что? — рассмеялся я от неожиданности.
— Она была моей любовницей, — сказала Сильвия, поднимаясь и разглаживая грязные складки юбки. — До сегодняшнего дня. Вот и все. Мы любовники. Были любовниками, — сказала она, и легкая торжествующая или просто взволнованная улыбка оживила ее лицо.
— Какого… черт…
Я в изумлении рассматривал ее фигуру. Она смотрела на меня. В темноте она была похожа на злого, но красивого ребенка. Голые, уверенно расставленные ноги казались очень тонкими. Эти глаза видели Лелию обнаженной, эти восхитительные губы прикасались ко рту Лелии в порыве некой лесбийской страсти. Она подарила ей призрачную иллюзию душевного родства. Это казалось жутким и выходившим за рамки разумения. Несмотря на потрясение, я почувствовал отголоски какого-то извращенного возбуждения. Пока я изумленно смотрел на нее и передо мной открывались все новые и новые уровни сознания, мне показалось, что земля покачнулась, потом покачнулась еще раз, а я все так же тупо смотрел на нее, не в силах произнести ни слова. Каким же я был дураком! Более тупых людей среди тех, кого я знал, мне не встречалось. Существуют такие факты, аспекты жизни, страшные правды, которые другие люди вполне могли осмыслить, но мой мозг просто отказывался понимать. Я был как ребенок, пускающий слюни идиот. Меня нужно заспиртовать в банке и отдать на изучение ученым. Я никому не мог верить. Мой мир вывернулся наизнанку, обнажив утробу и внутренние зубы. Это было все равно, что услышать от матери признание в том, что она — мужчина, или Рен вдруг сознался бы в том, что он когда-то был маньяком-потрошителем.
— Когда? — выдавил из себя я.
— Давно, — сказала она.
— Нет, — простонал я.
— Я должна была, — сказала она, — должна была быть с ней. Она была моей. Я ведь… я ведь люблю, любила ее. — По ее лицу пробежала тень. — Я всегда любила ее.
— Как и многих других, — язвительно вставил я.
— По-настоящему только ее, — заверила она.
Еще более глубинные уровни понимания медленно раскрывались передо мной, как будто в электронные мозги робота вводили новые данные.
— Я хотела ее, она хотела меня, — сказала она, и выражение ее лица тут же снова сделалось агрессивным и торжествующим.
— Так, выходит, я даже не… Оказывается, дело вовсе не во мне, — сказал я, еле сдерживая истеричный смех. — Значит, я нахожусь в самом низу в твоей системе ценностей. После всего, что было. После того как мы… — Мне вдруг открылась вся пошлость ситуации. Захотелось во весь голос рассмеяться. Во всем этом был какой-то мазохистский момент, который меня почти возбуждал, когда я представил себе этих двух женщин вместе, мне захотелось взять в руки свой член, хотя я готов был рычать от злости.
— То есть этот человек… — сказал я. — Это ты? — Я с трудом подобрал слова, чтобы выразить свое недоумение.
— Была только я, — спокойно и уверенно сказала она. — Я и она. Это все, чего мы хотели. Нам не нужен был… ты. Или кто-нибудь другой. Мы жили вместе, — тут она вздрогнула. — И за будущим ребенком мы ухаживали вместе.
По небу над Темзой прошло какое-то едва уловимое движение, навевающее мысли о приближении рассвета. Она бросила взгляд в сторону набережной.
— О нас она знала?
— Нет.
— И мужчины не было? — Мои разлетевшиеся в разные стороны мысли снова собрались, и на смену смятению пришло невыразимое облегчение. Я попытался осознать тот факт, что моя жена бросила меня ради моей же любовницы. В конце концов, она не связалась с каким-нибудь богатеньким подонком, любителем поживиться чужим добром. Сердце пронзило ощущение полного счастья в самой его чистой форме. — Лелия, — произнес я.
Лицо Сильвии исказилось болью. Она посмотрела на бетонные ступеньки, когда снова повернулась ко мне, была уже спокойнее.
— Я и тебя любила.
— Если честно, мою задницу.
— Правда любила, — повторила она.
— Господи, Сильвия. Столько месяцев…
— Я ухожу, — сказала она.
— Где она?
— Наверху, — сказала она и стала взбираться по высоким бетонным ступеням. Глядя на ее испачканную песком юбку, я двинулся следом за ней. Мои грязные кровоточащие ступни опускались на мокрые следы, оставленные ею. Так же когда-то давно, когда она была совсем другим человеком, я поднимался следом за ней на верхний этаж дома МакДары. Она указала на многоквартирную высотку, возвышавшуюся за кварталом домов, окружавших Тейт.
— Квартира 221.
— Спасибо, — сказал я.
— Я пойду.
— Да.
— Я правда ухожу, — она снова напряженно нахмурилась. — Теперь оставь меня.
Я кивнул. Немного помолчав, произнес:
— Хорошо.
— Заботься о ней, — напутствовала меня она. Последний отголосок запаха ее волос смешался с затхлым дыханием реки. — И о ребенке, так, как это делала бы я. Заботься о нем как положено.
Вдруг ее глаза наполнились слезами и тревогой.
— Да, — пообещал я. — Конечно.
Она заколебалась. Уткнулась взглядом под ноги.
— Я… Я сама выстроила свою жизнь, — посмотрела на меня. — Ты согласен?
Борясь с желанием, не теряя ни секунды, броситься к высокому дому, я ответил не сразу.
— Да, сама, — сказал я и обнял ее. Мы поцеловались.
— И я продолжаю это делать, — сказала она и взволнованно посмотрела на дом. — Теперь иди. И поспеши.
22 Ричард
Я мчался к высокому дому с такой скоростью, с которой еще никогда не передвигался с тех пор, как вышел из детского возраста, так мне не терпелось увидеть Лелию. Лишь у грязного бетонного входа я остановился, чтобы отдышаться. От волнения у меня было такое ощущение, будто мои внутренности покинули насиженные места и теперь свободно плавают внутри. Этот дом показался мне смутно знакомым. Я вспомнил, что когда-то давно что-то привозил сюда с Лелией и нас встречала старая индианка, лет под восемьдесят, которая была страшно рада видеть перед собой молодую пару влюбленных друг в друга людей, даже не пытавшихся скрыть, как им хочется поскорее с ней распрощаться, чтобы погулять вдоль реки и посидеть где-нибудь в кафе. Простота той жизни казалась давно ушедшей и какой-то размытой в памяти, как одна из версий детства.
Я нажал кнопку звонка. Ничего не произошло. Сердитая барабанная дробь сердца оглушала меня. До меня вдруг дошло, что все нормальные люди в такое время еще спят. Но я должен был увидеть Лелию. Позвонил еще раз.
Через какое-то время в домофоне раздался электрический треск и старческий голос произнес:
— Слушаю?
— Лелия дома? — спросил я.
Непонятно что делающий в любовном гнездышке Лелии пенсионер посопел и произнес:
— Сейчас она спустится.
Его слова сопровождались электронными потрескиваниями.
Я стал ждать, не зная, что и думать. Позвонил еще раз. Утренний свет только начинал рассеивать ночной мрак, птичьи голоса звучали удивительно громко и отчетливо в преддверии того благословенного момента, когда я снова увижу Лелию. Я попытался рассмотреть что-нибудь сквозь проволочную сетку, которой было затянуто окно на массивной двери, и, пока я всматривался, открылась дверь лифта.
Это была она, помятая, осунувшаяся, почти не одетая.
— Лелия! — закричал я и стал барабанить по стеклу. — Лелия!
В свете флуоресцентных ламп было видно, что ей плохо. Она часто и тяжело дышала, стонала. Ее вел под руку маленький сухой старик в пижаме. Она согнулась и стала опускаться на пол. Пенсионер встал на колени и неуклюже попытался поддержать ее за плечи, за что я всегда ему буду благодарен. Я снова стал звать ее. Пошатываясь, она подошла к двери.
— Милая, — захрипел я, когда она упала мне на руки. — Черт! Господи!
— Ричард, — простонала она. — Рич…
Договорить ей помешали слезы. Рот ее приоткрылся, и она стала сползать вниз.
— Это ребенок? — спросил я.
— Тебя так долго не было.
— Она мне только что сказала. Господи, — воскликнул я, целуя ее в шею, прижимая крепче к себе, целуя мокрое лицо, ухо, чувствуя себя на седьмом небе от счастья, хоть и понимая, какую муку ей в ту секунду доставлял ребенок. — Я ее муж, — сказал я старику, который стоял, совершенно сбитый с толку, и смотрел на нас. — Спасибо, — добавил я и хлопнул его по плечу, потом схватил его руку и стал трясти изо всех сил. — Спасибо.
Он кивнул. Бросил последний взгляд на несчастную Лелию, развернулся и, понурив голову, пошел к лифту.
Лелия стонала и старалась удержаться за меня, чтобы не упасть, отчего я сам чуть не терял равновесие. Иногда она на несколько секунд замолкала и даже переставала дышать, и тогда я крепче прижимал ее к себе, начинал разговаривать с ней, машинально гладил ее сильными повторяющимися движениями, на что она отвечала низкими утробными звуками, криками и проклятиями. Из проезжающей мимо уборочной машины выглянул водитель и поехал дальше.
— Вы «скорую» вызвали? — быстро спросил я.
Она кивнула и поморщилась.
— Сосед.
— Все хорошо, дорогая, все хорошо, — стал успокаивать ее я.
— Я так рада, что ты пришел, — едва слышно сказала она, не поднимая головы. — Ты мне был очень нужен. Ричард, ребенок… сколько уже недель?
Она подняла на меня умоляющий и беспомощный взгляд. Я не понял, что она имеет в виду.
— Где же они? — нетерпеливо сказал я, глядя по сторонам и прикидывая, смогу ли я сбегать за своей машиной. — Давай вызовем такси.
Пока я кое-как набирал нужный номер на мобильнике, она отвернулась к двери, я погладил ее по спине. Ниже по улице показалась машина с оранжевым огоньком, она притормозила, чтобы развернуться.
— Такси! — отчаянно закричал я. Вставил в рот пальцы и пронзительно свистнул. Оранжевый огонек погас, и машина подъехала к нам.
Я торопливо усадил Лелию на заднее сиденье, не обращая внимания на недовольные взгляды водителя, и включил кондиционер на холодный воздух.
Она сползла с сиденья на пол, цепляясь за меня, так что мне пришлось скрючиться рядом с ней. Она отвернулась и прислонилась к сиденью. Застонала.
— Знаю, знаю, — сочувственно сказал я. — Дорогая, ты такая смелая. Держись. Хорошая девочка. Такая смелая. Скоро приедем.
— Она бросила меня, — сказала Лелия, глядя на меня безумными глазами.
— Кто? А… — Мимо нас в противоположном направлении пронеслась машина «скорой помощи».
— Она… понимаешь… она бросила меня там. Одну. Не дала мне позвонить в больницу.
— Что?
— По-моему, она тоже не позвонила. Она могла же убить… ведь еще слишком рано… Как больно.
— Она знала, что ты рожаешь?
Лелия издала длинный хриплый крик вместо кивка, вжавшись головой в сиденье.
— Воняет. От этого сиденья воняет, — превозмогая боль, она повернулась ко мне.
Я поцеловал ее заплаканные щеки, обнял под мышками и вжался между ней и сиденьем. Мне хотелось слиться с ней телом, чтобы принять ее боль на себя.
— Она тебя оставила в таком состоянии? — прошипел я.
— Да, — ответила она.
Мои мысли, запущенные в одном направлении переменчивыми представлениями о реальности Сильвии, теперь с такой же сумасшедшей скоростью понеслись в обратную сторону, отчего я еще раз содрогнулся.
— Она сумасшедшая, она сумасшедшая, — мой голос едва не сорвался на фальцет.
Лелия собралась и, прижимаясь ко мне, села на корточки, схватила меня за руку, когда машина поворачивала. Водитель включил «Радио «Кэпитал»».
— Милая моя, мы уже подъезжаем, — говорил я, крепко сжимая в своих руках ее тело, стараясь облегчить ей вес, просунув свои колени у нее под ногами.
— Она сумасшедшая.
— Я знаю, я знаю.
— Почему тебя так долго не было? — Глазами, полными волнения и отчаяния, она посмотрела на меня. Ее голова билась о мое плечо.
— Она только что мне сказала.
— Где ты был?
— У реки. С ней…
— У реки? — бездумно переспросила она, новый крик уже готов был исторгнуться из нее.
— Она обманула меня. Но она уже ушла, ушла. Все. Больше мы ее не увидим.
— Мне было так страшно.
— Слышишь? Ее больше нет. Я больше никогда не буду с ней разговаривать. Она… мы больше ее не увидим, клянусь тебе. Извини.
— Обманула… — простонала она и покачнулась.
— Я знаю, любимая, — я снова подхватил ее под руки. — Она…
— Это ты обманул, — морщась от боли, слабым голосом сказала она. — Ты мне… изменял. Ты чертов… ты… Я была беременна.
— Да, — покачал головой я. — Извини…
— Чем вы занимались у реки? — гневно спросила она, цепляясь за меня руками. Глаза у нее широко раскрылись и казались испуганными.
— Я… — сказал я, посмотрел на пол, потом на нее, почувствовал, как на шее дернулся кадык. Она видела меня насквозь, даже несмотря на ужасную боль, она видела меня насквозь.
— Чем? — выкрикнула Лелия.
— Извини меня, — пробормотал я. — Это больше не повторится. Ее больше нет.
Она повернулась ко мне. Рот раскрыт. Кожа, и так мертвенно-бледная, побелела еще больше.
— Она для меня ничего не значит, — в отчаянии затараторил я. — Она просто скучная маленькая…
Лелия громко рассмеялась. Ее безудержный дикий смех превратился в скорбный вопль.
— Нет, — она отвернулась. Еще раз хохотнула и заплакала. Потом резко повернулась ко мне и до боли сжала мне руку. Глаза ее как будто смотрели сквозь меня. Расслабленные губы сложились в непривычную и пугающую фигуру. Она громко застонала и согнулась пополам, выгнув спину, как кошка.
Ее дыхание сделалось шумным.
— Не может быть, — наконец произнесла она напряженным тоненьким голосом.
— Извини, — сказал я и обнял ее. Погладил по спине. Въезжая на остановку перед больницей, машина качнулась, и я обхватил ее за талию. — Лелия. Любимая. Ты ведь тоже… — начал было я, но осекся. — Слушай, нельзя сейчас это обсуждать. У нас еще будет время об этом поговорить.
— Замолчи, замолчи! — закричала она. — Не сейчас. Ах ты подлец. Не сейчас.
Водитель открыл дверь, и Лелия качнулась к выходу.
Деторождение оказалось процессом, откровенная жестокость которого требовала уединения в лишенном окон помещении, где эхом стонов Лелии по коридору разносились крики других агонизирующих женщин. Мою любимую подключали к датчикам, обвязывали ремнями и просвечивали; ей делали уколы, в нее влезали руками и засовывали в рот лекарства, пока удивительно допотопные машины выплевывали бесконечные ленты исчерченной миллиметровки, а австралийцы в белых халатах с клипбордами в руках то входили в палату, то выбегали из нее, и только лишь невозмутимый доктор, похоже, точно знал, какие из слабых толчков сердца эмбриона и внезапных выделений можно было считать нормальными, а какие — проблемными, в то время как сама Лелия на протяжении всей серии пыток то тряслась, то блевала.
В полубессознательном состоянии она кричала, поминая то своего ребенка, то какого-то другого ребенка, непонятного младенца из ее прошлой жизни, и какое-то время я с волнением задумался, а не наделяет ли она человеческими чертами тех недоразвитых зародышей, которых ее тело отторгло раньше. Она проклинала Сильвию, но уже в следующую секунду звала ее; она проклинала меня, сообщая мне, что я лжив, жесток и вообще свинья; она грубо отталкивала меня; она тянула меня к себе и говорила, что любит меня и всегда любила больше всех. Она осыпала Сильвию, меня, нас с Сильвией и даже свои собственные отношения с ней такими ругательствами, которых я никогда раньше от нее не слышал, — это был какой-то чужой язык, средневековый, примитивный и дикий. Когда боль становилась такой сильной, что она впадала в ступор и переставала узнавать медперсонал и меня, на нее снисходило спокойствие, и тогда она начинала бормотать что-то бессвязное про своего отца, про кого-то по имени Агнес. Она произносила и такое, к чему я прислушивался внимательнее, просила прощения и обещала не оставлять ребенка. Из ее отрывочного и монотонного бормотания, похожего на молитву, можно было понять, что она пыталась дать какую-то клятву.
Я не сводил с нее глаз, как зачарованный, следил за ней с восхищением и удивлением. Она представлялась мне троянцем, мужественным воином, наделенным прекрасным диким и чистым духом. Иногда, отвлекаясь от ее печального состояния, я думал, что вот мы, Лелия Гуха и я, находимся вместе в одной комнате, и это все, что мне было нужно. Я начинал исступленно молиться всем богам, которых знал, начиная от бородатого старика и столь противных ему лесных духов и местных божков, почитаемых моими корнийскими соотечественниками, и заканчивая неким размытым облаком концентрированной мысли, которое рождалось, когда я попадал в трудные ситуации. Я немного поплакал. «Спасибо», — сказал я, и тихонько оттарабанил коротенькую молитву во спасение ребенка.
Однако до сих пор к ребенку у меня еще не сформировалось какого-то определенного отношения. Мне не хотелось, чтобы Лелия все свои чувства отдала ему. Я понимал, что чем дальше ее тело выталкивало его из себя, неумолимо подгоняя гормонами, тем все более слабыми становились мои позиции в ее сердце.
Несмотря на волнение за судьбу неведомого создания, подогреваемое перешептыванием врачей по поводу его неровного сердцебиения и ранних сроков Лелии, хоть я еле сдерживал слезы, поддерживая ее голову, когда она, вся в крови и покрытая пятнами, блевала над картонной коробкой, оборонительную стену моего сострадания прошили несколько нездоровых, неуместных и эгоистичных мыслей об организации похорон и необходимости покупать цветы. Бессмысленное и какое-то мелкое чувство досады брало меня, когда я думал о том, что мой ребенок родится не как планировалось, в самом центре Лондона, а здесь, на южном берегу. Еще более не к месту искаженное потугами лицо Лелии в один из тех моментов, когда я безжалостно отвлекся от ее мук, напомнило мне пушистого щербатого монстрика из утренней детской телепередачи. Но хуже всего то, что у меня возникло сильное, почти маниакальное желание взять отложенную кем-то из подсобных рабочих больницы газету и посмотреть, чем сейчас живет белый свет, такой огромный и прекрасный. Время от времени мне просто хотелось уйти куда-нибудь подальше от этой затянувшейся драмы и часок соснуть.
Она тужилась, громко и зло стонала. Группа врачей теперь собралась у одного края кровати, а я, стоя с противоположной стороны, как рулевой, поддерживал и направлял ее. Потом я увидел нечто удивительное. Крошечная головка, пучок спутанных темных волос на человеческом скальпе показался на секунду и тут же снова исчез из вида. Это был человек, живое существо мелькнуло между ног Лелии. Врач поднес к ее влагалищу инструмент, похожий на вантуз, быстрым движением они безжалостно рассекли ее измученную плоть, на открытую рану хлынула кровь, она дернулась, и на свет снова показался этот человечек, под истошный крик Лелии он выскользнул из нее на руки склонившихся медиков, задержавшись в плечах… и у него было лицо. Я был не то что удивлен, а поражен тем, что у него было полностью сформировавшееся человеческое лицо. Я наклонился к Лелии, которая часто и мелко дышала и, как ни странно, улыбалась. Затем, пока врачи возились у раковины с полотенцами и какими-то трубками, время как будто сжалось, а потом оказалось, что в палате появился еще один человек. Родился новый человек. Слишком маленький и раньше положенного срока, но здоровый. Я изумленно смотрел на него, никак не мог поверить в то, что у него настоящее лицо, что он оказался не квелым лысым и безликим розовым непонятно чем, а вощеным живым существом, да еще и с лицом. У него были брови, словно нарисованные фломастером на сморщенном лбу, рот в виде крохотного фиолетового бутончика, мокрые вьющиеся волосы и маленькое гладенькое пузико, которое часто сжималось. У него было такое красивое лицо.
Ребенка дали в руки Лелии. Она стала матерью. «Черт», — подумал я. В моих глазах она вдруг повзрослела, переродилась, надо мной медленно возносилось высшее существо, наделенное женскими чертами, почти потерянное мною; суть, обладающая силами, недоступными мне. Но здесь же был и некто третий, уже не связанный непосредственно ни с кем из нас, который изменил все вокруг. Это была девочка. Я расплакался, как большой теленок, во весь голос, я плакал оттого, что видел перед собой такую идеальную красоту.
23 Ричард
«Индианка должна была возвращаться в город, в котором над могучей рекой звонят колокола. Ночью она пришла ко мне и теперь стояла передо мной, прекрасная, как распустившийся цветок. Я прижалась лбом к ее щеке, у меня уже не оставалось сомнений, что маленький розовый кусочек ее сердца принадлежит мне. Ее горящие глаза, два продолговатых камня на песке, разожгли во мне огонь, когда мы шептались. Мы поклялись друг другу, что, какая бы судьба ни выпала на нашу долю, мы всегда будем вместе. Больше я с этой маленькой индианкой не встречалась. Ее вернули домой, а меня отослали прочь. Я всегда молилась, чтобы снова с ней встретиться, когда мы вырастем, превратимся в леди, оторвемся от покинувших нас родителей, чтобы искупить все свои грехи. А если выйдет так, что она не вернется ко мне, тогда я стану тем, кем была она, заживу ее жизнью в Лондоне, городе поэтов, парков и тайн. Мы заживем с ней одной семьей, она и я».
Последнее электронное письмо, присланное мне Сильвией, я удалил. И постепенно в моих воспоминаниях она превратилась в миф, воплощение чего-то волнующего и тайного, оставшегося в прошлом. Имя ее упоминалось лишь изредка, ядовитым шепотом во время ночных ссор в качестве последнего аргумента. Гнев и печаль Лелии были столь велики, что она упрямо избегала разговоров о Сильвии, так что подробности измен друг друга мы узнавали только во время конфликтов. Со временем Сильвия превратилась в полустертое воспоминание, отодвинутое на второй план существованием кого-то намного более приятного и нового.
Ни Лелия не могла полностью простить мне измену, ни я ей, отчего мы оба испытывали в душе гордость. Наша совместная жизнь, по большому счету вполне счастливая, всегда будет нести на себе эти шрамы, эту печать зрелости и опытности, которые будут то разгораться, то затихать лишь затем, чтобы вернуться с новой силой. Дружба с МакДарой так и не возродилась. Мы пару раз случайно встречались, но во время этих встреч лишь бормотали какие-то колкости, исподлобья глядя друг на друга. Я его презирал и скучал по нему. Для меня, как для какого-нибудь юнца, очень много значил тот факт, что у него с его ТЖ так и не сложилось. Впоследствии я наблюдал за тем, как он постепенно обрастал жиром и богател. Стронсон стал относиться ко мне настороженно, однако совершенно открыто подбивал клинья к новенькой сексапильной сотруднице, которую посадили просиживать место в редакции отдела искусств. Загадочный Чарли, после того как его покинула любимая, похоже, исчез навсегда; окна бабушкиной квартиры на Эндсли-стрит уютно светились; когда я поднимал на них глаза, направляясь к Юстону, они всегда были закрыты шторками.
Впрочем, присутствие Сильвии в нашем доме начинало чувствоваться острее в те дни, когда Лелия уходила в себя, когда я подмечал у нее на лице определенное мягкое выражение задумчивой доброты, не похожей на ту, которую вызывала дочь, и тогда я с замиранием сердца начинал гадать, не вспоминает ли она ее. Порой Сильвия вызывала у меня жалость. Хоть я и раскаивался в том, как поступил с ней, несмотря на то что она обошлась с Лелией так жестоко, мне хотелось верить, что она живет под сенью ангела-хранителя. А иногда у меня возникало страстное желание отплатить ей сполна. Изредка она являлась мне в часы полуночные, и тогда в мыслях я чувствовал ее запах, водил руками по узкому бледному телу, хотел ее.
Годы тянулись, иногда по утрам, когда бесконечная кормежка не давала нам заснуть, мы с Лелией прикасались друг к другу над бесформенным посапывающим комочком под звук бросаемых в почтовый ящик газет, и косые лучи солнца падали на кроватку. Иногда Лелия тянулась над ней, чтобы поцеловать меня, иногда на свой обычный пуританский манер бранила меня за то, что я весь день валяюсь на кровати и бездельничаю. Простая возможность всегда видеть рядом с собой Лелию и малышку, смотреть на их волосы, глаза, слышать дыхание казалась мне чудом, и такое же чувство у меня вызывали такси на площади, гортанный голос Люси, обрывки фраз, доносившихся с улицы; все это очень трогало меня и было тесно вплетено в нашу историю и повседневную жизнь. Постепенно Сильвия становилась все менее и менее реальной. Единственное, что от нее осталось, — это ее тревожная тень, призрак призрака.
24 Ричард
Мне довелось еще раз увидеть Сильвию Лавинь. Это случилось следующей весной в Париже. Однажды утром мы отправились на прогулку в сад Тюильри. Лелия осталась читать у пруда, и, когда я поднял нашу пухлощекую дочь высоко-высоко и стал носить ее под лимонными деревьями на вытянутых руках, невдалеке мелькнул ее затылок. Я остановился как вкопанный, на секунду засомневался, действительно ли это Сильвия, но ее волосы, вздрагивающие при каждом шаге, словно невидимыми крохотными крючками впились в мою кожу, заставив ее покрыться мурашками.
Потом я понял, что у нее в руках ребенок. Она положила его на плечо, и это миниатюрное создание, закутанное с ног до головы, покачивалось в такт ее движениям. Я успел различить его лицо. В полузакрытых глазах я сразу же узнал знакомое выражение. У меня перехватило дыхание. Ребенок был точной копией моей собственной дочери, такой, какой она была сразу после рождения, впрочем, все новорожденные дети похожи. Я проводил их взглядом, пока они не скрылись за деревьями, потом отвернулся, и мы ушли из парка.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Профессор Калькулус — персонаж популярных французских комиксов о приключениях Тинтина.
(обратно)2
Саутхолл — лондонский район около аэропорта Хитроу, где в основном живут выходцы из азиатских стран.
(обратно)3
Телевизионный американский сериал, выходивший на канале NBC.
(обратно)4
Сеть ресторанов в Великобритании.
(обратно)5
Английское комедийное телешоу.
(обратно)6
«Мой брат и мой двойник».
(обратно)7
«К читателю». «Цветы зла».
(обратно)8
Имеется в виду король Эдуард VII, правление которого в 1901–1910 гг. характеризовалось отходом от строгой викторианской морали.
(обратно)9
Привлекательно некрасивая женщина (фр.).
(обратно)10
Тринити-колледж в Кембриджском и Оксфордском университетах.
(обратно)11
Марка английского курительного табака.
(обратно)12
Центральные графства в Англии.
(обратно)13
Пригород Лондона.
(обратно)14
Алиса Лидделл — девочка — прообраз героини сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «В Зазеркалье».
(обратно)15
Французская писательница, автор романов «Любовник», «Хиросима, любовь моя» и др.
(обратно)16
Буквально — «новый роман» («антироман») (фр.).
(обратно)17
Марка итальянского вина.
(обратно)18
Напиток из горячего молока, вина, эля или других спиртных напитков, часто подслащенный сахаром или с пряностями.
(обратно)19
Большой лондонский магазин женской одежды.
(обратно)20
Популярный французский апельсиновый напиток.
(обратно)21
Человек без документов, беспаспортный (фр.).
(обратно)22
Интернет-сайт поиска бывших одноклассников.
(обратно)23
Название дуэта из оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда», термин (нем. Liebe — любовь и Tod — смерть) используют для обозначения «эротической смерти» и «смерти во имя любви», когда влюбленные находят возможность соединиться в смерти или после смерти.
(обратно)24
По этому номеру звонят пользователи телефонной компании «Бритиш телеком», чтобы услышать список пропущенных вызовов.
(обратно)25
Название картины Леонардо да Винчи, один из двух вариантов которой хранится в Национальной галерее в Лондоне.
(обратно)26
Строки из стихотворения Пабло Неруды «Королева» (в переводе О. Савича).
(обратно)27
Паста из турецкого гороха.
(обратно)28
На Грейз-инн-роуд находится один из четырех лондонских «Судебных иннов» — существующих с XIV века корпораций, готовящих так называемых барристеров, адвокатов, имеющих право выступать в высших судах.
(обратно)29
Цитата из романа английского писателя Виллиама Гайера Старбука «Женщина против мира», вышедшего в 1864 г.
(обратно)30
Персонаж комиксов и телесериала, пятилетний шалун.
(обратно)31
Цитата из У. Шекспира — «Юлий Цезарь», акт III, сцена 1 (в переводе Мих. Зенкевича).
(обратно)32
«Новороманистах» (фр.).
(обратно)33
Мишель Бютор и Ален Роб-Грийе — одни из самых читаемых авторов «нового романа» (или «антиромана»), разновидности французской модернистской прозы 50—60-х годов XX в.
(обратно)34
Ньюланд Арчер — персонаж романа «Эпоха невинности» американской писательницы Эдит Уортон (1862–1937).
(обратно)35
Лесопарк в северной части Лондона, известный праздничными ярмарками и аттракционами.
(обратно)36
Детский роман английской писательницы Джоан Айкен (1924–2004).
(обратно)37
Роман английского писателя Томаса Харди (1840–1928). Во всех трех упоминаемых произведениях действие происходит на фоне пустошей, болот или других уединенных мест.
(обратно)38
Цитата из фильма «Грозовой перевал» (1939), в котором любовь главной героини Кети (актриса Мерл Оберон) к Хитклифу (Лоренс Оливье) вместо слов «Я люблю Хитклифа» выражается фразой «Я и есть Хитклиф».
(обратно)39
Цитата из романа Джейн Остин «Нортенгерское аббатство» (1803) (перевод И. Маршака).
(обратно)40
Средство, к которому прибегают за неимением лучшего (фр.).
(обратно)41
Пригороды Лондона на берегах реки Темза.
(обратно)42
Район Лондона.
(обратно)43
Большой лондонский магазин мебели и предметов обихода.
(обратно)44
Графство в Англии.
(обратно)45
Балтус (Бальтазар Клоссовски де Рола) — французский художник. Его картины проникнуты загадочной атмосферой, часто с эротическим подтекстом. Больше всего известны его картины, на которых изображены молодые девушки в расслабленных позах.
(обратно)46
В Англии — мелкий помещик, ведущий сельское хозяйство в собственном имении.
(обратно)47
Фирменное название дезинфицирующего средства компании «Рекитт энд Коулман».
(обратно)48
Цитата из У. Шекспира — «Макбет», акт II, сцена 2 (в переводе Б. Пастернака).
(обратно)49
Теодор Фонтане — немецкий писатель XIX века.
(обратно)50
Натали Саррот — французская писательница XX века.
(обратно)51
Английская детская писательница и иллюстратор собственных книг, главными персонажами которых чаще всего выступают животные.
(обратно)52
Персонаж популярных английских комиксов «Денди», у которого сильно выдается вперед нижняя челюсть с бородой.
(обратно)53
Официальное название компании «Бритиш телеком» с 1991 года.
(обратно)54
Маргарет Этвуд — канадская писательница.
(обратно)55
Школа Ловуд описывается в романе Шарлотты Бронте «Джен Эйр».
(обратно)56
Шлюз (фр.).
(обратно)57
Район центрального Лондона.
(обратно)58
Сорт французского вина.
(обратно)59
Район на западе Ирландии.
(обратно)





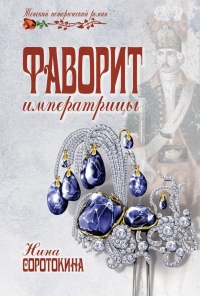

Комментарии к книге «Будь со мной», Джоанна Бриско
Всего 0 комментариев