Гарри Каспаров Человек и компьютер: Взгляд в будущее
Моим детям Полине, Вадиму, Аиде и Николасу.
Никогда не останавливайтесь на достигнутом, и вам откроется весь мир.
Garry Kasparov with Mig Greengard Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins
Введение
Шестого июня 1985 года в Гамбурге стояла чудесная летняя погода, но шахматистам редко удается насладиться ласковыми солнечными лучами. Почти весь день я провел в тесной аудитории, шагая между столами, на которых помещались 32 шахматные доски с расставленными фигурами. За каждой доской меня ожидал противник, и при моем приближении он быстро делал ход. Шел сеанс одновременной игры — известная веками форма шахматных состязаний, позволяющая любителям бросить вызов чемпиону. Но тот гамбургский сеанс был уникальным: мои 32 противника — все до единого — являлись компьютерами.
Я вышагивал от одной машины к другой и делал ходы более пяти часов. В сеансе участвовали лучшие модели четырех ведущих производителей шахматных компьютеров, в том числе восемь машин под брендом Kasparov от компании Saitek, выпускающей электронику. Один из организаторов заранее предупредил меня, что игра против машин отличается от игры против людей: ЭВМ никогда не устают и не отчаиваются. Они бьются до победного конца. Но я с удовольствием принял этот вызов и наслаждался вниманием СМИ к необычному бою. Мне было 22, и в конце того года я стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам. Я не чувствовал страха, и в данном случае моя уверенность в себе была полностью оправданна.
О тогдашнем уровне развития шахматных компьютеров говорит тот факт, что профессиональные шахматисты совсем не удивились, когда я закончил сеанс с сухим счетом — 32:0. Но, хотя я и выиграл все партии, один неприятный момент все-таки был. В ходе сражения с одной из моделей Kasparov я понял, что мне могут грозить неприятности: если машина одержит победу или даже добьется ничьей, все станут говорить, что я поддался специально, чтобы сделать рекламу компании. Поэтому мне пришлось как следует подумать. В конце концов я нашел способ обмануть компьютер: предложил ему жертву, которую не следовало принимать, и таким образом обеспечил себе победу. Если не для всех, то хотя бы для меня это были старые добрые времена, когда человек мог противостоять шахматному компьютеру. Золотой век, оказавшийся безжалостно коротким…
Двенадцать лет спустя в Нью-Йорке я сражался за свою шахматную честь с машиной нового поколения — суперкомпьютером Deep Blue компании IBM стоимостью больше $10 млн. Этот матч-реванш[1] стал самым известным в истории сражением человека и машины. На первой странице журнала Newsweek поединок окрестили «последней битвой человеческого разума», и многие авторы сравнивали его с первым полетом братьев Райт и высадкой астронавтов на Луну. Разумеется, эти утверждения были преувеличением, но они вполне соответствовали духу наших отношений любви-ненависти с так называемыми умными машинами.
Спустя еще 20 лет, в 2017 году, можно скачать на смартфон любое количество бесплатных шахматных приложений и побороться с противником, играющим не хуже настоящего гроссмейстера. А на моем месте в Гамбурге легко представить робота, двигающегося по кругу от стола к столу и одерживающего победы над 32 сильнейшими шахматистами мира. В вечном соревновании с собственными технологиями мы вновь терпим поражение.
Парадоксально, но во время сеанса одновременной игры с лучшими профессиональными шахматистами роботу труднее всего было бы перемещаться между столами и переставлять шахматные фигуры, а не рассчитывать ходы. Хотя научные фантасты вот уже несколько веков придумывают автоматы, которые выглядят и движутся как люди, и роботы сегодня успешно занимаются физическим трудом, надо признать, что наши машины гораздо лучше воспроизводят человеческое мышление, чем человеческие движения.
В шахматах, как и во многих других сферах деятельности, машины сильны в том, в чем слабы люди, и наоборот. Этот известный принцип в области искусственного интеллекта и робототехники сформулировал в 1988 году Ханс Моравек, который отметил, что «относительно просто добиться того, чтобы компьютеры выполняли тест умственного развития или играли в шашки на уровне взрослого человека, однако сложно или невозможно привить им навыки годовалого ребенка в том, что касается восприятия или мобильности»{1}. В ту пору я не был в курсе этих теорий; к тому же Моравек говорил о шашках, а не о шахматах, но десять лет спустя стало очевидно, что этот принцип распространяется в том числе и на мою сферу деятельности. Гроссмейстеры отлично справлялись с оценкой позиции и стратегическим планированием — слабыми местами шахматных компьютеров, зато те могли за секунды просчитать тактические последствия, на что даже лучшим человеческим умам потребовались бы многие дни.
Это подало мне идею. После того как мои матчи с Deep Blue привлекли столь пристальное внимание, я хотел продолжать шахматные эксперименты, несмотря на то, что IBM от них отказалась. Мой план, попросту говоря, был таков: если вы не можете их победить, то присоединитесь к ним. Я подумал: что если человек и машина будут не противниками, а партнерами? Замысел воплотился в 1998 году в испанском Леоне, где состоялся первый матч по продвинутым шахматам (advanced chess). Оба партнера имели под рукой персональный компьютер и могли использовать во время партии любую программу по своему выбору. Цель заключалась в том, чтобы выйти на новый, высочайший уровень игры — благодаря синтезу самых сильных сторон человеческого и машинного интеллекта. Хотя, как мы увидим далее, не все прошло так, как задумывалось, поразительные результаты этих «битв кентавров» убедили меня в том, что шахматы по-прежнему могут предложить очень многое в такой области, как взаимодействие человеческого разума и искусственного интеллекта.
К этому убеждению я пришел далеко не первым. Шахматные машины были святым Граалем задолго до того, как люди научились их создавать. И вот наука наконец получила доступ к этой чаше — а я оказался тем человеком, который держит ее в руках. Передо мной стоял выбор: отклонить вызов или принять его. Как я мог устоять? Это был шанс еще больше поднять популярность шахмат и расширить аудиторию, завоеванную ими после знаменитого матча между Бобби Фишером и Борисом Спасским во времена холодной войны и после моих поединков за мировую корону с Анатолием Карповым. Это позволило бы привлечь в мир шахмат армию щедрых спонсоров, особенно из числа высокотехнологичных компаний. Так, корпорация Intel в середине 1990-х годов спонсировала целую серию турниров по быстрым и классическим шахматам и полный цикл чемпионата мира, включая мой титульный матч с Вишванатаном Анандом, проходивший на верхнем этаже Всемирного торгового центра. К тому же мной управляло непреодолимое любопытство. Неужели машины действительно могут научиться играть в шахматы так же хорошо, как чемпион мира? Неужели они и вправду способны мыслить?
Люди мечтали об умных машинах на протяжении многих столетий. В конце XVIII века в Вене был создан шахматный автомат под названием «Турок». Это чудо века представляло собой деревянный манекен, который передвигал фигуры и, что самое удивительное, демонстрировал невиданно сильную игру. «Турка» возили по Европе и Америке, где он громил чуть ли не всех подряд — по слухам, даже Наполеона Бонапарта и Бенджамина Франклина. В 1854 году автомат сгорел во время пожара.
Разумеется, это была мистификация. Внутри ящика под столом скрывался человек, невидимый благодаря хитроумной системе раздвижных перегородок и механизмов. По иронии судьбы сегодня бичом шахматных турниров стали мошенники, которые пытаются обыграть соперника с помощью сверхмощных компьютерных программ. Они применяют сложные сигнальные системы для общения со своими сообщниками, прячут в головных уборах наушники Bluetooth, а в обуви — электронные приборы или же просто пользуются смартфонами в туалете.
Интересно, что первая шахматная программа появилась раньше, чем первый компьютер. Ее разработал гениальный британский математик Алан Тьюринг, взломавший код нацистской шифровальной машины «Энигма». В 1952 году он написал на бумаге алгоритм, с помощью которого машина могла бы играть в шахматы, — только в роли центрального процессора выступал сам математик. «Бумажная машина Тьюринга» оказалась вполне компетентным игроком. Причина ее конструирования выходила за рамки личного интереса Тьюринга к шахматам. Умение играть в шахматы издавна считалось частью человеческого интеллекта, и создание устройства, способного победить человека в этой игре, должно было знаменовать появление действительно умной машины.
Имя Алана Тьюринга также навсегда связано с названием предложенного им мысленного эксперимента, позднее проведенного в реальности и получившего название «тест Тьюринга». Суть его в том, чтобы определить, сможет ли компьютер обмануть человека таким образом, чтобы тот думал, что имеет дело с человеком, и если сможет — тест считается пройденным. Еще до моего первого матча с Deep Blue компьютеры начали проходить то, что можно назвать «шахматным тестом Тьюринга». Они по-прежнему играли довольно плохо и часто делали явно нечеловеческие ходы, но иногда им уже удавалось разыгрывать партии, которые выглядели бы вполне уместно и в приличном человеческом турнире. С каждым годом машины становились все сильнее и сильнее, но в процессе их эволюции мы узнавали больше о самих шахматах, чем об искусственном интеллекте (ИИ).
Нельзя утверждать, что кульминация 45-летних поисков, ставшая событием всемирного масштаба, обернулась разочарованием, но она со всей очевидностью показала, что сконструировать шахматный суперкомпьютер — вовсе не то же самое, что создать искусственный интеллект, способный сравниться с человеческим разумом, о чем мечтали Тьюринг и другие. По сути, «ум» Deep Blue ничем не отличался от «ума» программируемого будильника. Мысль об этом только усугубляла для меня горечь поражения — проиграть программируемому будильнику, пусть даже стоимостью $10 млн?!
Так называемое ИИ-сообщество, безусловно, радовалось результату и привлеченному вниманию, но в то же время ученые были явно обескуражены тем фактом, что Deep Blue ничуть не напоминает искусственный интеллект, о котором мечтали их предшественники. Вместо того чтобы играть в шахматы как человек — демонстрируя человеческую интуицию и нестандартное творческое мышление, он играет в шахматы как машина: оценивает до 200 млн возможных ходов в секунду и побеждает благодаря грубой вычислительной силе. Разумеется, это нисколько не умаляет самого достижения. В конце концов, Deep Blue — творение человеческого разума, и проигрыш человека созданной им машине одновременно означает его победу.
После невероятного напряжения того матча, которое усугублялось подозрительным поведением IBM и моей склонностью к сомнениям, я не был готов легко признать свое поражение. Честно говоря, я никогда не умел проигрывать. Полагаю, что человек, который легко смиряется с поражением, никогда не станет настоящим чемпионом, и этот принцип, конечно, справедлив и в моем случае. Но я верю в честную борьбу. Тогда же я считал, что IBM обманула меня — а также весь мир, пристально следивший за нашим матчем.
Должен признать, что повторный анализ каждого аспекта того бесславного поединка с Deep Blue оказался нелегким делом. В течение 20 лет я намеренно избегал любых разговоров на эту тему, касаясь лишь того, что уже было известно широкой публике. Публикаций, посвященных Deep Blue, великое множество, но данная книга — первая и единственная, где собраны все факты и вся история рассказывается так, как ее вижу я. Несмотря на болезненность воспоминаний, это был поучительный и благотворный опыт. Мой великий учитель Михаил Ботвинник, шестой чемпион мира по шахматам, учил меня искать истину в каждой позиции. И я попытался выполнить его завет и поискать истину в самой сути Deep Blue.
Между тем моя карьера и мои исследования взаимодействия человеческого разума с искусственным интеллектом не заканчиваются на Deep Blue или на этой книге. На самом деле мы лишь в начале пути. Моя борьба один на один с компьютером — особый случай, хотя она и символична с точки зрения тех странных отношений соперничества и партнерства с творением наших собственных рук — точнее, нашего разума, в которые мы все чаще вступаем в повседневной жизни. Моя идея «продвинутых шахмат» завоевала популярность в виртуальном мире, и сегодня объединенные команды людей и компьютеров достигают потрясающих результатов. Разумеется, мощные компьютеры чрезвычайно важны для успеха, но гораздо более значимым фактором оказывается совместная работа людей и машин.
Эти исследования привели меня в такие компании, как Google, Facebook и Palantir, чье существование всецело зависит от алгоритмов. Получил я и несколько удивительных приглашений, в том числе в штаб-квартиру крупнейшего в мире хеджевого фонда, где с помощью алгоритмов можно ежедневно зарабатывать — или терять — миллиарды долларов. Познакомился и с создателями суперкомпьютера Watson, победителя игры Jeopardy![2], который можно назвать преемником Deep Blue. Я принял участие во встрече высших руководителей банковского дела в Австралии, на которой обсуждалось влияние ИИ на рабочие места в их отрасли. Хотя у этих людей и компаний совершенно разные интересы, все они хотят быть на переднем крае революции искусственного интеллекта — или по крайней мере не остаться от нее в стороне.
Уже много лет я выступаю перед представителями деловых кругов с лекциями на темы, связанные с разработкой стратегии и улучшением процесса принятия решений. Но в последние годы ко мне все чаще стали обращаться с просьбой рассказать об искусственном интеллекте и о том, что я называю отношениями между человеком и машиной. Такие выступления дают мне возможность не только поделиться своими мыслями, но и понять, что именно интересует бизнес-сообщество относительно ИИ. В этой книге я попытался рассмотреть вопросы, вызывающие наибольшее беспокойство, и отделить бесспорные факты от вымыслов и преувеличений.
В 2013 году я удостоился чести стать приглашенным старшим научным сотрудником в Школе Джеймса Мартина при Оксфордском университете, где собралось созвездие блестящих ученых умов. В Оксфорде искусственный интеллект изучается в равной мере и как техническая, и как философская проблема, и я с удовольствием погрузился в оба этих потока. Функционирующий при школе Институт будущего человечества — идеальное место для того, чтобы понять, какими станут отношения между человеком и машиной. В этой книге я поставил перед собой задачу взять некоторые из самых сложных, зачастую очень мудреных и окутанных тайной научных концепций, исследований, прогнозов — и, выполняя функцию переводчика и гида, показать возможности их практического применения, попутно снабжая эти сведения моими собственными идеями и комментариями.
Бóльшую часть своей жизни я размышлял над тем, как думают люди, — отличный фундамент для того, чтобы выяснить, как думают машины и как они не думают. В свою очередь, это помогает нам понять, что могут — и чего не могут — делать машины… по крайней мере пока.
В легенде, бытовавшей среди афроамериканцев в XIX веке, рассказывается о чернокожем рабочем-путейце Джоне Генри. Он отличался непревзойденным умением пробивать молотом горные породы для прокладки туннелей и однажды вступил в соревнование с новым изобретением — паровым буром. Я был таким же Джоном Генри в мире шахмат: за 20 лет моего пребывания на вершине шахматного Олимпа шахматные компьютеры превратились из смехотворно слабых в практически непобедимых игроков, что стало моим благословением и моим проклятием.
Как мы увидим, на протяжении многих веков похожая ситуация повторялась снова и снова. Сначала люди смеялись над малейшими попытками заменить лошадей и волов неуклюжими, ненадежными машинами. Потом они потешались над идеей о том, что тяжелый, жесткий металл может летать, как птицы. В конце концов нам пришлось допустить, что нет такой физической работы, которую машина не могла бы выполнить так же, как человек, или даже лучше.
Мы постепенно начинаем признавать, что следует приветствовать этот неумолимый прогресс, а не бояться его, хотя тут мы делаем шаг вперед и два шага назад. Каждое новое вторжение машин в какую-либо область вызывает очередную волну паники и сомнений, и сегодня эти голоса звучат громко как никогда. Отчасти это объясняется тем, кого именно и в каких областях заменяют машины. Лошади и волы не могли писать письма редакторам газет, когда им на смену пришли тракторы и автомобили. Низкоквалифицированные рабочие тоже едва ли могли быть услышанными, и считалось, что они рады тому, что механизмы освободили их от изматывающего труда.
Так продолжалось на протяжении большей части XX века, когда в результате автоматизации многие профессии радикально изменялись или же полностью исчезали — да так быстро, что их не успевали оплакивать. Взять хотя бы машинистов лифтов. В 1920 году американский профсоюз лифтеров насчитывал 17 000 человек, и организованные им забастовки были способны парализовать целые города. Это и случилось в Нью-Йорке в сентябре 1945-го: по сообщению Associated Press, «тысячи людей были вынуждены подниматься пешком на верхние этажи небоскребов, таких как Эмпайр-стейт-билдинг, по казавшимся бесконечными лестницам»{2}. Возможно, именно поэтому мало кто горевал в связи с исчезновением этой профессии, когда в 1950-е годы лифтеров начали заменять лифты с автоматическим кнопочным управлением.
«Слава богу, сегодня у нас нет таких несговорчивых лифтеров», — вероятно, думаете вы. Но в те времена автоматические лифты вызывали у людей ничуть не меньше опасений, чем сегодня — беспилотные автомобили. Выступая в 2006 году в Otis Elevator Company (Коннектикут), я узнал один удивительный факт: оказывается, технология автоматического лифта была разработана еще в 1900-м, но люди боялись ездить в лифтах без операторов! Только забастовка 1945 года и колоссальные усилия производителей лифтов по информированию широкой общественности заставили людей изменить отношение к автоматическим лифтам — процесс, который мы наблюдаем сегодня в области самоуправляющихся автомобилей. Цикл «новая технология — страх — принятие» повторяется снова.
Разумеется, то, что сторонний наблюдатель называет свободой и технологическим прорывом, для работника означает безработицу. Образованный класс в развитом мире уже несколько столетий пытается растолковать своим собратьям из числа синих воротничков преимущества автоматизированного будущего. За последние несколько десятилетий неприятности добрались и до обслуживающего персонала, чьи приветливые лица, человеческие голоса и проворные пальцы заменяются банкоматами, ксероксами, системами автоматической обработки телефонных звонков и кассами самообслуживания. В аэропортах на смену официантам приходят смартфоны. Не успели по всей Индии появиться крупные колл-центры, как их уже начали заменять алгоритмы автоматизированной поддержки.
Куда как проще посоветовать миллионам оставшихся не у дел людей «получить новую профессию, востребованную в информационную эпоху» или «присоединиться к креативной предпринимательской экономике»; чем быть одним из пострадавших — следуйте рекомендациям. Но кто может гарантировать, что и эти новые профессии не устареют через несколько лет? Какие профессии сегодня можно назвать «компьютероустойчивыми»? Сегодня интеллектуальные машины начинают вторгаться в традиционные области белых воротничков, представителей образованной элиты, лишая их работы. Это вопрос времени.
Джон Генри выиграл состязание у машины и умер на месте «с молотом в руках». Я избежал такой участи, и люди по-прежнему играют в шахматы — более того, сегодня эта игра стала популярнее, чем когда-либо в прошлом. Пессимисты, утверждавшие, что никто не захочет играть в игру, в которой доминируют машины, оказались неправы. Мы по-прежнему любим и более простые игры, такие как шашки и крестики-нолики, но, без сомнений, такова уж человеческая натура — ни одна новая технология не обходится без пессимистических пророчеств.
Я же остаюсь оптимистом, хотя бы потому, что не вижу альтернатив тому пути развития, по которому мы идем. Сегодня искусственный интеллект меняет каждый аспект нашей жизни — ничего подобного мы не видели со времен появления интернета, а может, даже открытия электричества. Безусловно, любая новая мощная технология несет с собой потенциальные опасности, но я не боюсь открыто их обсуждать. Такие выдающиеся личности, как Стивен Хокинг и Илон Маск, тоже не скрывают, что видят в ИИ возможную угрозу существованию человечества. Эксперты менее склонны к тревожным заявлениям, но и они обеспокоены. Программируя машину, вы представляете, на что она способна. Но если машина программирует себя сама, кто знает, чего от нее ждать.
Сегодня в аэропортах с их киосками саморегистрации и ресторанами со смартфонами, заменившими официантов, по-прежнему работают тысячи сотрудников службы безопасности (большинство из которых используют различные устройства). Почему? Потому что люди могут делать то, чего не могут автоматы? Или же, как в случае с лифтами и автомобилями, мы пока боимся доверить машинам работу, от которой зависит наша жизнь? Однако следует заметить, что после замены лифтеров автоматическими системами лифты стали гораздо безопаснее. А с нашей способностью убивать себя с помощью автомобилей не сможет сравниться даже ненавидящая людей система Skynet из фильма «Терминатор». Человеческий фактор — причина более половины всех авиакатастроф, хотя с ростом автоматизации авиаперелеты становятся в целом более безопасными.
Иными словами, страховка необходима, но отвага нужна нам не меньше. Когда два десятилетия назад я сел за шахматный стол напротив Deep Blue, меня охватили необычные, тревожные чувства. Возможно, вы испытаете нечто подобное, когда впервые окажетесь в беспилотном автомобиле или получите первый приказ от своего компьютерного босса. Мы должны справиться с этими страхами, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями новых технологий — и нашими собственными возможностями тоже.
За прошедшие 20 лет появилось много новых профессий, ставших одними из самых перспективных, и эта тенденция будет продолжаться и ускоряться. Разработчик мобильных приложений, инженер 3D-печати, пилот дронов, SMM-специалист, генетический консультант — вот лишь немногие из родов деятельности, которых совсем недавно попросту не существовало. И хотя высококвалифицированные специалисты будут востребованы всегда, умные машины начнут постепенно повышать доступность новых творческих профессий. То есть людям, чью работу забирают роботы, потребуется гораздо меньше подготовки и переобучения для овладения новыми профессиями. Это будет благотворный цикл: машины станут освобождать нас от рутинной работы и давать нам возможность более эффективно пользоваться плодами технологического прогресса.
Станки и механизмы, избавившие нас от физического труда, создали условия для того, чтобы мы могли активнее использовать главный инструмент, делающий нас людьми, — наш ум. Процесс продолжится: интеллектуальные машины возьмут на себя рутинную черновую работу и позволят нам выйти на совершенно новый уровень бытия, сосредоточившись на творчестве, познании, красоте и радости жизни. Это именно то, что действительно делает человека человеком, а вовсе не какой-либо конкретный вид деятельности или навык вроде умения пробивать молотом туннели или даже мастерски играть в шахматы.
1. Интеллектуальная игра
Шахматы были изобретены так давно, что их происхождение до конца неясно. Как считает большинство историков, предшественница шахмат, игра под названием чатуранга, зародилась ранее VI века в Индии. Оттуда шахматы попали в Персию, распространились по всему арабскому и мусульманскому миру и через мавританскую Испанию проложили путь в Южную Европу. К концу Средневековья в шахматы играли во всех королевских дворах Европы, и упоминания об этой игре стали регулярно встречаться в манускриптах того времени.
Шахматы в том виде, в котором мы их знаем сегодня, появились в Европе в конце XV века, когда была увеличена дальнобойность ферзя и слона, что сделало игру более динамичной. Хотя по-прежнему существовали региональные и более древние варианты игры, позднее подверглись стандартизации и некоторые второстепенные правила, и шахматы XVIII века уже практически ничем не отличались от тех, в которые мы играем сегодня. Шахматная летопись чрезвычайно богата: до нас дошли тысячи текстов шахматных партий, сыгранных величайшими мастерами прошлых столетий, — и в этих документах, словно в янтаре, увековечен каждый ход, каждая гениальная комбинация и каждый досадный промах.
Разумеется, для серьезных игроков наибольшую ценность представляют именно эти партии, но история и артефакты свидетельствуют и о высоком статусе самой игры: шахматные фигуры с острова Льюис, вырезанные из моржового клыка и датируемые XII веком; миниатюры примерно 1500 года, изображающие играющих шахматистов и служащие иллюстрациями к стихам знаменитого персидского поэта Руми; третья напечатанная на английском языке книга «Шахматная игра» (Game and Playe of the Chesse), выпущенная в типографии Уильяма Кэкстона в 1474-м; личные шахматы Наполеона Бонапарта и т. д. Становится понятно, почему поклонники шахмат отказываются называть их обычной игрой.
Это всемирное наследие превращает шахматы в уникальный культурный объект, но не объясняет причин их долголетия и популярности. Невозможно точно сказать, сколько людей во всем мире регулярно играют в шахматы, но, если верить последним опросам, проведенным с использованием современных выборочных методов, эта цифра может составлять сотни миллионов. Игра популярна на всех континентах, в том числе в странах бывшего СССР и социалистического лагеря, а в последние годы и в Индии, где чемпионские успехи Виши Ананда привели к настоящему шахматному буму{3}.
Мой личный и абсолютно ненаучный метод оценки популярности шахмат основан на том, как часто меня узнают на улицах в разных странах мира (поездки занимают у меня бóльшую часть года). В Нью-Йорке, где я сейчас живу, я наслаждаюсь полной анонимностью — лишь изредка меня узнают иммигранты из СССР или стран Восточной Европы. Хорошо это или плохо, но чемпионы мира по шахматам могут спокойно ходить по улицам американских городов, не осаждаемые папарацци и охотниками за автографами. В то же время во время моей поездки с лекциями в Нью-Дели у моего отеля собиралось столько любителей шахмат, что администрации пришлось выделить мне специальный эскорт. Я даже не могу себе представить, что значит быть в Индии таким национальным кумиром, как Ананд.
Со времен расцвета шахмат в Советском Союзе, когда чемпионов встречали на вокзалах и в аэропортах ликующие толпы, такое отношение сохранилось сегодня только в Армении, чья национальная команда привозит на родину золотые медали с поразительной регулярностью для страны с населением всего 3 млн человек. И хотя я сам по происхождению наполовину армянин, думаю, что у этого успеха нет никакой генетической подоплеки. Когда общество по собственной воле или по указке ставит что-либо особенно высоко — будь то государственная религия, традиционное искусство или шахматы, — это обязательно приносит плоды.
Почему именно шахматы? Может быть, причина кроется в самой игре? Может быть, уникальное сочетание стратегических и тактических замыслов, необходимость искать баланс мастерства, вдохновения и отваги обладают непреодолимой притягательностью? Если честно, я так не думаю. Действительно, эта игра — плод многовековой эволюции, в ходе которой она адаптировалась к окружающему миру, как дарвиновы вьюрки. Например, шахматные романтики эпохи Ренессанса сделали игру более живой и динамичной, следуя духу своего времени, когда расширялись границы представлений о мире. И разве можно утверждать, что шахматная доска — квадрат восемь на восемь клеток — является более привлекательной или доступной для человеческого разума, чем доска для сёги девять на девять клеток или почти бесконечная доска для игры го с ее сеткой 19 на 19? Хотя это лишает шахматы некоего налета романтизма, их традиционный формат — не более чем продукт эпохи Просвещения, когда начался процесс стандартизации во всех областях, от орфографии и рецептов пива до шахматных правил. Если бы в 1750 году пользовалась популярностью игра на доске 10 на 10 клеток, сегодня мы играли бы на такой доске.
Умение хорошо играть в шахматы всегда считалось неким мистическим даром, признаком особого интеллекта людей и машин. Как самый молодой чемпион мира по шахматам, я в большей степени, чем кто-либо другой, испытал на себе магию и побочные эффекты этого дара. Но на каждый правдивый факт о шахматных мастерах — у многих из нас действительно отличная память и превосходные навыки концентрации внимания — приходится десяток заблуждений, как недооценивающих, так и утрирующих реальность.
Связь между умением играть в шахматы и общим интеллектом можно назвать по меньшей мере слабой. Далеко не все лучшие шахматисты — гении, и отнюдь не все гении умеют играть в шахматы. На самом деле шахматы интересны еще и потому, что до сих пор точно не известно, что именно отличает хороших шахматистов от великих. Психологи пытались найти ответ на этот вопрос на протяжении многих десятилетий, но только недавние исследования с применением продвинутых методов сканирования головного мозга начали проливать свет на то, какие функции мозга у сильных игроков задействуются в первую очередь.
Результаты этих исследований подтверждают сложную природу шахмат. В начале шахматной партии, то есть в дебюте, профессиональные игроки проверяют и вспоминают. Мы выбираем из своей личной мысленной библиотеки вариант дебюта в соответствии с нашими предпочтениями и начальными ходами соперника. По мере генерации ходов участок мозга, ответственный за визуально-пространственную обработку информации, активизируется сильнее, чем зона, которая отвечает за вычисления и обычно участвует в решении математических задач. Другими словами, мы визуализируем ходы и позиции, но не в виде наглядных картинок, как предполагали ранние исследователи. Чем сильнее игрок, тем эффективнее он распознаёт образы и «упаковывает» информацию, предназначенную для последующего воссоздания в памяти, в так называемые блоки информации.
За визуализацией следует анализ и оценка того, что мы видим перед своим мысленным взором. Разные игроки одного уровня зачастую по-разному оценивают одну и ту же позицию и выбирают совершенно разные ходы и стратегии. Здесь достаточно простора для индивидуальных стилей, творчества, блестящих ходов и, разумеется, ужасных ошибок. Далее результаты визуализации и оценки проверяются с помощью расчета вариантов («Если я пойду сюда, он пойдет туда; тогда я пойду туда и т. д.») — на эту технику опираются новички. Многие люди ошибочно полагают, что в ней и состоит вся суть шахмат.
Наконец, шахматисту нужно принять решение относительно конкретного плана действий. И, поскольку в серьезных соревнованиях время обычно ограничено, ему также следует решить, сколько времени потратить на обдумывание данного хода. Десять секунд или 30 минут? Часы тикают, ваше сердце бьется все быстрее и быстрее!
Все эти вещи происходят одновременно на протяжении всей шахматной партии, которая может длиться шесть-семь часов и вызывать сильное нервное напряжение. В отличие от машин, нам, людям, нужно во время каждого хода еще и справляться со своими эмоциональными и физическими реакциями — от беспокойства или радости по поводу той или иной позиции на доске до усталости, чувства голода и отвлекающих повседневных мыслей, бесконечным потоком текущих через сознание.
Гёте называл шахматы «пробным камнем для ума»{4}. В советских энциклопедиях шахматы определялись как искусство, наука и спорт. Всемирно известный художник Марсель Дюшан, сам сильный игрок, сказал: «Я убедился на личном опыте: не все художники играют в шахматы, зато все шахматисты являются художниками!» Дальнейшие исследования с использованием сканирования мозга, безусловно, позволят нам лучше понять, что происходит у нас в голове во время игры в шахматы, и, может быть, даже определить, что именно отличает гениальных игроков от остальных шахматистов. Но я уверен, что мы будем продолжать наслаждаться игрой в шахматы и любить ее до тех пор, пока мы получаем удовольствие от искусства, науки и состязания.
Ввиду беспрецедентных возможностей интернета распространять мифы и слухи сегодня на меня обрушивается лавина разного рода ложной информации, в том числе и о моем собственном интеллекте. В вымышленных списках «людей с самым высоким IQ в истории» меня помещают между Альбертом Эйнштейном и Стивеном Хокингом. Но оба эти ученых, вероятно, набрали бы в тестах для определения коэффициента интеллекта (IQ) такой же минимум, как и я. В 1987 году немецкий журнал Der Spiegel направил в Баку небольшую группу экспертов, чтобы с помощью тестирования измерить мои умственные способности, включая память и способность к распознаванию образов.
Понятия не имею, как эти тесты связаны с официальным IQ-тестом, и меня это не интересует. Шахматные тесты подтвердили, что я очень хорош в шахматах; тесты памяти показали, что у меня отличная память, но все это было очевидно и без проверки. Моей слабой стороной оказалось «образное мышление». Вероятно, они сделали такой вывод на основании того, что я слегка напортачил, когда нужно было соединить точки линиями. Не знаю, что происходило — или не происходило — в моем мозгу во время выполнения этого задания, но я всегда с трудом мог заставить себя совершать то, в чем не видел смысла. Сейчас я вижу это же свойство у своей дочери Аиды, когда она делает уроки.
Когда эксперты из Der Spiegel спросили, что, по моему мнению, отличает меня как чемпиона мира от других сильных шахматистов, я ответил: «Готовность принимать новые вызовы»{5}. Сегодня я ответил бы точно так же. Постоянная решимость пробовать новые методы и браться за новые смелые задачи, когда вы уже добились статуса эксперта, — вот что отличает великих от хороших. Чтобы прийти к успеху, необходимо опираться на свои сильные стороны, но работа над устранением собственных недостатков может привести к истинно великим достижениям. Это верно для спортсменов, руководителей и целых компаний. Разумеется, выход за пределы зоны комфорта всегда сопряжен с риском, но если из-за страха разрушить статус-кво вы будете делать только то, в чем преуспеваете, это неизбежно приведет к застою и в конечном итоге к деградации.
Как бы ни был приятен окружающий шахматы ореол «игры гениев», это скорее иллюзия, результат сотен лет мифотворчества, на протяжении которых шахматные мастера превозносились как виртуозы и сверходаренные люди. В 1782 году французский оперный композитор и великий шахматист Франсуа-Андре Даникан Филидор сыграл одновременно две партии с завязанными глазами, и его ум был расценен как не знающий себе равных. Одна из газет того времени писала: «Этот человек — феномен в истории человечества, и он должен навечно встать в один ряд с другими обладателями выдающейся памяти»{6}. Лестно, но при небольшой тренировке любому приличному игроку вполне под силу вести две партии, не видя доски. И впоследствии куда более внушительных успехов в этом виде шахмат добивались не только гроссмейстеры: так, в 2011 году официально зарегистрированный мировой рекорд — сеанс одновременной игры вслепую на 46 досках — установил немецкий игрок среднего уровня{7}.
Независимо от причин, обусловивших такую репутацию, умение играть в шахматы на протяжении многих веков является символом высокого интеллекта и стратегического мышления, а также очень популярной метафорой во всех сферах жизни — от политики и войны до всех видов спорта и даже романтических отношений. Возможно, шахматисты должны получать комиссионные всякий раз, когда футбольный комментатор сравнит ситуацию на поле с «разыгрыванием шахматной комбинации», а политический обозреватель назовет политические маневры «рокировкой».
Поп-культура давно одержима шахматами как признаком блестящего ума и стратегического мышления. Крутые голливудские парни Хамфри Богарт и Джон Уэйн были страстными любителями шахмат и играли в них на съемочной площадке на камеру и без нее. В моем любимом фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» шахматам отведена немалая роль. В начале фильма один из соратников предупреждает Бонда: «Эти русские — блестящие шахматисты. Они рассчитывают игру на много ходов вперед, маневры врага предвидят заранее и принимают ответные меры».
Даже после окончания холодной войны, когда русские перестали быть плохими парнями во всех голливудских фильмах, эта древняя настольная игра сохранила свою привлекательность для поп-культуры. Многие сегодняшние блокбастеры содержат сцены с шахматами. В «Людях Икс» профессор Икс и главный злодей Магнето играют на стеклянной шахматной доске. В «Гарри Поттере» есть эпизод с волшебными шахматами, где играют живые фигуры, — он напоминает о шахматном поединке Чубакки и Три-пи-о в «Звездных войнах». Даже вампиры — покорители женских сердец играют в шахматы, как мы видим в фильме «Рассвет» из саги «Сумерки».
Шахматные машины тоже занимают видное место в фантастических фильмах. В фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» (1968) компьютер ЭАЛ-9000 легко обыгрывает в шахматы астронавта Фрэнка Пула, что служит предзнаменованием его гибели по вине машины. Кубрик любил шахматы, поэтому разыгранная в его фильме партия, как и партия в начале фильма «Из России с любовью», основана на реальной игре. В романе Артура Кларка «2001» нет эпизода с этой шахматной партией, однако в нем говорится, что бортовой компьютер ЭАЛ мог бы с легкостью победить любого человека, если бы играл в полную силу. Но поскольку это повредило бы моральному духу экипажа, компьютер был запрограммирован так, чтобы выигрывать только в половине случаев. Кларк добавляет: «Люди делали вид, что не знают этого».
Рекламодатели, которым платят за использование мощного влияния символов, регулярно обращаются к шахматам как к доходчивой метафоре. Шахматные образы кажутся вполне логичными в рекламе банков, консалтинговых и страховых компаний, но как насчет рекламных роликов грузовых автомобилей Honda, рекламных щитов автомобилей BMW и даже онлайновой рекламы сайтов знакомств? Учитывая, что в США в шахматы играет не больше 15 % населения, их роль в американской культуре кажется удивительной.
Это также парадоксально противоречит негативным представлениям о шахматистах как о людях с ущербными социальными навыками, словно наш мозг развивает способности к обработке информации за счет эмоционального интеллекта. Действительно, в шахматы зачастую любят играть спокойные интроверты, предпочитающие находиться в компании собственных мыслей, и, очевидно, эта игра не требует командной работы и превосходных социальных навыков. Но даже в одержимом высокими технологиями XXI веке, когда Кремниевая долина стала новой Шангри-Ла, а ученые умники — так называемые нерды и гики — доказали, что могут быть самыми успешными, присущее американцам предубеждение против высокого интеллекта по-прежнему дает о себе знать.
Наделение шахмат и шахматистов необычными положительными или отрицательными свойствами во многом произрастает из незнания игры. Сравнительно мало людей на Западе играют в шахматы, и еще меньше играют на уровне, предполагающем нечто большее, чем простое знание правил. Я заметил, что игры, в которых, в отличие от бросания костей или тасования карт, нет фактора случайности, часто считаются слишком трудными, больше похожими на работу, чем на расслабляющее удовольствие. Помимо отсутствия элемента удачи, шахматы — абсолютно открытая игра: обе стороны знают ситуацию друг друга в любой момент времени. В шахматах нет никаких оправданий, никаких догадок и случайностей, ничего, что было бы неподконтрольно игрокам.
Поэтому шахматы безжалостны к малейшим различиям в уровне мастерства, что делает их менее дружелюбными к новичкам, особенно если те не могут найти себе равных партнеров. Ведь никто не любит проигрывать все время, как это поняли программисты ЭАЛ-9000. Покер и нарды тоже требуют мастерства, но в них присутствует достаточно значительный элемент везения, дающий шанс на победу даже начинающему игроку. В шахматах такого нет.
Появление интернета и шахматных приложений на ПК и мобильных устройствах отчасти смягчило эту проблему, предоставив доступ к противникам любого уровня 24 часа семь дней в неделю, хотя это также поставило шахматы в условия прямой конкуренции с бесконечным потоком новых онлайновых игр и развлечений. Здесь возникает интересный вариант теста Тьюринга, поскольку при игре онлайн вы не знаете, играете ли вы против компьютера или против человека. Большинство людей предпочитают играть с людьми, находя это более увлекательным и полезным опытом, а игру с компьютером считают слишком «стерильной», даже несмотря на то, что машину специально «оглупляют» для игры с человеком.
Тогда как сегодня шахматные программы играют настолько хорошо, что порой трудно отличить состязание машин от борьбы ведущих гроссмейстеров, гораздо сложнее оказалось создать убедительно слабую шахматную машину. Большинство компьютеров в ходе одной партии просто чередуют сильную игру с абсурдными ошибками. В этом кроется немалая ирония судьбы: после полувека работы над созданием сильнейшей шахматной машины, способной победить любого человеческого игрока, теперь программисты ломают голову над тем, как научить машину играть хуже. К сожалению, в своем романе Артур Кларк не рассказал, каким образом удалось научить искусственный интеллект ЭАЛ посредственной игре.
Кстати сказать, мне кажется довольно странным, что люди испытывают столь сильную радость и гордость, когда благодаря везению побеждают в таких играх, как кости или карты. Я думаю, все дело в человеческой природе — нам нравится иметь возможность одержать победу и упиваться успехом, заслуженным или нет, и все сочувствуют проигравшим. Однако фраза «Лучше быть удачливым, чем умелым» является одним из самых нелепых заявлений, которые я когда-либо слышал. Почти в любом состязательном виде деятельности вам нужно овладеть соответствующим мастерством, прежде чем удача повернется к вам лицом.
Еще до того, как я стал чемпионом мира в 1985 году, я стремился улучшить имидж шахмат на Западе и разрушить негативные стереотипы, связанные с шахматами и шахматистами. Я осознавал, что мой собственный пример играет в этом большую роль, и во время интервью и пресс-конференций сознательно старался представить себя как всесторонне развитого человека с широкими интересами, не ограниченными 64 полями шахматной доски. Это было нетрудно, поскольку я весьма интересовался историей, политикой и множеством других вещей, однако в прессе обо мне и других гроссмейстерах по-прежнему говорили как о ненормальных гениях — а не как о нормальных людях с особым талантом.
Такой взгляд обусловлен практическими и социальными соображениями, к тому же культурные стереотипы меняются очень медленно. Хорошо это или плохо, на Западе шахматы считались неторопливой и сложной игрой, предназначенной в лучшем случае для интеллектуалов и стратегов, а в худшем — для мизантропов и книжных червей. Благодаря росту популярности учебных шахматных программ на шахматы стали во многом смотреть иначе. В конце концов, разве может игра, которая легко дается и приносит удовольствие шестилетним детям, быть трудной или скучной?
В СССР, где я вырос и где шахматам официально отводилась роль национальной игры, они были лишены всякого налета мистики и рассматривались как профессиональный вид спорта. Шахматные мастера и тренеры пользовались уважением и занимали достойное положение в обществе. Почти каждый гражданин СССР умел играть в шахматы, и в такой обширной базе игроков было проще находить настоящие дарования и обучать их. Эта игра имела глубокие корни в русском обществе еще в царские времена, а после революции 1917 года большевики сделали развитие шахмат одним из своих приоритетов, как средство привить новому пролетарскому обществу интеллектуальные и состязательные ценности. В 1920-м, в самый разгар Гражданской войны, сильнейшие шахматисты страны получили освобождение от призыва на фронт, чтобы принять участие в первой Всероссийской шахматной олимпиаде{8}.
Несколько лет спустя Иосиф Сталин{9}, сам не будучи большим любителем шахмат, продолжил поддерживать и продвигать эту игру на государственном уровне, видя в ней способ показать всему миру превосходство советского человека и создавшей его коммунистической системы. Хотя с последним я согласиться не могу, нельзя оспорить тот факт, что СССР безоговорочно доминировал в мировых шахматах на протяжении нескольких десятилетий, завоевав золотые медали на восемнадцати из девятнадцати Всемирных шахматных олимпиад с 1952 по 1990 год{10}. Начиная с первого послевоенного розыгрыша первенства мира в 1948 году и вплоть до 1972-го чемпионский титул доставался пяти разным советским гроссмейстерам. После трехлетнего перерыва советские шахматисты вновь вернули себе шахматную корону в 1975-м и удерживали ее вплоть до распада СССР. Помню, как в 1990 году в Нью-Йорке, на очередном титульном матче с Анатолием Карповым я с гордостью поменял советский настольный флаг на российский, который моя мама, Клара, спешно сшила вручную накануне вечером{11}.
Мое становление как серьезного шахматиста проходило в городе Баку, столице Азербайджана, и совпало по времени с возрождением политического интереса к шахматам в 1970-е. Советское руководство пришло в панику от череды побед американца Бобби Фишера над ведущими советскими гроссмейстерами. Когда в 1972 году Фишер отобрал шахматную корону у Бориса Спасского, для СССР стало делом национальной чести найти и вырастить новых игроков, которые смогут вернуть титул. Это произошло раньше, чем ожидалось: в 1975-м Фишер отказался от матча с молодым Анатолием Карповым и последнего объявили чемпионом мира ввиду неявки соперника.
В очень раннем возрасте я был рекрутирован советской шахматной машиной и попал в школу экс-чемпиона мира Михаила Ботвинника. «Патриарх советской шахматной школы», как справедливо называют Ботвинника, занял место и в истории компьютерных шахмат. Инженер по образованию, он вместе с группой программистов посвящал все свободное время разработке шахматной программы. Увы, этот проект оказался неудачным.
Я всегда воспринимал шахматы и как сферу профессиональной деятельности, и как средство общения. Будучи восходящей звездой, я регулярно ездил на зарубежные турниры, где впервые столкнулся со странными предрассудками: в шахматистах видели эксцентричных или даже сумасшедших гениев. Мне это казалось полным абсурдом. Я знал десятки сильнейших шахматистов, и все они были, если даже не «нормальными» (что бы это ни значило), то очень разными людьми. Взять хотя бы чемпионов мира. Василия Смыслова с его тонким пониманием музыки или заядлого курильщика и острослова Михаила Таля. Или суховатого профи Михаила Ботвинника, ходившего от рассвета до заката в строгом костюме и галстуке. А вот бонвиван и вольнодумец Борис Спасский мог явиться на партию в белой теннисной форме.
Анатолия Карпова и меня называли «льдом и пламенем» в шахматах и в жизни. Спокойный характер и вкрадчивые манеры моего главного противника, с которым я пять раз подряд сражался за титул чемпиона мира, соответствовали стилю его игры, напоминавшему стиль удава. Я же со своим энергичным и прямолинейным характером предпочитал динамичную, атакующую игру. Единственное, что у всех нас было общего, — высочайший уровень шахматного мастерства.
Как это часто бывает, формированию устойчивого стереотипа шахматиста способствовали несколько широко известных персонажей из художественной литературы и случаев из реальной жизни. Сильнейшим шахматистом середины XIX века был Пол Морфи из Нового Орлеана: выиграв в 1857 году чемпионат США, он в 1858-м совершил турне по Европе, победил всех ведущих игроков того времени и по праву стал первым американским неофициальным чемпионом мира. Родина встретила его как национального героя. Вскоре после этого триумфа Морфи оставил шахматы ради юриспруденции, однако не снискал успеха на новом поприще. В конце концов у него развилось душевное расстройство, которое многие, хотя и бездоказательно, приписывали перенапряжению, вызванному игрой в шахматы.
Следующий американский чемпион мира, Бобби Фишер, — пример из совсем недавнего прошлого, и о закате его славы известно гораздо больше. Фишер отобрал мировую корону у СССР и Бориса Спасского в легендарном матче (Рейкьявик, 1972). Отчасти из-за эпатажного поведения Фишера до и во время игры этот «матч столетия» получил беспрецедентное освещение в международных СМИ. Каждая партия рассматривалась как сражение на фронтах холодной войны и транслировалась в прямом эфире — даже в Соединенных Штатах! Мне было тогда девять лет, в шахматном клубе бакинского Дворца пионеров я считался уже приличным игроком — и мы с ребятами, затаив дыхание, следили за игрой Фишера и Спасского. Фишер, разгромивший по пути к этому матчу двух ведущих советских гроссмейстеров, Тайманова и Петросяна, имел в СССР немало поклонников. Его уважали за шахматное мастерство, а многих, хотя об этом и не говорилось вслух, впечатляли его индивидуализм и независимость.
Матч завершился убедительной победой американца, и шахматный мир был у его ног. Впервые в истории шахматы могли стать коммерчески успешным видом спорта. Эффектный стиль игры Фишера, его гражданство и харизма открывали уникальные возможности. Он стал национальным героем, по популярности сравнимым с Мухаммедом Али (более того, вряд ли госсекретарь США стал бы звонить Али перед боем, как Генри Киссинджер позвонил Фишеру в 1972 году).
Но со славой приходит ответственность и огромное давление. Фишер не смог заставить себя снова сесть за доску. За последующие три года он не сыграл ни одной официальной партии и в 1975-м, отказавшись играть матч на условиях ФИДЕ, был автоматически лишен чемпионского титула, к которому стремился всю жизнь. Чтобы вернуть Фишера в шахматы, ему предлагали астрономические деньги. Он мог бы получить неслыханные $5 млн за матч с новым чемпионом мира Анатолием Карповым. Возможностей хватало, но Фишер был чисто разрушительной силой: он сломал советскую шахматную машину, ничего не создав взамен. Он был идеальным претендентом на титул и никчемным чемпионом.
В 1992 году Фишер все-таки поддался уговорам сыграть так называемый матч-реванш со Спасским в Югославии, находившейся тогда под санкциями ООН. Он показал предсказуемо бесцветную игру, не стесняясь попутно проявлять свой антиамериканизм и антисемитизм. После этого матча он изредка появлялся на публике, каждый раз заставляя шахматный мир раболепствовать и встречать его как шахматного короля, но все эти эпизоды заканчивались скандалами и разочарованием. А своей радостной поддержкой терактов 11 сентября Фишер мог нанести серьезнейший удар по репутации шахмат и шахматистов, если бы его признания стали известны широкой общественности.
В 2008 году Фишер умер в одиночестве в Исландии, где когда-то он пережил величайший триумф в своей жизни. Меня до сих пор регулярно спрашивают о нем, и я отвечаю: «Нет, я никогда не играл с Бобби Фишером, и мы даже не встречались». Ему приписывают всевозможные психические расстройства — от шизофрении до синдрома Аспергера, но я считаю такую дистанционную диагностику глупым и опасным занятием. Я уверен в одном: если Фишер действительно сошел с ума, не шахматы вызвали его безумие. Люди лишаются рассудка не из-за того, что играют в шахматы, а из-за того, что отказываются от дела своей жизни и их слабая психика этого не выдерживает.
Не стану отрицать, что обилие связанных с шахматами легенд и метафор играет на руку мне и моей репутации. Как бы я ни хотел, чтобы меня ценили прежде всего за правозащитную деятельность, за лекции и семинары для представителей деловых и академических кругов, за работу моего фонда в сфере образования, за мои книги о России и о принятии решений, должен признать, что титул чемпиона мира по шахматам (даже с приставкой «экс») — визитная карточка, не имеющая себе равных. И, как я подробно рассказываю в своей книге «Шахматы как модель жизни» (2007), именно моя шахматная карьера сформировала мое мышление во всех его аспектах.
Мне было всего 22, когда в 1985 году я стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам. Из-за моей неопытности и незрелости и я, и журналисты нередко попадали в затруднительное положение, когда я давал интервью для СМИ, ведь мало кто из юных звезд в любой сфере осознает причины своего успеха. Вместо того чтобы говорить с шахматной прессой о дебютах и эндшпилях, мне вдруг пришлось беседовать с представителями таких изданий, как Time, Der Spiegel и даже Playboy, и отвечать на серьезные вопросы обо всем на свете, от советской политики до моего режима дня и питания. Как я ни старался, мои банальные ответы часто разочаровывали журналистов. У меня не было никаких секретов — только природные способности, трудолюбие и дисциплинированность, которой я научился у моей мамы и у моего учителя Ботвинника.
На протяжении моей профессиональной карьеры бывали моменты, когда я мог сделать шаг назад и посмотреть, как шахматы вписываются в общую канву моей жизни и, возможно, мира в целом, но я не мог посвятить этим размышлениям много времени и сил. Только после ухода в 2005 году из профессиональных шахмат у меня наконец-то появилась возможность глубже проанализировать феномен шахмат и взглянуть на них как на некую призму, через которую можно исследовать и усовершенствовать процесс принятия решений, определяющий каждую секунду нашей жизни.
В основе этой книги во многом лежат исключительные ситуации, которые мне пришлось пережить в ходе моей шахматной карьеры. Мои матчи с компьютерами, охватывающие почти 20-летний период, на протяжении которого я был сильнейшим шахматистом мира, позволили мне взглянуть на шахматы не только как на состязательную игру. Поединки с каждым новым поколением шахматных машин сделали меня участником великого научного поиска, связующим звеном в процессе познания человеческого и искусственного интеллекта, знаменосцем человечества.
Я мог бы отказаться от сражений с компьютерами, как сделали многие мои коллеги-гроссмейстеры, но я был заинтригован этим вызовом и самим экспериментом. Что мы можем узнать благодаря сильной шахматной машине? Если машина в состоянии играть в шахматы на уровне чемпиона мира, что еще она способна делать? Может ли машина быть умной и что это в действительности означает? Способны ли машины мыслить и что они могут рассказать нам о нашем собственном разуме? На одни из этих вопросов были даны ответы; вокруг других, наоборот, разгорелись еще более жаркие споры, чем когда-либо прежде.
2. Эпоха шахматных машин
В 1968-м, когда вышли роман и фильм «Космическая одиссея 2001 года», никто не мог точно сказать, сумеют ли компьютеры превзойти человека в шахматах и способны ли они на что-либо еще, кроме механического запоминания и расчетов. Разумеется, на заре компьютерной эры не было недостатка в прогнозах относительно потенциала машин. Утопические мечты о полностью автоматизированном мире соседствовали с мрачными антиутопическими предсказаниями — сюжетами на ту же тему.
Есть один важный момент, который следует учесть, прежде чем оценивать чужие прогнозы или делать свои собственные. Каждая новая прорывная технология, каждое изменение в динамике развития общества имеют ряд положительных и негативных последствий и побочных эффектов, которые могут проявиться спустя некоторое время, зачастую — довольно неожиданно. Взять хотя бы наиболее обсуждаемый итог машинного века — снижение возможностей для трудоустройства. Автоматизация производства, широкое использование компьютеров, оргтехники, домашних бытовых приборов и т. п. — все эти бурные процессы, начавшиеся в 1950-е годы, привели к исчезновению миллионов рабочих мест и целых профессий, однако стремительное повышение производительности труда привело к беспрецедентному экономическому росту и создало еще больше рабочих мест, чем было потеряно.
Должны ли мы жалеть джонов генри, лишившихся работы из-за паровых машин? Или конторских машинисток, конвейерных рабочих или лифтеров, которым пришлось переквалифицироваться или вообще сменить профессию, потому что новые технологии сделали их ненужными? Или же надо полагать, что все эти люди были счастливы оттого, что машины освободили их от скучной, физически тяжелой или опасной работы?
Наше отношение имеет значение, но не потому, что мы можем остановить шествие технического прогресса (это невозможно, даже если бы мы очень хотели), а потому, что наше восприятие связанных с технологиями перемен влияет на то, насколько хорошо мы можем к ним подготовиться. Между утопическими и антиутопическими картинами полностью автоматизированного, изобилующего искусственным интеллектом будущего, к которому мы движемся со все возрастающей скоростью, есть много места для других сценариев. Каждый из нас должен сделать выбор: принять новые вызовы или сдаться. Мы будем участвовать в формировании этого будущего, определяя условия наших взаимоотношений с новыми технологиями, или же позволим кому-то сделать это за нас?
Как и я, поколения ученых были заинтригованы шахматами и идеей создания машин, способных играть в шахматы. Математиками, физиками и инженерами, сформировавшими в 1950-е годы первую волну кибернетиков и программистов, едва ли двигало романтическое представление об этой игре, пусть даже они были ее страстными поклонниками. Но все же некоторые из этих умов, в высшей степени склонных к логическому, рациональному мышлению, настаивали на том, что, сумев научить машину хорошо играть в шахматы, мы сможем проникнуть в тайны человеческого мышления.
В подобную мыслительную ловушку попадает каждое поколение, когда речь идет об искусственном разуме. Мы путаем исполнение — способность машины повторить или превзойти результаты человека — с методом, которым достигаются эти результаты. Такой ошибки невозможно избежать, когда дело касается высшего интеллекта, свойственного исключительно Homo Sapiens.
Фактически существует два отдельных, но взаимосвязанных варианта этого заблуждения. Первый — «машина может научиться делать Х только в том случае, если она достигнет общего интеллектуального уровня, близкого к человеческому». Второй — «если мы сможем создать машину, способную делать Х так же хорошо, как человек, мы сможем узнать нечто очень важное о природе разума».
Романтизация и очеловечивание машинного интеллекта вполне естественны. Когда мы изобретаем что-то новое, логично смотреть на имеющиеся модели, а разве есть лучшая модель интеллекта, чем человеческий разум? Однако попытки создать машину, мыслящую как человек, раз за разом терпят неудачу, притом что мы успешно делаем машины, которые оказываются способны повторить наши результаты не используя наш метод.
Чтобы быть полезными или превзойти природу, машины не должны копировать естественные процессы. Это становится очевидным из тысячелетий развития технологий и в равной степени применимо к программному обеспечению и интеллектуальным машинам. Самолеты не машут крыльями, чтобы летать, а вертолетам и вовсе не нужны крылья. В природе нет колес, но они отлично нам служат. Так нужно ли компьютерному мозгу имитировать работу человеческого разума, чтобы добиваться результатов? Для исследования этой проблемы — как и многих других проблем, имеющих отношение к связи человеческого и машинного мышления, — шахматы оказались идеальной лабораторией.
За пределами научной фантастики вопрос о том, может ли машина быть разумной, не волновал специалистов и широкую общественность до тех пор, пока в 1940-е годы на смену механическим и аналоговым технологиям не начали приходить цифровые технологии, а в 1950-е вакуумные трубки не уступили место полупроводникам. Лишившись возможности наблюдать невооруженным глазом за процессами, происходящими внутри машины, люди словно бы начали их одушевлять. Механические счетные машины существуют с XVII века, и к середине XIX столетия появились тысячи их настольных кнопочных версий. Первая программируемая вычислительная машина была разработана Чарльзом Бэббиджем в 1834 году, а первую «компьютерную» программу написала Ада Лавлейс в 1843-м.
Несмотря на впечатляющую сложность этих машин, никто всерьез не задумывался об их разумности, как не размышлял о разумности карманных часов или паровозов. Даже если вы не знали, как работают механические устройства наподобие кассового аппарата, вы могли слышать, что внутри крутятся шестеренки. Вы могли открыть его и посмотреть, как вращается механизм. При всей поразительности того факта, что машина выполняет «мыслительные» математические и логические задачи быстрее человека, мало кто пытался сравнить ее работу с работой человеческого ума.
Отчасти это объясняется относительно понятной природой первых машин, отчасти — невысоким уровнем знаний о человеческом разуме. Мы прошли длинный путь с IV века до нашей эры, когда Аристотель считал, что разум и чувства находятся в сердце, а мозг служит для охлаждения крови. Недаром мы до сих пор говорим, что «чувствуем сердцем». Только в конце XIX века с открытием нейронов стало возможным представление о мозге как об электрическом вычислительном устройстве. До этого мозг виделся больше метафизической, чем физической сущностью, — в частности, как считалось во времена Древнего Рима, вместилищем «животных духов» и души.
Если оставить в стороне вопрос о душе, сегодня никто не спорит с тем, что разум — это гораздо больше, чем сумма физических составляющих человека и его опыта. Разум выходит за рамки мышления и включает в себя восприятие, чувства, память и, самое явное, волю — способность иметь и выражать желания и намерения. Клетки мозга, выращенные в чашках Петри из стволовых клеток, безусловно, интересны для научных экспериментов, но, лишенные возможности обрабатывать информацию, они не являются разумными.
Если оглянуться назад на историю компьютеров, создается впечатление, будто, как только была изобретена первая ЭВМ, следующим же шагом стала попытка научить ее играть в шахматы. В первые десятилетия развития компьютерной техники шахматы всегда находились на переднем фронте. Причина не только в репутации игры, но и в том, что многие из отцов-основателей вычислительной науки были увлеченными шахматистами и быстро увидели в этой игре потенциал служить отличной площадкой для тестирования своих теорий и изобретений.
Как машины играют в шахматы? Базовый подход остается неизменным с 1949 года, когда американский математик и инженер Клод Шеннон описал его в своей статье «Программирование компьютера для игры в шахматы»{12}. Он предложил вычислительный метод, или «программу», для ЭВМ общего назначения, идею которой несколькими годами ранее сформулировал Алан Тьюринг. Это было на столь раннем этапе информационной эпохи, что Шеннон взял слово «программа» в кавычки, как жаргонизм.
Подобно многим его последователям, Шеннон, рассуждая об играющем в шахматы устройстве, делал оговорку, что «возможно, оно не имеет никакого практического значения». Но ученый разглядел теоретическую ценность такой машины для иных областей — от маршрутизации телефонных звонков до перевода с одного языка на другой. Шеннон объяснил, почему считает шахматы и шахматный автомат хорошей тестовой площадкой:
Проблема четко определена как с точки зрения допустимых операций (ходы), так и в плане конечной цели (мат). Шахматная машина не настолько проста, чтобы считаться примитивной, но и не слишком сложна для отыскания удовлетворительных решений. Считается, что для искусной игры в шахматы необходимо «мышление». Следовательно, решение этой задачи либо вынудит нас признать возможность механизированного мышления, либо заставит уточнить нашу концепцию «мышления». Дискретная природа шахмат хорошо вписывается в цифровую природу современных компьютеров.
Обратите особое внимание на третий пункт, где Шеннон несколькими словами преодолевает разрыв между компьютерной наукой и метафизическим миром. Поскольку игра в шахматы предполагает наличие мышления, значит, либо шахматная машина способна мыслить, либо мышление — это вовсе не то, чем мы привыкли его считать. Также следует отметить, что математик говорит об «искусной игре», — то есть простое знание правил и генерация в заданных ими рамках случайных ходов или же извлечение ходов из памяти (базы данных) не является признаком мышления.
Этот подход перекликается с идеей, высказанной Норбертом Винером в его фундаментальном труде «Кибернетика» (1948): «Вопрос в том, можно ли построить машину, играющую в шахматы, и являются ли способности такого рода существенным отличием человеческого разума от машины»{13}.
Шеннон описал различные факторы, которые потребуются для создания шахматной программы, включая правила, определение ценности фигур, функцию оценки и, самое важное, возможные методы поиска. В качестве фундаментального алгоритма поиска он использовал так называемый принцип минимакса, который первоначально был сформулирован в теории игр и впоследствии применялся во многих других сферах для принятия решений в условиях неопределенности. Говоря простым языком, алгоритм минимакса оценивает все доступные варианты и сортирует их от лучшего к худшему.
С помощью системы оценки шахматная программа ранжирует как можно больше возможных вариантов ходов в заданной позиции и определяет ценность каждой выявленной позиции. Ход, получающий максимальную оценку, помещается вверху списка как самый предпочтительный. В идеале программа должна проанализировать все возможные действия обоих игроков на столько ходов вперед, насколько позволит время.
Важным вкладом Шеннона было то, что он предложил две ключевые стратегии поиска — «тип А» и «тип Б». Попросту говоря, тип А — это всеохватывающий поиск, метод «грубой силы», предполагающий, что все возможные в рамках правил ходы и варианты исследуются все глубже и глубже с каждым ходом. Тип Б — метод «интеллектуального поиска» — опирается на относительно эффективный алгоритм, работающий во многом так же, как мозг шахматиста: он фокусируется только на нескольких хороших ходах и тщательно анализирует их, вместо того чтобы рассматривать все.
Выбор шахматного хода можно сравнить с выбором пирожного, когда вы стоите перед длинной витриной в кондитерской. Вам не нужно внимательно изучать каждый вид пирожного, чтобы сделать заказ. Вы уже знаете, какие пирожные вам нравятся, как они выглядят, из каких ингредиентов состоят, каковы на вкус. Поэтому вы быстро сужаете свой выбор до нескольких предпочтительных вариантов — и вот их-то уже оцениваете более внимательно.
Но вдруг вы замечаете в углу витрины новое лакомство, которое раньше никогда не видели. Оно выглядит довольно аппетитно. Теперь вам нужно остановиться — может быть, навести справки у продавца — и задействовать свою функцию оценки, чтобы понять, понравится ли вам это блюдо. Почему оно выглядит так аппетитно? Потому что похоже на одно из тех пирожных, которые вы ели раньше и любите. Именно так сильные шахматисты начинают оценивать ходы еще до того, как приступают к логическим расчетам. Ответственный за сопоставление с образцом участок нашего головного мозга подает сигнал, когда обнаруживает что-то интересное.
Рискуя злоупотребить этим сравнением и вызвать у вас голод, подчеркнем, что сама кондитерская также имеет значение. Если в это заведение вы заходите каждый день, вы будете делать выбор почти автоматически, возможно, исходя из времени дня или вашего настроения. Но что если вы оказались в кондитерской, в которой никогда не бывали раньше, например, в другой стране? Вы ничего не знаете о здешних пирожных, и ваша интуиция и опыт ничего не могут вам подсказать. В этом случае вам придется использовать метод грубой силы, стратегию поиска типа А: потребуется собрать информацию о каждом пирожном, его ингредиентах и вкусе. Чтобы принять правильное решение и выбрать пирожное, которое вам действительно понравится, вам надо будет потратить гораздо больше времени.
Именно так действуют начинающие шахматисты и, в некоторой степени, более сильные игроки, когда сталкиваются с совершенно новой и хаотичной позицией. Но шахматы — игра, имеющая ограничения, и для каждой позиции существуют модели и маркеры, которые наша интуиция может распознать и интерпретировать. Любая из примерно десятков тысяч позиций, запечатленных в памяти сильного мастера, может быть разбита на составные части, перевернута, изменена — и все равно останется полезной. Запоминается только последовательность дебютных ходов, в остальных же случаях сильные игроки полагаются не столько на память, сколько на сверхбыстрый поиск аналогий.
Когда я смотрю на шахматную позицию в своей или чужой партии, в моем процессе выбора ходов очень мало того, что можно назвать осознанным систематическим поиском. Некоторые ходы бывают вынужденными, скажем, если ваш король находится под шахом или если все остальные ходы очевидно проигрывают. На протяжении сражения такое происходит регулярно, например, когда ваша фигура под угрозой и вам необходимо спасти ее, иначе вам грозит дефицит материала. Некоторые партии включают несколько десятков вынужденных ходов, в сущности не требующих никакого поиска. Приличный игрок делает их практически на уровне рефлексов, подобно тому, как вы автоматически реагируете на красный и зеленый сигналы светофора.
Если нет необходимости в вынужденном ходе, то в каждой позиции обычно имеется три-четыре пригодных хода, а иногда десять или больше. Опять же, прежде чем в моей голове запускается систематический поиск, я выбираю несколько так называемых ходов-кандидатов для расчета с большей глубиной. Разумеется, если это моя партия, я не начинаю с нуля: я планирую стратегию и ищу наиболее подходящие варианты уже в то время, пока соперник обдумывает свой ход. Если он пошел так, как я ожидал, я могу ответить почти мгновенно. Зачастую я просчитываю варианты на четыре-пять ходов вперед, и если ситуация развивается согласно моему плану, делаю паузу только для того, чтобы перепроверить свои расчеты.
Бóльшую часть всего времени, необходимого для поиска и оценки, я трачу на основной вариант — ход, который я изначально выбрал как наиболее подходящий. Я использую свое умение рассчитывать ходы для проверки интуиции. Если соперник делает неожиданный ход, мне может потребоваться дополнительное время, чтобы изучить ситуацию на доске с точки зрения вновь открывшихся возможностей и слабых мест.
Человеческий ум не компьютер; он не может последовательно, один за другим, изучить все ходы-кандидаты и оценить каждый из них вплоть до хода последней пешки, как это делает шахматная машина. Даже самый дисциплинированный человеческий ум в пылу борьбы начинает метаться с одного на другое. В этом состоит одновременно и слабость, и сила человеческого мышления. Иногда эти бессистемные блуждания только ослабляют анализ. В других случаях они приводят к озарениям, к красивым или парадоксальным ходам, которых не было в вашем первоначальном списке кандидатов.
В книге «Шахматы как модель жизни» я написал о том, как воображение и интуиция помогают прорваться сквозь кажущийся непроходимым лес расчетов. Не могу удержаться от искушения еще раз процитировать Михаила Таля, восьмого чемпиона мира по шахматам, которого прозвали «рижским кудесником» за его ошеломительные полеты шахматной фантазии. В одной из своих книг Таль поведал{14} о том, что происходило у него в голове, когда он обдумывал возможную жертву коня в партии, сыгранной им в 1964 году с гроссмейстером Васюковым:
«Мысли громоздятся одна на другую. Тонкий ответ противника, пригодный в одном случае, вдруг переносится мною в другую ситуацию и там, естественно, оказывается совершенно непригодным. В общем, в голове возникает совершенно хаотическое нагромождение всяких ходов, подчас даже не связанных друг с другом, и пресловутое "дерево вариантов", от которого тренеры рекомендуют отсекать по веточке, у меня разрастается с неимоверной скоростью.
И вдруг мне почему-то вспомнилось классическое двустишие Корнея Ивановича Чуковского:
Ох, нелегкая это работа, Из болота тащить бегемота.Не знаю, по какой ассоциации этот бегемот влез на шахматную доску, но хотя зрители были убеждены, что я продолжаю изучать создавшуюся позицию, я на самом деле пытался в это время понять, как же бегемота вытаскивают из болота. Помнится, в моих мыслях фигурировали домкраты, рычаги, вертолеты и даже веревочная лестница. После долгих размышлений не нашел ни одного способа вытащить его из трясины и со злостью подумал: "Ну и пусть тонет!"
И вдруг бегемот исчез. Как он пришел на шахматную доску, так и ушел. Сам ушел! А позиция вдруг оказалась не столь уж сложной. Я как-то сразу понял, что все варианты просчитать невозможно и что жертва коня носит чисто интуитивный характер. А так как она сулила интересную игру, то, конечно, удерживаться не стал.
А назавтра с большим удовольствием прочел в газете, что Михаил Таль после сорокаминутного тщательного обдумывания позиции осуществил точно рассчитанную жертву фигуры…»
Таль обладал редким чувством юмора, был человеком исключительной честности и блестящего шахматного ума. Мыслительная дисциплина и способность к концентрации, безусловно, важны для профессионального шахматиста, но я подозреваю, что мы гораздо чаще полагаемся на такие вот интуитивные озарения, чем нам хотелось бы признать.
Игра в шахматы — жесткая борьба, а не лабораторный эксперимент. Колоссальное психологическое давление, неустанное тиканье часов — в таких условиях даже опытным гроссмейстерам трудно сохранять дисциплину мышления. Зрительное воображение слабеет, повышая вероятность серьезных промахов. Иногда вы тратите десять минут на обдумывание основного хода-кандидата и вдруг обнаруживаете, что это роковая ошибка. Паника! Отчаяние! Или же после хода противника вы видите возможность для блестящего победного удара. Восторг! Сделать ход немедленно в надежде на то, что интуиция вас не подвела? Или же потратить десять минут и проверить свою интуицию? Понятно, что компьютеры не переживают подобных психологических драм; это еще одна — наряду со способностью анализировать миллионы позиций в секунду — ключевая причина, объясняющая, почему над машинами так трудно одержать победу.
В 1949 году Клод Шеннон не надеялся на успех программ типа А, предполагающих анализ всех доступных ходов с максимально возможной глубиной. Цифры казались невероятными. Шеннон рассчитал, что даже если машина типа А будет оценивать миллион позиций в секунду (что «очень оптимистично»), на каждый ход потребуется больше 16 минут, а на среднюю партию в 40 ходов — больше десяти с половиной часов{15}. И все равно игра машины будет очень слабой, поскольку исследование дерева вариантов всего на три хода вперед позволяет победить лишь очень слабого человеческого игрока.
Главной проблемой шахматного программирования является великое множество позиций в дереве перебора — мы называем это коэффициентом ветвления. С самого начала количество вариантов было столь огромно, что их перебор мог бы поглотить всю вычислительную мощь самого высокопроизводительного компьютера. Каждая сторона начинает имея 16 боевых единиц: восемь пешек и восемь старших фигур. Число возможных комбинаций первых четырех ходов составляет более 300 млрд, и, хотя 95 % вариантов откровенно плохи, программа типа А будет перебирать их все, чтобы убедиться в этом.
Дальше — хуже. Из начальной позиции можно сделать около 40 допустимых ходов. С учетом ответных ходов мы получаем 1600 позиций — и это всего после двух полуходов, один из которых сделан белыми и один — черными. После двух полных ходов (четырех полуходов) возникает 2,5 млн позиций, а после трех — 4,1 млрд! Поскольку в среднем партия продолжается примерно 40 ходов, число позиций достигает астрономических величин. А общее количество допустимых позиций в шахматах сопоставимо с количеством атомов в Солнечной системе.
Поэтому Шеннон, сам заядлый шахматист, возлагал надежды на стратегию типа Б, которая работает более избирательно и эффективно. Вместо того чтобы просчитывать все возможные ходы и позиции на одинаковую глубину, алгоритм типа Б, как хороший игрок, должен изначально отбросить все плохие и незначительные ходы и сосредоточить внимание на наиболее перспективных вариантах и вынужденных ответах, исследуя их как можно глубже.
Люди быстро учатся тому, что в каждой позиции есть относительно небольшое число разумных ходов, и чем сильнее игрок, тем быстрее и точнее он осуществляет первичную сортировку и отсеивание. Новички больше играют как машины типа А, пытаясь перебрать все доступные варианты и просчитать их последствия. Этот метод грубой силы работает разве что у компьютеров, способных проанализировать миллионы позиций в секунду, но не у людей — даже чемпион мира может оценить не больше двух-трех позиций в секунду.
Если в данной позиции вам удастся найти четыре-пять наиболее разумных ходов и отбросить остальные — что не так-то просто, — дерево вариантов все равно разветвится очень быстро. Следовательно, даже если вы сможете создать алгоритм типа Б, который будет вести более интеллектуальный поиск, все равно потребуется огромная скорость обработки и невероятная память, чтобы оценить эти миллионы позиций.
Я уже упоминал о «бумажной машине Алана Тьюринга», первой работоспособной шахматной программе. Я даже имел честь сыграть с воссозданной версией программы на современном компьютере — это произошло на праздновании столетнего юбилея Тьюринга в Манчестере в 2012 году, куда я был приглашен в качестве выступающего. По современным меркам программа довольно слаба, но ее все равно следует рассматривать как огромное достижение, учитывая тот факт, что Тьюринг не имел возможности протестировать ее на компьютере.
Когда несколько лет спустя появились первые ЭВМ, умевшие выполнять шахматные программы, они работали так удручающе медленно, что специалисты заключили: Шеннон был прав и все надежды на прогресс следует связывать с программами типа Б. Логичный вывод, поскольку машины, способные развивать «оптимистичную» скорость перебора миллион позиций в секунду, будут созданы только через несколько десятилетий. До тех пор машине потребовалось бы на каждый ход несколько недель, чтобы достичь глубины поиска, необходимой для игры среднего уровня, и несколько лет — чтобы глубина поиска соответствовала сильной игре. Однако предположение о том, что имитация человеческого метода лучше грубой вычислительной силы, оказалось во многом неверным, причем далеко не в первый и не в последний раз.
Следующий шаг в развитии компьютерных шахмат был сделан в 1956 году в Центре ядерных исследований в Лос-Аламосе. Здесь теории Винера, Тьюринга и Шеннона впервые воплотились в реальной шахматной машине. Когда в центр доставили один из первых в мире компьютеров — гигантского монстра MANIAC-1 с 2400 вакуумными трубками и революционной возможностью хранения программ в памяти, ученые-разработчики водородной бомбы немедленно опробовали машину, написав для нее шахматную программу. А как же еще? Из-за ограниченных ресурсов устройства им пришлось использовать уменьшенную доску шесть на шесть клеток и исключить слонов. После партии с самим собой и проигрыша сильному шахматисту (игравшему без ферзя) компьютер победил девушку, едва знакомую с правилами игры. Так человек впервые уступил машине в интеллектуальной игре.
Спустя год после этого исторического события, в 1957-м, группа исследователей из Университета Карнеги — Меллона провозгласила, что раскрыла секрет создания алгоритма типа Б, который всего через десять лет победит чемпиона мира по шахматам. Учитывая, насколько медленными и дорогими в те времена были компьютеры, это утверждение звучало не менее дерзко, чем заявление Джона Кеннеди, пообещавшего 25 мая 1961 года, что Соединенные Штаты к концу десятилетия отправят человека на Луну.
Возможно, исследователи из Университета Карнеги—Меллона просто не осознавали масштаба проблемы. Даже если бы вся индустриальная мощь Америки была брошена на создание компьютера, способного к 1967 году переиграть самых сильных шахматистов планеты, эта задача вряд ли была бы выполнена. Программа Apollo потребовала разработки новых материалов и инновационных технологий, и предсказание Кеннеди осуществилось только благодаря прорывам почти во всех соответствующих технологических областях. Тем не менее цель, поставленная авторами космической программы, отвечала общему уровню технического развития того времени. Ответственные за Apollo в 1961 году представляли, что им нужно сделать, чтобы отправить человека на Луну, даже если точно не знали как.
Напротив, компьютеры, способные составить конкуренцию чемпиону мира по шахматам, появились только в 1997 году, через 30 лет после обещанного командой из Университета Карнеги — Меллона срока, — и это при том, что вычислительная мощность компьютеров удваивалась примерно каждые два года согласно закону Мура. Их сенсационный «сверхумный» алгоритм быстро показал свою неработоспособность, и было неясно, каким путем следовать дальше. Шахматы оказались слишком сложной игрой, компьютеры — чересчур медленными. Если бы в 1960-е годы на разработку шахматных программ потратили на несколько миллионов человеко-часов больше, это привело бы к впечатляющим успехам в области программирования и разработки аппаратного обеспечения, но компьютерное оборудование, способное хранить достаточные объемы информации и выполнять сложные программы с достаточно высокой скоростью, чтобы играть на уровне гроссмейстеров, стало доступным только в 1980-х.
Создание такой шахматной программы к 1967 году было делом немыслимым и вряд ли удалось бы к 1977-му, даже если бы на него израсходовали сумму, эквивалентную бюджету NASA. Суперкомпьютер Cray-1, установленный в Лос-Аламосской национальной лаборатории в 1976-м, был самым мощным компьютером в мире со скоростью 160 млн операций в секунду (160 мегафлопсов). Сравним это с программой Deep Junior, с которой я сыграл вничью в 2003 году. Она работала на компьютере с четырьмя процессорами Pentium 4, каждый из которых функционировал примерно в 20 раз быстрее, чем суперкомпьютер Cray-1, и играла не хуже и даже лучше{16}, чем требовавшая использования специализированного оборудования Deep Blue в 1997-м.
Дело было не в скорости: просто Deep Blue перебирала в среднем в 50 раз больше позиций в секунду, чем Deep Junior, — 150 млн против 3 млн. Но техническая скорость — только один из факторов шахматной силы машины. Чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения, в первую очередь необходимо иметь эффективную программу. Как показали усилия нескольких поколений шахматных программистов, начиная с 1970-х годов, уровень шахматных способностей программы тем выше, чем чаще происходит ее оптимизация и чем «умнее» процедуры поиска.
Когда же программисты добавляют в алгоритм поиска различные элементы, связанные с шахматной спецификой, приходится искать компромиссное решение. Самые простые шахматные программы должны понимать, например, что такое мат и какова относительная ценность фигур. Если вы научите машину, что и ладья и слон стоят трех пешек — тогда как ладья в действительности сильнее слона, — она не станет сильным игроком. Компьютеры очень хорошо и быстро справляются с подсчетом материала и узнают, у кого больше фигур на доске, а программистам не нужно глубоко разбираться в шахматах, чтобы правильно присвоить фигурам стандартные значения.
Далее следуют более абстрактные шахматные знания: надо понимать, кто контролирует больше пространства на доске, как расположены пешки, находится ли король в безопасности и т. п. Каждый раз, когда вы даете компьютеру новую информацию для оценки хода, поиск замедляется. Короче говоря, шахматная программа может быть либо быстрее и глупее, либо медленнее и умнее. Найти баланс непросто, и потребовались десятилетия, чтобы создать машины, которые были бы достаточно умными и достаточно быстрыми для того, чтобы бросить вызов сильнейшим шахматистам мира.
Хотя первоначальные прогнозы не оправдались, на протяжении следующих 20 лет в компьютерных шахматах наблюдался устойчивый прогресс. Неумолимое развитие вычислительных мощностей по закону Мура и достигнутые методом проб и ошибок успехи в программировании привели к созданию в 1977 году шахматных машин, способных играть на экспертном уровне — то есть так, как играют лучшие 5 % шахматистов. Компьютеры по-прежнему делали множество вопиюще нелогичных ходов, которые никогда бы не сделал даже слабый игрок. Но они стали достаточно быстрыми для того, чтобы компенсировать эти случайные промахи грамотной обороной и выверенной тактикой.
Увеличение скорости работы аппаратного обеспечения было только одним из факторов прогресса. Значительную роль сыграли более совершенные программы, ускоряющие процесс поиска. Был разработан алгоритм «альфа-бета», который позволял программам быстрее отсекать слабые ходы и глубже просчитывать остальные. Он представлял собой улучшенную версию алгоритма «минимакс», описанного Шенноном как стратегия типа A, или метод грубой силы. Программы, которые использовали «альфа-бета», отвергали любой ход, получавший более низкую оценку, чем уже рассмотренный. Благодаря этому ключевому усовершенствованию и другим изменениям программы типа A стали доминировать над программами типа Б. Эффективное использование грубой силы перевешивало любую попытку сымитировать человеческое мышление и интуицию в шахматной машине. Некоторые шахматные знания были необходимы, но важнейшим условием победы являлась скорость.
Все современные шахматные программы основаны на применении отсекающего алгоритма «альфа-бета» к базовой концепции минимакса. На эту структуру программисты накладывают оценочную функцию и настраивают ее для достижения оптимальных результатов. Первые шахматные программы, разработанные с использованием этого метода и установленные на самых мощных компьютерах того времени, достигли довольно высокого уровня шахматного мастерства. К концу 1970-х годов программы, управлявшие первыми персональными компьютерами типа TRS-80, уже могли побеждать большинство шахматистов-любителей.
Следующий прорыв произошел благодаря компании Bell Laboratories из Нью-Джерси, давшей миру несколько изобретений и нобелевских лауреатов. Кен Томпсон создал специализированный шахматный компьютер Belle с сотней микропроцессоров. Эта машина могла перебирать 180 000 позиций в секунду, тогда как обычные универсальные суперкомпьютеры того времени справлялись лишь с пятью тысячами. При глубине расчета до девяти полуходов Belle мог играть на уровне мастера и значительно превосходил другие шахматные машины. С 1980 по 1983 год он победил почти во всех соревнованиях по компьютерным шахматам, пока его не превзошла программа, работавшая на следующем поколении суперкомпьютеров Cray.
Шахматные программы для персональных компьютеров — Sargon, ChessMaster и другие — продолжали совершенствоваться и становиться сильнее вследствие быстрого роста вычислительной мощности процессоров от Intel и AMD. Вернулись и специализированные шахматные компьютеры наподобие Belle, на этот раз в виде целого поколения машин, разработанных в Университете Карнеги — Меллона. Профессор Ханс Берлинер, специалист по компьютерным технологиям, а также чемпион мира по игре в шахматы по переписке, вместе со своей командой создал машину HiTech, которая в 1988 году играла на уровне гроссмейстера. Однако вскоре ее превзошло детище учеников Берлинера — аспирантов Мюррея Кэмпбелла и Сюй Фэнсюна. Их специализированный шахматный компьютер Deep Thought стал в ноябре 1988-го первой в истории машиной, победившей гроссмейстера в турнирной партии. После завершения учебы в 1989 году Кэмпбелл и Сюй Фэнсюн вместе с Deep Thought присоединились к IBM, где их проект получил новое имя, созвучное словосочетанию Big Blue («Голубой гигант»), как часто называют компанию. Так Deep Thought превратился в Deep Blue, и началась новая глава в истории шахматных машин.
3. Человек против машины
Конкуренция человека и машин тревожит людские умы едва ли не с момента изобретения первых механизмов. Терминология регулярно обновляется, но лейтмотив остается неизменным: люди проигрывают гонку машинам и остаются не у дел. Идея противостояния человека и машины стала особенно актуальной во времена промышленной революции, когда появились паровые машины и началась масштабная механизация промышленности и сельского хозяйства.
Проблема приобрела более зловещие очертания с приходом эры автоматизации и робототехники в 1960–1970-е годы, когда все более умные и точные машины стали посягать на рабочие места людей, представленных такой мощной социальной и политической силой, как профсоюзы. Последовавшая за этим информационная революция привела к устранению еще миллионов рабочих мест, в том числе в сфере обслуживания и сопутствующих отраслях.
Сегодня мы подошли к следующей главе в истории соперничества человека и машин, когда последние начинают «угрожать» образованному классу: каждый день мы слышим о том, что автоматы отнимают работу у юристов, банкиров, врачей и других белых воротничков. Не сомневайтесь, все до единой профессии ощутят на себе это давление, в противном случае это бы означало, что человечество остановилось в своем развитии. Представьте руку робота, которая либо сжимается на нашей шее, либо поднимает нас на новые высоты, которых мы бы никогда не могли достичь лишь собственными силами.
Сетовать на то, что технологии лишают нас рабочих мест, — все равно что жаловаться на антибиотики, которые оставляют без работы могильщиков. Процесс, в ходе которого люди перекладывают работу на свои изобретения, повышая тем самым качество жизни и улучшая ситуацию с правами человека, и есть история цивилизации. Разве не глупо сидеть в комнате с кондиционером и миниатюрным смартфоном в руках, дающим вам доступ к колоссальному массиву человеческих знаний, и причитать, что технологии портят вам жизнь? В мире все еще много мест, где люди вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом и не имеют доступа к современной медицине и даже к чистой воде. Они буквально умирают от отсутствия технологий.
Сегодня давление ощущают на себе не только специалисты с высшим образованием. Сотрудники колл-центров в Индии теряют работу из-за внедрения систем искусственного интеллекта. Рабочие на линиях по сборке электроники в Китае заменяются роботами со скоростью, которая шокировала бы даже Детройт. Нынешнее поколение работников в развивающихся странах — в основном люди, которые первыми в своих семьях перебрались в город и избежали участи заниматься тяжелым крестьянским трудом. Они что, должны вернуться на поля? Некоторые так и поступят, но подавляющее большинство не согласится. Это все равно что требовать от юристов и врачей «вернуться на заводы», которых больше не существует. Пути назад нет — только вперед.
Мы не можем остановить технический прогресс или выбрать отдельные отрасли, где он должен остановиться. С глобализацией экономики труд становится почти таким же текучим, как капитал. Люди, чьи рабочие места уже лежат на плахе автоматизации, боятся, что нынешний поток технологий сделает их бедными, но они также зависят от следующей волны как источника экономического роста — единственного фактора создания новых рабочих мест. Даже если было бы возможно каким-то образом (каким?) замедлить развитие и внедрение интеллектуальных машин, это лишь ненадолго облегчило бы боль немногих и сделало бы ситуацию гораздо хуже для всех в будущем.
К сожалению, у политиков и руководителей компаний существует давняя традиция пренебрегать долгосрочными целями и бóльшими выгодами ради краткосрочного удовлетворения узких групп поддержки. Обучение и переподготовка работников, чтобы те могли приспособиться к переменам, — гораздо более эффективная стратегия, чем попытка сохранить их под неким луддитским колпаком. Но это требует планирования и жертв — слова, которые больше ассоциируются с игрой в шахматы, чем с сегодняшними лидерами.
Дональд Трамп победил на президентских выборах в 2016 году благодаря обещаниям «вернуть рабочие места из Мексики и Китая в США», как будто американские рабочие могут и должны конкурировать за рабочие места на производствах со странами, где зарплаты в разы меньше американских. Повышение тарифов на продукцию иностранного производства значительно удорожит практически все потребительские товары, и многие люди вряд ли смогут вынести такой удар по своему карману. Если айфоны, сделанные в США, будут стоить в два раза больше, чем те же модели китайского производства, сколько их сможет продать Apple? Невозможно исключить негативные аспекты глобализации, при этом сохранив ее преимущества.
Нет смысла сосредоточиваться на отрицательном потенциале прорывных, меняющих мир технологий, таких как искусственный интеллект. При всей реальности этих проблем существует лишь единственный способ решить их — продолжать идти по пути инноваций и делать это еще более решительно и смело, ставя перед собой все новые проблемы и находя новые решения. Соединенным Штатам не нужно пытаться вернуть потерянные рабочие места из прошлого — им следует создавать новые рабочие места, нацеленные в будущее. Так всегда происходило раньше, и так можно сделать сейчас. В 1920 году 30 % американцев занимались фермерством, сегодня же, почти сто лет спустя, их количество сократилось до 2 % — и все «лишние» люди успешно нашли рабочие места за пределами сельского хозяйства.
После того как 4 октября 1957 года был запущен небольшой спутник, созданный Сергеем Королевым, космическая гонка превратилась в спринт, продолжавшийся несколько десятилетий. Президент Эйзенхауэр немедленно приказал ускорить работу над американскими космическими программами, что, вероятно, и стало причиной неудачного запуска первого спутника Vanguard в декабре 1957 года.
СМИ окрестили безуспешную попытку вывести спутник на орбиту Земли «Капутником»[3]. Катастрофу можно было видеть в прямом эфире по телевидению. Провал заставил администрацию усилить давление на руководителей проекта с тем, чтобы они поскорее добились достойных результатов.
Впоследствии выражение «момент спутника» вошло в американский лексикон — под ним стало пониматься любое достижение иностранных государств, напоминающее США о том, что у них есть сильные соперники. Например, нефтяное эмбарго ОПЕК в 1970-е годы явилось «моментом спутника», подтолкнувшим страну к активному развитию альтернативной энергетики. Потом были развитие японских производственных технологий в 1980-е годы, расширение Европейского союза в 1990-е и подъем стран Азии в последние десятилетия.
Еще одним тревожным звонком для Соединенных Штатов должно было бы стать то, что в 2010 году дети в Шанхае показали в стандартизированных тестах по математике, естествознанию и чтению гораздо более высокий уровень, чем их сверстники из других стран. И 13 октября 2016 года газета The Washington Post вышла под заголовком: «Китай опережает США в исследованиях в области ИИ». Не может ли этот факт быть связан с результатами тестирования 2010-го? Не является ли это очередным «моментом спутника»? Как мы видим, Америка вяло принимает брошенные ей вызовы такого рода (если не считать самый первый из них).
Естественно, со временем запуск первого советского спутника перестал казаться столь значимым событием, но тогда этот металлический шар диаметром чуть больше полуметра воплотил в себе все реальные и вымышленные страхи американского общества. От статей, публиковавшихся на первых полосах газет, веяло удивлением и ужасом, вызванными столь шокирующим сочетанием коммунистической идеологии и непревзойденной технологии. Момент спутника подтолкнул Америку к активным действиям, воззвав к ее первородным инстинктам: он пробудил у нее страх и гнев, бросил вызов национальному эго и гордости.
И страна ответила. В 1958 году, за три года до того, как президент Джон Кеннеди пообещал отправить человека на Луну, сенат принял Закон об образовании для нужд национальной обороны, целью которого было расширение возможностей получения образования в стратегически важных областях науки. Впоследствии поколение инженеров, техников и ученых, сформировавшееся благодаря этому закону, разработало и построило тот самый цифровой мир, в котором мы живем сегодня.
Разумеется, никто точно не знает, можно ли в случае необходимости вызвать дух национального возрождения, как джинна из волшебной лампы Аладдина. Глупо и опасно считать, что война и страх — единственная сила, способная вдохновить нацию на подъем, ведь чем меньше мы воюем и боимся, тем, очевидно, лучше нам живется. Однако осознание угроз своему существованию замечательно способствует сосредоточению мыслей, как заметил Сэмюэл Джонсон в своем известном высказывании о человеке, приговоренном к повешению[4]. А любые общественные усилия, нацеленные на серьезные преобразования, требуют от политиков, бизнес-лидеров и подавляющего большинства граждан высочайшей концентрации мыслей и сил.
В 1970-х годах американские потребители начали охотно покупать превосходные японские автомобили. Китайских студентов с энтузиазмом приветствовали во всех американских университетах и компаниях. В современном глобализованном мире жесткая технологическая конкуренция уступила место идее, что на самом деле не важно, где создаются инновации, — мы все выигрываем от того, что кто-то где-то сделает нашу жизнь лучше. Безусловно, здесь есть зерно истины, но это не означает, что Соединенные Штаты должны отказаться от стремления к научному превосходству. Америка по-прежнему обладает уникальным потенциалом для инноваций в таких масштабах, чтобы стать двигателем всей мировой экономики. Если же она позволит себе довольствоваться вторыми ролями, мир обеднеет.
Отвечая на вопрос конгрессменов о причинах советских успехов в технической области, советник президента Эйзенхауэра по науке и технологиям Джеймс Киллиан, в то время также президент Массачусетского технологического института, указал на культурные особенности: «Можно утверждать, что Советам удалось привить в своем обществе уважение и энтузиазм в отношении науки и техники, и именно это обеспечивает их большим количеством образованных специалистов в этих областях». В декабре 1957 года слова Киллиана были процитированы в публикации в «Бюллетене ученых-атомщиков», чьи редакторы придерживались еще более критичного мнения об американском менталитете, позволившем СССР вырваться вперед в космической гонке. «Мы предпочитаем удовлетворять наши потребности в спокойной, комфортной жизни, вместо того чтобы сосредоточиваться на более значимых целях и развивать наши возможности», — говорится в редакционном комментарии к статье.
Это был корректный способ сказать, что американцы стали ленивыми и недальновидными и подрастеряли свою легендарную готовность к риску, необходимую для того, чтобы оставаться на переднем крае научно-технического прогресса. Боюсь, что сегодня Соединенные Штаты снова впали в такое состояние. Кремниевая долина по-прежнему остается ведущим центром инноваций в мире, и Америка имеет лучшие условия для успеха, чем любая другая страна, но когда вы в последний раз слышали о том, чтобы правительство приняло меры, направленные на продвижение инноваций, а не на их ограничение?
Я твердо верю в свободное предпринимательство как в силу, способную двигать мир вперед. Советская пропагандистская машина, при всей своей, мощи не могла сравниться с американской инновационной машиной, когда та была запущена в действие. Проблемы возникают тогда, когда правительство начинает сдерживать инновации посредством чрезмерного регулирования и недальновидной политики.
Противостоять распространению машинного интеллекта — все равно что бороться с электричеством или ракетами. Если использовать машины с умом, они будут продолжать делать нас богаче и здоровее — и умнее. Давайте ненадолго отвлечемся и подумаем, какое первое человеческое изобретение непосредственно способствовало углублению наших знаний и понимания мира. В XIII веке технология шлифования стекла привела к созданию очков, а затем телескопа и микроскопа — инструментов, которые значительно усилили человеческое зрение и нашу способность контролировать окружающий мир благодаря улучшенной навигации и медицинским исследованиям. Еще одно, более раннее, изобретение — компас, давший нам доступ к информации, которую без его помощи трудно или невозможно получить. Но до компаса были счеты, известные с третьего тысячелетия до нашей эры. Они стали первым устройством, увеличившим, подобно компьютеру, возможности человеческого интеллекта. Алфавит, бумага и печатный станок не создают новых знаний, но выполняют важную задачу по их сохранению и распространению, как сегодня это делает интернет.
Мой собственный опыт сражения с компьютерами за шахматной доской — скорее исключение, подтверждающее правило. Мы не конкурируем с машинами, пусть даже они способны выполнять за нас множество работ. Мы соревнуемся с самими собой, ставя себе все новые задачи, расширяя свои возможности и улучшая жизнь. В свою очередь, новые задачи требуют еще более способных машин — и, соответственно, людей, чтобы создавать их, обучать и содержать в исправности до тех пор, пока не будут созданы автоматы, которые смогут сами делать все это для себя и таким образом обеспечивать продолжение цикла. Если мы считаем, что наши собственные технологии берут над нами верх, то это только потому, что мы не стремимся вперед и наши цели и мечты недостаточно амбициозны. Вместо того чтобы беспокоиться о том, что машины могут делать, нас должно гораздо больше волновать то, что им пока недоступно.
Еще раз говорю: я сочувствую людям, пострадавшим от новых прорывных технологий. Мало кто лучше меня знает, каково это, когда машина угрожает делу всей твоей жизни. Никто не мог сказать, что случится, если и когда шахматная машина сможет обыграть чемпиона мира. Будут ли и дальше проводиться профессиональные шахматные турниры? Продолжат ли спонсоры выделять деньги, а СМИ — освещать мои матчи за шахматную корону, если всем станет известно, что лучший шахматист в мире — машина? Будут ли люди вообще играть в шахматы?
К счастью, жизнь дала утвердительный ответ на все эти вопросы, но возможные сценарии конца света во многом объясняли, почему многие в шахматном сообществе критиковали меня за согласие участвовать в состязаниях человека с машиной. Но я убежден, что своим отказом лишь ненадолго отсрочил бы неизбежное, заставив программистов бросить вызов другим ведущим игрокам. Если бы машина победила Ананда и Карпова, которые на момент моего матча-реванша с Deep Blue в мае 1997 года были следующими после меня в мировом рейтинге шахматистов, все бы непременно захотели узнать: «А сможет ли она обыграть Каспарова?» Но этот вопрос мог интересовать людей, только пока я оставался чемпионом мира (до осени 2000 года) или пока продолжал шахматную карьеру (до весны 2005-го). Но я не уклонился от вызова и вошел в историю как первый чемпион мира, проигравший матч компьютеру. Думаю, это гораздо почетнее, чем запомниться как первый чемпион мира, испугавшийся играть с компьютером.
Более того, я охотно принял этот вызов. Я был воодушевлен возможностью попробовать свои силы, внести собственный вклад в науку и открыть новые пути популяризации шахмат — а также, честно говоря, тем вниманием и деньгами, которые этот поединок мог привлечь. Почему я должен отказываться от уникальной и исторической роли и вместо участника становиться простым зрителем?
Я не верил в апокалиптические сценарии того, что может случиться, если я проиграю машине. Я всегда был оптимистичен по поводу будущего шахмат в цифровую эпоху, и не только из-за распространенного аргумента, что «у нас есть быстрые и комфортные автомобили, но люди по-прежнему занимаются бегом». Действительно, автомобили не сделали бег устаревшим занятием и не оставили бегунов без работы. На Земле есть много существ, которые могут перемещаться быстрее Усейна Болта{17}, способного развить максимальную скорость 44,72 км/ч, — начиная от койотов (65 км/ч) и кенгуру (больше 70 км/ч). Ну и что?
Шахматы отличаются от физических видов спорта тем, что шахматные машины могут прямо и косвенно влиять на игру человека. Их можно сравнить со стероидами и другими стимулирующими препаратами, которые в состоянии значительно повысить спортивные результаты или, наоборот, снизить их при неправильном применении. Шахматы — конкретная игра; любой ход или стратегия, использованные компьютером, могут быть в точности повторены человеком. Что если машины покажут нам, что некоторые из самых популярных шахматных дебютов в действительности плохи, и подскажут, чем их заменить? Не превратятся ли сами люди в автоматы, которые просто следуют тактикам и стратегиям, придуманным машинами? Не станет ли сильнейшим игроком тот, у кого дома самый мощный компьютер? И не охватит ли шахматные турниры эпидемия компьютерного мошенничества? Все это реалистичные и серьезные вопросы, которые по-прежнему остаются актуальными, но мрачные прогнозы, что компьютеры сделают шахматы раз и навсегда решенной задачей или сделают игру человека против человека устаревшей, так и не сбылись.
Как это происходит почти с любой новой технологией, рост возможностей и доступности шахматных машин принес с собой не только потенциальные риски, но и множество преимуществ. Я признаю, что сам осознал это относительно поздно. Первые несколько поколений шахматных программ для ПК, которые в просторечие назывались шахматными движками, были слишком слабы для того, чтобы принести значимую пользу профессиональным игрокам. Популярные шахматные программы предназначались скорее для любителей{18}, и в них больше внимания уделялось красивой 3D-графике и анимированным фигурам, чем игре как таковой. Даже в начале 1990-х годов, когда эти «движки» стали превращаться в более сильных и опасных противников, их игра по-прежнему оставалась нечеловеческой и временами откровенно нелепой, не очень полезной для серьезной тренировки.
Мой первоначальный интерес к компьютерам был связан с разработкой инструментального программного обеспечения, которое я или другие серьезные игроки могли бы использовать для подготовки. База данных с тысячами партий, с возможностью поиска за несколько секунд и легкого обновления избавила бы нас от необходимости перерывать горы справочной литературы и делать собственные записи. В 1985 году я начал обсуждать вопрос создания такого приложения с немецким автором научно-технических книг Фредериком Фриделем, увлеченным энтузиастом компьютерных шахмат. Вместе со своим другом программистом Маттиасом Вюлленвебером они основали в Гамбурге фирму ChessBase и в январе 1987-го выпустили на рынок первую программу под тем же названием. Так эта древняя игра вступила в информационную эру, по крайней мере если у вас был компьютер Atari ST. Появление возможности собирать, систематизировать, анализировать, сравнивать и просматривать партии за несколько кликов стало в 1987 году таким же революционным событием, каким в свое время было изобретение печатного станка.
Что касается шахматных движков, то к началу 1990-х годов я уже проиграл несколько блицпартий лучшим программам ПК, и не приходилось сомневаться, что они будут становиться только сильнее. До того как персональные компьютеры получили широкое распространение, возможности машин зачастую значительно переоценивались или недооценивались. Некоторые ранние теории, с моей точки зрения, оптимистичные, утверждали, что резко растущий характер ветвления дерева вариантов в какой-то момент положит конец дальнейшему усилению машинного шахматного анализа. Однако на практике совершенствование программ и появление все более мощных процессоров позволяло машинам неуклонно повышать свое шахматное мастерство.
Я начал понимать, что распространение сильных программ может значительно демократизировать шахматы во всем мире. Успехами в этой игре я обязан природному таланту и настойчивости моей мамы, а также, не в меньшей степени, месту рождения. В Советском Союзе я мог с легкостью найти шахматную литературу, тренеров и сильных соперников. Нигде больше в мире не было таких благоприятных условий, пожалуй, за исключением бывшей Югославии. Другие страны, особенно не имевшие многолетних шахматных традиций, заметно отставали.
Появление шахматных программ, способных играть не хуже гроссмейстеров на доступных и недорогих персональных компьютерах, позволило устранить это неравенство. Хотя программы не могут сравниться с опытным тренером, это лучше, чем ничего. А в сочетании с возможностями интернета, позволяющего соединить игроков всей планеты, это открыло совершенно новые перспективы. Чтобы вырастить настоящий шахматный талант, его нужно обнаружить в как можно более раннем возрасте, а сильные шахматные программы вкупе со Всемирной сетью значительно упростили выявление таких дарований в любой точке земного шара. Неслучайно сегодня список сильнейших шахматистов мира включает много представителей тех стран, где практически нет устоявшейся шахматной школы. В значительной степени это заслуга информационной эры, устранившей множество традиционных барьеров. В Китае и Индии шахматы являются довольно популярной игрой, чему способствуют государственная поддержка и местные звезды, но именно возможность тренироваться с машинами гроссмейстерского уровня помогла шахматистам этих стран в последние годы ворваться в мировую шахматную элиту. Раньше этим странам нужно было приглашать советских тренеров, проводить у себя дорогостоящие международные турниры или отправлять своих игроков за границу, чтобы они могли сразиться с сильными соперниками. Теперь все стало гораздо проще. В настоящее время шесть китайских шахматистов входят в список 50 сильнейших игроков мира. Русских там по-прежнему больше всех (11 игроков), но их средний возраст — 32 года, тогда как китайских — всего 25 лет.
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии родился в 1990-м. Он не жил в те времена, когда шахматные программы были слабее людей. Но он сумел стать игроком с очень ярким «человеческим стилем», чья интуитивная позиционная игра практически не несет в себе следов влияния машин. К сожалению, как мы узнаем чуть дальше, этого нельзя сказать о многих его современниках.
Прежде чем перейти к моему собственному опыту игры с шахматными машинами, давайте совершим краткий экскурс в историю этого давнего соперничества. Могу сказать, что его спортивный аспект гораздо менее интересен, чем то, что мы можем благодаря ему узнать об искусственном интеллекте, человеческом мышлении и особенно конкуренции машин и людей как таковой.
Существенно не то, каким образом компьютерам удалось превзойти человека в шахматной игре. И не столь уж много поединков между человеком и машиной способны увлечь неспециалистов. Самые интересные партии — те, в которых так или иначе видны успехи в развитии способностей машины к игре, поскольку они свидетельствуют о прогрессе науки. Результаты шахматного сражения неизбежно оказываются в центре внимания, но важнее видеть то, что скрыто за выигрышем и проигрышем. Если мы хотим с помощью шахмат лучше понять сильные и слабые стороны человеческого разума и искусственного интеллекта, отдельные ходы значат больше, чем исход партии.
Благодаря международной рейтинговой системе, ранжирующей шахматистов по уровню мастерства, простой график может показать нам, как машины неуклонно наращивали свою шахматную силу, начиная с первых ЭВМ и специализированных шахматных машин и заканчивая лучшими современными программами. В 1960-е годы они играли как новички, в 1970-е — как сильные шахматисты, поднялись до гроссмейстерского уровня в 1980-е годы и до уровня чемпиона мира — в конце 1990-х. Не было никаких гигантских скачков — просто медленная и устойчивая эволюция по мере того, как мировое сообщество программистов училось и соревновалось друг с другом, а оборудование неуклонно совершенствовалось в соответствии с законом Мура{19}.
Аналогичное направление развития — с начального уровня до экспертного — наблюдается и во многих других областях применения искусственного интеллекта. Системы ИИ сначала превратились из смехотворно слабых в интересные, но бесполезные устройства, затем стали несовершенными, но полезными и наконец превзошли человека.
Мы видим эту эволюцию в системах распознавания и синтеза речи, беспилотных автомобилях, виртуальных помощниках наподобие Siri от Apple. Всегда наступает переломный момент, после которого системы ИИ трансформируются из развлечения в полезнейшие инструменты. Дальнейшее их совершенствование приводит к тому, что эти инструменты преобразовываются в нечто большее, чем даже замышляли их создатели. Зачастую это происходит вследствие объединения технологий, как, например, в случае интернета, который в действительности представляет собой результат совместной работы полудюжины различных технологий.
Просто поразительно, как быстро мы меняем скептическое отношение к новой технологии на восприятие ее как чего-то само собой разумеющегося. Несмотря на то что стремительные темпы технического прогресса являются нормой на протяжении всей нашей жизни, мы по-прежнему встречаем любое новшество с настороженностью и страхом — только лишь для того, чтобы через пару лет «не мыслить себе жизни» без него. Разве не мудрее было бы сохранять хладнокровие, чтобы как можно лучше подготовиться к проникновению в нашу жизнь очередной новой технологии?
За девять дней до моего рождения, за 22 года до моего сеанса одновременной игры с 32 компьютерами в Гамбурге и за 34 года до моего рокового матча-реванша с Deep Blue в Москве состоялся первый официальный матч между шахматной машиной и гроссмейстером. Сегодня мало кто помнит об этом поединке, однако он стал важной вехой в развитии компьютерных шахмат.
Советский гроссмейстер Давид Бронштейн, скончавшийся в 2006 году, был близок мне по духу во многих отношениях. Он всегда отличался пытливым умом и готовностью к экспериментам на шахматной доске и за ее пределами, а его неустойчивый характер нередко приводил к столкновениям с советской властью. Бронштейн разработал ряд новаторских подходов к популяризации шахмат и даже несколько новых вариаций самой игры{20}. Его сразу же заинтересовали искусственный интеллект и компьютерные шахматы, и он охотно играл с каждым новым поколением программ. Бронштейн тоже видел в шахматных машинах потенциал для углубления нашего понимания природы человеческого мышления и написал на эту тему множество статей.
В 1963-м, спустя 12 лет после сыгранного вничью матча за мировую корону с могущественным Ботвинником, Бронштейн по-прежнему оставался одним из сильнейших шахматистов мира{21}. И 4 апреля 1963 года в Московском институте математики он сыграл полную партию с шахматной программой, созданной советскими учеными и работавшей на советской ЭВМ М-20. Я бы очень хотел спросить у Бронштейна, что он чувствовал, когда делались первые ходы. Он не знал, на каком уровне играет машина, и не имел возможности подготовиться к встрече с уникальным соперником, поэтому для него это было прыжком в неизвестность.
Однако быстро выяснилось, что главный сюрприз, если перефразировать знаменитое изречение Сэмюэла Джонсона, состоял не в том, что машина хорошо играла в шахматы, а в том, что она вообще в них играла. Бронштейн просто забавлялся с откровенно слабым соперником. Он пожертвовал ей часть материала, а взамен расставил фигуры на атакующие позиции и обрушился на ее короля. Затратив на партию всего 23 хода, он напрочь разгромил машину.
Победа Бронштейна над М-20 не удивляет. В поединках более-менее сильных игроков с машинами первого поколения компьютеры слишком жадничали, за что нещадно наказывались. Ранние программы уделяли чрезмерное внимание количественной оценке материала, то есть числу фигур у каждого игрока. Это самый простой оценочный фактор — присвоить значение каждой фигуре на доске и определить их совокупную ценность, а кто справляется с расчетами лучше компьютеров? Базовое значение фигур было определено еще два века назад{22}: за единицу стоимости принимается пешка, следовательно, слоны и кони стоят по три пешки, ладья — пять пешек, ферзь — десять.
С королем дело обстоит сложнее, поскольку эта фигура слаба с точки зрения мобильности и дальнобойности, но ее необходимо защищать любой ценой. Король не может находиться под шахом, и если он не может уйти от шаха, партия окончена: это мат. Одно из решений — задать королю значение миллион, чтобы программа знала, что этой фигурой нельзя рисковать. Мат — однозначное и конечное событие, еще одна вещь, которую хорошо понимают компьютеры. И если есть способ поставить мат в четыре хода, компьютер с глубиной просмотра в четыре хода обязательно его найдет, независимо от того, насколько сложной может выглядеть позиция для человеческого глаза.
Начинающие игроки, особенно дети, также сосредоточиваются в основном на материале. Они заботятся только о том, чтобы «съесть» побольше фигур противника, и не обращают внимания на другие аспекты позиции, такие как активность фигур и относительная безопасность короля. В конце концов они узнают на личном опыте, что, хотя материал — существенный фактор, не важно, сколько вражеских фигур вы взяли, если мат неминуем.
Даже стоимость фигур может меняться в зависимости от ситуации на доске. Например, конь в благоприятной позиции может стоить столько же, сколько ладья с ограниченной областью действия, или даже больше. В миттельшпиле — динамичной, тактической стадии игры — слон, скорее всего, будет ценнее трех пешек, хотя в эндшпиле все может измениться. Программу можно научить присваивать фигурам разные значения в процессе игры, но добавление знаний в алгоритм замедляет поиск.
Первые шахматные машины не могли учиться на опыте, как это делают люди. Дети учатся каждый раз, когда получают мат: несмотря на проигрыш, они накапливают в памяти полезные навыки и знания. Между тем компьютеры снова и снова повторяли одну и ту же ошибку, и их одушевленные соперники быстро это улавливали и начинали использовать. Еще в 1980-е годы можно было, запомнив ходы и хронометраж, повторить всю предыдущую партию с компьютером и обыграть его точно так же, как в прошлый раз.
Хронометраж имеет значение, поскольку в каждую дополнительную микросекунду поиска компьютер может избрать другой ход. Человек, тратящий на ход одну минуту, вряд ли сыграет иначе, если дать ему на обдумывание не 60 секунд, а 61. А вот у компьютера каждая лишняя микросекунда уходит на углубление поиска, и в итоге машина делает более качественные ходы.
Кажущееся сходство между ранними шахматными программами и начинающими игроками — ловушка, частично обусловленная присущим людям желанием наделить компьютеры человеческим мышлением. Согласно парадоксу Моравека, компьютеры очень хорошо справляются с тем, что у людей вызывает больше всего проблем, — с шахматными расчетами. Но в то же время машины слабы в распознавании образов и оценке по аналогии, что, напротив, особенно хорошо удается нам. За исключением мата, почти каждый фактор, учитываемый при оценке позиции, зависит от множества других условий. Это обстоятельство наряду с низкой скоростью ранних компьютеров убедило экспертов в невозможности создания сильной программы типа А, основанной на грубой силе.
Они ошибались, хотя, чтобы понять это, потребовалось некоторое время. Многие первые программы представляли собой попытки использовать стратегию типа B для того, чтобы грамотно сократить дерево поиска так же, как это делают люди. Другие исследовательские группы решили взяться за более конкретную задачу — увеличение скорости поиска и, следовательно, его глубины, что всегда позволяет повысить шахматную силу машины предсказуемым образом.
Первая программа, способная компетентно играть в шахматы, была разработана в Массачусетском технологическом институте в конце 1950-х годов, на несколько лет раньше советской программы, побежденной Бронштейном. Программа Котока — Маккарти работала на машине IBM-7090 и использовала ряд методов, которые стали основой для всех последующих сильных алгоритмов, включая отсекающий алгоритм «альфа-бета» для ускорения поиска.
Ведущая советская команда разработчиков выбрала подход А, что довольно интересно, поскольку, в отличие от американцев, она была окружена сильными шахматистами. Алан Коток и Джон Маккарти оба играли довольно слабо и имели весьма романтические представления о шахматах. Для меня же выбор советскими программистами метода типа А, напротив, отражал глубокое понимание того, как построена сильная игра. Шахматы — очень точная игра, когда в нее играют на высоком уровне. Преимущества в одну пешку, как правило, бывает более чем достаточно для победы в партии между сильными игроками. Слабые игроки смотрят на игру сквозь призму собственных ограничений. Для новичков и профанов игра, с ее неожиданностями и обоюдными ошибками, похожа на американские горки, где маятник фортуны качается то в одну, то в другую сторону.
Если вы разрабатываете шахматную машину с таким романтическим видением игры, научная точность для вас менее важна, чем моменты озарения. Вы считаете, будто случайные промахи не так уж страшны, поскольку противник ответит вам тем же, — предположение, которое может обернуться самореализующимся пророчеством. Подход типа B предполагает, что вся система непредсказуема, поэтому нужно как можно раньше выбрать ходы, на которых следует сосредоточиться. Вместо того чтобы найти 20 или даже десять лучших ходов и исследовать их, программа Котока — Маккарти начинала всего с четырех. То есть она смотрела вперед на один полуход и выбирала четыре лучших варианта, затем находила по три лучших ответа на каждый из этих вариантов; далее искала на них по два лучших ответа и т. д., постепенно углубляя и сужая поиск.
Внешне это похоже на то, каким образом сильный человеческий игрок проводит шахматный анализ, но здесь игнорируется тот факт, что мастер осуществляет данный процесс настолько эффективно лишь потому, что способен мгновенно оценить тысячи образов и благодаря колоссальной вычислительной мощности человеческого мозга с замечательной точностью выбрать три-четыре наиболее перспективных хода-кандидата. Ожидать, что машина сможет выбрать эти несколько наиболее пригодных ходов, опираясь только на расчеты, без вышеупомянутой способности к вычленению и сравнению образов, — это даже не игра в шахматы вслепую, это больше похоже на дартс с завязанными глазами.
Использовать шахматы как средство изучения ИИ удобно, в частности, потому, что шахматная доска служит отличным инструментом для измерения прогресса и проверки конкурирующих теорий. Русские начали позже американцев, но их программа типа А — названная ИТЭФ в честь Института теоретической и экспериментальной физики, где ее разработали, — оказалась точнее программы Котока — Маккарти. В матче по телеграфу, состоявшемся в 1966–1967 годах, ИТЭФ одержала победу над американской машиной со счетом 3:1.
Примерно в это же время американский программист Ричард Гринблатт, более глубоко понимавший шахматы, взял наработки Котока — Маккарти и значительно увеличил ширину поиска. Его программа Mac Hack VI использовала процедуру поиска в ширину 15, 15, 9, 9 вместо процедуры 4, 3, 2, 2 Котока — Маккарти. Это позволило значительно снизить уровень «помех» и сделать программу гораздо более точной и сильной. Mac Hack VI также включала базу данных из нескольких тысяч дебютных ходов и стала первой компьютерной программой, сыгравшей в человеческом шахматном турнире и получившей шахматный рейтинг. Но, несмотря на все усовершенствования и достижения, дни программ типа Б были сочтены. Им на смену пришла грубая вычислительная сила.
Я познакомился с компьютерами в 1983 году, хотя и не за шахматной доской. Британская компьютерная компания Acorn — «британская Apple» — спонсировала мой матч с Виктором Корчным в Лондоне, и в помещениях, где проходило состязание, разумеется, была выставлена ее продукция. Компании, программисты-любители и другие ранние поклонники цифровой техники по всей Европе были готовы платить большие деньги за первые поколения персональных компьютеров, и Acorn процветала. Я выиграл матч, вплотную приблизившись к моему первому матчу на первенство мира с Анатолием Карповым, состоявшемуся в следующем году, и Acorn подарила мне персональный компьютер. Я летел домой в Баку на самолете «Аэрофлота», сидя рядом с советским послом, а мой хрупкий трофей, укутанный в одеяло, занимал отдельное VIP-кресло.
Для меня, уроженца СССР, обладать собственным компьютером означало нечто из области научной фантастики. Во-первых, я посвятил всю свою жизнь восхождению на шахматный Олимп, и у меня было очень мало времени на хобби. Во-вторых, за пределами научно-исследовательских институтов СССР оставался компьютерной пустыней. В 1983 году был выпущен советский клон компьютера Apple II 1977 года — AGAT, который начал постепенно появляться в учебных учреждениях по всей стране, но он был недоступен для большинства граждан, поскольку его стоимость составляла примерно 20 среднемесячных окладов. И, как и большинство советских пиратских клонов, это была не очень хорошая копия, к тому же устаревшая на шесть лет. В 1984 году американский журнал BYTE написал, что «AGAT был бы неконкурентоспособен на сегодняшнем международном рынке, даже если бы его продавали по дешевке»{23}.
Это был не просто пропагандистский укол времен холодной войны. К тому времени революция ПК в Америке шла уже полным ходом. Компьютеры все еще стоили неоправданно дорого, но были вполне доступными для среднего класса. В августе 1982 года на рынке появился чрезвычайно популярный Commodore 64, в начале 1983-го — РС ХТ со стандартными параметрами, произведенный IBM. К концу 1984 года больше 8 % американских семей имели дома компьютер. Для сравнения: количество персональных компьютеров в Баку, столичном городе с населением свыше миллиона человек, было равно нулю — или единице, когда я сошел с трапа самолета с моим драгоценным подарком от Acorn в руках.
К сожалению, я не могу сказать, что мое первое знакомство с компьютером перевернуло всю мою жизнь. Как я уже говорил, у меня практически не было времени. Подозреваю, что мои родственники и друзья использовали эту 8-битную модель, разработанную Acorn для BBC, в основном для видеоигр. То конкретное событие, которое навсегда изменило мое отношение к компьютерам и во многом повлияло на мою дальнейшую жизнь, не касалось шахмат. Оно было связано с маленьким прыгающим зеленым лягушонком.
Однажды в начале 1985 года я получил посылку от человека по имени Фредерик Фридель, заядлого любителя шахмат и компьютеров из Гамбурга. Он прислал мне замечательное письмо и дискету с несколькими компьютерными играми, в том числе Hopper — игрой с прыгающими лягушками. Я увлекся Hopper и, надо признаться, в течение следующих нескольких недель проводил за ней почти все свободное время, устанавливая все новые рекорды.
Спустя несколько месяцев я полетел в Гамбург на несколько шахматных мероприятий, включая вышеупомянутый сеанс одновременной игры с 32 компьютерами, и по приглашению Фредерика Фриделя посетил его загородный дом. Он познакомил меня со своей женой и двумя сыновьями — десятилетним Мартином и трехлетним Томми. В гостях у этой дружелюбной семьи я чувствовал себя как дома и упомянул о своих успехах в компьютерных играх.
— Вы знаете, я лучший игрок в Hopper во всем Баку, — сказал я, опуская тот факт, что у меня попросту не было конкурентов. Я сообщил, что набрал 16 000 очков, и почувствовал легкое разочарование, не увидев никаких признаков удивления в ответ.
— Неплохо, — сказал Фредерик, — но у нас в семье есть игроки посильнее.
— Что? Вы можете набрать больше очков?! — изумленно воскликнул я.
— Нет, не я.
— Значит, это Мартин — гений видеоигр?
— Нет, и не Мартин.
И тут по улыбке Фредерика я понял, что домашним чемпионом в Hopper был трехлетний Томми.
— Вы хотите сказать, что это Томми? — недоверчиво спросил я.
Мои опасения подтвердились, когда мальчик ловко забрался на стул перед компьютером и стал ждать, когда загрузится игра. Как гостю, мне позволили играть первым, и я установил свой личный рекорд — 19 000 очков.
Но триумф мой длился недолго. Маленькие пальчики Томми так стремительно забегали по клавиатуре, что я не мог за ними уследить, и вскоре малыш набрал 20 000 очков, потом 30 000. Я признал свое поражение, чтобы не просидеть за игрой весь ужин.
Конечно, проигрыш в Hopper трехлетнему ребенку{24} отозвался на моем самолюбии не так болезненно, как любой проигрыш Карпову, но дал мне пищу для размышлений. Как моя страна собирается конкурировать с поколением маленьких компьютерных гениев, воспитанных на Западе? Что будет дальше, если сегодня немецкий малыш ловко обыгрывает в компьютерную игру взрослого советского человека, такого как я, надо сказать, далеко не глупого и к тому же имеющего дома компьютер?
Поэтому, когда в 1986 году я подписал спонсорский контракт с компьютерной компанией Atari, я взял в качестве оплаты 50 новейших компьютеров и привез их в Москву, чтобы создать первый в Советском Союзе молодежный компьютерный клуб. Я продолжал снабжать его аппаратным и программным обеспечением, которое покупал во время своих зарубежных поездок, и этот клуб превратился в место, где собирались многие талантливые ученые и любители компьютеров. Они сообщали мне, какое оборудование требуется для их проектов, и я возвращался домой, как Дед Мороз, с мешком подарков. В аэропорту меня обычно встречали любители шахмат, а вместе с ними — и специалисты по компьютерам, сгоравшие от нетерпения узнать, нашел ли я нужные им вещи. Иногда из толпы раздавались возгласы, которые сегодня заставили бы насторожиться службы безопасности любого аэропорта: «Гарри! Ты привез мне винчестер?!»{25} (винчестерами на профессиональном жаргоне назывались жесткие диски для компьютеров).
Мы с Фредериком обсуждали возможность применения компьютеров в профессиональных шахматах. Компании активно адаптировали персональные компьютеры для работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами и базами данных, так почему бы не изобрести нечто подобное Hopper для шахмат? Это стало бы мощным оружием, дающим весомое преимущество, и я не мог позволить себе стать последним, кто получит к нему доступ.
Как уже говорилось выше, наши разговоры привели к созданию первой версии программы ChessBase — название, которое вскоре стало синонимом профессиональных шахматных программ. В январе 1987 года я опробовал раннюю версию ChessBase при подготовке к сеансу одновременной игры против команды сильных соперников — восьми профессиональных игроков западногерманской бундеслиги. В 1985 году я едва им не проиграл. Тогда меня переполняла усталость и чрезмерная самоуверенность, к тому же я ничего не знал о большинстве своих соперников и не успел как следует подготовиться к матчу.
Готовясь с помощью ChessBase к матчу-реваншу, я осознал, как сильно компьютеры могут изменить профессиональные шахматы и нашу жизнь в целом. Благодаря Atari ST и дискете с программой ChessBase за номером 00001, которую мне дали Фредерик и Маттиас, я смог за несколько часов найти и просмотреть прежние партии моих соперников — процесс, который без компьютера занял бы несколько недель. Потратив на подготовку всего два дня, я чувствовал себя в ходе матча вполне уверенно и выиграл с разгромным счетом 7:1. Именно тогда я понял, что отныне на протяжении всей своей карьеры буду проводить много времени за компьютером. Но я и представить себе не мог, сколько часов проведу в сражениях с ним!
Как быстро и безоговорочно компьютеры стали главным инструментом для тренировки шахматистов, наглядно демонстрирует случай, произошедший несколько лет спустя. Ко мне в гостиницу пришли за интервью журналисты, и фотограф захотел снять меня за шахматной доской. Но как раз шахматной доски у меня не было! Я готовился к матчу с помощью своего ноутбука Compaq. Конечно, его с трудом можно было назвать «переносным», поскольку он весил больше пяти с половиной килограммов. Но все равно возить его с собой было гораздо проще и удобнее, чем стопки шахматных книг и блокнотов с записями. Преимущества стали еще очевиднее с появлением интернета: теперь я мог изучить последние партии, как только те были сыграны, вместо того чтобы несколько недель или месяцев ждать их публикации в шахматных журналах.
Вскоре почти все гроссмейстеры стали ездить на турниры с ноутбуками, хотя в этом отношении между поколениями существовал серьезный разрыв. Многие пожилые шахматисты, привыкшие к традиционному обучению и методам подготовки, находили этот способ слишком сложным и чуждым. Кроме того, ноутбуки все еще были довольно дорогим удовольствием, а мало кто из советских шахматистов имел, подобно мне, спонсорские контракты и получал вознаграждение из призового фонда чемпионатов мира.
Перемены, происходившие в профессиональных шахматах с пришествием компьютеров и баз данных, хорошо иллюстрируют процесс приспособления любой сферы деятельности и общества в целом ко всякой новой технологии. Это устоявшийся феномен, который, на мой взгляд, недостаточно хорошо изучен на мотивационном уровне. Когда вы молоды и ваши привычки еще не укоренились, ваша готовность попробовать что-то новое, безусловно, выше. Но возраст не единственное, что мешает открытости. Еще один фактор — успешность. Если вы добились успеха и статус-кво вполне вас устраивает, очень трудно добровольно изменить свои обычные подходы.
В лекциях для бизнес-аудитории я называю это «силой тяжести прошлых успехов» и часто привожу болезненный пример из своей карьеры: потерю титула чемпиона мира из-за проигрыша матча Владимиру Крамнику (Лондон, 2000). В то время я был на пике успеха: я одержал беспрецедентную серию побед в турнирах высшего уровня и мой шахматный рейтинг достиг рекордной отметки. Я находился в прекрасной форме и хорошо подготовился к нашему октябрьскому матчу на большинство из 16 партий. Я понимал, что Крамник — мой самый опасный противник: он был на 12 лет моложе меня и в последние годы показывал в партиях со мной очень хорошие результаты. Но он участвовал в матче за корону впервые, а я — в седьмой раз. У меня были большой опыт, лучшие результаты и масса энергии. Как я мог проиграть?
Оказывается, мог — не учитывая сильных сторон соперника и отказываясь изменить свою манеру игры. Крамник подготовился к матчу очень тщательно, особенно за черных, и ему удалось втянуть меня в утомительное затяжное маневрирование, которое я так не любил. Это была полностью его заслуга, и мне следовало найти правильную стратегию на оставшуюся часть матча. Но вместо того, чтобы исключить развитие неблагоприятного для меня сценария и создавать позиции, позволяющие играть в полную силу, я продолжал бросаться в бой, как бык на красную тряпку. В итоге я проиграл матч, не одержав ни одной победы и потерпев два поражения при 13 ничьих.
Мне было 37 лет, то есть не так уж и много. И я никогда не боялся принимать новые вызовы, чтобы оставаться на переднем крае, в том числе и в области технологий. Я проявил слабость, отказавшись признать, что Крамник подготовился лучше меня, — ведь подготовка всегда была моей сильной стороной. К этому моменту я уже практически «забронзовел» — каждое достижение накладывалось на предыдущее подобно очередному слою бронзы, делая меня все более негибким, неспособным быстро измениться и, что еще важнее, не видящим необходимости меняться.
Этот так называемый тяжелый груз прошлых успехов — проблема не только отдельных людей и их эго. Попытка противостоять прорывным технологиям и переменам — стандартная бизнес-практика, которую используют лидеры рынка, чтобы защитить свое положение. Тому есть бесчисленное множество примеров в реальном мире, но я напомню вам абсурдную историю из фантастического фильма «Человек в белом костюме» (1951) с Алеком Гиннессом в главной роли. Главный герой, увлеченный химик, изобретает чудо-ткань из полимерного волокна, которая никогда не пачкается, не мнется и не изнашивается. Однако вместо ожидаемых славы, богатства и Нобелевской премии это приносит ученому одни лишь неприятности. Он становится объектом преследования со стороны многочисленных заинтересованных групп, быстро осознавших, чем чревато его изобретение: спрос на новые ткани упадет, поэтому текстильная промышленность будет уничтожена вместе с сотнями тысяч рабочих мест; исчезнет нужда в работниках прачечных и химчисток, и они также включаются в охоту.
Преувеличение? Конечно. Но, предположим, если бы изобрели вечную, неперегорающую электрическую лампочку, согласились бы изготовители ламп запустить ее в производство? Между тем сопротивление изменениям и попытка отсрочить их, чтобы выжать еще несколько долларов из существующей бизнес-модели, только лишь усугубляют неизбежные тяжелые последствия. В 1999 году я снялся в ролике, рекламирующем поисковую систему AltaVista{26}, но я ни в коем случае не хотел бы повторить ее участь и кануть за ней в Лету, когда появился Google.
Мне было чуть больше 20, когда шахматный мир начала захлестывать цифровая информационная волна, но это был постепенный процесс, а не цунами. Искать и просматривать партии на экране оказалось гораздо удобнее, чем рыться в горах книг и журналов, и это давало реальное конкурентное преимущество, но не было ядерной бомбой. Появление интернета несколько лет спустя также оказало большое влияние, сделав более ожесточенными информационные войны, которую гроссмейстеры ведут за шахматной доской. Новая блистательная дебютная идея, реализованная в партии в Москве во вторник, уже в среду могла быть повторена десятками шахматистов по всему миру. Это сократило срок жизни секретного оружия, которое мы называем дебютными новинками, от нескольких недель и месяцев до нескольких часов. И уже нельзя было надеяться поймать в свою хитрую ловушку больше одного игрока.
Разумеется, это касалось только тех соперников, кто также находился онлайн и чутко держал руку на пульсе, а так действовали далеко не все. Требовать от 50-летнего гроссмейстера отказаться от использования своего любимого блокнота в кожаном переплете, напечатанных турнирных бюллетеней и других устоявшихся с годами привычек было все равно что предлагать успешному писателю сменить ручку и бумагу на текстовый редактор или художнику — отставить мольберт и начать рисовать на мониторе. Но в шахматах нельзя было выжить, не адаптируясь к новым технологиям. Те, кто быстро овладевал новыми методами, процветали; не сумевшие приспособиться к переменам быстро скатились вниз в рейтинг-листе.
Хотя это невозможно доказать, я уверен, что стремительный закат многих шахматных ветеранов в период между 1989 и 1995 годами, когда использование ChessBase стало нормой, во многом был связан с их неспособностью освоить новые технологии. В 1990 году в первой сотне сильнейших шахматистов мира насчитывалось больше 20 активных игроков, родившихся до 1950-го. К 1995 году их осталось всего семеро, и только один по-прежнему входил в шахматную элиту: нестареющий Виктор Корчной, родившийся в 1931-м и противостоявший мне в лондонском матче претендентов в 1983 году. Еще одним исключением был мой великий соперник Анатолий Карпов 1951 года рождения — он продолжал занимать высокие позиции в рейтинге, несмотря на нежелание принимать компьютеры и интернет. Однако Карпов полагался не только на свой огромный талант и опыт. Как экс-чемпион мира, он располагал значительными ресурсами и мог позволить себе в ходе исследований опираться на помощь коллег — преимущество, имевшееся далеко не у всех шахматистов. То, что возможность обеспечить себе поддержку «секундантов» (так в шахматном мире называют ассистентов в память об эпохе дуэлей) перестала быть значимым фактором, представляет собой еще один показатель демократизирующего влияния технологий на мир шахмат.
Возможно, компьютеры укоротили карьеру некоторых более пожилых шахматистов, зато они позволили быстрее расти молодым игрокам — благодаря не только игре с шахматными движками, но и тому, что компьютерные базы данных сделали огромные объемы шахматной информации доступными для молодых гибких умов. Даже я бываю поражен тем, как эти юные дарования в мгновение ока переключаются с одной партии на другую, переходят от одной ветви анализа к другой. Компьютерное обучение имеет свои недостатки, о которых я расскажу чуть позже, но нет никаких сомнений в том, что оно еще больше изменило баланс сил на игровом поле, или на шахматной доске, в пользу молодежи. На протяжении моей профессиональной карьеры мне приходилось отстаивать свой чемпионский титул в сражениях не просто с новым поколением игроков, а с поколением, которое росло, используя передовые инструменты, не существовавшие во времена моего детства.
Я родился как раз вовремя, чтобы оседлать эту волну, вместо того чтобы быть сметенным ею. Но я также оказался главной мишенью для нового врага, день ото дня стремительно наращивавшего силу. Шахматные машины наконец-то вплотную подобрались к тому, чтобы завладеть шахматной короной, которая принадлежала мне с 9 ноября 1985 года.
Сможет ли шахматная машина победить чемпиона мира? Этот вопрос волновал умы шахматных программистов на протяжении нескольких десятилетий. Как и следовало ожидать, первые прогнозы на заре компьютерной эры были чересчур оптимистичны. Тем не менее группу из Университета Карнеги — Меллона, пообещавшую обыграть чемпиона мира к 1967 году, можно считать в некоторой степени отомщенной, поскольку команда из того же учебного заведения впоследствии создала компьютер Deep Blue, благодаря которому предсказание их коллег сбылось — пусть даже спустя 40 лет, а не десять.
На 12-м ежегодном Северо-Американском чемпионате по шахматам среди компьютерных программ (Лос-Анджелес, 1982) сильнейшие в мире машины боролись друг с другом за чемпионский титул. Belle, детище Кена Томпсона и Джо Кондона, вновь подтвердила свое превосходство над остальными, доказав преимущества специализированной аппаратной архитектуры и шахматных процессоров, впоследствии реализованные в Deep Blue. Томпсон работал в знаменитом исследовательском центре компании Bell Laboratories. На его счету множество научных достижений, в том числе участие в создании операционной системы Unix.
Если говорить о результатах, Belle окончательно ответила на вопрос, поставленный в 1950 году Клодом Шенноном: что эффективнее — «быстрые, но глупые» программы типа А или «умные, но медленные» программы типа Б? Стало ясно, что грубой силы — вместе с быстрым поиском — достаточно для очень сильной игры. Несмотря на относительное отсутствие знаний и другие недостатки оценочной функции, Belle с ее чистой скоростью вычислений 160 000 позиций в секунду давала результаты, позволявшие ей громить более умные программы, даже работавшие на суперкомпьютерах Cray. По поводу того, когда машины смогут победить чемпиона мира (тогда им был Анатолий Карпов), крупные специалисты в области компьютерных шахмат демонстрировали в кулуарах сдержанный оптимизм.
Монти Ньюборн, один из организаторов чемпионата и инициаторов развития компьютерных шахмат, высказал наиболее оптимистичное предположение: через пять лет. Другой эксперт — Майк Валво, имевший звание международного мастера, — склонялся к десяти годам. Создатели популярной программы для ПК Sargon дали самый точный прогноз — 15 лет. Томпсон, как и другие представители обширного лагеря пессимистов, считал, что это может случиться не ранее 2000-го. Несколько человек полагали, что такого никогда не произойдет, учитывая проблемы, с которыми столкнутся даже самые быстрые машины в соответствии с законом убывающей отдачи при добавлении шахматных знаний. Но это было в последний раз, когда звучал вопрос «Смогут ли?». Отныне спрашивали только «Когда?».
В конце 1980-х, спустя десятилетие стабильного прогресса, компьютерное шахматное сообщество поняло, что в противостоянии «человек — машина» время находится на его стороне, и уверенно скорректировало свои прогнозы. Результаты опроса 43 экспертов, проведенного в 1989 году на чемпионате мира по шахматам среди компьютерных программ в канадском Эдмонтоне, отражали последние достижения машин в соперничестве с людьми. За год до этого компьютер впервые в истории победил гроссмейстера в турнирной партии, и дорожная карта дальнейшего совершенствования программ стала совершенно ясна: немного больше знаний и намного больше скорости. Тем не менее всего один эксперт правильно указал, что это судьбоносное событие случится в 1997 году; большинство прогнозировали различные сроки в пределах десятилетия. Мюррей Кэмпбелл, один из создателей Deep Blue, назвал 1995 год, а сам Клод Шеннон — 1999-й.
Возможно, немного несправедливо напоминать компьютерному шахматному сообществу о его ранних ошибочных прогнозах и предположениях. В конце концов, люди традиционно слабы в предвидении будущего, но крепки задним умом. Но в этом есть смысл, поскольку во многих случаях эти неправильные выводы, как слишком оптимистичные, так и чересчур пессимистичные, характеризуют сегодняшний поток предсказаний касательно искусственного интеллекта.
Переоценка потенциала каждой зарождающейся технологии — такое же обычное дело, как и преуменьшение ее недостатков. Богатое воображение мгновенно рисует нам картины того, как та или иная инновация практически в одночасье перевернет нашу жизнь. Подобные устойчиво неверные оценки обусловлены в том числе тем, что мы, как правило, игнорируем технические препятствия, которые неизбежно возникают. Дело в том, что человеческая природа подчиняется другим законам развития, чем природа технического прогресса. Мы рассматриваем прогресс как линейное, постепенное улучшение. В действительности же это верно только для зрелых технологий, уже прошедших стадию разработки и внедрения. Например, таких как полупроводники, развитие которых хорошо описывается законом Мура, или солнечные батареи, чья производительность повышается медленно, но верно.
Но прежде, чем будет достигнута эта предсказуемая фаза прогресса, должны быть пройдены две предшествующие фазы: зарождение и прорыв. Это хорошо отражено в аксиоме, сформулированной Биллом Гейтсом: «Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем перемены, которые случатся в ближайшие 10 лет»{27}. Мы ожидаем линейного прогресса, однако вместо этого получаем несколько лет неудач и трудностей. Затем достигается некий порог или же происходит объединение технологий — и кривая взлетает почти вертикально вверх, вызывая всеобщий шок, после чего достигает стадии зрелости и выравнивается. В нашем представлении технический прогресс есть движение по диагонали вверх, но обычно его траектория — это S-образная кривая.
Шахматные машины в 1950–1960-е годы находились в стадии зарождения. Исследователи экспериментировали с новыми подходами, пытались выяснить, стратегия какого типа — А или Б — наиболее перспективна, при этом их инструменты программирования были весьма примитивны, а компьютерные комплектующие работали невероятно медленно. Что важнее — шахматные знания или скорость? В атмосфере, полной неопределенности и разнообразных концепций, казалось, каждая новая идея скрывает в себе потенциал большого прорыва.
Разумеется, нашелся человек, который решил, что на оптимизме ученых можно неплохо заработать. Задолго до того, как я стал «заветной целью» для создателей шахматных машин, шотландский шахматист по имени Дэвид Леви, имевший звание международного мастера, превратил противостояние с машинами в источник дохода. В 1968 году, когда два видных эксперта в области ИИ предсказали, что в ближайшее десятилетие машина победит чемпиона мира по шахматам, Леви заключил знаменитое пари о том, что в течение десяти лет его не сможет обыграть ни один компьютер. Учитывая более чем скромный прогресс, достигнутый шахматными машинами за предыдущие 20 лет, после того как в 1949-м Клод Шеннон описал «дорожную карту», смелость Леви была вполне оправданна.
(Немного информации, чтобы вы четче представляли себе, о чем идет речь: на тот момент международный мастер имел рейтинг примерно 2400 пунктов, что выше уровня мастера — 2300, но ниже гроссмейстерского — 2500 и выше. Сегодня шахматисты с рейтингом выше 2700 считаются «элитой», и таких в мире насчитывается около сорока человек. Рейтинг-рекорд в 2882 пункта принадлежит Магнусу Карлсену. Мой личный рекорд — 2851 пункт в 1999 году, а на момент матча-реванша с Deep Blue мой рейтинг составлял 2795 пунктов. Следует отметить, что за последние десятилетия общий уровень рейтингов вырос: в 1972-м рекорд Бобби Фишера в 2785 пунктов казался непреодолимым. Сегодня довольно много игроков преодолели эту планку, хотя я не могу сказать, что они превзошли самого Фишера.)
В начале 1970-х годов Леви играл гораздо сильнее любых программ, и ни одна из них не сумела приблизиться к мастерскому уровню до истечения срока пари. Более того, Леви хорошо знал о сильных и уязвимых сторонах шахматных машин: они довольно опасны в сложных тактических ситуациях из-за своей растущей скорости и глубины поиска, но плохо справляются со стратегическим планированием и тонкостями эндшпиля. Леви терпеливо маневрировал, используя проверенную антикомпьютерную стратегию «ничего не делай, но делай это хорошо» до тех пор, пока машина не создавала слабые места в своей позиции. Тогда Леви опустошал доску — и призовой фонд.
До появления программы Chess Северо-Западного университета все шло как по маслу. Программа Ларри Аткина и Дэвида Слейта стала первой шахматной машиной, которая демонстрировала последовательную сильную игру, необходимую для того, чтобы одолеть шахматиста, не делающего грубых ошибок. В 1976 году версия 4.5 этой программы стала выигрывать отдельные партии в слабых человеческих турнирах. В следующем году версия 4.6 победила на опен-турнире в Миннесоте, достигнув рейтинга пусть не мастера, но кандидата в мастера.
Итак, начальная фаза закончилась — и началась фаза быстрого роста. Сочетание более мощного аппаратного обеспечения и более совершенных программ создало условия для прорыва, и после десятилетий разочарований и трудностей скорость прогресса превысила все ожидания. Когда в 1978 году Леви встретился с компьютерным чемпионом мира, программа Chess 4.7 оказалась гораздо сильнее, чем он предполагал. Хотя Леви все равно выиграл матч из шести партий, машине удалось записать на свой счет одну ничью и одну победу.
Леви продолжал оставаться важной фигурой в мире компьютерных шахмат и написал на эту тему несметное количество книг и статей. В настоящее время он президент Международной ассоциации компьютерных игр (ICGA), которая курировала мой матч с программой Deep Junior в Нью-Йорке в 2003 году. В 1986-м Леви написал статью в ICGA Journal под названием «Когда грубая компьютерная сила победит Каспарова?». Я думаю, он был рад перевесить мишень на кого-то другого.
Леви забрал свой выигрыш в пари и бросил новую перчатку, пообещав щедрое вознаграждение в размере $1000 создателям компьютерной программы, которая сумеет его победить. Американский научный журнал Omni подсластил приз, добавив $4000. Прошло еще десять лет, прежде чем группа студентов из Университета Карнеги — Меллона со своей специализированной шахматной машиной Deep Thought смогла забрать этот приз.
4. Что важно для машины?
— Итак, — сказал компьютер, — ответ на Великий Вопрос…{28}
— Ну!
— Жизни, Вселенной и Всего Остального…
— Ну!
— Это… — произнес компьютер и замолчал.
— Ну!
— Это…
— Ну!!!
— Сорок два, — с бесконечным спокойствием сообщил компьютер.
— Сорок два?! — завопил Лункуал. — И это все, что ты можешь нам сказать после семи с половиной миллионов лет работы?
— Я убежден в правильности ответа, — холодно отрезал компьютер. — По правде говоря, — прибавил он, смягчившись, — дело, я думаю, в том, что вы никогда, собственно, не задумывались, в чем состоит этот вопрос.
Как и во всех хороших шутках, в этом разговоре между самым мощным во вселенной компьютером и его создателями из юмористического фантастического романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» (1979) есть немалая доля истины. Мы часто ищем ответы на вопросы, предварительно не убедившись в том, понимаем ли мы сам вопрос или правильно ли он сформулирован. В моих лекциях об отношениях человека и машины я люблю цитировать Пабло Пикассо, который в одном интервью сказал: «Компьютеры бесполезны, поскольку они могут только давать ответы»{29}. Ответ подразумевает конец, полную остановку, а для Пикассо не существовало конца, только все новые и новые вопросы. Компьютеры являются отличными инструментами для поиска ответов, но они не умеют задавать вопросы, по крайней мере в том смысле, который в это понятие вкладывают люди.
В 2014 году я услышал интересную мысль по поводу этого утверждения. Меня пригласили выступить в штаб-квартире крупнейшего в мире хеджевого фонда Bridgewater Associates (Коннектикут). Что очень показательно, компания наняла Дейва Ферруччи, одного из разработчиков знаменитого суперкомпьютера Watson IBM, прославившегося своими победами в американской телевикторине Jeopardy!. По словам Ферруччи, он был разочарован подходом IBM к искусственному интеллекту, всецело ориентированным на анализ данных, и тем, что компания хотела извлечь выгоду из мощи и славы Watson и превратить его в коммерческий продукт. Сам же Ферруччи хотел исследовать более сложные пути, пытаясь узнать «почему», а не только обнаружить полезные корреляции с помощью анализа данных. Другими словами, он хотел использовать мощь ИИ, чтобы выйти за пределы непосредственных практических результатов и научиться получать результаты, которые выведут нас на новый уровень понимания, а не будут простыми ответами.
Интересно, что Ферруччи решил, что хорошим местом для такого рода амбициозных экспериментальных исследований может стать известная своим инакомыслием Bridgewater Associates, а не IBM, одна из крупнейших в мире технологических компаний. Разумеется, в первую очередь Bridgewater интересовали прогностические и аналитические модели для улучшения ее инвестиционных результатов. Компания сочла целесообразным поддержать усилия Ферруччи{30}, чтобы, по его выражению, «создать машину, способную объединить дедуктивные и индуктивные процессы для развития, применения, уточнения и объяснения фундаментальной экономической теории».
Это настоящий Грааль, достойный священного поиска и особенно «объяснения». Даже сильнейшие шахматные программы не могут дать своим блистательным ходам логических обоснований за пределами элементарных тактических вариантов. Они делают сильный ход только лишь потому, что тот получил наивысшую оценку по сравнению с остальными, а не потому, что применяют рассуждения, понятные людям. Сверхсильные машины, несомненно, полезны для тренировочных партий и проведения анализа, но пытаться учиться у них игре в шахматы — все равно что обучаться алгебре у калькулятора.
Во время моей лекции Ферруччи высказал мысль, которая раскрывает суть проблемы так же хорошо, как вышеприведенные слова Пикассо и Дугласа Адамса. Он заявил: «Компьютеры умеют задавать вопросы. Они просто не знают, какие из них важны». Это утверждение понравилось мне тем, что оно имеет несколько слоев смысла и каждый из них несет полезную информацию.
Во-первых, его можно воспринимать буквально. Даже простейшая программа может задать вам запрограммированный вопрос и зафиксировать ответ. Конечно, это не проявление искусственного интеллекта, а простое автоматизированное взаимодействие. Даже если машина говорит человеческим голосом и сопровождает ваши ответы адекватными вопросами, она всего лишь проводит примитивный анализ данных. Такого рода вещи используются функцией помощи в программном обеспечении и на веб-сайтах уже больше десяти лет, хотя и без голосового компонента. Вы вводите свой вопрос или описываете проблему, справочная система или чат-бот выбирает ключевые слова — «сбой», «аудио», «PowerPoint» и т. д. — и предлагает страницы с соответствующей справочной информацией или задает дополнительные вопросы.
Любой, кто пользовался поисковыми системами наподобие Google, знает, как это работает. Большинство людей давно поняли, что нет смысла вводить длинный вопрос «Какой город является столицей штата Вайоминг?». Достаточно набрать «столица Вайоминг», и поиск даст те же результаты при меньших усилиях. Но в устной речи люди предпочитают использовать более естественный язык, чем при печати на компьютере, и говорить полными предложениями. Виртуальные голосовые помощники Siri, Alexa, Ok Google, Cortana и другие постепенно начинают вслушиваться в каждое наше слово, что является одной из причин нынешнего рывка в области социальной робототехники (так называется дисциплина, изучающая особенности взаимодействия людей с технологиями, основанными на искусственном интеллекте). То, как роботы выглядят, звучат и ведут себя, в значительной степени определяет то, как мы решаем их использовать.
Выступая в сентябре 2016 года на конференции по социальной робототехнике в Оксфорде, я познакомился с одним из докладчиков Найджелом Круком и его роботом Арти. Доктор Крук занимается исследованиями в области ИИ и социальной робототехники в Университете Оксфорд Брукс. Он подчеркивает, как важно исследовать особенности использования роботов в общественных местах, поскольку люди в равной степени очарованы роботами и боятся их. Автоматический голос по телефону — это одно, и совсем другое — когда голос исходит от механического существа с лицом и телом. Как бы вы ни относились к роботам, вы должны быть готовы к тому, что их будет становиться все больше буквально повсюду.
Возвращаясь к тому, могут ли компьютеры задавать вопросы в более глубоком смысле, Ферруччи и другие специалисты в области ИИ работают над созданием более сложных алгоритмов, позволяющих исследовать факторы и причины событий, связанных с изменением данных, а не просто выявлять корреляции для ответа на тривиальные вопросы и поисковые запросы. Но чтобы задавать правильные вопросы, вы должны понимать, что важно, что имеет значение. А для этого нужно знать, какой результат вы хотели бы получить.
Я регулярно говорю о разнице между стратегией и тактикой и о том, почему так важно понимать свои долгосрочные цели, чтобы не путать их с реакциями, возможностями или всего лишь этапами. Это не так просто сделать — даже небольшие компании нуждаются в программных заявлениях и регулярных проверках, позволяющих им убедиться в том, что они движутся в правильном направлении. Приспосабливаться к обстоятельствам необходимо, но если вы все время меняете свою стратегию, значит, у вас попросту нет верной стратегии. Мы, люди, зачастую плохо представляем, чего мы хотим и как этого достичь, поэтому неудивительно, что похожие трудности у нас возникают и с тем, чтобы научить машину видеть бóльшую картину.
Машины сами по себе не знают, какие результаты важны и почему — определить это самостоятельно они могут только, если имеют соответствующие параметры или достаточно информации. Но что для машины имеет значение? Машина определяет нечто как значимое или нет на основании знаний, которые в ней запрограммированы, а знания закладывают в машину не кто иные, как люди. По крайней мере так было на протяжении долгого времени. Но сегодня наши машины начинают удивлять нас не только результатами, но и методами, которые они используют для достижения результатов, а это огромная разница.
Приведу упрощенный пример: традиционная шахматная программа знает правила игры. Она знает, как ходят фигуры и что такое мат. В нее также заложены сведения об относительной стоимости фигур (пешка — единица, ферзь — десять единиц и т. д.) и другие знания, например о мобильности фигур и пешечной структуре. Все, что выходит за рамки правил, классифицируется как знание. Если вы научите машину, что ферзь стоит меньше пешки, она будет жертвовать его без всяких колебаний.
Но что если не заложить в машину никаких знаний? Что если научить ее только правилам, а все остальное позволить сделать самой? То есть самой узнать, что ладьи ценнее слонов, что сдвоенные пешки — слабая структура и что открытые линии могут быть полезны. Это дает возможность не только создать сильную шахматную машину, но и узнать кое-что новое из того, что обнаружит машина и как она это обнаружит.
Именно это сегодня делают системы ИИ, используя такие методы, как генетические алгоритмы и нейронные сети, чтобы, по сути, программировать самих себя. К сожалению, им еще не удалось превзойти в силе традиционные программы с быстрым поиском, больше полагающиеся на жестко закодированные человеческие знания. Но причина этого — в самих шахматах, а не в методах. Чем сложнее предмет, тем выше вероятность того, что открытые, самостоятельно созданные алгоритмы превзойдут алгоритмы на основе фиксированных человеческих знаний. Шахматы пока недостаточно сложны для этого, и даже я должен признать, что в жизни не все так просто, как на шахматной доске.
За истекшие 30 лет выяснилось, что моя любимая игра настолько легко поддается грубой вычислительной силе, что для победы над человеком машинам совсем не нужно иметь стратегическое мышление. Потребовались колоссальные усилия, чтобы усовершенствовать оценочную функцию Deep Blue и обучить программу дебютам, но, как это ни удручает, появившиеся через несколько лет машины с более мощными процессорами не нуждались ни в том, ни в другом. Хорошо это или плохо, шахматы оказались недостаточно глубокой игрой для того, чтобы подтолкнуть компьютерное сообщество к поиску других решений, помимо скорости, о чем многие сожалели.
В 1989 году два ведущих специалиста в области компьютерных шахмат написали эссе «Наказание за схождение с пути истинного»{31}. Они раскритиковали методы, с помощью которых шахматные машины сумели приблизиться к гроссмейстерскому уровню. Одним из авторов был советский ученый Михаил Донской, входивший в число создателей программы «Каисса», победительницы первого чемпионата мира по шахматам среди компьютерных программ (1974). Вторым — Джонатан Шеффер, который вместе со своими коллегами из Университета Альберты в Канаде на протяжении нескольких десятилетий занимался разработкой наиболее передовых игровых машин. Помимо шахматных программ он создал сильную программу для игры в покер и программу Chinook для игры в шашки, которая участвовала в чемпионате мира и стала практически непобедимой.
В своей провокационной статье, опубликованной в авторитетном компьютерном журнале, Донской и Шеффер описали, как на протяжении многих лет компьютерные шахматы все больше отдалялись от ИИ. Они считали, что главной причиной этого разрыва стал ошеломительный успех поискового алгоритма «альфа-бета». Зачем искать что-то еще, если выигрышный метод уже найден? «К сожалению, эта мощная идея появилась на слишком раннем этапе развития компьютерных шахмат», — утверждали авторы статьи. Поскольку значение имела исключительно победа любой ценой, техническая сторона дела взяла верх над наукой. Распознавание образов, развитие знаний и другие человеческие методы были отброшены, поскольку супербыстрая грубая сила обеспечивала успех.
Для многих это стало большим ударом. Шахматы были важным объектом исследований в психологии и когнитивной науке практически с момента зарождения этих дисциплин. В 1892 году Альфред Бине изучал шахматистов в рамках своего исследования «математических дарований и людей-счетчиков». Его открытия оказали большое влияние на изучение различных видов памяти и умственных способностей. А описанные им различия между врожденным талантом и приобретенными знаниями и опытом заложили основы для дальнейших исследований в этой области. «Человек может стать хорошим шахматистом, — написал он. — Но гениальным шахматистом нужно родиться»{32}. Вместе со своим коллегой Теодором Симоном Бине разработал первый тест для определения уровня интеллекта человека. В 1946 году работу Бине продолжил голландский психолог Адриан де Грот, протестировавший множество шахматистов. Результаты его исследований показали всю важность когнитивной функции распознавания образов и в значительной степени очистили представление о процессе принятия решений от таинственного феномена человеческой интуиции.
Американский специалист по информатике Джон Маккарти, придумавший в 1956 году термин «искусственный интеллект», назвал шахматы «дрозофилой ИИ»{33}, подразумевая ту роль, которую сыграла эта крошечная плодовая мушка в бесчисленном множестве великих научных открытий и экспериментов в области биологии, особенно в генетике. Но к концу 1980-х компьютерное шахматное сообщество практически отказалось от серьезных экспериментов. В 1990 году создатель Belle Кен Томпсон открыто порекомендовал использовать игру го как более многообещающий инструмент для достижения реального прогресса в исследовании мыслительных способностей машин. В том же году в сборник «Компьютеры, шахматы и познание» был включен целый раздел под названием «Новая дрозофила для исследований ИИ?», посвященный игре го.
Игра го с ее полем 19 на 19 линий и 361 черным и белым камнем имеет слишком крупную структуру, чтобы ее можно было взломать с помощью грубой силы, и слишком коварна, чтобы ее исход могли решить тактические промахи, являющиеся главной причиной проигрыша людей шахматным машинам. В статье 1990-го об игре го как о новой мишени для ИИ команда программистов сообщила, что они отстают от своих шахматных коллег примерно на 20 лет. Эта оценка оказалась удивительно точной. В 2016-м, 19 лет спустя после моего проигрыша Deep Blue, компьютерная система AlphaGo, созданная в рамках финансируемого Google проекта DeepMind, победила сильнейшего в мире игрока в го Ли Седоля. Что намного важнее, задействованные для создания AlphaGo методы, как и предсказывали, были более интересными с точки зрения изучения ИИ, чем все те, что применялись в лучших шахматных машинах. Система использует машинное самообучение и нейронные сети, чтобы самостоятельно повышать свой уровень игры, а также другие продвинутые методики, выходящие за рамки обычного поиска «альфа-бета». Deep Blue стала концом; AlphaGo — только начало.
Присущие шахматной игре ограничения были не единственным фундаментальным заблуждением в этом уравнении. Понимание искусственного интеллекта, на которое опиралась компьютерная наука, также оказалось ошибочным. Основные предположения, стоявшие за мечтой Алана Тьюринга об искусственном интеллекте, состояли в том, что человеческий мозг во многом похож на компьютер, поэтому надо создать машину, которая успешно имитирует человеческое поведение. Данная концепция доминировала на протяжении многих поколений ученых-компьютерщиков. Заманчивая аналогия — нейроны как транзисторы, кора как банк памяти и т. д. Но эта красивая метафора не подтверждена никакими биологическими доказательствами и отвлекает нас от фундаментальных различий между человеческим и машинным мышлением.
Чтобы подчеркнуть эти различия, я обычно обращаюсь к таким понятиям, как «понимание» и «цель». Начнем с первого. Чтобы понять фразу, которую человек понимает мгновенно, машина наподобие Watson должна проанализировать огромное количество информации и тем самым выявить контекст, необходимый для извлечения смысла из услышанного. Простое предложение «Эта собака слишком злая, чтобы впустить» может означать, что вы не можете зайти к соседу, потому что у него живет свирепый пес, или что вы не хотите, чтобы у вас в доме появилось животное, угрожающее вашей безопасности. Несмотря на двусмысленность предложения, человек вряд ли неправильно интерпретирует слова собеседника. Контекст делает смысл сказанного очевидным.
Применение контекста — наша естественная способность; это одна из причин, объясняющих, почему человеческий мозг в состоянии обрабатывать такое огромное количество информации, не фокусируясь на ней сознательно. Наш мозг работает в фоновом режиме, без каких-либо заметных усилий с нашей стороны, подобно тому как мы дышим. Зачастую сильный шахматист с первого взгляда на доску понимает, какой ход будет лучшим в той или иной позиции, точно так же, как вы, лишь взглянув на витрину кондитерской, знаете, какое пирожное вам понравится. Конечно, эти бессознательные интуитивные процессы иногда оказываются ошибочными и вы проигрываете партию или покупаете невкусное пирожное, поэтому в следующий раз в аналогичной ситуации вы, вероятно, уделите больше сознательного внимания и времени проверке своей интуиции.
Напротив, искусственному интеллекту необходимо определять контекст для каждого нового фрагмента данных. Чтобы сымитировать понимание, ему необходимо обработать огромное количество информации. Представьте, на какое количество вопросов нужно ответить компьютеру, чтобы понять суть проблемы со «злой собакой». Что такое собака? Это субъект или объект действия — то есть она впускает или ей позволяют зайти? Что значит «впустить»?
Несмотря на все эти сложности даже в простых предложениях, компьютер Watson доказал, что машина может давать точные ответы при наличии достаточного количества релевантных данных, которые она может быстро и грамотно проанализировать. Как и шахматный движок, перебирающий миллиарды позиций для нахождения лучшего хода, языковая машина разбивает язык на значения и вероятности, чтобы сгенерировать понимание и ответ. Чем сильнее повышаются скорость машины, количество и качество данных и чем умнее программный код, тем более точным будет ответ.
Рассуждая о том, умеют ли компьютеры задавать вопросы, можно с иронией упомянуть, что формат телевикторины Jeopardy! в которой Watson победил двух человеческих чемпионов, требует, чтобы участники давали ответы в форме вопросов. Если ведущий говорит: «Эта советская программа выиграла в 1974 году первый чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ», — игрок должен нажать на кнопку и сказать: «Это "Каисса"?» Но это странное правило — простой протокол, никак не влиявший на способность Watson находить ответы среди своих 15 Пбайт памяти.
Тем не менее во многих случаях результат важнее метода, а в результатах машины зачастую превосходят людей. У них нет понимания, но оно и не нужно. Медицинская диагностическая система на основе ИИ может перерыть многолетние массивы данных о пациентах, страдающих раком или сахарным диабетом, и выявить взаимосвязь различных характеристик, привычек или симптомов, что позволит эффективнее диагностировать и предотвращать эти заболевания. Разве отсутствие у машины «понимания» того, что она делает, превращает ее в менее полезный инструмент?
Нет, но проблема понимания важна для тех, кто хочет создать следующее поколение интеллектуальных машин, способных обучаться быстрее, чем мы можем их научить. В конце концов, люди не узнают родной язык по учебникам.
До сих пор мы делали так: создавали машину и закладывали в нее строгие правила, благодаря которым она оказывалась в состоянии имитировать человеческую деятельность. Производительность такой машины была низкой и носила искусственный характер. По мере оптимизации и увеличения скорости производительность повышалась. Теперь мы подошли к следующему этапу, когда программисты ослабляют правила и позволяют машине самой узнать, что к чему, и на основе этого менять или даже игнорировать старые установки. Чтобы освоить какой-либо вид деятельности, нужно уметь применять базовые принципы. Но, чтобы преуспеть, нужно знать, как и когда эти принципы следует нарушить. Это не только теория, но и история моих собственных сражений с шахматными машинами на протяжении двух десятилетий.
5. Что важно для человека?
Одна из проблем, затрудняющая прогнозирование и основанные на статистике оценки развития шахматных программ, связана с тем, что шахматы — состязательный вид спорта. Нет, я не буду отвлекаться на бессмысленные споры о том, являются ли шахматы спортом, игрой, хобби, искусством или наукой. Я не собираюсь спорить с Международным олимпийским комитетом{34}, который отказался включить бридж и шахматы в олимпийские виды спорта на том основании, что эти «умственные виды спорта» не сопряжены с физическими нагрузками, хотя все, кто видел, как шахматные мастера разыгрывают партии в блиц, делая за секунды десятки ходов, могут с этим не согласиться.
Как бы то ни было, шахматы включают большинство элементов, которые входят в определение понятия «спорт». Наиболее важный из них, особенно когда речь идет об игре человека против машины, — соперничество. Цель не в том, чтобы играть хорошо; хорошая игра — это только средство достижения цели, коей является победа над соперником. Мы можем говорить о поисках истины на шахматной доске или о красивой игре, но в конечном итоге значение имеет только одно — победа или поражение.
Еще один аспект шахмат как вида спорта — интенсивные психологические и физиологические нагрузки во время соревнования и кризис после состязания. То, что спортивная наука называет реакцией на стресс, в шахматах является не менее мощным, чем в физических видах спорта. Говоря о нагрузке, я имею в виду не только колоссальные умственные усилия, но и огромное нервное напряжение за доской, которое возрастает и снижается с каждым ходом, с каждой идеей, возникающей в вашем уме во время партии. Это напряжение длится несколько часов, и в процессе игры вы несетесь по американским горкам эмоций по мере того, как ситуация на игровом поле меняется и преимущество переходит то к одной, то к другой стороне. Восторг может в одно мгновение смениться отчаянием и спустя один ход снова уступить место надежде, что исчерпывает запасы адреналина даже у самых выносливых игроков. Управление этой нервной энергией во время каждой партии и на протяжении всего турнира, который может длиться несколько недель, — необходимый навык для гроссмейстера.
Способность к восстановлению не мелочь, особенно после проигрыша. В шахматах нет ничего такого, на что можно было бы возложить вину за свое поражение. Здесь не бывает «несправедливых» арбитров, бьющего в глаза солнца, товарищей по команде, которые могут подвести, или фактора везения, как в картах или игре в кости. Если вы проиграли, то только потому, что ваш соперник оказался сильнее вас, а вы слабее него. Поскольку все сильные шахматисты обладают значительным эго, неудачи воспринимаются ими особенно болезненно. Между тем очень важно достичь правильного соотношения между способностью тщательно проанализировать свой провал, чтобы не допустить его повторения, и умением быстро выкинуть произошедшее из головы, чтобы подойти к следующей партии с необходимой долей уверенности в своих силах и спокойствия.
Шахматы являются спортом и потому, что игра как людей, так и машин может быть несовершенна. В 2003–2006 годах я выпустил серию книг «Мои великие предшественники» с анализом сотен знаменитых партий, сыгранных сильнейшими шахматистами в истории. Большинство этих легендарных партий, даже исследованные с помощью мощных компьютерных программ, подтвердили свою репутацию шахматных шедевров. Однако они содержали много ошибок и неточностей. Было унизительно узнать, что то же самое верно и для моих собственных партий, когда несколько лет спустя я анализировал их перед выпуском новой серии книг «Современные шахматы». По меткому выражению, шахматную партию выигрывает тот, кто ошибается предпоследним. Но также есть мнение, что ошибки — характерная черта шахмат («это фича, а не баг», как говорят программисты). Если вы допускаете относительно незначительные промахи и попадаете в трудное положение, вы можете надеяться на то, ваш соперник тоже просчитается, особенно при вашей упорной защите.
Немецкий чемпион мира Эмануил Ласкер действовал за шахматной доской инициативно и решительно. Философ и математик, Ласкер играл в шахматы в те времена, когда они были очень популярны в мужских клубах. Предисловие к биографии гениального шахматиста написал сам Альберт Эйнштейн, его коллега и почитатель. Ласкер опирался на психологию и хорошее знание своих соперников в той же мере, что и на свое шахматное мастерство, и это позволяло ему удерживать чемпионский титул рекордный срок — 27 лет. Свою книгу «Здравый смысл в шахматной игре» (1896) Ласкер, прежде чем перейти к описанию тонкостей самой игры, начинает со следующего заявления:
«Шахматы были представляемы или, лучше сказать, были ошибочно представляемы только как игра, то есть как вещь, которая не может хорошо служить серьезной цели, а создана лишь для развлечения в часы досуга. Если бы они были только игрой, шахматы никогда не пережили бы тех серьезных испытаний, которым отчасти подвергались за долгое время своего существования. Некоторые горячие энтузиасты возвеличивали шахматы как науку или искусство. Они — ни то, ни другое; но их главное характерное свойство — это, кажется, то, что доставляет высшее наслаждение человеческому интеллекту, а именно — борьба».
Ласкер был первооткрывателем психологического подхода к шахматам: он утверждал, что лучшим ходом является тот, который направляет игру в неудобное для конкретного противника русло. Другими словами, «играть следует с человеком, а не с доской». Безусловно, сильные ходы могут обеспокоить любого шахматиста, но Ласкер считал, что против разных игроков следует применять разные типы ходов и стратегий. Объективной истиной на шахматной доске, считал он, является победа, а для ее достижения понимание слабых и сильных сторон противника имеет решающее значение.
Подход Ласкера кардинально отличался от подхода его предшественника, первого официального чемпиона мира Вильгельма Стейница. Гордый догматик, Стейниц заявлял, что чувства и мотивы противника для него не имеют значения. «Мое восприятие соперника не изменится, будь он даже некой абстракцией или автоматом», — заявил он в 1894 году. Роковые слова. Однако Стейницу никогда не пришлось проверить свои слова на практике, в игре с настоящим автоматом. К сожалению, я не был так удачлив.
Цель этого краткого рассказа о состязательных и психологических аспектах шахмат — показать, что все они становятся несущественными, когда вы играете против компьютера. Разумеется, на человеческой стороне доски все эти факторы остаются, и вам необходимо ими управлять. Но машине не присущи эмоции: она не впадает в самонадеянность при превосходной позиции на доске и не становится удрученной в случае грубого промаха. Машина не устает за время напряженного шестичасового поединка, не нервничает от тиканья часов, не испытывает чувства голода, не отвлекается и не нуждается в перерывах на поход в туалет. Что еще хуже — когда вы знаете, что ваш противник психологически неуязвим, вам становится гораздо сложнее справляться с собственной нервной системой.
Играя с машиной, вы чувствуете себя странно. По сути мало что меняется: вы видите ту же доску, фигуры, часы, сидящего напротив соперника. Но ваш соперник — только марионетка, подчиняющаяся алгоритму. Если шахматы — это военная игра, разве можно настроить себя на сражение с куском железа?
Это не праздный вопрос, связанный с психологией: мотивация значит очень много. Способность поддерживать высокий уровень концентрации в течение длительного времени — одно из отличительных свойств сильнейших шахматистов мира. «Шахматный талант», который изучается психологами, начиная с Бине и де Грота, имеет неуловимую природу; он подобен астрономическим феноменам, которые можно наблюдать лишь косвенно по их проявлениям. Пока более сложные тесты или исследования со сканированием мозга не раскрыли все наши секреты, мы знаем только то, что такой талант существует, поскольку некоторые игроки намного превосходят других, и это неравенство невозможно объяснить только опытом или обучением.
В книге «Гении и аутсайдеры» (2008) Малкольм Гладуэлл изложил знаменитую теорию о «десяти тысячах часов», согласно которой упорный труд, а не врожденный талант, позволяет достигать исключительных результатов в любой области. Когда журналист из The New Yorker указал ему на очевидный факт, что кенийские бегуны на длинные дистанции и ямайские спринтеры тренируются ничуть не больше остальных бегунов, Гладуэлл объяснил, что его теория применима только к «когнитивно сложным видам деятельности», заявив, что «в таких областях нет врожденных талантов». Он даже отдельно высказался на тему шахмат, подчеркнув то, как много времени шахматисты тратят на обучение и тренировки, чтобы достичь уровня мастера или гроссмейстера.
Впоследствии Гладуэлл внес ясность в свою теорию, написав на сайте Reddit, что одной только практики может быть недостаточно. «Я могу играть в шахматы сто лет подряд, но никогда не стану гроссмейстером, — написал он. — Все дело в том, что природные способности и задатки, чтобы быть выявленными, требуют титанической работы и затрат времени»{35}. Не могу не согласиться с этим отдельно взятым утверждением, поскольку в моем случае это было именно так. Если вы устанавливаете планку на уровне гроссмейстера, вам потребуется огромное количество эмпирических знаний, касающихся дебютной и эндшпильной стадии, поэтому упорные тренировки необходимы. Умение эффективно использовать тысячи тактических и позиционных приемов, которым обладают гроссмейстеры, приобретается только с практикой.
Однако, признавая существование когнитивных талантов, Гладуэлл недооценивает их влияние, особенно на ранних стадиях развития. Утверждая, что 10 000 часов практики не сделают любого человека гроссмейстером, но каждый гроссмейстер потратил на практику 10 000 часов, мы игнорируем значительные различия между гроссмейстерами, особенно молодыми.
Я уже много лет занимаюсь в США подготовкой перспективных шахматистов в рамках деятельности Шахматного фонда Каспарова, одна из целей которого — включение шахмат в школьную программу. Наш проект «Молодые звезды — команда США», софинансируемый Рексом Синкфилдом и его Шахматным клубом и учебным центром в Сент-Луисе, вырастил многих юных чемпионов мира в возрастных группах от 8 до 20 лет, а также нескольких гроссмейстеров. Одна из причин такого успеха в том, что мы умеем рано распознавать дарования, иногда даже до того, как ребенок начал формально обучаться игре в шахматы.
Результаты соревнований — стандартный индикатор, который легко поддается отслеживанию. Например, солидный рейтинг 2100 пунктов у девятилетнего ребенка впечатляет гораздо больше, чем такой же рейтинг у 12-летнего. Президент Шахматного фонда Каспарова, еще советский шахматный тренер Михаил Ходарковский, иммигрировавший в Соединенные Штаты в 1992 году, пытается воссоздать некоторые из элементов советского шахматного конвейера и школы Ботвинника, которую я окончил и где впоследствии преподавал, уже в школе Ботвинника — Каспарова. До запуска этой программы очень мало американских детей в таком юном возрасте получали серьезную подготовку и участвовали в сильных турнирах. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что американские юниоры являются одними из сильнейших в мире.
Дети с экстраординарным рейтингом, если пользоваться терминологией Гладуэлла, — это те, кто по уровню игры на два-три года опережает своих сверстников. Если 12-летний школьник набирает 2300 пунктов — очень хорошо, но если такой же рейтинг у 9-летнего ребенка, это означает, что у него есть особый потенциал. Иногда способности детей выравниваются, но, как правило, если маленький шахматист превосходит ровесников на несколько сотен пунктов в течение нескольких лет, то его показатели сохранятся неизменными до того момента, пока не настанет время выбирать между профессиональными шахматами и вузом.
Обычно юные шахматисты добиваются исключительных результатов в условиях, когда сочетаются несколько факторов: хорошо поставленное обучение шахматам в школе, активная поддержка со стороны родителей, частые соревнования и возможность использовать средства для подготовки профессионалов, такие как базы данных. Однако даже ключевые компоненты воспитания любого спортивного таланта не могут объяснить тех редких случаев, когда ребенок в силу своего дарования резко выделяется на фоне сверстников. Одному из участников нашей программы — Авондеру Ляну из Висконсина было девять лет, когда он впервые победил гроссмейстера. В 13 он уже занимал пятое место в американском рейтинге шахматистов младше 21 года. Следующий игрок его возраста занимал 49-е место с рейтингом на 200 пунктов ниже. Номером один в юниорском рейтинге США является Джеффри Сион, который недавно выиграл чемпионат мира среди юниоров до 20 лет и в 15-летнем возрасте уже входит в сотню сильнейших шахматистов мира.
Однако для измерения таланта мы используем не только результаты и рейтинги. Прежде чем дети становятся участниками программы, я внимательно просматриваю подборку их партий. И хотя я не могу претендовать на то, что со стопроцентной точностью выявляю будущих победителей, я хорошо вижу, когда юный шахматист демонстрирует признаки выдающихся способностей. Под выдающимися способностями я подразумеваю вдохновение и творчество, которым нельзя научиться даже при десяти миллионах часов практики, не говоря уже о десяти тысячах, и эти дети зачастую играют всего два-три года. Талант, отсутствие которого, по признанию Гладуэлла, не позволит ему стать гроссмейстером в любом возрасте, отчетливо проявляется уже у семилетних детей. Так как же не говорить о существовании врожденных талантов в этой «когнитивно сложной области деятельности»?
Разумеется, эта редкая врожденная одаренность не является гарантией светлого будущего в шахматах. Здесь играет роль множество разных факторов. Ребенок может увлечься футболом или ловлей покемонов и полностью забросить шахматы. Или его родители могут решить, что шахматы — пустая трата времени и что поездки на турниры слишком дороги или неудобны. Но возможность была — я видел своими глазами на шахматной доске, что в глубине этого маленького детского мозга скрывается нечто особенное.
Если бы в шахматы играли все, мы бы гораздо лучше представляли, насколько редок настоящий шахматный талант. Если бы я родился в стране, где шахматы не были столь популярны, смог бы я добиться подобных успехов в других играх? Мог бы я играть в сёги на уровне легендарного Ёсихару Хабу[5], если бы родился в Японии?{36} Стал бы я чемпионом в сянци в Китае или в оваре в Гане? Или же шахматы, как я полагаю, требуют комплекса особых способностей и склад моего ума почти идеально соответствовал этой игре?
Мне не было еще шести лет, когда я, не зная всех правил, решил опубликованную в газете шахматную задачу, немало удивив своих родителей. На следующий день мой отец, Ким, достал шахматы и принялся объяснять мне, как в них играть, но мне всегда казалось, что это умение пришло ко мне естественным образом, подобно тому, как ребенок овладевает родным языком. В шахматах нет элемента везения, но мне, безусловно, повезло с моими родителями и местом рождения. Отец учил меня шахматам, хотя сам не был заядлым шахматистом. Он умер, когда мне было семь. А вот моя мама в детстве считалась прекрасной шахматисткой, но была вынуждена оставить свое увлечение из-за начала Второй мировой войны.
Наконец я считаю глупым говорить о том, что упорный труд важнее таланта. Это банальное утверждение помогает стимулировать детей к тому, чтобы они усиленно обучались игре на фортепиано. Как я написал десять лет назад в книге «Шахматы как модель жизни», способность к упорному труду — тоже врожденный дар. Умение заставить себя усердно работать, тренироваться, учиться больше других — ничуть не меньший талант, чем все остальные. И далеко не все к этому способны. Как и любой другой дар, талант неустанно трудиться необходимо взращивать, чтобы он расцвел в полную силу. Безусловно, есть свои резоны в том, чтобы рассматривать трудолюбие как вопрос морали, и здесь мы видим обычное переплетение природных задатков и воспитания. И я бы ни в коем случае не хотел давать людям шанс оправдать собственную лень генами{37}. Но мне всегда казались слегка абсурдными такие фразы, как «игрок Х более одарен, но игрок Y одерживает победу благодаря упорному труду». Для достижения наивысших результатов человек должен максимально использовать все свои способности, в том числе способность к усердному труду — будь то за шахматной доской или в зале заседаний совета директоров.
Будучи по характеру оптимистом, я считаю, что мне повезло в том, что я находился на вершине шахматного Олимпа в период интенсивного развития шахматных машин. Сражения с каждым новым и все более сильным поколением машин на протяжении 18 лет сделали мою шахматную карьеру намного более интересной. Они позволили мне прикоснуться к другому миру — миру науки и компьютеров, который иначе остался бы для меня чуждым.
Конечно, я чувствовал себя гораздо лучше, когда выигрывал эти сражения, чем когда начал их проигрывать. Но я просто не успел подготовиться к такому быстрому повороту событий. Эволюционные процессы, породившие человеческий разум, и лучшие советские методы шахматной подготовки не могли сравниться с неумолимым действием закона Мура.
Мой первый публичный поединок с компьютерами в Гамбурге завершился со счетом 32:0. Последнее сражение — матч из шести партий с программой X3D Fritz (2003), во время которого я носил 3D-очки и делал ходы на виртуальной доске, закончился вничью. Между двумя этими событиями я сыграл против компьютеров десятки партий на различных выставках, серьезных турнирах и матчах. Вспоминая эти партии, я со всей очевидностью вижу, как быстро росла шахматная сила машин.
Я был далеко не единственным гроссмейстером, состязавшимся с компьютерами. С конца 1980-х стали часто устраиваться турниры с участием шахматных машин, хотя это не касалось сильных гроссмейстерских соревнований. В открытых, или опен-турнирах, где может состязаться любой (в отличие от круговых, где играют только персонально приглашенные участники), компьютеры постепенно начали превращаться из диковинки в опасного соперника. Чаще всего человек имел право отказаться от партии с компьютером, и многие так и делали. Другие, особенно сильные игроки, имевшие опыт игры с компьютерами, наоборот, с радостью соглашались. Некоторые из них добивались успеха, применяя так называемые «антикомпьютерные стратегии».
Каждый сильный игрок имеет свой стиль, а также свой комплекс сильных и слабых сторон. Знание об этих своих способностях — ключевое условие для совершенствования шахматного мастерства. Но, как показал опыт Эмануила Ласкера, применявшего психологический подход к игре, не менее важно знать то же самое и о соперниках. Ласкер изучал стиль и предпочтения конкурентов более внимательно, чем они сами, и безжалостно использовал свои знания за шахматной доской, навязывая такие позиции, в которых его соперники чувствовали себя некомфортно.
У шахматных компьютеров нет психологических особенностей, зато у них есть четко выраженные сильные и слабые стороны, гораздо более явные, чем у любого шахматиста такого же уровня мастерства. Сегодня машины стали настолько сильными, что большинство их изъянов компенсируется чистой скоростью и глубиной перебора. Не будучи способными на стратегическую игру, тактически они слишком точны, чтобы человек мог извлечь решительное преимущество из их незначительных слабостей. Теннисист, который в состоянии бегать по корту со скоростью 400 км/ч, может не беспокоиться о том, что у него слабый удар слева.
Но в 1985 году дело обстояло иначе. Преимуществом компьютеров были тактические расчеты, но только всего на три-четыре хода вперед. Этого хватало, чтобы стабильно побеждать основную массу любителей, однако сильные игроки научились создавать тактические ловушки, слишком глубокие для того, чтобы компьютеры могли их разглядеть. Парадоксально, но сила машины — безошибочные расчеты — оказалась и ее главной слабостью. Метод грубой силы, основанный на «исчерпывающем переборе» миллионов позиций, также означал, что дерево поиска просматривалось на ограниченную глубину. Если вы обнаружили тактическую угрозу и поняли, что решающий удар будет нанесен через четыре хода (восемь полуходов), то компьютер, который умеет смотреть только на три хода (шесть полуходов) вперед, не заметит эту ловушку, пока не станет слишком поздно. Мы называем это «эффектом горизонта», подразумевая, что машина не может видеть дальше своего поискового «горизонта».
Зная об этом недостатке машин, сильные игроки прятали фигуры за своими пешками, чтобы избежать размена фигур и слишком быстрого упрощения позиции. Они спокойно готовили свои силы в тылу так, чтобы машина со своим горизонтом поиска не могла обнаружить намечаемый прорыв. Компьютеры были достаточно сильны для того, чтобы в таких ситуациях не совершать грубых ошибок, но они безобидно переставляли фигуры в своей зоне контроля, не замечая растущей опасности, а их противники продолжали готовить решающий удар. Ласкер мог бы гордиться.
Такая стратегия никогда не сработала бы против более-менее приличного шахматиста. Мы, люди, с одного взгляда на такую позицию поняли бы: «Здесь нет непосредственной опасности, однако противник явно готовится к большой атаке, поэтому мне нужно что-то предпринять». Мы способны оценить ситуацию на доске в перспективе: «Мой король слаб» или «Его конь находится на угрожающей позиции» — и начать анализ ходов, не просчитывая каждый вариант. В отличие от людей, машина не видит никаких возможностей и угроз, которые находятся дальше ее горизонта поиска.
Еще одна антикомпьютерная стратегия в те старые добрые времена состояла в том, чтобы как можно больше замедлить игру и действовать максимально пассивно и аккуратно, пока машина не создаст слабости в своей позиции. Не умея правильно тянуть время, машина начинала перемещать вперед пешки, выводить фигуры «не туда» и делать бесцельные ходы, пока у нее не появлялась конкретная цель для атаки или защиты.
Позднее ученые разработали методы программирования, позволявшие программам «фантазировать», то есть исследовать гипотетические позиции за пределами дерева перебора, но это достигалось ценой замедления основного поиска. Гораздо более существенные успехи были достигнуты с помощью таких методов, как «поиск спокойствия» и «поиск единственного ответа», которые заставляли алгоритм глубже исследовать варианты, отвечающие специальным условиям, таким как взятие фигур или шах королю. Это представляло собой небольшое отклонение в сторону старых программ типа Б и мечты о том, чтобы научить машины играть в шахматы подобно людям и определять приоритетные шаги на ранней стадии, но во главе угла все равно оставался поиск, а не знания. В конце концов эти умные алгоритмы вместе со все более мощными процессорами практически устранили эффект горизонта.
Вспоминая лучшие шахматные машины 1980-х, я не могу назвать их игру сильной. Но они постепенно становились все более опасными противниками по той простой причине, что люди склонны допускать много мелких ошибок, которыми компьютеры могут идеально воспользоваться. В чисто шахматном плане игра человека против машины — асимметричная война. Компьютеры сильны в сложных тактических позициях, что является главной слабостью людей. При этом люди хороши в планировании, в так называемой позиционной игре, в стратегическом и структурном анализе и спокойном маневрировании. Такое противостояние льда и пламени объясняет, почему эти поединки всегда настолько интригующи. Но в конечном итоге идеальная тактика берет верх даже над сильнейшим соперником.
В поединках человека с машиной, удачных для последней, снова и снова повторяется один и тот же сценарий. Мастер, имеющий высокий уровень дебютных знаний и многолетний опыт, захватывает игровую инициативу и создает такое положение, где компьютер не может выработать тактический план. Зачастую человек жертвует пешку, чтобы достичь подавляющей позиции. Но в конце концов ему необходимо найти способ реализовать свое преимущество, чтобы получить решающий материальный перевес или неотразимую атаку на короля. Едва наступает этот момент, как машина начинает находить блестящие тактические контрудары и защищается с дьявольским упорством, добиваясь ничьей или даже победы.
Единственное поражение Дэвида Леви от программы Chess 4.7 в матче 1978 года — хороший пример того, как работает эта деморализующая схема. В 4-й партии, играя черными, Леви применил очень острый дебют, что в схватке с нынешними программами было бы равносильно самоубийству. Но он получил отличную позицию и, пожертвовав пешку за сильную атаку, готовился записать на свой счет третью победу. Однако все пошло не так, как ожидал маэстро: он не сумел быстро найти решающий удар, а вот программа обнаружила несколько хитрых «единственных ходов» — термин, который мы используем в ситуации, когда есть только один ход, позволяющий избежать немедленной катастрофы. В итоге Chess 4.7 отразила атаку и выиграла партию, что стало первой победой машины над международным мастером в официальном матче. Справедливости ради следует заметить, что в 1-й партии матча программа имела абсолютно выигрышную позицию, но затем попалась в подстроенную соперником ловушку и проиграла. Забавный обмен ролями между человеком и машиной!
В 1983 году машина Belle Томпсона и Кондона впервые достигла мастерского рейтинга. В 1988-м шахматная программа HiTech, работавшая на специализированном оборудовании, как Belle до нее и Deep Blue после, снова подняла планку, обыграв сильного международного мастера на чемпионате Пенсильвании. Со следующего года Гарвардский университет начал проводить командные соревнования между американскими гроссмейстерами и сильнейшими компьютерными программами. Результаты этой шестилетней матчевой серии весьма показательны. В первых двух матчах люди одержали победу над всеми компьютерами. В следующих двух гроссмейстерам не удалось повторить этот успех, хотя они по-прежнему имели значительное преимущество. Было ясно, что машины уверенно прогрессируют. В 1989 году люди выиграли со счетом 13,5:2,5; в 1992-м — 18:7; а в 1995-м — в последнем матче — 23,5:12,5. Им хватило мудрости на этом остановиться.
В сентябре 1988 года HiTech разгромила в матче из четырех партий маститого американского гроссмейстера Арнольда Денкера, что, впрочем, легко объяснимо. Денкеру было 74 года, он играл редко, и до него HiTech одолела нескольких гораздо более сильных игроков. Денкер совершил ряд грубых ошибок, практически проиграв одну партию в 16 ходов, а другую в десять. Такой уровень игры не позволил HiTech продемонстрировать свои устрашающие тактические способности, которыми славились машины. Чтобы можно было сказать об убедительной победе компьютера над людьми, следовало подыскать ему соперников посильнее.
Между тем, комментируя матч с Денкером, создатель HiTech Ханс Берлинер продемонстрировал такую самонадеянность, которую многие в шахматном сообществе сочли более чем раздражающей. Разумеется, вполне естественно гордиться успехами своего детища, будь то ребенок или даже машина. Но, когда ваша машина состязается с человеком, который посвятил этому делу всю свою жизнь и добился весомых успехов, ваше хвастовство не должно быть оскорбительным. Берлинер, который сам был сильным шахматистом, что редкость среди программистов, расхваливал почти каждый ход, сделанный HiTech в матче против Денкера. «HiTech играла поистине блистательно!» — писал он в AI Magazine, и его примечания изобиловали восклицательными знаками, которые мы используем для обозначения особенно качественных и интересных идей. А на самом-то деле речь шла о провальной партии, исход которой был предрешен еще на десятом ходу!
Отчасти Берлинера можно понять, поскольку в 1988 году такой итог рассматривался как достижение, однако победа над соперником, игравшим так плохо, как Денкер, должна была получить весьма сдержанную оценку, но никак не вызвать подобное высокомерие. Кроме того, выбор в качестве мишени пожилого игрока без опыта игры с машинами не назовешь спортивным поведением. Подозреваю, что Берлинер оборонялся, поскольку машина Deep Thought, созданная в том же Университете Карнеги — Меллона, показывала более впечатляющие результаты, чем HiTech. За редкими исключениями шахматные программисты относились к людям, игравшим с их машинами, с уважением и благодарностью. Но находились и такие, кто ставил соперничество впереди науки или путал шахматные способности машин со своими.
Мы, гроссмейстеры, воспринимали компьютеры как инопланетян, проникших в наш мир по нашему приглашению. Некоторые относились к ним с враждебностью, но большинство — с любопытством, и наши старания были вознаграждены так же, как усилия бегуна Джесси Оуэнса, соревновавшегося с лошадьми и автомобилями. Однако в схватке с машинами мы всегда чувствовали себя не в своей тарелке.
Выдающийся исследователь ИИ Дональд Мичи, который вместе с Аланом Тьюрингом взламывал код «Энигма» в Блетчли-парке во время Второй мировой войны, в 1989 году дал мудрое объяснение «негативной реакции гроссмейстеров» на участие машин в турнирах:
«Шахматы — это культура, которая объединяет людей, несмотря на состязательный характер самой игры. После партии соперники, как правило, вместе анализируют ее детали, и для многих шахматные турниры являются центром социальной жизни. Машины же вторгаются в это человеческое сообщество и привносят только грубую силу, но не интересные шахматные идеи…
Подобно профессиональным теннисистам, которые состязаются с роботом, способным закрутить мяч так, как это никогда бы не удалось человеку, гроссмейстеры не видят в таком противостоянии смысла. Как это связано с тем мастерством, которому они посвятили всю свою жизнь?»{38}
Мичи также сравнил игру против компьютера с «дуэтом» профессионального оперного певца и синтезатора — аналогия, которую я нахожу очень верной. Каждому гроссмейстеру присуща любовь к шахматам, к искусству игры, к вызываемым ею эмоциям. Эта игра имеет глубокие корни на культурном и личном уровне. Трудно принять поражение от робота, который не испытывает никакого удовлетворения, никакого страха, никакого интереса.
И как мы должны относиться к свидетелям наших сражений, программистам и инженерам? Они часто выражают удовлетворение или разочарование игрой своих детищ, однако мы привыкли к другому. Как сказал Мичи, мы хотим иметь возможность обсудить победу или поражение со своим соперником. Но вместо этого мы собираемся перед экраном и изучаем, как компьютер выбирал ходы. Как тут не вспомнить остроумное замечание Бобби Фишера, сделанное им после трудной партии, в которой он одержал победу. «Отличная игра, Бобби!» — похвалил его один рьяный поклонник. На что Фишер ответил: «Откуда вы знаете?»{39}
В 1988-м машины, как и следовало ожидать, наконец-то завоевали настоящее шахматное золото. На сильном опен-турнире в Лонг-Бич (Калифорния) Deep Thought записала на счет машин первую турнирную победу над гроссмейстером — 53-летним Бентом Ларсеном, бывшим претендентом на мировую корону. «Великий датчанин», хотя и не был на пике своей карьеры, все еще оставался очень силен, и его проигрыш не объяснялся каким-либо грубым промахом. Машина аспирантов из Университета Карнеги — Меллона не только победила знаменитого гроссмейстера, но и разделила первое место в турнире с другим сильным гроссмейстером, англичанином Тони Майлсом. В следующем году Deep Thought разгромила со счетом 4:0 Дэвида Леви, отомстив ему за своих многочисленных предшественников. Шел 1989 год. Настала моя очередь выйти на арену.
6. На арену!
Известно, что компьютеры невероятно сильны в расчетах, а поскольку далекие от шахмат люди полагают, что шахматы всецело построены на вычислении ходов, они удивляются тому, что человек вообще способен состязаться с машиной. Эта довольно резкая перемена в общественном сознании по сравнению с 1950-ми годами, когда идея шахматной машины казалась научной фантастикой, произошла во многом благодаря компаниям Apple, IBM, Commodore и Microsoft, привнесшим компьютеры в каждый дом, офис и школу. Люди привыкли к компьютерам и их удивительным способностям: разве может древняя настольная игра устоять перед колоссальной мощью этих машин?
Такого рода заблуждения в сочетании с многовековой романтизацией шахмат как интеллектуального эталона наделяли идею противостояния чемпиона мира и шахматной машины особой значимостью. Шахматы не пользовались на Западе большой популярностью, хотя в большинстве стран Европы шахматные события освещались в ряду спортивных новостей, а не на последних страницах газет с комиксами и головоломками, как это часто бывало в США. Связь между шахматами и компьютерной революцией оказалась привлекательной темой для рекламодателей, СМИ и широкой общественности. Это стало большим плюсом и для самих шахмат, где традиционно существовала проблема с поиском спонсоров.
Проблема со спонсорством возникала даже при организации матчей за шахматную корону, хотя ситуация постепенно улучшалась. С 1984 по 1990 год я сыграл подряд пять матчей на первенство мира с Анатолием Карповым, и это беспрецедентное противостояние подняло интерес к игре на уровень, который она знала разве что во времена легендарного матча между Бобби Фишером и Борисом Спасским в 1972 году. Уникальный матч привлек гораздо больше интереса и денег, чем все матчи за два десятилетия до и после него, вместе взятые. Битва дерзкого американца с представителем советской системы символизировала дух холодной войны. Кроме того, поединок состоялся на международной арене в Рейкьявике, и на кону стоял приз в несколько сотен тысяч долларов — в отличие от других матчей за мировую корону, которые проходили в Москве между двумя советскими шахматистами, сражавшимися ради привилегий, копеечного вознаграждения и удовлетворения амбиций.
Мой первый матч с Карповым начался в сентябре 1984-го. Это был марафон, длившийся пять месяцев и 48 партий, до тех пор, пока его не прервали по решению Международной шахматной федерации (ФИДЕ), как только я сократил разрыв в счете, одержав две победы подряд. Во втором матче, осенью 1985-го, я сумел отобрать у Карпова шахматную корону. Мне было тогда всего 22 года, я симпатизировал Западу и хотел понять, какие политические и экономические преимущества дает мне завоеванный чемпионский титул. Мое восхождение на вершину шахматного Олимпа по времени совпало с приходом в стране к власти Михаила Горбачева и началом его политики гласности и перестройки. Я задавал вопросы: например, если я выиграю турнир во Франции, почему я должен отдать бóльшую часть своего приза Спорткомитету? Почему я не могу заключать выгодные спонсорские контракты с иностранными компаниями так же, как это делают звезды спорта во всем мире? Почему я не могу ездить по Баку на «Мерседесе», который я выиграл в честной и открытой борьбе на турнире в Германии? Я отстаивал не только свои интересы, но и интересы других ведущих советских спортсменов. Иногда из-за столь «непатриотичных» взглядов у меня бывали неприятности, но в конце 1980-х советское руководство столкнулось с гораздо более серьезными проблемами, чем фрондирующий чемпион мира по шахматам. И пусть я был не так благонадежен, как Карпов, я уверенно продолжал свое победное шествие.
В 1986 году мы решили распахнуть двери в «дивный новый мир», разделив 24 партии нашего матча-реванша между Лондоном и Ленинградом. Чемпионат мира, в котором схлестнулись два советских шахматиста, впервые проходил за пределами СССР. На церемонии открытия мы стояли на сцене вместе с Маргарет Тэтчер и давали интервью на английском, пусть и под привычным бдительным оком наших кураторов из КГБ. Четвертый матч двух «Ка» в 1987-м полностью проходил в испанской Севилье, и я с трудом удержал свой титул благодаря победе в заключительной партии. Наконец, наш пятый и последний матч в 1990 году был разделен между Нью-Йорком и французским Лионом. Берлинская стена рухнула, затем последовал распад СССР, и передо мной и шахматами открылась эра невиданных возможностей и вызовов. Машины являлись интересной частью этой новой эпохи.
Примерно в то же время, в конце 1980-х годов, когда Deep Thought стала первой машиной, представлявшей реальную угрозу для гроссмейстеров, в научном и деловом мире началось возрождение интереса к искусственному интеллекту. «Зима ИИ», вызванная годами несбыточных обещаний и последующих разочарований, подошла к концу. Кризис в области искусственного интеллекта вырос из чрезмерного оптимизма, присущего в 1970-е годы многим экспертам: они верили в скорое раскрытие всех тайн человеческого и машинного мышления. В 1980-е годы оказались закрытыми немало исследовательских проектов и венчурных фирм в сфере искусственного интеллекта, и вектор развития ИИ переменился. Фундаментальную науку вывели из игры, а верх взяли практические соображения. Попытки понять человеческий разум были оставлены в прошлом; в настоящем же преобладало стремление получить результаты в конкретной узкой области. Новым лозунгом стало «Машина не должна думать — она должна работать».
Выступая на конференции по проблемам искусственного интеллекта (Сиэтл, 2001), глава корпорации Microsoft Билл Гейтс напомнил о великих ожиданиях, связанных с ИИ в 1970-е годы: «Microsoft была основана около 25 лет назад, и я помню, что тогда думал: "Если я займусь всеми этими коммерческими вещами, то не смогу участвовать в гигантских прорывах, которые будут совершены в области искусственного интеллекта в ближайшее время!" [Смех] Я был оптимистом. Помню, как во времена моей учебы в Гарварде уже существовали такие системы ИИ, как шахматная программа Гринблатта, программы Maxima и Eliza, и люди верили, что некоторые из этих сложных задач будут решены через пять — десять лет»{40}.
Чтобы быть справедливым, скажу, что пионеры ИИ ставили перед собой — точнее, перед своими машинами — грандиозные цели: использование естественного языка, самообучение и понимание абстрактных понятий. В ретроспективе их оптимизм кажется, мягко говоря, необоснованным. В 1956 году организаторы Дартмутского летнего исследовательского проекта смело провозгласили, что значительный прогресс в области ИИ может быть достигнут, если «лучшие ученые умы объединят свои усилия в течение одного лета». Одного лета!
Я не буду критиковать людей за смелые мечты, поскольку именно так технологии меняют мир — и это происходит не по заранее установленному графику. Получив увесистый пинок под зад от советского спутника, американское научное и инженерное сообщество заложило в 1950–1960-е годы фундамент для дальнейшего развития почти всех цифровых технологий, от которых мы зависим сегодня, от интернета и полупроводников до GPS-спутников. В отличие от создания ИИ, оказавшегося в то время задачей не по зубам, многие другие амбициозные проекты были успешно реализованы.
История предшественницы интернета, сети ARPANET, поистине бесценна, но она слишком пространна и слишком далека от темы нашего разговора, чтобы рассказывать ее здесь в полном объеме, поэтому я ограничусь коротким эпизодом из своей жизни. В 2010 году меня пригласили выступить на церемонии вручения премии Дана Давида в Тель-Авиве. Каждый год Фонд Дана Давида и Тель-Авивский университет присуждают премии, чтобы «выразить признание и оказать поддержку инновационным и междисциплинарным исследованиям, выходящим за рамки традиционных границ и парадигм». На церемонии присутствовал Леонард Клейнрок из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, получивший награду в номинации «Будущее — компьютеры и телекоммуникации». Во время показа слайд-шоу с кратким обзором его достижений я с волнением прошептал своей жене Даше: «Это он! Это человек, который отправил буквы "l" и "o"!»
29 октября 1969 года Леонард Клейнрок со своими коллегами отправил первое в истории электронное письмо со своего компьютера в Калифорнийском университете на компьютер в Стэнфорде через сеть ARPANET. Они пытались отправить слово login, но после буквы «о» система рухнула. Месяц спустя между машинами наладили постоянную связь. Через несколько недель к сети присоединились еще два компьютера, в Санта-Барбаре и Солт-Лейк-Сити. Я хорошо знаю историю создания ARPANET и часто рассказываю ее своим слушателям, которые считают, что интернет появился в 1990-е. Познакомиться лично с великим Леонардом Клейнроком было для меня огромной честью.
Клейнрок, награжденный в 2007 году Национальной научной медалью США, разработал математические основы пакетной передачи данных и теорию маршрутизации сетевого трафика, которые лежат в основе работы современного интернета. Клейнрок отмечает, что, несмотря на примитивный характер их первых изобретений и огромные трудозатраты, связанные с созданием аппаратного и программного обеспечения для первых сетей, у участников проекта были глобальные амбиции. И даже более чем глобальные.
23 апреля 1963 года Джозеф Ликлайдер, директор Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (ARPA), разослал коллегам восьмистраничный меморандум, в котором изложил цели нового проекта — заставить компьютеры разговаривать друг с другом. Письмо было адресовано «членам и филиалам межгалактической компьютерной сети». И вы говорите об амбициях! Этот документ, как и ряд последовавших за ним, определил ориентиры для исследований ARPA, включая создание технологии передачи файлов, электронной почты и даже цифровой передачи голоса, благодаря которой мы сегодня можем пользоваться, например, Skype.
После того как Клейнрок отправил через сеть ARPANET буквы «l» и «o», прошло целых 20 лет, прежде чем интернет преобразовал глобальную экономику и повседневную жизнь почти каждого человека. Электронная почта появилась раньше Всемирной паутины и широко использовалась в научном сообществе и университетских кампусах, но именно интернет стал тем изобретением, которое изменило мир.
Агентство перспективных исследовательских проектов было основано в феврале 1958-го администрацией Эйзенхауэра в ответ на запуск Советским Союзом первого спутника годом раньше. Агентству поставили задачу предотвратить подобные сюрпризы в будущем, но скоро в его функции включили разработку аналогичных прорывных технологий, способных удивить врагов Америки. Как ни странно, такое расплывчатое описание миссии было на руку ARPA, позволяя ему без труда получать одобрение и ассигнования в Пентагоне и тем самым давая идеальную возможность для финансирования экспериментальных исследований. Американские генералы не хотели, чтобы новая группа умников опередила их в важных секторах военных технологий, таких как ракетные комплексы, поэтому многие из ранних проектов ARPA были реализованы в весьма неожиданных — гражданских — областях.
Одним из таких направлений стал искусственный интеллект, хотя прогресс здесь был гораздо скромнее, чем ожидалось. В 1972 году агентство прибавило к своему названию букву «D» — Defense(«оборона») — и стало называться DARPA. Затем в 1973-м была принята поправка Мэнсфилда. Она ограничила выделение средств на многие проекты DARPA, не связанные непосредственно с военной областью, что сильно ударило по многим направлениям фундаментальных научных исследований, сократив их государственное финансирование. Для такой относительно неперспективной — по крайней мере в глазах представителей Министерства обороны — области, как искусственный интеллект, этот удар стал смертельным. Военным были нужны экспертные системы распознавания целей, а не машины, которые умеют говорить.
Леонард Клейнрок оказался нашим соседом в Верхнем Уэст-Сайде на Манхэттене. Он был достаточно любезен, чтобы поделиться со мной своими мыслями о том, почему и как ARPA (он всегда настаивал на этом названии) перестало быть двигателем развития ИИ и других технологических инноваций. Его первый вывод не удивил: рост бюрократии задушил инновации и коммуникации. «Агентство стало слишком большим, — сказал он мне за обедом. — Раньше мы проводили выездные встречи, во время которых физики, компьютерщики, микробиологи и психологи обменивались друг с другом идеями и опытом. Все могли уместиться в одной комнате. Но когда агентство разрослось, это стало невозможным и разные группы стали мало общаться друг с другом».
Из небольшого клуба блестящих (и хорошо финансируемых) ученых, изучающих различные идеи в условиях относительной свободы, DARPA превратилось в громоздкую иерархическую организацию. Вот почему я с 2013 года занимаюсь междисциплинарными исследованиями в Школе Джеймса Мартина при Оксфордском университете, где работаю приглашенным старшим научным сотрудником. Великие новые открытия рождаются благодаря перекрестному опылению.
Клейнрок также отметил, что переход на чисто военную ориентацию означал, что десятки аспирантов, участвовавших в финансируемых DARPA проектах, были отстранены от работы из-за отсутствия допуска к секретной информации. Для Клейнрока было неприемлемым изгнание стольких ярких молодых умов из важных областей исследований, и он перестал брать деньги у DARPA. В 2001 году министерство обороны возглавил Дональд Рамсфельд, выразив намерение перетрясти его сверху донизу. Но планы вернуть агентству его гибкий, амбициозно-экспериментальный характер были сорваны терактами 11 сентября, после которых правительство сосредоточило все внимание и ресурсы на борьбе с террористической угрозой. DARPA обратилось к проектам, посвященным сбору и анализу информации; одним из его детищ стала печально известная программа под оруэлловским названием «Тотальная информационная осведомленность», вызвавшая в 2003 году недовольство общественности.
DARPA не полностью отказалось от ИИ и даже имело в бюджете небольшую «шахматную» статью. Внимательно прочитав научные публикации о машине HiTech, созданной Хансом Берлинером в Университете Карнеги — Меллона, можно увидеть, что в 1980-е этот проект частично финансировался за счет гранта DARPA. Недавно агентство предложило провести ряд конкурсов на лучший беспилотный автомобиль и другие прикладные технологии, связанные с практическим применением ИИ{41}. Используя развитие шахматных машин как модель, DARPA объявило конкурс на лучшую разработку автономной защиты сети. В соответствии с дарвиновской теорией эволюции в компьютерных шахматах фокус на конкуренции, а не на фундаментальных исследованиях препятствовал прогрессу истинного искусственного интеллекта, но способствовал созданию все более эффективных шахматных машин. А военные всегда испытывали острый интерес к алгоритмам анализа разведданных и совершенствованию военных технологий, к чему я вернусь позже.
Грандиозные предсказания исследователей искусственного интеллекта в 1950–1960-е годы перекликались с прогнозами специалистов по компьютерным шахматам тех же лет; на самом деле зачастую это были одни и те же голоса. Но, в отличие от ученых, занимавшихся ИИ, специалисты по компьютерным шахматам вытащили золотой билет — разработали поисковый алгоритм «альфа-бета», который гарантировал стабильное улучшение. Было ли это новшество благословением или проклятием, но оно обусловило ощутимый прогресс. Те же, кто изучал универсальный ИИ, не сумели добиться столь же явного постепенного роста, который гарантировал бы им государственные гранты, инвестиции корпораций и исследовательские программы в университетах. Весна ИИ наступила только тогда, когда это движение, как и движение компьютерных шахмат, отказалось от грандиозной мечты сымитировать человеческий интеллект. Новым направлением развития стало машинное обучение, которое на протяжении многих лет не достигало больших успехов. Но в 1980-е годы появился новый решающий фактор — большие данные.
Дональд Мичи был одним из пионеров машинного обучения, еще в 1960 году применив этот метод к игре в крестики-нолики. Основная концепция заключается в том, что вы не закладываете в машину комплекс правил, которые она должна соблюдать, подобно тому как вы учите грамматические и синтаксические правила при изучении иностранного языка. Вместо того чтобы рассказывать машине о процессе, вы снабжаете ее множеством примеров этого процесса и позволяете самой выяснить правила.
И снова перевод с языка на язык служит хорошей иллюстрацией. Программа Google Translate опирается на машинное обучение и практически не знает правил тех десятков языков, с которыми работает. Компания даже не нанимает людей со знанием соответствующих языков. В систему загружаются миллионы и миллионы примеров правильного перевода, и машина, встречая что-то новое, сама определяет, какой вариант будет верным. В 1960-е годы, когда Мичи и другие пробовали применять этот подход, машины были слишком медленными, а их системы сбора и ввода данных — примитивными. Никто не смел предположить, что решение такой «человеческой» задачи, как язык, может быть делом масштаба и скорости. Создатели систем ИИ столкнулись с той же проблемой, что и первые шахматные программисты, которые, глядя на программы типа А, решили, что машины никогда не станут достаточно быстрыми для того, чтобы выйти на уровень грамотной игры с помощью грубой силы. Как сказал один из разработчиков программы Google Translate: «Когда вы переходите от десяти тысяч обучающих примеров к десяти миллиардам, это начинает работать. Данные решают всё»{42}.
В начале 1980-х Мичи со своими коллегами написал основанную на данных экспериментальную шахматную программу машинного обучения и получил весьма занятные результаты. Программисты «скормили» машине сотни тысяч позиций из гроссмейстерских партий в надежде на то, что машина сама разберется, что к чему. Вначале показалось, что это сработало. Ее оценка позиций была более точной, чем у обычных программ. Проблемы начались во время партии. Программа разыграла дебют, начала атаку — и сразу же пожертвовала ферзя! Потеряв ферзя за бесценок, она проиграла партию в несколько ходов. Почему она это сделала? Дело вот в чем: когда ферзя жертвует гроссмейстер, за этим всегда следует блестящий и решительный удар, и машина, учившаяся на гроссмейстерских партиях, решила, что жертва ферзя — ключ к победе!{43}
Этот итог вызвал смех и разочарование, но представьте себе, что может произойти в реальном мире, если машины станут на основании примеров вырабатывать собственные правила. Давайте снова обратимся к научной фантастике, поскольку произведения этого жанра полны точных и дальновидных прогнозов. Опустим роботов-убийц и сверхразумные машины из фильмов «Терминатор» и «Матрица». Эти мрачные сценарии хороши только для фильмов и новостных заголовков, но такое антиутопическое будущее настолько далеко и маловероятно, что разговор о нем лишь отвлекает нас от более насущных и более вероятных проблем. К тому же лично мне надоело сражаться с машинами.
В картине 1984 года «Человек со звезды» рассказывается о наивном инопланетянине, который попадает на Землю (его сыграл Джефф Бриджес). Пришелец пытается вписаться в человеческое общество и учится обычаям землян, наблюдая за их поведением, — такая вот инопланетная версия универсального машинного обучения. Естественно, он делает массу забавных ошибок, но самую серьезную совершает тогда, когда садится за руль автомобиля. Он на скорости проскакивает перекресток, провоцируя аварию, и так объясняет своей подруге Дженни свой поступок:
Инопланетянин: Все в порядке?
Дженни: В порядке? Ты сошел с ума? Ты чуть не убил нас обоих! Ты сказал, что наблюдал за мной. И сказал, что знаешь дорожные правила!
Инопланетянин: Я знаю правила.
Дженни: К твоему сведению, на светофоре был желтый свет.
Инопланетянин: Я наблюдал за тобой очень внимательно. Красный цвет — стоять. Зеленый — можно ехать. Желтый — ехать очень быстро.
Дженни: Дай-ка лучше я сяду за руль.
Блестящий эпизод! Как и в случае шахматной программы, которая научилась подражать гроссмейстерам, отдающим своего ферзя, изучение правил только путем наблюдения может привести к катастрофе. Компьютеры, как инопланетные пришельцы, не имеют того, что мы называем здравым смыслом или интуицией, и не знают контекста, если только мы не сообщим его им или они не смогут создать его сами. На самом деле Человек со звезды не был абсолютно не прав; ему просто не хватило данных, чтобы понять, что ускорение на желтый свет зависит от более широкого контекста. Несмотря на петабайты данных, загруженных в память Watson, и миллиарды примеров, скормленных бездонному чреву Google Translate, эти программы иногда выдают странные результаты. Но, как это часто бывает в науке, мы извлекаем гораздо больше ценных знаний из непростых ситуаций, чем из благоприятных.
Весьма показателен ответ суперкомпьютера Watson на вопрос о том, какая «анатомическая особенность» была у одного из гимнастов — участников Олимпийских игр 1904 года. Сначала чемпион Jeopardy! Кен Дженнингс неуверенно предположил, что «у того была одна рука». Но он оказался неправ. Следующим свою версию предложил Watson: «Нога» (на самом деле в соответствии с правилами викторины он спросил: «Что такое нога?»{44}) — причем уровень достоверности этого ответа составил 61 %. Было совершенно ясно, что произошло. Гимнаст Джордж Эйсер лишился ноги и выступал с деревянным протезом. Поиск в базе данных дал множество результатов с именем Эйсер и словом «нога», обозначавшим анатомическое понятие. Пока все шло хорошо. Но дальше компьютер не смог понять, что наличие одной ноги не является «анатомической особенностью». Дженнингс ошибся по-человечески, сделав логичное предположение на основе нехватки данных. Watson ошибся как машина, имея правильные данные, но не сумел поместить их в широкий контекст, помогающий людям не выходить за границы здравого смысла.
Не знаю, был ли запрограммирован Watson обращать внимание на предыдущие ответы, но думаю, что в этом случае он бы сумел скомбинировать правильные данные с правильным предположением Дженнингса. На месте третьего игрока, Брэда Раттера — еще одного чемпиона Jeopardy! я бы так и поступил. Но он не доверял Watson, поскольку это было первое шоу с участием компьютера. Если бы Раттер воспользовался ответом Watson, моя идея о том, что люди и машины с искусственным интеллектом могут продуктивно работать вместе, получила бы подтверждение.
Любой, кто много путешествует, знает, насколько актуальна проблема адекватного перевода. Задолго до того, как интеллектуальные программы сделали для нас доступными многие языки, указатели, вывески и меню по всему миру изобиловали странными фразами наподобие «Комната отдыха для слабых»{45} в аэропорту или «Тарелка с маленькими глупцами» в списке предлагаемых в ресторане блюд. Теперь Google и другие сервисы с лёту переводят целые веб-страницы, как правило, достаточно точно, чтобы понять смысл текста.
Разумеется, промахов по-прежнему много. Моя любимая ошибка — «чят», намеренно искаженное русское сленговое словечко, которое образовано от английского chat и иногда используется для обращения к аудитории в социальных сетях подобно тому, как пользователи Twitter приветствуют друг друга фразой «Привет, твипсы». Где-то в глубинах базы данных русского языка Google Translate слово «чят», состоящее их трех кириллических букв, ассоциируется, однако, с совсем другим значением. Я обнаружил это случайно, когда просматривал свою ленту в Twitter на компьютере друга с включенной функцией автоматического перевода. В переведенном варианте русские пользователи приветствовали друг друга: «Привет, чувствительные ядерные технологии!» Поиск в Google действительно выдал несколько малоизвестных правительственных документов, в которых аббревиатура ЧЯТ расшифровывалась именно таким образом.
Данная ошибка не настолько страшна, потому что у нас достаточно здравого смысла, чтобы обнаружить странность и отнести ее к несовершенству машинного перевода — вместо того, чтобы впадать в панику и повышать уровень ядерной боеготовности до DEFCON 2. Но что если бы это решение принималось алгоритмами ИИ, а не людьми? Как насчет секретных служб, опирающихся на компьютерный сбор и анализ высказываний на тему терроризма? Их сотрудники не показывают каждый твит человеку для двойной проверки — это замедлило бы процесс и снизило его эффективность. Но алгоритмы могут сделать тревожный вывод, что огромное число россиян обсуждают в социальных сетях ядерные технологии.
Машинам всегда будет трудно понимать новые технические термины и сленг: так же как у шахматного компьютера, у них нет ни интуиции, ни здравого смысла. Они должны сымитировать их. У них есть только оценочная функция, которая генерирует значение, отражающее уровень достоверности. Система машинного обучения настолько хороша, насколько хороши заложенные в нее данные, — точно так же, как дебютная книга шахматной программы настолько сильна, насколько сильны внесенные в нее партии. Поскольку количество переходит в качество, программа постепенно уменьшает число ошибок, сохраняя хорошие примеры и отбрасывая плохие со скоростью миллиард примеров в секунду, но аномалии наподобие «чувствительных ядерных технологий» все равно неизбежны!
Машинное обучение спасло ИИ от жалкого существования, поскольку работало и приносило прибыль. Компании IBM, Google и многие другие использовали его для создания продуктов, имевших практическое применение. Но можно ли назвать это ИИ? И так ли уж это важно? Теоретики ИИ, которые хотели понять и даже воспроизвести работу человеческого разума, в очередной раз были разочарованы. Американский информатик и когнитивист Дуглас Хофштадтер, написавший потрясающую книгу «Гёдель, Эшер, Бах: Эта бесконечная гирлянда» (1979), остался верен своему стремлению постичь человеческий разум. Но ИИ-сообщество, требовавшее немедленных результатов, продаваемых продуктов и все больше данных, забыло Хофштадтера и его работы,
В опубликованной в The Atlantic в 2013 году статье Джеймса Сомерса, посвященной Дугласу Хофштадтеру, последний с грустью размышляет о том, стоит ли выполнять задачу, если ее решение ничего не дает. «Итак, мы создали машину Deep Blue, которая сильно играет в шахматы. Ну и что из этого? — вопрошает он. — Улучшает ли она наше понимание того, как люди играют в шахматы? Нет. Позволяет ли она понять, как Каспаров анализирует ситуацию на доске, как выбирает ходы? Нет». По мнению Хофштадтера, системы, не пытающиеся ответить на такие вопросы, не имеют права называться искусственным интеллектом, какие бы впечатляющие результаты они ни показывали. Ученый дистанцировался от такого рода исследований почти сразу же, как только занялся ими. «Как человеку, понимающему суть ИИ, мне претило участвовать в этом обмане, — сказал он. — Я не желал выдавать поведение изощренной программы за интеллект, прекрасно зная, что оно не имеет ничего общего с интеллектом. Не знаю, почему все больше людей попадаются на этот крючок»{46}.
Не хочу быть циничным, но одним из объяснений может быть нынешняя рыночная капитализация Google, превышающая $500 млрд. Другой причиной, на которую указывают в той же статье некоторые эксперты, в том числе Дейв Ферруччи, один из создателей Watson, и Питер Норвиг из Google, может быть то, что люди предпочитают браться за задачи, которые они могут решить. Создать человеческий интеллект невероятно сложно, тогда как машинное обучение дает вполне неплохие результаты. Но как долго это будет продолжаться? Закон убывающей отдачи уже дает о себе знать. Достижения эффективности в 90 % зачастую достаточно для того, чтобы сделать машину полезной, но гораздо сложнее повысить этот уровень до 95 %, не говоря уже о 99,99 %, необходимых для того, чтобы мы доверили машине перевести любовное письмо или отвезти наших детей в школу.
Метод машинного обучения в конечном счете мог бы сработать и в шахматах, и в этом направлении был предпринят ряд попыток. Например, система AlphaGo компании Google использует его вместе с базой данных, содержащей около 30 млн ходов. Как и было предсказано, в игре го для победы над сильнейшими игроками одних только правил и грубой силы оказалось недостаточно. Напротив, к 1989 году Deep Thought ясно показала, что такие экспериментальные подходы вовсе необязательны для того, чтобы достичь высокого уровня игры в шахматы и бросить вызов лучшим игрокам мира. Единственное, что необходимо, — это скорость и еще больше скорости, и ее обеспечили специализированные микропроцессоры, разработанные Сюй Фэнсюном в Университете Карнеги — Меллона. После победы Deep Thought над гроссмейстерами Бентом Ларсеном и Тони Майлсом я решил, что для меня это может быть интересным новым вызовом, и принял его.
Мой первый матч из двух партий с Deep Thought состоялся 22 октября 1989 года в Нью-Йорке, хотя из нас двоих лично присутствовал там только я. Как уже повелось, сама машина находилась за сотни миль оттуда, а все ходы за нее делал оператор на обычной шахматной доске с обычными часами. Незадолго до этого в том же месяце IBM наняла команду Deep Thought, а в итоге инвестировала в этот проект миллионы долларов и собственных технологий, изменив его название на Deep Blue. Но этот миниматч спонсировался софтверной компанией AGS Computers из Нью-Джерси, чей президент был заядлым шахматистом и годом раньше оплатил матч между HiTech и Денкером.
Одна из трудностей игры против компьютеров состоит в том, что те часто и быстро меняют свою игру. Как правило, гроссмейстеры готовятся к бою, тщательно изучая манеру игры своего соперника, анализируя его последние партии и выискивая слабые места. В основном подготовка ориентирована на дебюты, которые обычно строятся на устоявшихся цепочках ходов и носят экзотические названия типа «сицилианская защита» или «индийская защита». Мы стремимся найти в этих дебютах новые идеи и новые сильные ходы («новинки»), чтобы удивить соперника. Особенно полезно постараться обнаружить слабое место в одной из любимых позиций будущего оппонента, ведь он, скорее всего, попытается создать ее на доске.
Более подробно о том, как компьютеры справляются с дебютами, я расскажу в главе о Deep Blue. Здесь же замечу только, что они используют так называемую дебютную книгу — базу данных, которая включает миллионы дебютных позиций, отобранных из реальных партий гроссмейстеров. Эти книги создавались годами и постоянно дополняются и улучшаются, чтобы дать машинам возможность играть более гибко, но основной принцип их применения остается неизменным: машины более-менее слепо следуют книге, пока она не «закончится», после чего начинают думать сами. Я фактически делаю то же самое: вспоминаю проторенные дебютные линии, пока те не иссякнут в памяти, а затем отправляюсь в свободное плавание.
Без ложной скромности могу сказать, что я был самым подготовленным игроком в истории шахмат. Еще с юности мне нравилось изучать дебюты и выискивать возможные усиления, добавляя их в свой арсенал. Захватывающая тактическая борьба в стадии миттельшпиля требует наивысшего напряжения, но и, чтобы найти новую идею в хорошо известной системе (что всегда меня увлекало), необходимы огромное упорство и изобретательность. В поисках слабого места у своих соперников я тщательно изучал применяемые ими дебюты и сохранил множество файлов с анализами и новинками. Даже сильные противники подчас не решались применять против меня свои любимые дебюты, опасаясь мощной новинки. Когда в 2005 году я ушел из профессиональных шахмат, некоторые шутили, что я должен выставить на аукцион свой ноутбук, полный важных шахматных знаний.
Мне было смешно слушать легенды о том, что якобы на меня работала целая команда гроссмейстеров и они, закованные в кандалы в подвале, круглыми сутками придумывали для меня новинки. На самом деле всю огромную базу данных собрали я и мои тренеры Юрий Дохоян и Александр Шакаров, который работал со мной с 1976 года и сохранил эту создававшуюся десятилетиями бесценную интеллектуальную собственность. Мне не нравилось, когда критики неодобрительно говорили, что я «выиграл партию дома» — то есть получил преимущество благодаря хорошей дебютной подготовке. Наивысшей похвалой для меня было признание моей блистательной игры непосредственно за доской, но я не вижу ничего постыдного в том, чтобы подготовиться к партии лучше соперника. Возможно, такой скептицизм чуть более оправдан сегодня, когда все профессиональные игроки используют для подготовки суперсильные шахматные машины. Конечно, даже при использовании машины подготовка требует от шахматиста немалого труда, но, когда потрясающая новая идея исходит от кремниевого, а не от человеческого мозга, суть шахмат немного выхолащивается.
Игра с шахматной машиной во многом обессмысливает дебютную подготовку. Даже если вы изучите все партии, сыгранные этой машиной по сей день, программисты могут загрузить новую дебютную книгу или изменить несколько настроек — и компьютер начнет применять дебюты, которых никогда не играл раньше. И справится превосходно, ведь, в отличие от нас, у него нет проблем с памятью! В то же время компьютер уязвим для новинок ничуть не меньше, чем люди, поскольку умеет делать только те ходы, которые есть в его базе данных. Не исключены забавные ляпы. На одном чемпионате среди шахматных программ компьютер зевнул фигуру, но соперник ее не взял, поскольку у обоих в дебютных книгах был один и тот же изъян. В наши дни все дебютные книги тщательно проверены и доработаны, дабы гарантировать, что машина не окажется в проигрышной позиции прежде, чем начнет думать самостоятельно.
Если вы полагаете, что книга с гигабайтами дебютных ходов дает машине несправедливое преимущество перед человеком, я с вами полностью согласен. Мне всегда казалось странным, что компьютер по сути пропускает целый этап партии, не пытаясь самостоятельно развить фигуры или создать пешечную структуру. Дебютная стадия предполагает сочетание мастерства, креативности и долгосрочного стратегического планирования, в чем машины традиционно слабы. Но благодаря дебютной книге компьютер просто пропускает этот сложный этап и переходит к миттельшпилю, где в полную силу проявляет свое тактическое мастерство.
К сожалению, хорошей альтернативы дебютной книге не существует, по крайней мере без внесения каких-либо изменений в правила. Шахматные дебюты разрабатывались эмпирическим путем на протяжении десятилетий, и игроки их изучают и запоминают. Даже слабый игрок способен запомнить достаточно много дебютов, чтобы выйти на игровую позицию, фактически не задумываясь (это плохая привычка, которую я критикую как тренер: она чревата тем, что по окончании дебютной стадии игрок может не понять возникшую на доске ситуацию). Дебюты являются важной частью шахмат, и их простое удаление из шахматной программы дало бы людям несправедливое преимущество. Это тоже привело бы к очень странной игре, когда машины, всецело полагаясь на свои алгоритмы, каждый раз стремились бы делать одинаково прямолинейные, развивающие ходы. В этом легко убедиться, если отключить дебютную книгу в своей любимой шахматной программе. Такой шаг дает сильному игроку неплохой шанс контролировать течение партии с самого начала, хотя, конечно, одолеть сегодняшнюю программу почти невозможно.
Дебюты не единственное, что может меняться у вашего компьютерного соперника от партии к партии. Например, программисты могут легко изменить несколько параметров, чтобы сделать игру машины более агрессивной. В одной шахматной программе может скрываться шесть различных «личностей», поэтому на протяжении матча из шести партий вы можете каждый раз сталкиваться с совершенно новым соперником. В партиях между двумя компьютерами это не имеет значения, но опытные шахматисты, как правило, изучают игровую манеру своих противников, что для меня всегда было важнейшим компонентом игры.
Наконец, компьютеры постоянно усиливаются. Версия Deep Thought, с которой я играл в 1989 году, уже была значительно усовершенствована по сравнению с той, что годом раньше победила Ларсена в Лонг-Бич. Параллельное аппаратное обеспечение компьютера позволяло добавлять шахматные микропроцессоры и вычислительную мощность. У него было шесть процессоров, а скорость перебора превышала 2 млн позиций в секунду, что намного превосходило данный показатель у всех предыдущих машин. Вот что команда Deep Thought написала в 1989 году о взаимосвязи глубины поиска и шахматной силы:
«Прогресс шахматных машин, основанных на грубой силе{47}, еще в конце 1970-х годов предельно четко показал: скорость поиска и шахматная сила машины тесно взаимосвязаны. Партии между самотестирующимися компьютерами показали, что каждый раз, когда глубина поиска увеличивается на один дополнительный полуход, рейтинг машины повышается примерно на 200–250 пунктов. Поскольку каждый дополнительный полуход увеличивает дерево поиска в пять-шесть раз, даже двукратное повышение скорости позволяет повысить рейтинг примерно на 80–100 пунктов. Рейтинги, полученные машинами в партиях с людьми, указывают на то, что взаимосвязь сохраняется, возможно, вплоть до гроссмейстерского уровня, на котором в настоящее время играет Deep Thought. Именно из-за этой связи мы начали наш проект».
Другими словами, быстрее значит глубже, а глубже значит сильнее, и это было все, что имело значение. Если обозначить рейтинг шахматных машин по оси y, а количество просмотренных позиций в расчете на ход — по оси x, вы получите идеальную диагональ, отражающую восходящее направление развития шахматных машин. В 1970 году программа Chess 3.0 имела рейтинг 1400 пунктов; в 1978-м версия Chess 4.9 достигла рейтинга 2000; в 1983-м машина Belle преодолела отметку 2200; в 1987 году HiTech набрала 2400; а в 1989-м Deep Thought вышла на гроссмейстерский уровень 2500. Микропроцессоры становились все меньше и быстрее, поиск углублялся, а рейтинг повышался.
Эта удручающая тенденция, существовавшая на фоне проблем в инженерно-технической области, в очередной раз объясняет, почему многие были разочарованы тем фактом, что компьютерные шахматы оторвались от своих корней — искусственного интеллекта. Несмотря на впечатляющий рост рейтинга, в 1990 году специалист по машинному интеллекту и международный мастер по шахматам Дэнни Копек посетовал: «Из-за приоритетности соревновательного аспекта мы мало знаем о том, как программа в конечном итоге выбирает тот или иной ход. Это во многом раскрывает причину того, что компьютерные шахматы развиваются прежде всего как вид спорта (ориентированный на результат), а не как область науки (ориентированная на решение проблемы)»{48}.
Однако 22 октября 1989 года меня заботила не столько мощь искусственного интеллекта Deep Thought, сколько его шахматная сила. Я пытался догадаться, какие улучшения могли быть внесены в программу по сравнению с предыдущей версией, победившей в показательной партии сильного английского гроссмейстера Тони Майлса. Незадолго до этого я побил многолетний рейтинговый рекорд Бобби Фишера в 2785 пунктов и был уверен в своих силах. За день до матча я смог просмотреть несколько предыдущих партий Deep Thought, хотя, как я уже говорил, стиль игры машины мог существенно измениться за пару последних месяцев и даже суток. Тексты этих партий мне предоставил Мюррей Кэмпбелл из команды Deep Thought, что было с его стороны благородным жестом, свидетельствовавшим о дружественном и исследовательском духе матча. И, надо отметить, жестом справедливости. В конце концов, машина имела возможность проанализировать все мои партии, а я не мог обновить свой процессор накануне матча.
Проанализировав партии Deep Thought, я нашел, что машина сильна и полностью оправдывает свой рейтинг 2500, соответствующий минимальному гроссмейстерскому уровню. Я был, бесспорно, сильнее, но, по моим оценкам, в матче из десяти партий машина вполне могла бы добиться одной-двух ничьих и даже одержать одну-две победы. Перед началом игры в Нью-Йоркской академии искусств, где проходил матч, собралась оживленная толпа, и я был счастлив от сознания того, что мне выпало стать представителем человечества в этом противостоянии человека и машины. «Не представляю, как мы сможем жить дальше, зная, что существует нечто умнее нас», — заявил я на церемонии открытия. Сейчас можно сказать, что я сделал это заявление под воздействием скорее эмоций, нежели мыслей.
Это было не единственное мое необдуманное высказывание о компьютерных шахматах. В одном из интервью той поры я сказал, что шахматная корона достанется компьютеру раньше, чем женщине{49}, — прогноз, который сбылся. Эти слова были восприняты как проявление сексизма, чем в действительности они не являлись. Дело в том, что тогда на горизонте еще не было ни одной шахматистки с «мужским» чемпионским потенциалом. Только несколько лет спустя младшая из трех замечательных сестер Полгар из Венгрии, Юдит, ворвалась в шахматную элиту и обосновалась в десятке сильнейших шахматистов мира.
В тот воскресный день в Нью-Йорке мне удалось доказать, что я не зря верил в свои силы. В 1-й партии, играя черными, я постепенно выстроил доминирующую позицию. К 20-му ходу я уже чувствовал, что стратегически победил; мне нужно было только сохранить контроль над позицией, пока я не смогу нанести решающий удар. Игра шла в сравнительно быстром темпе: соперники имели по 90 минут вместо двух с половиной часов, положенных по стандартам классических шахмат. Это давало преимущество компьютеру, поскольку у меня оставалось меньше времени на проверку расчетов, но мне его хватило.
Сосредоточив свои силы в центре, я начал продвигать пешки к неприятельскому королю, и Deep Thought не оставалось ничего иного, как ждать, когда на него обрушится топор. Я знал, что, если будет хотя бы одна возможность выскользнуть из капкана, компьютер обязательно ее найдет, поэтому не торопил события. Гроссмейстер, оказавшись в такой пассивной и беспомощной позиции, сделал бы все для того, чтобы вырваться на свободу, ибо в этом случае у него появился бы шанс переломить игру. Люди понимают, что лучше рискнуть быстрым проигрышем, но зато получить хотя бы крошечный шанс на спасение, чем не предпринимать никаких действий и обречь себя на неминуемое медленное удушение.
Однако компьютеры не понимают таких абстрактных концепций, как шансы и компромиссы. Они всегда ищут лучший ход в данной конкретной позиции, поскольку попросту не способны на иное. Возможно, покерные машины запрограммированы иначе, но шахматные не умеют блефовать. Они не будут делать намеренно слабый ход в надежде, что противник не увидит подвоха. Некоторые исключения могут возникнуть в том случае, если программисты заранее изменят настройки машины так, чтобы она добилась победы любой ценой и избежала ничейного исхода. В настройках шахматных программ эта функция называется фактором пренебрежения (contempt factor); она может заставить машину продолжить борьбу и делать более рискованные ходы, вместо того чтобы довольствоваться ничьей. По сути, компьютер будет сверхоптимистично оценивать свою позицию или, как подразумевает название, пренебрежительно оценивать шансы противника.
В 1-й партии нашего матча у Deep Thought не было возможности проявить подобный оптимизм или пренебрежительность: несмотря на свойственную компьютеру упорную защиту, я в конце концов совершил прорыв и выиграл на 52-м ходу. Сегодня я с огорчением вижу, что не всегда делал лучшие ходы{50} и в один из моментов Deep Thought мог существенно укрепить свою оборону. По окончании партии я хвастливо заявил, что «после такого поражения человек был бы морально убит». Но машина не человек; ее нельзя запугать, поэтому 2-ю партию, белым цветом, мне пришлось начинать с чистого листа.
Белые ходят первыми, что по крайней мере на мастерском уровне дает такое же преимущество, какое можно получить благодаря подаче в теннисе{51}. В состязаниях профессионалов белые побеждают вдвое чаще, чем черные, хотя половина всех партий заканчивается вничью. Белые, как правило, определяют характер боя, и я воспользовался этим, разыграв ферзевый гамбит — предложив Deep Thought жертву пешки, ведь компьютеры были по-прежнему довольно жадны до материала. Как и следовало ожидать, машина клюнула на наживку и вскоре оказалась в трудной позиции: мои фигуры взяли под контроль всю доску. Моя атака на короля вынудила Deep Thought на 17-м ходу отдать ферзя, после чего наступила «техническая стадия реализации преимущества». Любой человек в этой ситуации сдался бы с чистой совестью, но программисты полагают, что машине терять нечего, и программируют ее на продолжение игры, даже если ее оценочная функция показывает неизбежный проигрыш. Учитывая, насколько хорошо компьютеры могут пользоваться человеческими промашками, такой подход нельзя назвать неразумным, хотя порой он раздражает.
На 37-м ходу оператор все же был вынужден признать поражение, и аудитория, явно болевшая за человека, наградила меня громом оваций. Мое первое серьезное сражение с шахматной машиной оказалось легким и приятным, и даже местные таблоиды уделили внимание этому матчу. «Красный шахматный король быстро сжег чипы Deep Thought»{52}, — написала New York Post, использовав анахронизм времен холодной войны. Команда Deep Thought была явно недовольна игрой своей машины, даже если и не ожидала другого результата.
Перечитывая впоследствии комментарии программистов о матче, я понял, что старая шутка о том, что все побежденные соперники оказываются не совсем здоровы[6], точно так же применима и к компьютерным шахматам: мне никогда не удавалось победить шахматную программу, в которой не было бы багов! Оказывается, в программе Deep Thought имелся дефект — «ошибка рокировки», ослаблявшая игру машины. Программисты обнаружили неполадку только через несколько недель. Как я расскажу чуть позже, это стало темой для обсуждения. Я также узнал, что между партиями Сюй Фэнсюн перенастроил машину на более медленную игру, что в очередной раз показывает, как глупо надеяться на то, что вы узнали о своем компьютерном противнике в ходе предыдущей партии: спустя час он может играть уже совсем по-другому.
Честно говоря, я не помню, чтобы первое официальное сражение с компьютером произвело на меня какой-то особый психологический эффект. Да, это отличалось от того, к чему я привык, но я не чувствовал никакой зловещей угрозы. Я был настолько уверен в своих силах, что не испытывал даже привычного напряжения, которое обычно чувствовал во время партий с гроссмейстерами. Наш поединок больше походил на дружеский товарищеский матч или научный эксперимент. Но в последующие годы все изменилось: машины превратились в опасных соперников и начали появляться на серьезных турнирах, где на кону стояли престиж и деньги, а не только будущее человечества.
7. Первый матч с DEEP BLUE
Я не умею проигрывать. Хочу прояснить это с самого начала: я ненавижу проигрывать. Ненавижу проигрывать плохие партии и ненавижу проигрывать хорошие. Я ненавижу проигрывать слабым игрокам и ненавижу проигрывать чемпионам мира.
После каждого проигрыша я провожу бессонные ночи. Бывало, что на церемониях награждения после тяжелого поражения у меня случались вспышки гнева. Я с раздражением обнаружил, что упустил хороший ход в проигранной 20 лет назад партии, которую анализировал для этой книги.
Я ненавижу проигрывать, и не только в шахматах. Терпеть не могу проигрывать в карточные и любые другие игры (именно поэтому я так редко играю в покер).
Неумение проигрывать — черта моего характера, которой я не особенно горжусь, но которой и не стыжусь. Чтобы быть лучшим в любой состязательной сфере деятельности, нужно не столько бояться поражений, сколько ненавидеть их. Радостное возбуждение — замечательное ощущение, и я думаю, что любой успешный спортсмен привыкает к нему в очень юном возрасте. Каждый спортсмен с течением времени находит для себя собственные стимулы. Но, как бы вы ни любили свой спорт, вы должны ненавидеть проигрывать, если хотите оставаться на вершине. Вас это должно задевать, и задевать очень глубоко.
В базе данных можно найти список практически всех серьезных партий, которые я сыграл с 12-летнего возраста, — всего более 2400. Из них я проиграл примерно 170. Если взять только турнирные и матчевые партии за 25 лет моей профессиональной карьеры, начавшейся, когда мне было 17, количество проигрышей уменьшается почти в два раза. Возможно, я не научился проигрывать просто потому, что у меня не было такой возможности. В 1990 году английский гроссмейстер Реймонд Кин написал книгу «Как обыграть Гарри Каспарова», в которой собрал все мои поражения за десять лет. Книга начинается словами: «Обыграть Гарри Каспарова в шахматы значительно сложнее{53}, чем взойти на Эверест или стать миллиардером… Я узнал, что покорить Эверест легче в шесть раз… заработать миллион долларов проще в пять раз…» Возможно, те немногие шахматисты, которым удалось меня победить, задавались вопросом, не следует ли им теперь заняться каким-нибудь другим делом.
Но шутки в сторону. То, как я отношусь к проигрышам, понятно из любого рассказа о моем матче с суперкомпьютером Deep Blue компании IBM в 1997 году. Или, если точнее, о матче-реванше.
Я смирился с тем, что почти никто не помнит о моем первом матче с Deep Blue в 1996-м, в котором я одержал победу. Люди забыли, что историческому перелету Чарльза Линдберга через Атлантический океан в 1927 году предшествовала масса неудачных попыток. Если матч 1996 года и вспоминают, то лишь потому, что мой проигрыш одной партии стал первой в истории победой машины над чемпионом мира в игре с классическим контролем времени. До этого я сыграл против машин несколько партий с укороченным контролем времени, и в некоторых из них потерпел поражение. Помимо классических шахмат существуют и «быстрые шахматы», или рапид (где у каждого игрока меньше 60, но больше 10 минут на всю партию), и молниеносная игра, или блиц (где у игрока не более 10 минут — обычно пять, а то и меньше). Есть даже «буллит», когда на всю партию дается лишь одна минута и шахматы фактически превращаются в эквилибристику.
Начиная с 1970-х стало очевидно: чем быстрее игра, тем больше преимущество компьютера перед человеком. Гроссмейстеры могут играть на основе интуиции, но шахматы прежде всего игра, требующая точности. Если у человека нет времени, чтобы провести надлежащие расчеты, тогда как машина способна проанализировать миллионы позиций в секунду, молниеносная игра может быстро превратиться в бойню. Малейшие оплошности и тактические промахи, обычно допускаемые людьми в игре друг с другом при укороченном контроле времени, мгновенно наказываются машинами, никогда не делающими подобных ошибок в ответ.
После победы над Deep Thought (1989) мой следующий публичный матч с машиной состоялся только через несколько лет. Отчасти это объяснялось тем очевидным фактом, что я не мог позволить себе тратить время впустую: шахматные машины должны были значительно усилиться, чтобы бросить мне настоящий вызов. В 1990-м я выиграл у Анатолия Карпова свой пятый матч за мировую корону, хотя в начале того года пережил трагедию на моей малой родине: мы с семьей и тысячами земляков были вынуждены бежать из Баку, где в преддверии будущего распада СССР начались армянские погромы.
Но я следил за прогрессом машин. На моем персональном компьютере всегда были установлены новейшие программы — я использовал их для анализа, а иногда и играл с ними ради развлечения. Хотя они не показывали сильной игры, такие программы, как Genius и Fritz, уже стали довольно опасными в тактическом плане даже на обычном домашнем компьютере или ноутбуке. В быстрой игре человеку стоило лишь один раз зевнуть — и все было кончено.
Мои пути с Deep Thought пересеклись еще раз весной 1991 года на компьютерной выставке в Ганновере. Состав команды Deep Thought частично сменился в процессе преобразования их детища в крупнейший проект IBM. Но Сюй Фэнсюн и Мюррей Кэмпбелл оставались лидерами команды, и оба приехали в Ганновер. Deep Thought пригласили выступить в самом сильном соревновании из всех, где доводилось играть машинам до того момента. Это был круговой турнир с участием семи немецких игроков — шести гроссмейстеров и одного крепкого международного мастера; их средний рейтинг составлял 2514 пунктов.
Получив доступ к колоссальным ресурсам IBM, Сюй Фэнсюн продолжал совершенствовать машину своей мечты, пытаясь внедрить в нее сверхбольшую интегральную микросхему (СБИС) с тысячами элементов на одном кристалле, но он еще не достиг цели. Тем не менее Deep Thought была сильнейшей машиной в мире, и, судя по ее предыдущим успехам, можно было ожидать, что в Ганновере она будет претендовать на высокое место. Но, как ни странно, она финишировала на 7-м, предпоследнем месте, одержав две победы при одной ничьей и четырех поражениях. Вину за два проигрыша команда возложила на ошибки в дебютной книге (регулярно всплывающая тема), однако в целом игру Deep Thought в Ганновере нельзя было назвать сильной.
Мой друг Фредерик Фридель, который был одним из организаторов этого турнира, предложил мне более интересное испытание. Он показал тексты партий первых пяти туров и предложил угадать, какие из этих партий были сыграны Deep Thought. Это был своеобразный вариант теста Тьюринга — посмотреть, сможет ли компьютер выдать себя за гроссмейстера. Мне удалось правильно указать две партии и еще в одном туре сузить выбор до двух партий, но один раз я ошибся — так что три из пяти компьютерных партий прошли тест Тьюринга. Для меня это было более убедительным показателем прогресса шахматного компьютера, чем результаты турнира. В некоторых партиях Deep Thought следовал привычной модели: ужасная стратегическая игра и неподобающая жадность к материалу, компенсируемые поразительным тактическим мастерством. Но другие партии были похожи на настоящие шахматы, даже если и не дотягивали до уровня чемпиона мира.
Я был заинтересован еще и потому, что не сомневался: вскоре баланс сил изменится и примерно через десять лет компьютеры станут достаточно сильными для того, чтобы победить меня. Но смогут ли они проницательно анализировать человеческую игру? Я потратил много времени на изучение сильных и уязвимых сторон моих соперников, хотя отдавал себе отчет в том, что вижу их сквозь призму собственных предпочтений и слабостей. Машины же предельно объективны. Шахматные программы уже показали свою полезность как вспомогательные инструменты для анализа партий, пусть даже они могли находить только грубые тактические ошибки. Но когда они станут достаточно сильными, думал я, возможно, они будут способны выявлять даже самые незначительные изъяны в моей игре и в игре моих соперников.
Эта идея так и не получила развития, отчасти из-за ограниченного потенциального рынка для таких программ. Всего несколько сотен шахматистов в мире достаточно регулярно играют с одними и теми же соперниками, чтобы им требовалась специальная подготовка. В конечном итоге в программу ChessBase были добавлены некоторые полезные функции, такие как автоматическое формирование профилей игроков, включая их любимые дебюты и избранные партии. Но эти функции скорее позволяли сэкономить время, чем были настоящими аналитическими инструментами. Они не были достаточно продвинутыми для того, чтобы указать на особенности, присущие данному шахматисту: например, «часто делает ошибки, когда его король находится под шахом» или «любит разменивать ферзей, играя черными». Кроме того, мысль о возможности подвергнуться такому глубокому анализу вызывала дискомфорт у некоторых игроков, хотя все их партии находились в открытом доступе. Я же был не против узнать, что машина скажет обо мне и моих партиях.
Меня также интересовало, что нового может привнести основанный на базовых данных компьютерный анализ человеческого поведения в такой области, как психология, и в частности, процесс принятия решений. Понятно, что вряд ли кто-то захочет добровольно передавать третьей стороне все свои тексты, электронные письма, сообщения в социальных медиа, историю поисковых запросов, историю покупок и все остальные составляющие цифрового следа, который мы создаем почти ежечасно. Но различные приложения и сервисы, хорошо это или плохо, уже имеют доступ ко всей подобной информации, и я уверен, что достаточное количество данных и грамотные аналитические инструменты позволили бы выявлять множество интересных корреляций, возможно, даже диагностировать такие вещи, как депрессия или ранние признаки деменции.
У Facebook есть средство для предотвращения самоубийств: пользователи могут отметить публикации, в которых высказываются мысли о суициде, и автору поста может быть предложена помощь. Фитнес-трекеры отслеживают все показатели работы вашего организма — от режима сна и сердечного ритма до количества сожженных калорий. Компании Google, Facebook и Amazon, вероятно, знают о вас больше, чем вы сами, но люди зачастую начинают нервничать, когда результаты анализа этих данных оказываются обнародованы, особенно если в публикации раскрывается неприятная правда.
Естественно, каждый раз, когда появляется доступ к таким персональным данным, возникает бесчисленное множество вопросов, связанных с защитой конфиденциальности, и достижение компромиссов в этой области будет оставаться одним из главных полей сражений в ходе революции ИИ. Я хотел бы узнать, что скажет машина о моей игре в шахматы, моем психическом и физическом здоровье, но хотел бы я, чтобы об этом узнал кто-то еще? Возможно, вы не станете возражать, если о вашем психическом и физическом здоровье узнают члены вашей семьи и лечащий врач, но как насчет вашего работодателя или страховой компании? В некоторых компаниях обзор социальных медиа уже стал стандартной процедурой процесса найма. Антидискриминационные законы в США запрещают спрашивать у кандидатов на рабочее место об их возрасте, поле, расе и состоянии здоровья, но алгоритмы анализа соцсетей могут выяснить это за доли секунды и, кроме того, сделать очень точные предположения о сексуальных предпочтениях, политических взглядах и уровне дохода.
История показывает, что стремление к комфорту в конечном итоге побеждает абстрактное желание конфиденциальности. Нам нравится делиться личной информацией в социальных сетях. Мы любим, когда алгоритмы Netflix и Amazon рекомендуют нам книги и музыку. Мы не откажемся от GPS-навигаторов, даже если их использование означает, что десятки частных компаний знают о вашем местонахождении практически в любой момент времени — и к этой информации могут получить доступ государственные органы и суды. Когда Gmail запустила сервис рекламных объявлений, основанный на сканировании содержания электронных писем, это вызвало всплеск общественного негодования, но он продолжался недолго. Это всего лишь алгоритм, к тому же от рекламы все равно никуда не деться — так не лучше ли видеть рекламные объявления, которые могут вас заинтересовать?
Конечно, это не означает, что мы должны покорно сдаться Большому Брату. Будучи уроженцем страны, послужившей прообразом антиутопического мира в романе Джорджа Оруэлла «1984», я особенно чувствителен к любым посягательствам на свободу личности. Слежение может быть инструментом как обеспечения безопасности, так и репрессий, особенно при современном уровне технологий. Все замечательные коммуникационные технологии, от которых мы зависим сегодня, сами по себе не являются ни добром, ни злом. Но глупо надеяться на то, что интернет, как утверждают некоторые, принесет свободу всем и каждому. Современные диктатуры и другие подобные режимы прекрасно знают, как ограничить эту свободу и использовать эти новые мощные инструменты в своих целях. Я рад, что защитники свободы личности и конфиденциальности не дремлют, особенно в связи с усилением полномочий государства. Я просто думаю, что они ведут заведомо проигрышную борьбу, поскольку технологии будут продолжать развиваться, а подавляющее большинство людей, интересы которых они пытаются отстаивать, не станут защищать себя сами. Мало кто читает заявления о конфиденциальности, игнорируя их так же, как предостережения об опасности трансжиров и кукурузного сиропа. Мы хотим быть здоровыми, но не можем отказаться от жаренных в масле пончиков. Самым большим препятствием в деле защиты конфиденциальности всегда будет человеческая природа.
Технологии, основанные на доступе к нашим персональным данным, будут предлагать все больше преимуществ, перед которыми мы едва ли сможем устоять. Цифровые помощники, Echo от Amazon и Home от Google, улавливают каждое слово и звук в доме и передают их для анализа в облако — и однако люди покупают эти устройства миллионами. Полезность всегда берет верх над иными соображениями. Еще более инвазивные технологии, такие как микросенсоры в сантехнических системах, в продуктах питания и даже внутри наших тел, поначалу будут внедряться в странах с нестрогим законодательством в области защиты конфиденциальности, особенно в развивающемся мире. Но когда будут получены первые результаты, показывающие экономическую выгоду и пользу для здоровья, шлюзы откроются и такие технологии заполонят весь мир.
Наша жизнь постепенно преобразуется в данные. Тенденция будет ускоряться по мере появления все более продвинутых инструментов, и мы будет принимать ее либо добровольно, в обмен на комфорт и полезность, либо вынужденно — вследствие ужесточающихся требований безопасности. Это направление развития не изменить, поэтому особое значение приобретает наблюдение за наблюдателями. Объемы производимых нами данных будут только расти и использоваться в основном в наших интересах, но мы должны контролировать, куда они попадают и как используются. Конфиденциальность уходит в прошлое, но ей на смену должна прийти прозрачность{54}.
В то время как основное внимание было сосредоточено на компьютерах с массивно-параллельной обработкой, специализированным аппаратным обеспечением и заказными микропроцессорами, революция происходила и в области шахматных программ для ПК. Благодаря тому, что растущее сообщество программистов получило возможность делиться идеями через интернет, а также ввиду появления все более мощных процессоров от Intel и AMD, персональные компьютеры с операционными системами MS-DOS и Windows постепенно наращивали свою шахматную силу. К 1992 году они затмили большинство популярных моделей электронных шахмат — так называли встроенные в электронные доски специальные шахматные компьютеры, которые производились компаниями Saitek и Fidelity и носили такие звучные названия, как Mephisto и даже Kasparov Advanced Trainer.
В конце 1980-х годов к некоторым моделям прилагалось послание от моего имени, гласившее: «Хотелось бы, чтобы игра с шахматным компьютером "Каспаров" доставила вам удовольствие и помогла усовершенствовать свое мастерство, — и кто знает, может быть, однажды мы встретимся с вами за шахматной доской!» Моя спортивная карьера оказалась достаточно долгой для того, чтобы это пожелание сбылось, и на различных шахматных мероприятиях ко мне часто подходили юные шахматисты с просьбой оставить автограф на их шахматном компьютере «Каспаров».
Для молодых читателей, которые не помнят те времена, скажу, что возможности персональных компьютеров в начале 1990-х годов были весьма скромными. Даже если вы приобретали компьютер самой последней модели за колоссальную цену $5000, очень скоро вам приходилось докупать к нему оперативную память, более емкий жесткий диск и более мощный процессор. Мало какая программа потребляет больше вычислительной мощности, чем шахматный движок. Он с легкостью использует все 100 % производительности процессора и все его ядра, сколько бы их ни было — четыре, десять или 20. За 15 минут работы шахматного движка мой старый ноутбук нагревался так, что его можно было использовать как тостер. Даже сегодня сверхмощные машины превращаются в медленных черепах, когда шахматный движок задействует для поиска все доступные ресурсы процессора.
Шахматные программы для ПК работают гораздо медленнее, чем программы на специализированном аппаратном обеспечении, такие как Deep Blue, что объясняется рядом причин. Однако это компенсируется тем, что они гораздо умнее и используют оптимизированные методы программирования, позволяющие добиться намного большей глубины поиска, чем при обычном исчерпывающем поиске. Они по-прежнему основаны на стратегии типа А — на грубой силе, но за многие годы стали значительно искуснее. Использование компьютеров многоцелевого назначения расширило возможности для креативного программирования и адаптации ПО; к тому же коммерческие шахматные программы постоянно повышали точность своих оценок, зачастую с помощью гроссмейстеров. В то же время шахматные микропроцессоры Deep Thought, хотя и имели настраиваемые аппаратные контроллеры, были фактически высечены из камня, пусть даже этим камнем был кремний.
Скорость работы аппаратного обеспечения во многом зависит от простоты принципиальной схемы. Как написала команда Deep Thought/Deep Blue в 1990 году о своей машине, «принесение в жертву некоторых шахматных знаний в оценочной функции рассматривается как оправданное, если это позволяет существенно упростить схемы». Они также признали, что «на данный момент оценочные функции в лучших коммерческих шахматных программах работают гораздо более эффективно, чем в программах, применяющихся в научных целях»{55}. Звучит неутешительно, но на самом деле это давало ученым основания надеяться на значительное улучшение в случае, если они сумеют создать следующее поколение шахматных микросхем и усовершенствовать оценочную функцию Deep Thought.
В 1992 году я сыграл длинный неофициальный блицматч с одной из программ нового поколения. Создавшая ее немецкая фирма ChessBase насмешливо окрестила свое детище Fritz, и это название практически стало синонимом шахматных движков для ПК. Разработчиком был голландец Франс Морш — автор программ для настольных электронных шахмат, таких как Mephisto и пр., — привыкший втискивать максимально оптимизированный код в очень ограниченные ресурсы. Он также внедрил несколько методов усиления поиска, которые повысили силу шахматных машин, несмотря на то, что увеличение глубины обычно замедляло их работу.
Одно из этих усовершенствований заслуживает, чтобы ненадолго на нем остановиться, поскольку оно представляет собой интересный пример того, как можно сделать машину умнее с помощью методик, не имеющих ничего общего с работой человеческого разума. Речь идет о так называемой эвристике нулевого хода — методе, заставляющем программу предположить, будто одна из сторон пропускает ход. То есть программа должна прийти к выводу, что один игрок сделал два хода подряд. Если позиция этого игрока не улучшается даже после двух ходов подряд, можно допустить, что первый ход является пустышкой и может быть отсечен от дерева поиска, что сокращает его длину и делает поиск по оставшимся вариантам более эффективным. Эвристика нулевого хода была использована в некоторых самых ранних шахматных программах, в том числе в советской «Каиссе». Это элегантный и немного парадоксальный подход — повышать эффективность алгоритмов, основанных на принципе исчерпывающего поиска, за счет ограничения поиска.
Люди тоже используют при планировании разные эвристические подходы. Например, стратегическое мышление требует от нас определения долгосрочных целей и промежуточных этапов без учета того, как на наши действия может отреагировать оппонент. Я могу посмотреть на позицию на доске и подумать: «Было бы хорошо, если бы мне удалось поставить слона сюда, пешку сюда, а затем подключить к атаке ферзя». Здесь нет никаких расчетов, лишь своего рода список стратегических пожеланий. Только после этого я начинаю думать, возможно ли это на самом деле и что в ответ может предпринять соперник.
Программисты, работавшие над шахматными программами типа Б с выборочным поиском, хотели научить машины именно такому стратегическому целеполаганию. Вместо того чтобы просматривать только дерево доступных вариантов, программа типа Б также изучала и оценивала гипотетические позиции. Если эти позиции получали высокую оценку, повышалась стоимость их элементов при поиске. Во многих случаях качество оценки улучшалось, но поиск становился таким медленным, что страдали результаты, — серьезный недостаток, характерный для всех программ типа Б.
Более успешным оказался другой метод, который также позволяет машинам анализировать гипотетические позиции за пределами дерева вариантов. В случае применения метода Монте-Карло машина берет все доступные позиции и с каждой разыгрывает большое количество случайных партий, определяя количество возможных побед, ничьих и проигрышей. Таким образом для каждого следующего хода выбирается наиболее удачная позиция. Играть «миллионы партий в рамках одной» оказалось не очень эффективной тактикой в шахматах, но в го и других играх, где точная оценка невероятно трудна для машин, метод Монте-Карло дает хорошие результаты. Он не требует больших знаний или эвристических правил; машина просто отслеживает цифры и ходы — и выбирает лучшие.
Это обилие интересных идей, призванных повысить эффективность интеллектуальных машин, показывает, почему попытки понять, как работает человеческий разум, и проникнуть в тайны мышления были отброшены. Что важнее — процесс или результат? Люди всегда хотят результатов, будь то в инвестировании, сфере безопасности или шахматах. Такое отношение, сокрушались многие программисты, способствовало созданию сильных шахматных машин, но ничего не дало науке и прогрессу в области ИИ. Шахматная машина, которая думает как человек, но проигрывает чемпиону мира, не сделает сенсации. Когда же шахматная машина побеждает чемпиона мира, никого не волнует, как она думает.
И это наконец-то случилось. В мае 1994 года в Мюнхене я проиграл программе Fritz 3 в блицтурнире, организованном при поддержке корпорации Intel Europe. Intel оказала существенную помощь Профессиональной шахматной ассоциации (ПША), созданной годом ранее мной и моим коллегой, претендентом на мировую корону Найджелом Шортом. В турнире участвовали сильнейшие шахматисты мира и программа Fritz 3, работавшая на новом процессоре Pentium. Целью организаторов было помочь шахматам обрести еще бóльшую популярность и потенциальных спонсоров, о чем я мечтал с тех пор, как увидел, насколько широкую известность получил мой матч с Deep Thought в 1989 году.
С предшественником Fritz я уже сталкивался в товарищеском блицматче в Кельне в декабре 1992-го. Я сыграл 37 партий против любимого детища Фредерика Фриделя и, более того, детально проанализировал действия программы, указав, когда та сделала особенно хороший ход и когда играла откровенно слабо. Хотя программа еще не стала диким зверем, но она уже и не была безобидным домашним питомцем. Я проиграл девять партий при двух ничьих и 26 победах.
Но в Мюнхене произошла совсем другая история. Это был серьезный турнир, несмотря на формат блиц, и я не сомневался в победе независимо от того, будет ли в нем участвовать машина или нет. После медленного старта я выиграл восемь партий подряд, но программа Fritz 3 следовала за мной по пятам, и наконец настал наш черед встретиться за доской. Я агрессивно разыграл дебютную стадию и всего после десятка ходов имел подавляющую позицию. Однако затем начал разворачиваться сценарий, который станет типичным для партий между людьми и машинами в течение следующего десятилетия. Я сделал один неточный ход, и машина контратаковала. Раздраженный своим промахом, я решил пожертвовать материал, отдав ладью на слона, чтобы удержать инициативу. Позиция была примерно равной, но в блице я не мог положиться на точность расчетов, чтобы воспользоваться своими возможностями. Несмотря на обоюдные ошибки ближе к концу партии, когда машина дала мне шанс свести партию к ничьей, а я его упустил, Fritz 3 сумела добиться победы.
Хотя мы играли блиц и каждому давалось по пять минут, это была первая победа машины над чемпионом мира по шахматам в официальном соревновании. По значимости ту партию можно было сравнить пусть не с высадкой человека на Луну, но как минимум с запуском небольшой ракеты. Мы c Fritz 3 оказались на вершине турнирной таблицы, что для машины являлось впечатляющим результатом. Мне это было на руку, поскольку давало возможность встретиться с ней в матче за первое место и отыграться. На этот раз мне удалось сосредоточиться и полностью разгромить машину, одержав три победы при двух ничьих. В одной ничейной партии я тоже фактически победил, но мне не хватило времени, чтобы выиграть позицию с ферзем против ладьи.
Но спустя несколько месяцев фортуна повернулась ко мне спиной, когда на очередном турнире, организованном Intel под эгидой ПША в Лондоне, я встретился с другой шахматной программой для ПК — Genius, разработанной Ричардом Лэнгом. Участники играли в быстрые шахматы на выбывание, и каждая сторона имела четверть часа на партию. Мне выпало играть с Genius уже в первом раунде, что, конечно же, привлекло большое внимание. Хотя это все еще не были классические длинные шахматы, ставки поднялись высоко. Игрок, проигравший миниматч из двух партий, выбывал из турнира, который входил в серию Гран-при, — поэтому имело значение каждое очко.
В 1-й партии, играя белыми, я получил отличную позицию, но зевнул один ход, позволив машине добиться уравнения. Тогда я совершил еще один смертный грех в партии против компьютера: начал играть слишком напористо. Вместо того чтобы сделать простую ничью и перейти к следующей партии, я попытался развить инициативу в пресном эндшпиле «ферзь и конь против ферзя и коня», но почти сразу об этом пожалел. Совершив ряд удивительных маневров ферзем, Genius ослабил положение моего короля так, что в итоге я проиграл пешку, а затем и партию. Такой резкий оборот событий стал для меня полной неожиданностью; вы можете увидеть мой шок, посмотрев на YouTube видео с этого турнира.
Несмотря на осечку, я был уверен, что одержу победу черными во 2-й партии, а затем выиграю тай-брейк и продолжу участие в турнире. Мне удалось получить очень хорошую позицию и выиграть пешку, снова в эндшпиле «ферзь и конь против ферзя и коня». Но Genius снова совершил целую череду невероятных маневров ферзем и застопорил мою проходную пешку. Я сидел, обхватив голову руками, но был вынужден смириться с ничьей и выбыл из соревнования{56}. Это был сильный официальный турнир, хотя и по быстрым шахматам, и временами машина демонстрировала отличную игру. Все еще не высадка на Луну, но уже выход на околоземную орбиту.
Обе мои партии с Genius, особенно 2-я, отражали уникальную природу компьютерных шахмат. Самые большие проблемы у шахматистов возникают с визуализацией ходов коней, поскольку те ходят буквой «Г» — в отличие от других фигур, двигающихся по прямой. Но компьютеры ничего не визуализируют и управляют каждой фигурой с одинаковым мастерством. Кажется, Бент Ларсен — первый гроссмейстер, проигравший машине, — сказал: если убрать из шахмат коней, то рейтинг компьютеров тут же упадет на пару сотен пунктов. Это преувеличение, но в нем есть немалая доля истины. То же самое касается и ферзя, самой сильной фигуры: на открытой, не загроможденной пешками доске ферзь может достичь практически любого поля за один-два хода. Это резко повышает уровень сложности, с чем компьютеры справляются гораздо лучше людей. Столкнуться с компьютером в открытой позиции типа «ферзь + конь» — ужасный сон под стать романам Стивена Кинга.
На протяжении всей шахматной истории даже самые великие игроки избегали такой сверхсложной тактической игры, но с 1993 года она стала обычным делом для компьютеров. Играя с людьми, вы знаете, что ваш соперник сталкивается в ходе партии примерно с такими же проблемами, что и вы. Практически всегда я чувствовал, что умею рассчитывать варианты лучше любого другого шахматиста, за исключением «индийского чудотворца» Виши Ананда, заслуженно славившегося своей быстрой реакцией. В целом же я знал, что если не могу просчитать до конца последствия своего хода, то и сопернику это вряд ли удастся. Но примерный баланс сил исчезает, когда вы играете против мощной машины. Она играет не просто хорошо — она играет иначе.
Кроме того, вас все время преследует тревожное ощущение, что машина может видеть нечто такое, чего вы не можете себе даже представить. Когда на доске сложная позиция, вы напряжены и опасаетесь коварного удара со стороны машины. Поэтому вы дважды и трижды перепроверяете свои расчеты, вместо того чтобы положиться на интуицию, как поступили бы, играя против человека. Все эти дополнительные расчеты отнимают массу времени и делают игру предельно изнурительной в физическом и психологическом плане.
Когда вы всю жизнь играете в шахматы, у вас обязательно формируются определенные привычки, но их приходится нарушать, если вы играете против машины. Хотя я не был от этого в восторге, я хотел доказать, что могу преодолеть все препятствия и подтвердить свой титул сильнейшего шахматиста мира не только среди людей, но и среди машин.
Программы для ПК делали впечатляющие успехи, но я не упускал из виду и Deep Thought. В феврале 1993 года я еще раз пересекся с командой IBM в Копенгагене, где машина бросила вызов датской сборной, включая Бента Ларсена. IBM горела желанием проверить свое новое детище в деле. Маркетологи IBM решили переименовать Deep Thought II и дали машине название Nordic Deep Blue, вероятно, чтобы отличить ее от следующей версии, которая уже находилась в разработке и по завершении должна была бросить вызов мне как чемпиону мира. Но я думаю, что не будет большой путаницы, если с этого момента я буду называть ее просто Deep Blue.
Как бы она ни называлась, привезенная в Данию машина не произвела на меня впечатления. Мы использовали ее для анализа одной из моих партий перед аудиторией, желающей узнать, какие предложения та может сделать. Данные компьютером оценки позиций были откровенно плохи, он стабильно недооценивал мои шансы на атаку и нескоро понимал, что предложенные им усиления не сработали. Однако он умело сыграл против Ларсена и других датчан, набрав почти 2600 пунктов, и тем самым дал мне понять, что его значительный прогресс не за горами. Создатели проекта Сюй Фэнсюн и Мюррей Кэмпбелл включили в команду программиста Джо Хоана, к тому же теперь они могли полагаться на огромные материальные и человеческие ресурсы самой IBM. Вскоре команду Deep Blue перевели в главный исследовательский центр IBM в городе Йорктаун-Хайтс (штат Нью-Йорк). Надо сказать, что в ту пору компания переживала самый трудный период за всю свою 80-летнюю историю: ее акции упали до минимума из-за не очень успешных попыток угнаться за множеством новых шустрых конкурентов. Но новый генеральный директор Лу Герстнер отказался от плана по расчленению IBM на отдельные компании, что положило бы конец шахматному проекту.
В мае 1995 года мне удалось отомстить программе Genius в матче по быстрым шахматам, транслировавшемся по телеканалу German TV в Кельне. Конечно, глупо говорить о мести компьютерной программе, которой все равно, что делать — играть в шахматы или считать песчинки в пустыне, — но мне нравилось так думать. Первая партия должна была закончиться вничью, но Genius совершил традиционную ошибку шахматных машин, проявив чрезмерную жадность. Программа съела мою отдаленную пешку и позволила мне развить решающую атаку на ее короля. Во 2-й партии я сделал спокойную ничью, без кульбитов. В интервью я признался, что дома тренировался с одной из версий этой программы, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу.
В конце года я сыграл еще один миниматч, на этот раз с программой Fritz 4 в Лондоне. Честно признаться, появление все новых версий программ с возрастающими порядковыми номерами было немного пугающим. Возможно, мне следовало настоять на том, чтобы после моего успеха в шестом матче на первенство мира меня называли «Каспаров 6.0». К тому же это было бы не так далеко от реальности: в 1993 году американский софтверный гигант Electronic Arts выпустил шахматную программу для ПК под названием «Гамбит Каспарова». У нее был сильный движок, красочная графика, и периодически на экране выскакивал короткий видеоролик, где я давал советы, такие как «Следите за пешкой!» или «Вы выбрали неверный путь!». На тот момент это была одна из самых передовых программ, но я, вероятно, посмеялся бы, если бы сегодня сумел найти ее рабочую версию.
Одной из интересных особенностей наблюдения за развитием шахматных программ от одной версии к другой было то, что я всегда мог распознать ДНК программы. В них добавляли новые коды, новые алгоритмы поиска и улучшения, использовали процессоры нового поколения, но все равно каждая машина имела что-то такое, что можно было назвать ее уникальным стилем. Я шутил, что программисты выращивают свои программы как детей или по крайней мере как домашних животных и оставляют в них свой неизгладимый след, который передается от одной версии к другой так же, как зеленые глаза или рыжие волосы. Со временем эти характерные признаки теряли свою устойчивость, как это происходит в любой генетической системе.
Например, программа Fritz была зациклена на материале и отстаивала каждую пешку любой ценой, даже в очень неважной позиции. Это нисколько не умаляет достоинств Fritz, но ее создатель Франс Морш сам признавал, что его программа никогда не являлась самой агрессивной на рынке. Можно вспомнить программу Junior, победительницу многих чемпионатов и детище израильских специалистов Шая Бушински и Амира Бана. Эта программа, наоборот, была революционно агрессивной, легко жертвовала материал ради открытых линий и шансов на атаку, что на тот момент расценивалось как совершенно «некомпьютерная» игра. Эти две программы настолько отличались друг от друга, что неизбежно возникал вопрос, не впитали ли флегматичная голландско-немецкая программа и воинственный израильский движок некоторые из черт национальных характеров. Вполне вероятно, поскольку личностные качества программиста неизбежно отражаются на свойствах программы, особенно если он сам — достаточно сильный шахматист со своим выраженным стилем игры.
Такие генетические профили разных программ имели практическую ценность для меня и других гроссмейстеров, сражавшихся с машинами на протяжении десятилетия и дольше. Конечно, нельзя было надеяться на то, что на очередном турнире или матче вы столкнетесь точь-в-точь с такой же программой, но, даже если вы располагали ее старой версией или текстами ее предыдущих партий, это значительно облегчало подготовку. По мере того как машины накапливали историю партий против людей и других машин, мы получили возможность готовиться к партиям с ними во многом так же, как мы готовились к партиям с гроссмейстерами. Конечно, всегда существовала вероятность того, что между двумя соревнованиями или даже партиями в компьютер будет загружена совершенно новая дебютная книга или даже новая «личность», но машины редко менялись полностью, хотя и становились все сильнее.
Две лондонские партии в быстрые шахматы с программой Fritz 4 запомнились мне из-за другого уникального аспекта игры против компьютеров. На седьмом ходу, играя черными, я передвинул слона на два поля — с с8 на а6. Но оператор по невнимательности ввел в программу ход слоном на одно поле, на b7. Невероятно, но партия продолжалась еще четыре хода, прежде чем оператор заметил свою ошибку. Что еще более немыслимо, когда слона поместили на правильное место, позиция осталась пригодна для игры, хотя, разумеется, требовала смены тактики. Я выиграл эту партию и, сделав ничью во 2-й, победил в матче, но та досадная ошибка оставила неприятный осадок. В отличие от меня, программа нисколько не была раздражена оплошностью своего оператора.
В начале 1995-го команда Deep Blue обратилась к Дэвиду Леви и Монти Ньюборну по поводу возможности матча со мной в следующем году, и я попросил своего агента Эндрю Пейджа следить за ситуацией. Когда я встретился с создателями Deep Blue в Дании двумя годами ранее, я шутливо заметил, что им нужно поторопиться, поскольку я хочу сразиться с их суперкомпьютером, пока еще молод и полон сил, — а на тот момент мне уже было под 30. К тому же я знал, что не останусь чемпионом мира навечно — так же, как был уверен в том, что не бессмертен. Компания IBM хотела этого матча, и я тоже; вопрос был только в том, когда будет готов Deep Blue.
Сюй Фэнсюн, работавший над шахматными микропроцессорами со свойственным ему неудержимым перфекционизмом, продолжал отодвигать сроки, и я, сам будучи чрезвычайно педантичен, мог его понять. Если и есть люди, которые в наибольшей степени способствовали наступлению Американского века, — то это талантливые инженеры с их мечтами и готовностью следовать за своими устремлениями сквозь огонь и воду. Но действительно, в компьютере постоянно возникали какие-то неполадки. Когда вы читаете отчеты Сюй Фэнсюна и других членов команды о разработке машины и ее игре в 1994–1995 годах, создается впечатление, будто вы читаете дневники сотрудников фирмы по ремонту компьютерного оборудования. Ошибки, сбои, прерывание телефонной связи, разрывы интернет-соединения, ошибки в дебютных книгах, ошибки в программе, отсутствие контактов в схеме — все, кроме вирусов. Между тем IBM хотела, чтобы машина постоянно путешествовала и участвовала в различных соревнованиях и выставках, внося свой вклад в создание имиджа компании.
Одним из таких событий стал чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ в Гонконге (1995). Главным фаворитом состязания являлся суперкомпьютер Deep Blue Prototype — машину тогда называли так (поскольку процесс создания нового аппаратного обеспечения еще не был завершен), хотя она и представляла собой все ту же Deep Thought II. За прошедшие несколько лет компьютер не проиграл в турнирах ни одной другой машине и, согласно Сюй Фэнсюну, при тестировании побеждал все ведущие коммерческие программы в соотношении три к одному. (Возможность протестировать свою машину в игре против конкурентов, просто купив нужную программу, в то время как доступа к их детищу не было ни у кого, давала команде Deep Blue серьезное преимущество.)
Но, как говорится, в этой жизни может случиться всякое, и именно поэтому мы любим играть в игры. В четвертом туре Deep Blue сыграл вничью с программой для ПК WChess и в пятом, последнем туре должен был встретиться с Fritz 3. Deep Blue был на пол-очка впереди и, по словам Сюй Фэнсюна, «при предварительном тестировании в центре IBM выиграл у Fritz девять из десяти партий»{57}. Он играл белыми, что тоже могло способствовать успеху. Программа Fritz 3 применила острую сицилианскую защиту и получила отличную позицию, а Deep Blue, по-видимому, пребывал в замешательстве из-за перестановки ходов и, не сумев продолжить партию по дебютной книге, перешел к самостоятельной игре.
Будь Deep Blue действительно намного сильнее, чем Fritz 3, для него это не представляло бы большой проблемы. Справедливости ради надо сказать, что дебют и правда оказался сложным и даже современные программы не справились бы с подобной ситуацией без дебютной книги. Deep Blue походил на юных шахматистов, которых на своих занятиях я критикую за то, что они безотчетно следуют дебютной теории и поэтому не в состоянии понять позицию, возникающую после того, как все усвоенные варианты заканчиваются. Однако для Deep Blue партия складывалась не так уж плохо. Игрок с 200-балльным преимуществом в рейтинге в такой позиции чувствовал бы себя вполне комфортно.
Но техника снова подвела. Из-за потери соединения между Гонконгом и Нью-Йорком компьютер пришлось перезагружать и заново устанавливать связь. Как утверждает Сюй Фэнсюн, из-за «холодного» перезапуска компьютер заново начал процесс анализа и сделал другой ход — не тот, что был выбран до разъединения.
Прежде чем переходить к захватывающему финалу этой маленькой машинной драмы, я хочу остановить ваше внимание на изложенном выше эпизоде, поскольку подобное не раз случалось и в ходе моих баталий с Deep Blue. Почти в каждом рассказе о партиях того периода можно найти упоминания о перезагрузках, перезапусках, сбоях и разрывах соединения. В одной из партий гарвардского турнира Deep Blue потерпел техническое поражение из-за сбоя питания, а в Пекине проиграл чемпионке мира Се Цзюнь из-за неполадок в системе. Но такова уж природа всех экспериментальных технологий, и обычно подобные обстоятельства оговорены в правилах матчей.
Сами по себе подобные аварии меня не волнуют, но меня беспокоят два связанных с ними момента. Первый состоит в том, что для возвращения машины в игру требуется вмешательство оператора. Дело не ограничивается восстановлением телефонной связи и ожиданием того, когда будет установлено повторное интернет-соединение. «Нам пришлось перезапустить Deep Thought II», — пишет Сюй Фэнсюн. И я предполагаю, что им также пришлось заново ввести в компьютер всю ранее сыгранную партию, чтобы тот мог продолжить игру. Как следствие, Deep Thought сделал другой ход, вместо того, который он счел лучшим перед сбоем. Вот что пишет по этому поводу Сюй Фэнсюн: «По словам Джо Хоана, наблюдавшего за игрой из нашей лаборатории в Хоторне, Deep Thought II переключился на альтернативный ход. Но этот ход не успел появиться на экране в Гонконге до обрыва связи, и мы узнали о нем только после партии».
Таким образом, команда Deep Blue утверждает, что ход, выбранный компьютером перед сбоем, был лучше хода, сделанного после возобновления работы системы. (Увы, это действительно так. Позднее я проанализировал партию и могу сказать, что сделанный после устранения неполадки 13-й ход был и впрямь неудачным.) Но что если бы выбранный после сбоя ход оказался намного сильнее первого? Особенности работы шахматных программ таковы, что после перезагрузки машина могла потратить на расчеты чуть больше времени и найти лучший ход или же быстро пойти иным, более благоприятным для себя образом — поди угадай. При всей снисходительности к экспериментальным машинам, потенциальные последствия таких ситуаций не могут не настораживать.
Игра продолжалась с большим преимуществом Fritz 3. В своем рассказе Сюй Фэнсюн делает попытку защитить честь Deep Blue, но его дальнейшие комментарии к партии можно назвать полной чушью. Пусть я ничего не знаю о том, что такое «микросхема по 0,8-мкм КМОП-технологии», и о других технических тонкостях работы компьютеров, но я прекрасно разбираюсь в шахматах. Сюй Фэнсюн пишет, что компьютер «замешкался» и «еще не разогрелся», словно речь идет о соревнованиях по бегу. На самом деле в тот момент Deep Blue, хотя этого и не осознавал, фактически проиграл партию, сделав после сбоя два ужасных хода. Правда, первая оплошность, совершенная сразу же после перезапуска, осталась безнаказанной: программа Fritz 3 не заметила решающего удара. Через два хода, уже в явно плохой позиции, Deep Blue совершил еще одну самоубийственную ошибку{58}, просмотрев мощную атаку черных на королевском фланге. Все было кончено. Оба моих шахматных движка — один с 3000-очковым рейтингом в моем ПК, второй с 2800-очковым у меня в голове — мгновенно определили, что после 16-го хода черных белым крышка. Deep Blue, которому уже нечего было терять, отдал огромное количество материала, прежде чем сдался на 39-м ходу. Так маленький немецко-голландский Давид сокрушил американского Голиафа и в итоге выиграл чемпионат мира.
Я был рад за Фредерика и моих друзей из фирмы ChessBase, но такой исход ставил под вопрос возможность проведения матча между мной и Deep Blue, поскольку суперкомпьютеру IBM не удалось стать чемпионом, а следующий чемпионат мира среди шахматных программ мог состояться только через несколько лет. Но в итоге нам это не помешало. Ни у кого не возникло сомнений, что Deep Blue — сильнейшая шахматная машина в мире, особенно после появления ее новой, модернизированной версии, с которой я встретился в Филадельфии девять месяцев спустя и которая была намного сильнее той, что проиграла программе Fritz 3 в Гонконге.
Имелась и еще одна небольшая проблема: мне нужно было доказать, что я по-прежнему являюсь чемпионом мира. Осенью 1995 года мне пришлось отстаивать свой титул в матче на большинство из 20 партий с молодой индийской звездой Виши Анандом. Мы играли в Нью-Йорке на 107-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. Торжественный первый ход сделал мэр Рудольф Джулиани, и произошло это 11 сентября.
Некоторыми подробностями матча с Анандом я поделюсь чуть позже и расскажу о том, как машина помогла мне сохранить титул, а сейчас хочу вернуться к истории моего противостояния с Deep Blue: 10 февраля 1996 года стало еще одним днем, вошедшим в мою коллекцию сомнительных исторических дат. Прежде чем сразиться с Deep Blue в филадельфийском матче из шести партий, я успел стать первым чемпионом мира, проигравшим блицпартию одному компьютеру и миниматч в быстрые шахматы другому. Тенденция была очевидна. Садясь за стол напротив Сюй Фэнсюна, я прекрасно осознавал, что если буду удерживать свой титул достаточно долго, то однажды стану первым чемпионом мира, проигравшим компьютеру и в классические шахматы. Но пока я не был к этому готов.
Матч принимала и спонсировала Ассоциация вычислительной техники (ACM), внесшая значительный вклад в развитие компьютерных шахмат. Состязание было приурочено к 50-летнему юбилею первой цифровой машины ENIAC, который Ассоциация отмечала на своей ежегодной Неделе информатики в Филадельфии. Монти Ньюборн, сам разработчик шахматных программ, пользуясь своим положением в ACM, активно продвигал идею «человек против шахматной машины». Выступая в роли посредника между этими двумя сторонами, он участвовал в разработке правил филадельфийского матча, получившего громкое название «Шахматный вызов». Международная ассоциация компьютерных шахмат (ICCA) выступила в качестве согласующего органа, и ее вице-президент Дэвид Леви помогал с переговорами и организацией. Призовой фонд составлял $500 000, из которых $400 000 предназначалось победителю. Изначально всю сумму планировали разделить в соотношении три к двум, но после моей попытки настоять на том, что победитель забирает все, был достигнут компромисс: четыре к одному. Я верил в свои силы и спустя шесть лет ожидания, прошедших после разгрома Deep Thought в 1989 году, полагал, что организаторы матча нуждаются во мне больше, чем я в них.
Однако я немного ошибался. Некоторое время назад Intel прекратила оказывать финансовую поддержку моей еще не оперившейся Профессиональной шахматной ассоциации и ее турнирам серии Гран-при, и я надеялся заключить аналогичный контракт с IBM. Мой внезапный и опрометчивый разрыв отношений с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в 1993 году сделал меня козлом отпущения в шахматном мире, но благодаря привлечению новых спонсоров ПША проводила интересные соревнования, давая многим гроссмейстерам возможность заработать неплохие деньги. Однако Intel Europe сообщила нам, что не собирается возобновлять спонсорский контракт. И одной из причин, по которым я согласился играть матч в Филадельфии и последующий матч-реванш в Нью-Йорке за сумму меньше миллиона долларов, была именно надежда заключить долгосрочное спонсорское соглашение между ПША и компанией IBM.
Прогнозируя результаты этого долгожданного матча, эксперты в основном предсказывали мою победу. Дэвид Леви смело заявил, что я выиграю все шесть партий. Мы с руководителем команды IBM Си Джей Таном полагали, что матч закончится со счетом 4:2, с той лишь разницей, что я сделал ставку на себя, а он — на Deep Blue. Я не сомневался в собственных силах, но меня беспокоило отсутствие какой-либо информации об этой новой версии — разумеется, не о ее технических характеристиках, которые были для меня бесполезны, а об особенностях игры. Версия, с которой мне предстояло сразиться, еще не сыграла ни одной публичной партии, и я не имел ни малейшего представления о том, на что она была способна.
Однако те данные, которыми мы располагали, впечатляли. Предыдущая модель — последняя из носивших официальное название Deep Thought — имела скорость перебора от трех до пяти миллионов позиций в секунду. У новой же модели с 216 новыми шахматными микропроцессорами, подключенными к суперкомпьютеру IBM RS/6000 SP, она достигала ста миллионов в секунду. Я знал, что в 20 раз быстрее не значит в 20 раз лучше, но машина все равно оставалась для меня черным ящиком, а это всегда вызывает неприятные чувства. По мнению экспертов, формула «скорость увеличивает глубину, глубина увеличивает силу», доминировавшая в компьютерных шахматах на протяжении нескольких десятилетий, могла вывести эту новую версию на рейтинг выше 2700 пунктов. Улучшение дебютной книги и рост шахматных знаний могли добавить еще 50–100 пунктов, приблизив Deep Blue к моему уровню 2800+. Все это пока было чисто теоретическими предположениями. Но кто знал, какие еще секреты могли скрываться в этом черном ящике?
Вместе с усовершенствованным аппаратным и программным обеспечением Deep Blue приобрел и важного нового члена команды, американского гроссмейстера Джоэля Бенджамина. Фиаско из-за дебютной книги в Гонконге убедило команду IBM в том, что нужна профессиональная помощь, поэтому они наняли гроссмейстера, чтобы тот подготовил дебютную книгу и выступил в роли секунданта во время матча на тот случай, если в книгу потребуется внести какие-либо изменения. Бенджамин также играл с Deep Blue как спарринг-партнер и помогал настроить оценочную функцию компьютера. Даже самая быстрая шахматная машина в мире нуждается в толике человеческих шахматных знаний.
Я тоже отнесся к этому матчу серьезно. В Филадельфию я прилетел из Рио-де-Жанейро, где только что победил сильную бразильскую команду в сеансе одновременной игры. Меня сопровождал мой тренер и секундант Юрий Дохоян. Моя мама, Клара, следила за тем, чтобы в игровом зале были обеспечены все необходимые условия, и всегда сидела в первом ряду. Мой друг Фредерик Фридель помогал мне как неофициальный советник по компьютерным шахматам. Создатель машины Belle Кен Томпсон, продолжавший заниматься разработкой шахматных программ, согласился в качестве нейтрального лица осуществлять наблюдение за моим компьютерным противником. По сравнению с тем цирком, в который превратится год спустя матч-реванш в Нью-Йорке, этот первый матч был по-хорошему старомоден. Здесь собрались журналисты из большинства ведущих печатных изданий, а CNN даже регулярно вела репортажи с «поля битвы». Но в гигантском конференц-зале царила атмосфера непринужденности и открытости. Поскольку организаторами состязания были Ассоциация вычислительной техники и Международная ассоциация компьютерных шахмат, присутствие IBM не слишком бросалось в глаза; от лица компании, как правило, выступал лидер команды Си Джей Тан. Короче говоря, матч мало чем отличался от любого другого шахматного сражения высокого уровня — до того момента, пока я не сел за доску с Deep Blue.
У меня было 20 лет, чтобы подумать над тем, как лучше всего описать это событие — матч между чемпионом мира по шахматам и шахматной машиной чемпионского уровня. Я до сих пор не уверен, что мне это удалось. Напрямую состязаться с компьютером в традиционно человеческой дисциплине на высочайшем уровне — уникальный опыт. Это не то что схлестнуться с компьютером в видеоигре или конкурировать с автоматами на рынке труда, участвуя в «гонках против» или «гонках вместе» с машинами, о чем так хорошо пишут в своих книгах Эрик Бринолфссон и Эндрю Макафи из Массачусетского технологического института.
Джон Генри соревновался перед толпой зрителей с паровой машиной: его мышцы и кости против неутомимого стального зверя. Джесси Оуэнс, бегущий наперегонки с автомобилями и мотоциклами, — такой же пример столь трагикомичной асимметрии. Но все это делалось ради любопытства и развлечения, а не из стремления к реальному противостоянию. Если человек обгонит автомобиль — это круто! Если нет — разве стоило ожидать чего-то другого?
Еще одно различие можно увидеть по тому, как матч освещался в СМИ. В публикациях и телепередачах отражались многовековое романтическое представление о шахматах как о мериле интеллекта и непонимание сути искусственного интеллекта и Deep Blue. «Последний рубеж человеческого разума», «Каспаров защищает человечество», «Машины проникают в последний оплот людей — интеллект». Даже телевизионные шутки по поводу матча — например, в шоу Джея Лено или в вечернем шоу Дэвида Леттермана — носили отчасти тревожный, апокалиптический характер. «Кажется, Каспаров немного нервничает. "Подумаешь! Какие проблемы?" — возможно, думаете вы, но подождите, когда эта большая машина доберется до вашей работы!» «Он играет в шахматы с суперкомпьютером, а до сих пор не научился программировать свой видеомагнитофон!» «Да, еще одна новость: сегодня днем микроволновая печь разгромила в баскетбольном матче "Нью-Йорк Метс"».
Организаторы — да и, признаться, участники — старались придать этому событию эпохальную значимость. Разве стал бы я не соглашаться с тем, что шахматы — «вершина интеллектуальной деятельности человека»? Или с тем, что я — «живой Эверест» или «чемпион мира, который может отстоять честь всего человечества»? IBM также не имела никакого резона опровергать заявления о «творческом мышлении» своей машины и о ее «потенциале преобразовать целые отрасли». Монти Ньюборн из Ассоциации вычислительной техники вел активную PR-кампанию. Монти — прирожденный агитатор; в нем сочетаются мастерское умение применять эффект Барнума и глубокие научные знания в области информатики и шахмат. Даже сегодня меня переполняют воодушевление и гордость, когда я слушаю интервью Ньюборна, в котором он говорит о том, что матч «позволит нам понять, что значит быть человеком», и сравнивает возможную победу Deep Blue с полетом на Луну.
Но я отбросил всю эту шумиху и мифологизацию, как только началась 1-я партия. А началась она с небольшого фальстарта. К моему удивлению, когда арбитр включил часы, Deep Blue еще не работал и оператор — в тот день им был Сюй Фэнсюн — потратил несколько минут на запуск компьютера. Хотя это может показаться мелочью, но такие вещи все равно отвлекают. При столь необычных обстоятельствах довольно сложно достичь необходимой концентрации, особенно когда вы знаете, что у вашего противника нет подобных проблем. Компьютеру не мешает толпа фотографов вокруг стола. Нет смысла смотреть противнику в глаза, чтобы узнать его настроение, и невозможно заметить, как рука оппонента на секунду зависает над кнопкой часов, выдавая его сомнения в правильности избранного хода. Поскольку я считаю шахматы не просто интеллектуальной, но и психологической борьбой, игра против соперника, у которого нет души, в какой-то мере выбивала меня из колеи.
Наконец Deep Blue заработал, и Сюй Фэнсюн сделал первый ход белыми 1.е4, передвинув стоящую перед королем пешку на два поля вперед. Я ответил ходом 1…с5, избрав свой любимый острый контратакующий дебют — сицилианскую защиту. Не волнуйтесь, я не собираюсь шаг за шагом описывать здесь всю партию! Это одна из самых известных партий в истории шахмат, и любой интересующийся может найти ее текст в интернете. Увы, я не могу сказать, что играл отлично. Впоследствии я сам проанализировал все партии этого матча, а ради пущей объективности попросил нескольких сильных московских игроков осуществить такой же анализ с помощью лучших шахматных движков. И сегодня могу констатировать, что в Филадельфии я играл не очень хорошо, хотя и вполне прилично.
Deep Blue отклонил мое приглашение к главным вариантам, что меня слегка удивило: ведь компьютеры превосходно чувствуют себя в сложных тактических позициях, характерных для открытой сицилианской защиты. Вероятно, команда IBM опасалась, что я смогу заманить компьютер в какую-нибудь завуалированную ловушку, и не сочла мудрым опираться на дебютную подготовку Джоэля Бенджамина в этих рискованных вариантах. Вместо этого компьютер сделал тот же второй ход 2.c3, что и в нашем матче-1989, хотя, разумеется, его создатели не ждали, что я буду слепо повторять ту выигранную партию{59}. Попытка повторить свою прошлую победу, не придумав эффективных новинок, — верный способ наткнуться на мину, заложенную вашим противником. Но команда прекрасно подготовила машину, и та делала хорошие ходы, вплоть до десятого, по своей дебютной книге.
Я тоже подготовился неплохо и на десятом ходу свернул с обычного пути, сделав новый ход. При этом не собирался уходить в глухую оборону. Я хотел посмотреть, на что способен соперник. Это был не рапид и не блиц; у каждого из нас на часах было по паре часов, а не минут. Это давало мне достаточно времени на обдумывание, поэтому я не боялся получить сложную обоюдоострую позицию. Deep Blue отреагировал хорошо и получил минимальное преимущество, типичное для игры белыми. Но потом я допустил помарку, и он, сделав несколько точных ходов, впервые создал реальную угрозу. Я взглянул на Сюй Фэнсюна — по привычке, абсолютно бессмысленной в этом матче. Моя позиция заметно ухудшилась. Машина играла сильно. Но самое главное — она играла иначе.
Если прочитать десятки книг и сотни статей, написанных об этом матче и, в частности, о 1-й партии, создается впечатление, будто все авторы посещали разные матчи и анализировали разные партии. Расхождения в оценках — это нормально и даже хорошо. Об объективной истине на доске мы сможем говорить только в том случае, если появится технология (сегодня немыслимая), которая сможет полностью раскрыть все тайны шахмат. Но до тех пор будут существовать разногласия по поводу качества некоторых ходов. Разные гроссмейстеры и разные машины предпочитают разные подходы, которые могут быть одинаково сильными, что придает шахматам особую интригу и увлекательность.
Разумеется, бывают ходы откровенно ошибочные или неточные и позиции, в которых нет явно лучшего хода. В то же время во многих позициях правильный ход очевиден и будет сделан любым достаточно сильным игроком. Примерно 10–15 % позиций требуют опыта и навыка расчетов на уровне мастера, чтобы выработать грамотный стратегический или тактический план. Наконец, 1–2 % позиций действительно сложны настолько, что даже сильные гроссмейстеры могут просмотреть правильный ход. Добавьте к этому состояние стресса и тикающие часы, и вы с трудом поверите, что люди вообще способны демонстрировать такой уровень игры в шахматы, который показывают ведущие гроссмейстеры. Парадоксально, но я обнаружил, что зачастую мы играем под давлением не хуже, а лучше.
Работая над проектом «Мои великие предшественники», я не только стал больше уважать достижения чемпионов прошлого, но и проникся искренним восхищением к шахматистам в целом. Трудно найти вид деятельности, подвергающий наши интеллектуальные и физические способности большему испытанию, чем профессиональные шахматные соревнования. Быстрые расчеты, требующие крайнего напряжения, всплеск адреналина, зависимость судьбы партии буквально от каждого хода — и так продолжается час за часом, день за днем, часто под пристальным взглядом всего мира. Идеальный сценарий для развития кризиса психического и физического здоровья.
Приступив к изучению партий своих знаменитых предшественников, я заранее решил проявить определенную снисходительность — не в анализе партий, где я был предельно беспощаден (чему меня научил мой учитель Ботвинник), а в отношении обнаруженных мной ошибок. Как-никак я живу в XXI веке и стою на плечах гигантов, вооруженный базами данных с миллионами партий и мощнейшими вычислительными ресурсами. Обладая такими преимуществами и оглядываясь назад с высоты накопленного опыта, сказал я себе, не следует слишком сурово осуждать шахматистов прошлого.
Важной частью проекта был сбор всех аналитических комментариев, сделанных ранее к интересующим меня партиям — особенно принадлежащих перу самих участников и их современников. Мой коллега Дмитрий Плисецкий проделал титаническую работу, перерыв горы печатных источников на полудюжине языков. Изначально я предполагал, что аналитик, спокойно работающий в тиши кабинета и располагающий неограниченным запасом времени и возможностью передвигать фигуры на доске, будет более точен и объективен, чем сам игрок. В конце концов, судить задним числом всегда легче. Но одним из первых моих открытий стало то, что при изучении шахматных анализов, проделанных в докомпьютерную эпоху, «объективный взгляд» явно нуждается в корректирующих очках.
Как ни парадоксально, но в комментариях к чужим партиям лучшие шахматисты часто допускали больше ошибок, чем сами сражавшиеся за доской. И даже при последующем комментировании собственных поединков шахматисты бывали менее точны, чем во время игры{60}. Сильные ходы признавались ошибочными, а слабые ходы — сильными. Зачастую журналисты, имевшие весьма слабое представление о шахматах, оказывались неспособны понять всю гениальность сделанного хода; а иногда в сложной позиции никто не мог найти неочевидный блестящий ход, который теперь можно легко увидеть благодаря шахматному движку. Но главная проблема состояла в том, что даже сами игроки попадали в так называемую «ловушку сознания», стремясь комментировать каждую партию как захватывающую историю — связное повествование со своим началом, серединой и концом, с красивыми поворотами сюжета и, конечно же, с моралью в конце.
Из этого открытия я вынес два урока. Первый состоит в том, что под давлением мы обычно мыслим лучше. Стресс и борьба уникальным образом обостряют наши чувства и интуицию. Разумеется, я все равно предпочитаю иметь на обдумывание критического хода 15 минут, а не 15 секунд, но факт остается фактом: в экстремальных условиях наш мозг способен на невероятные подвиги. Мы зачастую не осознаем, насколько мощными интуитивными способностями обладаем, — до той минуты, пока у нас не остается иного выбора, кроме как всецело на них положиться.
Второй урок состоит в том, что все любят красивые истории, даже если те вредят объективному анализу. Мы любим, когда отрицательный персонаж в фильме несет заслуженное наказание. Мы переживаем за слабых и невезучих, за несчастных жертв судьбы и, естественно, за благородных главных героев. Все эти сюжеты присутствуют и в шахматах, и в мире бизнеса с его взлетами и падениями, и они подпитывают мощное когнитивное заблуждение — стремление найти истину там, где ее нет.
Компьютерный анализ разрушает устоявшуюся традицию анализировать шахматные партии как красивые сказки. Компьютеры безразличны к историям. Они показывают, что единственная история, которая есть в шахматах, — каждый отдельный ход, слабый или сильный. Это не так увлекательно, как сочинять шахматные небылицы, но такова природа реальности, и не только в шахматах. Склонность людей представлять вещи как связную историю, а не череду дискретных событий, может приводить к ошибочным выводам. Мы охотно принимаем сюжеты, которые вписываются в имеющуюся у нас картину мира или соответствуют общепринятым представлениям. Именно поэтому так быстро распространяются разного рода слухи и городские легенды: из них мы узнаем именно то, во что хотим верить. Разумеется, и я не вполне застрахован от этой тенденции, поскольку человеку вряд ли под силу избавиться от всех своих пристрастий и суеверий. Но осознать их — ключевой первый шаг, и одно из важных преимуществ сотрудничества человека и машины как раз и состоит в том, что машина помогает нам преодолеть эти непродуктивные привычки мышления.
Помня обо всем этом, давайте вернемся к моменту моей 1-й партии с Deep Blue, когда я столкнулся с затруднениями. Компьютер сделал несколько неожиданных ходов, все больше ослабляя мою позицию. Изучая сегодня суждения коллег об этой партии и слушая по YouTube комментарии, которые давали во время матча другие гроссмейстеры (даже с программой Fritz 4), я четко вижу, что и тогда любовь к красивой истории преобладала над стремлением к объективности. Практически все эксперты были согласны с тем, что я совершил роковую ошибку, когда, вместо того чтобы сгруппировать свои силы и уйти в глухую оборону, контратаковал компьютер в открытой позиции, где его непревзойденные тактические способности представляли для меня большую угрозу. Возможно, это действительно было так, но я не хотел переводить игру в русло, где мой соперник имел бы бесплатное преимущество. Просто я не видел альтернативы.
После моей победы над Deep Thought в 1989 году я дал большое интервью газете The New York Times. Когда мы вместе с журналистом просматривали посвященные этому матчу публикации в СМИ, мне бросились в глаза слова Мюррея Кэмпбелла. «У Deep Thought просто не было шанса показать, на что он способен», — сказал он. «Именно так! — воскликнул я. — Я не дал ему шанса! Высшее искусство шахматиста — не дать противнику возможности показать, на что он способен»{61}.
Семь лет спустя Deep Blue стал слишком сильным для того, чтобы можно было с легкостью диктовать ему свои условия, тем более когда он играл белыми. И хотя мое решение атаковать его короля можно раскритиковать как неразумное в игре против компьютера, это был не такой плохой ход, и уж точно не проигрышный. По иронии судьбы через два хода я сдержал свою атаку, чтобы сохранить пешку. Если бы я продолжил играть в такой же агрессивной манере, какую мне приписывали критиковавшие меня комментаторы, я мог бы спасти партию{62}. Но это противоречило бы привычному сознанию, так что по-настоящему проигрышного хода часто не замечают.
Однако почти все правильно отметили мое упущение. Deep Blue взял пешку далеко от места действия, что в ситуации, когда его король был атакован, казалось неоправданной потерей темпа. Однако компьютер просчитывал ходы достаточно глубоко, чтобы выпутаться из неприятностей. Несмотря на все мои рассуждения об опасностях комментирования, я не могу не поделиться следующим пассажем из статьи Чарльза Краутхаммера в журнале Time. Такого рода описания я полностью поддерживаю.
«В этот момент король Deep Blue подвергся яростной атаке со стороны Каспарова{63}. В такой ситуации любой другой игрок всецело сосредоточился бы на своем короле, пытаясь придумать план спасения. Но вместо этого компьютер проигнорировал угрозу со стороны чемпиона мира и беспечно отправился на охоту за скромными пешками на другом конце доски. В момент максимальной опасности Deep Blue потратил целых два хода — а в игре с Каспаровым потеря даже одного темпа бывает смертельно опасной, — чтобы взять одну пешку. Это можно сравнить с тем, как если бы в битве при Геттисберге генерал Мид отправил своих солдат собирать яблоки за несколько минут до начала атаки армии Пикетта, поскольку, по его расчетам, они успели бы вернуться на позиции за полсекунды до боя.
У людей это называется хладнокровием. Но что если у вас нет крови, даже очень холодной? Значит, у вас нет и страха. Даже если бы генерал Мид точно знал время вражеской атаки, рассчитав точную траекторию перемещения всех солдат, подразделений и пушек в войске Пикетта, ему нужно было обладать абсолютным бесстрашием, чтобы отправить своих людей собирать яблоки.
Но Deep Blue именно так и поступил. Он изучил все возможные ходы и комбинации Каспарова и с абсолютной точностью определил, что успеет вернуться с охоты за пешками и разгромить соперника ровно за один ход до того, как Каспаров сумеет нанести сокрушительный удар. Так оно и произошло.
Для этого нужны не только стальные нервы. Но и кремниевый мозг. Ни один человек не может достичь такой абсолютной уверенности, поскольку ни один человек не может быть уверен в том, что учел все. Deep Blue может».
На 37-м ходу у меня не оставалось иного выхода, кроме как сдаться: впервые в истории человечества компьютер обыграл чемпиона мира в классические шахматы. Я был в шоке; зрители и комментаторы тоже. Даже Сюй Фэнсюн, который видел на экране, что Deep Blue оценил свою позицию как выигрышную, выглядел в миг своего величайшего триумфа слегка растерянным и чуть ли не виноватым. Честно говоря, и сегодня, столько лет спустя, при воспоминании об этом моменте я чувствую себя ужасно, и этих чувств не могут затмить даже переживания во время матча-реванша-1997. Думаю, Сюй хотел бы присоединиться к своим товарищам и прыгать с ними от радости, но ему пришлось отвечать на мои вопросы.
Потрясенный сильной игрой машины, я инстинктивно задал Сюй Фэнсюну вопрос, с которого соперники-гроссмейстеры обычно начинают так называемый разбор полетов после партии. «Где я ошибся?» — спросил я. Но Сюй гораздо лучше разбирался в процессорах, чем в шахматах, и не мог вспомнить детали анализа, который выводился Deep Blue на экран, чтобы ответить на этот вопрос. Это был неловкий для нас обоих момент.
Через месяц после матча я написал в статье для Time, что в тот день я впервые почувствовал: «напротив меня за шахматной доской — новый вид интеллекта»{64}. Это чистая правда. Я не намекаю на какие-либо метафизические интерпретации, но неужели одна только скорость может обеспечить такую впечатляющую игру? Некоторыми своими ходами Deep Blue словно говорил: «Спорим, ты не думал, что компьютер способен сделать такой ход!» Например, в какой-то момент в миттельшпиле он пожертвовал пешку за инициативу, что является очень человеческой тактикой и не вяжется с традиционной меркантильностью машин.
Это была лучшая сыгранная компьютером партия, которую я когда-либо видел, и после поражения у меня возникла мысль — а не слишком ли сильна эта машина, чтобы ее побороть? Тем же вечером я задал этот вопрос Фредерику: «Что если эту штуку невозможно победить?» Я всегда знал, что когда-нибудь это случится, — так, может, час пробил?
Ответа долго ждать не пришлось. На следующий день во 2-й партии, играя белыми, я применил медленный, маневренный дебют. Идея была в том, чтобы не создавать для Deep Blue очевидных мишеней: я знал, что компьютер не способен разрабатывать стратегические планы как человек. По крайней мере я на это надеялся. Как обычно, не обошлось без технических проблем. Уже на шестом ходу Deep Blue сыграл неважно. По словам Фредерика, я не мог скрыть своей радости, ибо это означало, что в его дебютной книге есть серьезная ошибка. Компьютер не был непобедим, и я уже приготовился к легкому выигрышу. Вы можете представить себе мое разочарование, когда арбитр подбежал к столу и сказал, что Сюй Фэнсюн случайно сделал не тот ход и взял не ту пешку — так же, как это произошло в моем лондонском миниматче с программой Fritz. Правила разрешали исправить ошибку оператора, и дальше партия продолжалась без сбоев. Однако этот случай показывает, сколь опасно, когда функции оператора выполняет слабый шахматист: ведь допущенные им ошибки отвлекают лишь одного игрока — человека, но никак не машину.
Комментируя матч, Сюй Фэнсюн заявил, что Кэмпбелл не смог правильно загрузить файл с обновленной после 1-й партии дебютной книгой в основную машину, находившуюся в Йорктаун-Хайтс. В результате оператору пришлось полагаться на так называемую расширенную книгу, которая содержит довольно расплывчатые рекомендации, основанные на статистике из базы данных по гроссмейстерским партиям. Но я об этом не знал, и Deep Blue достойно справлялся с дебютной стадией, следуя дебютной теории гроссмейстерского уровня, пока на 14-м ходу я не применил новинку. Некоторые комментаторы утверждают, что на игру Deep Blue в этой партии повлиял «баг в оценочной функции», но, откровенно говоря, я устал от выяснений того, когда в плохой игре машины виноваты баги, а когда — неправильная оценка.
Моя стратегия сработала, и компьютер получил позицию с устойчиво слабой структурой, которую он не знал, как защитить. Я понял, что простых попыток избежать острых тактических стычек недостаточно. Мне нужно было стремиться к позициям, требующим скорее знания общих принципов, чем умения вести краткосрочные расчеты. Deep Blue был снабжен функциями оценки, но они не отличались особой сложностью: изучив запрограммированные предпочтения машины, я смог использовать их в своих интересах. Например, если я понимал, что Deep Blue собирается сохранить ферзей на доске — в целом неплохая идея для машины, играющей против человека, — я мог поставить его перед выбором: разменять ферзей или сделать более слабый ход.
Такого рода адаптация человека к игре с компьютером объясняет, почему некоторые эксперты утверждали, что шахматные машины не смогут в ближайшем будущем одержать победу над гроссмейстерами. Как только человек понимает правила и знания, управляющие игрой машины, он начинает использовать их в своих интересах. Но на практике оказалось, что сверхбыстрый перебор устраняет потребность в больших знаниях, а все слабости с лихвой компенсируются чистой глубиной поиска.
Но Deep Blue пока не достиг такого совершенства. Во 2-й партии я предложил ему жертву пешки, от которой он не смог отказаться, и в итоге мой соперник фатально ослабил белые поля вокруг своего короля. Возможность свести поединок вничью у компьютера еще оставалась, но лучшие ходы были слишком глубоки для его поиска и он не знал общих принципов, позволяющих защитить такие позиции. После долгого аккуратного маневрирования я выиграл одну пешку, затем еще одну, и на 73-м ходу Мюррей Кэмпбелл объявил о сдаче партии. Я сравнял счет и, что гораздо важнее, убедился в том, что мой противник не был непобедим.
Теперь я знал, что «новый вид интеллекта» — всего лишь более быстрая версия хорошо знакомых мне компьютерных программ, и немного расслабился. Да, Deep Blue очень силен, но не сильнее меня, и у него есть явные недостатки. Как и в игре с человеком, теперь я мог нацеливаться на его слабые стороны и избегать сильных.
В 3-й партии Deep Blue повторил тот же дебют, что и в 1-й, пока не сменил курс и не использовал ход, вставленный в его дебютную книгу Бенджамином непосредственно перед партией. Мы продолжали играть в соответствии с его планом до 18-го хода, когда Deep Blue обнаружил, что линия, которую Бенджамин собирался включить в обязательную дебютную книгу, но, к счастью для себя, этого не сделал, ведет к потере фигуры. Это дало мне небольшое преимущество и четкую цель, поэтому я решил, что у меня есть все шансы одержать вторую победу подряд. Но Deep Blue сделал то, чем славятся все машины: он начал ожесточенно обороняться. Если существует хотя бы один ход, способный спасти позицию, компьютер обязательно его найдет. К моему большому разочарованию, Deep Blue нашел длинную цепочку ловких ходов, позволивших ему избежать опасности и добиться ничьей.
Точность расчетов в стрессовых условиях — еще один аспект асимметрии в противостоянии человека и машины. Так называемые острые позиции характеризуются высокой степенью сложности и тяжелыми последствиями в случае любой ошибки. Оба игрока словно балансируют на канате, и первая же ошибка может быть роковой. Однако компьютеры в такой ситуации, наоборот, чувствуют себя неплохо, поскольку любые другие ходы, помимо правильного, получают очень низкие оценки. Людям недоступна такая степень уверенности, и к тому же, только человек осознает, что он рискует потерять равновесие и упасть. В такой позиции я ощущаю опасность, чувствую, как бурно разрастается дерево вариантов. Но для машины это вполне нормальная ситуация, особенно если она, как Deep Blue, имеет особые расширения поиска, увеличивающие глубину просмотра вариантов с наиболее значимыми последствиями.
После трех партий счет был равным, но, поскольку в двух из трех оставшихся партий мне предстояло играть белыми, я чувствовал себя более-менее комфортно. Благодаря победе Deep Blue в 1-й партии внимание к нашему матчу со стороны СМИ многократно возросло, но, конечно, машина не способна давать интервью. В 4-й партии я разочаровал Фредерика Фриделя, моего советника по компьютерным шахматам, проигнорировав его советы насчет дебютной стадии. Я начал играть очень активно. На 13-м ходу я обдумывал жертву фигуры на королевском фланге, но затем счел этот шаг слишком рискованным. Примечательно, что в партии с любым другим соперником, будь то человек или машина, я бы пошел на жертву. Но тут знал: стоит мне допустить в такой позиции малейший просчет — и я подпишу себе приговор. Оглядываясь сегодня в прошлое, могу сказать, что это был важнейший момент. Я не просто играл в шахматы; я осознавал, что играю против машины, чьи способности в определенных областях намного превосходят мои, и вносил в свою игру определенные коррективы.
В 4-й партии произошла еще одна техническая заминка — как раз в тот момент, когда я готовил опасную атаку. Я потратил много времени на обдумывание предыдущего хода, намечая пожертвовать коня за две пешки и атаку. Но, прежде чем Deep Blue успел ответить, случился системный сбой, и машину пришлось перезапускать. Я был в ярости, поскольку в решающий момент партии меня вывели из состояния глубокой сосредоточенности. На перезапуск компьютера ушло 20 минут, и, когда он вернулся в игру, он сделал сильный ход, избежав моей жертвы. Это заставило меня задаться вопросом, не происходило ли за кулисами что-то еще, помимо системных сбоев. (Последующий анализ показал, что принятие компьютером жертвы привело бы к примерно равной игре.)
Теперь позиция уравнялась, но ситуация на доске оставалась довольно острой, к тому же у меня начинался цейтнот. Я знал, что, если доведу партию до 40-го хода, нам будет добавлено дополнительное время; вопрос был в том, хочу я этого или нет. Сделав несколько точных ходов, к 40-му ходу я выстроил крепкую оборону, а затем нашел способ создать ничейную стойку, и вскоре партия закончилась. Счет был по-прежнему равным — 2:2. Оставалось сыграть всего две партии, но я был полностью истощен. Посещаемость матча продолжала расти, а внимание СМИ переросло в настоящий ажиотаж. Обе команды давали непрерывные интервью и появлялись на всех телеканалах, и IBM с удивлением обнаружила, что ее второстепенный шахматный проект привлек к компании больше внимания, чем все остальное, что она делала за долгие годы своего существования.
Одного дня отдыха между 4-й и 5-й партиями оказалось явно недостаточно, чтобы я успел восстановить силы. Поэтому в 5-й партии я решил сменить свою обычную сицилианскую защиту на русскую партию, называемую и защитой Петрова. Это не было проявлением патриотизма. Защита Петрова разворачивается относительно спокойно и даже, по мнению некоторых, скучно. Она часто приводит к массовым разменам фигур и симметричным пешечным структурам, что снижает динамику позиции. Поскольку я устал от острых схваток с суперкомпьютером, мне это показалось идеальным вариантом, хотя такие позиции не входили в мой обычный репертуар. Deep Blue перевел избранную мной защиту в дебют четырех коней, для которого, впрочем, характерно столь же спокойное развитие событий, как и в русской партии.
После ряда разменов я получил крошечное преимущество. И, думая о том, чтобы сохранить силы для завтрашней последней партии белыми, на 23-м ходу предложил ничью. Для новичков в мире шахмат предложение ничьей может показаться странной идеей. Представьте себе двух боксеров на ринге, прекращающих бой во втором раунде, или футбольный матч, который останавливается на 15-й минуте, потому что тренеры обеих команд решили, что ничья — хороший результат. До того, как были введены специальные правила, любой игрок мог предложить сопернику заключить ничью после любого хода. Другой игрок мог согласиться на это предложение или нет и в последнем случае продолжить партию.
Ничья всегда была неотъемлемой частью шахмат, по крайней мере в их новейшей истории. Существует много позиций, в которых ни одна сторона не может добиться победы, включая патовые ситуации, когда сторона, имеющая право хода, не может сделать ход ни одной из фигур. Ничья приносит обоим игрокам по пол-очка, так что это определенно лучше, чем проигрыш. Предложение ничьей — своего рода любезность, позволяющая сильным игрокам не изнурять себя утомительной игрой в очевидно равных позициях, которая ни к чему не приведет. Это способ сказать: «Я знаю, что ты знаешь, как свести эту партию к ничьей, и ты тоже знаешь, что я знаю, как это сделать, поэтому давай пожмем друг другу руки и отправимся отдыхать». Конечно, зрители могут быть разочарованы столь быстрым завершением партии, но на шахматных матчах обычно присутствует мало зрителей, поэтому тут не о чем волноваться. Кроме того, в XIX веке уровень игры был относительно низким, поэтому почти все партии завершались красивыми победами и поражениями.
Проблемы начались, когда мастера начали использовать предложение ничьей в стратегических и даже тактических целях. Если ничья никак не влияет на ваше положение и положение вашего соперника в турнирной таблице, зачем зря стараться? Можно договориться о ничьей на раннем этапе и идти набираться сил на следующее сражение. Или же вы могли почувствовать, что ваше положение ухудшается, — и, пока соперник этого не заметил, почему бы не попробовать предложить ничью? Вскоре тенденция переросла едва ли не в эпидемию: расписные партии, даже между сильными гроссмейстерами, сократились до нескольких минут и десятка ходов. Привычка оказалась заразной, и сегодня даже на слабых любительских турнирах нередко встречаются короткие ничьи.
В конце концов организаторы гроссмейстерских турниров не могли больше мириться с таким положением вещей и начали вводить специальные правила, устанавливающие минимальное число ходов в партии. Сейчас на турнирах практически стало стандартом, что ничью можно предлагать только после 30-го или 40-го хода, хотя это не помогает бороться с ничьими при троекратном повторении позиции. С повышением мастерства игроков и улучшением их счетных навыков количество ничьих неуклонно возрастает, и сегодня примерно половина всех партий на турнирах и матчах среди шахматной элиты заканчивается вничью. Я не вижу в этом проблемы, поскольку шахматы — интеллектуальная игра, а не драка, и ничья является справедливым результатом. Тем не менее различные заинтересованные стороны предпринимают регулярные попытки внести в правила изменения, поощряющие более агрессивную и результативную игру, — например, присуждая три очка за победу и одно за ничью, как это делается во многих профессиональных футбольных и хоккейных лигах.
В матчевой игре короткие ничьи могут быть стратегически полезны. Во время 5-й партии я все еще чувствовал себя уставшим и не видел смысла продолжать игру в сложившейся равной позиции. Мое раннее предложение ничьей разочаровало почти семь сотен зрителей, собравшихся в тот день в конференц-зале, но, на их счастье (как потом выяснилось, и на мое), команда Deep Blue отказалась и решила продолжить партию. Между прочим, это еще один уникальный аспект игры с машиной: разве не сама машина должна принимать решение о принятии или отклонении предложения о ничьей? Например, если она оценивает позицию как бесперспективную или плохую, не должна ли она автоматически соглашаться на ничью? Но что если машине нужна только победа? Это оказалось слишком сложной задачей, и, как и в случае с дебютной книгой, не было найдено лучшего решения, чем, по сути, вмешательство человека.
На момент предложения ничьей Deep Blue оценивал свою позицию как чуть худшую. После продолжительного обсуждения команда IBM решила последовать рекомендации Бенджамина, считавшего, что еще рано сворачивать игру, тем более что в финальной партии компьютер будет играть черными. Однако следующим же ходом Deep Blue совершил серьезную ошибку. Не будучи способным просчитать отдаленные последствия, он допустил связку, надолго ограничившую свободу его фигур, в то время как я начал продвигать вперед свои пешки. Не имея активного плана и не понимая, что единственным спасением для него было вырваться из этой позиции, Deep Blue несколько ходов продолжал бесцельно переставлять фигуры. Когда его горизонт поиска позволил ему обнаружить опасность, было уже слишком поздно, чтобы что-либо изменить. В итоге на 45-м ходу я одержал победу и впервые в матче вырвался вперед. Даже при проигрыше последней партии мне была гарантирована матчевая ничья.
Несмотря на усталость, в 6-й партии я был уверен в своих силах. Переиграв машину в 5-й партии, я считал, что изучил ее слабые стороны. Наверное, с моей стороны это было преувеличением, но после пяти партий я действительно знал гораздо больше, чем неделю назад, и все эти знания я собирался применить в последней партии. Мы повторили первые несколько ходов из моих первых двух партий белыми, пока Deep Blue не сделал новый ход. Отставая в счете, команда IBM решила во что бы то ни стало найти способ победить черными, но это было нелегко. Иногда за весь год я не проигрывал ни одной партии белыми, несмотря на мой агрессивный стиль, а здесь, чтобы выиграть матч и получить чек на $400 000, мне требовалась всего лишь ничья, поэтому я не собирался рисковать.
После совершенной мной перестановки ходов Deep Blue не смог продолжать игру по дебютной книге и начал действовать довольно слабо, получив пассивную позицию. Без помощи дебютной книги он не знал, как это знал бы гроссмейстер, что в определенных дебютах определенные фигуры должны встать на определенные поля, не важно, в какой последовательности. Именно такое обобщенное, основанное на аналогиях мышление мы, люди, используем все время. В его отсутствие Deep Blue, чтобы избежать неприятностей, пришлось всецело полагаться на поиск, но диапазон доступных ему вариантов все время сужался. Я продвинул вперед свою ферзевую пешку, заставив его отвести фигуры назад. Именно о такой игре я мечтал: закрытая, а не открытая; стратегическая, а не тактическая. Я почувствовал запах крови.
На 22-м ходу мне представилась заманчивая возможность отдать свою фигуру на съедение его королю, чтобы нанести победный удар. Но насколько я был уверен в этой жертве? На девяносто процентов, да. Возможно, даже на девяносто пять. Но в партии против Deep Blue мне требовалась стопроцентная уверенность. Впоследствии анализ показал, что это действительно был бы победный удар, но не факт, что затем я сыграл бы идеально. К тому же у меня не было причин рисковать, поскольку я уже добивал противника. Черные не имели никакой контригры, и мои пешки продолжали продвигаться вперед. Зрители в зале пришли в волнение, когда поняли, что происходит. Deep Blue задыхался, его слон и ладья находились в ловушке на первой линии и не могли сдвинуться с места. В конце концов черные фигуры оказались настолько связанными, что мне даже не пришлось идти на прорыв. Любой ход Deep Blue привел бы к крупным потерям материала и мату, поэтому его команда решила, что нет смысла оттягивать неизбежное, и объявила о сдаче партии.
Я выиграл матч со счетом 4:2, как и прогнозировал, но это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Я высоко оценил работу команды Deep Blue. Временами их компьютер демонстрировал такое качество игры, которое я считал недоступным для машины. Я адаптировал свою стратегию и довольно легко выиграл последние две партии, что, впрочем, сыграло негативную роль в нашем последующем матче-реванше с Deep Blue. В своей статье в журнале Time я подвел итог:
«Возможно, в этом состояло мое важнейшее преимущество: я мог обозначить приоритеты и скорректировать свою игру. Компьютер был не в состоянии сделать то же самое в отношении меня. Таким образом, несмотря на наличие определенных признаков интеллекта, это довольно странный интеллект, неэффективный и негибкий, что заставляет меня думать, что в моем распоряжении есть еще несколько лет».
На самом деле у меня было ровно 450 дней до матча-реванша, который завершился 11 мая 1997 года. Таким образом, я стал последним чемпионом мира, который выиграл матч у компьютера. Почему же это знаменательное событие не отмечено в календаре исторических дат?!
Несмотря на весьма скромную рекламу, наш первый матч с Deep Blue стал крупнейшим по тем временам интернет-событием. IBM пришлось выделить специальный суперкомпьютер наподобие того, на котором работал Deep Blue, чтобы справиться с нагрузкой на свой веб-сайт. В далеком 1996-м, когда большинство людей подключались к интернету по телефонным линиям через модем, это продемонстрировало, что потенциал новой коммуникационной сети очень велик и однажды она сможет конкурировать с телевидением и радио.
Вероятно, команда Deep Blue была не совсем довольна результатом матча, и особенно последней партией, хотя они заявляли, что полностью удовлетворены. В конце концов, их суперкомпьютер выиграл партию у чемпиона мира и заставил меня изрядно попотеть в первых четырех партиях. Но больше всего радовалась компания IBM. Врученный мне как победителю чек был мелочью по сравнению с тем, что шумиха вокруг матча сделала для ее курса акций и корпоративного имиджа. В одно мгновение старая, неповоротливая IBM превратилась в современную крутую компанию, которая идет в авангарде развития систем искусственного интеллекта и суперкомпьютеров, бьющихся за превосходство над человеческим разумом. По крайней мере так это выглядело со стороны, и фондовый рынок воспылал энтузиазмом.
В своей книге Монти Ньюборн пишет, что стоимость акций IBM выросла на $3310 млн чуть больше чем за неделю{65}, в то время как тот же показатель у остальных компаний, входящих в индекс Доу — Джонса, значительно снизился. Вместо денежного приза мне следовало бы попросить опцион на акции IBM! Название Deep Blue постоянно мелькало в СМИ, а вместе с ним и бренд IBM. Разумеется, это было хорошо и для меня, особенно в Америке, где чемпионы мира по шахматам не самые популярные личности. Моя филадельфийская победа над Deep Blue привлекла ко мне гораздо больше внимания СМИ, чем выигрыш у Ананда нью-йоркского матча за мировую корону. Оказалось, что быть защитником человечества куда почетнее, чем просто чемпионом мира.
Такая шумиха вокруг матча с Deep Blue гарантировала, что матч-реванш состоится. Оставалось решить — когда. Команда Deep Blue ни за что не согласилась бы на повторную встречу, не успев внести в машину значительные улучшения. Сколько времени займет подготовка новой версии, достаточно сильной для того, чтобы представлять собой настоящую угрозу? В процессе переговоров стало ясно одно: дело не в том, что команда Deep Blue хочет испытать свое усовершенствованное детище, и не в том, что Гарри Каспаров хочет положить в карман очередной призовой чек. Матч-реванш неизбежен потому, что IBM жаждет получить пальму первенства.
8. Реванш любой ценой
Кен Томпсон создал революционную шахматную машину Belle (микропроцессоры которой, кстати говоря, легли в основу Deep Blue), когда он работал в исследовательском центре Bell Laboratories в Нью-Джерси, на знаменитой «фабрике идей», известной своими прорывными инновациями в широком спектре областей, от солнечных батарей и лазеров до транзисторов и мобильных телефонов. Томпсон также стал одним из ведущих разработчиков вездесущей операционной системы Unix, лежащей в основе других операционных систем — Mac OS от компании Apple, Android от Google и Linux, на которых работают миллиарды устройств и серверов.
Как и в ранние годы агентства ARPA, Bell Labs придерживался в своей деятельности следующего принципа: вместо того чтобы начинать с разработки конкретного продукта, надо описать значимую проблему и затем изобрести технологию для ее решения. Я услышал об использовании такого же подхода в новом Инновационном центре General Electric рядом с Детройтом, куда меня пригласили в 2010 году провести семинар. Мне сказали, что задача центра — стимулировать мышление в духе «свободного полета мысли», которое вышло из моды после десятилетий отраслевой консолидации и поглощений. Во время моего семинара кто-то заметил, что сегодня гигантские компании часто считают, что даже если они не создают новаторские продукты или технологии, кто-то где-то обязательно это делает, и, когда появится что-то стоящее, новшество можно будет просто купить. Но если вы не занимаетесь инновациями, надеясь на других, то в конечном счете можете столкнуться с неприятностями.
На этом семинаре я процитировал Алана Перлиса, пионера в области информатики и первого лауреата премии Тьюринга (ученый получил награду в 1966-м по решению Ассоциации вычислительной техники). В своей знаменитой статье «Эпиграммы о программировании», опубликованной в 1982 году, Перлис написал, что «оптимизация препятствует эволюции». Это высказывание бросилось мне в глаза, поскольку на первый взгляд показалось противоречивым. Как может усовершенствование мешать эволюции? Разве сама эволюция не является непрерывным, постепенным улучшением?
Но эволюция — это не улучшение, а изменение. Как правило, от простого к сложному, но ключ — рост разнообразия, изменение природы вещей. Оптимизация может сделать компьютерный код быстрее, но не меняет его природы и не создает ничего нового. Перлис любил показывать «эволюционное древо» языков программирования и то, как один язык эволюционировал в другой в процессе адаптации к новым потребностям и новому аппаратному обеспечению. Он утверждал, что только амбициозные цели ведут к эволюции, поскольку они ставят перед нами новые задачи и рождают новые потребности, которые не могут быть удовлетворены только за счет оптимизации существующих методов и инструментов.
Это также вопрос «цены выбора». Если чрезмерно сосредоточиться на оптимизации, не создавая ничего нового, может наступить застой. Всегда проще вносить улучшения, чем изобретать что-то действительно новое, другое, но последнее гарантирует гораздо бóльшую отдачу во всех отношениях.
Эта максима Перлиса широко применима и за пределами программирования, хотя здесь тоже следует проявлять осторожность, чтобы не переусердствовать. Она сама эволюционировала в популярную присказку «оптимизация — враг инноваций», которая может увести нас на еще одну скользкую дорожку. Многие вещи, которые мы называем инновациями, представляют собой нечто лишь немногим большее, чем умелая аккумуляция множества мелких оптимизаций. Например, в первом iPhone довольно мало инновационных технологий, и он даже не был первым в своем роде. Знаменитый iPad также не пионер в мире планшетов и т. д. Но быть первым — и даже быть лучшим — вовсе не гарантия успеха. Способность соединить вместе правильные компоненты в правильное время решает очень многое, особенно в эпоху, когда маркетинговые бюджеты растут, а средства, выделяемые на НИОКР, сокращаются. Ни одно изобретение само по себе не является «прорывным» — ему нужно обеспечить «прорывное» использование.
Чарльз Бэббидж, Алан Тьюринг, Клод Шеннон, Герберт Саймон, Дональд Мичи, Ричард Фейнман, Кен Томпсон… Этот список можно продолжать очень долго. Все эти и многие другие выдающиеся мыслители и изобретатели XX века посвящали столько времени шахматам, что у меня невольно возникает вопрос: что если бы они не увлекались этой игрой? Как это повлияло бы на их продуктивность — в лучшую или худшую сторону? Польза шахмат для развития концентрации и творческого мышления у детей научно доказана. Возможно, они оказывают такое же влияние и на взрослых? Или же дело в том, что раннее обучение игре в шахматы благоприятно сказалось на развитии мыслительных способностей этих великих ученых?
Раньше считалось, что мозг теряет свою пластичность еще до достижения совершеннолетия, но в последние годы появились иные точки зрения. Нобелевский лауреат Ричард Фейнман подробно рассказал о том, как его странные хобби — исполнение бразильской музыки на барабанах бонго и искусство открывания замков отмычками — помогают ему в занятиях физикой, а не отвлекают от них. Кен Томпсон любил пилотировать свой маленький частный самолет. И даже если вам уже поздно мечтать о Нобелевской премии, никогда не поздно научиться играть в шахматы, тем более что многочисленные исследования подтвердили, что игра в шахматы и другие сложные виды умственной деятельности позволяют отсрочить старческую деменцию.
По иронии судьбы создание Томпсоном сверхбыстрой специализированной машины Belle положило конец эволюции шахматных машин. Результаты, полученные с помощью скорости, грубой силы и оптимизации, были слишком хороши для того, чтобы пренебречь ими, желая создать конкурентоспособную шахматную машину. И хотя впоследствии многие важные изменения сделали поиск более эффективным и добавили крупицы шахматных знаний, выигрышная концепция была уже найдена. Благодаря совместной работе интернет-сообщества программистов над усовершенствованием методов программирования, более совершенным дебютным базам данных и все более высокопроизводительным процессорам от Intel, шахматные движки для ПК стремительно улучшались. Уже через шесть лет суперкомпьютер Deep Blue стоимостью в миллионы долларов, с его специализированными шахматными микропроцессорами и колоссальными вычислительными мощностями, был превзойден обычными коммерческими программами для ПК, работающими на сервере Windows корпоративного класса.
Это означает, что вы можете создать шахматную машину на лучшем в мире специализированном аппаратном обеспечении и на данный момент она будет сильнейшей на планете. Но, если вы не станете постоянно вкладывать огромные деньги в замену дорогостоящих специализированных микропроцессоров на все более миниатюрные и быстродействующие, эта шахматная машина окажется замороженной во времени. Выигрыш, который IBM получила за победу над чемпионом мира, компенсировал колоссальные инвестиции, но впоследствии компания не смогла найти своему шахматному суперкомпьютеру иного применения, кроме как отправить его в музей Смитсоновского института в Вашингтоне.
Я не собираюсь вступать в спор с IBM, которая в многочисленных пресс-релизах и интервью оправдывала затраты на Deep Blue заявлениями о том, что этот проект послужил полезной испытательной площадкой для технологий параллельной обработки и других проектов. Думаю, в этих заявлениях есть доля правды. Но я не понимаю самой необходимости таких оправданий. Что плохого в том, что одна из величайших в мире хай-тек-компаний вкладывает деньги в увлекательный поиск, состязание, объединяющее массовую культуру и высокие технологии? Понятно, что IBM хотела превратить эти сотни миллионов долларов инвестиций в рекламу своих продуктов и непосредственный рост продаж. Она добилась своего, но шахматный проект, показавший готовность компании браться за новые задачи и ее исследовательский дух, принес ей кое-что еще. Нет лучшего способа завоевать долю рынка, чем захватить воображение людей.
Разговоры о матче-реванше с Deep Blue начались еще на церемонии закрытия первого матча в Филадельфии. Я спросил у руководителя команды Си Джей Тана, сумеют ли они существенно улучшить Deep Blue в ближайшее время. Он сказал, что да, поскольку теперь знают, чтó для этого необходимо. «Хорошо, — ответил я, — тогда я дам вам еще один шанс!»
Я не шутил. Мне было известно, что компьютеры становятся все быстрее, а шахматные машины — все сильнее, в соответствии с законом Мура: удвоение скорости позволяет увеличить глубину просмотра на один дополнительный слой, а увеличение глубины просмотра на один слой повышает шахматную силу машины примерно на 100 пунктов рейтинга и т. д. Но, очевидно, даже опытная и талантливая команда, опиравшаяся на огромные ресурсы IBM, не могла не столкнуться с трудностями. Ей потребовалось шесть лет, чтобы поднять рейтинг Deep Blue с 2550 пунктов до 2700 — уровня, на котором он играл в Филадельфии. Несмотря на то, что у машины были новые микропроцессоры, новый суперкомпьютер и персональный тренер-гроссмейстер, я перехитрил ее в 5-й партии и практически без сопротивления разгромил в финальной 6-й. Может быть, Deep Blue достиг такого порога, когда отдача от увеличения глубины поиска стала минимальной? Мне не верилось, что они сумеют усовершенствовать машину до моего уровня 2800+ без нескольких лет упорной работы.
Эта оценка являлась на то время вполне разумной, если не считать нескольких проблем. Во-первых, я не представлял, сколько денег IBM будет готова вложить в доработку Deep Blue, после того как ее небольшой шахматный проект вызвал мировую сенсацию. Буквально за неделю название Deep Blue превратилось практически в синоним искусственного интеллекта, что сделало IBM одним из лидеров технологического сектора, по крайней мере в глазах широкой общественности. Deep Blue стал самым узнаваемым продуктом, созданным компанией, за многие годы. Генеральный директор IBM Лу Герстнер разработал план стратегического возрождения, который включал еще несколько таких же громких проектов, в том числе использование суперкомпьютерной системы наподобие той, на которой работал Deep Blue, для обслуживания информационной сети на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Еще один проект — создание системы прогнозирования погоды в режиме реального времени, поспешно переименованной в Deep Thunder для того, чтобы оседлать волну популярности шахматной машины.
Если едва разрекламированный матч, в котором Deep Blue одержал победу в 1-й партии, сделал так много для рыночной капитализации и имиджа IBM, только представьте, какие выгоды компания могла извлечь из матча-реванша, запустив свою PR-машину на полную мощь, — особенно в случае победы машины!{66} Никого особо не интересовало, что Deep Blue в целом проиграл наш первый матч, и мало кто помнил о том, что я его выиграл. Та первая битва, организованная Ассоциацией вычислительной техники и Международной ассоциацией компьютерных шахмат в Филадельфии, была частью научного эксперимента, начатого еще в 1948-м. Хотя Deep Blue определенно не являлся фаворитом, победа в 1-й партии свидетельствовала о прогрессе машин, и его создатели пожинали плоды заслуженного успеха.
Но в матче-реванше все будет иначе, и ставки для IBM поднимутся несравнимо выше. Компания, как говорят в покере, пошла ва-банк, вложив десятки миллионов долларов в организацию грандиозного шоу в Нью-Йорке. Если Deep Blue снова проиграет, акционеры могут решить, что компания транжирит их деньги, пусть даже ей удастся привлечь к себе огромное внимание. Из передовой компании, смело берущейся за решение самых актуальных и сложных задач, она может превратиться в неудачника. Мишенью для шуток в вечерних ток-шоу и многочисленных карикатурах станет она, а не я. Хватит ли Герстнеру духа, чтобы бросить перчатку в третий раз? Возможно, да, но не так скоро, и кто знает, что может случиться за эти несколько лет?
Я недооценил, как много стояло на кону для IBM. И не мог даже подумать о том, что компания создаст не просто шахматную машину, чтобы победить меня за шахматной доской, а машину, чтобы уничтожить меня. Любой ценой.
Второй проблемой, повлиявшей на мою оценку матча-реванша, была потеря объективности в отношении собственной игры. Как я уже говорил, прошлые успехи могут навредить будущим. Убедительно переиграв Deep Blue в последних двух партиях, я совершил типичную и опасную ошибку, приписав победу скорее своей хорошей игре, чем плохой игре соперника. На первый взгляд это может показаться не столь уж важным, поскольку в матче-реванше мне предстояло встретиться с тем же соперником, но, когда вам противостоит машина, все меняется. Из своих поражений команда Deep Blue вынесла знаний гораздо больше, чем я из своих побед, и компания использовала эти знания, чтобы нацелиться на мои слабые стороны и укрепить свои сильные. Они постарались не просто удвоить скорость машины, а исправить ее конкретные недостатки.
Михаил Ботвинник знал о матчах-реваншах намного больше других. В 1948-м он стал шестым чемпионом мира в истории, выиграв матч-турнир пяти лучших гроссмейстеров, организованный после смерти в 1946 году предыдущего чемпиона мира Александра Алехина. «Золотое поколение» советских шахматистов безоговорочно доминировало в мировых шахматах в 1950–1960-е годы, и Ботвинник был патриархом, primus inter pares — первым среди равных. Примечательно, что он удерживал шахматную корону, выигрывая не матчи на первенство мира, а матчи-реванши. В 1951-м он впервые отстоял свой титул, сыграв вничью матч с Давидом Бронштейном (по правилам ФИДЕ претендент должен был одержать победу, а при ничьей действующий чемпион сохранял титул). В 1954 году Ботвинник сыграл вничью матч и с новым претендентом — Василием Смысловым. Но три года спустя Смыслов одержал победу, и Ботвинник впервые потерял титул.
Однако Ботвинник не собирался так просто уступать шахматную корону. По правилам в случае поражения экс-чемпион, вместо того чтобы снова проходить обычный трехлетний отборочный цикл, автоматически получал право на матч-реванш в следующем году. Это давало любимцам советской власти, коим был и Ботвинник, значительно больше шансов на возвращение короны. Правда, ему все равно требовалось одержать победу за шахматной доской, что он и сделал в 1958 году: выиграл у Смыслова первые три партии матча-реванша и в итоге вернул себе чемпионский титул.
В 1960-м история повторилась: Ботвинник был сокрушен 23-летним Михаилом Талем и потерял корону во второй раз. Год спустя в матче-реванше мало кто верил в успех 50-летнего Ботвинника, но тот в очередной раз доказал, что недооценка его шахматной силы опаснее, чем все феерические комбинации Таля. Ботвинник играл сильнее{67} и, убедительно выиграв матч-реванш, снова вернул себе чемпионский титул. Он удерживал его до весны 1963 года, когда проиграл матч Тиграну Петросяну, а ФИДЕ уже отменила матчи-реванши. Победа Петросяна была заслуженной, но кто бы поставил против Ботвинника в матче-реванше, даже с противником на 18 лет моложе? Только не я.
Ботвинник продолжал успешно выступать в турнирах, создал названную его именем детскую шахматную школу (в которой позже учился и я) и уделял много времени разработке экспериментальной шахматной программы. Но, пожалуй, самый важный урок он преподал всем нам своими победами в матчах-реваншах со Смысловым (1958) и Талем (1961). Пока молодые чемпионы нежились в лучах славы, Ботвинник тщательно изучал проигранные партии и готовился к новому сражению. При этом он анализировал не только игру соперников, но и, особенно критически, собственную. Ботвинник понимал, что недостаточно найти слабые места в игре Смыслова и Таля — надо повысить свое мастерство, выявив и устранив свои недостатки. Мало кто умел быть таким же требовательным к самому себе, и еще меньше людей были способны пользоваться этим умением столь же эффективно, как Ботвинник.
В процессе подготовки Ботвинник сосредоточивался на тренировочных партиях и анализе партий, в которых, как он считал, повторялись позиции, плохо разыгранные им в прошедших матчах. Он понимал, что не может контролировать подготовку своих соперников, но в состоянии усовершенствовать собственную игру. Конечно, я находился в другой ситуации: Ботвинник проиграл первые матчи, и самоуверенность не застилала ему глаза (вероятно, в отличие от чувств Смыслова и Таля). Его сосредоточенность на собственных слабых сторонах — ценный урок для каждого, кто участвует в состязательной деятельности любого рода.
Ботвинника, считавшегося бесстрастным, подстегивали и хвастливые заявления победителей, слишком быстро сбросивших экс-чемпиона со счетов. Так, Смыслов после победы в матче 1957 года сказал, что «трудная борьба за высший шахматный титул окончена»: теперь Ботвинник, освободившийся от тяжкого чемпионского бремени, может расслабиться и играть в свое удовольствие. В излишней самоуверенности соперника Ботвинник увидел слабость и позже написал: «Зазнайство не располагает к работе»{68}.
Если бы я тогда вспомнил слова моего учителя! Я бы осознал, что моя игра в первом матче была в лучшем случае посредственной и только неожиданное ослабление Deep Blue в последних двух партиях замаскировало этот факт. Как точно подметил Мюррей Кэмпбелл из команды Deep Blue, я просто не позволил машине показать, на что она способна. Конечно, это отчасти свидетельствовало о моем успехе, но также означало, что теперь создатели машины знали, над чем конкретно им нужно работать к следующему матчу, чтобы заполнить зияющие пробелы. В отличие от Сюй Фэнсюна, Кэмпбелл хорошо разбирался в шахматах и потому лучше понимал происходящее. Он видел разницу между просто проигрышами и плохими проигрышами: из последних следует извлекать уроки, иначе они будут повторяться снова и снова. Вот что он сказал Ньюборну о сокрушительном поражении Deep Blue в 6-й партии: «Думаю, Каспаров не представляет всех сильных и слабых сторон Deep Blue, да и как можно было бы их постигнуть за пять партий? Но я думаю, что ему удалось наткнуться на что-то такое, что он смог использовать в своих интересах, и это отлично сработало»{69}.
В целом верное замечание, хотя я считаю слово «наткнулся» в данном случае неуместным. Пусть до этого я сыграл с Deep Blue всего пять партий, но глубоко изучил общие слабости шахматных машин. Как правило, им было свойственно плохое понимание позиционных факторов, таких как контроль над пространством (сколько территории на доске контролирует каждая сторона), что со всей очевидностью проявилось в 6-й партии. Тем не менее в матче-реванше мои знания о машинах не смогли заменить конкретных знаний о Deep Blue и, более того, сработали против меня, когда мои изначальные предположения оказались неверны. Возвращаясь к аналогии с теннисом, в первом матче я узнал, что у моего соперника слабый удар слева, и воспользовался этим недостатком. В начале матча-реванша я ожидал, что у Deep Blue по-прежнему будет проблема с ударом слева — плохое видение пространства, но этот изъян был почти полностью устранен, и я испытал шок, обнаружив это во 2-й партии.
Еще один фактор, повлиявший на мою оценку игры Deep Blue, — кардинальные различия между шахматной силой машины и человека. У каждого гроссмейстера есть свои козыри и недостатки. Даже чемпионы мира не проводят все три стадии партии — дебют, миттельшпиль и эндшпиль — на одинаковом уровне. Но расхождения между разными типами позиций относительно невелики и довольно неустойчивы. Гроссмейстер не очень сильный в эндшпиле при случае может выиграть красивое окончание. Другой, у которого слабое место — дебют, может подготовить сокрушительную новинку. Самый одаренный тактик может совершить вопиющий зевок. Все эти взлеты и падения в конечном счете находят отражение в рейтинге шахматиста.
Говоря, что гроссмейстер имеет рейтинг 2700, мы указываем средний показатель его результатов в нескольких сотнях партий. Как правило, рейтинг весьма точно свидетельствует об уровне мастерства шахматистов, за исключением очень молодых игроков и небольшой горстки гроссмейстеров с очень нестабильной игрой. У шахматных машин это не так. Когда после первого матча у меня спросили, действительно ли шахматная сила компьютера Deep Blue соответствует его рейтингу 2700, я ответил: «Да, вполне, но в одних позициях я бы оценил его рейтинг на 3100, а в других на 2300». В острых тактических позициях Deep Blue играл выше моего уровня 2800+. То же самое можно было сказать даже о шахматных программах для ПК, тогда еще не таких мощных, как сегодня. Но в закрытых маневренных позициях, где Deep Blue не мог применить свое выдающееся умение рассчитывать варианты, он нередко делал странные и бессмысленные ходы, которых никогда бы не сделал даже плохой игрок, понимающий общие принципы. Способность компьютера к оценке в целом была слабой, а порой — просто ужасной, чем я и воспользовался в первом матче.
Я не учел этот важный фактор, прикидывая, насколько может улучшиться игра Deep Blue за период чуть более года. Возможное увеличение скорости позволяло добавить еще один слой к глубине просмотра и еще 100 пунктов к рейтингу машины, но это не имело бы решающего практического значения, если бы эти 100 пунктов относились к острым позициям, в которых Deep Blue уже и так был сильнее меня. Чистая скорость отчасти улучшила бы и маневренную игру компьютера, но ненамного, подняв его рейтинг с 2300 до 2400, и я был уверен, что смогу перевести борьбу в такое русло, где перевес будет на моей стороне.
Увы, это прекрасно понимала и команда Deep Blue. В отличие от меня, айбиэмовцы воспользовались подходом моего учителя Ботвинника и сосредоточились на собственных слабостях. Практически с первых дней подготовки они решили бросить основные усилия на улучшение оценочной функции. Это означало, что им нужно привлечь сильных гроссмейстеров для более точной настройки и, вопреки первоначальному плану, изготовить новый набор шахматных микропроцессоров со встроенной новой функцией оценки. Мюррей Кэмпбелл и Джо Хоан разработали новые программные инструменты, сделавшие процесс настройки еще более эффективным. Сильный испанский гроссмейстер Мигель Ильескас помогал Джоэлю Бенджамину в усовершенствовании дебютной книги и проведении тренировочных партий с машиной для дальнейшей оптимизации ее оценочной функции. По словам Сюй Фэнсюна, уже вскоре Deep Blue побеждал лучшие коммерческие шахматные движки — даже тогда, когда вычислительную мощность компьютера намеренно снижали до уровня его соперников. Это означало, что он стал гораздо умнее, чем прежде. Таким образом, мне предстояло встретиться не просто с более быстрой машиной, но и фактически с новой программой.
Вскоре после матча в Филадельфии (февраль 1996) меня вместе с моим другом Фредериком Фриделем и моим новым американским агентом Оуэном Уильямсом пригласили в штаб-квартиру IBM в Йорктаун-Хайтс. В ходе дружественной встречи мы поговорили о реванше и обсудили некоторые моменты матча. Мне дали взглянуть на анализ моей партии, выполненный Deep Blue. Я указал на несколько слабых мест в этом анализе, что, вероятно, было не такой уж хорошей идеей. Я по-прежнему рассматривал наши матчи как совместный научный эксперимент. Например, в аналогичной ситуации с Карповым разве стал бы я рассказывать ему, как меня победить?! Мы пообщались по дистанционной связи с двумя зарубежными лабораториями IBM, в том числе с одной в Китае. Все выглядело как начало серьезных партнерских отношений, на которые я и рассчитывал. Несколько месяцев спустя мы согласовали основные условия матча-реванша: он пройдет в Нью-Йорке с 3 по 11 мая 1997 года и тоже будет состоять из шести партий. В ходе продолжавшихся в течение всего года переговоров мы договорились о других деталях и призовом фонде. Он более чем удвоился и составил $1 100 000, из которых $700 000 предназначалось победителю.
На это более привычное распределение призового фонда часто ссылаются как на доказательство того, что в тот период я меньше верил в свои силы. Ведь в первом матче я предложил схему «победитель забирает все» и в конце концов согласился разделить приз из расчета четыре к одному. Возможно, здесь есть толика правды, хотя тогда я об этом не думал. К тому же деньги не являлись для меня главным фактором. Я мог бы заработать намного больше с меньшими усилиями, выступая в показательных матчах. Но при таком крупном призе за весьма короткий матч имело смысл осторожничать. Договоренность, что за проигрыш во втором матче я получу столько же, сколько за победу в первом, представляла собой неплохую страховку. Я был уверен в себе, но шесть партий — это очень мало. Иногда я буксовал на старте. Так, из пяти матчей на первенство мира с Карповым я лидировал после шести партий только в последнем (1990), в трех матчах после шести партий я отставал, а в одном счет был равным, но в итоге я выиграл три матча и один свел вничью, не проиграв ни одного (наш первый, безлимитный матч был прекращен досрочно, когда я уменьшил отставание в счете с 0:5 до 3:5 при 40 ничьих).
Оставшаяся часть 1996 года была для меня напряженной как в личном, так и в профессиональном плане. В воздухе витали перемены, и переговоры по поводу матча-реванша и подготовка к нему не входили в мой список приоритетов. Я вел такую бурную деятельность, что порой не мог сказать, она ли отвлекает меня от шахмат или, наоборот, шахматы не дают мне заняться другими делами. Оуэн пытался превратить матч-реванш в более масштабный проект с участием IBM — серию шахматных событий, включая запуск специализированного веб-сайта и многое другое. После того как Intel отказалась поддерживать Профессиональную шахматную ассоциацию, передо мной встала задача найти для ПША новых спонсоров, и я сумел договориться с Credit Suisse о финансировании августовского турнира серии Гран-при в Женеве. Месяц спустя я привел российскую команду к золотым медалям на Всемирной шахматной олимпиаде в Ереване. А в декабре выиграл один из сильнейших турниров в истории (Лас-Пальмас, 1996), пройдя всю дистанцию без поражений. Но моей главной «победой года» стало рождение сына Вадима в октябре.
Наши отношения с IBM в преддверии матча-реванша наглядно показали еще один фундаментальный просчет в моей оценке предстоящего сражения. От дружелюбия и открытости, характерных для филадельфийского матча под эгидой Ассоциации вычислительной техники, не осталось и следа. Теперь, когда IBM отвечала за все до единого аспекты мероприятия, я сталкивался с самыми разными препятствиями и даже враждебностью со стороны организаторов. Если бы я обратил более пристальное внимание на заявления, которые делались в СМИ представителями IBM на протяжении этого года, то не был бы так удивлен. В августе руководитель проекта Deep Blue Си Джей Тан в интервью The New York Times без обиняков заявил: «Мы больше не проводим научных экспериментов. На этот раз мы будем просто играть в шахматы»{70}.
Я не отношусь к разряду людей, неспособных за себя постоять. У меня за спиной тысячи шахматных баталий, и я прекрасно владею стратегией и тактикой политического маневрирования и психологической войны. Во время моих первых матчей за шахматную корону с Карповым мне приходилось вести сражение не только с выдающимся гроссмейстером за шахматной доской, но и с выдающимися представителями советской бюрократии в конференц-залах. Если бы, отправляясь в Нью-Йорк, я знал, что общая тональность матча-реванша изменится и вместо вальса Шопена зазвучит воинственный марш Чайковского, то я бы соответственно скорректировал свое поведение. Но на тот момент я ничего не подозревал, поскольку IBM была не только моим противником, но и хозяйкой, организатором и спонсором матча. И я надеялся даже на большее — на то, что компания станет моим партнером.
Вот почему я согласился на столь скромный призовой фонд (все, особенно мой агент, считали, что мне следовало потребовать намного больше): я верил в перспективы будущего сотрудничества с IBM. Во время визита в ее штаб-квартиру в 1996 году я встретился со старшим вице-президентом, который заверил меня в том, что компания готова выступить спонсором серии Гран-при моей Профессиональной шахматной ассоциации. Мы строили большие планы относительно нашего сотрудничества, включая создание веб-портала, проведение показательных партий и реализацию других совместных проектов, призванных способствовать продвижению шахмат и, конечно же, бренда IBM. Компания даже направила в Москву команду, чтобы встретиться со мной и моими друзьями-помощниками и обсудить запуск сайта «Клуб Каспарова». У меня не было причин сомневаться в приверженности IBM этим грандиозным целям — до тех пор, пока мне не прислали контракт, где ни одна из них не упоминалась. Нам сказали, что рекламно-маркетинговый отдел, отвечающий за бюджет матча, не одобрил дополнительные проекты, поэтому «нам жаль, но мы будем просто играть в шахматы». Это впервые навело меня на подозрения, что IBM готовится к ожесточенной драке. Си Джей Тан и другие продолжали на публике говорить о будущем сотрудничестве, но только ради большего эффекта.{71}
Мне трудно передать свое разочарование, ведь я вложил столько времени и сил в то, что — как я надеялся — должно было стать великим переворотом в шахматах. Я чувствовал, что команда IBM предала свои идеалы — те самые идеалы научного поиска, которые и заставили меня присоединиться к их эксперименту в 1989 году, когда я впервые сыграл с Deep Thought. Тогда я встретился с командой и был впечатлен ее амбициями и преданностью делу. Во время первого матча в Филадельфии между нами царило глубочайшее взаимное уважение. Но накануне реванша я со всей ясностью осознал: IBM не хочет моего уважения и партнерства — она хочет моей головы.
Мне вновь и вновь напоминали, что я поставил свою подпись под правилами матча, а потому не могу жаловаться на то, что устроители исполняют их буква в букву. В частности, это касалось моей просьбы предоставить мне тексты всех партий, сыгранных Deep Blue за истекший год. Перед первым матчем я легко получил такие тексты, хотя их было немного. Но перед матчем-реваншем мне лаконично заявили: никаких текстов нет и не будет. Мы знали, что Бенджамин, Ильескас и другие сыграли с Deep Blue множество тренировочных партий, но IBM больше года намеренно не выставляла свою машину на публичные соревнования. Позже выяснилось, что мы недооценили число гроссмейстеров, принявших участие в проекте. Моя Профессиональная шахматная ассоциация балансировала между жизнью и смертью, а IBM благодаря мне давала работу многим моим коллегам. Нам сказали, что, поскольку тренировочные партии не были официальными, по правилам матча-реванша компания не обязана делиться со мной информацией о них. Я не получил текста ни одной партии.
Когда я сообщил об этом на пресс-конференции перед матчем, Тан заявил, что в таком случае я должен буду прислать им тексты всех моих тренировочных партий с другими компьютерами. Хотя за минувший год я сыграл в турнирах десятки партий, сведения о которых находились в свободном доступе, я немедленно ответил, что готов передать тексты всех моих партий с программами Fritz и HIARCS. Но дальше этого разговора дело не пошло, и Deep Blue остался для меня черным ящиком до начала матча. Другая моя уступка в итоге обернулась против меня. После филадельфийского матча я знал, как изнурительно играть с машиной в классические шахматы, и хорошо понимал, что мне потребуется как можно больше времени на отдых в партии против соперника, который вообще никогда не устает. Но вместо того, чтобы настоять на дне отдыха накануне финального поединка, я безрассудно согласился на два дня передышки сразу после 4-й партии — в таком случае 5-я и 6-я партии могли быть проведены в выходные дни, что, вероятно, давало возможность повысить посещаемость матча и расширить его освещение в СМИ. Я совершил ошибку, которая дорого мне обойдется.
Пресс-конференция стала для меня вторым тревожным звонком, предупредившим о том, что эксперимент закончен и дружескому состязанию положен конец. Больше не было никаких совместных обедов, никаких приятельских разговоров о предстоящей партии, как во время первого матча. Я понял, что заблуждался, наивно веря в добрую волю своих соперников, и внезапно словно прозрел. Поэтому, когда меня спросили, что будет, если я проиграю матч, я ответил: «Тогда нам придется провести еще один — на справедливых условиях». Это был довольно резкий ответ, но только теперь передо мной открылась истинная картина. Я злился на себя за то, что так легкомысленно отнесся к правилам и другим договоренностям. Мне просто не приходило в голову, что после первого матча ситуация может настолько измениться. Я мог только надеяться, что вся эта скрытность и враждебность не повлияют на то, что будет происходить за шахматной доской.
Это было еще одним неверным предположением, поскольку IBM, стремясь победить любой ценой, решила добиться этого довольно немудреными способами. Команда Deep Blue, как ни старалась, по-прежнему не могла определить, удастся ли ей довести компьютер до уровня моего рейтинга 2800+. Даже новые инструменты настройки оценочной функции и новая дебютная книга пока не могли заставить Deep Blue играть намного лучше. Но всегда существовала и другая возможность — сделать так, чтобы я играл хуже. Компьютеру не потребуется соответствовать уровню 2800+, чтобы победить меня, если я сам не буду играть на этом уровне. Так в преддверии шахматного матча начались совсем нешахматные игры.
9. Доска в огне!
Для проведения матча-реванша IBM арендовала несколько этажей в небоскребе Эквитебл-Центр на Манхэттене. Суперкомпьютеру Deep Blue отвели специальное помещение, охранявшееся лучше, чем Пентагон. По словам Ньюборна, к машине подвели несколько систем резервного копирования, одну в Йорктаун-Хайтс и еще одну, поменьше, находившуюся в том же здании, чтобы обеспечить гладкое переподключение. Новая программа Deep Blue работала на новой суперкомпьютерной модели, которая была в два раза быстрее прежней, содержала еще больше новых усовершенствованных шахматных микропроцессоров (480 штук) и достигала скорости перебора 200 млн позиций в секунду. Впоследствии я прочитал, что эта новая версия победила старую в трех из четырех тренировочных матчей, но даже узнай я это перед реваншем, это мало бы мне помогло. В любом случае новая версия той же программы при удвоении скорости будет намного сильнее прежней, однако нет простых корреляций между тем, насколько хорошо машина играет против другой машины, и тем, как она играет против гроссмейстера.
Игровой зал представлял собой небольшую комнату с VIP-местами, примерно на 15 человек. На другом этаже находился просторный зрительный зал на 500 мест, оснащенный гигантскими видеоэкранами, чтобы зрители могли видеть нас за шахматной доской и одновременно слушать пояснения комментаторов. За основной анализ партий отвечали американские гроссмейстеры Ясер Сейраван и Морис Эшли, а также эксперт по компьютерным шахматам и международный мастер Майк Валво. На этот раз в команду комментаторов приняли программу Fritz 4, и я считал абсолютно справедливым, что один из ведущих озвучивал точку зрения на игру еще одной машины! Аудитория преимущественно болела за меня, что создавало некоторую неловкость для команды IBM. Это было их мероприятие, от начала до конца, а гости болели против них. К счастью для компании, железного игрока не волновали ни так называемое «преимущество родных стен», ни количество болельщиков.
За несколько дней до начала матча мы прибыли осмотреть игровой зал и помещения, выделенные мне и моей команде. Оказалось, что моя зона отдыха находилась довольно далеко от игрового зала, и по моему требованию мне предоставили другую. Зона отдыха необходима шахматисту для того, чтобы во время партии размять ноги, немного перекусить, выпить воды. Если Deep Blue для игры нужны тысячи ватт электроэнергии, то моему 20-ваттному мозгу — только бананы и шоколад. Как я узнал позднее, этот факт обусловил возникновение чрезвычайно интересной идеи, связанной с обеспечением единых правил игры в соревнованиях человека и машины, — идеи об энергетическом равенстве. Другими словами, целью должно быть не просто создание сильной шахматной машины, но и машины с таким же уровнем энергопотребления, как у человека.
Еще одним сюрпризом стало то, что, вопреки договоренностям Оуэна с IBM, для членов моей команды не предусматривалось отдельного помещения. Они должны были сидеть в пресс-центре или же, по очереди с моей мамой, в зрительном зале, где нам предоставили всего два места. Такая неучтивость организаторов казалась очень странной. Даже простые наши просьбы зачастую проходили через множество инстанций и выполнялись с задержками. Признаться, я привык к первоклассному обращению на шахматных соревнованиях. Подобно Бобби Фишеру, я считал, что как чемпион мира не только имею право, но и обязан требовать лучших условий, поскольку тем самым я устанавливаю стандарты для других шахматных соревнований и игроков. Несколько мелких недочетов и недосмотров — не проблема, но когда они становятся закономерностью, это уже повод для беспокойства.
Я постоянно повторял, что мое недовольство атмосферой и организацией матча-реванша ни в коей мере не направлено против создателей Deep Blue. Однако, будучи не только участниками матча, но и сотрудниками IBM, они волей-неволей оказывались в неприятельском лагере, когда я предъявлял свои требования и подавал протесты. Как уже говорилось, я не думаю, что создатели сильнейшей шахматной машины в мире заслужили высокомерное отношение даже со стороны чемпиона мира, но, раз уж они дали втянуть себя в эту ожесточенную схватку, я не мог их жалеть. В основном во всех спорных ситуациях команду IBM представлял Си Джей Тан, но остальные не могли оставаться в стороне от перепалок во время пресс-конференций и интервью. Имея за спиной семь матчей на первенство мира, я понимал, что не должен смиряться со все более враждебным поведением организаторов матча, иначе я буду чувствовать себя психологически раздавленным. Неопытные в таких вещах Кэмпбелл, Хоан и Сюй Фэнсюн, оказавшись на линии огня по вине PR-команды IBM, считали, что я агрессивен, и, возможно, иногда действительно так оно и было. Эта серьезная проблема, как и многие другие, проистекала из того факта, что IBM одновременно выступала организатором и участником матча.
Первая партия матча-реванша, похоже, стала самым ожидаемым событием в шахматной истории после матча Спасский — Фишер (1972). Обложки журналов, рекламные стенды, телевизионные ток-шоу — всё, куда ни посмотри, напоминало о предстоящей битве. Пресс-центр в Эквитебл-Центре не смог вместить всех желающих, поэтому его пришлось перенести в более просторное помещение. Сначала я пытался наслаждаться этим вниманием, затем пробовал игнорировать его, но давление неизбежно нарастало. Мы с Юрием, Михаилом и Фредериком выработали общую стратегию ведения матча, которая, как я надеялся, должна была позволить мне узнать о новом Deep Blue как можно больше, не идя на серьезный риск. Как правило, мои матчи за мировое первенство длились по несколько недель и даже месяцев. На протяжении 16, 20 или 24 партий у вас есть возможность поэкспериментировать, попробовать разные идеи. Но когда в вашем распоряжении всего шесть партий, у вас нет права на ошибку, поскольку практически нет возможности ее исправить.
За несколько месяцев до матча-реванша я сказал в интервью: «Как показал первый матч, есть позиции, в которых машина фактически непобедима, и есть такие, в которых она безнадежна. Однако существует огромное количество промежуточных позиций. Поэтому, хотя в целом понятно, чего ожидать, я не исключаю возможных сюрпризов».
Всю неделю перед матчем я слушал разговоры команды IBM о том, как они значительно улучшили Deep Blue. В Нью-Йорке я случайно встретился с несколькими американскими гроссмейстерами и с удивлением узнал, что их привлекли к участию в проекте. Во время 3-й партии до нас дошла информация, что, несмотря на заявления IBM о том, что она не сотрудничает с другими гроссмейстерами, несколько человек остановились в отеле вместе с основной командой IBM. Позже The New York Times подтвердила, что они были наняты компанией.
Наряду с массой других небольших сюрпризов это стало еще одним доказательством того, что меня ожидает ожесточенная борьба. Как правило, при подготовке к важному матчу игроки держат имена своих секундантов в строжайшем секрете. Если вы знаете, с кем тренируется ваш соперник, вы можете догадаться, какие дебюты он готовит. Например, если вы планируете применять сицилианскую защиту, имеет смысл нанять эксперта конкретно по этому дебюту. Если бы я узнал, что команда Deep Blue привлекла ведущих специалистов по компьютерным технологиям, я бы предположил, что они хотят найти способ увеличить скорость машины, что меня беспокоило не так сильно. Как я уже говорил, повышение уровня игры с 3100 до 3200 пунктов в тактических позициях не дало бы Deep Blue решающего преимущества, сумей я избежать этих позиций. Но то, что с Deep Blue работала большая команда гроссмейстеров, могло свидетельствовать только об одном: машину действительно учили играть в шахматы! Повышение качества позиционной оценки до гроссмейстерского уровня в 2500 пунктов защитило бы машину от большей части антикомпьютерных уловок.
Наличие большой команды гроссмейстеров также означало, что они вложили колоссальное количество времени и сил в совершенствование дебютной книги. Перед матчами за мировое первенство мы с помощниками тратили по многу месяцев на то, чтобы подготовиться лучше соперника, и знали, что тот вместе со своей командой делает то же самое. Но за доской мы сражались один на один, храня все дебютные знания только в своих головах. Напротив, в «ум» Deep Blue были вложены тысячи дебютных линий, выработанных целой армией гроссмейстеров, и ему не надо было беспокоиться о том, что он их забудет.
Это была всего лишь одна из множества сложных асимметрий в шахматном противостоянии человека и машины, и мы уже не могли ничего исправить после того, как все правила были согласованы. Но благодаря моему горькому нью-йоркскому опыту впоследствии матчи с машинами будут проводиться по более строгим правилам, призванным уравнять условия борьбы. Например, появятся ограничения по количеству вариантов, которые могут быть внесены в дебютную книгу между партиями; стандартным станет требование о предоставлении игроку перед матчем относительно новой версии программы, чтобы отчасти компенсировать отсутствие опубликованных текстов партий. (Правила матча-реванша с Deep Blue уместились всего на трех страницах, а вот правила моего следующего матча с машиной заняли уже более шести. Люди тоже способны учиться.)
Будут регулироваться и другие острые вопросы, связанные с обеспечением честной игры и секретности, которые также представляют собой асимметричную проблему, не имеющую идеального решения. Например, если во время партии у машины произойдет сбой или возникнут другие затруднения, следует ли информировать соперника? С одной стороны, это может отвлечь человека от игры, но с другой, что он может подумать, если оператор вдруг начнет что-то поспешно печатать или бегать туда-сюда, совещаясь с прочими членами команды? Еще одной проблемой является детальная регистрация взаимодействия всех людей (а не только оператора) с компьютером в ходе партии. Помните историю о чемпионате в Гонконге, когда находившаяся в Нью-Йорке команда Deep Blue была вынуждена перезапустить систему во время партии с программой Fritz? Удаленный доступ и резервные системы делают полное отслеживание всей машинной активности практически невыполнимой задачей, требующей значительных технических знаний и возможности свободно исследовать все оборудование. В процессе подготовки мы с моей командой не учли, насколько существенным отвлекающим фактором может быть беспокойство о такого рода вещах, что еще раз показывает, как сильно мы ошибались, веря, что матч будет таким же открытым и дружелюбным, как в Филадельфии.
Строгий контроль за игрой позволяет обеспечить необходимое душевное спокойствие, гарантируя, что любые споры, которые могут возникнуть, не будут разрешены так, чтобы дать преимущество какой-то одной стороне. Это особенно важно, когда только одному из участников требуется абсолютное спокойствие, чтобы показать игру высшего уровня. В атмосфере доброй воли и открытости мелкие детали не так важны. Конечно, могут возникать проблемы и вопросы, не отраженные в правилах, как это случалось на нескольких других моих матчах с машинами. Иногда просто невозможно избежать ситуаций, когда одна из сторон оказывается в невыгодном положении из-за неподконтрольных ей факторов. Понятно, что несправедливо записывать машине техническое поражение после нескольких отключений электричества. Но как насчет ее соперника, который сидит в темноте и думает, когда же продолжится партия? Как долго ему ждать?
Накануне матча-реванша с Deep Blue я сидел в такой же метафорической темноте, ничего не зная о возможностях новой машины. Все мои попытки получить тексты ее партий наталкивались на каменную стену. На основе чего я должен был выстраивать свою подготовку к матчу? Шесть сыгранных в Филадельфии партий были слишком небольшой выборкой, чтобы делать надежные выводы, к тому же я знал, что команда Deep Blue сосредоточилась на устранении недостатков, выявленных в игре компьютера в ходе нашего предыдущего матча. Я решил, что постараюсь использовать первые партии, чтобы исследовать сильные и слабые стороны новой машины. Это означало, что мне следовало играть более пассивно, чем я предпочитал, хотя это соответствовало моей общей стратегии, ориентированной на создание спокойных позиций, в которых тактические способности Deep Blue не были бы решающим фактором.
Наблюдатели и специалисты — разумеется, за исключением IBM — в основном предсказывали мою победу. Дэвид Леви и Ясер Сейраван даже считали, что, поскольку теперь у меня есть некоторый опыт, я смогу победить с большим разрывом, чем в филадельфийском матче, закончившемся со счетом 4:2. Я тоже был дерзок в своих прогнозах. Почему бы и нет? Какой хороший спортсмен перед началом состязания будет предсказывать свое поражение? Я искренне верил в свои силы, полагая, что игру Deep Blue едва ли могли существенно улучшить за период чуть более года. Но лидер команды IBM Си Джей Тан в своей браваде превзошел даже меня, заявив, что Deep Blue выиграет матч с «огромным перевесом».
Жеребьевка состоялась в Эквитебл-Центре 1 мая. Это старая шахматная традиция, цель которой — определить, кто будет играть белыми в 1-й партии, и обычно организаторы стараются придать этому действу толику местного колорита. В неофициальной обстановке жеребьевка происходит просто: один из игроков зажимает в кулаках две пешки — черную и белую — и прячет руки за спину, а второй указывает на одну из его рук. Если на ладони белая пешка, значит, он играет белыми. Слишком скучно. За многие годы я участвовал в самых странных процедурах жеребьевки, которые только можно себе представить. Там были лотерейные шары, животные, танцоры и фокусники. На турнире 1989 года в шведском Шеллефтео организаторы использовали 16 настоящих золотых слитков, и к нижней стороне каждого были приклеены номера. Все 16 игроков должны были подойти к столу и перевернуть слиток, чтобы узнать свою стартовую позицию в турнире. Видя, как другие с трудом поднимают золото, я решил, что попытаюсь сделать это одной рукой. Но слиток оказался таким тяжелым, что мне пришлось ухватить его двумя руками. Я не мог скрыть удивления, когда венгерский гроссмейстер Лайош Портиш, вдвое старше меня, справился одной рукой без видимых усилий… Перед моим матчем в быстрые шахматы с Анатолием Карповым (Нью-Йорк, 2002) жеребьевку проводил гениальный иллюзионист и страстный любитель шахмат Дэвид Блейн. Он по старинке взял две пешки, и те, конечно же, на наших глазах… исчезли в его руках!
Но перед матчем-реваншем все прошло более скромно: мне с Си Джей Таном предложили две одинаковые коробки с бейсболками клуба «Нью-Йорк Янкиз». Я выбрал ту, где оказалась белая шапочка — подходящий цвет для защитника человечества! Итак, в отличие от предыдущего матча, теперь в 1-й партии мне предстояло играть белыми фигурами. Я не очень обрадовался, поскольку при таких обстоятельствах предпочел бы играть белыми в двух из трех последних партий, чтобы иметь больше возможностей воспользоваться тем, что я узнал раньше в ходе матча. Как показало филадельфийское сражение, игра белыми в финальной партии тоже может быть тактически благоприятным фактором, в зависимости от счета. Если ваш противник идет вровень с вами или отстает, в последней партии он сделает все, чтобы воспользоваться преимуществом белого цвета. Кроме того, я фактически собирался отказаться от этого преимущества в начале матча, запланировав осторожные дебюты. Так что, будь на то моя воля, я бы выбрал для старта черные фигуры.
Наконец день икс настал. В Эквитебл-Центре собрались сотни журналистов, чтобы освещать матч в прямом эфире, и зрительный зал был полон. Я пожал руку Сюй Фэнсюну и, стоя под вспышками фотоаппаратов, попытался выбросить из головы все ненужные мысли. Для меня это было огромным облегчением — наконец-то мы начнем играть в шахматы и я узнаю, что скрывается внутри черного ящика под названием Deep Blue. Я с радостью отметил, что бремя ответственности как защитника человечества не утяжелило фигуры.
Я начал партию ходом 1.Кf3 — так же, как начинал все свои партии белыми в первом матче. Этот гибкий ход позволяет обеим сторонам допускать много перестановок и идеально подходит для того, чтобы прощупать противника. Он являлся частью моей антикомпьютерной стратегии, которую я без всякого удовольствия применял тогда и описываю сейчас. Я бы предпочел сыграть один из тех острых дебютов, которые я обычно использовал против Карпова, Ананда и других гроссмейстеров, и дать красивый бой компьютеру, имеющему доступ к дебютной книге, почти такой же бесконечной, как Вавилонская библиотека Борхеса.
Но мне следовало быть практичным. Я хотел победить, а не героически погибнуть в лучах славы. По опыту игры с более слабыми программами я знал, что острейшие позиции, в которых я прекрасно себя чувствовал, сражаясь с людьми, в игре с Deep Blue были слишком рискованны. Я не сомневался, что хорошо справлюсь с начальной стадией: с моим уровнем дебютной подготовки я мог противостоять любой команде гроссмейстеров в мире. Но в игре с Deep Blue я не мог использовать свои излюбленные дебютные линии по двум причинам.
Во-первых, поскольку в дебютную книгу Deep Blue были заложены все мои прошлые партии, компьютер легко мог найти похожую дебютную вариацию и без труда дойти до миттельшпиля, где он будет иметь превосходство. Зачем позволять противнику почти полностью повторять игру Карпова вплоть до 20-го хода? Фредерик как-то показал мне дебютные книги с настолько глубокими дебютными вариациями, что они заканчивались практически в эндшпиле. Если Deep Blue действительно претендует на то, чтобы играть на уровне чемпиона мира, то пусть он добивается своей цели, опираясь на собственные возможности, а не копируя мои же партии. Я надеялся, что сумею воспользоваться неспособностью компьютера к планированию и стратегической игре, если мне удастся как можно раньше вывести его за рамки дебютной книги — даже в позиции, не являющейся для меня объективно лучшей. И если потом мы вернемся к какой-либо известной дебютной линии, как это иногда бывало в прошлых партиях, то по крайней мере я получу некоторое представление о предпочтениях соперника.
Во-вторых, многие из моих любимых дебютов вели к острым открытым позициям, похожим на те, в которых Deep Blue играл на уровне 3000 пунктов и выше, вместо того чтобы приводить к закрытым, маневренным позициям, с которыми машина справлялась не слишком успешно. Создатели компьютера заявляли, что они существенно усилили способность своего детища оценивать позицию, и похоже, у них это действительно получилось — но я все равно был уверен, что в вязком антикомпьютерном болоте у меня больше шансов, чем в сражении на открытой равнине. Такое решение далось мне непросто. По характеру я бескомпромиссный человек, будь то за шахматной доской или в каждодневной жизни. И даже с учетом проигрыша я не могу сказать, что принял неправильное решение.
Одна из ошибок сознания при анализе партий состоит в том, что мы называем «анализом по результату». Это значит, что все ходы победителя автоматически признаются хорошими, потому что он выиграл, а ходы проигравшего — неважными, поскольку он проиграл. Знание результата партии мешает объективному анализу, поскольку невольно побуждает рассматривать ходы проигравшего более критично, даже если они того не заслуживают. Поскольку в матче-реванше я потерпел поражение, очень легко попасть в эту ловушку и начать рассматривать все мои решения как неверные, вместо того чтобы оценить каждое из них как можно более объективно. Разумеется, поражение в партии или в матче означает, что вы совершили ошибки, но нужно помнить, что зачастую, как метко заметил американский шахматист Изрейел Алберт Горовиц, «один плохой ход портит сорок хороших».
В 1-й партии моя антикомпьютерная стратегия принесла плоды, хотя и не обеспечила мне решающего преимущества. Я разыграл дебют Рети, который уже успешно использовал против Deep Blue, и в итоге возникла хорошо известная позиция, наверняка имевшаяся в его дебютной книге. На десятом ходу я ушел от этой позиции с помощью хода, который едва ли сделал бы, играя с человеком. Вместо того чтобы расширить свои владения в центре, продвинув на два поля вперед королевскую пешку, я скромно передвинул ее всего на одно поле, чтобы избежать контакта с черными. Это был намеренно пассивный, выжидательный ход из арсенала старых трюков Дэвида Леви, позволявший проверить, можно ли заставить компьютер ослабить свою позицию, лишив его конкретных целей.
Как оказалось, можно! Следующим же ходом Deep Blue ослабил укрытие своего короля. Компьютеру следовало бы воспользоваться моей пассивной игрой и навязать свою, но он не знал, как поступить с этим подаренным мной лишним темпом. До того как Deep Blue сделал эту первую дюжину ходов, никто, кроме команды IBM, никогда не видел компьютер в игре — так что для меня его действия стали хорошим знаком, показавшим, что моему сопернику еще надо кое-чему научиться. Вопрос был лишь в том, смогу ли я преподать ему урок. С помощью пассивной игры я мог вынудить машину сделать еще несколько посредственных ходов, но, чтобы выиграть, в какой-то момент мне придется перейти в наступление.
Я продолжал маневрировать и был вознагражден еще двумя бессмысленными ходами соперника. Позже я узнал, что комментировавшие партию гроссмейстеры и зрители смеялись над его метаниями. В такой спокойной позиции пустая трата темпов со стороны Deep Blue не поставила его под угрозу, но укрепила мою уверенность в себе и подала мне хорошую идею. Я сделал угрожающий выпад конем, надеясь, что в ответ компьютер еще больше ослабит свою оборону, двинув на два поля пешку «g», чтобы защитить слона. К моему удовлетворению, он так и сделал, вынудив моего коня отступить, однако в его позиции образовались дыры, которыми я мог воспользоваться впоследствии.
Конечно, это было проще сказать, чем сделать. Машина, бывает, создает слабые места в своей позиции, однако она невероятно хорошо умеет их защищать. Теоретическая слабость позиции не имеет никакого значения, если не получается выжать из нее практической пользы. Deep Blue делал странные, неразумные ходы, но для компьютера они были необязательно плохими. Даже благоприятное для меня положение на доске не гарантировало победы, поскольку оставалась возможность, что машина сумеет перевести игру в такое русло, где она будет играть на порядок сильнее меня.
Не хочу сказать, что моя позиция была очень уж хороша. Я играл настолько осторожно, что не мог извлечь преимущества из слабых ходов Deep Blue. Но это соответствовало моей общей матчевой стратегии. Мне постоянно приходилось напоминать себе о том, что я не должен торопиться, что мне надо как можно больше узнать о способностях противника. Моей главной задачей было максимально ограничить его контригру, как я сделал это в последней партии филадельфийского матча. Однако новая усовершенствованная версия Deep Blue не собиралась давать мне возможность загнать себя в угол, а это означало, что в итоге мне придется ввязаться в острую схватку.
Английский гроссмейстер Джон Нанн так написал об этом моменте в своем анализе 1-й партии: «Это была критическая фаза. Каждый, кто играл с компьютером, знает дальнейший сценарий: вы создаете стратегически выигрышную позицию, компьютер делает несколько неожиданных тактических выпадов, вы допускаете пару неточностей — и машина вдруг оказывается неодолима!» Действительно, Deep Blue нашел несколько очень сильных ходов и контратаковал меня прежде, чем я успел укрепить свою позицию. Он выдвинул вперед свои пешки, и эта первая компьютерная атака заставила зрителей затаить дыхание. Машина пыталась завязать именно такую драку, какой я старался избежать. Осторожная игра закончилась. Пришло время ответить огнем на огонь. «Доска в огне!» — воскликнул в тот момент комментатор Морис Эшли.
Я принял решение, которое и тогда, и позже расценивали как «дерзкое» и даже «безумное»: позволил Deep Blue и двум его простреливающим доску слонам вскрыть позицию вокруг моего короля. Я решил перехватить инициативу, отдав ладью за слона, чтобы использовать силу двух связанных проходных пешек, наступающих на черного короля. Вот что пишет на сей счет гроссмейстер Дэнни Кинг в своей книге «Каспаров против Deep Blue» (1997): «Вероятно, и человек, и машина просчитали эту позицию еще за несколько ходов, и оба сочли ее выигрышной для себя. Фактически так оно и было».
Как сказал прусский генерал-фельдмаршал Хельмут фон Мольтке, ни один план сражения не выдерживает уже первого столкновения с врагом. Мой план осторожной разведывательной миссии полетел к чертям, едва машина перешла к агрессивной игре. Теперь я возлагал надежды только на свое превосходство в позиционной оценке. Deep Blue нравилось его материальное преимущество и хорошее положение фигур. Мне нравились мои далеко продвинутые связанные пешки и сильный чернопольный слон. Это была классическая дуэль с динамическим равновесием при материальном дисбалансе. Несмотря на острый характер стычки, у меня на часах оставалось достаточно времени, поэтому я был уверен, что сумею справиться с любой тактикой, которую найдет Deep Blue.
Английский гроссмейстер Тони Майлс, которого я разгромил в матче в 1986 году, назвал меня «тысячеглазым монстром, который видит всё». Я недолюбливал это сравнение — точно так же, как не любил, когда меня называли Бакинским Чудовищем (el Ogro de Baku на испанском), — но предполагаю, что мне следовало воспринимать его как комплимент. Моя способность в считаные секунды увидеть то, что даже опытные гроссмейстеры замечали через несколько минут, привлекла ко мне внимание Михаила Ботвинника, когда я был еще ребенком. Конечно, я не машина и не всевидящий монстр, но в шахматах я приближался к пределу человеческих возможностей. На следующий день The New York Times опубликовала статью гроссмейстера Роберта Бирна под названием «Человек победил в расчетах счетную машину», где было написано следующее: «Встретившись за шахматной доской с удивительным компьютером Deep Blue фирмы IBM, Гарри Каспаров переиграл машину в ее собственной игре».
Если бы Deep Blue понял, что позиция примерно равна, он бы, вероятно, сыграл иначе. Но он переоценил свое материальное преимущество и охотно пошел на размен ферзей, чего ему не следовало делать. Он допустил классический компьютерный промах: был доволен своей позицией, но не понимал, что у него нет возможности ее улучшить, тогда как я такую возможность видел и использовал. Deep Blue потерял последний шанс добиться ничьей. Для этого ему пришлось бы отказаться от своего материального преимущества, но даже компьютер способен упорствовать в своих ошибках. Вместо того чтобы признать свой просчет и попытаться спастись, он продолжал тонуть вместе со своим кораблем. После очередной неточности в обороне и очень странного хода ладьей, о котором я расскажу чуть дальше, позиция черных стала безнадежной, и Кэмпбелл, протянув мне руку, объявил о сдаче партии. Примечательно, что ни одна из моих фигур ни разу не вышла за пределы моей половины доски, что в выигранных партиях случается крайне редко. Я продвинул на территорию противника только пешки, и этого оказалось достаточно.
Когда мы с командой Deep Blue вышли в зрительный зал, публика приветствовала нас бурными — и, конечно, заслуженными — овациями. Это была настоящая битва, красивая игра в шахматы. Я одержал победу, но, как я сказал со сцены после партии, я почувствовал, что машина очень сильно отличается от филадельфийской. Deep Blue стал достойным противником.
У меня было меньше 24 часов, чтобы насладиться своей третьей подряд победой над Deep Blue. Во 2-й партии мне предстояло играть черными, и нужно было хорошо подготовиться. В любительской игре преимущество первого хода не имеет большого значения. Выигрыш темпа (опережение соперника в реализации какого-либо плана) в начале партии оценивается менее чем в полпешки. Когда играют слабые партнеры, совершающие ошибку за ошибкой и теряющие время почти каждым ходом, это практически незаметно. Но для гроссмейстеров каждый темп очень важен, особенно в острых позициях, где победа зачастую достается тому, кто начинает атаку первым.
В относительно закрытых позициях — как, например, в начале нашей 1-й партии — потеря темпа не смертельна, хотя и нежелательна. Старое антикомпьютерное правило Леви «Ничего не делай, но делай это хорошо» состоит в том, чтобы создать эффективную оборону и позволить машине самой идти к своей гибели. Deep Blue не знал, как противостоять моей выжидательной игре, но он делал это достаточно хорошо, чтобы не попасть в серьезные неприятности. Однако едва возникла малейшая возможность, Deep Blue нанес стремительный и мощный удар. Было бы неправильно сказать, что я снова его недооценил, поскольку в отсутствие какой-либо информации ни о каких предварительных оценках и ожиданиях не могло быть и речи. Но теперь я почувствовал силу противника и во 2-й партии, где у него были белые, не собирался давать ему шанс нанести мне хук в челюсть.
Так же неизбежно, как ночь сменяет день, ни один проигрыш компьютера не обходится без сообщения о наличии бага в программе. Программисты ссылаются на баги точно так же, как гроссмейстеры любят говорить, будто «забыли» о чем-то во время партии, вместо того чтобы признать, что они просто прошли мимо какой-то возможности, а их соперник ее заметил. В интервью 1988 года Борис Спасский пошутил по поводу этой привычки, рассказывая о работе над сборником своих избранных партий: «Буду совершенно честен. Если я что-то просмотрел, то так и скажу: "Я это зевнул!"»{72} Перефразируя слова Шекспира, можно сказать, что ошибка остается ошибкой, как ее ни назови.
Из двух багов, обнаруживших себя в 1-й партии, только один рассматривался как существенный фактор — но не потому, что он повлиял на ход игры. Ситуация вокруг этого программного дефекта в очередной раз иллюстрирует доминацию иллюзий над фактами, и по иронии судьбы спустя 15 лет та история обрела вторую жизнь.
На 44-м ходу партия фактически завершилась. Имея выигрышную позицию и достаточный запас времени, я мог избежать оплошностей на пути к победе. Современные шахматные движки оценивают позицию после моего 44-го хода как почти +12 в пользу белых, что превышает стоимость целого дополнительного ферзя. Человек в такой ситуации обычно приходит в отчаяние и погружается в мрачные мысли о неизбежном разгроме. Понятно, что компьютерам это не свойственно; они продолжают перебирать миллиарды позиций в поисках лучшего хода. В отличие от людей, способных изыскать для себя шансы в самых разных источниках, они не знают, что в тяжелой ситуации иногда лучше сделать объективно слабый ход, который может сбить противника с толку. У машин нет и чувства гордости. С точки зрения компьютера, трусливый ход, ведущий к мату через десять ходов, определенно лучше красивого хода, который ведет к мату через девять ходов. Любой, кто играл с компьютерами, знает, что перед лицом неминуемого поражения они могут делать очень странные ходы, лишь бы хоть чуточку отсрочить мат.
Сорок четвертый ход Deep Blue выглядел именно так. Мои пешки готовились превратиться в ферзей, и не было никакой возможности надолго их остановить. Думаю, Deep Blue видел это так же четко, как и я. Возможно, он уже просчитал варианты вплоть до мата, что было вполне реально в этой форсированной позиции с несколькими альтернативами, дающими очень узкое дерево поиска. Вместо того чтобы сдаться или сделать один из ожидаемых оборонительных ходов, Deep Blue вдруг увел свою ладью подальше от места боя. Я не мог понять смысл этого хода, и мне пришлось трижды все проверить, чтобы убедиться: за этим шагом противника не таится блестящий тактический трюк, которыми так славятся компьютеры. Не обнаружив после пятиминутного раздумья никакого подвоха, я счел это одним из тех необъяснимых ходов, которые компьютеры часто делают в проигрышных позициях, и передвинул свою пешку на g7, где ей осталось лишь одно поле до превращения в ферзя. Затем я взял со стола свои часы Audemars Piguet и надел их на руку — финальная часть моего ритуала, показывающая, что игра закончена. Кэмпбелл объявил о сдаче партии, подтвердив мой вывод о том, что последний странный ход Deep Blue был последним вздохом рыбы, выброшенной на берег.
Вечером мы с тренерами проанализировали партию, особенно ее начало. Но задержались и на 44-м ходе компьютера, поскольку не могли найти ему объяснение и добиться того, чтобы наши компьютерные программы его повторили. Казалось, Deep Blue просто сделал ошибочный слабый ход, хотя нашим сравнительно примитивным движкам потребовалось немало времени, чтобы просчитать позицию вплоть до мата — задача, с которой современные компьютеры справляются за считаные секунды (тогдашний анализ с помощью программы показал, что финальная позиция ведет к мату в 19 ходов, а сегодня мат ставят всего в пять). Возможно, Deep Blue видел гораздо глубже, чем мы и наши шахматные программы, поэтому его ход имел для него смысл? Но какой? «Как компьютер может пойти на такое самоубийство?» — спросил я у Фредерика. Поэкспериментировав немного с программой Fritz, я нашел способ форсировать выигрыш после шаха ладьей моему королю, которого ожидал от Deep Blue. Во время партии я не видел этого порядка ходов, но ясно, что Deep Blue его нашел. Таким образом, я пришел к выводу, что компьютер, увидев надвигающийся мат, сделал ход, позволяющий отсрочить неизбежное. Приговор был вынесен: в совершенно проигранных позициях машины часто делают необъяснимые ходы; и если нам придется анализировать еще больше таких ходов, для меня это будет очень хорошей новостью.
Другие комментаторы согласились с моим выводом. В своей книге об этом матче Кинг назвал 44-й ход Deep Blue «любопытным» и «странным», добавив, что машина могла «увидеть возможность более быстрой победы» после ожидаемых ходов. Поскольку этот ход был сделан в явно проигранной позиции, мы даже не стали помечать его знаком «?», который в общепринятой шахматной нотации используется для обозначения ошибочного хода.
Разобравшись с этой странностью, мы с Юрием занялись дебютной подготовкой ко 2-й партии. Между тем Фредерик взял этот незначительный эпизод 1-й партии и, будучи превосходным рассказчиком, невольно превратил его в легенду. В своей рецензии для ChessBase он красочно описал мою озадаченность 44-м ходом Deep Blue, несмотря на то что в нашем анализе этого момента мы пришли к удовлетворительному заключению (хотя и неверному, как оказалось впоследствии). Фредерик написал: «Вывод был немного пугающим… Deep Blue просчитал все варианты до конца и решил пойти по самому неприятному для соперника пути. "Вероятно, он обнаружил линии, в которых получает мат через 20 и более ходов", — сказал Гарри, радуясь тому, что эти ужасающие своей мощью расчеты все равно способствовали его успеху».
Достаточно безобидный рассказ, тем более что Фредерик включил в статью и мой анализ, проведенный с помощью программы Fritz и показывающий, как бы я мог поставить мат в случае, если бы Deep Blue сделал ожидаемый мною ход. Также следует заметить, что слова «пугающий» и «ужасающий» принадлежали не мне, а Фредерику. Однако после матча стала распространяться легенда, будто я был настолько сильно впечатлен кажущейся глубиной машинных расчетов, что это повлияло на мою игру и на все мои дальнейшие решения в матче, особенно в критически важной 2-й партии. Данное предположение было высказано Мюрреем Кэмпбеллом и нашло отражение в книге Монти Ньюборна о битве с Deep Blue (2002). Кульминационным моментом истории в изложении Кэмпбелла явилось то, что таинственный ход Deep Blue не был основан ни на каких глубоких расчетах; это был совершенно случайный ход, промах, обусловленный другой ошибкой — багом, который Кэмпбеллу и Сюй Фэнсюну не удалось устранить до начала матча.
Легенда обрела новую жизнь, когда статистик и эксперт по прогнозам Нейт Сильвер использовал ее в качестве основы для одной из глав своей книги «Сигнал и шум: Почему одни прогнозы сбываются, а другие — нет» (2012). Объяснение, предложенное Фредериком и популяризированное Кэмпбеллом, оказалось неотразимо привлекательным: Каспаров проиграл Deep Blue из-за ошибки в программе! Вот что пишет Сильвер: «Однако баг сыграл Deep Blue на руку — возможно, компьютеру удалось обыграть Каспарова именно благодаря этому багу». Журналисты Time, Wired и других СМИ развили этот сюжет на свой лад, и каждая их новая история содержала больше неправды об игре в шахматы и моем психологическом состоянии, чем предыдущая{73}.
Я искренне рад, что сыгранные мной матчи привлекли к себе столько внимания, став сюжетом для огромного количества книг и излюбленной темой в поп-культуре. Но в большинстве фильмов вы видите шахматную доску не так, как ее видят игроки, и точно так же большинство людей, которые пишут о шахматах, не имеют ни малейшего представления о том, о чем они пишут. Вместо того чтобы проконсультироваться с профессиональными игроками, они считают, что пластмассовый трофей, заработанный во второразрядном шахматном турнире, позволяет им глубокомысленно рассуждать об игре и образе мышления чемпиона мира.
Бóльшая часть того, что Сильвер написал о шахматах верно, взята им из других источников, и на этом фоне особенно бросается в глаза нелепость всего остального. Он, в частности, не понимает роли дебютной книги, а о 6-й партии пишет полную чушь. Например, вот что он говорит по поводу моего выбора защиты Каро-Канн в финальной партии: «Однако Каспаров не разбирался в этой защите…» Действительно, я еще в юности отказался от защиты Каро-Канн, но в то же время являюсь соавтором книги о ней. Кроме того, Сильвер не понимает одной очевидной для любого шахматиста вещи: даже если вы сами редко используете какой-либо дебют, то вы тем не менее можете знать его очень хорошо, если его регулярно применяют против вас, как это было и в моем случае.
Что касается 1-й партии, Сильвер игнорирует важный факт, упомянутый Фредериком в той самой статье на ChessBase, с которой все и началось: «Примерно с этого момента Fritz начал объявлять маты». Даже относительно незатейливая программа Fritz на домашних ПК могла просматривать позиции на дюжину ходов вперед, и все понимали, что для гораздо более быстрого Deep Blue такая глубина просмотра позиции вполне доступна, с учетом небольшого количества материала и вынужденного характера многих из оставшихся ходов. Это резко сужало дерево поиска, а благодаря методу «поиска единственного ответа», который использовался в Deep Thought еще десять лет назад, компьютер мог проводить очень глубокий анализ доступных вариантов. В ситуации, когда королю угрожает шах, а на доске остается всего четыре ладьи и несколько пешек, как это было в 1-й партии, Deep Blue мог легко достичь большой глубины поиска всего за несколько минут. В протоколах, опубликованных много лет спустя, можно увидеть, что Deep Blue достиг глубины 20 полуходов уже чуть раньше, на 41-м ходу, когда на доске было намного больше фигур.
Если бы Deep Blue сделал такой же загадочный ход в равной позиции, была бы совсем другая история, требующая особого расследования. Но, поскольку он сделал это в совершенно проигранной позиции в конце партии, его действия вызвали во мне не более чем любопытство. Поначалу я пришел в замешательство, затем немного поломал голову, но в конце концов забыл. Утверждать, что Каспаров проиграл компьютеру из-за сбоя в программе, использовать это в качестве основы для любительского психоанализа и объяснения моего проигрыша во 2-й партии — абсурдное мифотворчество и дилетантство.
Главу о шахматах Сильвер начинает с цитаты из эссе, которое Эдгар Аллан По написал о шахматном автомате «Турок» в 1836 году. Но думаю, что ему следовало бы обратить внимание на другое высказывание писателя: «Не верьте ничему, что вы слышите, и только наполовину верьте тому, что видите»[7].
Могу согласиться только с одним общим выводом из этой истории: я действительно не проиграл бы матч, если бы находился в лучшем психологическом состоянии. Но до 2-й партии и последовавших за ней событий я чувствовал себя вполне нормально.
Если уж на то пошло, к началу 2-й партии я по-прежнему твердо верил в свои силы. Я одолел Deep Blue трижды подряд, включая две финишные партии филадельфийского матча, и испытывал большое облегчение от того, что мне удалось приоткрыть черный ящик. Deep Blue II был хотя и очень силен, но далек от совершенства. В дебютной стадии он допустил ряд помарок в компьютерном духе, хотя и компенсировал их впоследствии. Я переиграл его тактически, доказав свое превосходство в оценке позиции, и одержал безоговорочную победу.
Но во 2-й партии мне предстояло играть черными. Увидев, насколько агрессивно ведет себя машина, когда получает такую возможность, мы решили, что придерживаться прежней — пассивной антикомпьютерной — стратегии при игре черными слишком рискованно. Белыми я мог намного лучше контролировать течение игры и дожидаться благоприятного момента. Черными же безопаснее разыгрывать хорошо известный дебют, и не важно даже, что он есть в дебютной книге машины, — главное, чтобы он давал закрытую позицию, в которой компьютеру будет трудно найти четкий план действий. Недостатком этой стратегии, как и во всех остальных партиях, было то, что она совершенно не соответствовала моему стилю. Играя в антикомпьютерные шахматы, я играл и в антикаспаровские шахматы.
Даже сегодня, оглядываясь назад, трудно понять, была ли эта стратегия правильной. Если бы я имел хотя бы дюжину текстов сыгранных Deep Blue партий, чтобы составить представление о его возможностях, я бы чувствовал себя комфортно со своими любимыми дебютами и готовился к партии так же, как к поединку с любым гроссмейстером. Но не имея ничего, что могло бы лечь в основу специальной подготовки, я решил придерживаться гибких позиций — тогда к длинному списку тревог не добавится еще и беспокойство по поводу дебютных новинок. Я считал, что между игровыми днями должен стараться тратить как можно меньше сил на планирование предстоящих партий. Борьба против машины была изнурительной во всех отношениях, ведь мне приходилось учитывать возможности, которые я никогда не стал бы рассматривать в нормальных условиях, и дважды проверять любые расчеты и решения. Во время обычного турнира или матча мы с Юрием не спали до глубокой ночи, используя каждую секунду времени на подготовку к завтрашней партии. Но в игре с машиной это было бы катастрофой, поскольку она не уставала и не нуждалась во сне, как я.
Одно я знаю наверняка: мой выбор дебюта во 2-й партии был хуже некуда. Я избрал испанскую партию, называемую и дебютом Руи Лопеса, по имени жившего в XVI веке испанского священника, который описал его в одной из первых шахматных книг, изданных в Европе. Этот дебют окрещен «испанской пыткой», и вскоре мне стало ясно почему. Я не хотел играть в антикомпьютерные шахматы, но в то же время стремился избежать своей обычной острой сицилианской защиты, чтобы не натолкнуться на сюрприз из дебютной книги Deep Blue. Испанская партия — в целом спокойный, маневренный дебют, одна из самых стратегически сложных и глубоко проанализированных в шахматной литературе систем. Большинство ее основных линий исследованы дальше 30-го хода, где фактически и заканчиваются многие партии.
«Испанка» не входила в мой репертуар при игре черными, однако в этом дебюте я неоднократно пытался переиграть противников белыми фигурами. Испанская партия была одним из центральных сражений в моих матчах на первенство мира с Карповым, Шортом и Анандом. Конечно, мне бы не хотелось давать Deep Blue возможность спокойно дойти до миттельшпиля по дебютной книге, но мы решили, что стоит попробовать. Судя по 1-й партии, способности Deep Blue к позиционной игре остались на прежнем уровне. Я надеялся, что сумею удержать позицию закрытой, чтобы оставить машину без четкого плана и попытаться надавить на нее, когда представится благоприятный момент. Если же все возможности будут блокированы, ничья черными и сохраненное лидерство в матче станут совсем неплохим результатом.
Как правило, в игре с людьми и компьютерами можно без труда определить, когда они играют «по книге», поскольку в этом случае они отвечают почти мгновенно, практически не думая. Если вы помните ход и знаете, что это именно то, что вы наметили, зачем зря тратить время?
На данный риторический вопрос есть несколько нериторических ответов. Иногда вы просто хотите сориентироваться и дважды все проверить, чтобы убедиться, что вас не ожидает какая-либо ловушка или хитрые перестановки. Игру в шахматы сравнивают с попыткой нарисовать шедевр, когда кто-то дергает вас за рукав, причем и второй игрок чувствует то же самое. Вы всегда должны помнить, что в каждый момент партии позиция на доске — результат совместного творчества. Следовательно, если вы удовлетворены тем, как разворачивается дебютная стадия, обычно ваш противник тоже доволен этим, так что вам надо быть осторожнее.
Другая причина, по которой вы можете взять паузу, прежде чем сделать ход в дебютной стадии, — психологическая. Большинство игроков предпочитают разыгрывать дебют в быстром темпе, ибо это может оказать сильное психологическое давление на противника, особенно если тот надолго задумывается над каждым ходом. Вам становится не по себе, когда вы тратите много времени и сил на анализ сложной позиции, потом наконец делаете ход, а противник отвечает почти мгновенно, и вы снова вынуждены ломать голову. Это также может пугать, поскольку показывает, что противник знает позицию лучше вас, а в наши дни это также означает, что он подготовил эту дебютную линию с помощью очень сильного шахматного движка. По сути, вы играете не только против человека, но и против его компьютера. Парадоксальная, но неизбежная тенденция: машины используют дебютные книги, основанные на человеческих знаниях, а гроссмейстеры все больше пользуются машинами для помощи в дебютной подготовке.
Наконец, иногда вы не хотите, чтобы ваш противник знал, что вы по-прежнему играете по дебютной книге. Возможно, вы подготовили в этой дебютной линии интересную новинку и не хотите вызвать подозрения, нетерпеливо мчась вперед. Делая небольшие паузы, вы можете убедить соперника в том, что разыгрываемый вариант изучен вами не слишком глубоко, и тем самым вселить в оппонента ложную уверенность. Мне для подобной психологической игры обычно не хватало терпения. Я всегда был подготовлен очень хорошо и хотел, чтобы мои соперники это знали. Как сказал Фишер в одном интервью, хотя и немного слукавив: «Я не верю в психологию. Я верю в хорошие ходы!»
Машины тоже не верят в психологию, хотя я считаю, что может быть полезно оставлять их тренеров в неведении относительно вашего уровня подготовки. Но для меня стало настоящим шоком, когда 12 лет спустя я узнал, что Deep Blue умел оказывать психологическое воздействие, хотя сам ему не поддавался.
Как следует из интервью Мигеля Ильескаса и других членов команды IBM, все, кто работал с Deep Blue, подписали договор о неразглашении, запрещавший им без специального разрешения рассказывать о том, что происходило за кулисами. Трудно представить себе более убедительное подтверждение заявления Си Джей Тана об окончании научного эксперимента{74}, чем запрет на свободное обсуждение того, каким образом Deep Blue достиг столь значительного прогресса. Также трудно понять смысл такого запрета, особенно для нетехнических консультантов. Не было никакой компании-конкурента, которая бы тоже работала бы над созданием шахматной машины и могла бы нанять тренировавших Deep Blue гроссмейстеров, чтобы выведать их секреты. Почему же IBM не хотела, чтобы причастные к этому проекту люди разговаривали с прессой? На протяжении десяти лет?!
Испанская тема 2-й партии дает нам хороший повод поднять этот вопрос, поскольку в 2009 году испанский гроссмейстер Ильескас нарушил обет молчания и дал большое интервью журналу New In Chess{75}, в котором подробно рассказал о своей работе с Deep Blue и о других событиях матча-реванша. Мне хватило нескольких абзацев, чтобы понять, почему компания IBM заставила всех хранить тайну.
Ильескас — жизнерадостный и общительный человек, а также сильный гроссмейстер и тренер. В Испании он возглавляет шахматную академию и издает шахматный журнал. Случайно или нет, он был секундантом Владимира Крамника на нашем матче за мировую корону (2000), когда я потерял свой титул. Таким образом, Ильескас причастен к двум единственным за всю жизнь проигранным мною матчам, но я не питаю к нему неприязни. Если только совсем чуть-чуть.
Позже я вернусь к другим, еще более интригующим частям его интервью, но здесь хочу привести его слова о дебютной игре Deep Blue во 2-й партии: «Мы заложили в Deep Blue много знаний о шахматных дебютах, но также дали ему значительную свободу выбора из базы данных и статистики. Во 2-й партии, в "испанке", машина начала обдумывать ход a2–а4. Этот ход хорошо описан в дебютной теории, и Каспаров наверняка был удивлен тем, что машина раздумывает над ним. Машина думала целых десять минут, после чего сыграла 19.а4. В чем дело? Тогда Каспаров, вероятно, начал делать слишком много выводов. Это был совершенно новый подход для машины, и Гарри не понимал, играет ли компьютер по теории или думает сам».
Интересная информация, хотя я узнал об этом новом подходе вскоре после матча. Безусловно, имеет смысл дать такой сильной машине больше свободы в дебютном выборе, если она действительно сильнее многих из тех гроссмейстеров, чьим партиям ей приходилось бы следовать. Но то, что Ильескас сказал дальше, стало для меня шоком. «Конечно, мы использовали против Гарри и несколько хитрых приемов. Одни ходы машина делала сразу же, а другие — с задержкой. В некоторых позициях мы могли предположить, что Гарри сделает лучший ход, и, если он его делал, машина отвечала мгновенно. Это оказывало на него психологическое воздействие, поскольку компьютер становился непредсказуемым, что и было нашей главной целью».
Поразительно! Они запрограммировали задержки специально для того, чтобы обмануть меня — и только меня, поскольку Deep Blue за свою короткую жизнь не сыграл больше ни с одним другим соперником. Это была улица с односторонним движением, поскольку Deep Blue был неуязвим для подобных трюков с моей стороны. Его создатели фактически воплотили в жизнь совет Руи Лопеса — «ставь доску так, чтобы солнце светило в глаза твоего противника». Как говорится, в шахматах и на войне все средства хороши, но это откровение стало еще одним весомым свидетельством того, что для IBM победа была не просто целью, а одной-единственной целью.
Наша 2-я партия матча-реванша с Deep Blue — одна из наиболее тщательно изученных партий в истории шахмат, поэтому я избавлю вас от ее детального описания и перейду непосредственно к тому, почему она так знаменита. После двадцати ходов маневрирования, типичного для испанской партии, оба соперника были вполне довольны своими позициями. Точнее, мне моя позиция не нравилась, но она относилась к тому закрытому стратегическому типу, к которому я и стремился. Мои фигуры сосредоточились позади замкнутой пешечной цепи, что является типичным недостатком «испанки» при игре черными. Белые имели больше пространства, больше свободы для перемещения фигур и больше возможностей для прощупывания моих слабых мест. Но я был уверен, что у Deep Blue нет ни терпения, ни выучки для проведения такой осторожной разведки.
Я первым совершил промах, хотя опять же отдавал себе отчет в том, что ошибаюсь. Следуя установке держать позицию как можно более закрытой, я ходом c5–c4 заблокировал пешечную структуру на ферзевом фланге, лишив себя возможности активно противодействовать планам белых. В поединке с гроссмейстером это стало бы самоубийством, но 1-я партия показала, что оценочная функция Deep Blue не настолько улучшилась, чтобы компьютер смог воспользоваться своим преимуществом в подобной ситуации. Однако постепенно выяснилось, что Deep Blue во 2-й партии значительно отличается от Deep Blue в 1-й партии. Он со знанием дела готовил прорыв, маневрируя за пешечной цепью, и не сделал ни одного бесцельного хода (в отличие от 1-й партии). А я не придумал ничего лучшего, кроме как просто переставлять свои фигуры. Эта была настоящая испанская пытка!
Затем Deep Blue удивил комментаторов ходом 26.f4, продвинув пешку «f» на два поля вперед и тем самым вскрыв линии на королевском фланге. Это был поразительно человеческий ход, сделанный в соответствии с принципом, предписывающим открывать второй фронт атаки, когда у вас есть преимущество по всей доске. Конечно, Deep Blue не мог следовать таким общим принципам — он мог оценивать лишь более мелкие параметры. Например, параметр, который легко запрограммировать и который компьютеры понимают довольно хорошо: мобильность фигур. Думаю, что комментаторы удивились: открытие второго фронта в такой позиции казалось стратегической идеей, которой от машины никто не ожидал. Однако люди намного более склонны зацикливаться на выбранном плане, чем компьютеры. Deep Blue рассматривал все позиции свежим взглядом, любые предыдущие решения не являлись для него догмой. Это одна из причин, почему машины так часто поражают нас своими ходами. Даже гроссмейстеры часто становятся жертвами шаблонного мышления: «Сыграв А, я должен сыграть Б». Компьютер не помнит о том, что он только что сыграл А; все, что его волнует, — ход, сильнейший на данный момент. Иногда это может быть слабостью, особенно в начальной стадии партии, и именно поэтому компьютеры нуждаются в дебютной книге. Но в целом объективность, проистекающая из способности забывать, делает машины превосходными аналитическими инструментами — и очень опасными противниками.
Есть старый шахматный анекдот, придуманный задолго до описываемых здесь событий: человек идет по парку и видит, как на лавочке мужчина играет в шахматы с собакой. «Это потрясающе! — восклицает прохожий. — Какая у вас умная собака!» «Какая же она умная? — отвечает шахматист. — Я выигрываю у нее третий раз подряд!»
Я вспомнил этот анекдот, когда мы с коллегами впервые взялись за глубокий анализ матча-реванша с Deep Blue для этой книги. Благодаря пришедшей со временем объективности и использованию современных шахматных движков, гораздо более сильных, чем Deep Blue, мы сделали множество интересных открытий. Так, обнаружили, что комментарии к 26.f4 и ряду других подобных ходов построены на ошибочном предположении, повторяемом почти в каждой статье и книге об этом матче, — допущении, повлиявшем и на мое мышление. Мы все ошибочно полагали, что неожиданные, удивившие нас ходы компьютера объективно сильны. Мы были настолько впечатлены тем, что Deep Blue сделал тот или иной ход, который компьютеры никогда бы не сделали раньше, что это влияло на нашу оценку реальной силы этого хода.
Например, рывок 26.f4 во 2-й партии отмечен во многих статьях и книгах восклицательным знаком как «очень хороший ход», однако объективный анализ показал, что в данной позиции это далеко не лучший ход. Если бы компьютер отвел назад слона и строил свои тяжелые фигуры по вертикали «а», он получил бы подавляющую позицию, не оставлявшую мне никаких контршансов. Сегодня сильные шахматные движки выбирают этот план действий за считаные секунды. Но, как и с играющей в шахматы собакой, мы были так впечатлены самой способностью Deep Blue грамотно играть в шахматы, что зачастую не замечали посредственного качества его игры. Должен признать, что во время матча я и сам находился под влиянием этого заблуждения. Я был так обеспокоен способностями компьютера, что зачастую не осознавал, что мои проблемы вытекали скорее из моей плохой игры, нежели из хорошей игры машины.
По-прежнему пребывая под воздействием своих антикомпьютерных иллюзий, я продолжал вести пассивную игру. Deep Blue захватывал пространство на доске, а я в муках оборонялся. На 32-м ходу я упустил последний шанс получить контригру, все еще надеясь на то, что компьютер не сумеет найти путь для решающего прорыва. Deep Blue терпеливо, совсем как некогда Карпов, наращивал давление. На 35-м ходу он усугубил мои мучения, удивив меня длительным раздумьем. Обычно он делал ходы очень быстро или за три-четыре минуты. Но тут ожидание затянулось на пять, десять, 14 минут, после чего он наконец сделал ход. Конечно, я ломал голову над тем, что происходит, и даже подумал о сбое. По-видимому, компьютер вошел в «режим паники» — так разработчики называют режим поиска, запускающийся в случае резкого снижения оценки основного варианта.
На 36-м ходу у машины появилась возможность ворваться в мой лагерь ферзем, что вело к выигрышу двух пешек. Я видел, что это дает мне шанс нанести отчаянный контрудар в центре. Станет ли компьютер в очередной раз жертвой собственной жадности?
К моему ужасу, Deep Blue снова отказался играть как машина. Вместо того чтобы взять пешки, он их разменял и сделал ход слоном — 37.Ce4, который показался мне последним гвоздем, забитым в мой гроб. После почти четырех часов мучительной пассивной игры, которую я ненавидел, мое положение стало еще хуже. Совершенно уверенный в скором поражении, я с трудом сделал следующие несколько ходов, когда ферзь и ладья белых вторглись по вертикали «а». Моей единственной надеждой было создать своего рода блокаду, но я не видел никакого способа это сделать. Я дал последний шах ферзем, почти назло, и едва обратил внимание на то, что Deep Blue отвел своего короля из-под шаха в центр, а не в угол, что было бы куда естественнее.
На 45-м ходу он атаковал моего ферзя ладьей, и все было кончено: при отходе ферзя терялся слон. Я мог пожертвовать слона, чтобы дать несколько отчаянных шахов ферзем его королю, но это тоже выглядело безнадежным. Компьютеры превосходно видят длинные цепочки шахов, поскольку это самые вынужденные ходы. После такой сильной игры было немыслимо ожидать, что Deep Blue вдруг позволит гонять своего короля по доске вплоть до ничьей, от чего он отказывался в более простых позициях.
Я был настолько деморализован, что у меня оставалось только одно желание — сбежать подальше от доски. В моей голове носились лихорадочные мысли: как, черт возьми, компьютер, бесцельно переставлявший фигуры в 1-й партии, сумел всего день спустя во 2-й превратиться в мастера позиционной игры? То, что во время партии я думал о посторонних вещах, — типичная человеческая слабость, которую мы, люди, не можем преодолеть. Я испытывал буквально физическую боль, глядя на позицию, которую считал абсолютно проигранной. Я хотел сдаться мало-мальски достойно и сберечь силы для следующей партии, а не тянуть безнадежное сопротивление.
Я поздравил оператора Deep Blue с победой и бросился прочь, надеясь побыстрее выплеснуть свой гнев и тем самым избавиться от физического дискомфорта. Я был не в настроении встречаться со зрителями, комментаторами или кем-либо еще, поэтому мы с мамой немедленно покинули здание, оставив членов команды Deep Blue наслаждаться их моментом славы.
Я не был там и ничего этого не слышал, но стенограмма показывает, что в тот день в зале звучали восторженные отзывы об игре Deep Blue. Сейраван, который обычно критически относился к игре компьютеров, сказал: «Я бы гордился собой, если бы сыграл так, как Deep Blue». Эшли говорил о «великолепной игре» машины и, как и Валво, высоко оценил ее медленно удушающий «стиль анаконды», нетипичный для компьютеров. Когда кто-то из зрителей спросил у комментаторов, можно ли назвать эту партию лучшей из когда-либо сыгранных компьютером, с их ответом трудно было не согласиться: они сказали, что это лучшая партия из когда-либо сыгранных компьютером против Каспарова!
Как видно из комментариев, члены команды Deep Blue ликовали: наконец-то они были вознаграждены за 14 месяцев напряженного труда. «В этом году машина обладает более глубоким пониманием шахмат и некоторых тонкостей игры, что нашло отражение в этой партии», — заявил Сюй Фэнсюн. «Самым большим удовлетворением для нас стало то, что компьютеру удалось сыграть партию, которой гордился бы любой гроссмейстер», — вторил ему Бенджамин. Наконец, когда Дэвид Леви поинтересовался, как им удалось за один день превратить Deep Blue из машины, делающей «сомнительные ходы», в машину, «играющую почти как гений», своим остроумным ответом Си Джей Тан сорвал бурю аплодисментов: «Мы позволили ему выпить пару коктейлей!».
Что до меня, то я никогда не отличался пристрастием к спиртным напиткам, но в тот вечер с удовольствием выпил бы чего-нибудь покрепче горячего чая. Мне всегда было трудно заставить себя анализировать свои проигрыши, особенно когда мне требовалось психологически восстановиться и настроиться на борьбу в следующей партии. На турнире вам не приходится дважды играть с одним и тем же соперником теми же фигурами, поэтому немедленный разбор полетов не так важен. Но в матче вы встречаетесь с одним и тем же оппонентом много раз, поэтому необходимо почерпнуть как можно больше из каждой сыгранной партии, чтобы использовать это впоследствии. Это было особенно верно в матче с Deep Blue — моим постоянным соперником в оставшихся партиях.
Есть проигрыши, которые гораздо труднее принять, чем другие, а это поражение было одним из худших в моей жизни. Оно заставило меня сомневаться во всем: в причинах резкого повышения качества игры Deep Blue, в правильности своего решения играть в антикомпьютерные шахматы, пожертвовав собственной манерой игры. Я злился на себя за то, что поверил, будто перед матчем мне предоставят тексты тренировочных партий Deep Blue. Наш анализ концовки 2-й партии лишь усилил мои сомнения. Как компьютер, игравший в такой неуклюжей, расчетливой, типично машинной манере в 1-й партии, мог отказаться от выигрыша материала во 2-й, когда у него была такая возможность? Наши шахматные движки даже не рассматривали те удивительно терпеливые ходы, которые делал Deep Blue.
Раскритиковав других за попытки психоанализа, я не буду повторять их ошибку и постараюсь поделиться своими искренними чувствами, которые испытывал в тот момент. Я знаю о механизмах психологической защиты, которые помогают справиться с поражением, но я также знаю, что эти механизмы немного похожи на физику элементарных частиц: если наблюдать за ними очень внимательно, они начинают работать иначе. Мне нужно было снова поверить в себя, чтобы найти силы на борьбу в 3-й и всех последующих партиях. Я был растерян, испытывал мучительную душевную боль и срывал злость на всех, особенно на себе самом.
В тот вечер я не знал, что меня ожидает еще один неприятный сюрприз, который сделает восстановление после проигрыша не просто трудным, а почти невозможным. На следующий день мы с моей командой — Юрием, Фредериком, Михаилом и Оуэном — отправились пообедать в ресторан на Пятой авеню, и вдруг Юрий, выглядевший так, словно собирается сообщить о смерти близкого родственника, сказал мне: «В финальной позиции во вчерашней партии была ничья, — сказал он мне по-русски. — Вечный шах. Ферзь на е3. Ничья».
Я застыл посреди тротуара как вкопанный, обхватив голову руками. Я посмотрел на каждого из них: они знали эту шокирующую новость с утра и, вероятно, обсуждали, когда и как мне лучше ее сообщить. Они отводили взгляд, понимая, насколько я потрясен сообщением. На глазах у всего мира я проиграл одну из худших партий в жизни — и теперь вдруг узнаю, что впервые за всю карьеру сдался в ничейной позиции! Как такое могло случиться? Слишком уж часто задавал я себе этот вопрос в то время… Ничья?!
Модель Кюблер-Росс, более известная как модель пяти стадий горя, описывает последовательность эмоциональных состояний, которые переживают неизлечимо больные пациенты и их близкие люди после получения ужасной новости: отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Весь обед я провел в стадии неверия и отрицания, то и дело упираясь взглядом в стену и перебирая в голове различные варианты. Потом я начал засыпать свою бедную команду вопросами. Как Deep Blue мог просмотреть такую простую вещь? Он играл как бог, он пошел слоном на е4 — как же он мог проглядеть возможность вечного шаха?
Сегодня, преодолев за 20 лет все пять стадий, я могу сказать, что в первую очередь обращался сам к себе: «Господи, как я мог просмотреть такую простую вещь?!» Когда ты чемпион мира, номер один на планете, именно ты виноват в любом своем проигрыше. Это не совсем справедливо по отношению к моим соперникам, многие из которых считают победу надо мной вершиной своей карьеры, но после такого невероятного открытия я не мог заставить себя относиться справедливо к кому бы то ни было.
Это открытие было сделано благодаря интернету, соединившему людей по всему миру. Еще до того, как я объявил о сдаче 2-й партии, миллионы шахматистов, следивших за игрой, начали анализировать ее и делиться своими результатами. К утру эти домашние аналитики, вооруженные мощными шахматными движками, продемонстрировали, что Deep Blue не мог одержать победу в финальной позиции, если бы я делал лучшие ходы. Моя команда утром перепроверила эту невероятную новость, прежде чем сообщить ее мне. Вторжение ферзем в лагерь белых, от которого я отказался как от отчаянного и безнадежного хода, на самом деле явилось бы спасением. Белый король не смог бы убежать от шахов моего ферзя, что в конечном итоге привело бы к троекратному повторению позиции и ничьей. Несколько последних ходов Deep Blue в действительности были ошибочными — заметь я шанс избежать поражения, он упустил бы блистательную победу.
Я получил сокрушительный удар, словно проиграл эту партию дважды. Сдаться в ничейной позиции — немыслимо! При игре с человеком я никогда бы не отказался от дальнейшей борьбы в аналогичной позиции. Но я был слишком впечатлен игрой Deep Blue, слишком деморализован ходом всей партии, слишком зол на себя за то, что допустил все это, и чересчур уверен в том, что машина никогда не допустит столь элементарную ошибку. Все это просто-напросто затмило мой разум.
В партии против другого гроссмейстера я всегда исхожу из предположения, что мой противник видит примерно то же, что и я, и мыслит примерно так же. Но я не мог на это рассчитывать в партии против компьютера, способного перебирать 200 миллионов позиций в секунду и ведущего довольно сильную игру против чемпиона мира. Я исходил из того, что машина видит больше меня, поэтому в определенных позициях истолковывал все сомнения в ее пользу — например, если я обдумывал возможность грозной жертвы, ведущей к мату, я мог быть практически уверен в том, что в моих расчетах кроется изъян, поскольку сильная машина никогда не допустит такой комбинации. Таково одно из важных эвристических правил в игре человека против машины: если она позволяет вам провести выигрышную тактическую комбинацию, то, скорее всего, эта комбинация вовсе не является выигрышной. Это правило позволяет сохранить время и силы, но в данном случае оно привело к худшей ошибке в моей карьере.
Самое страшное, что может случиться с вами в матче, — допустить, чтобы поражение отняло у вас больше, чем одно очко в счете. Если вы позволите ему лишить вас психологического равновесия, вам будет трудно сосредоточиться на игре и проигрышей станет еще больше. Типичное противоядие после тяжелого поражения — попытаться добиться быстрой ничьей, чтобы стабилизировать раскачанную лодку. Но в этом коротком матче мне оставалось сыграть белыми всего две партии, и я не мог потратить одну из них на ничью. К тому же я знал, что команда Deep Blue вряд ли примет предложение ничьей в равной позиции. Их игрок не испытывал ни усталости, ни разочарования от того, что оплошал и просмотрел ничейный вариант в предыдущей партии.
Эта сенсационная новость была быстро подхвачена СМИ и стала главной темой дня в большинстве изданий. Я боялся, что мне будут задавать вопросы о преждевременной сдаче партии. Что я мог сказать? Поскольку все только об этом и говорили, мне было трудно выбросить случившееся из головы, что пагубно сказалось на моей сосредоточенности в оставшихся поединках. Мне предстояло сыграть еще четыре партии, но я испытывал отвращение к матчу. Я не знал, с кем я играю. С компьютером, делавшим слабые пешечные ходы в 1-й партии? Или со стратегическим гением, душившим во 2-й партии как анаконда? Или же просто с машиной, подверженной ошибкам и глюкам, способной проглядеть относительно простую ничью? Неизвестность заставляла меня строить самые дикие предположения. Было ясно, что IBM решила победить меня любой ценой. Не могло ли столь радикальное изменение характера игры Deep Blue быть результатом какого-либо вмешательства извне?
Не был доволен я и собой. Как я мог так ужасно играть в дебюте? Мне дали плохой совет или же я просто принимал плохие решения? Что я должен изменить? Как, как, как я мог так рано сдаться?!
Все это кипело в моей голове, когда я сел за доску, чтобы начать 3-ю партию. Играя белыми, я сделал унылый ход 1.d3, переместив ферзевую пешку на одно поле вперед вместо обычных двух. Это были антикомпьютерные шахматы, доведенные до крайности, попытка вывести Deep Blue за рамки его дебютной книги и переиграть его в маневренной борьбе. Такая стратегия оправдала себя в 1-й партии, хотя я был почти уверен, что сейчас играю с совершенно новым Deep Blue.
Глядя сегодня на эту партию, я слегка удивлен, что играл довольно прилично, несмотря на все то, что мне пришлось пережить за последние 24 часа. Я не получил сколь-нибудь значимого преимущества в дебютной стадии, по необъяснимым причинам отказавшись от типового наступления на ферзевом фланге. Анализируя 20 лет спустя 3, 4, 5 и 6-ю партии этого матча, не могу избавиться от ощущения, что их играл кто-то другой, а не я. Как правило, я отлично помню ход своих мыслей во время любой партии, даже сыгранной несколько десятилетий назад. Но с этим матчем все было иначе, словно я не был самим собой и смотрел на нашу игру извне.
Ходы, которые делал Deep Blue в начале 3-й партии, также не впечатляли, но я не вполне понимал, как действовать дальше. Пользуясь случаем, я пожертвовал пешку, чтобы оказать некоторое давление и запереть черного слона в углу. Но осознавал, что для получения перевеса этого недостаточно, если только Deep Blue не совершит ошибку. Другим моментом, показавшим, что моя игра далека от лучшей, стал предложенный мной на 24-м ходу размен ферзей, тогда как верным ходом было бы вторжение моей ладьи в лагерь черных. Как показывает анализ, это не привело бы к значительному улучшению моей позиции, но хотя бы позволило навязать игру в предпочитаемом мной стиле. Но я продолжал играть слишком осторожно.
Deep Blue проявил бдительность, не позволив своим фигурам лишиться мобильности, и тем самым разрушил мою последнюю надежду заманить его в пассивную оборонительную позицию, где у меня была бы возможность медленно его удушить. Мои фигуры выглядели более активными, но этого преимущества было явно недостаточно, чтобы превратить его в победу. В итоге Deep Blue вернул пешку и создал стерильную эндшпильную позицию, где не было и намека на выигрыш, и через несколько ходов мы согласились на ничью. Партия завершилась, но после нее меня ожидало еще более тяжелое сражение.
Я знал, что на послематчевой пресс-конференции меня будут спрашивать о сильной игре Deep Blue во 2-й партии и о моей преждевременной сдаче. Я также знал, что если хочу сыграть вторую половину матча на достойном уровне, то не должен оправдываться и защищаться. Я всегда считал, что лучшая защита — нападение, и это касается чего угодно — шахмат, политики или пресс-конференций.
Понятно, что скучная 3-я партия не могла затмить бурную 2-ю. Пассивная игра чемпиона мира в дебюте, блестящая позиционная игра машины, неожиданный поворот событий, шокирующий промах чемпиона и обнаруженная сразу после игры ничья — все это потрясло воображение шахматного мира. Как видно из материалов в СМИ, комментаторы обсуждали только это. Фредерик порадовал их историей о том, как помощники сообщили мне новость о потенциальной ничьей, драматизировав все в своем лучшем стиле. По его словам, они решили сказать мне об этом сами, чтобы этого не сделал первый встречный таксист.
Сейраван, единственный гроссмейстер мирового класса в команде комментаторов, понимал мое состояние и пытался донести до аудитории, что мне пришлось и еще предстоит пережить. «Он убедил себя, что это была проигранная позиция, поэтому решил сдаться… Мы — люди, а не машины. Мы можем впадать в отчаяние… Профессиональные шахматисты — очень гордые люди. Они, как художники, принимают свое искусство очень, очень близко к сердцу. Показать великолепную игру для них очень важно. Сдаться, когда дело идет к ничьей, немыслимо. Если бы я был на месте Гарри, я бы истерзал себя собственными мыслями. Не представляю, как он сумел оправиться после такого».
Из-за очевидного отсутствия понимания позиции маловероятно, чтобы Deep Blue сумел одержать победу во 2-й партии, если бы я продолжил игру и нашел лучшие ходы. Сюй Фэнсюн, по его словам, впоследствии проанализировал финальную позицию и в шоке обнаружил, что там ничья. Но эта история приняла еще один неожиданный поворот много лет спустя, когда был проведен еще более глубокий анализ. Сегодня сильные шахматные движки показывают, что белые все равно были близки к победе. Вы можете убедиться в этом сами — просто введите в свою шахматную программу финальную позицию. Даже если это бесплатная программа на мобильном телефоне, она, вероятно, оценит позицию как +1 в пользу белых, что равно стоимости одной пешки. Взгляните и на позицию перед последним ходом Deep Blue 45.Лa6. Сегодня машины мгновенно видят, что простой размен ферзей давал белым выигрышный эндшпиль. Удивительно, что последние два хода этой сильнейшей машины были серьезными ошибками. Но худшую ошибку совершил я, приняв решение сдать партию.
Перед 3-й партией я попросил предоставить мне распечатанные лог-файлы, касавшиеся тех ходов во 2-й партии, которые я не мог объяснить, в том числе последнего хода Deep Blue, который оказался ошибочным, так как дал мне шанс на ничью. Но Тан отклонил запрос под тем предлогом, что мы сможем использовать эти файлы для изучения стратегии Deep Blue, хотя я с трудом представляю, как можно понять стратегию на основе нескольких ошибочных ходов. Мы подали ходатайство о предоставлении распечаток апелляционному совету, надеясь получить копию для открытой экспертизы. После непростых переговоров Тан согласился передать материалы Кену Томпсону, который был членом апелляционного совета и выступал в роли нейтрального технического наблюдателя, как и в филадельфийском матче. Но и этого Тан не сделал, несмотря на неоднократные запросы, так что эпопея с распечатками продолжилась.
По пути на пресс-конференцию я решил сказать все, что думаю, каковы бы ни были последствия. Я заслужил право высказать свое мнение и открыто заявить о том, что меня не устраивает и смущает. Чтобы показать хорошую игру, мне нужно было преодолеть потрясение и растерянность, сменив их на очистительный гнев. За прошедшие годы многочисленные попытки объяснить события матча-реванша породили новую их интерпретацию. Теперь меня изображают человеком, который попросту не умеет достойно проигрывать и пытается объяснить свои поражения с помощью теории заговора. Что касается обвинения в неумении проигрывать, я уже признал свою вину. Но что до теории заговора, стенограммы пресс-конференций показывают, как все было в реальности. На самом деле я просто выражал свои сомнения и замешательство. Я не понимал, что происходит, и признавал это. Я не мог понять, как машина могла вести сильную стратегическую игру, а потом совершить такую элементарную оплошность, о чем я и сказал. Я попросил команду Deep Blue объяснить эти странности мне и всему миру, предоставить распечатки и снять все сомнения, но они не захотели этого сделать. Почему?
После того как я несколько раз высказал свое недоумение по этому поводу, Морис Эшли спросил, не намекаю ли я на возможность «человеческого вмешательства» во 2-й партии. «Это напоминает мне знаменитый гол Марадоны в матче против Англии в 1986 году, — сказал я. — Когда он сказал, что это была рука Бога!»
По аудитории прокатился смех, хотя я не учел того, что малознакомые с обычным футболом американцы вряд ли уловили подлинный смысл моей шутки. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона забил гол в матче с английской сборной в четвертьфинале чемпионата мира (Мексика, 1986). Однако ни зрители, ни арбитр не заметили, что Марадона послал мяч в ворота ударом левого кулака, что стало видно при замедленном телеповторе. Когда его спросили об этом после матча, выигранного аргентинской сборной со счетом 2:1, Марадона нашел остроумную отговорку, заявив, что мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога»{76}. Поскольку я не мог получить никаких доказательств иного, единственным объяснением необъяснимых для меня вещей была некая невидимая сила.
Мы с Бенджамином немного поспорили о том, что мог и чего не мог видеть Deep Blue в те спорные моменты, которые я хотел изучить повнимательнее с помощью распечаток. Чтобы умерить наши подозрения, Си Джей Тан утвердительно ответил на предложение Валво «после матча вместе пойти в лабораторию» и просмотреть лог-файлы по позициям в конце 2-й партии. «Разумеется, после окончания матча мы будем рады видеть Гарри в нашей лаборатории, чтобы продолжить наш совместный научный эксперимент», — сказал Тан.
Я уже начал было успокаиваться, но это предложение оливковой ветви лишь вызвало у меня новый всплеск адреналина. Не сам ли Тан заявил в интервью The New York Times, что научный эксперимент закончен? Если речь по-прежнему идет о науке, почему бы не предоставить распечатки, чтобы развеять все сомнения? Я ответил, что если мы хотим говорить «о чистоте эксперимента, то оба соперника должны находиться в равных условиях». В ответ Кэмпбелл также пообещал прессе, что завеса будет сдернута сразу же по окончании матча: «Он не знает, как мы сделали то, что сделали, и после матча мы расскажем ему об этом».
10. Святой грааль
Принимая во внимание тот факт, что сейчас мне далеко за 50 и нужно думать о своем артериальном давлении, позвольте мне ненадолго отвлечься от этой горькой истории, прежде чем я вернусь к рассказу о последних партиях матча-реванша и финальной пресс-конференции, по сравнению с которой описанная выше пресс-конференция после 3-й партии выглядела как детская вечеринка.
Матчи на первенство мира имеют долгую и некрасивую историю взаимных враждебных выпадов и обвинений в нечестной игре. Популярные книги о шахматах не обходятся без изложения подобных якобы курьезных случаев, которые кажутся забавными только на расстоянии. Требование Фишера в матче со Спасским (1972) убрать из зрительного зала все телекамеры привело к тому, что ему было засчитано поражение из-за неявки на 2-ю партию, а 3-я партия была перенесена с главной сцены в тесное закрытое помещение. Карпов и Корчной тоже прославились своими склоками во время матчей за мировую корону, особенно в Багио (1978). В команде Карпова был психолог, а поговаривали — и парапсихолог, доктор Зухарь, который во время партий пристально смотрел на Корчного. Последний требовал пересадить этого человека подальше от сцены, Карпов подавал встречные протесты. В ответ Корчной пригласил двух американских членов индийской секты, которые медитировали и гипнотизировали взглядом игроков и Зухаря. Имели место протесты и расследования по поводу кресел (кресло Корчного даже разобрали и просветили рентгеном), зеркальных очков Корчного и йогурта Карпова.
Конфликты на титульном матче между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым (2006) опустились до нового минимума — до уровня туалета. После заявлений представителей лагеря Топалова о том, что во время партий Крамник проводит подозрительно много времени в своей личной туалетной комнате, организаторы закрыли ее и предложили Крамнику пользоваться общественной уборной. В знак протеста Крамник не явился на 5-ю партию, и ему присудили техническое поражение. Журналисты быстро окрестили скандал «Туалетгейтом» (а Крамник в конце концов выиграл матч).
Мои эпические битвы с Карповым тоже проходили негладко. В матче-реванше 1986 года Карпов многократно демонстрировал сверхъестественную интуицию и ясновидение в отношении моей дебютной подготовки. На несколько моих новинок он почти мгновенно давал очень сильные ответы и, казалось, был прекрасно подготовлен даже к самым неожиданным дебютным линиям. Я был уверен, что это объяснимо только одной причиной: кто-то из моих помощников снабжает его информацией. После того как я проиграл три партии кряду — 17, 18 и 19-ю, один из тренеров покинул мой лагерь. Потом один из членов команды Карпова засвидетельствовал, что накануне 18-й партии Карпов провел бессонную ночь за анализом дебютной позиции, которая, как он предвидел, «завтра будет стоять», хотя две мои предыдущие партии, выигранные белыми, я начал совершенно иначе! Излишне говорить, что «предчувствие» Карпова не обмануло.
Вы можете выбрать одно из трех объяснений: либо в шахматных верхах процветает предательство, либо некоторые гроссмейстеры просто страдают паранойей, либо же уловки и интриги за пределами шахматной доски — стандартная составляющая тотальной психологической войны. Или вы можете выбрать «все вышеперечисленное» и присоединиться к консенсусу.
Возвращаясь к разговору о матче-реванше, хочу обратить особое внимание на слова Эшли о «человеческом вмешательстве», произнесенные им на пресс-конференции. В течение 20 лет мне приходилось сталкиваться с многочисленными истолкованиями того, что я подразумевал под этой фразой, хотя произнес ее не я и мои подозрения касались более тонких вещей. В ходе матча определенное вмешательство людей в работу Deep Blue разрешалось. В частности, это касалось исправления ошибок в программе, перезапуска системы после сбоев, а также внесения между партиями изменений в дебютную книгу и оценочную функцию. В последующих матчах между людьми и машинами действия такого рода будут ограничены как создающие несправедливое преимущество для компьютера.
Во время матча с Deep Blue произошло как минимум два сбоя, потребовавших ручной перезагрузки. Как сообщает команда Deep Blue, это случилось в 3-й и 4-й партиях. Хотя, с их точки зрения, эти инциденты не имели никакого значения, поскольку не повлияли на следующий ход Deep Blue, во время напряженного эндшпиля в 4-й партии мне пришлось отвлечься от игры и спросить у Сюй Фэнсюна, что происходит. И, как впоследствии сказали мне шахматные программисты, перезагрузка системы имеет серьезные последствия с точки зрения воспроизводимости. Поскольку перезагрузка приводит к потере таблиц памяти, используемых машиной для сохранения позиций, нет никакого способа добиться того, чтобы машина точно воспроизвела предыдущие ходы.
Если отбросить эти разрешенные действия, многие люди истолковывают идею человеческого вмешательства таким образом, что где-то внутри Deep Blue прятался Карпов или другой сильный гроссмейстер — как в шахматном автомате «Турок» Вольфганга фон Кемпелена. Но в нынешние времена благодаря резервным системам и удаленному доступу нет необходимости прятать шахматных гномов в большом черном ящике. Это любопытная мысль, но я имел в виду совсем другое. Просто перезагрузить машину или инициировать какой-либо сбой, дабы вынудить Deep Blue потратить больше времени на обдумывание сложной позиции, могло быть вполне достаточно, чтобы существенно повлиять на результат. Помните тот случай на чемпионате в Гонконге в 1995 году, когда прототип Deep Blue после перезагрузки во время решающей партии с программой Fritz сделал более слабый ход? Не повезло, но после перезапуска он вполне мог сделать и более сильный ход, особенно если был запрограммирован использовать дополнительное время после сбоя.
Выступая 15 сентября 2016 года в Оксфорде на конференции по социальной робототехнике и искусственному интеллекту, я воспользовался случаем познакомиться с Ноэлем Шарки из Университета Шеффилда. Шарки — один из ведущих в мире специалистов в области ИИ и машинного обучения, участвующий в различных проектах, связанных с исследованием этических принципов и социальных последствий роботизации. Но в Великобритании Ноэль больше известен как эксперт и главный судья в популярном телешоу «Битвы роботов». Мы встретились во время короткого перерыва на ланч, после которого должно было состояться его выступление. Я собирался побеседовать с ним о машинном обучении и организованной им дискуссии об этических аспектах роботизации в Организации Объединенных Наций. Но он жаждал поговорить со мной о Deep Blue!
«Эта тема не дает мне покоя много лет, — сказал он мне. — Я был так воодушевлен перспективой того, что искусственный интеллект победит чемпиона мира! Но я хотел, чтобы это было честное состязание. Увы, оно таковым не оказалось. Системные сбои? Подключенные системы? Как все это можно контролировать? Они могли менять между ходами программное обеспечение и даже оборудование. Я не могу утверждать, что IBM смошенничала, но я и не могу сказать, что она этого не делала. Определенно, у них была такая возможность. Если бы я был арбитром, я бы вырвал из их машины все провода, построил вокруг нее клетку Фарадея и сказал: "Окей, теперь играйте". В противном случае я бы немедленно присудил этой чертовой штуке техническое поражение».
Представив себе картину, как Ноэль Шарки вырывает сетевые кабели из Deep Blue, я подумал, что охотно включил бы его в свою команду — против кого бы я ни играл.
Наконец, очень популярный в то время ключевой аргумент, будто IBM никогда бы не совершила неправомерных действий ради победы Deep Blue, сегодня звучит почти нелепо. В 1997 году оставалось еще четыре года до того, как корпоративный мир сотряс скандал вокруг американского энергетического гиганта Enron, оказавшегося империей зла и обмана. Это стало своеобразным «Уотергейтом» для корпоративного мира и предвестником череды разоблачений, связанных с финансовым кризисом 2007–2008 годов. Разумеется, я не ставлю шахматный матч в один ряд с финансовым крахом. Но хочу сказать, что после истории с Enron люди перестали говорить мне, что «крупные американские корпорации наподобие IBM никогда не сделают ничего неэтичного». Многие призадумались, особенно когда узнали, как выросла цена акций IBM после матча.
Благодаря откровенности Мигеля Ильескаса мы знаем, что IBM была готова расширить границы этичного поведения, чтобы любой ценой повысить шансы Deep Blue на победу. В упомянутом интервью журналу New In Chess (2009) Ильескас рассказал любопытные вещи: «Каждое утро мы собирались всей командой — инженеры, специалисты по связям с общественностью, все. Никогда в жизни я не видел такого профессионального подхода. Принимались во внимание все детали. Раскрою вам один секрет. Правда, это больше похоже на анекдот, потому что не имело никакого значения. Однажды я увидел, как Каспаров и Дохоян что-то обсуждают после партии. Я хотел узнать, о чем они говорят, и спросил: можем ли мы сменить охранника на такого, который знает русский язык? Назавтра они поставили нового охранника, и теперь я знал, о чем они говорят после партий».
Возможно, с практической точки зрения это и впрямь «не имело никакого значения», но мы видим, как далеко была готова зайти IBM, чтобы получить любое состязательное преимущество. Если бы во время матча стало известно, что IBM наняла русскоязычных сотрудников безопасности для слежки за мной и моим секундантом в комнате отдыха, вряд ли разразился бы скандал, но могу сказать одно: это было некрасиво.
Сказав все это, я тоже хочу сделать признание. В самом главном, что и стало основной причиной потери мной самообладания, я был неправ и должен принести команде Deep Blue свои извинения. Ходы компьютера во 2-й партии, которые привели к проигрышной для меня позиции и подорвали мой боевой дух, были уникальными для машины только в те годы. Уже через пять лет коммерческие программы, работающие на стандартных серверах Intel, смогли воспроизвести все лучшие ходы Deep Blue и даже улучшить некоторые из его «человеческих» ходов, которые так впечатлили меня и всех остальных во время матча. Сегодня шахматная программа на моем ноутбуке меньше чем за десять секунд отдает небольшое предпочтение «шокирующе человеческому» ходу 37.Се4 во 2-й партии, хотя оценивает его почти так же, как вылазку ферзем — маневр, которого я ожидал, считая его более правильным, чем ход слоном. Если бы я защищался лучше и не сдался бы в порыве эмоций, игру машины во 2-й партии можно было бы рассматривать как очень хорошую, но не более того, независимо от конечного результата.
Это в очередной раз показывает, почему я придаю столь большое значение тому факту, что перед матчем я не видел ни одной партии противника. Если бы я знал, что Deep Blue способен на «некомпьютерный» позиционный подход, как в случае с 37.Сe4 во 2-й партии или удивительным рывком пешки h7–h5 в 5-й партии, я бы реагировал и играл совсем по-другому. Полная таинственность вокруг Deep Blue была самым сильным ходом во всем матче, однако возможность пойти таким образом имелась у IBM, но не у меня.
В свою очередь, теперь, когда я понимаю, что при всей своей силе Deep Blue по-прежнему мог допускать нелепые ошибки и неточности, становится объяснимым, почему он просмотрел вечный шах в конце 2-й партии. Учитывая его колоссальную способность к расчетам, данный промах кажется странным, но не невероятным. Если бы я знал обо всем этом во время матча, история могла бы сложиться по-другому. Моя преждевременная сдача 2-й партии и порожденная этим буря эмоций и посторонних мыслей практически лишили меня возможности играть нормально.
Безусловно, я сожалею об этом, но считаю мое состояние шока и растерянности на тот момент совершенно оправданным. В 1997 году игра Deep Blue была для меня совершенно непостижима, и IBM сделала все, чтобы сохранить ее таковой. Возможно, в стане соперника и не происходило ничего такого, что стоило бы от меня скрывать, но они решили разжечь мои подозрения и действовать так, словно им есть что утаивать. Они специально устроили целую эпопею с распечатками записи 2-й партии, поскольку, если бы они показали их Кену Томпсону и тот не нашел в них ничего плохого, это могло бы частично развеять мои опасения и вывести меня из состояния стресса.
Перед 4-й партией мой агент Оуэн Уильямс сказал организаторам: если Томпсон не получит запрошенные распечатки по 2-й партии, то он не явится на игру как член апелляционного совета. IBM восприняла это как предупреждение о том, что я тоже могу не прийти, и предупредила СМИ, что партия, возможно, не состоится. За 30 минут до начала игры мы получили от Ньюборна сообщение о передаче распечаток в апелляционный совет, но, когда мы прибыли на 35-й этаж, Томпсон сказал, что ему передали информацию только по варианту с 37.Фb6. В отсутствие лог-файлов, касающихся других ходов и позволяющих воссоздать контекст, эти сведения были для нас бесполезными.
Скрытность и враждебное отношение команды соперника проявлялись и множеством других способов. Например, вот что написала газета The New York Times после 5-й партии: «Журналист Джефф Киселофф, нанятый компанией IBM для освещения на веб-сайте положения дел в лагере Каспарова, был уволен после того, как включил в свою статью негативные комментарии болельщиков чемпиона мира по поводу игры Deep Blue{77}. По приглашению IBM гроссмейстеры Джон Федорович и Ник де Фирмиан участвовали в работе над дебютной книгой компьютера, хотя никто из команды Deep Blue не сказал об этом публично, даже когда на пресс-конференции их прямо спросили о привлечении дополнительных помощников. Между тем г-н де Фирмиан подтвердил, что они с Федоровичем принимали участие в проекте, однако отказался от любых обсуждений, сославшись на то, что IBM настояла на подписании договора о неразглашении».
Все это вынудило мою маму заметить: «Это напоминает мне твой первый матч с Карповым (1984/85). Тогда тебе пришлось сражаться не только с Карповым, но и с советской бюрократической машиной. А теперь, спустя 13 лет, тебе приходится биться с суперкомпьютером и капиталистической системой, которая использует свои методы психологической войны». (Если мамины слова о «капиталистической системе» кажутся вам марксистским анахронизмом, вспомните, как взлетела цена айбиэмовских акций после первого матча!)
Между тем матч продолжался, и в 4-й партии мне предстояло играть черными. Понятно, что я не хотел повторения ужасной 2-й партии, в которой машина и человек фактически поменялись ролями: компьютер вел сильную стратегическую игру и достиг подавляющей позиции, а я переставлял фигуры в пассивной обороне. Затем компьютер пошел на прорыв с целью реализовать свое преимущество, но допустил тактический промах, которым я мог воспользоваться, чтобы неожиданно форсировать ничью (как все тогда думали). Да, во 2-й партии все перевернулось с ног на голову. В 4-й же и 5-й партиях оба игрока должны были выступать в своих привычных амплуа.
В 4-й партии я избрал гибкую защиту и после нескольких посредственных ходов Deep Blue получил крепкую позицию. Неспособность компьютера логически связывать отдельные ходы, как это делают люди, по-прежнему давала о себе знать. Он продвинул пешки на королевском фланге и, кажется, забыл о них, найдя иные продолжения, что выглядело очень странно. Безусловно, у подобной объективности есть свои плюсы, но недаром мы говорим, что даже плохой план лучше отсутствия всякого плана, по крайней мере в человеческих шахматах. Понимая, что у вас есть схема, но следовать ей не удается, вы можете прийти к полезному выводу. Если же вы действуете бесцельно, от шага к шагу, от решения к решению, будь то в политике, бизнесе или шахматах, вы ничему не научитесь и станете разве что умелым импровизатором.
Компьютер стремился развить давление, но при этом он создал слабости в собственной позиции. На 20-м ходу я пожертвовал пешку, чтобы активизировать фигуры и нарушить баланс сил в свою пользу. Компьютер снова сделал пару странных ходов, поспешно названных комментаторами «неуклюжими» и «бессмысленными». Гроссмейстер Роберт Берн высказал удивление: «Как ему удается так сильно играть в один день и так глупо — спустя пару дней?» Между тем я уже понимал, что, какими бы глупыми и неуклюжими ни выглядели ходы Deep Blue, они на самом деле далеко не бессмысленны. Пусть машина не применяет целенаправленную стратегию, как это обычно делают люди, но выбранный ею ход получает наивысшую оценку потому, что оценочная функция нашла что-то весьма привлекательное в создаваемых этим ходом позициях. Другими словами, компьютер, как и любой гроссмейстер, имеет свой стиль игры, хотя и весьма своеобразный. Ход, который сделал экс-чемпион мира Тигран Петросян, прославившийся своим оборонительным стилем, может не иметь смысла с точки зрения такого агрессивного игрока, как я. В моей партии этот ход оказался бы слабым, но в партии Петросяна — весьма эффективным, поскольку Железный Тигран хорошо его понимал и знал, что за ним последует. Конечно, Deep Blue мог делать действительно плохие или бессмысленные ходы, но он был достаточно силен, чтобы использовать эту присущую компьютерам непоследовательность себе во благо.
Четвертая партия показала это как нельзя лучше и стала для меня еще одним тяжелым разочарованием. Я упустил одну хорошую возможность для атаки{78}, но сохранял явное преимущество вплоть до эндшпиля, когда компьютер, совершив серию непредвиденных мною маневров, добился ничьей. И сегодня, анализируя позицию после 36-го хода, я не могу поверить, что не сумел ее выиграть, — более того, эта позиция, вероятно, даже не является объективно выигранной. В окончании с двумя ладьями и конем у каждой стороны все складывалось в мою пользу: черные фигуры, включая короля, были более активны, пешки противника — изолированы и уязвимы. По моим прикидкам, играя с очень сильным гроссмейстером, я одержал бы победу в четырех из пяти партий.
Создавалось впечатление, будто Deep Blue специально манил меня близкой победой, в то время как сам реализовывал план ничьей. Материал на доске постепенно редел, и из-за усталости расчеты давались мне все тяжелее. Победа, которая, как я был уверен, ждала за углом, так за углом и оставалась. Комментаторы и, позже, аналитики удивлялись не меньше меня и пытались найти в моей игре ошибки, позволившие Deep Blue соскочить с крючка в эндшпиле. Но, хотя я играл небезупречно, по всей видимости, выигрыша здесь попросту не было. Любой сильный игрок может объяснить, почему позиция черных однозначно лучше, но даже гроссмейстеры с мощными шахматными движками не в состоянии указать путь к победе. Так закончился еще один изнуряющий и деморализующий поединок с машиной.
После партии я спросил Фредерика, не думает ли он, что Deep Blue мог использовать секретное оружие, чтобы добиться такой чудесной ничьей. Ходили слухи, что компьютер имеет доступ к эндшпильным базам, и если так оно и было, то в этом следовало винить Томпсона. В 1977 году Кен представил на чемпионате мира по шахматам среди компьютерных программ свое новое творение — базу данных окончаний шахматных партий, которая позволяла в совершенстве разыграть эндшпиль с королем и ферзем против короля и ладьи (KQKR). Это был не шахматный движок, поскольку анализа и оценки не требовалось. По сути, Томпсон создал базу данных, которая генерировала позиции в обратной последовательности — то, что мы называем ретроградным анализом. Она начинала с мата и, продвигаясь к началу, находила все возможные позиции с указанным материалом. Затем в каждой из этих позиций она определяла оптимальный ход. Например, при игре на стороне ферзь+король эндшпильная база KQKR всегда делала ходы, ведущие к самому быстрому мату, а при игре на стороне ладья+король всегда выбирала ходы, максимально отдаляющие мат. Она играла не просто как бог. Она была богом. Или, точнее, шахматной богиней Каиссой!
Это ознаменовало прорыв в компьютерных шахматах, где эндшпиль с его тонкостями традиционно являлся слабым местом машин. Человек может взглянуть на пешечный эндшпиль и мгновенно увидеть, что если у него на одном участке доски есть две пешки против одной, то он может провести одну из своих пешек до края доски и превратить ее в ферзя. На это может потребоваться 15 или даже 20 ходов, но человеку не нужно просчитывать каждый ход, чтобы понять, что может произойти. А вот компьютеру, чтобы схватить суть позиции, нужно просчитать все ходы вплоть до превращения пешки в ферзя, но это зачастую требует анализа, слишком глубокого даже для самых сильных шахматных программ.
С появлением эндшпильных баз ситуация начала меняться. Вместо того чтобы проводить расчеты на протяжении всей партии, теперь машине нужно было только достичь позиции, включенной в эндшпильную базу, чтобы точно знать, к чему она ведет — выигрышу, проигрышу или ничьей. Можно сказать, что машины вдруг стали ясновидящими. Конечно, не каждая партия достигает эндшпиля, поэтому полезность эндшпильных баз была ограничена, но по мере того как они становились все обширнее и включали все больше фигур и пешек, они превратились в новое мощное оружие в компьютерном арсенале.
Эндшпильные базы Томпсона также стали первым новшеством в компьютерных шахматах, оказавшим влияние и на человеческие шахматы. Создав свою первую базу KQKR, Кен бросил вызов гроссмейстерам — он предложил им победить его машину, играя ферзем. Имейте в виду, что для сильного игрока считается несложным выиграть эндшпиль с ферзем против ладьи; общий алгоритм описан в каждом эндшпильном справочнике. Невероятно, но машина показала, как на самом деле непроста такая задача: она делала ходы, необъяснимые даже для гроссмейстеров.
Шестикратный чемпион США Уолтер Браун проиграл пари Томпсону, не сумев переиграть его эндшпильную машину менее чем за 50 ходов — по правилам именно столько ходов имеют шахматисты, пытающиеся выиграть в подобных позициях, после чего обороняющаяся сторона может потребовать ничьей. Браун, азартный по натуре человек, готовился в течение нескольких недель и со второй попытки одержал победу точно на 50-м ходу, вернув себе свои деньги. Между тем согласно эндшпильной базе при идеальной игре эта позиция выигрывалась всего в 31 ход. Впервые компьютеры продемонстрировали, что шахматные способности людей далеки от совершенства.
Чтобы добавить в базу любую новую фигуру, необходимы огромные объемы памяти, что поначалу делало эндшпильные базы неподходящими для большинства шахматных программ. Одна из наиболее популярных баз требует 30 Мбайт для четырех фигур, 7,1 Гбайт для пяти фигур и 1,2 Тбайт для шести фигур. Они получили широкое распространение, когда появились новые методы генерации и сжатия данных и более емкие жесткие диски.
Как при просчете шахматной партии с самого начала дерево поиска разрастается слишком быстро, так и в эндшпильных базах деревья вариантов быстро становятся слишком разветвленными и сложными, чтобы можно было просчитать партию с конца. Теоретически можно сгенерировать эндшпильную базу с 32 фигурами, но трудно даже представить, какой объем памяти ей нужен. Семифигурные базы, создание и хранение которых требуют огромного ресурса вычислительных мощностей, начали появляться только в 2005 году. Сегодня существуют полные базы семифигурных окончаний с объемом памяти около 140 Тбайт, создание которых занимает несколько месяцев. Первую полную базу семифигурных окончаний, ныне доступную в интернете, разработали российские исследователи Виктор Захаров и Владимир Махнычев на суперкомпьютере «Ломоносов» в Московском государственном университете.
Разработка эндшпильных баз привела к интересным открытиям, касающимся сложности шахмат, и одновременно к опровержению некоторых предположений, на которые веками опирались при шахматном анализе. Например, оказалось, что в самой длинной матовой позиции для семифигурного сочетания КрФККрЛКС (король, ферзь и конь против короля, ладьи, коня и слона) при лучших ходах обеих сторон мат достигается в 545 ходов. Также были переоценены более распространенные и хорошо известные позиции. Веками считалось, что в ряде позиций с двумя слонами против идеально расположенного коня выигрыш невозможен, но эндшпильные таблицы показали, что это не так.
Шахматные задачи типа «белые начинают и выигрывают» или «белые начинают и ставят мат в три хода» издавна пользуются заслуженной популярностью. Раньше их часто публиковали в шахматных колонках местных газет (сейчас, увы, остается все меньше таких колонок, да и самих местных газет). Многие из подобных задач имеют очень красивые и неординарные решения. Но машину не волнует эстетический аспект, и она отвергает множество комбинаций.
Иногда людям бывает полезно посмотреть, как эндшпильная база разыгрывает ту или иную распространенную позицию, но такое случается редко. Нам нужны общие установки и эвристические правила, которые мы можем применить на практике, например такие как «держать ладью позади проходных пешек» или «имея ладью против ферзя, держать ладью возле своего короля». Но эндшпильные таблицы обычно никак не помогают людям понять, как разыграть тот или иной эндшпиль. Даже для меня 99 % ходов, предлагаемых эндшпильными таблицами в некоторых позициях, совершенно непонятны. Я изучил несколько шести- и семифигурных окончаний, требующих более двухсот ходов, и в подавляющем большинстве случаев первые 150 ходов выглядели так, будто на доске ничего не происходит: я не мог понять логику с виду хаотического передвижения фигур. Только в позициях, ведущих к мату через 40–50 ходов, мне удалось разглядеть некоторую методику в «бессмысленных» манипуляциях машины.
Но одно дело — сражаться с гигантской дебютной базой, подготовленной командой гроссмейстеров. И совсем другое — противостоять эндшпильной базе с ее в буквальном смысле совершенной игрой. Впоследствии, когда эндшпильные базы стали более проработанными и распространенными, в матчах между людьми и машинами организаторы вводили специальные правила, чтобы обеспечить равные условия для обеих сторон. Например, когда я играл в 2003 году с программой Deep Junior, решили, что «если будет достигнута позиция, которая имеется в эндшпильной базе машины, и если при правильной игре эта позиция приведет к ничьей, то партия немедленно завершается». Иначе оставшаяся часть партии могла бы из состязания превратиться в пасьянс «Солитер».
Благодаря эндшпильным таблицам можно ясно увидеть, насколько несхожи человеческие и машинные шахматы и как по-разному люди и машины добиваются результата. Пару десятилетий программисты пытались научить машину играть эндшпиль, но это в одно мгновение стало ненужным после появления нового инструмента. Данный сценарий мы видим снова и снова во всем, что связано с интеллектуальными машинами. Сначала мы пытаемся научить машину думать как человек, но потом понимаем: зачем машине думать как человек, если она и так может стать богом?
Этот вопрос крутился в моей голове, когда я наблюдал за невероятной обороной Deep Blue в 4-й партии. Ладейный эндшпиль завершился ничьей при восьми фигурах — слишком много, чтобы и тогда, и сейчас можно было бы использовать эндшпильные таблицы. Но что, если Deep Blue имел доступ к таблицам во время поиска? Не мог ли он, чтобы уточнить свои оценки, заглядывать далеко вперед и видеть, какие малофигурные позиции ведут к поражению, а какие — к ничьей? Потом «зондирование» эндшпильных таблиц в ходе поиска станет для шахматных движков обычным делом, но тогда мы еще не могли с уверенностью утверждать, что Deep Blue использует подобные базы данных. А если он все-таки их использовал? Это был весомый повод для беспокойства. Не добавить ли и окончания в список позиций, которых мне надо избегать в игре с Deep Blue?
Как я узнал впоследствии из статей, опубликованных членами команды Deep Blue, во время матча компьютер действительно имел доступ к эндшпильным таблицам и использовал их при поиске в 4-й партии — единственной, достигшей простого эндшпиля. В то время базы шестифигурных окончаний были еще редкостью, поэтому я с удивлением прочитал, что в памяти Deep Blue хранились «избранные позиции с шестью фигурами», специально подобранные шахматным экспертом{79}.
В 4-й партии после моего 43-го хода произошел еще один системный сбой. Все пользователи компьютеров хорошо знают, что это такое: ваш компьютер зависает или же его экран становится синим и вы, ругаясь, нажимаете кнопку перезагрузки. Во время своих лекций я регулярно сталкиваюсь с такими сбоями в ноутбуках и проекторах и обычно шучу, что мы с машинами давно враждуем. Однако беседы с экспертами, в том числе с Шаем Бушински, создателем шахматной программы Deep Junior, многократно побеждавшей на чемпионатах мира среди компьютерных программ, показали, насколько упрощенным было мое понимание. Бушински отметил, что во время процесса восстановления системы может происходить все что угодно, особенно в случае «контролируемого отказа», а не аварийного сбоя. Программисты часто вставляют код, который при определенных условиях инициирует перезапуск всей программы или ее отдельных процессов. Как пишет Сюй Фэнсюн в своей книге «Дип Блю: Создание компьютера, который победил чемпиона мира» (2004), во время матча-реванша происходило именно это. Сюй говорит не об отказе или сбое системы, а об «автозавершениях» и «фрагменте кода, который контролировал эффективность параллельного поиска и завершал работу всей программы, если эффективность падала ниже допустимого уровня».
Таким образом, Сюй Фэнсюн признает, что отвлекавшие меня от игры неполадки — простите, «автозавершения» — являлись свойством программы, а не дефектом. Конечно, они не случались по требованию, но были рабочим элементом системы и использовались для «прочистки каналов», когда система параллельной обработки данных Deep Blue начинала «засоряться». Это не означает, что сбои напрямую улучшали игру Deep Blue и что, если даже и улучшали, это было нечестным преимуществом. Но так или иначе «автозавершения» мешали мне сосредоточиться во время партии, и, кроме того, они исключали возможность воспроизвести игру машины.
По мнению Шая Бушински, в этом состояла самая большая проблема. «После системного сбоя все действо превращается в своего рода шарлатанство, поскольку вы никак не можете доказать аутентичность того, что происходило до сбоя», — сказал он мне в 2016 году за ужином теплым майским вечером в Тель-Авиве. Я прилетел в Израиль, чтобы прочитать пару лекций на тему образования и отношений людей и машин, и воспользовался этим, чтобы встретиться со своим старым другом и одним из ведущих мировых экспертов по шахматным машинам. «Меняется хронология ходов, меняются хеш-таблицы, кто знает, что еще там может меняться? После сбоя нет никакого способа сказать: "Вот почему машина сделала этот ход". При тестировании или в товарищеской партии это не так важно, но в статусном матче, когда на кону стоят миллионы долларов, такое недопустимо».
Сбой в 4-й партии случился во время хода Deep Blue и, к счастью, в такой позиции, где у него имелся только один допустимый ход. Я только что дал шах ладьей, и ответ соперника был вынужденным, поэтому не стоило беспокоиться о том, что после перезагрузки машина найдет более сильный или слабый ход.
Во время 4-й партии матч посетил генеральный директор IBM Лу Герстнер, хотя я сомневаюсь, что ему сообщили о том, что у их звездного суперкомпьютера снова произошел сбой. Учитывая имидж, который IBM создала себе благодаря проекту Deep Blue, компания вряд ли бы хотела, чтобы СМИ начали бомбардировать их вопросами о системных сбоях или «автозавершениях». Герстнер произнес зажигательную речь и назвал наше состязание «шахматным матчем между сильнейшим в мире шахматистом и Гарри Каспаровым». На фоне ничейного счета в матче и единственной победы Deep Blue в потенциально ничейной позиции это заявление прозвучало не просто как некорректное, а скорее как оскорбительное.
После 4-й партии я чувствовал себя выжатым как лимон, но впереди было два выходных дня, чтобы подготовиться к двум финальным партиям матча. Я очень хотел воспользоваться своим преимуществом игры белыми в 5-й партии, чтобы заставить Герстнера взять свои слова обратно.
В тот вечер мне хотелось только одного — лечь в постель и проспать десять часов, но мы устроили праздничный ужин для моей команды и друзей. В первый день отдыха мы посвятили немного времени подготовке к 6-й партии, в которой мне предстояло играть черными. В пятницу мы занялись подготовкой к 5-й партии и решили, что я буду придерживаться все той же антикомпьютерной стратегии, достаточно хорошо показавшей себя в 1-й и 3-й партиях. Мы снова наметили дебют Рети. Кроме того, мы потребовали, чтобы после игры распечатки 5-й и 6-й партий были немедленно скреплены печатью и переданы апелляционному совету.
Дебютная стадия 5-й партии снова показала все плюсы и минусы моей антикомпьютерной, антикаспаровской стратегии. Несмотря на некоторую потерю времени в дебюте, я получил маневренную позицию, как и собирался. Я не достиг белыми никакого реального преимущества, но впереди была долгая игра. На 11-м ходу Deep Blue неожиданно двинул пешку по вертикали «h» на два поля вперед. Комментаторы сочли это очередным нелепым компьютерным ходом, но я так не думал. Этот ход создавал угрозу на фланге и, на мой взгляд, скорее соответствовал манере игры очень агрессивного шахматиста. Партия только началась, и у черных было много других логичных ходов. Решение Deep Blue начать фланговую атаку в очередной раз заставило меня задуматься над тем, на что он способен. Кажется, после 11…h5 я даже бросил мгновенный взгляд на Кэмпбелла, чтобы убедиться, что это не ошибка оператора.
Как показал последующий анализ, ход 11…h5 в действительности не был очень хорошим и я мог получить перевес, сыграв 16.Кe4, — но я принял другое, малопродуктивное решение. Снова объективно слабый, но неожиданный ход Deep Blue серьезно повлиял на мое психологическое состояние и поэтому оказался более эффективным, чем просто хороший ход. Я никогда не знал, чего ожидать от моего противника и как мне следует играть, и это пагубно отразилось на моей концентрации внимания. А странные ходы в сочетании с недоброжелательностью организаторов заставили разыграться мое воображение.
Пока я искал пути к преимуществу, позиция на доске вскрылась. Анализируя сегодня эту партию, я снова поражаюсь тому, сколько возможностей я упустил. Во время матча-реванша я находился на пике своей спортивной карьеры, а сегодня, на момент написания этой книги, я вот уже больше десяти лет как отошел от профессиональных шахмат. И тем не менее сейчас я сразу вижу, что некоторые мои ходы были откровенно плохими, и анализ это подтверждает. При такой слабой игре мне просто повезло, что матч не сложился для меня еще хуже.
После ряда разменов позиция осталась примерно равной. Я не видел шансов на выигрыш ни у одной из сторон. Затем, к моей радости, Deep Blue сделал ужасный ход ферзем, что позволило мне разменять ферзей. Без сильного ферзя, способного создавать угрозы, пешечные слабости в позиции черных стали более ощутимыми и передо мной обозначились конкретные цели.
Какое-то время ситуация развивалась для меня благоприятно; по мере размена еще нескольких фигур я улучшал свое положение. Как и в 4-й партии, я смотрел на эндшпильную позицию и был абсолютно уверен, что могу ее выиграть — если бы играл против человека. Но Deep Blue защищался агрессивно, находя замечательные тактические ресурсы. В конце концов он использовал своего короля и пешки, чтобы создать угрозы моему королю, и я был вынужден согласиться на ничью ввиду скорого троекратного повторения позиции, хотя моя пешка находилась в одном шаге от превращения в ферзя. Я увидел форсированную ничью гораздо раньше, чем комментаторы, которые до последней минуты были уверены в моей победе. Во второй раз подряд я испытал тяжелое разочарование; я был раздосадован тем, что снова упустил выигрыш, и винил себя в отвратительном качестве игры.
Прежде чем выйти из-за стола, я подал официальный протест, потребовав, чтобы распечатки протоколов этой партии были немедленно переданы арбитру или апелляционному совету. Комната наполнилась людьми, к недоумению зрителей, наблюдавших за происходящим по экранам. Си Джей Тан, который раньше отказывался предоставлять какие-либо распечатки до окончания матча, пообещал выполнить наше требование, и мы спустились вниз, чтобы обсудить партию со зрителями. Потом мы вернулись наверх за распечатками, но там никого не было. Я отправился в отель, а Михаил и моя мама остались ждать. В конце концов распечатки были переданы арбитру Кэрол Джареки. (Все лог-файлы, связанные с игрой Deep Blue, IBM опубликовала только несколько лет спустя, просто загрузив их на свой специальный сайт, посвященный матчу-реваншу.)
В зрительном зале меня снова встретили аплодисментами. Это было приятно, но я находился в таком состоянии, что мне не могла помочь даже поддержка публики. Я чувствовал, что больше не могу никого и ничего видеть. Я понимал, что сыграл слабо, и, как показывает анализ, проведенный с помощью современных программ, был абсолютно прав. Хотя Deep Blue дал мне несколько шансов, я не сумел довести партию до победы и снова позволил компьютеру чудесным образом спастись. Я упустил два хороших шанса на выигрыш, Deep Blue совершил несколько грубых ошибок, но я снова не сумел воспользоваться его промахами. Как было впоследствии установлено, в эндшпиле 5-й партии белые могли выиграть, но я, узнав об этом, только почувствовал себя еще хуже.
На пресс-конференции я снова откровенно заявил, что был впечатлен и удивлен некоторыми ходами Deep Blue, особенно теми, которые вызвали смех у комментаторов. Я сказал: «Ход h7–h5 меня изумил. За время этого матча я сделал много интересных открытий, и одно из них состоит в том, что иногда компьютер ходит совсем как человек. Ход h7–h5 — хороший, и я хочу похвалить машину за исключительно глубокое понимание позиционных факторов. Думаю, что это выдающееся научное достижение».
Привожу здесь это заявление, чтобы отмести обвинения, будто я отказывался признавать заслуги создателей Deep Blue (кстати, позже выяснилось, что ход 11…h5 вовсе не был так уж хорош!). Да, я не сделал этого на следующий день, когда матч закончился, но, принимая во внимание его финал, я был не в настроении лестно отзываться о лагере противника.
Когда меня спросили, прав ли был Ильескас, заявивший, что я боюсь Deep Blue, я честно ответил: «Я не боюсь признаться в том, что боюсь! И я не боюсь сказать почему. Эта машина по своим возможностям однозначно превосходит любую другую машину в мире». Под конец Эшли спросил, постараюсь ли я выиграть финальную партию черными, на что я ответил: «Я постараюсь делать самые хорошие ходы».
К длинному списку сюрпризов и рекордов, которыми мог похвастаться матч-реванш, 6-я партия добавила еще несколько, для меня весьма неприятных. В этой партии я потерпел самое быстрое поражение за всю карьеру. Матч-реванш стал первым проигранным мной матчем в классические шахматы и первым серьезным сражением, в котором машина одержала победу над чемпионом мира. Как и товарищеские встречи, партии и матчи против компьютеров помечаются звездочками в списке достижений шахматиста, но меня не волновали ни звездочки, ни мое место в истории. Я проиграл, а я ненавидел проигрывать.
Шестая и последняя партия матча-реванша обросла своей мифологией, как и подобает такому историческому моменту, и разные лагеря предлагали свою интерпретацию событий. Слухи о том, что же на самом деле произошло в 6-й партии, распространялись, как лоскутья одеяний пророка среди верующих.
Поскольку шахматы всегда стояли для меня на первом месте, я очень хотел, чтобы качество игры в этом матче соответствовало значимости момента и тому огромному вниманию, которое он привлек. Я бы смирился, если бы потерпел поражение в красивом ожесточенном сражении. Но матч превратился в немногим более чем уродливую пародию на шахматы, силой обстоятельств возведенную в статус исторического события.
Перед 6-й партией счет был ничейным — 2,5:2,5. Может быть, мне стоит перестраховаться и постараться добиться ничьей? Или же лучше рискнуть и нацелиться на победу? Не имея возможности мало-мальски отдохнуть и восстановиться, я осознавал, что мне не хватит сил на затяжную игру, подобную тем, к которым приводили мои антикомпьютерные стратегии. Я уже и так играл нестабильно. За 20 лет соревнований я хорошо изучил свою нервную систему и знал, что она может не выдержать напряжения еще одного четырех-пятичасового интенсивного противостояния машине. Мне нужно было найти какое-то решение.
Второй раз в этом матче я решил сыграть «настоящий» дебют. Первым был неудачный эксперимент с «испанкой» во 2-й партии. На сей раз я разыграл надежный позиционный дебют — защиту Каро-Канн. Ее очень любил Анатолий Карпов и применял против меня в нескольких партиях, а в юности я и сам часто ей пользовался, но потом решил, что острая сицилианская защита гораздо больше соответствует моему активному, атакующему стилю. Deep Blue придерживался основной дебютной линии, которую я знал очень хорошо, потому что сам неоднократно использовал ее при игре белыми. Возможно, тренеры, работавшие над дебютной книгой компьютера, не были лишены чувства юмора или же сочли, что то, что хорошо для меня, будет хорошо и для машины.
На седьмом ходу, по-прежнему следуя своей основной линии, я передвинул пешку «h» на одно поле вперед, вместо того чтобы сначала сделать обычный ход слоном. Когда Deep Blue мгновенно нанес ответный удар конем, отдав его на заклание, и разрушил мою позицию, ни я, ни комментаторы не могли поверить в происходящее. Мой король был раскрыт, фигуры так и оставались неразвитыми, а белые получили опасную атаку. По моему лицу было понятно, что я уже знал: партия закончена. Я попытался защититься, что было бы сложно даже против гроссмейстера и практически невозможно в схватке с Deep Blue.
Почти на автопилоте я сделал еще десяток ходов, едва осознавая, что происходит. Я не обратил внимания, когда оператор Хоан на десятом ходу взял не того слона. На 18-м ходу мне пришлось отдать ферзя, а на следующем я признал свое поражение: дальнейшее сопротивление было бесполезным. Вся партия заняла меньше часа. Матч был окончен.
Если вы можете хотя бы примерно представить, что я чувствовал в тот момент, имейте в виду еще и то, что сразу после партии я был вынужден предстать перед сотнями зрителей и журналистов, которые обрушили на меня лавину вопросов. Казалось, что пресс-конференция — продолжение этой абсурдной партии. Я был шокирован, измучен и раздражен всем произошедшим. Когда настала моя очередь говорить, я заявил собравшимся, что после случившегося в финальной партии не заслуживаю их аплодисментов, и признался, что считал матч проигранным уже после того, как не смог одержать победу в эндшпиле 5-й партии{80}. Я сказал, что мне стыдно, и признал, что с моей стороны было большой ошибкой не подготовиться к матчу надлежащим образом и отказаться от своего стиля игры ради антикомпьютерной стратегии, которая не сработала.
Еще я похвалил Deep Blue и высказал сомнения по поводу его необъяснимых ходов. Я также бросил вызов IBM, предложив выставлять Deep Blue на регулярные турниры, где обещал «разнести машину в пух и прах». Я сказал, что буду играть с Deep Blue на любых условиях с одной оговоркой: IBM будет участвовать только в качестве игрока, но не как спонсор или организатор. Я заявил, что готов сразиться с их суперкомпьютером снова, поставив на кон мой титул чемпиона мира.
Когда я перечитываю стенограмму пресс-конференции, чтобы освежить ее в памяти, я не понимаю, почему позже говорили, что я повел себя очень агрессивно. Да, иногда я, ведомый адреналином, заходил довольно далеко и повторялся. И я не славословил команду Deep Blue в момент ее славы, за что хочу принести извинения.
Однако, слушая аудиозапись пресс-конференции, я догадываюсь, почему они обвинили меня в том, что я «испортил им праздник». Я был опустошен и раздавлен, и в моем голосе сквозили нескрываемый гнев и разочарование. Не могу сказать, что сожалею о своих словах, потому что таков уж мой характер — открыто высказывать то, что на сердце. Но я думаю, было бы лучше, если бы пресс-конференцию перенесли на следующий день, чтобы у меня была возможность отдохнуть и осмыслить произошедшее. Можно сказать, что в тот день я дважды оказался не на высоте — сначала во время партии, а затем на пресс-конференции.
Итак, что же случилось в 6-й партии? На пресс-конференции мне несколько раз задавали этот вопрос, но я отделывался уклончивыми ответами: «Это даже нельзя считать партией», «Надо признаться, что я вообще не был в настроении играть», «Когда вы создаете возможность для такой жертвы, вы знаете, что это может привести к сдаче партии. Эта линия разыгрывалась много раз в шахматных соревнованиях. Но я не могу объяснить, что произошло сегодня. Я просто не был расположен сражаться».
Все это верно, но совершенно не объясняет, почему вместо стандартного хода 7…Сd6 я сделал роковой ход пешкой — 7…h6. Вокруг 6-й партии сформировалось несколько различных теорий, способствовавших ее мифологизации. Согласно одной из них — той, что продвигалась моими сторонниками и друзьями и нашла отражение во многих статьях и книгах, — я был настолько выбит из колеи и устал, что изменил последовательность этих рутинных ходов случайно. Вторая теория гласит, что я пытался заманить Deep Blue в ловушку, основываясь на недавней публикации в журнале о компьютерных шахматах, которая показала, что черные могли защититься после жертвы коня. Наконец, третья теория утверждает, что решение избрать защиту Каро-Канн было принято мной в последнюю минуту, поэтому я не подготовился к ней и не предусмотрел этого сокрушительного удара.
Честно говоря, я считаю предположение о том, что я мог плохо подготовиться к партии, куда более оскорбительным, чем гипотезу о нервном срыве. Разумеется, я знал о ходе 8.К:e6. И также знал, что буду разбит, если Deep Blue сыграет так в 6-й партии. Но я твердо верил, что компьютер этого не сделает.
Машины не склонны рисковать материалом ради абстрактного выигрыша. Чтобы принять решение что-то пожертвовать, они должны увидеть, что это приносит немедленную выгоду. Я был уверен, что Deep Blue решит увести коня, а не жертвовать его, поэтому ход 7…h6 был призван чуточку улучшить мою позицию: зная, что у меня мало сил для более сложной борьбы, я хотел добиться устойчивого равновесия. Мы протестировали этот ход на нескольких шахматных движках, и все они в ответ на 7…h6 уводили коня назад. Они рассматривали и жертву коня, но даже спустя несколько ходов их анализ вариантов показывал, что лучше отойти, чем отдать целую фигуру ради неочевидной выгоды.
Глядя на неразвитую позицию черных после 8.К:e6, я понимал, что ее может защитить только сам компьютер, и сделал на это ставку. Компьютеры любят материал и умеют мастерски обороняться. Я был уверен, что Deep Blue применит к этой позиции свои фантастические оборонительные способности, оценит ее как хорошую для черных и откажется от жертвы. Но мои расчеты с треском провалились, и причина этого стала ясна только через 12 лет.
Вы будете удивлены, узнав, что в моей оценке Deep Blue я был совершенно прав. Он никогда бы не пошел на жертву коня. Но он это сделал. Почему? Из-за одного из самых невероятных совпадений в истории шахмат и, возможно, в истории вообще.
Вернемся еще раз к интервью Мигеля Ильескаса 2009 года. Вот что сказал он о роковой 6-й партии: «Мы просмотрели все посредственные ходы наподобие 1.е4 а6 или 1.е4 b6 и постарались заложить в компьютер как можно больше обязательных ходов. Мы также ввели удар конем на е6 в защите Каро-Канн, причем сделали это как раз утром перед 6-й партией. Да, тем утром мы сказали компьютеру: если Гарри сыграет 7…h6, отвечай 8.К:е6 и не смотри в базу данных. Просто играй, не думай… Мы предположили, что Гарри сделает ставку на то, что машина никогда не пожертвует коня за пешку. И впрямь, если бы мы дали ему свободу выбора, компьютер никогда бы так не сыграл».
Не буду воспроизводить здесь поток ругательств на русском, английском и других языках, которые сорвались с моих губ, когда я впервые это прочитал. Как, черт возьми, такое вообще возможно?! Через два абзаца после признания в том, что IBM наняла русскоязычных охранников, чтобы шпионить за мной, Ильескас заявляет, что утром перед партией команда Deep Blue решила ввести в дебютную книгу компьютера именно эту линию! Этот малоизвестный вариант, который я обсуждал только с моей командой в нашем номере в гостинице Plaza в Нью-Йорке?!
Я не Нейт Сильвер, но мне кажется, что выиграть миллион в лотерею куда больше шансов, чем угадать конкретный дебютный вариант, избранный мной впервые в жизни, и включить ее в дебютную книгу именно в день нашей решающей финальной партии! Причем не просто подготовить компьютер к ходу конем 4…Кd7 в защите Каро-Канн (даже в тот короткий период времени, когда я применял эту защиту в 15-летнем возрасте, я играл исключительно 4…Сf5), но и заставить его сделать ход 8.К:e6 — вопреки принципу «дать машине как можно больше свободы», о котором говорил Ильескас.
Как ни стараюсь, я не в силах поверить в такое невероятное совпадение. Команда IBM сделала все, чтобы выставить на смех мое замечание о «руке Бога», и, возможно, я это заслужил. Ходы Deep Blue были необъяснимыми — отчасти потому, что IBM отказалась их объяснять, но тем не менее они не были человеческими. Вероятно, все это являлось частью запланированной психологической войны. Как гласит Паремия для параноиков № 3 в романе Томаса Пинчона «Радуга тяготения» (1973): «Если они заставят тебя задавать не те вопросы, им не придется париться насчет ответов».{81}
Если бы я не раскис во 2-й партии и не сдался раньше времени, ничто из вышесказанного не имело бы значения. Сдача 2-й партии — всецело моя вина, но моей главной, поистине роковой ошибкой было то, что я позволил себе потерять самообладание. Я играл настолько ниже своего обычного уровня, что, анализируя эти партии спустя 20 лет для данной книги, испытываю неловкость. На следующий день после матча, отдохнув и успокоившись, я сказал в шоу Ларри Кинга: «Я не виню IBM, я виню себя». Будучи уверенным в том, что после одного выигранного и одного проигранного матча я имею право на реванш, я снова бросил вызов Deep Blue. Я хотел сыграть в условиях, когда организаторы занимали бы нейтральную позицию, и посмотреть, смогу ли я победить суперкомпьютер, играя в нормальные шахматы. Не в антикомпьютерные, а в каспаровские.
Разумеется, мне не дали такой возможности. Deep Blue не сыграл больше ни одной партии. Компания IBM получила то, что хотела: потрясающую рекламу, улучшение своего имиджа и повышение стоимости акций на $11,4 млрд всего за неделю. Поскольку весь проект Deep Blue обошелся компании, по оценкам, в $20 млн, можно сказать, что вложенные ею средства многократно окупились. Третий матч был IBM не нужен: проигрыш поставил бы ее в затруднительное положение, а выигрыш не стоил бы затраченных усилий — никто не помнит имя второго человека, покорившего Эверест.
Позже тем же вечером я столкнулся в лифте отеля Plaza с актером Чарльзом Бронсоном. Мы узнали друг друга, и он сочувственно сказал: «Не повезло тебе, мужик!» Я ответил: «Да, но в следующий раз я постараюсь сыграть лучше». Он покачал головой и сказал: «Они никогда не дадут тебе такого шанса». И он не ошибся.
Через несколько дней после матча мой друг с Уолл-стрит организовал телефонный разговор между мной и генеральным директором IBM Лу Герстнером. Я сказал ему, что раз я однажды согласился на матч-реванш с его машиной, теперь он должен мне и всему миру решающий поединок. Герстнер благосклонно отнесся к идее — дескать, она имеет большой потенциал, — но из его слов мне стало ясно, что третьего матча не будет. Я получил вежливый отказ. Герстнер не был заинтересован в еще одном сражении, а то, что не интересовало Герстнера, не интересовало и его компанию.
Утверждение, что IBM отказалась продолжать проект Deep Blue из-за моих враждебных нападок на пресс-конференциях, звучит, мягко говоря, глупо. Ладно, они могут оправдывать этим свой отказ от третьего матча, но зачем было разбирать Deep Blue на части? «Он уже занимается регулировкой дорожного движения в Питтсбурге», — пошутил один колумнист. Почему было не позволить шахматному суперкомпьютеру играть в турнирах или не использовать его для анализа партий? Или не подключить машину к интернету, чтобы позволить миллионам любителей шахмат побороться с ним? Deep Blue был лучшим творением IBM за многие годы существования компании; его имя стало более популярным и узнаваемым, чем имена многих спортивных звезд, таких как Пит Сампрас, — так зачем же уничтожать компьютер буквально в одночасье, вместо того чтобы заставить его работать на себя и свой имидж? Если IBM была оскорблена моими «огульными намеками» на недобросовестное управление возможностями Deep Blue, то ее решение немедленно закрыть проект и запретить членам команды открыто говорить о матче было довольно странной реакцией. Возможно, они боялись, что даже одна-единственная партия с любым другим противником может свергнуть Deep Blue с пьедестала, сделав его объектом тщательного анализа и критики. И предпочли, чтобы он победил чемпиона мира и, как и Фишер, превратился в миф.
Любители шахмат и особенно сообщество шахматных программистов были возмущены. Они назвали это преступлением против науки, против духа поиска святого Грааля, начатого Аланом Тьюрингом и Клодом Шенноном. Подшучивая над словами Монти Ньюборна, сравнившего победу Deep Blue с полетом на Луну, Фредерик Фридель сказал в интервью The New York Times: «Победа Deep Blue над Каспаровым стала важной вехой в области развития искусственного интеллекта, но IBM совершила преступление, не позволив компьютеру играть дальше. Это все равно что высадиться на Луне и сразу вернуться домой, не оглядевшись вокруг».
В декабре 2016 года, когда эта книга была готова к печати, мой соавтор Миг Грингард связался по электронной почте с двумя членами команды Deep Blue — Мюрреем Кэмпбеллом и Джоэлем Бенджамином, и те любезно ответили на интересующие нас вопросы. Кэмпбелл по-прежнему работает в области ИИ в Исследовательском центре IBM и все так же увлечен шахматами. По его словам, он очень хотел, чтобы третий матч состоялся, и его команда уже продумывала возможности дальнейшего улучшения Deep Blue. Кэмпбелл опроверг тогдашние сообщения прессы и рассказал удивительную вещь — оказывается, Deep Blue продолжал работать в их лаборатории: «Он был отключен только в 2001 году. Одну его половину подарили музею Смитсоновского института [в 2002 году], а другую — Музею компьютерной истории [в 2005-м]… Он все еще оставался выдающимся суперкомпьютером. Мы не пользовались шахматным аппаратным обеспечением, когда вся система работала». Тем более печально, что они прятали Deep Blue от людей, интересующихся его судьбой. Кэмпбелл, начавший работать в области компьютерных шахмат еще будучи студентом в конце 1970-х, также признался, что лучшим этапом в своей карьере он считает подготовку к матчу-реваншу, но не сам матч, который проходил слишком уж напряженно. Если бы только это напряжение повлияло на игру Deep Blue так же, как на мою!
Джоэль Бенджамин опроверг утверждение своего коллеги Мигеля Ильескаса насчет 6-й партии, написав, что это он (Бенджамин) ввел в дебютную книгу Deep Blue смертельный удар 8.К:e6 «за месяц до матча», а вовсе не «в то самое утро» перед партией, как настаивал Ильескас в своем интервью. Бенджамин рассказал нам, что в 2009 году, когда он прочел интервью Мигеля и мой недоуменный ответ на него, он не стал вмешиваться, поскольку не хотел публично вступать в спор со своим старым товарищем по команде. То, что одно и то же событие помнится по-разному через 12 и 20 лет, еще раз показывает, что все файлы и протоколы Deep Blue необходимо было опубликовать вовремя, тем более что компьютер никогда больше не сыграл публично ни одной партии. Разобрав компьютер на части, IBM уничтожила единственного объективного свидетеля.
Что касается меня, то я продолжал жить и играть дальше. Как оказалось, люди все равно нуждались в чемпионе мира по шахматам. Я был глубоко разочарован тем, что у меня так и не появилось шанса расквитаться с Deep Blue. И мне по-прежнему не дает покоя мысль о том, что мы никогда не сможем воспроизвести все ходы в анализах Deep Blue для будущих поколений. Эта история так и осталась вывернутым наизнанку детективом Агаты Кристи: масса косвенных улик и весомых мотивов — но неясно, было ли совершено преступление.
Трудно сказать, сколько раз меня спрашивали, смошенничала ли IBM в матче-реванше или нет, на что я всегда честно отвечал: «Не знаю». Сегодня, после 20 лет самокопания, анализа и изучения откровений участников тех событий, я могу ответить определенно: «Нет». Но все то, на что пошла IBM ради победы, было предательством принципов честного соперничества, и подлинной жертвой этого предательства стала наука.
11. Человек плюс машина
Главное, что меня утешало после проигрыша машине, — мысль о том, что мое фиаско стало для человечества не поражением, а победой, поскольку именно люди придумали и изготовили Deep Blue. Я говорил об этом много раз в послематчевых интервью, поздравляя команду создателей суперкомпьютера. Несмотря на многие некрасивые вещи, происходившие во время матча-реванша, я все равно чувствовал себя частью великого эксперимента, который, к сожалению, закончился слишком рано.
Честно говоря, тот аргумент, что все мы победили, потому что все мы люди, нисколько не смягчил для меня горечи поражения. Но я всегда оставался оптимистом, а это был наиболее оптимистичный ответ на стандартные вопросы о самом мучительном событии в моей жизни, которые мне продолжали задавать на протяжении многих лет. Интересно, думал я, если склонность повторять одно и то же действие, всякий раз ожидая другого результата, считается психическим отклонением, то что значит, когда мы задаем одни и те же вопросы в надежде получить другие ответы?
Что касается человечества, то оно восстановилось быстро, как и всегда. Несмотря на всю шумиху вокруг матча и беспокойство о его потенциальных последствиях для жизни на Земле, 12 мая 1997 года, на следующий день после окончания матча-реванша, мир для вас не изменился, если вы не были чемпионом мира по шахматам, членом команды Deep Blue или программистом, надеющимся создать машину, способную его победить. По иронии судьбы после проигрыша я вернулся к своей обычной работе, а вот команда Deep Blue сама себя сделала ненужной, когда нанесла мне поражение.
После того как Deep Blue выполнил свою узкую задачу победить меня, ему не нашли применения. Таким образом, правы оказались многие сторонники ИИ в сообществе компьютерных шахмат, которые на протяжении многих лет предупреждали, что эта победа не прибавит никаких новых знаний к тому, что нам уже и так известно: более умные программы на все более быстрых машинах победят чемпиона мира примерно к 2000 году. Это не критика, просто факт. Мистическое представление людей о шахматах исчезло так же быстро, как и компьютерная неграмотность. Если оставить в стороне кричащие заголовки в СМИ, по мере того как машины проникали в нашу жизнь и становились все более мощными, идея о том, что человек может обыграть машину в шахматы и что такая победа может иметь серьезное значение, казалась все более нелепой.
Британский исследователь в области искусственного интеллекта и нейронных сетей Игор Александер в своей книге «Как создать разум» (2000) написал следующее: «К середине 1990-х годов людей, имеющих опыт использования компьютеров, было в разы больше, чем в 1960-е годы. Они считали поражение, нанесенное машиной Каспарову, большим триумфом программистов, но не видели в этом ничего общего с человеческим интеллектом, управляющим нашей жизнью».
Это не означает, что суперсильная шахматная машина абсолютно бесполезна; ее полезность ограничена миром шахмат. Хорошая новость в том, что по тому, что происходит в шахматах, мы зачастую можем предугадать, что случится с остальным миром. В этой главе я рассмотрю три основных момента, когда, к лучшему или нет, моя любимая игра находится на переднем крае стремительной перестройки отношений между людьми и машинами. Теперь, когда десятилетия конкуренции человека и машины подошли к концу, настало время сотрудничества. Как гласит поговорка, если вы не можете победить их, присоединитесь к ним.
Определение «человек плюс машина» применимо к любой технологии, начиная с времен, когда человек впервые взял в руки камень. В основе прогресса, обеспечившего людям превосходство над животными, лежал не столько язык, сколько в первую очередь создание и использование орудий труда{82}. Наличие умственных способностей, которые позволяли создавать вещи, значительно повышавшие шансы на выживание, привело к тому, что как следствие естественного отбора люди становились все более эффективными изготовителями и потребителями орудий труда. Действительно, многие животные, включая обезьян, ворон и даже ос, используют предметы в качестве инструментов, но существует огромный разрыв между тем, чтобы взять какой-то предмет и воспользоваться им в своих целях, и тем, чтобы смастерить именно то, что требуется для выполнения конкретной задачи.
Почти все, что делает современный человек, предполагает использование технологий. Но в последние десятилетия появились технологии, способные функционировать самостоятельно, без нашего участия. Машины неуклонно учатся имитировать все большее число видов человеческой деятельности. Они могут выполнять как физическую работу — поднимать тяжести или осуществлять операции, требующие владения тонкими моторными навыками, — так и интеллектуальную, например проводить расчет и анализ данных. Сегодня машины без проблем участвуют в наших фундаментальных мыслительных процессах, в том числе связанных с памятью, по мере того как мы перекладываем все больше задач на наши компьютеры и телефоны. Но еще до того, как смартфоны превратились в стандартный аксессуар, негативное влияние технологий на наш мозг было предметом горячих обсуждений.
Писатель-фантаст и журналист Кори Доктороу дал своему блогу на сайте Boing Boing определение «внешний мозг»{83}. Вот что он написал в 2002 году: «Этот ресурс не только стал центральным хранилищем всех плодов моего труда на информационных полях, но и способствовал увеличению объема и качества урожая. Благодаря ему теперь я знаю больше, нахожу больше и понимаю больше, чем когда-либо в прошлом». Даже если у вас нет блога, вам хорошо знакомо это чувство, если вы используете с той же целью электронную почту или социальные медиа. Просмотр электронных писем или постов в Facebook за прошедшие годы — гораздо более эффективное мнемоническое средство, чем пролистывание старого фотоальбома. Этот дневник вашей жизни в режиме реального времени хорош еще и тем, что в его создании также участвуют ваши друзья и члены семьи.
В 2007 году в журнале Wired вышла статья под названием «Ваш внешний мозг знает все», в которой данная концепция была обновлена с учетом реалий новой мобильной эры. Первый iPhone появился в продаже всего за несколько месяцев до этой публикации, поэтому описанная ее автором Клайвом Томпсоном тенденция только начала набирать обороты. Томпсон указывал на то, что технологии наподобие BlackBerry, Gmail и мобильных телефонов избавляют нас от необходимости запоминать десятки телефонных номеров, поскольку любой телефон «может хранить в памяти 500 номеров». «Кибербудущее уже настало, — утверждал он. — Мы сами не заметили, как начали выполнять функции внешнего мозгового устройства для окружающих нас кремниевых мозгов»{84}.
О еще более существенных сдвигах свидетельствует следующий пример демократизирующего влияния технологий. Раньше руководители и другие высокопоставленные лица традиционно полагались на секретарей и личных помощников, а те — на настольные календари и картотеки, когда речь шла о выполнении таких обыденных умственных задач, как, например, ведение списка контактов, планирование встреч и хранение информации. Сегодня все это могут делать маленькие компьютеры в наших карманах. Благодаря смартфонам процесс стал еще более эффективным. Теперь мы можем узнать практически все, не ограничиваясь номерами телефонов. Мы не только можем найти адрес ресторана без помощи старых телефонных справочников, но и получить рекомендации, прочитать отзывы, забронировать столик или заказать доставку еды — и все это с помощью всего нескольких команд, которые мы отдаем нашим смартфонам.
В духе великой традиции, характерной почти для любой новой технологии, никто не паниковал по поводу потенциального риска передачи когнитивных функций до тех пор, пока таким аутсорсингом не начали заниматься дети — причем в манере, абсолютно непонятной их родителям. Современные мальчики и девочки печатают большими пальцами, используя уродливый сленг и странные символы. Они быстро переключают внимание с одного на другое. Они не могут запомнить собственный номер телефона. Они тратят больше времени на социальные медиа, чем на общение с друзьями «в реале» (так у них называется реальная жизнь, как просветила меня моя дочь). Они превращаются в зомби, лишенных амбиций и свободной воли! Колумнист The New York Times Дэвид Брукс ответил на статью в Wired о передаче когнитивных функций весьма саркастически: «Я полагал, что магия информационной эпохи состоит в том, что она позволяет нам знать больше. Но все оказалось совсем наоборот: все ее волшебство состоит в том, что она позволяет нам знать меньше… Вы боитесь, что в результате передачи когнитивных функций можете потерять свою индивидуальность? Не бойтесь. Вы всего лишь потеряете свою независимость»{85}.
Десять лет спустя кто-нибудь жалеет о том, что ему не надо запоминать десятки телефонных номеров или адресов? Наверное, да, но это та же категория людей, которые в свое время сетовали по поводу отсутствия дефектов в тканях и посуде, произведенных станками, а не ремесленниками, и которым не хватает шипения и потрескивания виниловых пластинок. Не нужно путать ностальгию с потерей нашей человеческой природы. Разве мы потеряли свободную волю из-за GPS-навигаторов, рекомендаций на Amazon и персонализированных новостных лент? То, что мы перестали теряться на сельских дорогах, рыться на полках книжных магазинов и читать бумажные газеты, безусловно, может препятствовать нашему всестороннему развитию. Но никто не мешает нам делать те или иные вещи по старинке, тем более что теперь появилось гораздо больше времени и возможностей удовлетворять свои специфические потребности и желания.
Мы не потеряли свободную волю; мы получили больше свободного времени, с которым пока не знаем, что делать. Мы приобрели невероятные возможности и почти неограниченные знания, но нам не хватает понимания цели, чтобы использовать их удовлетворяющим нас образом. Мы сделали большие шаги на пути цивилизационного прогресса, значительно снизив уровень случайности и неэффективности в нашей жизни. Да, наша жизнь изменилась, и эти перемены, когда они происходят слишком быстро, могут пугать и дезориентировать, но это не делает их неблагоприятными. Весь скептицизм и сарказм канет в Лету, как только представитель поколения, выросшего со смартфонами в руках, станет колумнистом в The New York Times.
Есть ли минусы у такого ментального аутсорсинга? Не действуем ли мы в ущерб некоторым зонам нашего мозга, если оставляем их без работы, передавая когнитивные функции вовне, нашим смартфонам? «Когда я подключен к сети, я настоящий гений{86}, — пишет Томпсон. — Но когда подключения нет, не превращаюсь ли я в умственного калеку? Чрезмерно полагаясь на машинную память, не отказываемся ли мы от других важных способов познания мира?» Это существенная проблема, и отнюдь не новая. Если мы стремимся к вершинам мудрости, нельзя приобретать знания только лишь для того, чтобы выполнить какую-то конкретную задачу или ответить на конкретный вопрос. Ваш телефон может мгновенно сделать вас экспертом в любой области благодаря Google и Wikipedia, и в этом нет вреда. Использование подобных инструментов не делает людей глупее, как их не оглупляло чтение энциклопедий, обращение к телефонным справочникам или посещение библиотек. Просто налицо очередной — и не последний — этап в процессе, который обусловлен развитием технологий и суть которого — расширение наших возможностей все быстрее и быстрее получать и обрабатывать постоянно возрастающие объемы информации. Угроза кроется не в интеллектуальном застое или одержимости моментальным информационным поиском. Реальная опасность состоит в том, что поверхностные знания могут заменить глубокое понимание и осмысление, необходимое для создания чего-то нового.
Эрудиция далеко не всегда преобразуется в понимание и уж тем более в мудрость. Эта дискуссия, начатая еще Сократом, находит отражение в «Никомаховой этике» Аристотеля и «Первоначалах философии» Декарта и продолжается до наших дней. Что такое мудрость? Накопленные знания? Смиренное признание собственного невежества? Умение хорошо жить? В использовании автоматов для приобретения и хранения знаний как таковом нет ничего плохого. Но встает вопрос: может ли такое применение машин отражаться на наших мыслительных способностях? Благодаря шахматам я имею возможность наблюдать весь этот процесс и знаю, к чему он может привести — и я думаю, что да, безусловно, может, но последствия необязательно будут негативными, если мы их осознаем. Я не согласен видеть во всем игру с нулевой суммой, где на каждый когнитивный выигрыш приходится соответствующая потеря. Значительные перемены в том, как мы управляем своим умом, могут быть и зачастую оказываются плодотворными. Я называю это модернизацией программного обеспечения человеческого разума, и, как и во многих других аспектах мыслительной деятельности, самосознание здесь является важнейшим фактором.
Как я уже говорил, возможность иметь дома или в кармане компьютер, играющий на гроссмейстерском уровне, обусловила появление сильных игроков во всем мире. Причем шахматные машины оказали влияние не только на то, кто играет в шахматы, но и на то, как играют.
Это относится не только к игре в интернете или против компьютеров, но и к игре гроссмейстеров друг с другом. Я имею в виду тех гроссмейстеров, которые всю свою жизнь тренировались с суперсильными шахматными движками. Раньше считалось, что молодые шахматисты часто перенимают стиль своих учителей. Если наставник предпочитает острые дебюты и рискованные атаки, его ученики, скорее всего, будут играть так же. Я думаю, таким же образом влияют на своих подопечных и тренеры по теннису, и преподаватели литературного мастерства.
Но что, если первым тренером был компьютер? Машину не заботят ни стиль, ни типовые приемы, ни сотни лет шахматной теории. Она подсчитывает стоимость шахматных фигур, анализирует несколько миллиардов ходов за минуты и снова оценивает позицию. Она совершенно свободна от предрассудков и доктрин, хотя некоторые программы могут быть чуть более агрессивными или консервативными в зависимости от настроек оценочной функции. Интенсивное использование компьютеров для тренировок и анализа привело к появлению целого поколения игроков, которые почти так же свободны от догм, как машины, с которыми они тренируются.
Сегодня ход все чаще оценивается как хороший или плохой не потому, что он кажется таковым, и не потому, что его никогда не делали раньше. Ход считается хорошим, если он работает, и плохим, если не приносит пользы. Хотя для того, чтобы стать успешным шахматистом, нам по-прежнему нужны развитая интуиция, знание общих принципов и логика, сегодня игра человека все больше похожа на игру компьютера.
В рамках программы «Молодые звезды» Шахматного фонда Каспарова я уже больше десятка лет работаю с детьми в возрасте от восьми до восемнадцати. Все они играют с сильными шахматными движками еще с тех пор, как делали свои самые первые ходы, и, несомненно, они развиваются иначе, чем дети, с которыми я работал в середине 1980-х годов в школе Ботвинника в Советском Союзе. Поскольку сам я в прямом и переносном смысле являюсь представителем «старой школы», мне трудно полностью принять подход этих юных шахматистов к игре и отсутствие у них структурированного, догматического шахматного мышления. Но я признаю, что с результатами не поспоришь. В таком свободном от догм обучении есть свои преимущества и недостатки. Умение объяснить, почему данный ход теоретически хорош или плох, — вовсе не то же самое, что умение продемонстрировать это на практике.
Нехорошо, когда шахматный движок и база данных превращаются из тренера в оракула, советам которого слепо следуют. Я часто прошу учеников объяснить тот или иной сделанный ими ход. Если ход сделан в начале партии, они обычно отвечают: «Потому что он соответствует основной линии». Другими словами, это ход из дебютной базы и его делали многие гроссмейстеры в прошлом. Иногда ход не входит в дебютную теорию, но ученик подготовил его с помощью шахматной программы, поэтому ответ аналогичен: «Это лучший ход». Возможно, да, но я всегда спрашиваю: почему это лучший ход? Почему его выбирали многие гроссмейстеры? Почему его порекомендовал компьютер?
И вот здесь, как правило, возникают проблемы. Ответ на вопрос «почему это хороший ход?» требует глубокого анализа и понимания. Дебютная теория развивается эмпирическим путем на протяжении нескольких десятилетий и даже столетий. Если в конкретном случае ход слоном на конкретное поле считается лучшим, то этой оценке предшествуют сотни партий, сотни экспериментов, которые в конечном итоге привели к пониманию того, что данный ход — оптимальный выбор в имеющейся ситуации.
Дети хотят пропустить все это и, прежде чем начинать думать сами, пытаются просто получить хорошую позицию, к которой им рекомендует прийти опыт, накопленный предыдущими шахматистами. Обратите внимание, что машины играют точно так же — они используют дебютные книги, где собраны партии и теоретические изыски сотен гроссмейстеров. Но игра по книге всегда сопряжена с определенным риском. Что если в книгу вкралась ошибка? Что если вы безотчетно следуете дебютной линии, а оппонент приготовил для вас неприятную новинку?
Разумеется, движущей силой может быть и прагматизм. Если данный ход рекомендуется сильными игроками и компьютерами на протяжении долгого времени, он действительно может быть лучшим. Но, в отличие от компьютеров, при слепом следовании дебютной книге люди сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, когда усвоенная вами дебютная линия заканчивается, вам нужно начинать думать самостоятельно. Даже если вы знаете, что пришли к хорошей позиции, без более основательной подготовки вы можете не знать, что делать дальше. Это все равно как если бы вы, находясь в лодке на середине озера, обнаружили в своем суденышке течь и вспомнили, что не умеете плавать.
А вдруг противник перестанет придерживаться основной линии, которую вы так усердно сохраняли в памяти? Компьютеры это не волнует. Они просматривают свою гигантскую дебютную базу и просто находят там подходящий ход, а если им это не удается, начинают думать самостоятельно. Но в отсутствие хорошего понимания общей позиции вы можете оказаться в более сложном положении, чем ваш противник, даже если его ход не является лучшим согласно данной дебютной теории. Это также объясняет, почему при подготовке важно использовать свой мозг, а не только шахматный движок. Машина скажет вам, какой ход она считает лучшим для обеих сторон, но не какой ход будет наиболее вероятным или на какой ход будет труднее всего ответить оппоненту. Полностью положившись на машину и некритично воспринимая все ее подсказки, вы можете ухудшить, а не улучшить свое понимание ситуации на доске. Я всегда говорю своим ученикам, что они должны не перекладывать всю подготовку и анализ на машину, а использовать ее для того, чтобы проверить качество собственной подготовки и анализа. Недостаточно знать лучшие ходы; необходимо также знать, почему эти ходы являются лучшими.
Другая проблема носит более глубокий характер и затрагивает саму суть того, как сотрудничество человека и машины может способствовать нашему творческому мышлению или же препятствовать ему в зависимости от того, каким образом мы используем наши цифровые инструменты. Некоторые базы данных включают не только дебютные линии, но и целые партии. Крайне редко случается, когда два шахматиста в точности, ход за ходом, повторяют какую-либо партию. Даже если оба игрока знают все ходы данной партии, кто-то в конце концов отклонится от взятого курса в поисках преимущества. Другими словами, если оба игрока разыгрывают партию, в которой черные однажды потерпели поражение, очевидно, что игроку черными нужно найти способ переломить ход партии в свою пользу. Но где лучше начинать поиски этого способа? Там, где черные допустили ошибку? Да, это место подходит, и, если вы сделаете лучший ход, возможно, вам удастся избежать катастрофы и привести партию к достойному исходу.
Но когда речь идет о значительных, радикальных нововведениях, вам нужно начать поиск раньше, а не там, где заканчиваются дебютные линии в базе данных. Вам нужно исследовать все дерево ходов, которые принято считать лучшими, потому что их использовали много раз в прошлом. Это один из принципов, благодаря которому мне год за годом удавалось побеждать в соревнованиях. Я всегда искал улучшения в конце популярных дебютных линий, как это делали и мои соперники, но также я старался найти новые идеи на очень раннем этапе, что порой приводило к возрождению отброшенных дебютов или вариантов. Такой подход не только благоприятно сказывался на моих спортивных результатах, но и усиливал мою креативность в самых разных областях жизни.
Нормально, особенно для молодых игроков, стоять на плечах гигантов и копировать дебюты великих шахматистов — и даже полагаться на машины, — чтобы не идти самим по тернистому пути проб и ошибок. Это эквивалентно тому, как некоторые производители электроники воспроизводят товары известных брендов, добавляя в них одну-две функции. Они не изобретают ничего принципиально нового. Они всего лишь подражатели и конкурируют с другими подражателями в том, кто лучше и быстрее скопирует чужую идею. Но если они не становятся на путь инноваций сами, их быстро вытесняют с рынка, когда появляется принципиально новый продукт, удешевляется рабочая сила или повышается эффективность производства.
Это верно для шахмат, бизнеса и инновационной деятельности в любой сфере. Чем ближе к началу дерева развития находится точка приложения ваших усилий, тем больше у вас возможностей совершить прорыв — и тем больше работы вам придется проделать, чтобы достичь своей цели. Если мы будем полагаться только на машины, которые могут научить нас лишь одному — как стать хорошими подражателями, — мы никогда не сделаем следующий шаг и не станем настоящими новаторами. Разумеется, в мире достаточно много места для всех. Например, некоторые считают, что Apple не стремится, как раньше, к революционным инновациям и что теперь она чуть больше чем имитатор с хорошим вкусом и грамотным маркетингом, поскольку инновации, содержащиеся в ее невероятно популярных продуктах, в основном созданы не самой компанией. Но не все великие певцы пишут для себя песни, и акционеры и потребители Apple, очевидно, считают, что дизайн и бренд компании обеспечивают ценность ее продуктов. Но если все будут подражать, в скором времени не останется ничего нового, чему можно будет подражать. Конечно, спрос можно стимулировать небольшой диверсификацией продукции, но лишь какое-то время.
Размышляя над тем, как эта тенденция проявляется в Кремниевой долине и технологических стартапах, предприниматель и венчурный капиталист Макс Левчин придумал для нее меткое название, которое мне очень нравится. Когда несколько лет назад мы вместе с ним работали над проектом книги, он назвал этот феномен «пограничными инновациями» (innovations at the margins). Имеется в виду склонность искать небольшие улучшения вместо того, чтобы идти на более существенный риск в основном направлении бизнеса. Левчин интересуется проблемами онлайн-платежей и альтернативных валют с 1998 года, когда стал одним из создателей PayPal. Он рассказал мне, что большинство поставщиков этих услуг пытаются заработать незначительные суммы денег на двух-трехпроцентных банковских комиссиях, оставляя основную долю риска крупным банкам. Такой подход обеспечивает удобство и эффективность, но не выводит на путь инноваций.
К нашему стыду, мы стремимся к новому не настолько сильно, чтобы использовать весь огромный потенциал для изменений. Наши все более мощные машины позволяют нам ставить перед собой более амбициозные задачи и лучше подготовиться к переменам, но мы по-прежнему предаемся сомнениям и полны нерешительности. Технологии снизили барьеры входа на рынок в десятках отраслей бизнеса, что должно стимулировать экспериментирование и инвестиции. Мощные инструменты позволяют смоделировать влияние любого сдвига лучше, чем когда бы то ни было, тем самым снизив возможный риск.
Вновь возвращаясь к нашему сравнению шахматных машин с дрозофилами, следует отметить, что многие гроссмейстеры используют при подготовке шахматные движки и базы данных для того, чтобы разыгрывать более рискованные, экспериментальные дебютные варианты. Многие члены шахматного сообщества опасались, что сверхсильные машины могут нанести непоправимый вред профессиональным шахматам, отведя гроссмейстерам роль марионеток, фактически повторяющих лучшие ходы, подсказанные шахматными движками. И, честно говоря, такое иногда можно встретить, но только на уровне ниже шахматной элиты — то есть среди подражателей, а не новаторов. На высшем уровне, за несколькими примечательными исключениями, картина иная.
Благодаря подстраховке, которую обеспечивает использование шахматных движков при подготовке, гроссмейстеры стали охотнее разыгрывать острые варианты на турнирах. Соблазн поймать противника в подготовленную смертельную ловушку перевешивает все угрозы, связанные с ответным ударом. Человеческая память не идеальна, и ваш противник тоже может быть хорошо подготовлен, или может случиться что-то еще, чего вы не предусмотрели дома. Короче говоря, каковы бы ни были причины, сегодня по-прежнему разыгрывается множество интересных вариантов и партий.
Исключением является так называемое антикомпьютерное движение в элитарных шахматах, выступающее за возрождение позиционных, стратегических дебютных вариантов, неуязвимых к новинкам, которые могут быть найдены оппонентом благодаря компьютеру. Основным таким вариантом является берлинская защита в испанской партии, очень эффективно примененная против меня Крамником в матче за мировую корону в 2000 году. В берлинской защите ферзи очень рано покидают доску, и, хотя белые обычно имеют небольшое преимущество, позиции требуют весьма тонкой игры, с которой не справляются даже самые сильные современные машины. Таким образом, в то время как одни шахматисты идут по дороге творческого поиска с помощью шахматных машин, другие — я бы назвал их шахматными луддитами — выбирают консервативный путь, пытаясь противостоять компьютерной угрозе. К сожалению, берлинская защита сегодня стала доминирующим стилем. Говорю «к сожалению» не только потому, что лично я нахожу этот дебют скучным и утомительным (недаром Крамник выбрал его для поединка со мной). Берлинская защита создает равновесие на доске и часто приводит к ничьей, что делает игру менее привлекательной еще и с точки зрения болельщиков, которые любят острую борьбу и разгромные победы и поражения{87}.
Свободный доступ к миллионам партий в базах данных также обусловил омоложение мировой шахматной элиты. В нее вступают сегодня в гораздо более раннем возрасте, чем когда-либо в прошлом. Первый рекордсмен, Бобби Фишер вошел в элиту в 14 лет, когда выиграл чемпионат США. Официально он стал гроссмейстером в следующем, 1958 году, хотя давно играл на гроссмейстерском уровне. Этот рекорд держался 33 года, пока в 1991-м венгерская шахматистка Юдит Полгар его не побила. Но ее рекорд продержался недолго, только до 1994 года, после чего шлюзы открылись, и в настоящее время установленную Фишером планку преодолели уже не меньше 30 молодых дарований.
С 2002 года рекорд принадлежит бывшему украинскому шахматисту Сергею Карякину, ныне играющему за Россию. Он получил титул гроссмейстера в 12 лет и семь месяцев. Хотя он точно не Фишер, однако являет собой еще один пример того, как одаренность определяет судьбу человека. В ноябре 2016-го он в упорной борьбе проиграл матч на первенство мира действующему чемпиону Магнусу Карлсену, который тоже родился в 1990 году. (Карлсен занимает третье место в списке самых молодых гроссмейстеров в истории, став им в 13 лет и четыре месяца.)
Если посмотреть на даты, когда устанавливались эти рекорды, можно увидеть четкую взаимосвязь. Сначала 1958 год, затем 1991 и 1994 годы, после чего в 1997, 1999 и 2000 годах хлынул поток рекордов, и за следующее десятилетие еще больше двух десятков шахматистов получили гроссмейстерский титул в более юном возрасте, чем Фишер. Начало бума в точности совпадает с распространением профессиональных шахматных программ на мощных движках и интернета.
Есть несколько дополнительных факторов, вносящих вклад в столь невероятные темпы производства молодых гроссмейстеров, в том числе мода на получение гроссмейстерского титула в как можно более раннем возрасте и постепенная инфляция рейтингов, сделавшая преодоление планки в 2500 пунктов относительно легким делом, хотя далеко не пустячным. Получение титула гроссмейстера в подростковом возрасте, безусловно, указывает на врожденный талант. Фишер не только получил этот титул в 15 лет, но и пробился в турнир претендентов на шахматную корону, войдя в число восьми сильнейших игроков мира. Сегодня у молодых шахматистов появилось гораздо больше возможностей для того, чтобы стать гроссмейстером, и события развиваются намного быстрее. Я получил официальный титул только в 17, хотя уже в 15-летнем возрасте пробился в квалификационный отбор в финал чемпионата СССР, один из сильнейших шахматных турниров в мире. Мне присудили звание на конгрессе ФИДЕ на Мальте в декабре 1980 года, а по состоянию на январь 1981-го я занимал шестое место в мировом шахматном рейтинге. Ясер Сейраван рассказал мне одну занятную историю, показывающую, как трудно было в прошлом стать гроссмейстером. Уолтер Браун, скончавшийся в 2015 году, сетовал на резкое увеличение числа гроссмейстеров в 1990-е годы, когда на каждом конгрессе ФИДЕ стали присуждать десятки званий. Он сказал Сейравану: «Когда я получил свой титул в 1970 году, было всего два кандидата. Вторым был Карпов, но по поводу него имелись большие сомнения!»
Изучение тысяч типовых приемов и дебютных вариантов, знание которых требуется для достижения гроссмейстерского уровня игры, традиционно представляло собой медленный, многолетний процесс — вспомните утверждение Гладуэлла о «десяти тысячах часов практики», необходимых, чтобы стать экспертом. Практика показала, что технологии могут значительно сократить этот срок, делая обучение более эффективным. Сегодня все больше детей подросткового и более младшего возраста скорее усваивают теорию благодаря тому, что погружаются в мощный поток шахматной информации и в полной мере используют преимущества молодого ума, чтобы запечатлеть в памяти полученные сведения. Теперь в шахматах правильнее говорить не о десяти тысячах часов практики, а о десяти тысячах приемов и позиций.
Я работал с Карлсеном в течение всего 2009 года, когда он прокладывал путь на шахматный Олимп. У него ярко выраженный врожденный талант, и в 18 лет он занимал уже четвертое место в мировом рейтинге. Меня впечатлило, как грамотно он подходит к использованию компьютерных программ. В отличие от многих молодых шахматистов, Магнус не загипнотизирован иллюзорным совершенством машинного анализа. Он предпочитает полагаться на свой ум и свои сильные стороны и видит в машине инструмент, а не ясновидящего оракула. Поэтому он нацелен на то, чтобы тренировать свои умственные мышцы, развивая критически важные навыки решения проблем, вместо того чтобы просто подражать шахматному движку. А когда ему надо решить трудную проблему за шахматной доской, он не тянется мысленно к компьютерной мыши.
Сравните это с ситуацией, когда вы не можете что-либо вспомнить и рефлекторно тянетесь к своему смартфону. Почему бы вам на минутку не остановиться и не попробовать обойтись без своего электронного помощника? Пусть это будет такая мелочь, как название фильма или адрес электронной почты друга, но подобная тренировка когнитивных мышц очень полезна. Конечно, приобретение и сохранение знаний имеют ценность только тогда, когда мы используем их творчески — что и является главным предназначением человеческого ума. Наш ум сводит всю информацию воедино и превращает ее в понимание и идеи, причем зачастую мы этого даже не замечаем. Даже если сегодня мы перестали бродить по книжным магазинам и библиотекам, мы должны позволить нашим умам блуждать в поисках вдохновения.
Разнообразие географических регионов, где появляются одаренные шахматисты, также примечательно. Разумеется, это постсоветское пространство, но сегодня к нему присоединились Индия, Норвегия, Китай, Перу и Вьетнам. На национальном уровне аналогичную тенденцию можно наблюдать в Соединенных Штатах. В прошлом центром американского шахматного мира являлся Нью-Йорк. Сегодня Шахматный фонд Каспарова работает с молодыми дарованиями из Калифорнии, Висконсина, Юты, Флориды, Алабамы и Техаса. В последние два десятилетия, особенно благодаря распространению интернета и мобильных телефонов, технологии дали людям, где бы те ни проживали, возможность стать предпринимателями, учеными, да в общем кем угодно. И здесь опять же шахматные дрозофилы уже проложили путь. В мире много талантливых людей — им просто нужно дать инструменты и возможности, чтобы реализовать свои таланты.
Под маской безобидного хобби шахматы преодолевают все культурные, географические, технологические и экономические барьеры. Вновь и вновь они выступают моделью в широчайшем спектре областей — от искусственного интеллекта и онлайновых партий до методов решения проблем и игрофикации в образовании. Воспитание множества молодых гроссмейстеров с их уникальным образом мышления должно послужить полезным примером для традиционного образования, хотя и с теми же оговорками. Дети способны учиться значительно быстрее и эффективнее, чем позволяют им традиционные методы образования. Они уже делают это сами, живя в гораздо более сложной среде, чем та, в которой выросли их родители.
Иногда я задаюсь вопросом, стал бы я чемпионом мира по шахматам, если бы в 1960-е годы в Баку, где я вырос, у меня было столько же возможностей времяпрепровождения, сколько у современных детей. Как и каждое поколение родителей, я сетую на все эти современные увлечения и гаджеты, отвлекающие внимание моих отпрысков. Но это их мир, и мы должны подготовить детей к жизни в нем, а не пытаться оградить наших мальчиков и девочек от реальности. Дети любят общение и творчество, и благодаря современным технологиям они могут общаться и творить множеством самых разных способов. Если в школе создаются условия для творчества и сотрудничества, дети там процветают.
То, что сегодня обучение в школах мало чем отличается от обучения сто лет назад, не просто странно, а абсурдно. Как может учитель или даже стопка книг быть единственным источником информации для детей, которые могут получить доступ ко всем накопленным человечеством знаниям за считаные секунды с помощью устройств, лежащих в их кармане, причем сделать это гораздо быстрее, чем их учителя и родители? Мир меняется слишком быстро, чтобы научить детей всему, что может пригодиться им в жизни, поэтому мы должны научить их тому, как надо учиться, — творческому подходу к решению проблем, динамичному сотрудничеству в интернете и в реальной жизни, проведению исследований в режиме реального времени, а также модификации и созданию собственных цифровых инструментов.
Несмотря на более высокий уровень технологического развития и благосостояния в Соединенных Штатах, Западной Европе и некоторых экономически развитых странах Азии, наибольший потенциал для радикальных изменений в сфере образования имеется у развивающихся государств. Зачем им пытаться догонять развитый мир, перенимая устаревшие методы образования? В некоторых бедных странах люди, никогда не пользовавшиеся персональными компьютерами и традиционными банками, сразу начали использовать смартфоны и виртуальную валюту — и так же быстро они смогут внедрить у себя новые, динамические парадигмы образования, поскольку им не придется многое менять.
Достичь этой цели можно благодаря общедоступности мощнейших технологий. Сегодня дети в классе могут самостоятельно составить собственный учебный план и собственные учебники, используя свои планшеты и опираясь на сотрудничество с другими детьми и преподавателями. Такой подход уже применяется на шахматных курсах. Дети имеют возможность изучать любой новый материал, их интересующий, а преподаватели, которые могут находиться в любой точке мира, доступны 24 часа в день семь дней в неделю, а не только в часы школьных занятий.
Богатые страны подходят к образованию так же, как обеспеченные аристократические семьи к инвестированию. Если на протяжении многих лет тот или иной метод давал хорошие результаты, зачем раскачивать лодку? В последние годы я выступал во многих городах, от Парижа и Иерусалима до Нью-Йорка, на конференциях, посвященных проблемам образования, и могу сказать, что ни в одной другой сфере не встречал более консервативного мышления. Причем не только в административно-бюрократической среде, но и среди учителей и родителей. Короче говоря, у всех, кроме детей. Преобладающая идея такова: образование — слишком важная сфера, чтобы рисковать. Я же настаиваю на том, что образование — слишком важная сфера, чтобы не рисковать. Мы должны узнать, что работает, а что нет, и единственный способ это сделать — пойти путем экспериментов. Дети справятся с этим. Они уже делают это самостоятельно. Но взрослые продолжают бояться.
Мой матч с индийским претендентом на мировую корону Виши Анандом (Нью-Йорк, 1995) стал первым, при подготовке к которому использовалась компьютерная программа. Мы с тренерами решили задействовать в качестве проверочной счетной машины программу Fritz 4. Мы не доверяли ей ничего стратегического, но она позволяла значительно сэкономить время при анализе сложных тактических позиций, гарантируя, что мы не просмотрели ничего важного.
Матч с Анандом начался с восьми ничьих. Мне это было на руку, ибо при ничейном исходе матча я сохранял титул, но по мере продолжения череды наших осторожных ничьих болельщики стали задаваться вопросом, не потерял ли я свою хватку. Честно говоря, я и сам начал немного беспокоиться. Ананд был хорошо подготовлен, и я играл без особой уверенности. Затянувшаяся плохая игра может вынудить вас сомневаться в собственных решениях, что может привести к еще более плохой игре. Когда я обдумывал сложившуюся ситуацию в апартаментах в Нижнем Манхэттене, где разместилась моя команда, мне в голову неожиданно пришла идея, способная переломить ход матча. Я изобрел потрясающую комбинацию с жертвой фигуры в открытом варианте испанской партии, который применял Ананд. Мы с тренерами потратили все выходные на уточнение невероятно сложной тактики, и здесь машина оказала нам неоценимую помощь, несмотря на относительную слабость тогдашних движков.
Проблема была в том, что белыми мне предстояло играть через партию. Меня так увлекла эта замечательная идея, что мы фактически проигнорировали подготовку к предстоящей партии черными. Я был раздосадован тем, что придется играть еще одну партию, прежде чем я смогу поразить Ананда и весь мир этой убойной новинкой. Но недаром народная мудрость гласит, что не стоит ставить телегу впереди лошади и что цыплят по осени считают. В следующей, 9-й партии я потерпел сокрушительное поражение. Ничуть не хочу принизить качество игры Ананда: он играл очень сильно и заслужил победу. Но я виню себя в том, что позволил себе отвлечься и в итоге стал отставать в счете в середине матча. Теперь мне нужно было как следует собраться в 10-й партии, чтобы не выбросить на ветер свою ошеломляющую заготовку.
Наконец этот день настал, и я горел нетерпением. Я надеялся, что Ананд не догадается о моих планах по выражению моего лица. Если бы он избрал другую защиту, а не открытый вариант «испанки», как в 6-й партии, не знаю, как бы я перенес этот удар. Напряжение было так велико, что едва арбитр случайно уронил часы на доску, я подскочил на стуле и на мгновение закрыл лицо руками.
К моему огромному облегчению, Ананд повторил свой любимый дебют, и мы следовали этой линии вплоть до 14-го хода. С определенной точки зрения в таком повторении для Ананда был смысл. Та партия сложилась для него хорошо, так почему бы ее не повторить? Но неужели он думал, что я буду повторять эту линию, не найдя сильной новинки? Это показывало его уверенность в своей дебютной подготовке, которая обеспечила хорошие результаты в первой половине матча. Однако того, что произошло дальше, не мог ожидать никто.
На 14-м ходу я пошел не так, как в 6-й партии, а слоном на c2. Ранее этот ход уже рассматривался другими игроками, но не в полной мере. Экс-чемпион мира Михаил Таль, славившийся своей поразительной тактической зоркостью, предлагал эту жертву много лет назад, но его идея была забракована, поскольку белые практически не получали преимущества. Другие аналитики тоже оценили этот ход как эффектную пустышку. Но я нашел неожиданное продолжение, которое перевернуло все оценки с ног на голову, пусть даже в одной решающей партии. Вместо того чтобы вывести коня в центр, как рекомендовал Таль и что казалось самым логичным, я увел его в сторону, на b3. Отсюда конь защищал свою ладью, атаковал черного коня и при этом не мешал другим фигурам включиться в атаку на черного короля.
Наконец-то сделав ход, не дававший мне покоя три дня, я не смог совладать с нервами и вскочил со стула, чтобы немного пройтись. Выходя из игрового зала, я не придержал за собой дверь, и та захлопнулась с грохотом, что некоторые сочли грубым методом психологической войны. Но это были всего лишь нервы. Моя новинка предполагала жертву целой ладьи в обмен на страшную атаку на короля Ананда. Во время подготовки мы не нашли достойного ответа за черных, а Ананд потратил на его поиски 45 минут (что было особенно примечательно, учитывая его репутацию одного из самых скоростных игроков в истории шахмат).
Я следовал подготовленной линии, тогда как Ананд пытался найти выход из этой ловушки. В сложном положении он сделал несколько лучших оборонительных ходов, и мне пришлось играть максимально точно, чтобы одержать первую победу и сравнять счет в матче. После этого нам предстояло сыграть еще десять партий, но я уже перехватил инициативу. И в 11-й партии вынул из рукава еще один сюрприз: впервые в жизни применил «вариант дракона» в сицилианской защите. Выиграв и эту партию, и две из трех следующих, я получил большой перевес в счете и сохранил его до конца матча.
Я решил вернуться к матчу с Анандом и написанным о нем статьям и книгам, чтобы сравнить все это с моими битвами с Deep Blue. Мне бросилось в глаза, что представители обеих команд, моей и Ананда, а также многочисленные журналисты и аналитики уделяли много внимания психологическим аспектам. Взять хотя бы комментарий американского гроссмейстера Патрика Вольфа, одного из секундантов Ананда, сделанный им после 10-й партии: «После 9-й партии в нашем лагере царило приподнятое настроение{88}. Но после 10-й мы были подавлены и удручены. Такие сильные эмоциональные переживания играют важную роль в любом матче. Матч является проверкой не абсолютного уровня шахматного мастерства в целом, а способности шахматиста сыграть хорошо эти конкретные партии. Вот почему умение контролировать свое эмоциональное состояние оказывает значительное влияние на исход матча».
После восьми ничьих кряду Ананд одержал одну победу, а затем проиграл четыре из пяти следующих партий. По сути, матч завершился, хотя впереди было еще шесть партий. Дело не в том, что после 10-й партии Ананд вдруг, как по волшебству, стал более слабым игроком, а я — более сильным. И хотя подготовленные мною с тренерами сюрпризы, безусловно, сыграли свою роль, не они стали причиной того, что Ананд начал играть намного ниже своего обычного уровня. Потерпев крушение из-за сильной новинки и совершив ошибку при столкновении с неожиданным вариантом в следующей партии, он так и не сумел вернуть утраченное самообладание, необходимое для стабильной игры. В какой-то мере мне повезло, что я не нашел эту сильную новинку во время предматчевой подготовки. Применив ее в 10-й партии (а не, скажем, во 2-й), я не дал Ананду времени прийти в себя.
Я критикую не Виши Ананда, а нашу человеческую природу. Тот же недуг поразил меня 18 месяцев спустя во время матча-реванша с Deep Blue, и даже понимая, что со мной происходит, я не мог противостоять ему. Наши эмоции влияют на наш разум множеством способов, которые мы порой не в состоянии объяснить. Некоторые бойцы, оказавшись на грани поражения, играют лишь лучше. Они окапываются и отчаянно защищаются, воспринимая сложившуюся ситуацию как вызов. Таким был Виктор Корчной; он любил взять пешку, рискуя попасть под яростную атаку противника. Человека, пережившего в детстве блокаду Ленинграда, было трудно запугать за шахматной доской. Но такого рода психологическая устойчивость редка, даже среди лучших гроссмейстеров. Ошибки почти всегда влекут за собой другие ошибки.
То же самое можно сказать обо всех сферах жизни. Многие исследования показали, что в состоянии депрессии или просто при отсутствии уверенности в себе мы принимаем решения не так быстро, как обычно, и эти решения чаще оказываются плохими, консервативными{89}. Пессимизм приводит к тому, что психологи называют «повышенной готовностью к потенциальному разочарованию»{90}. Все это выливается в нерешительность и стремление избегать или откладывать принятие важных решений. Даже привычные методы принятия решений практически никак не улучшают их качество. Сбой происходит на более глубоком уровне, поскольку депрессия негативно влияет на фундаментальные навыки принятия логических решений.
Интуиция — произведение опыта и уверенности. Я употребляю термин «произведение» в математическом смысле, то есть интуиция = опыт × уверенность. Это способность действовать инстинктивно на основе глубоко усвоенных знаний. Депрессия отключает интуицию, поскольку подавляет уверенность в себе, необходимую для превращения опыта в действие{91}.
Влияние эмоций — только один из многочисленных факторов, заставляющих людей действовать иррационально и непредсказуемо. Экономическая теория основывается на том факте, что люди — «рациональные игроки» (действующие субъекты), всегда принимающие решения, исходя из своих интересов. Вероятно, именно поэтому экономику называют «мрачной наукой» и говорят, что экономисты оказывают такое же воздействие на экономику, как синоптики на погоду. Люди зачастую абсолютно нерациональны, ни в составе той или иной группы, ни по отдельности.
Одним из самых простых и наглядных примеров того, насколько мы подвержены ошибочным интуитивным заключениям, является так называемый «ложный вывод Монте-Карло», или «ошибка игрока». Предположим, что при подбрасывании монеты правильной формы 20 раз подряд выпадает орел. Какова вероятность того, что в следующий раз монета упадет решкой вверх? Разумеется, выпадение орла 21 раз подряд — очень редкое явление. Интуиция подсказывает вам сделать ставку на решку, исходя из предположения о том, что в конце концов должна вступить в действие некая статистическая регрессия и выпасть решка. Это в высшей степени ошибочное предположение, благодаря которому игорным империям в Лас-Вегасе и на Макао не приходится беспокоиться об оплате своих огромных счетов за электричество. При каждом подкидывании монеты вероятность выпадения орла или решки по-прежнему составляет 50 на 50 независимо от того, как монета падала раньше. Вероятность выпадения 21 орла подряд ничуть не больше и не меньше, чем вероятность любой другой последовательности.
Даже если вы никогда раньше не слышали об этом заблуждении, вы все равно каким-то образом осознаете его ложность. Вы знаете, что при каждом подбрасывании вероятность выпадения орла или решки составляет 50 на 50 и никак не зависит от того, что происходило раньше. И тем не менее мы хотим думать, что предыдущие события каким-то образом влияют на последующие. Считается, что это когнитивное заблуждение получило свое название из-за случая, произошедшего в казино Монте-Карло 18 августа 1913 года, когда шарик выпал на черное поле рулетки 26 раз подряд. Да, это крайне редкое явление, но, если задуматься, ничуть не более редкое, чем выпадение любой другой из 67 108 863 возможных 26-элементных комбинаций красного и черного цвета. Эта последовательность имела значение только для одержимых закономерностями людей, которые проиграли миллионы франков, поставив на красное.
Теперь вы понимаете, почему компьютеры имеют определенное преимущество в партиях, в которых последовательности «счастливых» и «несчастливых» карт или бросков костей могут влиять на решения, принимаемые людьми. Машины не ищут закономерностей в случайных событиях и, даже если они запрограммированы на их поиск, не находят их там, где их нет, как это часто делает человеческий ум.
Замечательные работы Даниэля Канемана, Амоса Тверски и Дэна Ариели показывают, насколько никудышны способности людей мыслить логически. При всей невероятной мощи нашего разума его очень легко обмануть. Я твердо верю в силу человеческой интуиции и в необходимость развивать ее и использовать, но не могу отрицать, что моя вера покачнулась после прочтения таких книг, как «Думай медленно… Решай быстро» Канемана (2011) и «Предсказуемая иррациональность» Ариели (2008). Прочитав их работы, вы можете удивиться, как мы, люди, вообще выжили в этом мире.
Подобно гроссмейстерам, мы полагаемся на предположения и опыт, чтобы понять окружающую нас сложность. Мы не просчитываем каждое решение, исследуя каждый возможный исход, как это делают машины с помощью грубой силы. Это неэффективно и ненужно, поскольку в большинстве случаев наши предположения довольно точны. Но когда их изучают ученые или эксплуатируют рекламодатели, политики и другие манипуляторы, становится ясно, что всем нам не помешает немного объективного контроля, в чем нам и могут помочь наши машины. Они не только способны предоставить правильные ответы, но и позволяют увидеть, насколько наше мышление иррационально и как легко оно поддается влиянию. Осознав такие когнитивные ошибки и слепые пятна, мы не избавимся от них, но сделаем на пути к этому важный шаг.
В 2015-м в ходе одного из моих ежегодных визитов в Оксфорд я провел семинар на тему принятия решений для группы студентов Школы бизнеса имени Вафика Саида. Во время этого семинара я пошел на эксперимент, похожий на тот, что описал в своей книге Даниэль Канеман. Я захотел проверить влияние так называемого эффекта якоря на процесс принятия решений. Сработает ли он на будущих магистрах делового администрирования, даже если те узнают, что я пытаюсь их обмануть?
Я разбил студентов на семь групп по пять-шесть человек и раздал каждой карточки с напечатанными шестью несколько различающимися вопросами. Первые три вопроса предполагали ответ «да» или «нет» и являлись вариантами следующих вопросов:
— Ганди был моложе или старше 25 лет на момент смерти?
— Самое высокое дерево в мире выше или ниже 18 м?
— Среднегодовая температура в Дамаске выше или ниже 3 °C?
Оставшиеся три вопроса были одинаковыми для всех семи групп:
— Сколько лет было Ганди на момент смерти?
— Какова высота самого высокого дерева в мире?
— Какова среднегодовая температура в Дамаске?
Различались только цифры в первых трех вопросах. Для каждой группы они возрастали примерно на 25 %. Так, второй группе в вопросе про Ганди я указал возраст 30 лет, в вопросе про дерево — высоту 31 м, а в вопросе про Дамаск — температуру 8 °C и т. д. Для седьмой группы я задал соответственно 125 лет, 400 м и 48 °C.
Я постарался выбрать такие вопросы, отвечая на которые, студенты могли опереться не на знания, а на интуицию. Очевидно, что Ганди умер в возрасте старше 25 и моложе 125 лет и что самое высокое дерево в мире определенно выше 18 м. Но важны были не первые три вопроса, а то, как они повлияют на ответы на следующие три вопроса. Конечно же, они повлияли! Имейте в виду, что студенты не имели никакой достоверной информации и знали, что должны мыслить объективно, поскольку я пытаюсь ввести их в заблуждение.
Первая группа дала в среднем такие ответы: 72 года, 30 м и 11,4 °C. Пятая — 78 лет, 112 м и 24 °C. Седьмая — 79 лет, 136 м и 31,2 °C. За двумя исключениями цифры в ответах возрастали вместе с порядковым номером группы. (В одной группе было трое студентов из Индии, которые точно знали, что Ганди умер в 78 лет. Остальные их ответы: 115,7 м и 11,2 °C.) Средние оценки температуры составляли 11,4; 18,1; 21,3; 21,8; 24,0; 30,7; 31,2. Цифры в первом блоке вопросов напрямую повлияли на ответы на втором блоке, несмотря на то, что не содержали никакой полезной информации и в некоторых случаях были явно занижены или завышены.
Канеман описывает еще более тонкое воздействие этого якоря. Он задавал студентам вопрос, предполагающий количественную оценку, и просил запустить рулетку, которая при остановке указывала на случайное число от 1 до 100. Как вы могли догадаться, чем больше было выпавшее число, тем выше оказывались средние количественные оценки, данные студентами. Даже когда испытуемых просили не обращать внимания на рулетку, цифры на ее колесе все равно влияли на их ответы. Наш мозг может очень эффективно обманывать сам себя.
Мы страдаем от подобных иррациональностей и когнитивных заблуждений и за шахматной доской, и в жизни. Мы часто делаем импульсивные ходы, даже когда тщательный анализ показывает несостоятельность наших планов. Мы влюбляемся в свои планы и отказываемся признавать новые доказательства, свидетельствующие против них. Мы позволяем так называемой предвзятости подтверждения влиять на наше мышление таким образом, что мы начинаем верить в свою правоту даже тогда, когда все указывает на нашу ошибку. Мы сами вводим себя в заблуждение, находя закономерности в случайных событиях и видя корреляции там, где их нет.
В шахматном анализе использование шахматного движка для объективного контроля очень полезно, но чрезмерная опора на машину может лишить вас уверенности в своих силах и даже поработить. Pocket Fritz на смартфоне, лежащем в вашем кармане, не поможет вам во время игры. И хотя использование смартфона в обычной жизни не имеет ничего общего с применением допинга, злоупотребление им может привести к развитию зависимости — и тогда в отсутствие этого цифрового костыля вы будете превращаться в когнитивного калеку. Мы должны использовать эти мощные и объективные инструменты, какими являются машины, не только для того, чтобы лучше провести анализ и принять лучшее решение в данный конкретный момент, но и для того, чтобы всегда хорошо анализировать и принимать самые верные решения.
Каждый шахматный ход, который я сделал за свою продолжительную карьеру, представляет собой решение. И вследствие ограниченной природы шахматной игры каждое из этих решений может быть проанализировано и оценено с точки зрения его качества. Разумеется, в жизни не все так четко и ясно, как на шахматной доске, и принимаемые нами решения не всегда поддаются объективному анализу, как шахматные ходы. Но ситуация меняется. Наши машины все больше способны помочь нам в объективной оценке наших решений по мере того, как мы скармливаем им все больше и больше данных о нашей жизни. Ваши личные финансы могут отслеживаться в интернете банками и брокерами, а также специализированными сайтами и приложениями. Специальные программы могут быть в курсе всех ваших целей и результатов в области обучения. Цифровое устройство на вашем запястье и мобильные приложения могут контролировать ваше состояние здоровья и физическую активность, в том числе вести подсчет сожженных калорий и сделанных приседаний. Как показывают исследования, мы склонны переоценивать нашу физическую активность и недооценивать количество съеденной пищи. Почему? Это улучшает наши представления о себе — и позволяет есть больше вредных блюд. Тандем «человек плюс машина» поможет вам быть честным с самим собой при условии, что вы честны со своими машинами.
Мы можем использовать все эти инструменты для проверки своих предположений и решений и тем самым тренировать собственные умственные мышцы, о чем я говорил выше. Если вы работаете над каким-либо проектом, скажите, сколько времени, по-вашему, потребуется на его реализацию? Как долго вам придется работать для достижения цели, которую вы себе поставили? Когда дело будет сделано, вернитесь и посмотрите, насколько точны были ваши оценки. Если вы ошиблись, то почему? Действовать в соответствии со списками задач и целевыми показателями критически важно для дисциплинированного мышления и стратегического планирования. Мы часто забываем об этом правиле за пределами рабочей среды, но оно очень полезно, и современные цифровые инструменты помогают следовать ему практически во всех сферах жизни.
Меня часто описывают как очень импульсивного человека, и я с этим не спорю, хотя для чемпиона мира по шахматам порывистость может показаться недостатком. Меня регулярно спрашивают, как мне удается примирить мой принцип «сперва действуй, потом задавай вопросы» с холодной объективностью, необходимой для игры на самом высоком уровне. Я всегда отвечаю, что, во-первых, у меня нет никаких универсальных секретов и советов относительно того, как обзавестись дисциплинированным мышлением. Все мы разные, и то, что работает для меня, может не работать для других. Мне посчастливилось: преданная мама и потрясающий учитель с детства старались привить мне дисциплинированность, а не потакали моему взрывному характеру. Клара Каспарова и Михаил Ботвинник понимали, что своими попытками приструнить мою импульсивность они не задушат мой талант, а наоборот, помогут ему расцвести в полную силу.
Во-вторых, вы должны стремиться к предельной честности в самых важных вещах. При разборе своих партий я всегда старался быть таким же объективным, как машина. Даже если мне иногда не удавалось сохранять абсолютную объективность, я могу сказать, что был достаточно объективным. Если вы честно и добросовестно подходите к сбору данных и анализу, то обнаружите, что вскоре начнете делать все более точные оценки.
Как и мои ученики, которые используют шахматные программы, чтобы научиться принимать более объективные и точные решения за шахматной доской, вы можете использовать наши умные машины не только для того, чтобы перекладывать на них принятие решений, но и для того, чтобы более объективно анализировать собственные решения. Однако все данные в мире, если вы не прислушаетесь к ним, не помогут вам избавиться от когнитивных ошибок. Перестаньте искать своим поступкам оправдания и логические обоснования — с их помощью ваш ум вводит вас в заблуждение и заставляет делать то, что ему хочется. Конечно, довольно сложно позволить каким-либо данным руководить нашими действиями — в конце концов, мы ведь не роботы.
Если вы помните, парадокс Моравека гласит, что машины сильны в том, в чем слабы люди, и наоборот. Это как нельзя лучше видно в шахматах, что и подало мне идею одного эксперимента. Что если человек будет играть не против машины, а на пару с машиной? Мы придумали термин «продвинутые шахматы» (advanced chess), или «адванс», — и в 1998 году в испанском Леоне состоялся первый матч. Каждый игрок имел под рукой персональный компьютер и мог использовать во время партии любую шахматную программу по своему выбору. Цель была в том, чтобы благодаря синтезу самых сильных сторон человеческого и машинного интеллекта выйти на новый, высочайший уровень игры.
Тогда я не знал об этом, но великий британский исследователь в области ИИ и теории игр Дональд Мичи предложил такую концепцию еще в 1972 году в статье о шахматных машинах, опубликованной в журнале New Scientist. Он назвал это «консультативными шахматами» (consultation chess) и написал, что будет интересно посмотреть, насколько может улучшиться игра человека, если во время партии у него будет доступ к грубой силе. Но в 1972-м сильных шахматных движков еще не существовало, поэтому эта идея, выдвинутая Мичи и впоследствии несколькими другими исследователями, так и не была протестирована.
Хотя я постарался подготовиться к необычному формату соревнований, наш леонский матч с болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым, на тот момент одним из сильнейших шахматистов мира, вызвал странные ощущения. Пользоваться шахматной программой во время партии было одновременно и увлекательно, и тревожно. В первую очередь благодаря доступу к базе данных с несколькими миллионами сыгранных партий не нужно было так сильно напрягать память в дебютной стадии. Но поскольку мы имели равный доступ к одной и той же базе данных, преимущество все равно должно было перейти к тому, кто первым применит удачную новинку.
В миттельшпиле помощь компьютерной программы означала, что больше не нужно бояться грубых тактических просчетов. Компьютер может просчитать последствия каждого рассматриваемого вами хода и указать на возможные результаты и контрходы, которые вы могли просмотреть. Теперь можно было сосредоточиться на глубоком планировании, а не на тщательных расчетах, отнимающих так много времени в обычных шахматных партиях. Такие условия не подавляли наши творческие порывы, а наоборот, стимулировали их.
Несмотря на доступ к лучшему из обоих миров, наши партии с Топаловым оказались не настолько совершенны, как ожидалось. Мы играли с часами, и у нас было ограниченное время для консультаций с нашими кремниевыми партнерами. Тем не менее результаты говорили сами за себя: всего лишь за месяц до этого я победил Веселина в обычных быстрых шахматах со счетом 4:0, а борьба в продвинутых шахматах завершилась с ничейным счетом 3:3. Машина свела на нет мое преимущество в тактических расчетах.
Соревнования в формате адванс проходят в Леоне на протяжении вот уже многих лет и позволяют узнать много интересных вещей о шахматах и не только. Мне нравится то, что зрители могут видеть все происходящее на компьютерных экранах игроков. Это все равно что поместить скрытую камеру в гроссмейстерский ум и наблюдать, как игрок обдумывает различные варианты. В любом случае наблюдать за мышлением игрока в режиме реального времени очень интересно. После партии можно легко сравнить то, как оба игрока анализировали все ходы, и увидеть, как по-разному они оценивали ключевые позиции.
Еще более примечательным оказалось продолжение эксперимента с продвинутыми шахматами. В 2005 году шахматный сайт Playchess провел так называемый фристайл-турнир, в котором любой желающий мог состязаться в команде с другими шахматистами и компьютерами. Как правило, на онлайновых шахматных площадках используются специальные «антимошеннические» алгоритмы, чтобы предотвратить использование шахматистами компьютерной помощи во время партии. (Интересно, что эти алгоритмы обнаружения, в которых используется диагностический анализ ходов и вычисляются вероятности, должны быть ничуть не менее умными, чем выявляемые ими игровые шахматные программы.)
Привлеченные внушительным по шахматным меркам призовым фондом, в соревновании приняли участие целые команды сильных гроссмейстеров, оснащенные сразу несколькими компьютерами. Поначалу результаты не удивляли. Альянс «человек + машина» брал верх даже над самыми мощными компьютерами. Могучая шахматная машина Hydra из Объединенных Арабских Эмиратов, созданная, как и Deep Blue, специально для игры в шахматы, не могла сравниться с сильным шахматистом, использующим обычный компьютер. Противник, сочетающий в себе стратегическое мышление человека и тактическую зоркость компьютера, оказался неуязвим для шахматных машин.
Но итог турнира стал большой неожиданностью. В нем победили не гроссмейстеры с сильнейшими ПК, а два американских шахматиста-любителя Стивен Крэмтон и Закари Стивен, которые пользовались тремя компьютерами одновременно. Они грамотно применили компьютерные программы, «обучили» компьютер очень глубокому анализу позиций — и в итоге эффективно противопоставили эти достижения пониманию игры и опыту гроссмейстеров и превосходящей вычислительной мощи машин. Это был триумф процесса как такового. Разумный процесс одержал победу над превосходящими знаниями и превосходящими технологиями. Что, разумеется, не делает эти знания и технологии устаревшими. Но победа американцев продемонстрировала, как эффективность и координация могут значительно улучшить результаты. Из всего этого я делаю следующий вывод: комбинация «слабый шахматист + машина + лучший алгоритм принятия решения» оказалась сильнее мощного компьютера и, что еще интереснее, сильнее комбинации «сильный шахматист + машина + худший алгоритм принятия решения».
Я написал об итогах этого турнира по фристайл-шахматам в книге «Шахматы как модель жизни» и дополнительно развил свой вывод в статье, опубликованной в журнале The New York Review of Books(2010). Я не ожидал, что в ответ мне станут поступать звонки и электронные письма со всего мира. Google и другие компании из Кремниевой долины, а также инвестиционные компании и поставщики корпоративного ПО пригласили меня прочитать лекции о важности процесса в человеко-машинном сотрудничестве. Они рассказали, что уже на протяжении многих лет пытаются донести эту идею до потенциальных клиентов. Алан Трефлер, основатель и генеральный директор компании Pegasystems в Кембридже (Массачусетс), в молодости серьезно увлекался шахматами и шахматным программированием. Его Pegasystems разрабатывает программное обеспечение для управления бизнес-процессами, и Трефлер был очень воодушевлен моей статьей. «Это именно то, что мы делаем, — сказал он, — просто я никогда не мог так хорошо это объяснить!»
Занятно, что сегодня «закон Каспарова» зажил своей жизнью и его по-разному интерпретируют, хотя, думаю, такие вещи от нас уже не зависят. Успех моей статьи во многом был вызван ее своевременностью. Благодаря машинному обучению и другим методам умные машины делают большие успехи, но обычно в какой-то момент они достигают пределов своих интеллектуальных возможностей, проистекающих из использования баз данных. Между тысячами и несколькими миллиардами обучающих примеров существует огромная разница. Но между несколькими миллиардами и несколькими триллионами примеров разницы нет почти никакой. По иронии судьбы после предпринимавшихся на протяжении десятилетий попыток заменить человеческий интеллект алгоритмами сегодня многие компании и исследователи пытаются найти способы вернуть человеческий разум в процесс анализа и принятия решений в условиях изобилия данных. Шахматные программы уже прошли этот путь: сначала они перешли от знаний к грубой силе, а затем, когда последняя столкнулась со снижением эффективности, снова начали возвращаться к знаниям. И опять же ключом к успеху здесь является процесс, а процесс может быть разработан только человеческим разумом.
Одним из препятствий на пути плодотворного сотрудничества человека и машины остается согласованность. Многие виды деятельности, от визуального распознавания до интерпретации смысла, даются людям лучше, чем машинам, но как наладить взаимодействие между людьми и машинами таким образом, чтобы максимально использовать сильные стороны и тех, и других — и при этом избежать существенного замедления работы компьютеров? Сегодня IBM и многие другие компании сосредоточили внимание на усилении интеллекта{92}. Вместо того чтобы пытаться заменить людей автономными системами ИИ, они стремятся применять информационные технологии для оптимизации процесса принятия нами решений. И снова дети идут впереди нас. Они предпочитают фотографии символам, символы — текстовым сообщениям, текстовые сообщения — электронным письмам, а электронные письма — голосовой почте. Все дело в скорости. Молодые выбирают самые быстрые способы коммуникации друг с другом и со своими электронными устройствами.
Строка кода, мышка, палец, голосовая команда — все эти инструменты аналоговой эпохи примитивны по сравнению с невероятными способностями современных машин. Нам необходимо новое поколение умных инструментов, которые будут служить посредниками между человеком и машиной (и наоборот). Когда люди взаимодействуют в группе, все происходит гладко, потому что каждый говорит и думает с одинаковой человеческой скоростью. Но когда в процессе принятия решений начинают участвовать машины, как наладить с ними эффективную совместную работу? Интеллектуальная автоматизация будет и дальше приводить к потере рабочих мест, но есть область, которую ждет стремительное развитие в обозримом будущем, — сотрудничество человека и машины, разработка и архитектура процессов. Это не просто новый пользовательский опыт, а совершенно новые методики, позволяющие задействовать человеко-машинное партнерство в различных областях и создавать необходимые для этого новаторские инструменты.
Наши алгоритмы постоянно будут умнеть, а аппаратные средства — становиться более скоростными. Машины будут постепенно совершенствоваться и скоро смогут выполнять порученные им задания без участия человека — точно так же, как в свое время лифты стали обходится без лифтеров. Это происходит сегодня и будет происходить и дальше, если мы сумеем встать на устойчивый путь технического прогресса. Я надеюсь, что сумеем, и это хорошая новость, потому что альтернатива — стагнация и снижение уровня жизни. Чтобы идти впереди машин, мы не должны пытаться затормозить их развитие, поскольку тем самым мы остановим и свой прогресс. Мы должны придать машинам ускорение. Мы должны обеспечить машинам, и себе тоже, простор для роста. Мы должны двигаться вперед, за пределы возможного и вверх.
Заключение. Вперед — за пределы возможного
В 1958 году легендарный американский фантаст Айзек Азимов написал короткий рассказ «Чувство силы». В нем рассказывается о том, как рядовой техник Майрон Ауб обнаружил, что может дублировать работу своего компьютера, перемножая числа на листке бумаги. Удивительно! Новость об этом открытии доходит до генералов и политиков, которые потрясены черной магией Ауба. Военное руководство считает, что благодаря проведенным человеком вычислениям Земля может получить решающее преимущество в войне с планетой Денеб, увязшей в управляемых компьютерами военных маневрах.
О фантастической способности Ауба совершать арифметические действия на бумаге и даже в голове — Ауб назвал эту методику графитикой — узнаёт сам президент. Он заинтригован, поскольку один из конгрессменов так оценил шокирующий потенциал графитики: «Мы можем сочетать механику расчетов с человеческой мыслью; мы можем получить эквивалент счетчикам, миллионам их. Я не могу предсказать все последствия в точности, но они будут неисчислимыми… Теоретически счетная машина не может делать ничего такого, чего не мог бы сделать человеческий мозг. Машина попросту берет некоторое количество данных и производит с ними конечное количество операций. Человек может воспроизвести этот процесс».
Президент решает запустить проект «Число», чтобы исследовать возможности применения графитики в военных целях. История заканчивается мрачно, в духе Азимова. Генерал ставит перед командой проекта «Число», в которую входит и повышенный в ранге Ауб, задачу: заменить дорогостоящие вычислительные машины, управляющие космическими кораблями и ракетами, людьми. «Условия войны заставляют нас думать еще об одном: человеческий материал гораздо доступнее вычислительной машины»{93}, — добавляет он. Разочарованный Ауб возвращается в свою комнату и заканчивает жизнь самоубийством. В посмертной записке он пишет, что не в силах нести ответственность за изобретение графитики. Он надеялся, что она будет использована «на благо человечества», а не «для смерти и уничтожения».
Тема отношений человека и машины захватила Азимова, о чем свидетельствует серия его еще более знаменитых рассказов о роботах. Учитывая время публикации «Чувства силы», можно заметить, что этот рассказ не просто высмеивал тенденцию к отуплению людей и замене их машинами. За несколько лет до этого США и СССР провели испытания водородной бомбы, и перспективы, связанные с использованием энергии термоядерного синтеза, обсуждались наравне с угрозами глобальной ядерной катастрофы. Как мы используем наши новые колоссальные возможности — для созидания или для разрушения?
На протяжении большей части своей истории человечество делало и то, и другое, хотя в последние несколько десятилетий мы движемся скорее в сторону созидания. Хотя после просмотра новостей на любом телеканале создается другое впечатление, сегодня наша жизнь стала более долгой, здоровой и безопасной, чем когда-либо в прошлом. В своей недавней книге «Зима близко» (2015) я предупреждаю, что это всего лишь геополитический сезонный тренд и, если не принять меры для его поддержания, он может обратиться вспять. Технологии сами по себе не несут добро или зло. Они нейтральны. Смартфоны, которые объединяют людей по всему миру, могут быть использованы и для общения с семьей, и для планирования террористических атак. Ключевой этический вопрос состоит в том, как мы, люди, используем наши технологии, а не в том, должны ли мы их развивать.
С этой проблемой связана масса противоречивых моментов, многие из которых затронуты в данной книге. Я не претендую на то, что знаю ответы на все вопросы. Волноваться о том, куда ведет нас развитие технологий, — естественно и необходимо. В целом я настроен оптимистично, хотя кое-что вызывает у меня беспокойство. Но больше всего я боюсь, что нам не хватит прозорливости, воображения и решимости сделать то, что должно быть сделано.
Я не раз замечал, что почти любой разговор об искусственном интеллекте быстро переходит на проблемы, затрагивающие вопросы технологии, биологии, психологии и философии. Для полноты картины сюда можно добавить теологию и физику. А также экономику и политику, поскольку сегодня интеллектуальная автоматизация стала играть жизненно важную роль в бизнес-моделях и ее последствия в равной степени важны для избирателей.
По моему опыту, тенденция так быстро расширять дискуссию на другие области знаний вызывает досаду у специалистов по технологиям. Почти у каждого из нас есть свое мнение насчет того, что делают технологи, как они это делают и что они должны и не должны делать. В ответах программистов и инженеров-электронщиков звучит усталость от вопросов о таких метафизических конструктах, как разум, не говоря уже о человеческой душе. Сами они, как правило, не донимают философов, не стучатся в двери церквей, чтобы подискутировать о природе человеческого сознания, и не звонят политикам, чтобы обсудить последствия использования своих суперинтеллектуальных роботов для глобальной безопасности. Хорошо еще, что многие из них продолжают снимать трубку, когда им звонят философы и политики.
Многие исследователи ИИ регулярно контактируют с нейробиологами и иногда снисходят до общения с психологами, но в основном они хотят, чтобы их оставили в покое и позволили мирно трудиться над своими машинами и алгоритмами. Как говорят Ферруччи, Норвиг и другие, они хотят решать проблемы, у которых есть конкретное решение, а не тратить десятилетия на не имеющие большого практического значения исследования, пусть даже успешные. Жизнь коротка, и специалисты в области ИИ хотят сделать этот мир лучше. Философские аспекты искусственного интеллекта, связанные с пониманием того, что делает нас людьми и что такое интеллект, могут быть хороши для пробуждения общественного интереса и привлечения внимания СМИ, но когда речь идет о решении конкретных проблем, они становятся не более чем эфемерными отвлекающими факторами.
Действительно ли так важно, что такое интеллект? Чем больше я узнаю об искусственном интеллекте, тем меньше нуждаюсь в определении этого термина, сколь бы точным оно ни было. Шахматы — прекрасный пример «эффекта искусственного интеллекта», описанного Ларри Теслером. По словам Теслера, «интеллект — это то, что машины еще не умеют делать». Едва придумав способ научить компьютер выполнению какой-то «интеллектуальной» задачи — например, игре в шахматы на уровне чемпиона мира, мы тут же приходим к мысли, что это не является настоящим проявлением интеллекта. Другие указывают на то, что технология, становясь хорошо отлаженной и привычной, вообще перестает восприниматься как ИИ. Это еще одна иллюстрация того, насколько недолговечны подобные определения.
Те редкие пытливые умы, которые хотят постичь потенциал машинного интеллекта путем углубления в тайны человеческого мышления, зачастую не пользуются благосклонностью деловых и академических кругов, которые все больше отдают приоритет практическим результатам. Некоторое исключение по-прежнему составляют крупнейшие университеты, но даже самые престижные учебные заведения, представляющие собой замкнутый мирок, всегда стремятся что-то публиковать, патентовать и приносить прибыль. Эпоха, когда гигантские транснациональные корпорации типа Bell и государственные программы типа DARPA вкладывали огромные деньги в фундаментальные исследования и экспериментальные проекты, осталась в прошлом. Ассигнования на НИОКР урезаются на протяжении многих лет, с ростом скептического отношения инвесторов ко всему, что не увеличивает напрямую конечную прибыль. Финансируемые государством исследования, как правило, сосредоточены на конкретных задачах, а не на открытых амбициозных миссиях вроде обозначенной Леонардом Клейнроком в его знаменитом вопросе: «Как научить все компьютеры в мире общаться друг с другом?».
Школа Джеймса Мартина при Оксфордском университете собрала под своей крышей немногочисленную команду таких исключительных личностей и поощряет междисциплинарные и свободные исследования, наподобие тех, что вышли из моды в эпоху специализации, контрольных показателей и 90-страничных заявок на гранты. Работая с 2013 года в этой школе, я лично знаком со многими ее замечательными сотрудниками, в том числе с Ником Бостромом, автором книги «Суперинтеллект» (2014), а также другими преподавателями и исследователями из Института будущего человечества. Йен Голдин{94}, основатель и первый директор оксфордской Школы Джеймса Мартина, решил, что его коллегам будет интересно принимать участие в неформальных встречах, в ходе которых они смогут обсудить общую картину, а не только то, что видят каждый день в своих научных лабораториях.
Как гласит современная поговорка, если вы самый умный человек в комнате, то вы ошиблись помещением. Что ж, в дни своих ежегодных визитов в Оксфорд я порой чувствую себя самым неумным человеком в комнате. Я горжусь тем, что хорошо информирован и быстро вникаю в сложные темы. Я много читаю, у меня масса умных друзей в самых разных областях, которые не позволяют мне расслабляться в интеллектуальном плане. Но эти оксфордские дискуссии ведутся на совершенно ином уровне и всегда завершаются слишком быстро.
Моя задача на этих встречах — помимо того, чтобы не показать, что у меня нет полудюжины ученых степеней, как у остальных присутствующих, — подливать масла в огонь дискуссии. Я побуждаю ученых мужей выйти из их зоны комфорта и посмотреть на то, чем они занимаются, под другим углом: что вызывает у них наибольшее разочарование и чему общественность должна уделить наибольшее внимание? Мы обсуждаем, какие из ключевых предсказаний на минувшие пять лет не сбылись, и пытаемся сделать свои прогнозы на следующее пятилетие. Я предлагаю им поговорить о политических и бюрократических факторах, которые сдерживают жизненно важные исследования, и о зачастую извращенных схемах получения грантов и других видов финансирования.
Дискуссии всегда проходят невероятно интересно, и иногда эти выдающиеся умы с удивлением обнаруживают, что их коллеги в соседнем здании работают над близкой темой или сталкиваются с похожими проблемами и трудностями. Просматривая свои заметки за последние три года, я с удивлением понял, как много исследователей сталкиваются с одной и той же дилеммой — решать конкретные задачи, чтобы помочь многим людям сегодня, или же прикладывать усилия к тому, что способно помочь всем людям в недалеком или отдаленном будущем. Поскольку ресурсы ограниченны, как выразился один исследователь, приходится выбирать между попытками усовершенствовать москитные сетки и работой над изобретением лекарства от малярии. Безусловно, мы должны делать и то, и другое, но даже ученые с мировым именем сегодня стоят перед такого рода альтернативой.
Что показали мои битвы с компьютерами? То, что я мог отсрочить неизбежное на несколько лет, если бы лучше готовился к партиям? Или то, к чему могут привести десятилетия научных исследований и технического прогресса? Думаю, вы понимаете, что мой ответ на эти вопросы будет несколько субъективным, но я на нем долго не задержусь. Период с 1996 по 2006 год, когда человеко-машинные шахматы были действительно состязательными, казался мне очень долгим, поскольку я находился на переднем крае. Если смотреть в перспективе, это может служить хорошим примером того, насколько незначительными становятся человеческий масштаб времени и человеческие возможности на фоне ускоряющегося технического прогресса.
Если отразить этот прогресс на графике, чтобы лучше его осознать, легко увидеть, почему дальнейшее распространение ИИ и автоматизация могут вызывать тревогу. Веками люди превосходили любую машину в шахматах и во всем остальном, требующем умственных усилий. Мы тысячи лет наслаждались безоговорочной доминацией во всех интеллектуальных областях. В XIX веке механические калькуляторы чуточку подорвали нашу ведущую роль, но реальная конкуренция началась только в цифровую эпоху, примерно в 1950-е годы. С того момента прошло еще около 40 лет, прежде чем машины, наподобие Deep Thought, стали серьезной угрозой для сильнейших шахматистов. Восемь лет спустя я проиграл очень дорогостоящему специализированному суперкомпьютеру Deep Blue. Еще через шесть лет, несмотря на более солидную подготовку и более справедливые правила, я сумел лишь свести вничью два матча против ведущих компьютерных программ Deep Junior и Deep Fritz. Они были не слабее Deep Blue, хотя работали на стандартных серверах стоимостью всего несколько тысяч долларов. В 2006-м Владимир Крамник, следующий после меня чемпион мира, при еще более благоприятных правилах проиграл со счетом 2:4 программе Fritz последнего поколения. Таким образом, завершилась эпоха, когда люди сражались с машинами по стандартным правилам шахматных состязаний: все последующие такие соревнования будут проводиться с учетом необходимости обеспечить соперникам равные условия.
Теперь представьте все эти изменения на временнóй шкале. Тысячи лет непрерывной доминации человека, несколько десятилетий слабой конкуренции, несколько лет борьбы за превосходство. И все, игра окончена. График уходит в бесконечность; отныне машина всегда будет обыгрывать человека в шахматы. Период конкуренции людей и шахматных машин представляет собой крошечную точку на временнóй шкале человеческой истории. И такой однонаправленный технологический прогресс неизбежен буквально во всем — от ткацких станков и производственных роботов до интеллектуальных агентов.
Короткий период конкуренции привлекает столько внимания лишь потому, что мы ощущаем его воздействие на себе. Фаза борьбы часто оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь, поэтому мы переоцениваем ее значимость в общей картине. Конечно, нельзя сказать, что происходящее несущественно. Бездушно было бы говорить, что не стоит обращать внимание на людей, страдающих от последствий технического прогресса, поскольку в долгосрочной перспективе их горести не имеют большого значения. Но если мы хотим найти решения, позволяющие облегчить эти страдания, нет смысла говорить о возвращении назад. Искать способы, с помощью которых можно извлечь пользу из перемен, куда более продуктивно, чем противостоять изменениям и держаться за умирающий статус-кво.
Самый главный вывод касается не фазы конкуренции, а той уходящей в бесконечное будущее линии, которая начинается после нее. Прошлое не повторится. Как бы мы ни беспокоились по поводу потери рабочих мест, изменения социальной структуры или машин-убийц, мы никогда не вернемся назад. Это противоречит человеческой природе и человеческому прогрессу. Как только машины начинают лучше (дешевле, быстрее, безопаснее) выполнять какую-либо работу, люди перестают ею заниматься, разве только для развлечения или в случае отключения электроэнергии. Мы уже никогда не откажемся от технологий, которые облегчают нашу жизнь.
Хотя поп-культура не показатель, меня огорчает, что сегодня сказочные и мифические истории в духе фэнтези занимают место научной фантастики. Взгляните на список бестселлеров в категории «Фантастика и фэнтези» на Amazon — и вы увидите, что по крайней мере первые 20 позиций занимают книги, посвященные вампирам, драконам и магам или всему сразу. В жанре фэнтези пишет много талантливых авторов, и сам я являюсь большим поклонником Толкина и Джоан Роулинг. Но я испытываю разочарование от того, что сложная и важная работа по прогнозированию будущего сегодня вдруг вышла из моды, как по мановению волшебной палочки.
Вместе с тем трудно не впасть в пессимизм по поводу завтрашнего дня после просмотра таких фильмов, как «Терминатор» Джеймса Кэмерона (1984) и «Матрица» Вачовски (1999). Обе истории основаны на том, как созданные людьми технологии обращаются против самих людей. Этот классический мотив становится как нельзя более актуальным на фоне того, что начиная с 1980-х мы живем в окружении компьютеров и искусственный интеллект стал горячей темой в исследованиях и общественных дискуссиях. В 2009 году на съезде Ассоциации по развитию искусственного интеллекта в Монтерее (Калифорния) всерьез обсуждался вопрос, существует ли вероятность того, что люди могут потерять контроль над суперинтеллектуальными компьютерами.
Представление, будто сверхумные машины могут превзойти своих создателей и объявить им войну, зародилось не сегодня. В своей лекции в 1951 году Алан Тьюринг предсказал, что машины «перещеголяют людей с их ничтожными способностями» и в итоге возьмут власть. Американский математик и писатель-фантаст Вернор Виндж популяризовал эту идею и в 1983 году выдвинул концепцию «технологической сингулярности». «В скором времени мы создадим разум более мощный, чем наш собственный. Когда это произойдет, человеческая история достигнет своего рода точки сингулярности — перехода, столь же непостижимого, как и искривление пространства-времени в центре черной дыры, — и мир выйдет за пределы нашего понимания»{95}. Десять лет спустя он уточнил: «В течение ближайших 30 лет у нас появится техническая возможность создать сверхчеловеческий интеллект. Вскоре после этого человеческая эпоха будет завершена»{96}.
Бостром принял эстафету и продолжил бег. Благодаря широчайшим знаниям и умению найти общий язык с массовой аудиторией он стал одним из ведущих проповедников, вещающих об опасностях суперинтеллектуальных машин. Его книга «Суперинтеллект» выходит за рамки обычных мрачных пророчеств и детально объясняет (подчас наводя ужас), как и почему мы можем создавать машины гораздо умнее нас и по какой причине те могут в конце концов перестать нуждаться в людях.
Плодовитый изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл со своей концепцией суперинтеллектуальных машин бежит в противоположном направлении. Его книга «Сингулярность уже близко» (2005) стала бестселлером. Как и в случае со многими предсказаниями, понятие «близко» подразумевает будущее, которое наступит достаточно быстро, чтобы мы его опасались, но не настолько скоро, чтобы воспринимать его как реальность. Курцвейл рисует почти утопический мир, в котором биологическая природа человека и нанотехнологии объединяются в сингулярность и начинают служить людям, позволяя им достичь чрезвычайно высокого уровня мышления и продолжительности жизни.
Ноэля Шарки больше занимает практическая сторона вопроса. Он разрабатывает этические нормы для использования автономных машин, особенно тех, которые он прямо называет роботами-убийцами. Мы близки к созданию дронов, способных самостоятельно спускать курок, поэтому уже сегодня должны предусмотреть и предотвратить вероятность дистанционных убийств. Фонд ответственной робототехники Ноэля Шарки также пытается обратить наше внимание на социальные последствия автоматизации и ее влияние на человеческую природу. «Настало время остановиться и подумать, каким будет наше технологическое будущее, прежде чем оно подкрадется и обрушится на нас», — говорит профессор. Очень важно, что такие предостережения звучат из уст человека уровня Шарки — ведущего мирового эксперта в области робототехники и исследований ИИ, поскольку это свидетельствует о том, что не все, кто говорит о необходимости сделать паузу, — луддиты и паникеры.
Как объяснил мне Шарки во время нашей встречи в Оксфорде в сентябре 2016 года, мы стоим на пороге революции в робототехнике буквально во всех областях, включая здравоохранение, образование, секс, транспорт, сферу услуг, охрану порядка и военное дело. Однако на государственном и международном уровне эту проблему явно игнорируют. «Кажется, все думают, что надо выждать так же, как было в случае с интернетом, — говорит Шарки. — Сегодня некоторые видные фигуры во все горло кричат о том, что ИИ захватит мир и уничтожит всех нас. Их предсказания вряд ли скоро сбудутся, но они поднимают облако пыли, скрывающее от нас насущные проблемы, с которыми мы можем столкнуться уже в ближайшее время. Пока еще искусственный интеллект остается довольно тупым и ограниченным вопреки всеобщему ажиотажу, но постепенно мы движемся к тому, чтобы позволить ему все больше контролировать нашу жизнь».
Фонд Шарки выступает за принятие международного закона о правах человека в технологическую эпоху, призванного определить и ограничить виды решений, которые могут приниматься машинами в отношении людей и взаимодействия людей с роботами. Это сразу заставляет вспомнить знаменитые три закона робототехники Айзека Азимова{97}, но в реальной жизни все обстоит гораздо сложнее.
Однажды я спросил у Эндрю Макафи, сотрудника Массачусетского технологического института и соавтора книг «Наперегонки с машиной» (2011) и «Вторая эпоха машин» (2014), что он считает самым большим на сегодняшний день заблуждением, связанным с искусственным интеллектом. Тот лаконично ответил: «Величайшее заблуждение — считать, что наши надежды на сингулярность или страхи перед суперинтеллектом вот-вот станут реальностью». Рассудительное и гуманистическое отношение Макафи к влиянию технологий на общество мне очень близко. Его прагматизм перекликается и с позицией эксперта в области машинного обучения Эндрю Ына, ранее работавшего в Google, а сейчас — в китайской компании Baidu. По меткому замечанию Эндрю, беспокоиться сегодня о сверхразумном злодейском ИИ — все равно что тревожиться о «проблеме перенаселенности на Марсе».
Это не значит, что я не ценю обеспокоенность Бострома и его единомышленников нашим будущим. Просто хочется, чтобы они больше заботились обо мне и о каждом из нас, ведь существует масса насущных проблем, требующих скорейшего решения. Я склонен рассматривать негативные эффекты внедрения новых прорывных технологий как болезнь роста, последствия которой окажутся далеко не так страшны, как это выглядит поначалу. Новое не всегда лучше старого, но неправильно думать, будто новое всегда хуже старого: такой пессимистический взгляд был бы пагубен для развития нашей цивилизации.
Мы не можем в точности знать, чтó принесут с собой новые технологии, но я верю в молодежь, которая развивается одновременно с ними. Не сомневаюсь, что молодые смогут дать технологиям новую, удивительную жизнь — так же, как это сделало мое поколение, использовав технологии для создания спутников и компьютеров, и как это делает каждое поколение на пути к своим самым грандиозным целям.
Как правило, в заключении авторы сбавляют обороты, завершая разговор; я же, наоборот, хочу вас взбудоражить. Надеюсь, что вы воспримете этот раздел как призыв задуматься об очерченных мной проблемах и принять активное участие в создании такого будущего, каким вы хотите его видеть. Эта дискуссия уникальна, поскольку не носит академического характера. Она направлена в грядущее. Чем больше люди верят в позитивное технологическое завтра, тем выше вероятность того, что оно настанет. Мы все формируем наше будущее своими убеждениями и действиями. Я верю, что наша судьба находится в наших руках. Ничто не предрешено. Никто из нас не является просто зрителем. Игра продолжается, и все мы сидим за шахматной доской. И единственный способ победить — мыслить шире и глубже.
Это не выбор между утопией и антиутопией. И не вопрос противостояния технологиям. Да, нам придется очень постараться, чтобы не дать технологиям себя обогнать. Мы прекрасно умеем учить машины выполнять нашу работу вместо нас и будем делать это все лучше и лучше. Единственный путь — постоянно ставить перед собой новые задачи и цели, создавать новые отрасли, даже если пока мы не представляем, как к этому подступиться. Нам нужны новые рубежи и воля, чтобы их штурмовать. Наши технологии избавляют нас от многих трудностей и значительной доли неопределенности, поэтому необходимо применять их для решения все более сложных, сопряженных с высокой степенью неопределенности проблем.
Я утверждаю, что благодаря технологиям, которые высвободят наши творческие способности, наша человеческая сущность проявится еще сильнее. Но человек — это намного больше, чем творчество. Мы обладаем такими возможностями, с которыми никогда не сможет сравниться ни одна машина. У машин есть инструкции, у нас есть цели. Машины не могут мечтать, даже в режиме сна. Люди — могут! И нам нужны интеллектуальные машины, чтобы превращать наши дерзкие мечты в реальность. Если же мы перестанем мечтать, перестанем стремиться к грандиозным целям, мы сами можем превратиться в машины.
БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу поблагодарить всех тех в шахматном мире и мире компьютерных наук, кто внес вклад в проведение самого долгосрочного коллективного эксперимента в истории — в создание шахматной машины, способной победить чемпиона мира. Моя жизнь и моя карьера стали неизмеримо богаче благодаря тому, что я мог стоять на плечах этих первопроходцев и вместе с ними участвовать в научном поиске. Многие из них упомянуты в этой книге; некоторые были моими достойными соперниками, другие — верными друзьями.
Фредерик Фридель пробудил во мне интерес к шахматным машинам, которые он любит так сильно, что порой я сомневаюсь, на моей ли он стороне. Кен Томпсон помогал мне своим бесценным опытом и доброжелательностью в моих матчах против машин. Дэвид Леви и Монти Ньюборн рассматривали компьютерные шахматы как способ рассказать миру об искусственном интеллекте и шахматах. Джонатан Шеффер, Энтони Марсленд и Дональд Мичи, достигшие впечатляющих успехов в области исследования технологий, на протяжении нескольких десятилетий глубоко развивали теорию шахматных машин. Маттиас Вюлленвебер и Франс Морш создали программы ChessBase и Fritz, положившие начало компьютерной эпохе в профессиональных шахматах. Томас Анантараман, Мюррей Кэмпбелл, Джозеф Хоан и Сюй Фэнсюн, работая в Университете Карнеги — Меллона, создали машину Deep Thought, которая впоследствии была превращена в суперкомпьютер Deep Blue в компании IBM. Они заслуженно завладели святым Граалем, о котором мечтали Алан Тьюринг, Клод Шеннон и Норберт Винер, и в том, что тогда Чаша находилась у меня руках, — моя удача, а не беда. Мой друг Шай Бушински и его коллега Амир Бан создали замечательную программу Junior, ставшую моим противником в заключительном матче с машиной в 2003 году.
В последние годы многие эксперты терпеливо пополняли мои знания в области искусственного интеллекта и робототехники: это Ник Бостром и его коллеги из Института будущего человечества при Школе Джеймса Мартина в Оксфордском университете; Эндрю Макафи из Массачусетского технологического института; Ноэль Шарки из Университета Шеффилда; Найджел Крук из Университета Оксфорд Брукс; Дэвид Ферруччи из инвестиционной компании Bridgewater. Хотя я не знаком лично с Дугласом Хофштадтером и Хансом Моравеком, их актуальные провокационные труды в области человеческого и машинного интеллекта были для меня особенно полезны.
Отдельно хочу поблагодарить моего агента из Gernet Company Криса Пэррис-Лэма и моего редактора в издательстве PublicAffairs Бена Адамса. Пытаясь приспособиться к извечной любви шахматистов к цейтноту, они проявили невероятную гибкость в том, что касалось сроков. Также выражаю благодарность потрясающей команде из PublicAffairs — Питеру Осносу, Клайву Придлу и Хайме Лейферу, а также моему помощнику на протяжении вот уже 19 лет Мигу Грингарду, чей профессиональный опыт в области программирования и шахмат сделал его поддержку при работе над этим проектом еще более незаменимой, чем обычно.
Сноски
1
Матчем называется серия партий между двумя соперниками, в отличие от турнира, где участвуют много игроков.
(обратно)2
Российский аналог — «Своя игра».
(обратно)3
В английском языке «Flopnik» — от русского слова «спутник» и английского to flop («шлепнуться», «провалиться»).
(обратно)4
Имеется в виду следующий афоризм: «Когда человек знает, что наутро его повесят, это удивительно помогает ему собраться с мыслями».
(обратно)5
Ёсихару Хабу — знаменитый японский профессиональный игрок в сёги.
(обратно)6
Фраза отсылает к ситуациям, когда проигравший шахматист объясняет свое поражение плохим самочувствием.
(обратно)7
Цитата из новеллы Эдгара По «Система доктора Дегот и профессора Перье».
(обратно)Комментарии
1
«относительно просто добиться того, чтобы компьютеры…» Hans Moravec, Mind Children (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988).
В течение 20 лет я намеренно избегал любых разговоров на эту тему… Единственное исключение — снятый в 2013 году документальный фильм «Конец игры: Каспаров и Машина». Хотя авторам фильма удалось отразить мою точку зрения, они оставляют много простора для домыслов. Получилась отличная, полная драматизма картина, но в ней не хватает того строгого и глубокого анализа, который я наконец готов предложить в этой книге.
(обратно)2
по сообщению Associated Press… AP, 24 сентября 1945 года. Доступно в интернете на ресурсе Tuscaloosa News: -AAAIBAJ&sjid
=HE0MAAAAIBAJ&pg=4761,2420304&hl=en. Следует заметить, что обсуждение вопроса о влиянии технологий на многовековую борьбу труда и капитала занимает одно из центральных мест в любой дискуссии, посвященной проблемам растущего экономического неравенства.
(обратно)3
Игра популярна на всех континентах… Шахматы распространялись не только на Запад, но и на Восток, где вбирали в себя элементы местных культур. Во многих странах Восточной Азии есть свои версии шахмат, которые пользуются здесь большей популярностью, чем современные «европейские» шахматы, и которые произошли, скорее всего, от общей индийской игры-прародительницы. В Японии распространена игра шахматного типа сёги, в Китае — сянци, и, кроме того, большая часть региона увлекается игрой го, даже более древней, чем шахматы.
(обратно)4
Гёте называл шахматы «пробным камнем для ума»… Эти слова Гёте вложил в уста Адельгейды, героини трагедии «Гёц фон Берлихинген», написанной в 1773 году.
(обратно)5
«Готовность принимать новые вызовы»… Статья «Гений и затмения», опубликованная в 52-м номере журнала Der Spiegel за 1987 год; /d-13526693.html.
(обратно)6
«Этот человек — феномен в истории человечества…» Цитата из статьи, опубликованной в газете World от 28 мая 1782 года, приводится в книге Гарольда Мюррея «История шахмат» (H. J. R. Murray, A History of Chess).
(обратно)7
…мировой рекорд… установил немецкий игрок среднего уровня… Марк Ланг — мастер ФИДЕ с рейтингом около 2300 пунктов. В 2011 году он провел сеанс одновременной игры вслепую на 46 досках. Прежние рекорды зачастую кажутся сомнительными, поскольку условия не были стандартизированы. Например, некоторые игроки имели доступ к бланкам для записи ходов. Более подробно о рекорде Ланга см.: -marc
(обратно)8
…сильнейшие шахматисты страны получили освобождение от призыва на фронт… Романов И. Петр Романовский. — М.: Физкультура и спорт, 1984. — С. 27.
(обратно)9
Несколько лет спустя Иосиф Сталин… Вполне в духе культа личности: был опубликован текст шахматной партии, которую Сталин, как предполагают, элегантно выиграл у Николая Ежова, будущего руководителя НКВД.
(обратно)10
…завоевав золотые медали на восемнадцати из девятнадцати Всемирных шахматных олимпиад… В 1978 году команда Венгрии отодвинула сборную СССР на второе место, что рассматривалось Москвой как огромное унижение. Когда мне было всего 17 лет, меня включили в «команду реванша», завоевавшую золото в 1980 году.
(обратно)11
…я с гордостью поменял советский настольный флаг на российский… Я настоял на том, чтобы поменять флаги, несмотря на протесты представителей Спорткомитета СССР и моего соперника Анатолия Карпова. Подробнее об этом рассказано в 3-м томе моей книги «Великое противостояние» (2010).
(обратно)12
…в своей статье «Программирование компьютера для игры в шахматы»… Claude Shannon, "Programming a Computer for Playing Chess," Philosophical Magazine 41, ser. 7, no. 314, March 1950. Статья была впервые представлена на Съезде Нацио¬нального института радиоинженеров 9 марта 1949 года в Нью-Йорке.
(обратно)13
…высказанной Норбертом Винером в его фундаментальном труде «Кибернетика»… Винер Н. Кибернетика. — М.: Советское радио, 1968.
(обратно)14
В одной из своих книг Таль поведал… Таль М. Н., Дамский Я. В. В огонь атаки. — М.: Физкультура и спорт, 1978. — С. 22–23.
(обратно)15
…даже если машина типа А будет оценивать миллион позиций в секунду… На самом деле это был очень оптимистичный прогноз, поскольку шахматные машины смогли достичь скорости перебора миллион позиций в секунду только в 1990-х годах. Но задолго до этого появились более эффективные алгоритмы поиска, сделавшие программы чистого типа А устаревшими.
(обратно)16
…играла не хуже и даже лучше… Чтобы лучше понять, как закон Мура работает на практике и с какой скоростью появляются все более быстрые и меньшие по размеру компьютеры, сравните следующие цифры: в 1985 году самый производительный компьютер в мире Cray-2 весил несколько тысяч килограммов при максимальной скорости 1,9 гигафлопса; в 2016 году iPhone 7 весил меньше 150 г при максимальной скорости 172 гигафлопса.
(обратно)17
На Земле есть много существ, которые могут перемещаться быстрее Усейна Болта… Легендарный американский легкоатлет Джесси Оуэнс, герой берлинской Олимпиады 1936 года, соревновался в 1940-х годах с лошадьми, собаками, мотоциклами и автомобилями.
(обратно)18
Популярные шахматные программы предназначались скорее для любителей… Рекламный слоган, сопровождавший появление в 1988 году программы Battle Chess для ПК, гласил: «Чтобы усовершенствовать шахматы, потребовалось 2000 лет!» Я с этим не согласен.
(обратно)19
…в соответствии с законом Мура… Закон Мура, который в популярной трактовке гласит, что вычислительная мощность компьютеров удваивается примерно каждые два года, на протяжении вот уже нескольких десятилетий является золотым правилом в области технологий. Но, как часто происходит со многими популярными максимами, изначальное утверждение Гордона Мура имело более конкретный смысл и впоследствии было расширено им. В 1965 году Мур, соучредитель Intel, обнаружил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 12 месяцев с момента их изобретения. В 1975 году он уточнил свой вывод, отметив, что число транзисторов возрастает вдвое каждые 24 года.
(обратно)20
Бронштейн разработал ряд новаторских подходов к популяризации шахмат… Бронштейн предложил произвольную расстановку фигур перед началом каждой партии задолго до того, как такую же идею выдвинул Бобби Фишер, и сегодня эта версия игры стала довольно популярной. Также раньше Фишера Бронштейн заговорил о необходимости ввести задержку времени перед каждым ходом с целью гарантировать игрокам по крайней мере несколько секунд на ход. В настоящее время режим задержки времени стал стандартом проведения профессиональных соревнований.
(обратно)21
Бронштейн по-прежнему оставался одним из сильнейших шахматистов мира… Ходили слухи, что Бронштейну не «позволили» победить Ботвинника, любимца КПСС, и в ходе моего противостояния с Карповым пару десятилетий спустя я ощущал похожее давление.
(обратно)22
Базовое значение фигур было определено еще два века назад… Разные игроки, как и разные компьютерные программы, склонялись к незначительному изменению стоимости фигур. Наиболее радикальный подход был у Бобби Фишера, который предложил оценивать слонов в 3,25 пешки.
(обратно)23
В 1984 году американский журнал BYTE написал… Leo D. Bores, "AGAT: A Soviet Apple II Computer," BYTE 9, no. 12 (ноябрь 1984).
(обратно)24
Конечно, проигрыш в Hopper трехлетнему ребенку… Эта история была описана и в книге «Шахматы как модель жизни». За десять лет, прошедшие после ее написания, я еще больше убедился в том, что лучший способ обучения технологиям, как и языку, — раннее погружение.
(обратно)25
«Гарри! Ты привез мне винчестер?!»… Если я не ошибаюсь, это был Степан Пачиков, инженер-программист, который вместе со мной руководил компьютерным клубом. Как сотрудник советской компании ParaGraph, он участвовал в разработке сис¬темы распознавания рукописного текста, и его идеи были использованы в карманных ПК Apple Newton. Впоследствии он переехал в Кремниевую долину и основал компанию Evernote, сервис создания и хранения заметок.
(обратно)26
В 1999 году я снялся в ролике, рекламирующем поисковую сис¬тему AltaVista… Если вы хотите узнать, что случилось с AltaVista, спросите у Google!
(обратно)27
…в аксиоме, сформулированной Биллом Гейтсом… В книге «Дорога в будущее». Гейтс Б. Дорога в будущее — М.: Русская редакция, 1996.
(обратно)28
«Итак, — сказал компьютер, — ответ на Великий Вопрос…» Адамс Д. Автостопом по галактике. — М.: АСТ, 2017.
(обратно)29
Пабло Пикассо, который в одном интервью сказал… Более точную цитату см. в статье: William Fifield, "Pablo Picasso: A Composite Interview," Paris Review 32, лето–осень 1964 года, и книгу того же автора: Fifield, In Search of Genius (New York: William Morrow, 1982).
(обратно)30
Компания сочла целесообразным поддержать усилия Ферруччи… Steve Lohr, "David Ferrucci: Life After Watson," The New York Times, May 6, 2013.
(обратно)31
В 1989 году два ведущих специалиста в области компьютерных шахмат… Mikhail Donskoy and Jonathan Schaeffer, "Perspectives on Falling from Grace," Journal of the International Computer Chess Association 12, no. 3, 155–63.
(обратно)32
«Человек может стать хорошим шахматистом…» Результаты исследований Бине были описаны, в частности, в его работах 1893 года и позже обобщены в книге: Ann Robinson and Jennifer Jolly, A Century of Contributions to Gifted Education: Illuminating Lives (New York and London: Routledge, 2013).
(обратно)33
Джон Маккарти… назвал шахматы «дрозофилой ИИ»… Сам Маккарти приписывал этот термин своему советскому коллеге Александру Кронроду.
(обратно)34
Я не собираюсь спорить с Международным олимпийским комитетом… Не сомневаюсь, что, если бы эти «умственные виды спорта» были достаточно прибыльными, МОК скорректировал бы свое определение физических нагрузок. Но с точки зрения прибыльности бридж превосходит шахматы, а видео¬игры (e-спорт) значительно превосходят и то, и другое.
(обратно)35
«Я могу играть в шахматы сто лет подряд…» /.
(обратно)36
Мог бы я играть в сёги… В 2014 году в Токио, куда я при¬ехал с целью популяризации состязаний в сёги между человеком и машиной, меня называли «Хабу7 западных шахмат». Высокая похвала!
(обратно)37
…давать людям возможность оправдать собственную лень генами… Несколько недавних исследований показали, что способность к упорному труду действительно в значительной степени является наследственной. Это не совсем то, что я имел в виду, когда в 2007 году назвал ее «врожденным даром», но всегда приятно узнавать, что твои предположения получают научное подтверждение. Об исследовании, в ходе которого была изучена наследуемость такого качества, как трудолюбие, у тысяч близнецов, см.: и .
(обратно)38
«Шахматы — это культура…» Donald Michie, "Brute Force in Chess and Science," Computers, Chess, and Cognition (Berlin: Springer-Verlag, 1990).
(обратно)39
На что Фишер ответил: «Откуда вы знаете?»… Данную историю мне рассказали в Буэнос-Айресе, и я не знаю, насколько она соответствует действительности, хотя кажется весьма правдоподобной. Глубокий смысл этого короткого вопроса в том, что мало кто из болельщиков способен оценить качество игры чемпиона мира без комментариев экспертов. Сегодня ситуация изменилась, и каждый, кто имеет в своем распоряжении сверхсильный шахматный движок, чувствует себя вправе тыкать пальцем в ошибки чемпиона, словно он сам их обнаружил.
(обратно)40
…некоторые из этих сложных задач будут решены через пять–десять лет… Выступление Билла Гейтса на Объединенной международной конференции по проб¬лемам искусственного интеллекта, Сиэтл (штат Вашингтон), 7 августа 2001 года; / -07aiconference.aspx.
(обратно)41
Недавно агентство предложило провести ряд конкурсов… В том числе соревнования по защите информации «Захвати флаг» с участием компьютеров; см.: .
(обратно)42
«Данные решают всё»… Высказывание Джоша Эстеля цитируется в статье Джеймса Сомерса «Человек, который научит машины думать», опубликованной в журнале Atlantic в ноябре 2013 года.
(обратно)43
Машина, учившаяся на гроссмейстерских партиях… История, рассказанная Кэтлин Спраклен, которая вместе со своим мужем Дэном написала знаменитую программу Sargon для шахматного микрокомпьютера. См. «Устную историю Кэтлин и Дэна Спраклен» — интервью Гарднера Хендри от 2 марта 2005 года; -history/spacklen.oral_history.2005.102630821/spracklen.oral_history_transcript.2005.102630821.pdf.
(обратно)44
«Что такое нога?»… Тогда компьютер Watson впервые участвовал в телевикторине. Вы можете посмотреть этот видеоролик на YouTube. Мне было забавно читать комментарии людей (насколько я полагаю), которые были в восторге от промахов машины. Не злите их! Телевикторина Jeopardy!, эфир от 14 февраля 2011 года; .
(обратно)45
«Комната отдыха для слабых» в аэропорту или «Тарелка с маленькими глупцами»… Машина спутала слово «слабый» со словом «уставший»; имеется в виду просто комната отдыха. Вторая ошибка становится понятной, если знать, что: 1) буррито — это мексиканская еда; 2) burro («бурро») на мексиканском сленге означает «дурак»; 3) суффикс -ito в испанском языке придает уменьшительное значение. Буррито = маленькие бурро = маленькие глупцы.
(обратно)46
«Я не знаю, почему все больше людей попадается на этот крючок»… James Somers, "The Man Who Would Teach Machines to Think," Atlantic, ноябрь 2013 года.
(обратно)47
«Прогресс шахматных машин, основанных на грубой силе…» F-h. Hsu, T. S. Anantharaman, M. S. Campbell and A. Nowatzyk, "Deep Thought," в книге Computers, Chess, and Cognition, Schaeffer and Marsland, eds. (New York: Springer-Verlag, 1990).
(обратно)48
«Из-за приоритетности соревновательного аспекта…» Danny Kopec, "Advances in Man-Machine Play," в книге Computers, Chess, and Cognition, Schaeffer and Marsland, eds. (New York: Springer-Verlag, 1990).
(обратно)49
…шахматная корона достанется компьютеру раньше, чем женщине… Я не скрываю, что в тот период высказывал прискорбно сексистские замечания о месте женщин в шахматах. Так, в интервью журналу Playboy в 1989 году я сказал, что мужчины лучше играют в шахматы, потому что женщинам «не хватает бойцовского духа» и что «вероятно, ответ кроется в генах». Оставив в стороне возможные гендерные различия, сейчас я не могу поверить в то, что когда-то сказал эти слова, тем более что из всех, кого я знаю, самым бойцовским характером обладала моя мама.
(обратно)50
Сегодня я с огорчением вижу, что не всегда делал лучшие ходы… Если вам интересно, ход 43.Фb1 был умным ходом, но я не вижу упоминаний о нем ни в одной из многочисленных книг и статей, посвященных этому матчу. После него черные по-прежнему находились в намного лучшей позиции, но совершить прорыв все равно было не так-то просто. Я мог бы сохранить свое подавляющее преимущество в случае хода 40…f5. Сегодня бесплатный шахматный движок на моем ноутбуке находит ход 43.Фb1 за полсекунды, что показывает, как далеко зашел прогресс.
(обратно)51
…дает такое же преимущество, какое можно получить благодаря подаче в теннисе… Конечно, статистически это трудно подтвердить, поскольку подача в теннисе обеспечивает гораздо большее преимущество, чем игра белыми в шахматах. Но сходство состоит в том, что и то и другое позволяет овладеть инициативой и лучше контролировать ход игры.
(обратно)52
«Красный шахматный король быстро сжег чипы Deep Thought»… Andrea Privitere, "Red Chess King Quick Fries Deep Thought's Chips," The New York Post, 23 октября 1989 года.
(обратно)53
«Обыграть Гарри Каспарова в шахматы значительно сложнее…» Raymond Keene, How to Beat Gary Kasparov at Chess (New York: Macmillan, 1990). В англоязычных публикациях мое имя пишут как Garry, Gary и даже Garri, но я предпочитаю первый вариант.
(обратно)54
Конфиденциальность уходит в прошлое… Если вы хотите узнать, как общество может жить в мире без конфиденциальности, я рекомендую познакомиться с вышедшей в 1997 году книгой Дэвида Брина «Прозрачное общество» (The Transparent Society), а также с комментариями читателей на веб-сайте писателя.
(обратно)55
…оценочные функции в лучших коммерческих шахматных программах… Hsu et al., "Deep Thought," в книге Computers, Chess, and Cognition.
(обратно)56
…и был вынужден смириться с ничьей… В следующем раунде Genius победил гроссмейстера Предрага Николича, а в полуфинале проиграл Виши Ананду.
(обратно)57
…выиграл у Fritz девять из десяти партий… Feng-hsiung Hsu, Behind Deep Blue (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002).
(обратно)58
Deep Blue совершил еще одну самоубийственную ошибку… Из-за перезагрузки компьютер сделал неверный ход 13.0–0 вместо сильного хода 13.g3, который, по словам одного наблюдателя, Deep Blue планировал до сбоя. Потом он ошибся с ходом 14.Крh1 и получил небольшую отсрочку, когда программа Fritz просмотрела ход 14…Сg4, приводящий к немедленной победе. Спустя два хода Deep Blue совершил ту самую самоубийственную ошибку, сыграв 16.с4, за что сразу же был наказан ходом 16…Фh4. У белых не осталось никаких шансов спасти партию. Любопытно, что Сюй Фэнсюн написал об ошибочном ходе 16.с4 в своем посте на шахматном форуме через несколько дней после матча, но забыл упомянуть о нем в своей книге.
(обратно)59
Его создатели не ждали, что я буду слепо повторять ту выигранную партию… В техническом плане машина, с которой я играл в 1989 году, была Deep Thought, а не Deep Blue, и в этом матче была практически другая машина, но для удобства я рассматриваю матчи 1989, 1996 и 1997 годов как поединки с разными версиями одной и той же машины.
(обратно)60
…шахматисты бывали менее точны, чем во время игры… В своей книге «Шахматы как модель жизни» я привожу конкретный исторический пример — ключевую партию матча на первенство мира между Ласкером и Стейницем (1894), которую более ста лет неправильно интерпретировали.
(обратно)61
…не дать противнику возможности показать, на что он способен… Brad Leithauser, "Kasparov Beats Deep Thought," The New York Times, 14 января 1990 года.
(обратно)62
…я мог бы спасти партию… Если бы я сделал верный ход 27…f4 вместо ошибочного 27…d4? Ход 27…Лd8 тоже устраивал черных.
(обратно)63
«В этот момент король Deep Blue подвергся яростной атаке…» Charles Krauthammer, "Deep Blue Funk," TIME, 24 июня 2001 года.
(обратно)64
«Напротив меня за шахматной доской — новый вид интеллекта»… Garry Kasparov, "The Day I Sensed a New Kind of Intelligence," TIME, 25 марта 1996 года.
(обратно)65
…стои¬мость акций IBM выросла на $3310 млн чуть больше чем за неделю… Конечно, нельзя утверждать, что акции подорожали исключительно благодаря матчу, но, как указывает Ньюборн, даже, если матч дал всего 10% такого роста, это составляет свыше $300 млн. Неплохой доход от шести партий в шахматы.
(обратно)66
…особенно в случае победы машины!.. Сюй Фэнсюн в своей книге Behind Deep Blue: Building the Computer that Defeated the World Chess Champion написал: «Ставки росли. Ни за что на свете IBM не отказалась бы от матча-реванша».
(обратно)67
Ботвинник играл сильнее… Временами во время матча состояние здоровья Таля, которое никогда не было очень хорошим, серьезно ухудшалось, но также было очевидно, что Ботвинник превосходно подготовился к борьбе.
(обратно)68
«Зазнайство не располагает к работе»… Ботвинник М. М. К достижению цели. — М.: Молодая гвардия, 1978. С. 174.
(обратно)69
«Думаю, Каспаров не представляет всех сильных и слабых сторон Deep Blue…» Monty Newborn, Deep Blue: An Artificial Intelligence Milestone (New York: Springer-Verlag, 2003), 103.
(обратно)70
«Мы больше не проводим научных экспериментов…» Bruce Weber, "Chess Computer Seeking Revenge Against Kasparov," The New York Times, 20 августа 1996 года.
(обратно)71
Си Джей Тан и другие продолжали на публике говорить о будущем сотрудничестве… Накануне матча была запущена бета--версия сайта «Клуб Каспарова», но после матча-реванша проект был прикрыт так же быстро, как и проект Deep Blue. Я финансировал сайт в России за счет своих личных средств вплоть до 1999 года, когда нам удалось привлечь венчурный капитал и перезапустить проект под новым названием Kasparov Chess Online.
(обратно)72
Буду совершенно честен… Dirk Jan ten Geuzendam, "I Like to Play with the Hands," New In Chess, июль 1988 года, с. 36–42.
(обратно)73
…содержала больше неправды об игре в шахматы… Например, статья Клинта Финли «Как ошибка в программе помогла Deep Blue победить Каспарова?», опубликованная в журнале Wired 28 сентября 2012 года. Клинт Финли заслуживает особого упоминания, поскольку его статья представляет собой такую вопиющую мешанину, что складывается впечатление, будто она была написана компьютером. Автор путает ошибочный ход ладьей из первой партии с ходом слоном, сделанным Deep Blue во 2-й партии и таким образом объясняет один из самых впечатляющих тактических маневров Deep Blue случайной ошибкой в программе.
(обратно)74
…заявлению Си Джей Тана об окончании научного эксперимента… Robert Byrne, "In Late Flourish, a Human Outcalculates a Calculator," The New York Times, 4 мая 1997 года.
(обратно)75
…большое интервью журналу New In Chess… Dirk Jan ten Geuzendam, "Interview with Miguel Illescas," New In Chess, май 2009 года.
(обратно)76
…«отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога»… Марадона заставит всех, кроме англичан, забыть об этом сомнительном голе после того, как позже в том же матче прорвется к воротам соперника, обыграв половину английской команды, и забьет сенсационный «гол столетия».
(обратно)77
«Журналист Джефф Киселофф, нанятый компанией IBM…» Bruce Weber, "Deep Blue Escapes with Draw to Force Decisive Last Game," The New York Times, 11 мая 1997 года.
(обратно)78
Я упустил одну хорошую возможность для атаки… Моим последним шансом победить, похоже, был ход 35…Лff2. Как ни странно, после моего ответа 35…Л:g4 у черных, судя по всему, уже не было выигрыша.
(обратно)79
…специально подобранные шахматным экспертом… Murray Campbell, A. Joseph Hoane Jr., and Feng-hsiung Hsu, "Deep Blue," Artificial Intelligence,134, 2002, 57–83.
(обратно)80
…в эндшпиле 5-й партии я мог одержать победу… В 5-й партии выигрывал ход 44.Лg7+, я же ответил 44.Кf4. Deep Blue ошибся ходом 43…Кd2, а к ничьей вело 43…Лg2.
(обратно)81
Как гласит Паремия для параноиков №3… Томас Пинчон, «Радуга тяготения». Вот все пять Паремий для параноиков, некоторые из которых, кажется, здесь весьма кстати, хотя я не буду говорить, какие именно: «1. Может, до Хозяина и не доберешься, зато тварей его пощекочешь вволю. 2. Невинность тварей обратно пропорцио¬нальна безнравственности Хозяина. 3. Если они заставят тебя задавать не те вопросы, им не придется париться насчет ответов. 4. Ты — прячешься, они — ищут. 5. Параноики — параноики не потому, что пара¬ноики, а потому, что раз за разом нарочно загибают себя, конченые идиоты, в позу параноика». (Пинчон Т. Радуга тяготения. — М.: Эксмо, 2012.)
(обратно)82
…создание и использование орудий труда… Работы когнитивиста Стивена Пинкера и его коллег убедили меня, что о том, как происходило развитие речи, мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем. Это и неудивительно, когда мы говорим о «самой трудной проблеме в науке» (так озаглавлено сочинение Пинкера). Я не успел, скорее всего к счастью, обсудить с Пинкером тему эволюции языка во время наших коротких встреч на Форуме свободы в Осло, иначе эта книга могла бы оказаться намного длиннее. Поэтому я продолжаю думать, что все дело в орудиях труда и других факторах, о которых рассказывают археологи. К тому же способность к речевому общению, не ограничивающемуся произнесением элементарных звуков, вряд ли могла спасти пещерных жителей от голода и холода. Для этого был нужен огонь, шкуры животных и копья. См.: Morten H. Christiansen and Simon Kirby, eds. Language Evolution: The Hardest Problem in Science? (New York: Oxford University Press, 2003).
(обратно)83
Кори Доктороу дал своему блогу… определение «внешний мозг»… Cory Doctorow, "My Blog, My Outboard Brain," 31 мая 2002 года, .
(обратно)84
«Кибербудущее уже настало…» Clive Thompson, "Your Outboard Brain Knows All," Wired, 25 сентября 2007 года.
(обратно)85
Я полагал, что магия информационной эпохи… David Brooks, "The Outsourced Brain," The New York Times, 26 октября 2007 года.
В этой статье звучит сарказм и смирение, хотя в прошлом Брукс не раз обрушивался с объективной критикой на негативные черты американской культуры. В своей книге «Бобо в раю: Откуда берется новая элита» он рассказывает о поиске ложной аутентичности верхушкой общества. Подобные взляды дискредитируют новые технологии, необходимые для того, чтобы изжить свое старое аналоговое прошлое.
(обратно)86
«Когда я подключен к сети, я настоящий гений». Thompson, "Your Outboard Brain Knows All."
(обратно)87
…создает равновесие на доске и часто приводит к ничьей… С 2000 года, когда успешное применение Крамником берлинской защиты в нашем матче на первенство мира принесло ей популярность, 63% партий на высшем уровне, где использовалась эта схема, завершилось вничью. Для сравнения: за тот же период к ничьей пришло всего 49% партий, где встретилась моя излюбленная сицилианская защита.
(обратно)88
…после 9-й партии в нашем лагере царило приподнятое настроение… Patrick Wolff, Kasparov versus Anand (Cambridge: H3 Publications, 1996).
(обратно)89
…мы принимаем решения не так быстро, как обычно… Подробный обзор этого исследования 2011 года содержится в статье: Yan Leykin, Carolyn Sewell Roberts, and Robert J. DeRubeis, "Decision-Making and Depressive Symptomatology", /.
(обратно)90
…повышенной готовностью к потенциальному разочарованию… Wolff, Kasparov versus Anand.
(обратно)91
Депрессия отключает интуицию… Существует множество исследований на эту тему. Одно из последних, с очень интересными результатами, обсуждается на сайте Британского психологического общества: "When we get depressed, we lose our ability to go with our gut instincts," -we-get-depressed-we-lose-our-ability-to-go-with-our-gut-instincts/.
(обратно)92
В настоящее время IBM и многие другие компании сосредоточили внимание на усилении интеллекта… Мюррей Кэмпбелл из команды Deep Blue возглавляет один из таких проектов в IBM. Означает ли это, что он перешел на мою сторону?!
(обратно)93
…«человеческий материал гораздо доступнее вычислительной машины…» Из рассказа Айзека Азимова «Чувство силы», впервые опубликованного в феврале 1958 года. (Азимов А. Чувство силы. — М.: Эксмо-Пресс, 2002.)
(обратно)94
впервые опубликованного в феврале 1958 года. (Азимов А. Чувство силы. — М.: Эксмо-Пресс, 2002.)
(обратно)95
«В скором времени мы создадим разум более мощный, чем наш собственный…» Из статьи Вернора Винджа в журнале Omni за январь 1983 года.
(обратно)96
«В течение ближайших 30 лет у нас появится техническая возможность…» Vernor Vinge, "The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era," впервые опубликовано в сборнике Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, G. A. Landis, ed., NASA Publication CP-10129, 11–22, 1993.
(обратно)97
…три закона робототехники Айзека Азимова… Эти законы таковы: «1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противо¬речит Первому или Второму Законам». (Азимов А. Я, робот. — М: Эксмо, 2010.)
(обратно)





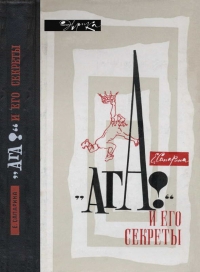

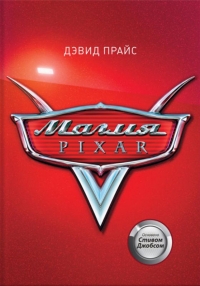
Комментарии к книге «Человек и компьютер: Взгляд в будущее», Гарри Кимович Каспаров
Всего 0 комментариев