Самая страшная книга 2019 Сборник (сост. М. Парфенов)
© Авторы, текст, 2018
© М. С. Парфенов, составление, 2018
© А. Провоторов, иллюстрация на обложке, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Писатели и критики о «Самой страшной книге»
«Вот они наконец-то: новые голоса!»
Клайв Баркер
«Концепция „Самой страшной книги“, несомненно, изобретательна и уникальна».
Томас Лиготти
«Надеюсь, эту книгу прочитает каждый!»
Роберт Маккаммон
«Пусть эта антология, созданная моими собратьями из России, разлетится по всему миру на своих черных крыльях!»
Адам Нэвилл
«Я приветствую „Самую страшную книгу“. Новый хоррор для новых читателей!»
Саймон Кларк
«…И ни в коем случае не читайте эту книгу перед сном – иначе не уснете».
Грэм Мастертон
«Знакомство с современным русским хоррором нужно начинать с антологии „Самая страшная книга“».
ГОРЬКИЙ / gorky.media
«Более представительной антологии хоррора и мистики от современных русскоязычных авторов в нашей стране еще не выходило».
«Мир Фантастики» / mirf.ru
«Это прорыв в русскоязычном хорроре, важное явление в жанровой литературе в целом».
DARKER / darkermagazine.ru
«В отечественной жанровой прозе у „ССК“ есть аналоги, но нет ни одного конкурента».
Буквоед / vk.com/bookvoed
Читатели о «Самой страшной книге»
«Серия „Самая страшная книга“ из года в год не теряет в качестве».
А. Миронов / bookvoed.ru
«Спасибо составителям! Каждая антология получается все лучше и лучше!»
Ersh / labirint.ru
«„Самая страшная книга“ – флагман русского хоррора, площадка для роста новых звезд и просто прекрасная книга».
ingvar1969 / livelib.ru
«Сборники рассказов из этой серии уже стали для меня не только долгожданными, но и неизменно оправдывающими надежды!»
Елена / ozon.ru
«Однозначно читать самому и рекомендовать друзьям и знакомым!»
Erretik / livelib.ru
«Это не культовые мастера ужасов, как Кинг, По, Лавкрафт и др. Это отечественные! Повторяю, отечественные рассказы, со всей России… И они годные, действительно годные, читая под покровом ночи в пустом и тихом доме, реально становится не по себе».
Valeria_book_gerl / instagram.com
«Великолепно!!!.. Я даже не могу сказать, что мне что-то не понравилось. На базе некоторых рассказов смело можно написать романы».
М. Тарасова / labirint.ru
«С каждым годом сборник „Самая страшная книга“ становится все лучше, интереснее, сильнее».
Sergej210477 / fantlab.ru
«Получил удовольствие и осознал, что жанр хоррор в России скорее жив, чем мертв».
Nonameman / labirint.ru
«Даже если будет не страшно, то интересно будет точно».
Е. Баранова / bookvoed.ru
И, наконец, про Стивена Кинга
Когда в начале 2014 года вышла самая первая «Самая страшная книга», мало кто мог представить, что томику этому суждено стать началом целой серии. Это был эксперимент… Черт побери, это был классический «первый блин».
Вышел он, как водится, комом. «Самую страшную книгу 2014» издали минимальным тиражом – всего лишь в две тысячи экземпляров. Под простоватой обложкой, на дешевой и маркой газетной бумаге оказались собраны истории никому на тот момент не известных авторов. Не все из этих историй были по-настоящему хороши, но тем ярче блистали истинные жемчужины, которым в той подборке, по счастью, также нашлось место.
Ныне общий тираж «страшных книг» перевалил за отметку в пятьдесят, а впереди уже виден знаковый рубеж в сто тысяч. В серии выпускаются тематические антологии («Хеллоуин», «13 маньяков», «13 ведьм», «13 монстров»), авторские сборники («Запах», «Зона ужаса», «Чертовы пальцы»), романы («Фаталист», «Скелеты»), а прямо сейчас в руках вы держите – подумать только! – уже шестую ежегодную антологию ССК. Приятно осознавать, что книги нашей серии собирают, коллекционируют…
Что ж, здравствуй, Постоянный Читатель.
Звучит знакомо, да?.. Долгих шесть лет мы этого всячески избегали, но уж теперь-то можно. Давайте, наконец, честно и откровенно поговорим о Нем, о Его Величестве.
Отношение к Королю Ужасов у отечественных авторов хоррора, надо сказать, довольно сложное. С одной стороны, после унылых опытов девяностых годов прошлого столетия словосочетание «русский Стивен Кинг» многими воспринимается почти как ругательство – больно уж часто в рекламных целях этот ярлычок навешивали на книжки беспомощных эпигонов и откровенных графоманов.
С другой стороны…
Во время встреч с читателями, в интервью и на разных публичных мероприятиях Кинг любит рассказывать анекдот из собственной жизни – историю о том, как, будучи на какой-то пафосной писательской конференции, он заглянул в туалет дорогого отеля, где его узнал тамошний работник. Только представьте: стоите вы перед писсуаром, слегка напряженный, сражаетесь с заевшей молнией брюк – и тут вас по плечу хлопает пожилой негр. И громко говорит, почти орет вам в ухо (очевидно, потому, что сам он, в силу возраста, несколько глуховат): «Эй, мужик, а я тебя знаю! Ты этот, из телика, который страшилки сочиняет!»
Ужасно неудобная ситуация. Но я уверен, что девять из десяти авторов хоррора, живущих на планете Земля, эту и ей подобные байки слушают… с завистью. Они могут это скрывать, могут все гневно отрицать или смеяться (быть может, немного нервно смеяться), но факт в том, что большинство из нас были бы вовсе не прочь оказаться в том туалете на месте Стивена Батьковича.
Эй, многие согласились бы испытать и что-нибудь похуже приставаний взбалмошного престарелого афроамериканца, лишь бы их вот так же узнавали в общественных местах. И дело тут не в деньгах и славе.
Нет, я не знаю никого, кто был бы против того или другого, но дело ведь правда НЕ ТОЛЬКО в этом.
Для нас, для того поколения авторов, что пишут хоррор на русском языке здесь и сейчас (те, кого называют «темной волной»), Стивен Кинг – больше, чем громкое имя. И уж конечно гораздо больше, чем бренд, в который это имя давным-давно превратилось.
Стивен Кинг – это путеводная звезда. Маяк, светивший в самые темные ночи. Объект веры, если угодно. Не как литературный «отец» или учитель – авторы русского хоррора учились у многих, от По и Лавкрафта до Лаймона и Кетчама, от Гоголя и Бестужева-Марлинского до братьев Стругацких. И у Короля, естественно, тоже учились, но – не только у него. Кинг важен в более широком смысле: как личность, как человек с собственной уникальной историей и как сочинитель тех историй, которые мы все читали.
В конце двадцатого века, когда мое поколение делало первые неуверенные шаги в жанре, когда на прилавках появлялись те самые позорные «русские Стивены Кинги», – мы читали книги Короля, читали Роберта Маккаммона, Клайва Баркера (спасибо, к слову, этим и другим зарубежным мэтрам за теплое отношение к «Самой страшной книге»). И понимали, что на самом деле – можно. Можно писать о страшном так, что это интересно и приятно читать. Можно сочинять пугающие истории – и иметь успех.
Конечно, судьба Короля сама по себе вдохновляет многих, ведь это классический образец того, что на Западе называют «американской мечтой», но что на самом деле близко и знакомо каждому. Как сказка о Золушке, то есть как история о том, что трудолюбие и талант (и капелька волшебства, то бишь удачи) помогают достичь вершины. Несмотря ни на какие трудности.
Когда нас отвергали издатели и критики, когда в народе говорили, что хоррор в России никому не интересен, что хоррор – это вообще не литература, пример Стивена Кинга доказывал обратное. Служил напоминанием о том, как на самом деле обстоят дела.
И вот теперь мы в чем-то сравнялись. Нет, выдающийся карьерный взлет Короля уже вряд ли кому удастся повторить – все-таки времена меняются, как и обстоятельства. Но, по крайней мере, у нас тоже появились свои Постоянные Читатели. Учитывая, с чего все начиналось – это самое главное.
Забавно, но и по сей день иногда кого-то из отечественных писателей сравнивают с Королем. В последние годы особенно «везет» в этом плане писательницам – то Марьяне Романовой, то Анне Старобинец… Но я прошу не называть «русским Кингом» никого из авторов, чьи истории собраны в «Самой страшной книге 2019». Потому что они – мы – совсем не похожи. У них – у нас – свои голоса.
И потому что, признаюсь: хоть я и обещал тебе, Читатель, говорить честно, но солгал уже в заголовке этой статьи. Ведь на самом деле она вовсе не про Стивена Кинга…
М. С. Парфенов
Господин Элефант
Владу Маслову, подавшему мне эту идею
1
План пришел в голову Павлу в одну из бесконечных бессонных ночей, когда он лежал на жесткой постели, накрывшись армяком, вслушиваясь в настырный комариный звон и скрип ветхих половиц. План отчаянный, нелепый, даже комичный… но после череды блистательно задуманных и с треском проваленных покушений, стоивших жизни многим его товарищам по борьбе, быть может, такой только и мог сработать.
На эту идею его натолкнули объявления, расклеенные по всему городу недавно прибывшим разъездным цирком: ищут человека для работы со слоном. Поначалу Павел думал наняться туда безо всяких задних мыслей. Скудные сбережения неумолимо подходили к концу, кишки исполняли по ночам голодные марши, не давая уснуть, а квартирная хозяйка все настойчивей интересовалась, когда он намерен съехать. Лишь потом он осознал, что в цирке окажется как никогда близок к почти недосягаемой цели.
К губернатору.
Разумеется, после не столь давнего убийства Столыпина подобраться к цели со стороны зала сделалось решительно невозможно – охранители умели учиться на своих ошибках. Однако выстрела со сцены никто ожидать не будет. А между тем само устроение цирка-шапито, с его приземистыми трибунами, отделенными от арены лишь низеньким барьером, подходит для этого как нельзя лучше.
Губернатор всегда любил цирк, любил какой-то восторженной детской любовью – да и не только детской: по молодости, говорят, изрядно крутил с разбитными акробатками. Даже сейчас он не мог пропустить ни одного представления самой захудалой бродячей труппы. Об этой его страсти было известно всем. Ходила злая шутка, что градоначальнику больше пристало бы управлять цирком – с этим Павел был совершенно согласен. Еще шутили, что старик не отказался бы и умереть в цирке.
А хотя бы и нет! Павел все равно не собирался его спрашивать.
2
С самого первого взгляда директор цирка господин Шульц вызывал неприязнь. Он был молод, немногим старше Павла, и, пожалуй, хорош собой – волосы цвета воронова крыла, мрачный блеск в глазах и язвительная манера речи вызывали в памяти образ байронического героя, что в реальной жизни зачастую вызывает отторжение.
– Отчего же вы, молодой образованный человек, решили поступить в услужение к нашему Господину Элефанту? – осведомился он, сцепив перед собой бледные, словно из слоновой кости выточенные пальцы.
– Видите ли, – проговорил Павел, – я остался без средств к существованию и…
– Весьма сочувствую, – перебил Шульц, – однако не рассчитывайте поправить здесь свое положение. Две трети нашей выручки уходят на перевозку и поддержание цирка, оставшегося едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Если вам нужны только пища и кров – этим мы можем вас обеспечить, при условии, что вы будете работать на совесть.
– Я постараюсь, – сказал Павел. – Конечно, у меня нет опыта в работе с животными…
– Моя бы воля, – мрачно произнес Шульц, – я на пушечный выстрел не подпустил бы вас к Господину Элефанту, но выбирать не приходится. Настоятельно рекомендую соблюдать осторожность, если, конечно, вам дорога жизнь.
Жизнь давно не была дорога Павлу, однако он не испытывал ни малейшего желания пасть жертвой разъяренного слона.
– Три сажени в длину, четыре в высоту и почти полтысячи пудов весу, – продолжал Шульц. – Господин Элефант, вероятно, самый крупный слон из ныне живущих, включая даже его африканских собратьев… – Он усмехнулся. – Гневить эдакую махину я бы не посоветовал.
– Я не из склочников, – улыбнулся Павел. – Думаю, мы с махиной поладим.
– Что ж… – Шульц поднялся из-за стола, достал из кармана жилета золотой брегет на цепочке, откинул крышку. – Сейчас у нас начинается репетиция. Пойдемте, я покажу вам вашего подопечного.
Они вышли из директорского фургона, украшенного сбоку изрядно потрепанной афишей, на которой едва можно было различить силуэт слона, нескольких ревущих львов и фигуру с хлыстом. Цирк раскинулся посреди угрюмого голого поля за железнодорожным полотном – кричащее многоцветье шатров, палаток, будочек и пестро размалеванных фургонов. Среди этой радостной пестроты лениво, вразвалочку, бродили немногочисленные служители. Над огромным желтым куполом шапито, словно язык гигантской змеи, трепетал на ветру раздвоенный красный флажок.
– Матвей! – крикнул Шульц.
Тотчас невесть откуда нарисовался серый, будто золою присыпанный, усатый мужичок в мятой косоворотке и фуражке с треснутым козырьком.
– Чегось изволите, господин Шульц? – спросил он сипло, постреливая из стороны в сторону хитрыми глазками.
– Слетай, голубчик, к Кларе да передай, чтобы через десять минут была на арене с Господином Элефантом.
– Сей секунд! – сказал серый человечек, бросил на Павла какой-то странный взгляд и тут же растворился среди повозок.
Конюшня и платформы с клетками размещались позади главного шатра, дабы зверей можно было в любой момент вывести на арену. По завету Ноя, каждой твари содержалось по паре. Цирковые собачонки встретили Павла и Шульца визгливым лаем, обезьянки, медведи и лошади провожали их печальными глазами. В воздухе витали пряный аромат опилок и кислый запах навоза, извечно сопровождающие разъездные цирки.
– Львов давеча пришлось пристрелить, – вздохнул директор. – Они, видите ли, отобедали вашим предшественником. Еще в Петербурге. Невелика потеря! За каким чертом этот пьяница полез в клетку? Однако с этих-то пор все и пошло наперекосяк.
Они вошли в бархатистый сумрак шатра. Посреди усыпанной опилками арены стояла огромная разноцветная тумба. Рядом двое одетых в мешковатые балахоны молодцев с одутловатыми физиономиями вовсю лупили надувными дубинками по голове третьего, а тот в ответ лихо сшибал их лбами.
– Братья Бобенчиковы! – объявил Шульц. – Три величайших комических дарования, успешно загубленных пьянством и блудом.
Клоуны перестали тузить друг дружку и посмотрели на него с таким угрюмым выражением, какого никак нельзя было ожидать от представителей их профессии.
Павел огляделся; ряды скамей терялись в темноте. А вон там, по правую руку, отдельная ложа на три персоны с мягкими креслами, где вместе с охраной будет сидеть губернатор…
– Внимание, – тихо проговорил Шульц, тронув Павла за плечо, а затем повернулся к воображаемой публике и громогласно провозгласил: – Дамы и господа, представляю вам Господина Элефанта – величайшего слона в мире!
Господин Элефант торжественно вступил на арену.
Он и впрямь был огромен. Бугристая, точно из утеса высеченная голова, украшенная золоченым бархатным налобником, венчала массивные плечи, под задубелой кожей которых незримо перекатывались литые мышцы; гибкий хобот извивался между бивней, длинных, острых, точно костяные сабли – от одного их вида делалось не по себе. Большинство слонов, виденных Павлом в цирке, были лишены клыков, вид имели самый благодушный и более всего походили на огромные, изрядно обвисшие кожаные бурдюки. Господин Элефант же будто сошел беззвучной, призрачной поступью с одной из гравюр великого Доре.
Восседавшая на нем наездница – очевидно, та самая Клара – была настоящей красавицей. Белокурая и цветущая, она вызывала желание немедля схватить ее в объятия и расцеловать. Ее коротенькое белое платьице в блестках и с вырезом на спине не скрывало почти ничего. Рядом с этой сияющей белизной Павел вдруг остро почувствовал, что одежда его больше напоминает тряпье, а лицо покрыто трехдневной щетиной.
Обняв Клару за талию могучим хоботом, слон как пушинку снял ее со спины и бережно поставил на манеж. Перекрестясь на западный манер – слева направо, – она опустилась на колени и положила голову на тумбу, словно на плаху, а Господин Элефант шагнул вперед, занося свою огромную ногу…
И опустил ее на голову Клары.
Трио клоунов в притворном ужасе заламывали руки; лицо директора было непроницаемо. Клара лучезарно улыбалась из-под чудовищной стопы, способной в мгновение расплющить ей череп. Павел боялся дышать. Струйка пота сбежала по его лбу, обожгла глаз. Вонзив ногти в ладони, он молился, сам не зная кому, чтобы все быстрее закончилось. Наконец Шульц вскинул руку, Господин Элефант медленно, будто нехотя, снял ногу с головы Клары и подался назад. Павел шумно выдохнул.
– Я смотрю, вы впечатлены! – улыбнулся Шульц. – Итак, первая ваша обязанность… Взгляните на мою дорогую сестру. Чего нет на ее волосах?
Павел, изумленный тем, что кто-то может позволить родной сестре класть голову под ногу слона, невпопад брякнул:
– Головного убора?
Клара фыркнула.
– Навоза, любезнейший, навоза, – сказал директор. – Слон – существо величавое, навоза производит в избытке и иногда в него наступает. Ежели сия мерзость окажется на белокурой головке Клары, получится номер в духе вот этих, – он мотнул головой в сторону Бобенчиковых, – к чему мы отнюдь не стремимся.
– Я полагал, что буду работником арены… – неуверенно начал Павел.
– Как я уже сказал, давая согласие, вы поступаете в полное распоряжение к Господину Элефанту. Кроме вас, этим заниматься некому. Из-за вот этих прекрасных клыков, – Шульц с гордостью провел пальцами по грозному бивню, – никто не хочет с ним работать, а спиливать их я не намерен. Слон без клыков – не слон. Полагаю, вы не станете настаивать.
– А по-моему, мы бы и сами прекрасно справились! – вмешалась Клара. – Право, Генрих, какой из него слоновщик? Посмотри, какой он заморенный.
Павел почувствовал раздражение. Да что она позволяет себе, эта актриска?
– Ну, это-то легко поправимо! – сказал Шульц. – Вот что, любезнейший: сейчас вы отобедаете с нами чем Бог послал, потом пойдете домой – ведь у вас покамест имеется какое-никакое жилье? – и хорошенько выспитесь. А завтра жду вас с утра. Клара разъяснит вам, что нужно делать.
Они пожали друг другу руки. Покидая манеж вслед за директором, Павел буквально ощущал спиною недовольный взгляд Клары.
3
Завтрак проходил под открытым небом. Столами и стульями служили поставленные на попа фанерные ящики, а скатертями – пожелтевшие газеты. Рядом с уже знакомыми Павлу Бобенчиковыми и Матвеем здесь были четверо лилипутов, громадный негр (очевидно, штатный силач), несколько девиц, одетых даже откровеннее Клары, двое хрупких юношей, которые держались за руки, глядя друг на друга влюбленными глазами, и с десяток служителей, косившихся на эту парочку с нескрываемым отвращением.
Никто не выказал к новому работнику ни малейшего интереса. От запаха горячей похлебки у Павла закружилась голова.
Взгляд Шульца остановился на пустующем столе:
– Где Великий Сандини?
Тишина была ему ответом.
– Матвей, голубчик, слетай-ка за ним!
– Так ить… – промямлил Матвей.
– Что «так ить»? – угрожающе спросил Шульц.
– Убег, подлец! – развел руками Матвей. – Все с фургона забрал и убег.
Шульц скрипнул зубами:
– Еще один. Корабль тонет, крысы бегут. Другие желающие есть?
Артисты что-то невнятно забормотали, качая головами.
– Есть, есть, знаю я вас, – махнул рукой директор и посмотрел на Павла. – Вы, любезнейший, часом не умеете глотать шпаги и распиливать даму пополам? – И безрадостно засмеялся собственной шутке.
4
На следующее утро Павел расплатился с хозяйкой и пришел в цирк, неся весь свой нехитрый скарб – накинутый на плечи армяк с револьвером Нагана в кармане, да потертый саквояж с четырьмя жестяными бонбоньерками внутри.
У директорского фургона в него врезался Матвей, очевидно «летевший» исполнять очередное поручение, и едва не выбил саквояж из рук.
– Разуй глаза, дурень! – рявкнул Павел, срываясь от испуга на позорный фальцет.
– На сердитых воду возят! – парировал Матвей и поспешил дальше, не подозревая, что только что был вместе с Павлом на волосок от смерти.
Смерть была заключена в круглые бонбоньерки и кокетливо перевязана красными ленточками.
Выделенный Павлу фургон беглого иллюзиониста располагался на самом краю поля. Обстановка внутри оказалась самая спартанская – узкая койка с голым матрасом да грубо отесанный стол с табуретом.
С великой осторожностью Павел поместил саквояж под кровать. Сев за стол, достал из кармана промасленную тряпицу, развернул. Наган тускло блеснул в луче света, сочившемся из запыленного оконца. Рядом маслянисто поблескивали патроны.
Последний раз на губернатора покушались в Ярославле. Некая девица Ляхович смогла добиться приема под видом просительницы и, оставшись с градоначальником наедине, всадила ему два заряда из двуствольного «дерринджера» в раззолоченную медалями грудь. Обливаясь кровью, старик все же сумел повалить нападавшую на пол и удерживал до прихода подмоги. Ляхович повесилась в камере на собственном поясе, не выдержав допросов, а губернатора от греха подальше перевели в самую глухую провинцию. Могли бы и не стараться: неудача Ляхович, хоть и вполне предсказуемая (Павел советовал ЦК вооружить барышню калибром побольше; ему ответили, что в покушении на Линкольна «дерринджер» зарекомендовал себя наилучшим образом), стала последней каплей. Комитет постановил: рисковать всей группой ради убийства одного мерзавца не стоит, а ежели кто имеет к старику личный счет, ему лучше вовсе покинуть организацию и действовать на собственное усмотрение.
Расстались без сожалений – товарищи давно поняли, что не верит он во всеобщие свободу-равенство-братство и справедливость. И только ближайший приятель, студент-химик Самуил Френкель, тайком передал ему начиненные гремучим студнем снаряды Кибальчича с уже встроенными взрывателями, сказав на прощанье:
– Гляди не подорвись сам – там небольшой встряски достаточно. И еще прошу – не применяй их в толпе. Не пятнай наши руки в невинной крови.
А губернатор нарочно – Павел в том нисколько не сомневался! – ездил исключительно людными улицами. Тем не менее избавиться от снарядов молодой человек не решался. Так они и кочевали с ним вместе с одного жилья на другое, повиснув мертвым грузом.
Павел поднял револьвер, откинул барабан. Зияющие гнезда наполнились светом. Возможно, у него не будет и двух выстрелов…
Громкий стук в дверь застал его врасплох. Чертыхнувшись, он выронил тряпку, патроны раскатились по столу. Павел лихорадочно сгреб их, завернул вместе с пистолетом обратно в тряпку, убрал под матрас и только после этого открыл дверь. На пороге стоял улыбающийся Шульц с хлыстом в руке.
– Доброе утро! – сказал он. – Готовы поближе познакомиться с Господином Элефантом?
Знакомство, однако, не задалось.
Господин Элефант ждал их посреди просторного шатра, служившего слоновником. Вьющаяся среди опилок толстая стальная цепь приковывала его ногу к глубоко врытой в землю железной балке. Рядом с ним стояла Клара, уже одетая в свой цирковой наряд. При виде Павла она нахмурилась.
– Доброго утречка, Господин Элефант! – провозгласил директор. – Как вы спали? Мышки не докучали?
Слон благодушно зарокотал, помахивая ушами.
– Клара, оставляю молодого человека на тебя, – сказал Шульц. – А мне пора бежать…
– Ничего объяснять я не стану, – отчеканила Клара. – И вообще не подпущу посторонних к нашему слону.
На взгляд Павла, ее поведение становилось довольно странным.
– Послушай, милая, все уже решено, – с безграничным терпением в голосе произнес директор. – Этот человек будет работать со слоном, нравится тебе это или нет.
– Если я скажу ему правду, – произнесла Клара, с вызовом глядя брату в глаза, – он вылетит отсюда к чертовой матери.
И вот тут-то все и произошло. Что-то неуловимо изменилось в лице Шульца. Только что оно было спокойным, а уже в следующий миг губы директора задрожали, глаза наполнились слезами, словно у обиженного мальчишки. Внезапно он ударом по лицу сбил девушку с ног и тут же перетянул хлыстом по оголенной спине. Клара отчаянно закричала. Между ее лопаток вздулась багровая полоса.
Павел был настолько поражен случившимся, что не успел ничего предпринять. Его опередил Господин Элефант. Загремев цепью, он сделал несколько шагов вперед, взмахнул хоботом – и Шульц врезался в стену шатра, отчего все сооружение заходило ходуном.
Павел вскрикнул. Шульц распрямился, медленно, словно змея, поднимающаяся из корзины факира. Голова его тряслась, по щекам струились слезы, но на губах блуждала усмешка, больше похожая на оскал. Хлыст со свистом рассек воздух. Господин Элефант взревел, закрутив спиралью ожженный хобот, попятился, а Шульц бросился на него, в молчаливом исступлении нанося удар за ударом.
– Прекратите! – Павел схватил директора за плечо. – Вы с ума сошли?
Шульц оттолкнул его с поразительной силой. Потеряв равновесие, Павел свалился прямо на Клару. Та сдавленно охнула. От ощущения ее извивающегося тела под собой у него совершенно некстати перехватило дыхание. Он поспешил откатиться в сторону.
Слон жалобно заревел.
– Вилли! – закричала Клара. – Вилли, на помощь!
Послышался громовой топот, в шатер влетел черный гигант и обхватил Шульца сзади, прижав его руки к телу.
– Пусти! – прохрипел директор. – Убери от меня лапы, черная обезьяаааа… – Его пальцы разжались, выпуская хлыст, глаза закатились под лоб, зубы заскрежетали, и весь он мелко-мелко затрясся, выбивая каблуками дробь.
С трудом поднявшись на ноги, Павел подошел к перепуганному негру, по-прежнему сжимавшему Шульца в медвежьих объятиях, и подобрал кнут.
– Не бейте его! – жалобно крикнула Клара.
– Не говорите ерунды, – устало проговорил Павел. – Ему нужна помощь.
Он с усилием разжал намертво сомкнутые челюсти директора и втиснул ему между зубов рукоять хлыста.
5
– Поверьте, мне очень жаль, – умирающим голосом проговорил Шульц. – И ты, Клара, прости меня…
– Это не твоя вина, Генрих, – мягко отвечала она, поправляя под его головой подушку. – Я сама виновата. Мне не следовало устраивать этот… этот цирк! – Она засмеялась сквозь слезы.
– Давно у вас такие припадки? – осведомился Павел. Промокнув марлю водкой, он осторожно протирал ею рубец на спине Клары, а девушка тихонько шипела от боли.
– С детских лет, – уныло ответил Шульц. – Папашино наследство. Тоже, бывало: сперва осатанеет, а потом – бряк! Однажды неудачно – об колесо фургона.
– Соболезную…
– Не стоит. Он был сущий зверь. Вон, видали? Это во мне его кровь взыграла. Во всех смыслах! – Шульц мрачно хохотнул.
– А ваша сестра…
– Бог миловал! – сказала Клара.
– И часто с вами такое?
– Последнее время все чаще.
– После случая со львами, я полагаю? Если, конечно, это были львы…
– Вы чертовски догадливы, – проворчал Шульц. – Пожалуй, дальше скрывать не имеет смысла. Разумеется, вашего предшественника убил слон. Мы боялись, что власти потребуют его пристрелить, и все свалили на львов.
– Тот человек был сам виноват, – добавила Клара. – Зачем мучил его? Теперь вы понимаете, почему я боялась вас к нему подпускать. Ай!
– Ничего-ничего, я уже закончил, – сказал Павел, силясь побороть дрожь в голосе. Последний раз он прикасался к женщине два года назад.
– Я больше не справляюсь, – плаксиво заговорил Шульц. – Кручусь как белка в колесе, а все сыпется в тартарары…
– Все хорошо, – мягко оборвал его Павел. – Теперь вам нужно поспать. И если это вас успокоит: работу я не брошу.
– Я позабочусь, чтобы все было хорошо, – добавила Клара. – Спи, Генрих.
Шульц едва заметно кивнул и закрыл глаза. Павел тронул Клару за плечо, и они на цыпочках вышли из фургона. У подножия лесенки, тихо переговариваясь, собрались мрачные циркачи.
– Расходитесь, – велел Павел, чувствуя невольную радость от неожиданно свалившейся на него власти. – Больному нужен покой.
Труппа смолкла и расступилась, пропуская их. Когда они отошли достаточно далеко, Клара повернулась к нему и нежно взяла за руку.
– Я должна просить у вас прощения, – сказала она, потупившись. – Вы проявили такое участие к моему брату…
– Пустое, – сказал Павел. – Было приятно снова вспомнить клятву старика Гиппократа.
– Вовсе не пустое! Ведь я очень люблю брата. Мы неразлучны с самого детства. Не поверите, он даже принимал у меня роды.
– У вас есть ребенок? – удивился Павел.
– Был, – вздохнула Клара. – Я была матерью всего несколько минут. Генрих сделал все, что мог, но… Как жаль, что вас тогда с нами не было!
– Не уверен, что от меня было бы больше толку. Я не закончил и первого курса. Будь я врачом, разве прислуживал бы слону? – Он невесело рассмеялся.
– Что же такого вы натворили?
Слова вырвались у него помимо воли:
– У меня тоже был старший брат, вот что я натворил. Алексей… он постоянно участвовал в студенческих демонстрациях. С детства был возмутителем спокойствия. Одна из акций приняла стихийный характер, и губернатор распорядился «с бунтовщиками не церемониться». В случае Алексея это означало «бить сапогами по голове до смерти».
– Боже мой, какой ужас!
– Я искал правды, – продолжал Павел. – Обивал пороги, бросил учебу. Отчислили с волчьим билетом, как неблагонадежного. Такая вот, понимаете, оказия.
Он смолчал, разумеется, обо всем остальном. Он вообще уже досадовал о своей откровенности. Только жалости ему не хватало! И верно, Клара привстала на цыпочки и робко коснулась губами его щеки, заставив его вздрогнуть. Покраснев, она отступила на шаг и вдруг воскликнула:
– Бедный Господин Элефант! Мы совсем забыли о нем!
6
А забытый Господин Элефант стоял тем временем в полумраке слоновника. Лишь его хриплое дыхание нарушало тишину, да цепь бренчала изредка тяжелыми звеньями. Ссадины, оставленные бичом, горели, но куда сильнее жгла старого слона горечь обиды.
Никто не мог бы постичь всю глубину терзавшей его тоски. Как и большинство его сородичей, имевших сомнительное счастье стать цирковыми артистами, за полвека жизни он успел хлебнуть лиха.
Как и большинство его сородичей, он не забывал ничего.
Он помнил себя неуклюжим щетинистым слоненком, цеплявшимся за хвост матери. Мир тогда казался гораздо больше и таил в себе множество чудес и опасностей, но и мать была огромной, и он верил, что она всегда будет рядом, а значит, бояться нечего. Но вот однажды, когда они мирно паслись на поляне, из зеленой чащи прогремел гром, и мать, протрубив один раз, повалилась в кусты, чтобы больше уже не встать. Жалобно повизгивая, он дергал ее за уши тоненьким хоботком, но она лежала неподвижной серою глыбой, а со всех сторон возникали страшные двуногие силуэты со сверкающими палками в руках…
Он часто пробуждался, увидев эту сцену во сне, и долго стоял, уставясь в темноту, охваченный благоговейным ужасом. Власть маленьких громовержцев абсолютна и неоспорима – вот урок, который он запомнил лучше всего.
Он помнил следующие два года, проведенные на плантации офицера-англичанина, заядлого охотника, в качестве живой забавы для его изнывающей от скуки леди и безобразно избалованных отпрысков. Однако забава так быстро росла и так много ела, что практичный сын Альбиона вскоре решил пустить ее на мясо гончим, и юного слона спасло лишь то, что проезжий путешественник выиграл его у хозяина в карты.
Он помнил долгую череду хозяев и кличек, которые сменил, прежде чем попасть к Шульцу-старшему и стать Господином Элефантом. Помнил каждый удар, каждый окрик, помнил свою бессильную ярость и всепоглощающий страх.
Но он помнил не только зло.
Худенький бледный мальчик и белокурая цветущая девочка всегда были добры к нему, тайком угощали разными лакомствами, омывали раны, оставленные страшным слоновьим багром папаши Шульца. Слон проникся к юным хозяевам той самоотверженной любовью, на какую способен только обласканный зверь, и не раз они в слезах прибегали к нему за утешением после отцовских побоев.
Он помнил, как дети росли, а папаша Шульц дряхлел, и как однажды его не стало. Господин Элефант первым ощутил на себе воцарившиеся в цирке новые порядки. Никто больше не обижал его, а молодой хозяин, вступивший во владение цирком, трогательно заботился о слоне на пару с сестрой.
Но, как часто бывает после краха тирании, на ее место пришла вседозволенность, и мало-помалу труппа погрузилась в чад беспробудного кутежа. Пытаясь восстановить порядок самыми суровыми мерами, Генрих все более озлоблялся и вскоре превзошел жестокостью покойного отца. Лишь Господин Элефант, добрый друг его безрадостного детства, до поры избегал его гнева.
Трагедия произошла, когда слоновщик Егор, на редкость прожженный малый, устав от гнета директора и бесконечных задержек жалованья, задумал удрать из цирка, поохотившись напоследок за слоновой костью. Глухой ночью он явился в слоновник с пилой-ножовкой и большим ведром, куда предварительно слил все цирковые запасы спиртного, для верности сдобрив побегами хмеля.
Старый слон благосклонно принял подношение. Спустя какое-то время голова его закружилась. Он грузно опустился на колени, а хитрец выждал несколько минут и принялся за дело.
Только то, что произошло потом, Господин Элефант помнил плохо. Он очнулся от дикой боли, когда пила в нетвердой руке соскользнула, взрезав чувствительную плоть его десны. «А ну лежать, скотина!» – гаркнул слоновщик, и то были последние его слова. Одурманенный болью и алкоголем, слон дернул головой, и человек вдруг забился в крови на полу у его ног, скуля и пытаясь удержать в животе лезущие наружу внутренности.
В ту ночь молодой хозяин впервые поднял руку на Господина Элефанта. Но жестокое избиение уже не могло вытравить крамолы из головы огромного зверя.
С каждым днем, ощущая растущие среди двуногих напряжение и страх, он все сильнее укреплялся в своих подозрениях.
Может, они вовсе не всесильны?
Может, их власть не вечна?
И сейчас эти мысли не давали ему покоя. Обида сменялась злостью. Он несколько раз впечатал ногу в опилки, представляя, что топчет тело молодого хозяина, превращая его в бесформенную кровавую массу…
– Бедный мой! Тебе больно? – услышал он ласковый голос хозяйки. – Сейчас, милый, сейчас мы тебя полечим…
И гнев, словно по волшебству, сразу утих, съежился, ушел куда-то в самую темную глубину его сознания.
Ведь он не забывал ничего.
7
Шульц отлеживался несколько дней. Павел был уверен, что директор решил воспользоваться случаем и хоть на время переложить заботы о цирке на плечи сестры. Впрочем, отдохнуть ему действительно не мешало.
Клара же подошла к делу со всей ответственностью. Она не давала актерам спуску, безжалостно выгоняя на репетиции, а в свободное время обучала Павла работе с Господином Элефантом. Через два дня он уже не хуже ее умел поливать слона из шланга, очищать его чувствительную кожу специальным скребком и драить круглые мягкие подошвы ног. Кормили они его вместе – Клара приносила различные лакомства, а Павел, обрывая руки, таскал ведрами сено и овощи. Хуже всего предсказуемо оказалась уборка навоза.
– Ой, мамочки! – расхохоталась Клара в первый раз, когда Павел, взмокший и злой как черт, вывалился из слоновника, распространяя вокруг себя зловоние. Он с размаху вогнал лопату в землю и заявил:
– Теперь я как никогда понимаю вашего брата.
Закончив, они поочередно споласкивались над железным рукомойником, пристроенным в закутке между фургонами, переодевались, и Клара отправлялась на репетицию. Иногда она приглашала Павла. С замиранием сердца он смотрел, как она мчится на спине галопирующей лошади, точно сказочная амазонка, выполняя самые невообразимые прыжки, пируэты и сальто. Как-то раз она предложила ему держать для нее обруч, но Павел наотрез отказался, опасаясь, что в момент ее прыжка у него дрогнет рука.
Она подобрала ему униформу по размеру – красную ливрею с золочеными шнурами, больше похожую на гусарский мундир, чем на костюм служителя, и строгие черные брюки.
– Вы похитили мое сердце! – сказала она, пытливо оглядев его с ног до головы. – Настоящий кавалерист! Хотите, я научу вас верховой езде?
Павел всерьез подумал, что было бы довольно эффектно всадить пулю в губернатора на полном скаку. Впрочем, тогда будет трудновато прицелиться… Он улыбнулся и сказал:
– Боюсь, наездник из меня неважный.
Одним словом, они сделались неразлучны.
Он даже столовался теперь вместе с нею и ее братом в директорском фургоне. Остальные циркачи прозвали его «Любимчиком», но Павлу было все равно. Он больше ни с кем из них не свел знакомства – да не больно и хотелось. Лишь чернокожий силач Вилли внушал приязнь своим кротким нравом, но он всегда держался особняком, почему-то пуще всех избегая Клары, хотя она, в отличие от своего брата, всегда была к нему ласкова. По ее словам, Вилли был родом из какого-то южноамериканского штата и привык опасаться белых. Павел, впрочем, подозревал, что бедный негр тайно влюблен в нее. Но когда он завел об этом речь, Клара поспешила сменить тему.
Он прекрасно понимал Вилли.
Не раз и не два он ловил себя на том, что забывает о своей истинной цели. Цирковая жизнь во всем ее противоречивом, неприглядном очаровании захватила его с головой. А мысли о губернаторе все настойчивей вытесняла собою Клара. Он не мог нарадоваться, что Шульц пока что не репетирует ужасный номер со слоном.
– Как вы можете подвергать свою сестру такому риску? – однажды спросил он директора за ужином.
Шульц лишь усмехнулся, а Клара сказала:
– Вы не знаете нашего Господина Элефанта. Он скорее сам умрет, чем причинит мне вред.
– Поразительно, насколько он кроток при его силе! – добавил Шульц.
– И все же при известных обстоятельствах он вас отшвырнул, – не без ехидства заметил Павел.
Директор, похоже, ничуть не обиделся.
– Именно отшвырнул, хотя один удар его хобота мог бы раздробить грудь мужчине куда более крепкого сложения. Причем я, как вы сами могли видеть, усердно напрашивался. Чего уж говорить о нашем папеньке, – он скорчил гримасу, – видели бы вы, как он терзал бедное животное! Хотел обучить его стоять на голове, это немолодого слона-то. А когда ничего не вышло, решил угостить булкой с цианистым калием… Чтобы спасти нашего друга, мы и придумали этот номер.
– Генрих придумал! – с гордостью уточнила Клара. – Вычитал в одной из своих книжек. Он много читает, не то что я.
– Слыхали о такой затее, как казнь слонами? Восточные правители знали немало способов вселять ужас в сердца своих подданных, но казнь слонами по праву считалась одним из самых зловещих. – Шульц выдержал эффектную паузу и продолжал: – Хорошо натасканный слон-палач мог пытать приговоренного днями и даже неделями, дробя ему кости и хоботом выворачивая суставы. Некоторых несчастных четвертовали, прижимая ногой к земле и отрывая конечности – собственно, в природе слоны именно так расправляются с не в меру дерзкими хищниками. Чаще же слон либо протыкал человека бивнями, либо делал то же самое, что вы видели на арене.
– Только насмерть?
– В том-то и дело, что нет! Он точно так же осторожно придавливал ногой голову осужденного и ждал знака от своего повелителя: казнить или помиловать? При любом исходе именно этот момент тягостного ожидания производил на зрителей наибольшее впечатление; на том сыграли и мы сейчас. В сущности, номер простейший, а между тем он всегда обеспечивает нам успех.
– И все же…
– Я с радостью рисковал бы собственной головой, – перебил Шульц. – И на стадии постановки номера так и делал. Однако зрители, как вы знаете, предпочитают видеть в смертельной опасности прекрасную даму.
– Профессия циркача – всегда риск, – добавила Клара. – Если на то пошло, я рискую гораздо меньше, чем любая воздушная гимнастка или канатоходец.
Павел рассеянно кивнул, а сам подумал, что губернатора надо будет застрелить непременно до начала номера, чтобы не видеть, как Клара снова кладет свою бедную голову под пяту слона.
8
Артисты роптали. Отряженный переговорщиком Матвей стоял перед директорским фургоном и докладывал:
– Застряли, дескать, в этой дыре, директор носу не кажет, представлений не даем, жалованья три месяца не видали… Расходиться, говорят, надо…
Приставив руку козырьком ко лбу, Шульц задумчиво посмотрел на небо, словно примерялся сбить солнце ударом хлыста. Наконец он сказал:
– Ты, голубчик, слетай к ним и скажи, что завтра устраиваем парад, а на следующий день даем представление. И вот еще, – добавил он вполголоса, – гляди в оба! Ежели кто опять надумает сделать ноги – зови Бобенчиковых. Они враз окоротят.
У присутствовавшего при разговоре Павла екнуло сердце. Так значит, уже послезавтра! Ему вдруг ужасно захотелось сделать ноги самому. Несмотря на Бобенчиковых.
– Воля ваша, – буркнул Матвей. – А только скажу как есть: на одних колотушках долго не продержитесь. Все одно разбегутся.
– Ну пес с вами… После парада можете погулять за мой счет. Только без меня, и чтобы к представлению были как стеклышко.
Павел осторожно попробовал возразить:
– Если они напьются накануне представления, то не смогут толком выступать.
– Зато и сбежать не смогут! – огрызнулся директор. – Бог даст, к полудню оклемаются. А если какая дура-гимнастка свернет себе шею, то моей вины в том не будет. Вилли! Где тебя носит, черная макака!
– Был бы вам бесконечно признателен, если бы вы перестали постоянно оскорблять этого человека, – холодно произнес Павел. – Насколько я знаю, он не причинил вам никакого зла.
– Вот как? – недобро усмехнулся директор. – Боюсь, вы знаете слишком мало, а наши представления о добре и зле сильно разнятся. – Он повернулся навстречу подошедшему Вилли. – Вот что, приятель: подготовь мой костюм да начисти как следует сапоги.
Силач покорно склонил огромную курчавую голову и побежал исполнять приказание.
Шульц, заложив руки за спину, обводил воспаленным взором свои цирковые владения, и Павел решил поискать более приятного общества.
Клару он нашел на арене. Она гарцевала на грациозной белой лошади, время от времени высоко поднимая ногу и делая поворот на носочке.
– Гоп-ля! – воскликнула она, ловко соскочив на манеж, и шлепком по крупу направила лошадь к выходу, где ее подхватил под уздцы и увел с арены один из служителей.
– По улицам слона водили… – продекламировал Павел.
– Не может быть! – искренне удивилась Клара. – Только что Матвей сказал, что парад назначен на завтра.
Павел хмыкнул, не в первый раз пораженный ее невежеством. Кларе действительно не мешало бы побольше читать; зачастую бедная девушка выказывала незнание самых элементарных вещей. Он подозревал даже, что она верит, будто Земля плоская.
– Клара, – засмеялся он, – ведь это же Крылов!
Она зарделась и стала дивно хороша.
– Простите… Я, наверное, кажусь вам очень глупой?
– Вы очаровательны, Клара, – искренне сказал он. – Прошу, оставайтесь такой, как есть.
– Вы совсем не умеете врать. Но знаете, никто никогда не разговаривал со мной так хорошо… Только Господин Элефант по-своему, по-слоновьи. Да-да, не смейтесь, не вздумайте смеяться! – Она погрозила ему пальчиком. – Генрих всегда заботился обо мне, но он считает меня дурочкой. А вы… вы совсем другое дело. Иногда мне кажется, что я знала вас всю жизнь.
И снова это произошло – привстав на цыпочки, она поцеловала его. Снова в щеку, но на этот раз ее губы коснулись уголка рта, и Павел, охваченный каким-то сверхъестественным ликованием, вдруг точно понял, что не убьет губернатора ни послезавтра, ни когда-либо вообще.
9
– Цирк! Цирк идет!
Первыми, как всегда, сбежались неугомонные мальчишки, отбросив свои бесконечно важные детские занятия. За ними поспевали и девочки – многие из них уже вели с собой взрослых. Наконец, заслышав звуки фанфар, оторвались от дел и самые занятые горожане. Все больше и больше народу от мала до велика вливалось в толпу, сопровождавшую цирковую процессию, которая пестрой змеей вилась по узеньким пыльным улочкам.
Впереди, облаченный в расписной алый кафтан, вышагивал сам директор, его голову венчал белоснежный тюрбан, украшенный кроваво мерцающим рубиновым оком. В этом живописном одеянии Шульц выглядел еще мрачнее, похожий на жестокого индийского правителя, практикующего казнь слонами. Благо и слон величественно шествовал рядом, вздымая огромные клубы пыли. Сияющая Клара в своем легкомысленном наряде восседала на шее Господина Элефанта, посылая в толпу воздушные поцелуи, и восхищенные мужчины отвечали ей тем же, презрев недовольные взгляды своих спутниц. Разодетый Матвей заглушал музыкантов, звонким петрушечьим голосом выкрикивая:
– Спешите видеть! Только одно представление! Знаменитые клоуны братья Бобенчиковы! Чудеса гимнастики! Акробатки под куполом цирка! Ужасный силач из дебрей Конго! И, наконец, гвоздь программы – жестокая казнь прекрасной девы под пятою гигантского слона!
И тут же Вилли всячески демонстрировал, что он именно ужасный, именно силач и именно из Конго, причем из самых что ни на есть глухих дебрей: угрожающе вращал глазами, потрясал над головой двухпудовою палицей и рычал гориллою. Никто бы не узнал сейчас в этом кровожадном людоеде кроткую жертву нападок Шульца.
Павел шел рядом с Господином Элефантом. Все казалось ему прекрасным – и теплый ветерок, ерошивший ему волосы, и благоухание палисадников, и эти тесные улочки, и эти радостные обыватели, на время вырвавшиеся из паутины сонного провинциального существования, но более всего…
Он старался не глазеть на налитые гладкие бедра Клары, крепко обхватывающие массивный загривок слона – от этого возникали мысли, бросающие в жар.
Путь лежал мимо губернаторского дома.
Там, на балконе, положа руки на мраморные перила, собственной персоной стоял губернатор и любовался Кларой. Постаревший сатир прятал грустную улыбку в окладистой серебряной бороде. Быть может, он вспоминал сейчас безвозвратно ушедшую юность в окружении таких же красавиц, когда он не стал еще символом тирании и угнетения, узником собственного дома, живущим в постоянном ожидании приговора.
По привычке Павел старался почувствовать ненависть – и не мог.
Доживай свой век, несчастный старик; видит Бог, тебе недолго осталось!
А он – он будет жить дальше. Пока в мире есть Клара, умирать просто глупо.
Нынче же ночью он заберет бомбы и взорвет далеко-далеко в степи. А наган зашвырнет подальше, к чертовой матери, как говорит Клара. И вернется в цирк. К ней.
Он ликовал – и вместе с ним ликовал весь город, еще не ведающий об уготованном ему кошмаре.
10
Сразу по возвращении циркачи потребовали, чтобы Клара непременно присоединилась к застолью, проводившемуся в одном из шатров.
– Не ходите, – успела она шепнуть Павлу.
Но он пошел. Пошел, только чтобы быть с ней.
Ему пришлось стать свидетелем и участником самой безобразной попойки, какая пристала бы скорее разбойникам, нежели артистам, пусть даже и разъездного цирка. Выпивка лилась рекой, циркачи отпускали грязные шуточки и горланили похабные песни, состязаясь в громкоголосии и сквернословии. Двое юношей-гимнастов бесстыдно целовались у всех на виду. Визжащие акробатки барахтались в жилистых руках служителей, каким-то образом все время переходя с коленей одного на колени другого. Клара не отставала от остальных – глушила водку вместе со всеми, вместе со всеми выкрикивала непристойности… Казалось, она нарочно стремится выставить себя в самом дурном свете.
Павел выпил немного водки, чтобы не привлекать внимания, а остальное украдкой подливал сидевшему рядом Матвею, на что тот благодарно кивал. И все равно в голове вскоре зашумело, а голоса циркачей временами сливались в неразличимый гул. В самый разгар веселья Клара вдруг вскочила на стол, одним глотком осушила стопку и, швырнув ее через плечо, принялась отбивать лихую чечетку под звон подпрыгивающих бутылок и ритмичное хлопанье в ладоши захмелевших товарищей. Ее гибкое тело извивалось в мерцании свечей, глаза сверкали шальным блеском, руки порхали над головой, точно белые птицы…
Павел сидел с раскрытым ртом, не в силах отвести от нее глаз. Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не видеть этого волнующего бесстыдства – и в то же время он мог бы любоваться им вечно.
– Гляньте, как Любимчик глазищи вытаращил! – крикнула одна из девиц.
– Да ведь он влюблен по уши!
– Гляди, гляди, покраснел, как его ливрея!
– Оставьте его в покое, – бросила Клара, не прекращая танца.
– Точно, оставьте, – подхватил Матвей, обнимая Павла рукой за плечи и обдавая запахом перегара. – Паренек-то хороший… щедрый…
– И то, может, повенчать их! – предложила неугомонная акробатка. – А Господин Элефант сватом будет!
– Ве-е-енчать меня с ним не нужно… – оскорбленно протянул Матвей и поскорей убрал руку. – Я ж по-дружески… я ж не из этих… – Он показал на милующихся гимнастов.
– Да с Кларой же, дурень, – отозвался один из них, вызвав всеобщий смех.
– С Кларой я завсегда готов! – глупо хихикнул Матвей.
– Да Любимчика же! Закатай губу, Матвейка!
– Ты свидетелем будешь!
– Я чего… я губу не раскатывал… я ж не Господин Элефант…
– Опять сказки рассказываешь! Никакая это не губа, а нос! – подал голос один из Бобенчиковых. – Огромный жидовский носяра!
– И вовсе не носяра, – уперся Матвей. – Мне директор рассказывал. Хобот – энто ихняя раскатанная губища.
– Ну уж ему-то мы Клару не отдадим! – загоготал другой брат.
– Он ее, бедняжку, в первую ночь порвет! – подхватил третий.
– Раздавит!
– У-у, душегуб проклятый!
Клара пьяно расхохоталась, а Павлу захотелось подойти к Бобенчиковым и обтесать кулаком наглые размалеванные физиономии. И он уже начал было вставать, как вдруг Матвей задиристо выкрикнул:
– От душегубов слышу!
Зловещая, тяжелая тишина повисла в шатре. Все взгляды были устремлены теперь на Матвея, но страшнее всех смотрели налитые кровью глаза клоунов.
– Ну-кась, повтори?
– Да-с, да-с! Слон что? Животина бессловесная, а вот вы с директором – как есть душегубы! Ну-ка, что там с Егоркой-то приключилось, расскажете?
Все трое братьев угрожающе поднялись на ноги. Но в тот же момент Клара соскочила со стола, бросилась Павлу на шею и прильнула губами к его губам.
Все закружилось перед глазами; словно издалека слышались смех и улюлюканье циркачей, но это казалось совершенно не важным – сейчас имел значение лишь хмельной вкус ее губ, жар ее тела, упругая мягкость груди… Дальше было как в тумане. Он слабо помнил, как она тащила его за руку из шатра, потом они оказались в ее фургончике, лихорадочно срывая друг с друга одежду, а к окошку, тесня друг друга, приплюснулись ухмыляющиеся рожи. Павел глупо улыбался. Клара, хихикая, показала в окошко кукиш и задернула занавеску.
Они повалились на койку, Павел оказался сверху. Ощущая дурманящий запах и жар разгоряченного молодого тела, он как безумный принялся целовать ее волосы, лоб, глаза, губы, шею.
– Раздави меня… – выдохнула Клара, направляя его рукой.
11
Они долго лежали в темноте, не говоря ни слова. Клара прильнула к его груди, обдавая жарким дыханием его шею. Он скользил пальцами по крутому изгибу ее бедра.
Вот все и случилось, думал он. Как просто. Как внезапно…
Отчаянный крик разбил тишину. Павел сел, будто подброшенный. Крик повторился, пронзительный, полный ужаса. А потом раздались грязная брань и глухие звуки ударов.
Павел скатился с кровати, нашарил в темноте брюки.
– Не надо, не ходи! – крикнула Клара.
Но он уже выскочил из фургона. Силуэты шатров и повозок смутно вырисовывались в темноте, и где-то среди них верещал Матвей:
– Спасите, родненькие! Убивают!
Очертя голову Павел бросился на крик.
Матвей, жалкий, дрожащий, скорчился у повозки, прикрывая голову руками, а вокруг него приплясывали три пестрых фигуры, нанося ему безжалостные удары ногами в слишком больших башмаках. Вся троица обернулась на окрик Павла. Призрачно-белые рожи с багровыми носами расплылись в кроваво-красных ухмылках. В руках блеснули ножи. Тут только Павел осознал, что стоит один против троих головорезов, полуголый и безоружный.
– Ба, Любимчик нарисовался! – гоготнул один из них, поигрывая ножом. – Герой-любовничек! А не кажется ли вам, что для нашей Клары он недостаточно хорош? Не изукрасить ли ему перышками фронтон?
Остальные визгливо захихикали.
– Лучше пощекотать с торца!
– Загнать с черного хода!
Пользуясь случаем, Матвей извернулся ужом и исчез под повозкой, но троим белым призракам, похоже, и дела не было – они всецело увлеклись новой жертвой. Павел лихорадочно огляделся, ища хоть какого-нибудь оружия. И тут подоспела Клара, задыхаясь и на ходу затягивая поясок халата:
– Не троньте его, зверье!
– Клара, если сделают к нам еще хоть шаг, беги в полицию, – проговорил Павел, подавляя дрожь в голосе.
Это вызвало взрыв издевательского хохота:
– Да, Клара, беги в полицию!
– Беги-беги, да смотри, говори все, без утайки!
– Не то мы расскажем: одним, что ли, пропадать?
Клара замерла на месте, бледная, как смерть. В ее распахнутых глазах плескался ужас.
– Что здесь происходит? – Шульц выступил из темноты, спокойный и обманчиво хладнокровный, но при виде хлыста в его руке страшные белые призраки тотчас съежились, превратившись в пьяных и жалких клоунов.
– Мы ничего…
– Матвейке язык хотели укоротить слегонца…
– А тут этот…
Шульц перевел взгляд с Павла на Клару и сказал:
– Ты опять взялась за старое, дорогая сестра. А вы, – он повернулся к притихшим Бобенчиковым, – марш к себе, и чтоб до завтра я вас не видел!
Клоуны бросились наутек.
– Генрих, я… – начала Клара.
– Ничего страшного, лишь бы не черномазый, – бросил Шульц и пошел прочь.
Клара вздрогнула, словно он опять ударил ее. Когда Павел отвел ее обратно в фургон, она опустилась на банкетку перед зеркалом и закрыла лицо руками.
– Значит, твой ребенок был от Вилли? – спросил Павел.
– Я даже не знала, от кого, пока он не родился, – угрюмо ответила Клара. – Наверное, потому и умер. Кровь немцев плохо сочетается с кровью чернокожих.
– Кто сказал тебе такую чушь?
– Генрих.
– Генрих либо негодяй, либо невежа. Впрочем, я больше склоняюсь к первому. Негры ничем не отличаются от белых, это известно всякому приличному человеку.
– Может, он иногда бывает несправедлив, но не смей его оскорблять, – холодно произнесла Клара. – Ты не знаешь его. И потом, только что он спас твою жизнь.
– О, я узнал вас обоих достаточно! – Голос Павла дрожал от негодования. – Ты отвлекла меня, чтобы эти бандиты смогли заткнуть рот Матвею, я прав?
Голос Клары сделался совсем ледяным:
– Собирай вещички и вон из моего фургона.
– А все-таки, кто убил слоновщика? Львы? Слон? Клоуны? Твой братец? Может быть, ты, Клара? Или весь ваш проклятый цирк поучаствовал?
– Он уже не двигался! – В ее голосе звучали слезы. – Генрих сказал, что тело нужно бросить в клетку ко львам, иначе прозектор определит истинную причину смерти. Вызвались Бобенчиковы… Мы не знали, что он еще жив. А когда львы стали его рвать… он вдруг очнулся и закричал! Я до сих пор слышу этот крик…
Издав дрожащий вздох, она продолжала:
– Мы не могли поступить иначе… Год назад в Одессе расстреляли слона Ямбо. Его изрешетили разрывными пулями… полчаса он умирал в муках на глазах у зевак… Разве мы могли обречь на такое нашего единственного друга?
Теперь Павел понимал, почему бегут люди. Они боялись не слона, а его хозяина. Желая спасти Господина Элефанта, Шульц впал в безумие и обрек на гибель весь цирк.
– Но отвлекла ты меня нарочно? – настаивал он.
– Да, – призналась она. – Поверь, я не знала, что они задумали! Я лишь боялась, что Матвей расскажет тебе про Генриха… А из-за них ты и сам обо всем догадался.
Если она и лгала, он слишком хорошо понимал ее, чтобы осуждать. Разве он сам не готов был ради давно умершего брата лишить человека жизни?
Повинуясь порыву, он опустился перед ней на колени, взял ее за руку и заговорил с жаром:
– Теперь я все понимаю Клара… нам надо бежать! Подальше от этого страшного цирка! Мы могли бы жить вместе… я устроился бы на службу…
Клара высвободила руку и отстранилась:
– Если и я отвернусь от Генриха, он сойдет с ума, неужто не понимаешь?
– Пойми, Клара, ведь он уже безумен! Он погубит тебя…
– Будь что будет. Нам не по пути, дорогой сударь. Пусть лучше Господин Элефант раздавит меня.
– Если понадобится, я уведу тебя силой.
Она рассмеялась:
– В следующий раз тебе придется и брать меня силой. Я уже жалею, что отдалась тебе в первый.
Он вскочил, непроизвольно сжав кулаки. Клара дерзко усмехнулась сквозь слезы:
– Давай! Ударь меня, если тебе станет от этого легче. Ведь я гадкая, распутная, дерзкая, я плоть от плоти этого цирка! Бей! Генриху помогает. Мы могли бы одолжить у него хлыст…
Плечи Павла поникли. Он понял, что все кончено.
Неужели он едва не отрекся от цели ради этой наглой, бесстыжей, невежественной циркачки?
Молча собрал он свои вещи, наспех оделся и покинул ее фургон.
Цирк был тих, будто вымерший. В предрассветных сумерках Павел столкнулся с Матвеем. Лицо бедолаги превратилось в сплошной лиловый кровоподтек, один глаз заплыл, губы вздулись лепешками. Он затравленно глянул на Павла здоровым глазом и поспешил прочь, прижимая к груди узелок с вещами.
12
Послеполуденная жара укутала город изнуряющим покрывалом, но оказалась бессильна остановить стекающиеся в цирк толпы, привлеченные вчерашним парадом. Словно подтверждая известное выражение о «самом демократичном из искусств», перед куполом шапито вскоре собрался самый разнообразный люд.
Впрочем, иллюзию демократичности быстро развеял взвод солдат, проводивших досмотр посетителей на входе, и появление губернаторского экипажа, окруженного отрядом конной стражи.
Губернатор вышел из кареты в сопровождении двух дюжих румяных молодцев. Он поднял руку, приветствуя народ, офицеры опустили руки на тяжелые кобуры, предостерегая его. Неприязненный ропот прошел по толпе.
Павел, уже облачившийся в униформу, остановился у входа в слоновник. Массивная фигура губернатора с поднятой ладонью колебалась в знойной зыби, словно само солнце защищало его, искажая прицел для возможного стрелка. Рука Павла непроизвольно коснулась ливреи, за полой которой был припрятан наган.
Он вошел в слоновник.
Клара лежала на спине Господина Элефанта, поглаживая рукой его массивную голову, а слон, причудливо изогнув хобот, вытирал ей слезы. При виде этой трогательной картины у Павла защемило сердце. Он хотел сказать что-то, но не находил слов. Слишком многое было высказано прошлой ночью.
Они молча ждали, стараясь не смотреть друг на друга. Клара то и дело поглядывала на брегет, оставленный ей братом, – без Матвея некому было «слетать» к ним, чтобы вызвать на сцену. Из главного шатра доносились отголоски представления.
Так прошло около часа.
Брегет заиграл веселый мотивчик. Не говоря ни слова, Павел дрожащей рукой ухватил Господина Элефанта за узду и повел из слоновника.
Легкий ветерок гулял среди палаток, освежая взмокшие лица солдат, оцепивших входы в главный шатер с оружием в руках. Солнечные зайчики играли на стволах винтовок.
– Э, брат! – крикнул вдруг юный солдатик, переложив винтовку из руки в руку. – Не торопись!
Попался, подумал Павел почти с надеждой. Но солдатик разулыбался по-детски:
– Эх, как представление-то посмотреть охота! Хоть на слона вашего погляжу…
– Сашка зеленый у нас еще! – хмыкнул командир, крутнув ус. – Такая мамзель тут, а он, вишь-ты, слоном любуется!
Солдаты расхохотались, засмеялась и Клара, хоть и вымученно. Щеки паренька, едва тронутые пушком, залил румянец. Он махнул Павлу рукой – проходи, мол. Совсем ведь мальчишка, с горькой завистью подумал Павел. У него-то целая жизнь впереди… Еще подумал, что на губернаторе, должно быть, поставили крест даже свои, раз дают в охрану таких вот молокососов.
Наверное, волнение передалось и слону, который вдруг грузно переступил с ноги на ногу.
Но на самом деле Господин Элефант переживал сейчас свой собственный кошмар.
Он помнил. Помнил эти громовые палки в руках двуногих.
– Спокойно, дружок, спокойно, – шептала Клара, похлопывая его по шее, но слон не мог быть спокоен. Это был даже не страх, а то неистовое отчаяние, которое заставляет загнанного зверя бездумно кинуться на врага. Одно лишь присутствие Клары усмиряло его.
Он шел навстречу двуногим, ожидая, что в любой момент страшные палки в их руках сразят его громом, как когда-то сразили мать.
Но двуногие расступились, пропуская его.
13
За краткий момент до выхода на сцену Павел испытал все то, что чувствует приговоренный, восходя на эшафот… или на арену, где уже поджидает слон-палач, готовый раздробить ему голову.
– Дамы и господа, представляю вам Господина Элефанта, величайшего слона в мире! – донесся до него голос Шульца.
Павлу казалось, что ноги набиты мякиной; что брезентовые стенки судорожно сжимаются, норовя вытолкнуть их троих туда, где сверкают огни и ревут фанфары, где ему предстоит убить и быть убитым. Вот арена, вот зрители – звонко плещущие руки, восторженное мерцание глаз, вот директор в своем наряде индийского раджи, а вот и клоуны – кривляются, перекидываясь глупыми шуточками. Все будто сон, причудливый, яркий, страшный; сейчас он проснется, и окажется, что не было ни цирка, ни Клары, ни Шульца, ни Господина Элефанта, ни губернатора, будь он проклят; что лежит Павел в своей постели, а за окном под пение птиц пробуждается умытый росою мир. И Алексей скажет: «Здоров спать, братец!»
А потом они вместе будут долго смеяться над бредовым его сновидением.
Он повел слона вокруг арены, чувствуя, как дрожат ноги, а в горле разрастается тугой ком. Нет, он не проснется, и Алексея не будет больше, а виновник сидит в кресле, расстегивая ворот кителя, точно ему вдруг стало душно, и его молодые спутники пожирают глазами Клару…
Грохот аплодисментов оглушал.
…Клару, которая, когда он поднимался к свету, предательски столкнула его обратно в пропасть.
Сияние прожекторов резало глаза. Рука отказывалась подчиняться.
И тут Господин Элефант подмигнул ему.
Быть может, слона ослепил луч света или в глаз ему попала соринка, но Павлу в его лихорадочном состоянии почудилось: это знак.
Давай, говорил Господин Элефант, покажи им всем.
Поравнявшись с губернаторской ложей, Павел сунул руку за пазуху и выхватил револьвер.
14
Мгновения растянулись в бесконечности. Он видел, как офицеры разинули рты, одновременно потянувшись к кобурам, как губернатор с изумлением на лице начал подниматься… Первая пуля пробила старику горло, следующие две вошли в живот. Музыка, взвизгнув, захлебнулась, а губернатор рухнул обратно в кресло, уронив голову на грудь, точно сломанная марионетка.
Испуганные крики огласили цирк. Офицеры вскочили, выхватывая пистолеты, но в тот же миг кто-то прыгнул на Павла сверху, обхватил руками за шею и сбил с ног.
Клара!
Он упал, треснувшись подбородком и прикусив язык, рот наполнился металлическим привкусом крови. Пули, предназначенные ему, просвистели над головой Клары и наповал сразили опешивших братьев Бобенчиковых.
Еще несколько пуль поразили Господина Элефанта.
Огромный зверь на мгновение замер, точно каменное изваяние. Глаза его вращались от боли и ужаса. А потом он взметнул хобот и затрубил, и такая неистовая ярость была в его голосе, что публика умолкла, охваченная первобытным, животным страхом. Снова и снова ревел Господин Элефант, разевая треугольную розовую пасть. Он осознал, что подчинение бессмысленно, что даже Клара не защитит его, что пока он жив, двуногие будут причинять ему боль, и что он больше не намерен этого терпеть.
Он сделал несколько шагов вперед, туда, откуда в него стреляли, где застыли два потрясенных человека, так и не опустившие пистолетов.
Павел откатился подальше от раненого зверя, увлекая за собой Клару. Она на четвереньках отползла в сторону.
Господин Элефант вскинулся на дыбы, воздев ноги-колонны над головами офицеров, и один из них допустил роковую ошибку: разрядил пистолет в огромное серое брюхо.
Бешеный вопль вырвался у слона. Тяжелая нога обрушилась на голову стрелка, словно молот, разметав во все стороны осколки черепа и ошметки мозга. Второй офицер с удивительным проворством начал карабкаться по рядам, но хобот Господина Элефанта настиг его. Офицер взмыл под самый купол, описал в воздухе сальто-мортале на зависть любому акробату и мешком грянулся на арену, где и остался лежать, неестественно вывернув шею. Из его уха тоненькой струйкой побежала кровь.
Снова заревев, Господин Элефант развернулся и сделал несколько шагов к своему хозяину, но путь ему решительно преградила Клара.
Слон остановился, протягивая к ней хобот. Ноздри на конце его шумно раздувались, поднимая ветер, растрепавший волосы девушки.
Клара доверчиво протянула руку навстречу грозному хоботу.
– Господин Элефант, что же ты? – ласково приговаривала она. – Успокойся, милый… Это я, Клара…
Не выпуская из руки нагана, Павел как завороженный смотрел на гигантского зверя и маленькую женщину, застывших друг против друга. Краем глаза он видел и Шульца – тот тоже не сводил глаз с сестры.
Господин Элефант долго смотрел на девушку, будто решая, казнить или миловать. Неизвестно, к чему бы он в итоге пришел, если бы на манеже откуда ни возьмись не возник Вилли, занося над головой, словно копье, слоновий багор.
– Клара! – выкрикнул он и со всей своей недюжинной силой вогнал стальное острие в бок слона. – Спасайся!
С воплем визгливой ярости Господин Элефант круто развернулся и сшиб Вилли ногой. Глаза бедного негра вылезли из орбит, из раздавленного тела хлынули во все стороны склизкие змеи кишок. В последней судороге он вскинул руку, но могучий хобот тотчас перехватил ее и одним рывком выдрал из плеча, окропив кровавым фонтаном арену…
Перепуганные зрители рванули к выходу, опрокидывая скамьи и сшибая друг друга с ног. Несколько трибун с грохотом обрушились, упавшие смешались в кучу, а по их телам и головам уже безжалостно перли другие. Ворвавшиеся в шатер солдаты с винтовками наперевес тут же застряли в людской лавине, которая вынесла их обратно. Схватив кричащую сестру за плечи, Шульц потащил ее с залитой кровью арены, мимо неподвижных тел Бобенчиковых, подальше от взбесившегося зверя и ополоумевшей толпы.
Павел был поражен самопожертвованием силача, но печалиться не было времени: Господин Элефант уже шагал к нему, все еще держа в хоботе мускулистую черную руку с болтающимися обрывками мышц, и под ногами его влажно чавкало.
Вскочив, Павел два раза выстрелил слону в голову. Пули расплющились о толстый череп животного, но боль на мгновение ослепила его, и слон завертелся на месте. Этого Павлу хватило, чтобы добежать до выхода и выскочить из шатра вместе с последними зрителями. Перед шапито, сжимая в дрожащих руках винтовки, нестройной шеренгой сгрудились перепуганные солдаты.
– Бегите! – крикнул Павел и прыгнул в сторону. Он успел нырнуть под ближайшую повозку в тот самый момент, когда из шатра тяжелым галопом вырвался разъяренный Господин Элефант.
Оправившись от первого шока, солдаты открыли огонь по обезумевшему животному. Несколько пуль продырявили чувствительные уши гиганта, окончательно лишая его рассудка. Снова затрещали выстрелы. Пули с визгом впивались в бока слона, но не могли остановить его. Солдаты рассыпались в стороны, и когда ослепленный яростью зверь пронесся мимо, дали вслед ему еще один залп.
Гигант с разбегу врезался в фургон, разнеся его в щепки. Солдаты снова сомкнулись в шеренгу, перезаряжая винтовки. Но то, что случилось потом, стало для них полнейшей неожиданностью.
Изогнув хобот, Господин Элефант выдернул из своего бока слоновий багор и снова пошел в атаку, раздавая удары направо и налево. Стальной наконечник вспарывал животы, разбивал черепа. Люди разлетались, точно кегли. Уцелевшие в панике бросились врассыпную. Отшвырнув окровавленное орудие, слон пустился в погоню. Он настиг одного из солдат, поймал хоботом за ногу, с размаху ударил затылком об угол повозки, вдребезги размозжив череп, а потом швырнул еще бьющееся в конвульсиях тело вдогонку убегающим.
Теперь он видел, что их громовые палки лишились силы.
Двуногие перестали быть грозными и всемогущими. Точно перепуганные крысы метались они, отталкивая друг друга, топча своих же, истошно вопя… Запах страха витал над полем.
И эти жалкие твари столько лет держали его в подчинении?!
Отныне он сам себе хозяин. Он волен идти куда захочет и делать что пожелает.
А желает он, чтобы двуногие заплатили за все.
Ведь он не забывал ничего.
Он двинулся в город вслед за убегающими людьми.
15
– Зачем? Зачем он это сделал, Генрих? – всхлипнула Клара.
Шульц зажал ей рот рукой. И вовремя: фанерные стены киоска, где они прятались, затряслись мелкой испуганной дрожью. Свет в окошке померк, заслоненный – в самом прямом смысле! – громадной тушей Господина Элефанта.
Шульц стискивал сестру в объятиях, стараясь даже не дышать. У слонов ведь тончайший слух…
А ему пока рано умирать. Пусть его жизнь разрушена, осталось еще одно незавершенное дельце.
Ярость, которую он испытывал сейчас, не имела ничего общего с изводившими его буйными приступами. Эта ярость была холодной и острой, как отточенный клинок. Благородной. Очищающей.
Солнечные лучи снова хлынули в окошко. Земля снова задрожала – Господин Элефант удалялся.
Сестрица, стоило ее отпустить, опять запричитала, на сей раз оплакивая «бедного, бедного Вилли». Он почувствовал, как все закипает внутри. Держись. Держись. Только очередного припадка сейчас не хватало.
Почему Клара так падка на всякую сволочь? Он до сих пор помнил, как «бедный Вилли» надолго лишил ее возможности выступать. Шульц тогда с ужасом думал, что после рождения ребенка станет только хуже: кормление грудью, пеленки-распашонки, детские хвори – какая уж тут работа? Кормящие матери частенько еще и толстеют… Как ему хотелось узнать, что за подлец обрюхатил его сестру, осквернил ее своим гнусным семенем! Тайна раскрылась несколько месяцев спустя, когда Клара, взмокшая и охрипшая от крика, разрешилась от бремени у него на руках и тут же потеряла сознание. Скоты Бобенчиковы померли бы со смеху! Маленький орущий комочек весь был в крови и слизи, но даже это обстоятельство не могло скрыть черной кожи, курчавых волос и вывороченных губ.
К счастью, поставить простака Вилли на место не составило труда. Шульц знал, что в России к неграм относятся скорее с благодушным любопытством (по его мнению, русские сами недалеко ушли от них), но для Вилли за пределами цирка всегда был штат Миссисипи, так что слова «расовое преступление» и «суд Линча» оказали должное воздействие. Пришедшей в себя сестре Генрих сказал, что ребенок был все равно не жилец – забавно, учитывая, сколько времени ему пришлось держать маленькое тельце в бадье с водой, прежде чем оно перестало дергаться.
Он вспомнил, как сестра билась в истерике – глупое создание! – и губы его растянулись в злорадном оскале. Черномазый отправился вслед за своим выблядком. Господин Элефант отменно расправляется с предателями – уж не затесались ли в его роду слоны-палачи, служившие жестоким восточным владыкам? Впрочем, Шульц не хотел, чтобы человек, разрушивший его цирк, стал жертвой слона.
– Оставь его мне, – хрипло прошептал он, до боли в руке стискивая хлыст. – Оставь его мне.
16
– Бешеный слон! Бешеный слон!
Семилетняя Лизанька Ртищева от удивления приоткрыла рот, прекратив ненадолго истерику. Единственная и поздняя дочка коллежского советника не терпела запретов, а сегодня родители отказались взять ее с собой в цирк, оставив на попечение гувернантки Елены Платоновны, незамужней девицы тридцати семи лет, которая, несмотря на от природы незлобивый нрав, в тот вечер с трудом преодолевала желание удавить свою воспитанницу.
Елена Платоновна чеканным шагом подошла к окну и выглянула на улицу. По дороге, шатаясь, бежал Тришка – известный в городе забулдыга. Грязный и оборванный, с окровавленным лицом, он размахивал руками над головой, точно свихнувшийся пророк, и орал дурным голосом:
– Бешеный слон! Спасайся кто может!
Досадливо фыркнув, Елена Платоновна задернула штору – чего не помстится дураку с пьяных глаз! – и противостояние возобновилось.
– Лизавета Сергеевна, душечка, успокойтесь Христа ради! Будто вас убивают! – увещевала она, таща визжащую и брыкающуюся барышню к столу.
– Пусти, пусти, гадкая! – верещала девочка. – Не хочу за стол! В цирк хочу-у-у!
Между тем цирк сам уже шел к Лизаньке. Господин Элефант, проходя по улице, услыхал детский визг, доносившийся из окна дома Ртищевых. Ярость снова овладела гигантом.
Ведь он не забывал ничего.
Он помнил, как маленьким слоненком спасался от сыновей офицера-плантатора, которые, вот так же визжа, гоняли его по саду, норовя выткнуть глаз самодельными копьями.
Он помнил, как сам офицер, отринувший при виде потоптанных цветников хваленое британское хладнокровие, остервенело колотил его палкой.
Жажда мести вспыхнула в нем с новой силой.
Между тем барышня с гувернанткой заключили мирное соглашение. Лизанька согласилась сесть за стол, но только в компании всех своих кукол. Теперь она накладывала себе в чай варенья из блюдечка, жалобясь фарфоровым подружкам на глупых взрослых. Елена Платоновна облегченно вздохнула и на мгновение прикрыла глаза.
Именно поэтому она не увидела, как в окне возник огромный темный силуэт.
Стекло брызнуло градом осколков. Порыв ветра взметнул к потолку тюлевые занавески. На глазах пораженной ужасом гувернантки что-то огромное, серое, страшное, похожее на изборожденную трещинами исполинскую змею, ворвалось в окно, обвило Лизаньку за талию и унесло с собой, прежде чем последние осколки осыпались на подоконник. Туфелька, слетевшая с детской ноги, брякнулась на стол, опрокинув чашку и расколов блюдечко. Варенье расплылось на скатерти багровой лужицей. На мгновение воцарилась тишина, а потом ее расколол мучительный детский крик, тут же прерванный глухим ударом. И раздался рев – трубный, визгливый, исполненный неистовой ярости… Елена Платоновна почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног, а сама она летит куда-то вниз, вниз…
Очнулась она на полу и сразу уставилась в зияющий проем окна, пытаясь сообразить, что же произошло. Наконец, дрожа, точно в лихорадке, она сумела подняться на ноги, шатаясь, подлетела к окну, ухватилась за раму с обеих сторон, не обращая внимания, что осколки стекла режут пальцы, и выглянула наружу.
Там, в палисаднике, который выглядел так, словно по нему прошелся ураган, среди растоптанных в пеструю кашу цветов лежала бесформенная куча тряпья и измочаленной плоти, из которой торчали обломки костей…
Долго смотрела Елена Платоновна, не в силах осознать, принять, смириться.
Куклы таращили на нее осуждающие стеклянные глаза.
Она раскрыла рот и завыла зверем.
Господин Элефант тем временем нашел себе новые жертвы. Ими стали двое влюбленных, на свою беду решившие в тот вечер прокатиться по бульвару в бричке. Огромный зверь, жгучая злоба которого к тому времени сменилась мстительным хладнокровием, подобрался к ним сзади так тихо и незаметно, что даже норовистая кляча не заметила его приближения.
Страшный удар разнес бричку в щепки. Одно из колес отлетело, вдребезги расколотив витрину ювелирного магазина. Молодому человеку несказанно повезло: его отшвырнуло в сторону. Свалившись в канаву, он потерял сознание и уже не видел, как его пораженная ужасом спутница, не издав ни звука, исчезла под ногами чудовища. Извозчик рухнул на мостовую; перепуганная лошадь шарахнулась, натягивая поводья, обмотанные вокруг его запястий. Отчаянный вопль мужика оборвался, когда в лицо ему с размаху влепилось копыто, раздробив глазницу; выбитый глаз склизким сгустком повис на щеке. Лошадь поволокла несчастного прочь, ударяя головой о брусчатку и оставляя широкую кровавую полосу.
Господин Элефант ликующе протрубил им вслед.
Но торжествовать было рано. Уже со всех сторон бежали городовые, на ходу передергивая затворы винтовок. Снова засвистели пули, впиваясь в его плоть.
Слон распростер парусами кровоточащие уши и кинулся в узкий проулок. В пылу погони городовые устремились за ним. Они осознали свою ошибку, лишь когда в самом конце проулка Господин Элефант неожиданно развернулся им навстречу, и оказалось, что бежать можно только назад, причем противник бегает гораздо быстрее…
Бешеный рев зверя заглушил грохот, звуки ударов и душераздирающие крики гибнущих людей.
17
Павел вылез из своего укрытия и огляделся.
Огромный желтый купол как ни в чем не бывало высился посреди поля. Как и прежде змеиным языком трепетал над ним красный флажок. Но теперь часть фургонов была перевернута и разбита в щепки. Кругом рваными тряпками пестрели втоптанные в землю шатры и палатки. Громко кричали вороны, и где-то позади шатра жалобными голосами вторили им брошенные в клетках животные. А посреди всего этого разрушения, вывернув изломанные конечности, валялись мертвецы. Одни распластались лицом в грязи, другие слепо уставились в темнеющее небо, третьи были так изувечены, что и лиц не разберешь… Бросился в глаза давешний мальчишка-солдатик, который хотел поглядеть на слона и которому Павел так опрометчиво предсказывал в мыслях «многия лета»; лежал с развороченной грудью, цепляясь за воздух скрюченными пальцами, словно еще пытался ухватить ускользающую жизнь, кровь запеклась вокруг рта, застывшего в мучительном беззвучном крике. Павел зачем-то наклонился смежить убитому веки, но пальцы соскользнули, задев мертвые глаза, и от их студенистой стылости его пробила дрожь.
– Боже… – прошептал Павел. – Боже, что я наделал?
Боженька, разумеется, не отвечал. Наверное, его все-таки не было. За все случившееся придется отвечать только перед своей совестью, а он не знал ответов.
Черт возьми, лучше бы он воспользовался бомбами!
Впрочем, теперь-то, пожалуй, самое время.
Громовой студень остановит смертельное веселье Господина Элефанта. Бомбы раздробят слону колени, оторвут хобот, разворотят брюхо, выпустив наружу кишки… Он больше никому не сможет причинить зла.
Стараясь не наступать на мертвецов, Павел добрался до своего жилища.
Старый саквояж ждал его на привычном месте под койкой. Павел осторожно извлек его, взвесил в руке. Какая все же ирония: снаряды, от которых он отказался в пользу револьвера, чтобы не губить горожан, теперь для них же станут спасением. Френкель бы оценил.
С саквояжем в руке он шагнул из фургона.
Удар бича едва не ослепил его, наискось расчертив лицо безобразным алым рубцом. В глазах сверкнуло, и Павел разжал пальцы. Саквояж ухнул между ступенек, угрожающе брякнув содержимым, но взрыва так и не последовало.
Павел скатился с лесенки и рухнул навзничь. Он успел отползти достаточно далеко и даже подняться на колени, зажимая рукой окровавленное лицо, но тут бич звонко ударил по пальцам, разодрав их до костей, и все поглотила боль – нестерпимая, жгучая.
– Генрих, прошу, не надо! – донесся до него отчаянный вопль Клары.
Павел опрокинулся на спину, заходясь криком. Шульц навис над ним, его глаза под тюрбаном сверкали безудержным злым весельем. Он снова размахнулся хлыстом, но тут Клара набросилась на брата сзади и обхватила за плечи. Шульц вогнал локоть ей в живот, а когда она, охнув, разжала пальцы и скорчилась в три погибели, ударил кулаком в лицо. Захлебываясь кровью, Клара отлетела к фургону.
– Шлюха! – сплюнул Шульц.
Павла трясло. От боли, от страха, от ненависти, какой он никогда не испытывал даже к губернатору. Шульца, вот кого следовало пристрелить как бешеного зверя! Искалеченной рукой он сумел-таки выхватить из кармана наган с единственным уцелевшим патроном и направить его на безумца.
– Нет, брат, шалишь! – Удар бича разорвал Павлу щеку. Ослепленный болью, он выпалил наугад.
Звонкий, мучительный крик вонзился в уши.
Оцепенев от ужаса, Павел смотрел, как Клара, бедная маленькая Клара, которая до последнего пыталась его защитить, съезжает спиной по стене фургона, прижимая руку к животу. Под ее пальцами расползалось алое пятно. В широко раскрытых глазах застыло обиженное удивление.
– Клара… – хрипло выдавил Шульц. – Клара, ты что? – Он бросил хлыст и сделал несколько шагов к сестре, протягивая дрожащие руки.
И тут неожиданно сработали бомбы.
Словно бесплотная горячая рука оттолкнула Павла назад, а потом сверху обрушился град из комьев земли и обломков. Ни фургона, ни Шульца, ни Клары не было больше. Никто не опознал бы в дымящихся среди горящих досок ошметках плоти грозного директора цирка и его прекрасную сестру.
Много часов пролежал Павел скорчившись, устремив невидящий взор в никуда. Он не слышал ни карканья воронья, ни плача животных. Он вообще ничего не слышал, кроме низкого гудения в голове, ничего не видел, кроме какого-то багрового марева.
Медленно поднялся он на ноги и, шатаясь, побрел с поля. Сам не зная как, добрался до города. Слезы прочертили дорожки в кровянисто-земляной корке, покрывавшей его лицо, кровь ручейками бежала из ушей, исчезая за воротом разодранной грязной ливреи. Он бормотал себе под нос какую-то невнятицу – лишь бы приглушить хоть немного нестерпимый гул в голове.
Земля задрожала.
Господин Элефант бесшумно выплывал из переулка – темная гора в сгущающихся сумерках. При виде человека он издал угрожающий рокот.
Подняв голову, Павел шагнул навстречу надвигающейся громаде. Он видел злобу, горящую в маленьких глазках чудовища, видел кровь, струившуюся по его вздымающимся бокам из десятков пулевых дыр. Мертвенно белели во мраке страшные бивни с запекшимися на них темными брызгами. Павел понимал, что сейчас эта взбесившаяся махина казнит его. И знал, что так и должно быть.
– А я, брат, хотел убить губернатора, – сказал он.
Он почувствовал, как могучий хобот обвивается вокруг талии и отрывает его от земли. Бивень насквозь пробил грудь; боль огнем разлилась по телу и наполнила рот вкусом расплавленной меди. Господин Элефант дернул головой, высвобождая бивень, Павел рухнул ничком и успел еще увидеть, как кровь, хлынувшая изо рта, змеится между булыжниками мостовой. Огромная, мягкая, неумолимая тяжесть опустилась на затылок, надавила – и череп лопнул. Мир исчез в ослепительной белой вспышке, которая тут же угасла, сменившись дрожащей чернотой.
А потом не было ничего.
Господин Элефант двинулся дальше, оставив человека лежать позади, точно ненужный ворох тряпья.
Точно отброшенное воспоминанье.
Никто больше не пытался остановить его. Никто не осмелился бросить ему вызов. К тому времени, как поднятый в ружье гарнизон вошел на опустошенные страхом улицы города, Господин Элефант был уже далеко.
Он держал путь через степь. Теплый ветерок ласкал его израненное тело, и шелестел ковыль, усмиряя нежным шепотом его гнев. Впервые за бесконечно долгие годы Господин Элефант был счастлив. Время от времени он поднимал хобот и ликующим ревом оглашал темноту.
Опьяненный волей, он не чувствовал, как жизнь покидала его вместе с кровью, бегущей из множества ран. Шаг слона сделался нетвердым, его шатало, а он все шел и шел. Лишь когда над стеною леса далеко впереди забрезжил рассвет, слон-убийца наконец остановился.
Заря разливалась над горизонтом. В последний раз Господин Элефант воздел хобот и заревел, исторгнув в рдеющее небо кровавый фонтан. Черные птицы снялись с деревьев и с криком заметались в вышине. Эхо подхватило вопль, и уже сам гигант рухнул замертво, а его трубный глас еще долго гулял над дрожащей землей, словно предвестье чего-то великого, страшного, непостижимого…
Анатолий Уманский
Семечко
1
Дед прикрыл ладонью глаза от солнца и сквозь дрожащее, тяжелое марево различил вдалеке клубы пыли, вьющиеся по дороге.
Лето стояло жгучее – хоть помирай. Воздух словно налился свинцом, сделался плотным и тяжелым. Которую неделю не шел дождь, земля покрылась паутиной трещин, а деревья склонились к земле в слабой надежде укрыться от бесконечного зноя. Клубника пропадала.
От такой жары не избавиться. Ее надо пережить, укрывшись в прохладе дома. А если найдет нужда выйти на улицу, то следует перебегать от одного пятна спасительной тени к другому. Иначе дурно станет, как будто на раскаленную сковороду угодил.
Горячий воздух обжигал легкие. Глаза слезились. Налетела мелкая мошкара, от которой не было здесь спасенья.
Клубы пыли извивались в воздухе, точно повторяя изгибы дороги. Прошло несколько секунд, из-за рыжих холмов выскочил автомобиль, подъехал к забору и затормозил, брызгая в стороны мелкой галькой.
Хлопнула дверца, скрипнула калитка, и дед разглядел вошедшего во двор.
Вернее – вошедшую.
– Деда, здравствуй! Разрешишь?
Ленка почти не изменилась. Такая же бледнолицая, одетая черт те во что – очередная городская мода – и в черных очках на пол-лица. Когда он ее видел в последний раз? Около года назад. Приезжала на новенькой машине, просила о помощи. К старым родителям только за двумя вещами и приезжают – либо похвалиться, либо попросить чего-нибудь. Иной нужды нет.
– Заезжай. Защелка знаешь где, – сказал дед и, развернувшись, вернулся в дом.
За его спиной заскрипели ворота, горячий воздух тяжело вздохнул. Дед не обернулся, а только стряхнул пот со лба и, переступив порог, нырнул в спасительную прохладу.
Он как раз доставал из холодильника кастрюлю с окрошкой, когда через сени, пригнувшись, прошла Ленка, заглянула в комнатку и сказала:
– А я не одна… – В полумраке дома, под этими низкими потолками, среди побеленных известкой стен, старых кроватей, шкафов и столов ей явно было неуютно. Отвыкла. – Внучку привезла. Она по дороге заснула. Там, на заднем сиденье спит пока.
– Внучка, значит, – пробормотал дед.
Ленка потопталась на пороге, потом прошла в уголок, где сидела обычно, когда приезжала – и год, и пять лет назад, – опустилась на скрипучий деревянный стул, между столом и оконцем. Несколько минут наблюдала, как дед расставляет посуду, наливает окрошку и нарезает кусками хлеб.
– Ешь, – буркнул он, пододвигая тарелку. – Свежая, на кефире. Редиска с огорода, никакого этого вашего шлака.
Сам сел с противоположной стороны стола, налил из графина воду и принялся пить небольшими глотками, ощущая, как снова выступает на висках холодный мерзкий пот.
До вечера он старался из дома не выходить. В его возрасте схлопотать солнечный удар – плевое дело. А с недавних пор еще и заносить стало. Ощущение, будто внутри головы запускался волчок, и все тело приходило в движение, крутилось следом за ним. Не было сил сопротивляться. Крутился, терял равновесие, падал. От последнего такого падения на губе осталась тонкая темная ссадина, было больно жевать.
Ленка сняла очки, и дед увидел мешки под глазами, а еще – бледный желтоватый синяк на скуле справа.
– Вкусная окрошка, – пробормотала Ленка, хотя успела съесть всего одну ложку.
– Другого не держим.
– Как ты тут?
– Потихоньку. Огород вон вычистил. Ни одного сорняка. Картошку собрал, огурцы тоже… Колодец выкопал новый. Вода в нем чистая, родниковая, холодная, аж зубы сводит.
– А я на работу перешла в администрацию. Надоела старая, плюнула, дай, думаю, посижу в кабинетах, с бумажками. Пусть на окладе, но зато тихо и спокойно. Свету надо нормально воспитать, а не как меня в свое время…
Ленка говорила еще минут десять, будто только и ехала затем, чтобы выговориться. Про работу, жизнь в Москве, столичную жару, затаившуюся среди многоэтажек, асфальта и на забитых автомобилями дорогах. Потом как-то резко замолчала, зачерпнула окрошку и посмотрела на деда исподлобья, выжидающе.
– Как голова? – спросил дед. – Беспокоит?
– Нет, а должна? – Ленка шевельнула плечом и сама не заметила, как ее рука потянулась к затылку, примяла волосы за левым ухом.
Дед проследил взглядом, потом отломил мякиш хлеба, забросил в рот и принялся жевать.
– Дело есть, – сказала Ленка. – Помощь нужна.
– Ты бы по другому поводу и не приехала, верно?
– Знаю, что виновата. После маминых похорон не заглядывала. Жизнь закрутила знаешь как?
– Рассказывай.
Ленка вздохнула, отодвинула тарелку с окрошкой.
– С Пашей не сложилось. Помнишь моего молодого человека? Отец Светы. Приезжали как-то.
– Бьет?
– И не только… – Ленка тряхнула головой. – Курить в доме можно?
– На крыльцо ступай. А я следом.
Он прихватил графин с водой. От проклятой жары всегда хотелось пить, а еще лучше – положить бы на голову влажное холодное полотенце и вздремнуть около печки, на деревянной лавочке. В доме пол земляной, стены отштукатурены – жара внутрь никогда не пробиралась.
Ленка спустилась к машине, стояла, облокотившись о багажник, и курила, разглядывая ухоженный чистый двор, с несколькими яблонями вдоль забора и аккуратным палисадом. Дед неторопливо подошел, ощущая плотную тяжесть воздуха. Снова закружилась мошкара, будто ждала.
Стекла у новенькой «мазды» были темные, не разглядеть, кто в салоне. Мягко урчал работающий двигатель. Такая машина, прикинул дед, миллиона два стоит, не меньше.
– Чтоб долго не объяснять, вот… – Ленка открыла багажник, и дед увидел лежащее внутри скрюченное тело.
Лица было не разглядеть – вместо него кровавая каша с желтыми и синеватыми подтеками. В согнутых ногах валялась пластиковая канистра. Руки на запястьях были связаны скотчем – кожа на пальцах потемнела и вздулась. Человек был одет в серый деловой костюм. Галстук плотно стянул шею. Брюки взбились, обнажая носки и волосатые лодыжки. На правом ботинке размазались кляксами капли крови.
– Кто это? – спросил дед.
– Пашка. Тот самый. – Голос у Лены был спокойный. Только дрожали пальцы с зажатой сигаретой.
– Что случилось?
Ленка выдохнула сизый дым:
– Ну, знаешь, как это и бывает… в фильмах или книгах… поссорились слегка. Слово за слово, он руки распустил, ну я и…
Было видно, что говорить ей тяжело, слова вязли в жарком воздухе, словно мухи в варенье.
– Не очень хорошо у вас жизнь сложилась.
Ленка посмотрела на деда, видимо, пытаясь понять, шутит он или нет. Выдохнула.
– Не очень, верно. Оказалось, знаешь ли, не судьба.
– Слегка поссорились, значит? – Дед склонился над телом. Из багажника дыхнуло спертым горячим воздухом, стало как-то совсем нехорошо. – Чтобы так человека, прости, конечно, изуродовать, надо было его молотком по голове минут десять бить. Ни одна домохозяйка бы не справилась.
– Ты же меня знаешь, – буркнула Ленка. – Долго терплю, а потом срываюсь. Он решил, что я изменяю. Начал проверять телефон, компьютер. Закатил скандал. Раз, другой. При ребенке. Потом руки распустил. Опять же, при Свете. Ну, я дождалась, пока уснет, взяла молоток… А дальше вот. К тебе поехала, больше не к кому.
– Ага. И руки спящему скотчем связала?
Ленка не ответила, лишь неопределенно пожала плечами.
– Сколько дочери лет? – спросил дед, все еще разглядывая труп.
– Что?
– Сколько лет, спрашиваю, дочери.
– Ты серьезно? – Ленка нахмурилась, будто пыталась вспомнить. С трудом выдавила: – Дед… У тебя все хорошо с памятью? Света, милая наша, пять лет ей. На похороны же мамы приезжали вместе. Забыл совсем?
Дед захлопнул багажник и направился к дому. Жара сковывала. Хотелось быстрее окунуться в прохладу.
– Деда! – спросила в спину Ленка. – Так ты поможешь или как?
– Помогу, – ответил он, не оборачиваясь. – Окрошку только доешь. Жалко выбрасывать.
Дед выстукивал костяшками пальцев дробь по столу, дожидаясь, пока дочь доест. Разглядывал ее синяк под глазом, приметил несколько царапин на щеке, пятно грязи на скуле; еще грязь под ногтями, а верхняя пуговка на блузке оторвана – торчат кусочки белых нитей.
– То есть ты его ночью?
Ленка кивнула, скребя ложкой по тарелке.
– Потом до утра ждала и сразу ко мне?
– Извини, что не позвонила. Не подумала. Свалилась как снег на голову.
Ленка принесла в дом едкий запах табака. Тотчас захотелось раскрыть окна и проветрить, но дед знал, что вместо ветра в дом ввалится маслянистая летняя жара, выдавит остатки свежего воздуха и станет здесь полноправной хозяйкой.
– Доела?
Ленка кивнула и, как в детстве, показала пустую тарелку с зелеными пятнышками укропа на дне.
Дед поднялся, поманил дочь за собой. Вдвоем они вышли на улицу, обогнули дом по узкой бетонной тропинке. Дед отметил мимолетом клочья рыжей травы, торчащей из трещин в бетоне. Надо бы выдрать к чертям.
За домом, в глубине двора, стояла саманная летняя кухня. Справа от нее пристроился летний же душ с ржавым баком от «КамАЗа» наверху. Сразу за душем – сарай с подвалом.
– Сначала избавляешься от этого мужика из машины, – сказал дед, снимая навесной замок с двери сарая. – Потом решаем, что делать с девочкой.
– То есть как – что делать? – не поняла Ленка и добавила быстро: – Она ничего не видела. Спала уже. Я тихонько все сама…
Дед молча отворил дверь. Сарай был забит хламом. Выбросить жалко, использовать незачем. Тут тебе и разобранные старые велосипеды, давно неработающий холодильник, сгоревший телевизор, ржавые обухи, запылившиеся ящики с одеждой, постельным бельем, рулоны обоев. Что-то от жены осталось, что-то от дочери. Отдельной большой кучей лежали автомобильные шины.
– Свету мы не тронем, – повторила Ленка нерешительно. – Это же внучка твоя!
– Ага. Не тронем, – буркнул дед, расчистил носком калоши мусор под ногами, поднял пыль и расчихался шумно, звонко, чувствуя, как закладывает уши и бьется гулко сердце. Перед глазами потемнело, пришло головокружение, даже вроде занесло немного в сторону – пришлось опереться о полку, чтобы удержать равновесие.
Ну почему именно сейчас, в жару, нужно было ей приезжать?
Дед злился. На Ленку, на мертвого человека в багажнике, но прежде всего – на себя. Потому что знал причину, по которой все это происходило. И изменить ничего было нельзя.
Жена говорила: главное – смирение. Бог не дает нам испытаний больше, чем мы можем вынести. Когда-нибудь Бог простит, и мы умрем с улыбкой на губах.
Она умерла без улыбки. Бог не простил. Дед был уверен, что не простит никогда.
Из пола торчал металлический загнутый крюк.
– Хватай и тяни, – распорядился дед.
Ленка безропотно бросилась выполнять приказ. Скрипя, распахнулась деревянная квадратная крышка, с которой ссыпались в черноту подвала опилки и песок. Изнутри дыхнуло спертой влагой и гнильем. Похоже, от жары лопнуло несколько закруток с помидорами.
– Лезь.
– Что там?
– Слева внизу выключатель. На полках надо найти свернутый брезент, серого цвета. Старый такой.
Ленка посмотрела в темноту, погладила неосознанно затылок, где под всклоченными волосами давным-давно была прилажена титановая пластина.
– Ну же, – поторопил дед. – Возиться тут с тобой до ночи, что ли?
Ленка нырнула в темноту. Зажегся свет.
– Компот прихвати! – посоветовал дед, вспомнив, что закручивал в прошлом году яблочный, четыре банки. Кислый, как муравьиная задница. Но полезный.
В квадрате света появилась Ленка, тащившая на плече сложенный брезент. Поднялась, тяжело перевалила его на пол, взбила пыль. Спустилась обратно. Подняла на поверхность запыленную и темную банку с компотом.
– Одной хватит?
– Вполне. Пошли.
Через калитку за забор, где высыхал под жарой огород. Овощи давно были собраны. Подвязанные хвосты огурцов и помидоров пожелтели и съежились. Трава тоже пожелтела и размазалась по земле, будто кто-то набрызгал кляксами чернила.
Ленка плелась сзади. В глубине огорода у деда росли фруктовые деревья. За двумя толстыми яблоневыми стволами высился оголовок старого кирпичного колодца. Верх был прикрыт железным листом и придавлен несколькими кирпичами. На вороте болтался обрывок ржавой цепи.
Дед поставил банку с компотом на землю, стал стаскивать кирпичи.
– Мы его… туда? – оторопело спросила Ленка.
– Нет тела – нет дела, – ответил дед. – Помощи просила? Получай. Вечером поедешь домой, к себе на квартирку, а завтра как ни в чем не бывало отправишься на работу, будешь строить карьеру, забудешь об отце еще на какое-то время. Я все равно трубку не беру, на письма не отвечаю, на праздники не езжу. Да?
Дед стащил железный лист, посмотрел в черное нутро старого колодца. В который уже раз за много лет пытался разглядеть дно, хотя бы блики света в мутной воде, движение. Не видел ничего.
– Сиди и жди, – велел он Ленке и вернулся к машине, прихватив брезент.
Солнце стояло в зените, пекло нещадно, прожаривало старые косточки. Пот сначала катился градом, потом высох, оставшись только под мышками и в области паха. Дед зашел в дом, поставил банку с компотом на стол, приник к графину с водой и долго, жадно пил. Знал, что скоро почувствует себя еще хуже, потому что нельзя вот так сразу много пить, вредно; но не останавливался, пока не заныло внизу живота.
Наконец он вышел к автомобилю. Подошел к багажнику, распахнул его. Похлопал руками по карманам мертвеца, стараясь смотреть куда угодно, только не на размозженное до осколков черепа лицо. Вытащил из нагрудного кармана пиджака документы – паспорт, водительские права. Еще там лежало несколько пятитысячных купюр, пара кредитных карточек. Все это засунул себе в карман. Потом расстелил старый брезент, густо усеянный темными разводами, обхватил тело, перевалил его через багажник.
– Бог простит, – буркнул дед, взялся за край брезента и потащил через двор к колодцу.
Ленка ждала под деревьями, суетливо нарезая круги, не в силах успокоиться. То и дело чесала затылок, но не замечала этого.
– Хватайся, – кивнул дед на брезент. – Надо сбросить вниз. Как обычно.
Ленка посмотрела странно, как на безумца. Впрочем, деду было все равно. Вместе они подняли тело и сбросили в нутро колодца.
– Займись уборкой, – сказал дед. – Сложи, как надо. И обратно в подвал.
Он отошел в сторону и, пока Ленка возилась с брезентом, достал паспорт, пролистал.
С фотографии смотрело молодое лицо, все в веснушках, с небольшой рыжей бородой.
Пареньку едва стукнуло двадцать четыре. Молодой еще совсем. На десять лет младше Ленки, но по возрасту – как ее парень, который пропал пять лет назад.
Он даже похож был немного на того самого Пашку. Улыбкой, что ли. Ямочками на щеках. Цветом глаз… Но звали его по-другому – Леонидом.
– Деда, а где звуки? – спросила Ленка. – Когда упало тело?
– Об этом, дочка, лучше не спрашивай, – ответил дед, убирая паспорт обратно в карман. – Пойдем, займемся девочкой.
2
Пять лет назад Ленка тоже прикатила в такую вот несусветную жару, на закате лета, на каком-то дорогом автомобиле. Залетела, не поздоровавшись, закрыла ворота и бросилась к деду, испуганно тараторя:
– Я не хотела! Я правда не хотела! Как-то само собой получилось. Понимаешь… не хотела! Не знала, что делать. Не поехала в больницу. Не собиралась. Подумала, вы поможете! Поможете ведь? Поможете?
А потом рухнула у дедовых ног без сознания.
Низ живота – край джинсов и выбившийся ворот рубашки – будто окунули в красную краску. Кровь. Вся рубашка была в мелких частых каплях. Руки тоже заляпаны. Лицо в ссадинах, а над правой бровью глубокая рваная рана.
Бабка запричитала, крестясь. С крыльца ей было тяжело спускаться, поэтому она торопила:
– Тащи живее в хату! Забинтовать надо! Отпоить! Промыть! Что творится, прости господи, что творится!..
Дед приобнял дочь, поволок по ступенькам. Угодил пятерней во влажную дыру на затылке, разглядел между волос кровь, а еще – кусочки черепа, будто кто-то разбил Ленке голову, как фарфоровую вазу. Как она вообще сюда добралась живая?
В груди гулко колотилось сердце, и с каждым его ударом дед чувствовал, как уходят силы. Сердце могло не выдержать. С ним уже случались перебои. Будет тогда у бабки в доме два трупа разом.
Все же справился, затащил. Пронес сквозь сени в комнатку, уложил на диван, а сам растянулся на полу, тяжело дыша. Пот катился по глазам, жег.
– Что стряслось-то? Что случилось? – причитала бабка, суетясь вокруг дочери.
Нашла где-то йод, шмат ваты. Принесла влажную тряпицу. Принялась вытирать кровь. Дед то и дело ловил бабкин испуганный взгляд. Она боялась произнести вслух то, что и так было видно.
– Ребенка нет, – подтвердил дед. – Нет внучки, видишь?
Бабка застыла, тревожно жуя губами. Глаза вращались в желтых морщинистых глазницах.
– Я не перенесу, – наконец сказала она. – Ей же рожать через три месяца только…
– Проверю в машине. Отдышусь и проверю. Ты на затылок посмотри. Там пробито.
Бабка когда-то давно проходила фельдшерские курсы, а потом работала в сельской школе медсестрой: бинтовала разбитые коленки детям, смазывала зеленкой ссадины, закапывала в носы капли. Кое в чем разбиралась, одним словом. Она тут же раздвинула волосы, охнула, принялась суетиться еще больше.
Дед же пытался осознать случившееся.
Дочка стабильно приезжала раз в месяц, проведать. Много лет назад она уехала из села в город, поступила учиться на PR-менеджера – современная, непонятная профессия, – закрутилась в студенческой жизни, потом быстро нашла работу, взяла в ипотеку квартирку и вроде как стала совсем взрослой.
Где-то около двух лет назад случился в ее жизни мужчина, какой-то знакомый по Интернету. Влюбилась, значит, начала привозить его тоже. Мужчину звали Пашей, был он бизнесмен средней руки – выкупал вокруг города земельные участки и сдавал фермерам в аренду.
Паша сюда ездить не любил, и это было видно. Держался отстраненно, все время, что называется, сидел в телефоне и при удобном случае предпочитал уезжать «по делам». Оставлял Ленке деньги на такси, забирал автомобиль и мчался в город.
Ленка ночами сиживала с бабкой в летней кухне. Пили чай, откровенничали. Дочь вываливала на мать все свои городские проблемы. Ну, а кто еще выслушает?
У Пашки был скверный, тяжелый характер. Мог вспылить просто так, мог наорать, оперировал шаблонами поведения из Интернета – считал, что девушка должна готовить, убираться, стирать, ждать своего мужчину у окна, денно и нощно тоскуя о любимом. Иногда запрещал общаться с подругами, иногда – проверял переписки в телефоне и устраивал скандалы, если начинал подозревать Ленку в измене. Такое поведение вскрылось не сразу, а походило на тягучий, желтоватый гной, вытекающий из вздувшегося пузыря. Сначала вспышки гнева носили локальный характер, потом их становилось больше, а затем Ленка не успела оглянуться, а уже погрузилась в вонючую жижу подозрений, скандалов и ссор с головой.
Однажды во время такой ссоры Пашка не удержался и отвесил Ленке звонкую оплеуху за то, что она приготовила окрошку не так, как надо.
Вареной морковки не добавила!
Ленка тут же собрала вещи и съехала к подруге. Два дня Пашка искал, звонил, извинялся, просил вернуться, а потом написал: «Прощай, дурочка», – и удалил ее из всех социальных сетей, заблокировал во всех мессенджерах и вроде бы пропал навсегда.
Через несколько дней после ухода Ленку начало тошнить, появилась слабость во всем теле, разрослась непонятная ломота без температуры. Уже в больнице ей сообщили, что это токсикоз, шестая неделя беременности.
Если проблемы приходят, говаривала бабка, то сразу все вместе.
Ленка размышляла, надо ли оставлять ребенка. Стандартная мысль: «ребенок ни в чем не виноват» накладывалась на другую: «а зачем он вообще нужен в ее жизни?». Вечное напоминание о несчастной любви? Постоянные мысли о том, каким отцом был бы Пашка? Растерянная Ленка решила пока не торопиться, подождать немного, собраться с силами.
Первый месяц провела в раздумьях. А потом в ее жизнь внезапно вновь вернулся Пашка. Кто-то ему рассказал о беременности (наверняка подруга, кто же еще?).
Он остановил Ленку около работы – вышел из машины с огромным букетом роз, в дорогущем костюме, прилизанный, вкусно пахнущий, красивый. Упал перед Ленкой на колено, признался в любви, просил прощения, чуть ли не рыдал. У Ленки на душе было тяжело. Она сказала, что подумает, и с того момента Пашка уже не отступал.
Прошло две или три недели, они сблизились: сначала вместе обедали, потом Пашка сводил Ленку в кино. Потом она вдруг оказалась у него в квартире и провела там ночь. Вернулись старые эмоции, старые чувства. Как будто не было скандалов, мелких придирок, тяжелого Пашкиного характера. Как будто он действительно изменился.
Где-то через два месяца Пашка вдруг задал вопрос:
– А ребенок действительно мой?
Ленка от удивления не нашлась сразу что ответить – и это ее неловкое молчание стремительно, как выбитая из камня искра, взорвало Пашку.
Он устроил Ленке допрос с пристрастием: с кем встречалась в последний год, с кем дружила, с кем спала? Заставил показать всех ее коллег по работе – нашел каждого в социальной сети и долго прикидывал, могла ли Ленка изменить с тем или иным. Пашка был подозрителен, едок, резок. Тот самый старый Пашка вернулся. Экзекуция длилась целую ночь, а под утро Пашка ушел «проветриться». Ленка лежала в кровати, закрывшись одеялом до подбородка, и понимала, как же она сильно, до безумия, боится Пашкиного возвращения. Ей хотелось собрать вещи и снова съехать, сбежать как можно дальше.
В какой-то момент она вскочила и принялась лихорадочно набивать сумки платьями, обувью, смела из ванной все свои полотенца, крема, шампуни. Торопилась. Но не успела. Пашка застал ее в дверях. В руках у него был букет роз. Пашка снова извинялся и ползал в ногах. Он отчаянно хотел сыграть свадьбу в ближайшее время. Ленка же, присев на край кровати, закрыла лицо руками и боялась смотреть на Пашку, боялась что-то сказать, потому что теперь-то она знала наверняка, что старый Пашка, отвесивший ей оплеуху, может вернуться в любой момент.
Ленка просила у бабки совета – как быть дальше, что делать? Ленка редко обращалась за помощью. Она старалась быть самостоятельной по жизни, ни в чем ни от кого не зависимой. Бабка ответила по-простому: у ребенка должен быть отец, а хочешь ты или нет – это вопрос не важный. Все в свое время терпели. Потерпишь и ты.
Непонятно, что в итоге решила Ленка, но вот итог – лежала сейчас с проломленной головой на кровати, избитая и без ребенка.
Дед все стоял в тесном дверном проеме, отирая плечом потрескавшуюся краску, прокручивал в голове Ленкины ночные беседы (у бабки не было тайн, она давно все рассказала) и ловил себя на мысли, что не хочет идти к машине. Никакими силами не может себя заставить.
Бабка крутилась вокруг Ленки. Поглаживала, заматывала, смазывала. Бормотала под нос: «В больничку надо везти. И чем быстрее, тем лучше». Дед и сам знал, что надо. Но прежде все же другое… развернулся, тяжело вздохнув, побрел через сени на улицу, выбрался в духоту. Что-то будто держало его за ноги, тормозило. В груди стало тяжело. Дед подошел к машине, дернул ручку передней левой двери. Дверь открылась плавно, дыхнуло прохладой, но запах был спертый, гнилой, дурной. У деда перехватило дыхание. Он заглянул в салон и в ярких лучах дневного жаркого солнца увидел то, чего бы никогда в жизни не хотел видеть.
На заднем сиденье скрючился мертвый (без сомнения) Пашка. Голова его была разбита, лицо – изломано. Будто били по этому лицу чем-то тяжелым много-много раз. Сквозь порванные губы вывалился темный набухший, похожий на губку язык.
А на переднем, пассажирском, лежал крохотный окровавленный сверток.
Дед отлично помнил, что происходило дальше. Память, коварная дама, не дала забыть ни секунды. Подбрасывала воспоминания, разбавляла запахами, чувствами, эмоциями.
Помнил, помнил от и до.
Сквозь призму духоты и палящего солнца. Сквозь туман и грохот сердца в ушах – будто в груди перекатывались камни. Тогда он впервые почувствовал головокружение, утратил опору и чуть не «улетел» вместе с миром в бессознательное.
Вернулся в дом и сказал бабке, чтобы вызывала скорую. Несчастный случай. Пашка избил их дочь, она вырвалась, сбежала. Больше никто ничего не знает. Понятно?
Подошел к Ленке, похлопал ее по щекам, всматривался, стараясь поймать миг, когда дочь придет в себя. Она не пришла. Только под веками лихорадочно бегали туда-сюда глаза. Дыхание у Ленки было горячее, тяжелое.
Тогда дед сам принял решение.
Он занялся сначала Пашкой. Вытащил из салона, положил на заранее расстеленный кусок брезента от старой палатки, завернул и потащил на задний двор. Плана никакого не было, но в голове крутились варианты. Закопать. Сжечь. Выбросить. Что там еще можно сделать с трупом, чтобы его никто больше никогда не нашел?
Пока тащил, ощущая дрожь в ногах от напряжения, а еще колющую боль в пояснице, вспомнил про старый колодец, который вырыл еще до революции его прадед – самый первый житель этой деревни. Сколько дед себя помнил, колодцем никто никогда не пользовался. Воды там тоже давно не было. Место обросло деревьями, колодец был неприметный и заброшенный.
Дед протащил брезент через огород к колодцу. Стащил ржавый металлический лист и – не задумываясь особо, что делает, – сбросил Пашку вниз, в прохладную черноту. Было слышно, как тело несколько раз ударилось о стенки колодца, а затем наступила тишина. Мягкая и пугливая. Не было слышно ни всплеска, ни звука удара. Будто тело никуда в итоге и не упало. Дед посмотрел вниз, но ничего не разглядел. Возможно, темнота шевелилась. Возможно, дедовское сердце вот-вот выскочит из груди.
Он вернулся к машине и минут двадцать отмывал задние сиденья, стараясь не смотреть на сверток, лежащий спереди. Менял воду, которая сначала была темно-красной, потом сделалась розовой, а затем и вовсе посветлела.
Тут вышла бабка, позвала. Ленка очнулась – шипела и царапалась, просила помощи. Кажется, бредила. Дед склонился над ней, дал воды из спешно протянутого бабкой стакана. Спросил шепотом:
– Что делать с девочкой? Что мне с ней делать?
Глаза Ленки – до этого беспорядочно мечущиеся в глазницах, вдруг вперились в деда.
– Забыть о ней надо, – сказала Ленка. – Навсегда!
– Это твой выбор, – сказал дед.
– Я знаю. Сделай так.
Спустя секунду-две она снова заметалась в бреду, принялась кашлять кровью, просила помощи, чтобы кто-нибудь пришел, чтобы Пашка перестал бить, бить, бить…
…Дед шел в сторону колодца, когда из района приехала наконец скорая помощь. Он слышал, как бабка переговаривается с медиками, повторяя сочиненную историю. Дед свернул за дом, и мир вокруг снова окутала тяжелая жаркая тишина.
В колодце было черно. Сердце выпрыгивало из груди. Вот бы свалиться и больше никогда не вставать.
Пальцы не слушались, не хотели разжиматься. Со свертка капала кровь.
Наконец – сделал то, что должен. Не услышал вновь ни всплеска, ни звуков удара. Постоял у колодца, в прохладной тени деревьев, бессмысленно разглядывая голубое небо. Медленно побрел обратно, во двор.
Ленку как раз выносили из дома. Она металась и кричала, звала на помощь. Хорошо, что в малолюдной деревне мало кто услышит ее крики. Дед прислонился к винограднику, запустив руки в карманы, чтобы никто не видел, как трясутся от напряжения пальцы.
После того дня он несколько дней не мог спать. Бродил по тихому дому, терзаясь мыслью, которая не давала покоя: шевелился ли сверток в его руках, или просто показалось?
Через два дня после случившегося приехали районные полицейские. Расспрашивали. Дед отвечал угрюмо, односложно. Мол, дочь примчалась на машине своего парня, вся в крови, голова разбита, еле живая. Успела рассказать, как Пашка ее чуть не убил, а она вырвалась из квартиры, каким-то чудом доехала до деревни к единственным родным, близким.
Говорил, переводя тяжелый взгляд с одного милиционера на другого. За эти два дня под глазами у деда вспухли темно-синие мешки, которые так больше никогда и не рассосались. Руки стали мелко дрожать, а подушечки пальцев покалывали, будто завелся под кожей невидимый паразит.
Бабка поддакивала, но помалкивала. Врать она не умела. А еще постоянно начинала рыдать, чем неимоверно смущала молоденького лейтенанта. Он доверительно сообщил, что ведется розыск Пашки как виновного в «покушении на убийство». Нигде Пашку найти не могут. Видимо, сбежал, когда понял, что натворил.
– Вылечат вашу дочь, – говорил лейтенант утешительно. – Не переживайте. Молодая еще, здоровая. Такие выкарабкиваются.
Еще через два дня он приехал вновь, вместе с двумя следователями. Нужно было провести плановый обыск, чтобы закрыть одну из разработок. Все же нельзя исключать разные варианты.
Следователи осмотрели дом, летнюю кухню, спустились в подвал в сарае. Потом добрались до старого колодца, стащили металлический лист, долго светили фонариками в темноту, но ничего не разглядели.
– Надо спуститься, – предложил лейтенант.
Дед принес моток тяжелой маслянистой веревки, которой много лет назад вытаскивал трактором из грязи застревающие грузовики при сборе урожая. Лейтенант скинул китель, обмотал живот, начал спускаться. Следователи помогли ему, удерживая другой конец веревки.
Где-то во дворе охала бабка. Дед едва сдерживался, чтобы не кинуться на милиционеров с кулаками. В груди у него дрожало. Лейтенант исчез в колодце по пояс, потом целиком. Дед подошел ближе, заметил, как лейтенант исчезает в темноте. Сейчас она его сожрет. И никто не услышит звука падения. Или – наоборот – колодец разверзнет свою шевелящуюся утробу и обнажит следы преступления. Покажет сверток, лежащий в глинистой жиже.
Темнота и правда расступилась, но не просто так, а под светом фонарика. Колодец оказался неглубоким, метров пять или шесть. Лейтенант быстро достиг влажного потрескавшегося дна, скользнул лучом по каменным стенкам и стал выбираться обратно. Исследовать на дне колодца было нечего.
Когда полицейские уехали, дед вернулся к колодцу. Поднял с земли камень, бросил вниз.
Темнота беззвучно проглотила подарок.
3
С тех пор прошло два года. Снова стоял жаркий август, солнце вспахивало землю раскаленными лучами, воздух был вязкий, его тяжело было вдыхать.
Снова застучали в ворота, и когда дед открыл, увидел Ленку за рулем автомобиля.
Ленка въехала во двор, вышла, смущенно поправляя темные очки, закрывающие пол-лица. Торопливо и сбивчиво, в своей манере, принялась извиняться, что долго не звонила и не навещала. Забегалась. Новая работа, новые отношения, карьера, суета большого города. Увидела на крыльце бабку, бросилась к ней в объятия. Щебетала:
– Я так по вам соскучилась! Так соскучилась!
Густые длинные волосы скрывали титановую пластину на затылке, которой заменили кусочки разбитого черепа. Шрам на левой скуле превратился в тонкую белую полоску.
– Проходи, – пригласил дед. – Обедать будешь? Надолго к нам или как всегда?
Последний раз они видели ее в больнице, при выписке. Ленка была молчаливая и бледная, почти ничего не говорила и хотела скорее вернуться в город, отлежаться и прийти в себя. С тех пор иногда звонила, но не приезжала ни разу.
– Как всегда, – сказала Ленка. – Я по делу вообще-то… можно тебя? Один на один, пожалуйста.
Она отвела деда на задний двор. Закурила, нервно подергивая тонкой сигаретой в губах. Сразу исчезли улыбка и хорошее настроение, будто их стерли небрежным движением.
«Сейчас спросит про ребенка, – подумал дед, ощущая ломоту в висках из-за жары. – И я поведу ее к колодцу, дам веревку, пусть проверяет».
– Я Пашку убила, – сказала Ленка. – Понимаешь, да?
– Понимаю.
– У него тяжелый характер. Ревнует. Телефон проверяет. Не разрешает общаться с другими мужчинами. Ну, я сначала не обращала внимания. Это вообще нормально, когда мужик деньги зарабатывает, женщину свою содержит. Имеет права, значит, проверять, чтобы она налево не бегала. Но потом стал палку перегибать. Раз за разом. Один раз ударил меня. Пощечину отвесил. При подругах. Назвал шлюхой. И потом еще один раз схватил за волосы и потаскал хорошенько по квартире… Я от него уходить хотела, понимаешь? С мыслями собиралась…
Дед кивал. В ноздри лез сладковатый запах сигаретного дыма. Хотелось вернуться в прохладу дома. Непонятно было, почему Ленка вдруг приехала спустя два года и начала откровенничать. Совесть замучила? Высказаться захотела? Так она всегда высказывалась бабке. Дед-то ей на что сдался?
– Я думала, когда он уйдет на работу, перевезу вещи к подруге, отключу телефон и неделю вообще никуда выходить не буду, пока не успокоится. В наше время только так, – тараторила Ленка, не глядя на деда, а глядя на деревья, на небо, на черепичную крышу летней кухни. – И вот сегодня решилась. Он уехал, я стала вещи собирать. Два чемодана. Позвонила подруге, предупредила. Вышла на порог – а Пашка там. Заподозрил что-то. Интуиция. На встречу, говорит, ехал и решил заглянуть. Вот и заглянул…
– То есть как – сегодня? – спросил дед. – Пашка? Еще один?
– Почему еще один? Он же и был. Я вам его привозила знакомиться. Ну. Ямочки на щеках. Милый такой, но молчаливый. На самом деле он ни фига не милый. Набросился на меня с кулаками. Начал избивать. Думала, не остановится, так и убьет. Вырвалась. Побежала на кухню, схватила стеклянную бутылку из-под оливкового масла и ударила его тоже, а потом…
Они сняла очки, под которыми обнаружился набухающий свежий синяк – желтый, с фиолетовыми прожилками. Сказала:
– Пойдем покажу, – и повела деда к машине.
Дед шел на негнущихся ногах. Вспотел. Соленые едкие капли заливали глаза. Солнце казалось размытой жирной кляксой.
Ленка открыла багажник. Внутри лежал незнакомый мужчина, мертвый, окровавленный, с выпученными глазами, смотрящими в никуда. Был он одет в спортивные шорты и футболку, на ногах кроссовки. Особенно ярко почему-то выделялись загорелые волосатые лодыжки. На груди спутались провода от наушников.
– Я его ударила, – сказала Ленка. – И когда он упал, я еще несколько раз, по виску, вот здесь, пока не хрустнуло. Не удержалась.
Дед молчал, разглядывая сначала труп, а потом Ленку. Она неосознанно, инстинктивно растирала затылок в том месте, где в череп была вставлена пластина.
Закружилась голова.
– Это же… – он хотел объяснить, что в багажнике не Пашка, а кто-то другой, незнакомый. Что-то всколыхнулось в животе, обожгло горячим. Обернулся, почувствовав, будто зовет его кто-то. Двор был пуст. Ветер гнал по траве первые опавшие листья. Из-за дома, из самых глубин сада донесся едва слышный звук, похожий на неразборчивый шепот.
– Есть хочет, – сказала Ленка не своим голосом.
– Что?
– Есть, говорю, хочется. С утра крошки во рту не было. С ума сойду скоро…
Ленка продолжала остервенело расчесывать затылок. Сигарета выпала из губ и тлела под ногами.
– Ты встречалась с ним? – спросил дед. – Жила?
– Конечно. Забыли совсем? Не могла же я так надолго уехать от вас, – Ленка сдавленно хихикнула, будто что-то держало ее за горло.
Человек в багажнике был похож на Пашку – почти такого же телосложения, такой же овал лица, те же темные волосы…
Дед похлопал его по карманам, вытащил бумажник, обнаружил водительские права на имя Ярослава Перепелкина, восемьдесят девятого года рождения. Машина, на которой приехала Ленка, была оформлена на него.
– Отдай его мне, – сказала Ленка из-за плеча тем самым голосом.
У деда по коже пробежали мурашки.
– Зачем? – спросил он.
– Много будешь знать – совсем старым станешь, – ответила Ленка, потом вздохнула с присвистом и добавила уже своим голосом: – Странно, что у него фотография какой-то другой девушки в бумажнике. Сестра, наверное.
– Иди в сарай, – велел дед хмуро. – Брезент возьми. Тащи сюда. Решим вопрос.
Ленка нацепила очки на нос и исчезла за домом.
– Есть хочет… – пробормотал дед, разглядывая фото. – Ну, конечно…
В этот раз все закончилось быстро. Дед смотрел в темноту колодца, ожидая звука падения тела, но снова ничего не услышал. Ленка сразу же начала улыбаться и рассказывать о своей новой работе, о том, как хочет снять квартиру просторнее, выветрить из головы воспоминания о Пашке.
Этим же вечером она отправилась в город, не проронив ни слова о случившемся. Машину оставила во дворе, а сама пошла к трассе, к старой бетонной остановке, мимо которой раз в час проезжали рейсовые автобусы.
Дед и бабка тоже старательно обходили эту тему. Разве что иногда бабка вдруг начинала шумно креститься да заводила разговор о местном священнике.
– Два трупа и младенец! – говорила бабка. – Нет сил моих такое терпеть под сердцем! Как глаза закрою, так сразу и вижу! Снятся они мне.
– А что же ты два года молчала? – угрюмо спрашивал дед. – Раньше не снились, что ли?
– И раньше снились! Но теперь совсем страшно. А вдруг повторится? А вдруг искать будут у нас?
Никто, однако, к ним не приехал. Через неделю дед съездил в город, купил несколько газет и поискал объявления о пропаже Ярослава Перепелкина. Наткнулся на одну небольшую заметку: «Вышел из дома… был одет в… уехал на встречу на машине… Последний раз его видели…»
Потом еще увидел два объявления, приклеенных на остановках. С фото смотрело лицо Ярослава. Как они встретились с Ленкой? Что он сделал такого, что она его убила? А главное – был ли вообще мотив?
Вопросы посложнее дед старался сам себе не задавать. Боялся, что копнет так, что сойдет с ума. Отгонял назойливые мысли, как мух, и злился, что не наберется храбрости и не спустится в проклятый колодец, не проверит. Ему стало бы спокойнее, если бы на дне среди ила и грязи нашлись бы трупы и сгнивший сверток. Парадоксально – но легче.
Он отогнал машину на задний двор и неторопливо разобрал. В какой-то момент это занятие начало его успокаивать, позволило собраться с мыслями.
В третий раз Ленка приехала через полтора года.
Снова на чужой машине, снова нервная, с синяками и ссадинами на лице. Снова извинялась за долгое молчание, рассказывала о суетливой жизни в городе, которая замотала и не давала приехать погостить.
Снова позвала деда, открыла багажник и показала труп незнакомого мужчины, похожего на Пашку.
– Дай догадаюсь, – сказал дед. – Ты хотела от него уйти, он начал тебя избивать, ты взяла бутылку и разбила ему голову.
– Ножом, – сказала Ленка. – Нож, кухонный. Как раз лежал на столе. Но в целом ты прав.
Февраль выдался морозным, колючим. То и дело срывался снег. Солнце показывалось редко. В густой маслянистой хмари от уличного фонаря дед разглядывал документы мертвого человека из багажника, но уже не запоминал имени и фамилии. На заднем дворе, издалека, задребезжал металлический лист, и тотчас ветер швырнул сухой снег деду в лицо, обжег холодом.
– Есть хочет? – спросил дед у Ленки. Взгляд у нее был стеклянный и чужой.
Та кивнула, пытаясь дрожащими руками воткнуть в угол губ сигарету. Сказала не своим голосом:
– Растет.
– Тащи брезент из сарая, – вздохнул дед.
На крыльце крестилась бабка. Стояла она в старом халате, босиком, седые волосы растрепались.
Дело заняло около часа. Ветер хлестал по щекам, вышибал из глаз холодные слезы. Внутри колодца как будто что-то шевелилось – нетерпеливое, жадное.
Едва тело исчезло в темноте, Ленка направилась в дом, отогреваться. Выпила с бабкой чай, односложно отвечая на короткие вопросы, а потом быстро собралась и уехала.
Дед проводил ее до остановки. Вдвоем они стояли среди разыгравшейся февральской метели, выглядывая в снежной кутерьме блики фар.
– Это ведь был не Пашка, – сказал дед. – И в прошлый раз тоже. Ты знаешь об этом?
– Какой прошлый раз? – спросила Ленка после едва уловимой запинки. – Не было прошлого раза. Ты что-то запутался.
– Ты его убила по-настоящему, Пашку, три с половиной года назад. И еще ребенок у тебя был. Девочка. Не успела родиться. Помнишь?
Ленка не ответила, а только кусала остервенело губы. Капли крови набухали и медленно стекали по влажному подбородку.
– Я не хочу, чтобы ты приезжала, – произнес дед. – Никогда. Ни на чужой машине, ни на своей. Ни с трупом, ни без.
– Она родилась, – сказала Ленка едва слышно. – Светой зовут. Разве ты не помнишь?
– Не говори ерунды. Я сам нес сверток. Вот этими самыми руками. Трясутся теперь. И покалывает под кожей… как будто грызет меня что-то.
– Не буду приезжать, – легко согласилась Ленка.
Подъехал автобус, она забралась в салон, не обернувшись. Дед постоял у дороги, пока автобус не исчез в темноте, и после этого зашагал к дому.
Он примотал один конец веревки к дереву и стал медленно спускаться вниз. В узкой круглой черноте подвывал ветер. На лице оседали и тут же таяли снежинки. Дыхание было горячим, неровным. Дед размышлял, как у него замерзнут пальцы, он разожмет веревку и полетит вниз, к трупам. Или провалится в черноту, не издав ни звука.
Между зубов был зажат старый пластмассовый фонарик на батарейках. Пятно света выхватывало из темноты фрагменты старой кирпичной кладки. Куски ее кое-где покрошились, обнажая комья земли. Торчали корни, нарос сизый губчатый мох, похожий на множество языков.
Дед спустился на метр или два, мир сузился, а сверху в пятаке мелькали снежинки. Звук ветра здесь был приглушенный и тяжелый. В ушах колотилось сердце.
Уперев колено в стену, он высвободил руку, взял фонарик, посветил вниз и ничего не увидел. Стал медленно спускаться дальше. Еще метр, два, а то и все десять. В какой-то момент ощущение времени стерлось. Пятак неба превратился в копеечную монетку. Чернота вокруг сделалась гуще и как будто плотнее. Стены колодца здесь уже были не кирпичные, а земляные. А еще казалось, что колодец делается шире.
Дед попытался еще раз упереться коленом в стену, но не смог – пришлось вытягивать ногу, и то он едва коснулся стенки носком ботинка. Спиной оперся о неровную стену. Снова посветил вниз.
А внизу шевелилось что-то. Огромное, рыхлое, влажное. Оно было как будто грубо слеплено из шариков пластилина. Ему было тесно здесь, на дне колодца. Его мягкие бока терлись о стены, крошки земли ссыпались в глубокие морщины слизистой кожи.
У деда сперло дыхание. Луч света затрясся следом за фонариком, зажатым в старческой руке.
Нечто на дне колодца выгнулось и вдруг задрало вверх округлую морду. Дед увидел множество мелких белых глаз. А еще увидел несколько ртов, и зубы внутри – мелкие, несомненно острые, окровавленные. Эти рты перемалывали пищу: торчала мужская кисть, свисал рваный кусок рубашки, прилип пучок темных волос.
В этот момент дед понял, что звук ветра давно уже сменился другим звуком – хрустом, треском, перемалыванием костей.
– Отстань от моей дочери! – заорал дед, хотя понимал, что крик этот – всего лишь облаченный в слова вопль ужаса.
Существо смотрело, продолжая жрать. Оно походило на гусеницу.
– Не лезь к ней! Не заставляй! Она уже и так много пережила!
Кисть исчезла между зубов, а следом раздался сухой звонкий треск.
Показалось, что существо кивнуло. Наверное, просто показалось.
Дед швырнул вниз фонарик и начал тяжело подниматься сквозь плотную темноту. Руки дрожали. Сил не оставалось. Если тварь задумает сейчас подняться и сцапать его – проблем не будет. Дед уже не сможет сопротивляться.
Снизу мелькнул и погас короткий блик света. Дед затылком ощущал, как что-то приближается из темноты. Что-то ползет. Раздался звук ссыпающейся земли. Как будто терлись друг о дружку камешки.
– Не лезь к нам! – дед вытолкнул горячие слова с остатками воздуха.
– Уже поздно. Семечко посажено, – сказал он другим голосом, и непослушный язык заворочался внутри рта, ощупывая зубы, небо, щеки.
Показалось, что стены колодца превратились в зубы. Сейчас они медленно сожмутся и…
Дед перевалился через край колодца и упал лицом в снег.
Он лежал минут десять, пытаясь отдышаться. Поднялся и побрел к дому, не оглядываясь. Прошел мимо бабки, которая все еще стояла на крыльце, будто надеялась разглядеть на дороге вернувшуюся Ленку, и лег спать. Всю ночь ему снились кошмары. Да и последующие полтора года – тоже.
4
Дед думал, что все закончилось. Ленка приезжала иногда, ненадолго. Звонила. С работой у нее все было в порядке, с личной жизнью вроде бы тоже. Время от времени она рассказывала о новых знакомствах, но к серьезным отношениям не переходила.
Когда умерла бабка, Ленка приехала на похороны, помогла с организацией и оплатой, устроила поминки. Суетилась, хлопотала.
Еще около полугода она не приезжала и даже почти не звонила. А затем появилась с очередным трупом в машине и ребенком в салоне. Разом вернулось все – кошмары и воспоминания…
Дед шел от колодца неторопливо, почти физически ощущая вязкую жару, будто угодил в желе из солнечного света. За ним шла Ленка, пытающаяся закурить. Спички ломались в дрожащих руках одна за одной.
– То есть и дочку туда? – бормотала она. – Не понимаю. Ее-то зачем? Она же не видела ничего. Она не виновата. Не скажет…
Дед не отвечал. Вспоминал тугой окровавленный комочек, исчезнувший в темноте колодца пять лет назад.
– Я не дам, – сказала Ленка. – Не позволю, слышишь? Ладно Пашка! Но внучку-то за что?
– Лень объяснять, – ответил дед.
Ну как рассказать ей, что внучка в машине ненастоящая и наверняка мертвая? Никого живого Ленка не привозила. Существо из колодца, похоже, не любило живых. Не могло быть там никакой Светы, потому что внучка не родилась.
Они пересекли огород, мимо летней кухни вышли на задний двор. Дед услышал, как за спиной что-то звякнуло, обернулся. Ленка держала в руках топор, который до этого был воткнут в пень у сарая. За сетчатым забором суетливо бегали курицы.
– Дочку не дам, – повторила Ленка.
– Ты же сама все это начала.
– Я просила помочь… но не таким же способом.
– А каким? – устало спросил дед. Закружилась голова. Очень не вовремя подступила темнота. – Как, ты думала, я разберусь с мертвым мужиком в твоей машине? Почему вообще решила приехать сюда? Почему не в полицию, не к каким-нибудь друзьям? У тебя же вроде как самооборона, все дела. Никто бы тебя не посадил.
– Потому что… – Ленка свободной рукой начала растирать затылок. – Потому что так надо. К тебе. Всегда так было.
– Когда – всегда?
Ленкино лицо искривилось, будто она все разом вспомнила. Вереницу трупов, новые машины, колодец.
– Ты всегда помогал, если мне что-то надо было. С самого первого раза!
Дед махнул рукой.
– Хватит, – сказал он. – Если хочешь меня остановить – валяй.
Он развернулся и пошел к машине. Ожидал удара в спину, ощущал затылком, как холодная сталь топора вонзится между лопаток. Что ж, еще одно лакомство для твари из колодца.
Ленка не ударила. Дед подошел к машине, рывком распахнул заднюю боковую дверцу. Из салона ударило холодом, да так, что на лбу проступила испарина. Играло радио. Что-то детское и веселое. На заднем сиденье скрутилась калачиком девочка лет пяти. Красивая, длинноволосая. Сонно заморгала от яркого света. Увидев деда, улыбнулась, протянула руки, сказала негромко:
– Привет! Я соскучилась!
– Соскучилась? – переспросил дед.
Контраст жары и холода ударил по вискам. Перед глазами на мгновение потемнело. Проклятое головокружение.
– Маму просила приехать пораньше… А она все отказывалась.
Дед поднял голову, посмотрел широко раскрытыми глазами на подошедшую Ленку. Топор она оставила на заднем дворе.
– Не узнал родную внучку? – спросила Ленка, растирая затылок.
– Моя внучка… – дед сглотнул. – Мою внучку я…
– Что? Убить хочешь? В колодец, к ее тупому отцу?
Дед мотнул головой. Тугой комочек, завернутый в окровавленные тряпки, снова выплыл из глубин памяти.
– А кого же я тогда?..
– Меня, – сказала Ленка чужим голосом. – Меня ты тогда. Бросил семечко. Вскормил и вырастил. Дочь привезла из города, а ты все сделал. Хорошо я провернул, не так ли?
Воспоминания вдруг взорвались яркими красками внутри головы.
Беременная Ленка в больнице. Показания свидетелей. Полиция.
Ленка с двухлетней дочкой, приехавшая на старенькой «Шкоде». Труп в багажнике. Бабка, кормящая внучку окрошкой, пока дед и Ленка тащили брезент с телом через двор.
Еще одна машина, внучке уже три с половиной. Жгучий лохматый февраль. Испуганная бабка, спрятавшая внучку в доме, загородившая двери, крестившаяся бесконечно долго.
Все это стиралось потом из памяти. Замещалось. Как у Ленки с этим ее вечным повторением…
Что-то заставляло его забыть. Не помогали ни Бог, ни бабкины молитвы, ни вера во что-то еще:
– Ты всегда приезжала с ней. Каждый раз.
– Конечно, всегда, – сказала Ленка. – Я к вам ее который год вожу. Природа ведь, а не город. Полезно.
Потом вздохнула и добавила другим голосом:
– А теперь пора ее тоже ко мне. Выросла и настоялась.
Дед замотал головой.
– Пора. Ты не можешь отказаться. Или ты, или я сам возьму, – повторила Ленка.
Жара обволакивала, делала движения замедленными и вялыми. Но дед все же нашел силы. Шагнул к Ленке, ударил ее по лицу, и, не дав сообразить, повалил на землю. Развернул, прижал голову к горячему асфальту. Ленка возилась и шипела. Дед нащупал в спутавшихся волосах пластину, вцепился пальцами в ее края и принялся отрывать. Ленка закричала. Из машины выскочила внучка и закричала тоже. Дед сопел от напряжения, не отвлекаясь. Потянул, рванул на себя. Раздался чавкающий треск, потекла под пальцами густая черная кровь.
– Давай же, давай!
Еще один рывок, пластина с хрустом отклеилась. Дед встал и, не оглядываясь, заторопился через двор, к колодцу. Его пошатывало. Из-за спины закричала внучка:
– Мама! Мамочка!
По дороге пришла в голову отчаянная, злая мысль. Дед рванул к сараю, сорвал цепь с двери, зашел внутрь. Раскаленный воздух выталкивал его обратно. Тяжело было дышать и двигаться. Перед глазами мельтешили черные пятнышки.
В углу стояли баллоны с газом, для летней кухни. Три штуки. Старые, про запас. Поволок их по очереди к колодцу.
Увидел во дворе Ленку. Она стояла, пошатываясь, держала в руках тот самый топор. Сил не было разговаривать с ней, объяснять. Сердце и так скакало дикой лошадью. Лишь бы не свалиться прямо здесь, под солнцем. Лишь бы не забыть ничего снова…
Торопливо набрал сухое тряпье, какие-то старые рубашки и истлевшие простыни. Взял канистру с бензином. Все, что горит. Все, что можно сжечь.
Облитые бензином бока газовых баллонов воняли, вызывали тошноту. Дед поливал обильно, потом рвал зубами тряпье, обматывал плотно, снова поливал.
– Вот сейчас! – говорил дед. – Будет тебе внучка, ага. Три внучки. Семечко, говоришь, забросил? Подменил, значит? Обыграл, да? Давай посмотрим, кто кого!
В какой-то момент снова увидел Ленку совсем рядом. Обернулся. За Ленкиной спиной стояла перепуганная внучка.
– Все равно не поможет, – сказала Ленка и ударила топором.
Дед попробовал увернуться, но лезвие тяжело вошло ему в левое плечо, чиркнуло по кости. Сразу же по шее, к челюсти, рванулась острая боль. Дед закричал, перехватил правой рукой топор, потянул на себя. Ленка пошатнулась, шагнула вперед. Света тоже закричала. Изнутри колодца раздался клокочущий звук, будто кто-то поднимался наружу, всаживая когти в кирпичные стены.
Дед понимал, что если остановится, потеряет время, то – конец. Сил не хватит. Он толкнул Ленку, а сам навалился на нее сверху, схватил что-то из груды тряпья и принялся крепко обматывать ее запястья. Левое плечо похрустывало и болело. Рука почти не слушалась.
Клокочущий звук становился громче и ближе. Дед оглянулся. Из колодца потянулась в неподвижный воздух струйка сизого дыма.
– Я все равно приду! – бормотала Ленка, звонко клацая зубами. – Все равно заберу!
– Заберешь, заберешь, – ответил дед, выгнулся, подобрал с земли окровавленную металлическую пластину и швырнул в колодец.
Он поднес зажигалку к тряпке, намотанной на первый газовый баллон, поджег. Пламя пожирало ее нехотя, медленно. Потом дед приоткрыл вентиль, перевалил баллон через край колодца.
Перед глазами потемнело. Ноги подкосились. Дед едва удержал равновесие.
– Пойдем, – сказал он внучке. – Живее. Спасаться надо.
Девочка смотрела на колодец. Стенки его тряслись. Дым становился глуше. Звук нарастал.
Времени оставалось немного. Дед поджег тряпье на двух оставшихся баллонах, пустил газ. Поднял Ленку под мышки, потащил. Света побежала впереди.
Как и раньше, он чувствовал затылком приближение чего-то ужасного, огромного, страшного.
Пересек двор, положил Ленку на заднее сиденье автомобиля. Рядом забралась внучка.
Ленка притихла, только безумно шевелила выпученными глазами.
Дед сел за руль. Последний раз водил машину лет тридцать назад… В салоне было прохладно. На месте ручки переключения скоростей стоял пластиковый стаканчик из-под кофе. Ага, автомат. Еще проще.
Из-за летней кухни рвануло в небо ярко-рыжее пламя вперемешку с густым дымом. Деду показалось, что он расслышал болезненный вопль сквозь накативший раскат грохота.
Сдал назад, высаживая старенькие деревянные ворота. Развернулся и помчался прочь от дома по песчаной извилистой дороге.
Из радио играла какая-то детская песенка. Левое плечо онемело. Через полкилометра автомобиль выскочил на трассу и помчался в сторону города. Дед взял стаканчик, встряхнул и выпил остатки холодного горького кофе, смывая налет жары, песка и сажи из горла. Поймал взглядом в зеркальце заднего вида взгляд внучки и подмигнул ей.
– Кажется, вырвались, – пробормотал он.
– Все равно вернетесь, – раздался глухой чужой голос. – Не сегодня, так позже. Когда все забудете.
Внучка закричала, смотря куда-то вниз, на сиденье, на Ленку.
Внутри салона раздался тот самый громкий клокочущий звук. В этот момент дед понял, что теряет сознание. Темнота обволокла его, сделала движения мягкими и непослушными. Мир закружился. Дед куда-то падал, слыша крики, скрежет металла, звон разбитого стекла.
Он падал в колодец, полный острых мелких зубов.
Нажал на тормоз. Почувствовал, как вильнуло машину, давление сдавило виски. Дед помнил, как крепко держался за руль. Кричала Света. Кто-то смеялся.
Потом наступила темнота.
5
Пахло гарью. Тонкая пепельная дымка расстелилась над землей – не было ветра, чтобы разогнать ее.
Дед прикрыл ладонью глаза и сквозь дрожащее, тяжелое марево различил на дороге крохотный силуэт.
Силуэт приближался, петляя и покачиваясь. Через минуту стало понятно, что это женщина, держащая на руках ребенка.
Дед торопливо спустился с крыльца, вышел со двора, прихрамывая, направился к женщине.
– Ленка! Ленка! – бормотал он, что-то вспоминая. Перед глазами бегали темные пятнышки. Кружилась голова. Чувствовал дед себя отвратительно. Будто изломали ему все косточки, разорвали мышцы, да так и бросили в духоту лета, будто цыпленка в гриль.
Левое плечо почему-то болело. Одежда оказалась залита кровью.
Ленка, впрочем, выглядела еще хуже. С ее носа свисали темные очки, левое стекло которых было выдавлено, а правое – потрескалось. Джинсы порвались, блузка тоже была порвана, на обнаженной коже кровоточило множество порезов.
– Возьми… Свету, – пробормотала Ленка, едва дед приблизился. – Помочь надо. Поможешь?
Дел перехватил внучку. Она была без сознания, а еще от нее пахло гарью.
– Что случилось?
– Пашка, – сказала Ленка и вдруг плюхнулась на сухую землю, будто кто-то ударил ее по ногам. – Мы поссорились, понимаешь? Слово за слово, ну и… Я машину взяла, помчалась к тебе, но по дороге, там… мы разбились, в общем. Надо помочь.
Голова болела так сильно, что дед плохо понимал смысл слов. Хотелось быстрее убраться с жары в тень, нырнуть в прохладу комнаты, выпить воды из графина.
– Пойдем, – сказал он, – в дом. Там хорошо.
Он направился к открытым воротам, разглядывая под ногами свежую колею от колес какой-то машины. Пытался вспомнить, кто вообще приезжал сюда в последнее время. Не вспомнил.
На руках зашевелилась внучка. Открыла глаза.
– Деда, – пробормотала она слабо. – Не отдавай меня, ладно?
Дед обернулся. Ленка все еще сидела, уперев руки в землю, задрала голову и, щурясь, смотрела в безоблачное небо.
– Не отдам, конечно, – ответил он. – Мать у тебя совсем рехнулась. Что она вообще такое натворила? Где машина? Где твой отец? Что происходит?
Дед почему-то торопился. Вошел во двор. За крышей летней кухни поднимался густой черный дым. Нужно было пойти туда и посмотреть. Обязательно посмотреть. Заглянуть в старый колодец. Поздороваться. Семечко проросло. Ему надо много питаться.
Внучка шевельнулась снова. Дед смотрел то на крыльцо, то на дым. Ему нужно было принять решение. Он не мог вспомнить какое. Пот заливал лицо. А еще вдруг снова потемнело перед глазами.
Он очень хотел вспомнить, почему оказался здесь с внучкой на руках и почему откуда-то из-за спины доносится странный клокочущий звук.
– Не отдавай, хорошо? – попросила Света, но дед так и не понял, о чем вообще речь.
В голове болезненно гудело. Дым на заднем дворе как будто стал гуще, плотнее, закрывал небо, солнце, нагнетал огромную извивающуюся тень. Будто бы в воздухе парила гигантская гусеница.
Эти ее глаза. Эти челюсти…
Дед стоял перед домом, смотрел на дым сухими, раскрасневшимися глазами. В горле пересохло. На руках шевелилась внучка. Порыв ветра швырнул к ногам старую окровавленную ткань.
Очень тяжело было сделать выбор.
– Деда? – спросили из-за спины.
Он обернулся и увидел нечто, отдаленно похожее на его дочь.
– Деда, – сказало оно. – Давай я помогу. Отнесу куда надо. Дальше сама. А ты ступай в дом. Жарко тут.
Жара надавила и окончательно сломила волю. Действительно… в доме графин с водой. Тишина, прохлада, без суеты. Выбор, стало быть, очевиден.
Александр Матюхин
Зовущая тьму
Есть в том лесе стары дороги: камнем мощены – углем толчены, солью присыпаны – кровью умытые, нет им начала и нет им конца, к кладу в логове мертвеца…
Муромские поверьяРуситская деревня горела. Оранжевое пламя жадно лизало низкие срубы, с воем рвалось из крохотных окон, нестерпимым жаром растапливая охвостья весеннего снега. Черные ручейки стекали к дороге, превращая землю в кровавую грязь. Кровли, крытые гнилой отсыревшей соломой, занимались нехотя, долго тлели, фыркали струйками горького дыма, а потом резко вспыхивали и оседали в полыхающее нутро, вздымая тучи пепла и искр. Едко воняло жжеными тряпками, шкурами и костями. В воздухе стоял сладкий аромат горящей плоти и медный привкус пролитой крови, липнущей к губам.
Сотник Сохор с наслаждением втягивал запахи, раздувая широкие ноздри на резко очерченном, скуластом, выдубленном до черноты ветрами и морозом лице. Пахло победой, одной из тысяч, на пути Великой Орды. Монгольские тумены пришли холодной зимой, всесметающей лавиной вырвались из травяного моря Дешт-и-Кипчак и предали огню деревянные крепости и города. Руситские каганы убиты или склонились, их рати рассеяны и разбиты. Этого желал сам Чингиз. Великий хан умер, но внук его, Бату, продолжил славное дело. Русь упала к ногам. Теперь все здесь принадлежало всадникам на низких мохнатых конях. Нет силы, способной противостоять великой Орде. Хурра-хур!
Непокоренным остался богатый торговый Новгород, спасенный вспухшими реками и жадными пастями бездонных трясин. Курултай совещался два дня и две ночи, шаманы сотрясали небо грохотом бубнов и треском гадальных костей, невольников закалывали на радость Тенгри, духи неистово плясали и выли, а человеческий жир плавился и шкворчал на жертвенных алтарях. Совет велел окончить поход и объявил начало Великой облавы. Орда потекла обратно на юг, выжигая деревеньки и города, спрятавшиеся вдалеке от рек и торных дорог. Стоном, кровью и дымом пожаров отмечалась железная поступь туменов.
Сохор не стал искать легкой добычи и увел воинов в черную глушь бескрайних лесов, раскинувшихся на полдень от опустошенного Мурома. Сохора называли безумцем, пророчили ему скорую смерть, но он лишь смеялся. Сохор лишился покоя с тех пор, как воинам попалась полубезумная, косматая старуха. «Там, в чаще, скрыты сокровища! – вопила полоумная эмэгтэй, тыкая корявым, негнущимся пальцем. – Золото, золото!» – тряслась она в исступлении, когда ее прибивали к дверям. Отныне Сохор искал путь в сердце дикого края. Следом за отрядом шли разжиревшие волки, наполняя студеную тишину тоскливым, пронзительным воем.
От восьмидесяти трех воинов сотни, начавших поход, остались четырнадцать. Два десятка Сохор потерял до Владимира. На четыре десятка сотня уменьшилась при штурме руситской столицы. Тела батыров устлали ледяные валы и доверху заполнили ров. Монгольская ярость перехлестнула за стены; женщин, детей и мужчин предавали мечу; последние защитники сгинули в огне горящего дома распятого бога. Выжженный город три ночи сочился кровью. Пресытившиеся вороны брезговали мясом и выклевывали у трупов только глаза, столько было там мертвецов. Еще три воина погибли в последние дни, подлые урусы прикрывали тропы самострелами и ловчими ямами. Остатки сотни Сохора упорно стремились вперед.
В деревню ворвались на рассвете, едва блеклое солнце отлипло от горизонта. Пятерых стариков и мальчишек, вооруженных копьями и слабыми луками, посекли. Здоровых и сильных мужчин не осталось – руситские мужчины погибли под знаменами кагана Юрия. Дальше пошла потеха. Ловили женщин, тешили плоть, резали животы. Воины не гнушались и старухами. Младенцам разбивали головы и ломали хребты. Когда приходит Орда, духи дают выбор – покориться или погибнуть. Гордые урусы выбрали второе. Отныне их ждала только смерть.
Застоявшаяся кобыла ударила копытом, игриво вскинула зад. Сохор провел ладонью по бархатистой лоснящейся шее.
– Дэлгээн Хуранцэг, дэлгээн.
Лошадь всхрапнула и успокоилась, чутко ловя слова хозяина фигурно подрезанными по китайской моде ушами.
Послышался знакомый вкрадчивый перезвон, и к сотнику на рыжей лошади, разрисованной цветными кругами, подъехал шаман Хулгана. Тот Кто Видит Все, и Все Видит Его, в шубе, расшитой костяными трещотками, цепями и нитями колокольчиков. Правая рука шамана висела вдоль тела. Шаман прятал ее, баюкая на привалах и держа поближе к огню. Рука была иссохшей, почерневшей, сгнившей до кости, с длинными завитками желтых ногтей. Через нее, много зим назад, в шамана вселился дух Мангий-хор. Все боялись шамана, даже Сохор. Ему доставались лучшие куски мяса и доля добычи. А как иначе? Не у каждой сотни есть свой шаман. Шаман предсказывает погоду, привлекает удачу и задабривает духов – огу, дающих сотне ровную дорогу, спасение от мечей и болезней, резвость и здоровье коням.
– Эти люди нищие, нукур, – проскрипел шаман, с трудом раздирая синие губы, за которыми блестели выкрашенные красной охрой, хищно заостренные зубы. – Их богатство – деревянные чашки, рваная одежда и глиняные статуэтки оглоев.
На черной, сморщенной ладони шамана лежала фигурка: получеловек-полузверь, с кривыми лапами и ощеренной пастью. Игрушка, слепленная нарочито грубо, внушала омерзительный страх.
– Выбрось, – посоветовал сотник.
– Пригодится. – Зверь исчез в складках засаленной шубы. – Воины недовольны, добычи нет, скоро они пресытятся кровью. Ты обещал золото и женщин, нукур.
– Тебе мало золота, Хулгана?
– Хох-хо, – смех шамана походил на карканье старого ворона.
Свою часть добычи шаман высыпал в болота и реки, а рабам резал глотки во славу Тенгри, пил горячую кровь, а потом бился в пепле костров, неразборчиво вещая чужими страшными голосами. Хулгану влекли эти мрачные северные леса, он чувствовал скрытую снегами и болотами силу. Хулгана хотел овладеть этой силой. Золото ему ни к чему.
– Я спросил руситов, взятых живьем, – проворчал, отсмеявшись, шаман. – Ни один не указал мне пути. Они боятся леса, трусливые выродки.
Сохор тяжко вздохнул. Всюду одно и то же. Урусы скрывают дорогу в глубь леса, к тайным святилищам, где, по слухам, высятся идолы из чистого золота, с глазами из крупных рубинов и серебренными бородами. Проводника не удавалось найти ни подкупом, ни пытками, ни угрозой. Порой Сохор сам не знал, зачем ему это богатство. В обозе, что шел за туменом, у него было три арбы, полных добра, и два десятка руситских невольников. Угрюмых бородатых мужчин и непокорных, дивно прекрасных женщин он продаст, оставив себе для услады голубоглазую, едва распустившуюся девчонку, чей сладкий сок он собрал первым, на трупах отца и матери, рядом с пепелищем сгоревшей Рязани. Насытившись, Сохор продаст и ее. Персидские купцы платят золотом за белокожих светловолосых рабынь. Ммм… надо было взять девку с собой, она хорошо грела холодными вечерами. Кусачая, правда, – сотник сладко зажмурился, потирая прокушенное плечо. Под пальцами масляно звякнул кольчужный панцирь ильчирбилиг.
За пылающими избами хлестко защелкала плеть, донеслись грубые гортанные голоса. Всадники-дайчины в мохнатых шапках гнали по дороге женщину. Она семенила, припадая на левую ногу, поскальзываясь и спотыкаясь в грязи. Едва прикрытые рубищем плечи подрагивали под секущими ударами сыромятной витой ташурдах. К груди женщина прижимала сверток из гнилой ткани и шкур.
Очир, первый лучник отряда, осадил скакуна и с легким поклоном сказал:
– Хухна пряталась за деревней, нукур. Воняет, как сотня дохлых чонынов.
Женщина смахивала на бродяжку. Измызганную рванину, наброшенную на искривленное тело, покрывали пятна соли и грязи, в многочисленных прорехах просматривалось немытое тело. Лицо изможденное, узкое, бледное, в потеках сажи и копоти. Черные смоляные волосы слиплись в колтун и падали на глаза, в нечесаные пряди набились еловые веточки и сухая хвоя. Пахло от нее мокрой псиной и прелым листом.
Сохор брезгливо скорчил рассеченные мелкими шрамами губы. Эти отметины он получил мальчишкой, когда на стойбище напали чжурчжэни. Воин, убивший родителей, саданул латной рукавицей семилетнего Сохора в лицо. Начались годы рабства, унижений и голода. Свободу ему вернул великий Чингиз, отец всех монголов, истребивший чжурчжэней и сровнявший с землей их древние города. Хозяину Сохор выдавил глаза и волоком тащил по степи, пока тот не превратился в кусок пыльного, склизкого мяса.
Грязная женщина стояла, не смея поднять головы. Голые ноги покрывали рубцы и язвы, ступни были замотаны тряпками.
– Зачем пряталась? – спросил сотник. Он хорошо говорил по-руситски, два года перед вторжением под видом торговца проведя на полуденных границах Руси. Было там и множество других, подобных ему. Глаза и уши Орды.
– Вы монголы, – просто ответила женщина, переминаясь на грязном снегу.
– А ты осторожна, – улыбнулся Сохор улыбкой, напоминавшей взмах сабли, мимолетной и хищной.
– Потому и жива до сих пор, господин.
Женщина начинала нравиться сотнику. Она стояла, покачиваясь, и равнодушно рассматривала жутко изувеченные тела. Он передумал ее убивать.
– Почему не оплакиваешь свой народ?
– Это не мой народ, – женщина ожгла сотника вспыхнувшим взглядом. Она и правда совсем не походила на золотоволосых, светлооких руситок, рожденных среди снега и бескрайних лесов.
Сохор наклонился и концом плети подцепил нищенку за подбородок. На него глянули огромные, расширенные, черные словно деготь глаза. В этих глазах жила пустота. Такие бывают у людей, видевших смерть.
– Ты не руситка?
– Я алия-нуи. – На лице бродяжки появилось и сразу же исчезло горделивое выражение. Словно жемчужница раскрылась и тотчас захлопнулась, оберегая спрятанную внутри драгоценность. – Я ненавижу урусов.
Женщина пнула лежащий на обочине труп с рассеченной спиной. Сохору показалось, что грязный сверток у нее на руках шевельнулся.
– Мой народ жил здесь за тысячи лет до того, как с заката пришел первый урус. За ним еще и еще. Они были слабы – мы сильны. Очень скоро все изменилось. Урусы гнали нас, преследовали, убивали, травили, словно диких зверей, выжигали огнем. Кроме нас, тут обитали хаэры, мангвэки, ситуроны и саари-долэны. Всем хватало места и пищи. Где они? Исчезли, а нас, алия-нуи, осталось так мало.
– Значит, мы помогли вам, – усмехнулся Сохор. – Города руситов разрушены, множество перебито, тысячи бредут на невольничьи рынки. Вороны и волки пируют. Бату-хан отныне владеет этой землей. Руситы победили вас, мы победили руситов. Монгол-улус сила!
– Ты прав, господин, – женщина склонилась в поклоне. – Но теперь нам нечего есть. Мои дети голодают.
Она приоткрыла сверток. Сохор сипло вздохнул. В сальной шкуре ворочался голый ребенок: уродливый, запаршивевший, безносый, с огромной головой на ломкой, худенькой шейке, пронизанной болезненной сеточкой тоненьких вен. На сотника уставились мутные, вздернутые к вискам глаза. Таких надо убивать сразу после рождения и сжигать. Во время беременности мать видела демонов. Ребенок пялился на всадников и обсасывал воронью лапку морщинистым старушечьим ртом.
– Мне нужен этот хухэд, – проскрипел Хулгана.
– Дай ребенка, – потребовал Сохор у женщины.
– Нет, господин, умоляю, – мать отшатнулась, прикрывая уродца. – У меня нет ничего, кроме детей и вот этого.
Она выпрямилась и протянула руку. Завораживающе и мягко блеснуло. Сохор замер. На ладони нищенки переливалась и сверкала золотая брошь дивной тонкой работы.
– Отдай, – жадно потребовал сотник, завороженный невиданной красотой.
– Возьми, господин, она твоя, – женщина легко рассталась с сокровищем.
– Не левой рукой – правой, – поморщился недовольный задержкой Сохор. Глупая баба.
– Мне незнакомы ваши обычаи, прости, господин, – оборванка переложила брошку в правую руку, неловко поддерживая грязный сверток с ребенком.
– Левая рука приносит несчастье, остерегайся приносить ею дары, если не хочешь навлечь на человека беду. В следующий раз я не буду столь добр и отрублю тебе эту руку, – снисходительно пояснил Сохор и осторожно принял грубыми черными пальцами изумительное кружево ажурчатой скани с вплетенным в середину чистейшим изумрудом размером с косточку сладкого миндаля. Одно неловкое движение, и казалось, чудо рассыплется в прах. Брошь была ледяной.
– Откуда? – изумился Сохор.
– Из сердца Леса, – бродяжка мельком указала на неровную гряду еловых вершин. – Урусы зовут его Злым, мы нарекли его Каш-ан-Рвааг, Лес тысячи танцующих демонов.
«Вот оно», – по спине сотника пробежала легкая дрожь, как у охотничьего пса при виде добычи. Сам Тенгри послал ему это благословение.
– И много там безделушек? – спросил сотник нарочито безразлично.
– Легче сосчитать звезды на небе, – откликнулась женщина. – И все они будут твоими, о господин. Я проведу, я знаю дорогу. Взамен прошу только немного еды для себя и моих несчастных детей.
– Зачем тебе я? – удивился Сохор. – На одну эту брошь можно купить табун лошадей, вволю есть парного мяса и пить кобыльего молока.
– Раньше я так и делала, господин, брала немножечко, чтобы Лес не обиделся, и выменивала в уруских деревнях на еду. Но пришли вы. Теперь нет урусов, нет деревень, нет еды. А золотом не насытишься, господин. Я отдам тебе все, господин, ты станешь богаче королей закатного моря.
Утро, начавшееся скучно и серо, обернулось удачей.
– Так ли тебе нужен ребенок? – повернулся к шаману Сохор.
– Этот хухэд отмечен духами, – Хулгана хищно клацнул подпиленными зубами. – Хулгана будет гадать на внутренностях и узрит будущее, скрытое темной пеленой Хаан-Танагэ.
– Эмэгтэй знает дорогу в Лес, Хулгана.
– Она проведет нас? – шаман замер в седле.
– Вряд ли, если ты выпустишь ее ублюдку кишки.
– Оозгойн толгой, улу хем, бу шода, – сыпанул ругательствами шаман. – Хулгана подождет, пускай ведьма-шулма укажет нам путь.
– Ты получишь хухэда, когда мы доберемся до места, – пообещал Сохор и перевел взгляд на женщину. – Как твое имя?
– Верея, мой господин.
– Ты приведешь меня к золоту и получишь столько еды, сколько захочешь.
– Я все сделаю, господин, но поклянись жизнью, душой и великим богом Тенгри, что ты не причинишь мне и моим детям вреда.
«Умная, сука», – отметил Сохор. Клятва Тенгри нерушима, если не хочешь навлечь на себя сто несчастий и обратиться в полночного духа – огу, вынужденного вечно скитаться среди умертвий и ведьм.
– Клянусь Тенгри, жизнью и душой, тебя и твоих детей я не трону, – смежил веки Сохор. За него это сделает Хулгана.
– Слово вылетело, о господин, – Верея тряхнула колтуном черных волос. – Я проведу тебя в Каш-ан-Рвааг, ты накормишь меня и моих голодных детей. Торопись, господин, нужно выступить прямо сейчас.
– Очир, – позвал Сохор, – собирай воинов.
Очир кивнул и умчался, настегивая коня. Послышались призывные крики. Монголы бросали копаться в нищих пожитках, добивали пленников и прыгали в седла. Деревня догорала в облаке сажи и копоти. Звонко щелкали угли, горький дым в сыром мозглом воздухе стелился к земле, вихрясь вокруг деревьев с опаленными ветками и конских копыт. Лошади осторожно переступали тела. Сколько таких селений было на пути Сохора? Он не считал.
Верея заковыляла вперед, прижимая ребенка к груди. Грязная тряпка, перевязанная через плечо, стала подобием люльки. Сохор одним движением коленей пустил Хуранцэг шагом. Сердце билось размеренно, гулко. Чавкала размытая весенняя жижа, прихваченная тоненьким, хрупким ледком.
Верея свернула с дороги на межу дремлющего снежного поля. По белоснежной целине тянулись стежки лисьих следов. Сохор улыбался. В этих землях так мало открытых пространств. Урусы выгрызают у леса клочки, корчуют пни, сеют зерно и собирают скудные урожаи, живя впроголодь. Рыться в земле – удел слабаков и рабов. Судьба настоящего мужчины – война и охота. Поэтому руситы слабы и беспомощны, скоро всякая память о них рассеется, и только Монгол-улус вечен и нерушим. Теперь не скоро эту землю взрежет борона или плуг. Трава встанет по пояс. Нет картины отраднее сердцу кочевника.
Неровная гряда леса медленно приближалась. Сохор сотни раз бывал на его краю и сотни раз отступал. Лес всегда обманывал, в свисте ветра слышался хохот. Лес приглашал, лес заманивал и звал в никуда. Обещался открыться, но через сотню шагов приводил к стене сомкнувшихся бок о бок столетних стволов, хлюпал трясинами, грозился утопить в толще снегов. Сегодня Сохор хотел победить. Он не доверял этой грязной, оборванной женщине, он не доверял никому, кроме себя, он слишком хорошо знал своих воинов. Законы Чингиза и железная дисциплина делали их лучшими воинами на свете, но при виде крови и золота они обращались в диких зверей. Сохор бросил взгляд за спину. Следом ехал, мерно покачиваясь, нахохленный Хулгана. Глаза шамана были полузакрыты, колокольчики, вплетенные в черную, намазанную салом косу, мелодично позвякивали, прогоняя злых духов. Спокойствие шамана было обманчивым, он жаждал скорее прикоснуться к тайнам и силе, сокрытым в непроходимой, мертвенной чаще.
Послышались молодые звонкие голоса: неунывающие братья Гунжур и Жаргал затянули песню о древних героях и подвигах. Жаргал подыгрывал на сладкозвучном ятаге, имеющем двадцать одну струну.
На краю поля вытаял огромный окатанный камень с высеченной картиной охоты. Худые, длинноногие люди преследовали горбатого зверя с исполинскими, загнутыми кверху рогами. Тропа кончилась, под копытами затрещал смерзшийся наст, откалываясь кусками и сверкая в лучах пригревшего солнца. Вереница всадников спустилась в неглубокий овраг. Застоявшаяся на дне мутная талая вода щетинилась ломким сухим камышом.
Сохор, моргнув, обнаружил вдруг, что лес теперь за спиной. Он недобро уставился на Верею. Что задумала эта шулма? Кружит, играет. Через сотню шагов лес оказался по правую руку, мелкий рябинник сменился березовой рощей, полукольцом уходящей в сторону сгоревшей деревни. Там в небо до сих пор сочились струйки черного дыма. Тянуло сырым деревом и пресным запахом осевших снегов.
Чаща подкралась как волк. Березняк отхлынул, к небу взметнулись громадные, в пару обхватов, ели, склонившие тяжелые мохнатые лапы до самой земли. На опушке Сохор увидел молельное место. Густо стояли вкопанные кресты распятого бога, потемневшие и из свежего дерева. Расшатанными зубами старика торчали осклизлые идолы-охранители, слепыми ликами обращенные в лес. Ветки елок густо унизывали разноцветные ленты. Обрывки ткани вились и хлопали на ветру.
Монголы остановились, песня утихла. Хулгана сполз с коня и засеменил, проваливаясь по колено в снег. Он шел, касаясь идолов и крестов. Остановился у деревьев, потрогал ветви, нашептывая молитву, оборвал с шубы серебряный колокольчик и подвязал среди лент.
– Чего это он? – удивилась Верея.
– Чужих богов надо чтить, – посмотрел на нее свысока Сохор. – Так велит Яса – закон Чингисхана. Иначе чужие боги могут разгневаться и отомстить.
– Урусы жгли чужих богов на кострах, а на святилищах строили церкви, – проворчала Верея. – Вы лучше урусов.
– Мы монголы, – гордо подбоченился Сохор. – Народ, избранный великим Тенгри. Ты обещала показать мне дорогу, шулма.
– Разве ты не видишь ее? – удивилась Верея.
– Смеешься, женщина? – Сохор бросил ладонь на рукоять сабли.
Шаман вернулся, переваливаясь на кривых коротких ногах, и взобрался на лошадь.
– Пускай ты и твои славные воины закроют глаза, – промурлыкала ведьма. – Доверься мне, господин. И пусть никто не подсматривает, особенно хитрый колдун, который вроде бы спит, но я задом чувствую похотливый, огненный взгляд.
Сохор подчинился, хоть ему это и не понравилось. Лес был насторожен и тих, свежих следов не видать. Если дрянная баба завела сыновей степи в засаду, она пожалеет. Сотник отдал распоряжение и закрыл глаза. Воины подчинялись беспрекословно, даже шаман.
– Я сосчитаю пальцы на руках и открою глаза, шулма.
– Времени хватит с лихвой, господин.
Сохор поерзал в седле. Его подмывало приоткрыть один глаз. Он сдержался. Верея бормотала рядом на непонятном языке, напоминавшем клекот орла.
– Готово, мой господин.
Сохор открыл глаза. Воины изумленно загомонили. Перед ними открылась дорога. Лес был словно разрублен ударом меча, просвет терялся в сумрачной чаще. По этой дороге могли проехать четыре всадника в ряд.
– Я поймала для тебя Блуждающую дорогу, мой господин, – улыбнулась Верея, заматывая руку тряпицей. Снег возле ее ног окрасился красным. – Кровь и древнее слово. Идем, врата скоро закроются.
Женщина смело перешагнула невидимую границу, воздух дрожал и пульсировал. Сохор тронул кобылу. Лес принял его. Вершины сомкнулись над головой, не пропуская солнечный свет. Снег на дороге растаял, но под деревьями лежал, ноздреватый, усеянный еловыми иглами, ямами просев у корней. Они не проехали и сотни шагов, как Хулгана кубарем скатился с коня, упал на колени и принялся разгребать снежное крошево, мох и гнилую траву, обнажая потрескавшуюся серую кладку.
– Я говорил! Я говорил! – Хулгана вскочил и пустился в пляс. – Хулгана чувствует силу! Ох-ох! Хулгана станет величайшим слугою Тенгри! – он погрозил в пустоту кулаком и вновь залился радостным смехом. Так радуется ребенок, которого отец первый раз сажает в седло.
Сохор оглянулся. Опушка, с идолами и крестами, исчезла. Деревья сомкнулись в неподвижном строю.
– Ох-ох, – глаза шамана блестели ярким огнем. – Прикажи ведьме идти быстрее, нукур.
– Откуда в лесу взяться мощеной дороге, шулма? – изумился Сохор.
Верея пошла у стремени, ее голос был чарующ и тих.
– Здесь не всегда был лес, господин. Много тысячелетий назад этими землями правили могучие колдуны. Они строили города и прокладывали пути, по которым шли могучие армии. Могуществом они не уступали богам. Боги разгневались и наслали с полуночи лед. Он был выше самых высоких деревьев и вершиной касался небес. Все живое бежало. Кроме колдунов. Они приняли вызов. Слишком заносчивые, слишком гордые. Они пытались остановить лед. Глупцы. Колдуны погибли, и белая стена стерла их города. Потом лед уполз и растаял, вода поднялась и поглотила огромный остров в океане, далеко на закате. Королевство колдунов исчезло, остались только фундаменты крепостей и храмов в лесу, мертвые камни, облизанные льдом и водой. Остались дыры в склонах оврагов, ведущие в запретную глубину и подземелья, где лежат древние книги на непонятных языках и сокровища.
Сохор передал разговор шаману. Сокровища Хулгану не интересовали. Хулгана затрясся при упоминании книг. Сумасшедший. Зачем книги не умеющему читать?
Лес по правую руку начал редеть. Деревья без коры стремились к облакам мертвыми, окостеневшими пиками. В прогалинах мелькала вода. Несло тиной и гнилью. Зловонная трясина в беззубой ярости грызла дорогу. Среди погибших осин раскорячилось старое городище. Раньше селение стояло на острове, но теперь болото пожирало его. Угадывались остатки бревенчатой гати. Земляные валы оплыли, убогие землянки обрушились. На кольях сгнившего, плесневелого частокола торчали позеленевшие черепа – звериные и человечьи. Некоторые из человеческих были совсем свежими – белыми, а один, с жуткой ухмылкой, отдавал краснотой, словно плоть содрали только сейчас. Сохор слышал о диких лесных племенах, чьи воины забирают в качестве трофеев лица врагов.
– На месте королевства колдунов вырос Лес, – продолжала Верея. – Урусы обходят его стороной, Лес убивает чужих.
– Почему Лес не убивает тебя? – внутри Сохора похолодело.
– Рожденные в Лесу принадлежат Лесу. Каждое третье дитя я отдаю Каш-ан-Рвааг. Когда я умру, мое тело будет питать корни деревьев. Этот Лес стоит на костях. Сдери мох, разбросай листья, всюду будут кости и черепа. Пока вы со мной, Лес не тронет и вас.
Солнце поблекло и съежилось, утонув в мутной розовой дымке. Болото отступило. По обочинам вздымались груды гнилого валежника. В кронах попадались свитые из прутьев гнезда чуткуртов. Свисающие с ветвей космы лишайника покачивались, словно живые. Ветра не было. Сохор чувствовал, как страх костлявыми пальцами ползет по хребту. Изредка в дебрях вздыхало: тяжело, надрывно и страшно. Но больше всего пугала дорога – прямая, черная, ледяная. Дорога не зарастала, Лес боялся вступить на нее, умершие деревья не падали на стезю, хотя по сторонам громоздились гниющие трупы лесных исполинов, дыбя вырванными корнями и распуская ребра острых, высохших сучьев. Зарослями владела обманчивая недобрая тишина. Не пели птицы, путь не пересекали животные. Лес затаился. Сохор затылком чувствовал следящий из чащи злой немигающий взгляд.
– Нукур.
Сохор вздрогнул, увидев десятника Тургэна. При штурме Бухары Тургэн попал под струю кипятка. Его правый глаз выкипел, вар прожег плоть на щеке до кости, оголив зубы в вечной жуткой усмешке, затек под панцирь и проложил на спине вздувшиеся багровые полосы. Сохор помнил крики десятника, катавшегося под стеной среди горящих, залитых нефтью таранов и скорченных тел. Тургэн выл и рвал с себя одежду и хатагу. Монгольские тысячи лезли наверх. В тот кровавый день Сохор первым взобрался на стену и поднял ханский бунчук. Бухара пала. Ночью, оранжевой от пожаров, под свист дудок из человеческой кости и вопли умирающих жителей, Сохор получил звание сотника, черного жеребца и золотую пайцзе. А на рассвете в лагерь победителей приполз похожий на мертвеца Тургэн…
– Слушаю.
– Воины ропщут, нукур, Лес пугает сыновей степи, – просипел десятник, корча изуродованное лицо и плохо выговаривая слова. – Зря ты доверился ведьме. Ее нужно убить.
– Воины степей ничего не боятся, – возразил Сохор. – Ты знаешь меня, Тургэн, давал ли я повод усомниться в себе?
– Нет, нукур. Но воины говорят, ведьма обманула тебя, – десятник плюнул в сторону женщины.
– Успокой воинов, шулма под моей защитой. Ведьма ведет нас к несметным сокровищам, которые мы поделим поровну. Ступай, старый друг.
Десятник приложил руку к груди и унесся, нахлестывая коня.
– Злой человек, – обронила Верея. – Он хочет моей смерти, я вижу.
– Если обманешь, я убью тебя сам.
– Справедливо, – кивнула шулма. Ребенок у нее на груди забарахтался, вереща огромным птенцом. Мать принялась убаюкивать, приговаривая на непонятном чужом языке.
– Энивха имвала-млово, энивха имвала-млово, исундха хар.
В голосе ее было море нежности и любви. Ребенок орал.
– На, пусть заткнется, – Сохор достал из седельной сумки кусочек вяленого мяса и бросил Верее.
Та поймала на лету, как собака, мясо исчезло в складках засаленных шкур. Визг прекратился, мерзко зачавкало. Сохор получил благодарственный взгляд. Дорога мерно текла под копыта, деревья сплетались огромной ветвистой аркой, закрыв небо и отбрасывая длинные, зыбкие тени. «У этой дороги нет конца», – неожиданно подумал Сохор. Есть только начало. Это дорога духов.
Он увидел на обочине круг из черных камней шириной локтя в три и высотой по колено. Камни хранили следы обработки и были пригнаны так плотно, что не осталось щелей. Внутри разлилась темная, кажущаяся черной вода. Сюда не вели звериные тропы, деревья и кустарники вокруг искривились и покрылись серым налетом. Елки завязались болезненными узлами и потеряли хвою. Воины обрадованно заголосили, разворачивая коней.
– Не надо пить эту воду, о господин, – предупредила Верея. – Раньше, до ледника, тут была купальня для ведьм. Злая вода.
– Стоять! – рявкнул Сохор. – Шулма не велела пить эту воду!
– Твоя ведьма лжет, нукур, – возразил низенький кривоногий меркит по имени Баяр, вечно попадающий в неприятности. То шубу прожжет у костра, то потеряет саблю и получит плетей. Во время грабежа одной деревеньки на Баяра напала злобная руситская собака. Воины валились от смеха, когда из сарая на четвереньках, воя и вереща, выскочил Баяр с разорванными штанами и вцепившимся в задницу псом. Голову пса он долго таскал, подвесив к седлу, пока та не стала совсем уж жутко вонять. С тех пор к нему приклеилось прозвище Гроза Псов.
– Наши меха опустели! – упрямо крикнул Баяр.
– Воды!
– Мы с рассвета в пути!
– Ведьма уморит нас жаждой! – поддержали Грозу Псов остальные.
– В этой воде скрыта смерть, – спокойно ответил Сохор.
– Я ничего не чую, – внезапно проскрипел Хулгана, потянув воздух носом. – Шулме нельзя доверять. Кто хочет, пусть пьет.
Сохор подозрительно посмотрел на шамана. Что за игру он ведет? Сотник развернул кобылу и обронил в пустоту:
– Хорошо. Можете пить.
Воины не двинулись с места, боясь нарушить волю нукура. Их горящие глаза были устремлены на источник. Притих даже неугомонный Баяр.
– Ну чего застыли? Уходим, – приказал десятник Тургэн, жутко щерясь оголенной челюстью и пустой впадиной на месте глазницы.
– Я не боюсь слов шулмы! – Гунжур, молодой и стройный, легко спрыгнул с седла и шагнул к каменному кругу.
– Останови его, господин! – Верея коршуном метнулась наперерез.
– Уйди с пути, ведьма! – Гунжур отшвырнул женщину, она упала.
– Я с тобой, – поддержал старшего брата Жаргал.
– Умоляю! – кричала Верея и билась в грязи. Кто ее слушал?
Гунжур зачерпнул в ладони воды, понюхал, отдернулся с омерзением и счастливо рассмеялся, увидев, как испугались воины. Он напился, умыл лицо и возвестил:
– Ух, ледяная! Вкусней воды я не пробовал по эту сторону Икх-хээр!
Братья пили, брызгались, хохотали, поили коней. Лошади тянули воду сквозь зубы, фыркали и пряли ушами. Больше желающих не было. Угомонился даже Баяр. Воины хранили тревожное, сдержанное молчание.
– Почему бы тебе самому не напиться, а, Хулгана? – озлобленно поинтересовался Сохор.
– Ох-ох, Хулгана хватает воды, – шаман, неотрывно следящий за братьями, хлопнул по весело булькнувшей фляге из тыквы. – Хулгана слишком стар, чтобы спускаться.
Кавалькада продолжила путь.
– Безумцы, не ведают, что творят, – шептала Верея, заплетаясь в ногах. – Плохая, злая вода. Безумцы.
Гунжур и Жаргал смеялись, мелодично затренькал ятаг. Братья опьянели от собственной смелости. «Герои, хуз ам ухкун», – выругался Сохор про себя.
Ущербное солнце медленно шло на закат. Лошади беспокоились и храпели. Издали доносился приглушенный, тягостный вой. Воины озирались, лязгали клинками, ожидая нападения с любой стороны.
– Успеем до темноты? – нахмурился Сохор.
– Если не будем пить в каждой луже, – ощерилась Верея, ускоряя шаг.
То ли от странных воплей, то ли от спертого, тяжелого воздуха кружилась голова. «Сохор. Сохор, – стучал в висках тихий, смутно знакомый голос. – Сохор. Иржэнэ». Сотника начинало подташнивать. Чтобы немного отвлечься, он спросил:
– У тебя есть муж, замарашка?
– У меня было много мужей, – Верея сдула с лица упрямую прядь и обольстительно подмигнула. Ну, она так считала. – Ты можешь стать последним из них.
Сотник утробно забулькал, изображая смех. «Сохор, Сохор, иржэнэ», – стонало в затылке.
– Скорей я возлягу с овцой, она симпатичней и куда лучше пахнет.
– Может статься, рядом не будет даже овцы, – парировала Верея. – Тогда поглядим. А этого не слушай, обманет.
– Кто? – по-дурацки открыл рот Сохор.
– Голос в твоей голове. Это зов Леса. Не слушай.
Беседу прервал испуганный крик за спиной:
– Баяр!
– Куда ты, Баяр?!
– Стой!
Сохор развернулся. Голос в голове поутих. Воины сгрудились и возбужденно вопили. Сиротливо и жалко стояла лошадь без седока. Рядом валялось копье, круглый щит и украшенный конским волосом шлем. Баяр Гроза Псов сполз с дороги и враскачку шел в темнеющий лес дерганой, неловкой походкой.
– Баяр! – окликнул сотник.
Воин не обернулся; спускаясь в овражек, он хватался за ломкие, мертвые руки кустарника, по пояс проваливаясь в сырой подтаявший снег.
– Баяр!
Гроза Псов замер и медленно повернулся. Его глаза были безумны и черны, зрачки неимоверно расширены.
– Матушка, – выдохнул он. – Матушка Сэргэлэн зовет меня. Восемь зим я не видел ее.
Среди монголов побежал сдержанный шепоток:
– Духи манят Баяра.
– Пропал Баяр.
– Смилуйся, Великий Тенгри.
Гроза Псов дернулся, с трудом переставляя окоченевшие ноги. Беззвучный, настойчивый зов влек его в трясину.
– Останови его, господин, – взмолилась Верея. – Лес проглотит несчастного, переварит и выплюнет желтые кости.
– Нельзя вмешиваться в дела духов, женщина, – удивленно отозвался Сохор. – Духи всегда забирают того, кого выбрали. Если им помешать, будет беда.
– Разве это не твой воин, господин? Разве все вы не сражались бок о бок?
– Духи, женщина. Они всегда получают свое.
– Я иду, матушка Сэргэлэн, – хрипел Баяр, продираясь сквозь чащу. – Подожди, матушка!
Быстрая тень метнулась наперерез. Сохор увидел Верею. Черная женщина сбежала с дороги, догнала Грозу Псов и, схватив за плечи, навалилась всем телом. Монголы зароптали, понеслись гневные возгласы. Молчал и недобро хмурился Хулгана.
Баяр забился, завопил неразборчиво, пытаясь освободиться. Верея не отпускала. Она с неожиданной силой притянула голову воина к себе и горячо зашептала ему на ухо. Баяр врос в землю, затих. Спустя мгновение воин, прошедший десятки сражений, зарыдал, его плечи мелко затряслись. Шулма взяла Грозу Псов за руку и повела обратно, словно новорожденного жеребенка: послушного, недоуменного, дивно спокойного. Всадники спешили убраться с пути. Безумец, посмевший вырвать жертву у духов, проклят, к нему нельзя прикасаться, с ним нельзя говорить. Сохор однажды видел такое. Отец спас тонущего ребенка. Обоих забили камнями на берегу.
Верея подошла и сказала:
– Прости, господин. Лес хотел забрать этого человека, я не позволила, ваши духи тут ни при чем. На севере они бессильны, здесь все еще правят старые боги.
Баяр улыбался, как дурачок, и крутил головой.
– Ты прогневала чонов, – уперся Сохор. – Говоря с тобой, я подставляю шею под меч Моний-хор.
– Тогда убей меня! – Верея рванула хламиду на груди, обнажая иссиня-бледную плоть. – Руби, господин. А сокровища ищи сам.
– Обезумела, ведьма. Хочешь плетей?
– Секи!
Баяр пускал слюни и жался к Верее огромным преданным кобелем. Разве хвостом дорогу не мел.
Сохор замахнулся плетью-ташурдах и опустил руку. Хитрая проклятая баба. Не успел опомниться – схватила за горло, а хватка на зависть иному волчаре.
– Ты пожалеешь, шулма, а теперь веди меня, куда обещала.
– А как же гнев духов, о господин? Лучше гони меня прочь.
– К четгеру духов, – Сохор приподнялся на стременах и возвестил: – Эта женщина нарушила закон, но она под моей защитой, слышите?
Воины не ответили, храня угрюмое, злое молчание. Хулгана открыл синий рот, но сказать ничего не успел. Строй, рассыпавшийся неровным полукольцом, внезапно распался. Конь под Гунжуром выгнул шею назад, всхрапнул и повалился. Всадник успел соскочить, перекатившись через плечо. Передние ноги животного подломились, задние рыли мох и гнилую траву.
– Хух, проклятая кляча, вставай! – закричал разозленный Гунжур. – Ах хар ишэра!
Конь с жутким хрустом костей дернулся и затих. Из пасти, ноздрей, глаз и ушей текла черно-зеленая вонючая жижа. Вены под бархатистой кожей надулись и лопнули.
– Хот малэ! – Гунжур пнул мертвую тушу. – Скакал быстрее птицы, а теперь взял и подох!
– Что у тебя с лицом, Гунжур? – спросил сотник, увидев вокруг губ воина в редкой бороде россыпь мелких, сочащихся гноем язв.
– Где? – воин провел рукой по щекам, кожа под пальцами лопнула и поползла лоскутом.
– Я предупреждала, – зло прошипела Верея. – Плохая вода. Прикажи ему снять рукавицы, господин.
– Тебе не жарко в рукавицах, Гунжур? – поинтересовался Сохор. – Сними.
– Зачем? – оскалился Гунжур.
– Я приказал.
Гунжур медленно стащил рукавицу. Воины ахнули. Рука была словно ошпарена в кипящем жиру. Красная вспухшая кожа облезла лохмотьями.
– Совсем не больно, – пробормотал, криво улыбаясь, Гунжур и упал.
– Брат! – Жаргал вихрем слетел с седла, выхватил топорик и завопил: – Ведьма наслала харал!
Волдыри и гнойные язвы усеяли его подбородок. Левый глаз помутнел и покрылся черной паутиной.
– Убей, господин, убей! – заверещала Верея, прячась за сотника.
Сохор принял удар. Сталь встретила сталь. Он рубанул наотмашь, Жаргал попятился и упал. А когда поднялся, это был уже не Жаргал. Лицо исказилось и застыло в ужасающей маске, плоть на щеке лопнула, рана хлюпала гноем, зубы угрожающе щелкнули. Лошадь под Сохором фыркнула и заплясала, выбросив тонкую ногу. Копыто ударило Жаргала в плечо. Звякнула кольчуга, рука Жаргала повисла, но он этого не заметил, переставляя отяжелевшие ноги и клацая челюстью. Цус сорочч, – понял Сохор. Оживший мертвец. Спаси нас, Тенгри!
Хлопнула тетива, в загривок сорочча вонзилась стрела, Очир уже рвал из колчана другую. Храпели испуганные лошади, кричали воины. Неподвижный Гунжур ожил, царапая камни дороги и глухо ворча.
– Руби голову, господин! – вопила Верея. – Не дай мертвяку ранить себя!
Сохор выждал мгновение и рубанул. Клинок смахнул Жаргалу башку, звякнув о железо наплечника. Тело сделало пару нетвердых, пьяных шагов и рухнуло навзничь.
Гунжур поднялся на четвереньки и выхаркивал кровь. Ближайший воин пришпилил умерца копьем. Наконечник вошел между лопаток. Сорочч возился, дергался и стонал. В следующее мгновение сабля снесла ему голову.
Сохор выдохнул. Затея с походом в сердце леса перестала казаться ему привлекательной. Там, где властвует черная магия, нет места людям.
Сочно чавкнуло, пошла волна нестерпимого смрада. Конь Жаргала стоял недвижно и тоскливо смотрел в пустоту. Его живот лопнул, внутренности, превратившиеся в склизкое месиво, шмякнулись под копыта. От вони слезились глаза. Жеребец вступил копытом в собственные кишки и недоуменно скосил подернутый серой пленкой немигающий глаз.
– Шэб мэну тах, – выругался десятник Тургэн, и с маху обрушил на голову дохлому коню булаву. Ребристый железный шар проломил череп, жеребец покачнулся и беззвучно упал.
– Надо уходить, господин, надо уходить, – запричитала Верея. – Ночь близко, в темноте на запах смерти сползутся хорхеи и мерзкие скользкие карны.
– Уходим! – зло крикнул Сохор, разворачивая кобылу. Выяснять, что за хорхеи и карны, не было никакого желания. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Он дождался шамана и сказал:
– Доволен, Хулгана? Они погибли из-за тебя.
– Хулгана не виноват, – мерзко захихикал шаман. – Духи приказали им пить. Так было нужно, нукур. Иначе как я проверю? Теперь Хулгана знает – старое колдовство до сих пор живет в этом лесу. Я ухвачу эту силу и заставлю служить.
– Мои воины умерли, не видя врага. Что я скажу их матерям?
– А что ты сказал матери Унура? Помнишь его? Вы не поделили пленницу в Мераге. Бедный Унур хотел познать свою первую женщину. Ты проломил ему голову. Какое тебе дело до их матерей? Меньше воинов – больше золота, разве не так?
– Так, – Сохор отвернулся, погрузившись в беспокойные мысли. Эта женщина… Почему заботится об отряде, будто она одна из нас? Предупредила о воде, спасла дурака Баяра, искренне переживала, как бы сорочч не цапнул живых… Что у нее на уме?
Голова раскалывалась, ныло в висках. Больное, исхудалое солнце, подернутое рваными лохмами туч, сорвалось за иззубренную гряду облезлых пожелтевших елей. На лес опустились зыбкие, бледные сумерки, меняя очертания предметов и играя с воображением. В чаще тягуче стонало и охало. Трещали сухие валежины. Холод струился из недр черных, бездонных оврагов. Дыхание превращалось в пар. Лес редел и расплывался. В просветах клубилась бледная, туманная марь. Видимость упала до пары десятков шагов. Навстречу из тягуче густеющей тьмы выплыла большая поляна.
– Пришли, господин, – в голосе Вереи промелькнуло удовлетворение.
Снег на поляне растаял, лишь кое-где гнездясь неряшливыми грязными кочками. В тумане проглядывались кривые деревья. Лошадь предостерегающе всхрапнула и дернулась. Задняя нога осыпала край бездонной дыры.
– Осторожно, – предупредила Верея. – Эти ямы ведут в древние каменоломни и шахты. И большую часть создали не люди.
Сохор огляделся, увидев еще с полдюжины похожих колодцев в венцах осыпавшихся склизких камней. Земля под копытами Хуранцэг была выстлана истлевшими костяками. В сухой полыни и космах огневки валялись продавленные грудные клетки, разбитые позвоночники, пялились пустыми глазницами пожелтевшие черепа. Ковром рассыпались осколки клинков, рассеченные щиты, обрывки кольчуг. Побежденные остались непогребенными, а победители были так богаты, что не собрали добычу. Или победителей не было…
Сохор задышал возбужденно и часто при виде позолоченных панцирей, резных шлемов с тонкой насечкой и сверкающих драгоценностями рукоятей мечей. Руситские, франкские и половецкие доспехи лежали вперемешку. Что за битва была здесь? Когда? Да какая разница! Главное, проклятая баба не обманула. Вот они, сокровища, достаточно протянуть руку и взять.
Сохор скатился с седла, под каблуком затрещали старые кости. Из рогатого шлема выкатился череп с остатками огненно-рыжих волос. В обветшавших лохмотьях сверкнула золотая фибула – олень, застывший в прыжке. Сотник схватил побрякушку негнущимися холодными пальцами. Рыжеволосый череп наблюдал за ним и насмешливо скалился. Ничего, ухмыляйся, мертвецам сокровища не нужны. Дальше блеснуло золото, в сумерках жаром переливались драгоценные камни. Воины слезали с коней, ползли на коленях, собирали сокровища горстями, вороша и разбрасывая мертвые кости.
Сохор потерял голову, заметался по поляне и счастливо закричал:
– Ох шулма, благодарность моя будет безмерна! У тебя и твоих детей отныне будет вволю еды!
– Ты прав, сотник! – голос Вереи изменился, из него исчезли подобострастные нотки. – Сделка завершена, тебе золото, моим детям еда! Ах уэн таргалэв!
Сохор обомлел. Женщина прыгнула к шаману, в полутьме жутко сверкнула сталь. Хулгана дернулся и заорал, кровь из распоротого брюха плеснула Верее в лицо.
– Придите, дети мои. Время пировать! – Верея выпрямилась, жалкая хламида упала с плеч, обнажая крупную тяжелую грудь. Баяр ползал у ее ног и протяжно скулил.
Хулгана шмякнулся на землю и сдавленно выл в стремительно набухающей луже. Из свертка, оброненного ведьмой, выкатился ребенок. Его мать не видела демонов, она совокуплялась с ними, и сама была демоном. Выше пояса дитя еще походило на человеческое, пусть и уродливое, но ниже пояса вилась бахрома из тонких черных присосок, блестела чешуя, сочилась вонючая слизь и жадно шарила вторая пара недоразвитых рук. Страшилище подползло к еще живому шаману и принялось жадно, взахлеб лакать свежую, дымящую кровь. В темном лесу одновременно зажглись десятки холодных безжизненных глаз. Совсем рядом зашуршало, заклацало. Звук шел из колодца. Застоявшийся воздух резанул протяжный душераздирающий вой, исполненный злобы, голода и лютой тоски. Пахнуло мертвечиной и гнилью. За край уцепилась тощая когтистая лапа. Кто-то заорал, вроде Очир, но Сохор уже убегал. Крики ужаса за спиной сменились рычанием, визгом лошадей, воем, стонами, треском рвущейся плоти, сломанных костей и сминаемого железа. Сохору было плевать. Он ворвался в лес, едва не упал, зацепившись за корень, и вломился в колючий кустарник. Оцарапал лицо, ветки хватали кольчугу, рукавицы и шлем куда-то пропали. Вечерняя полутьма приняла сотника, деревья прыгали и кружили дьявольский хоровод. В голове возникали обрывки мыслей: вот откуда эти сокровища, вот почему ведьма истово охраняла отряд! Лживая тварь! Так пастух бережет свое стадо, ведя его на убой.
Сохор бежал, крики утихли, взошла зловещая, торжествующая луна. Гибкие зловонные тени скользили по сторонам. Он задыхался, кололо в боку. Ночное светило гналось следом за сотником, деревья скрипели и ныли, хлопьями пепла повалил бархатный снег.
– Сохор! – ласково позвал мертвый голос из темноты. – Зачем ты бежишь?
Сотник с размаху врезался в огромный морщинистый дуб и повернулся, прижавшись спиною к стволу. Верея шла за ним, высокая, обнаженная, дивно прекрасная. Глаза пылали, с алых губ на вздернутые соски капала кровь.
Сотник окоченел. Он грабил города и по приказу ханов вырезал народы под корень, меряя детей по тележному колесу. Видел горы трупов и горящие города. Он никогда не боялся. До этого дня. Ярость степи оказалась бессильна, столкнувшись с ужасом, таящимся в этих лесах. Монголы сами выпустили этот кошмар, загнанный непокорными урусами в глубь молчаливых проклятых чащ.
– Будешь моим мужем, храбрый Сохор? – ведьма приближалась, покачивая широкими бедрами. Манящая, желанная, отвратительная и смертельно опасная. Ее лицо неуловимо менялось, от мерзкой хари до прекрасного лика.
Сохор рванул саблю из ножен. Тварь скалилась. В следующее мгновение сотник полоснул дымчатым лезвием по горлу, харкнул кровью и рухнул лицом в подтаявший снег. Ничьим мужем он быть не хотел.
Отряд нойона Мундхалая неделю рыскал по раскисшим дорогам, натыкаясь на пепелища, разбухшие трупы и стаи крикливого воронья. Удача покинула Мундхалая, родича самого Бату-хана, корня Чингиза, да пребудет с ним вовеки милость Тенгри. Селения и деревеньки в округе были разорены, деревья на пожарищах сгибались под грузом вздернутых тел. Орда уходила, подгоняемая ранней весной, оставляя за собой безлюдье, пепел и тлен. Ничего не осталось, кроме остывших угольев, тряпья и втоптанных в грязь горстей зерна.
Юный нойон задержался на снежных перевалах Кауказ-куирши, упустив лучшее время, когда исчезали в пламени руситские города, а худшие из воинов пихали в тороки резные чаши и золотые оклады с почерневших намоленных досок руситских богов. Теперь Мундхалаю было нестерпимо стыдно возвращаться без добычи и пленников, на посмешище беззубым старухам. Злые, незнающие пощады языки прилепят обидное прозвище: «Горе-воин», «Пустые руки» или хуже того: «Нойон, который всегда позади». Кто пойдет с таким ханом в поход? Отец, старый, полуослепший, потерявший в битвах руку и глаз, отвернется, велит надеть платье и отошлет младшего сына жить в женскую половину юрты, следить за скотиной и очагом. Останется только бежать или броситься чревом на меч. Незавидная судьба для молодого батыра, грезящего битвой и подвигом.
От позора юного Мундхалая спасла случайность. Сам Тенгри смилостивился над ним. Вчера в лагерь пришел оборванный монгольский воин и посулил нойону сокровища. Воин плохо выговаривал слова и горло его украшал багровый, жутко вздувшийся шрам. Сегодня он повел отряд Мундхалая в лес. Взамен он просил пустяка – еды для своих голодных детей и беременной жены-эхнэрэ.
Иван Белов
Лепила
– Жри таракана, урод! Жри, кому говорю…
Жанна изо всех сил сжала тонкие пальцы на шее Жирунделя, пригибая его голову к пластиковому контейнеру из-под морковки по-корейски – с тройкой дохлых, крупных рыжих тараканов на дне. В карих глазах Кислоты – верховода и заводилы небольшой компании – крепла злость. Жанна очень не любила, когда ей перечили – особенно те, кого она считала «ссыклом и никчемышами». А уж если вдобавок они были толстомясыми, как Ленька, стоящий на коленях возле серого бетонного кольца с бледно-красной надписью «ГАЗ», криво торчащего из пыльной земли окраинного пустыря, то Жанна запросто могла прийти в бешенство.
– Жри, падла! Ну!
Ленька отчаянно замотал головой, с губ сорвалось: «Кхы-ы, не, не».
– Кислота, а ты их это… сиропом полей, – хихикнул Илья, щурясь на полуденном июньском солнце. – Клубничным. Он еще и добавки попросит!
Стоящие рядом с ним Костя и Денис промолчали. Происходящее им совсем не нравилось, но перечить Жанне не хотели ни один, ни другой. Дело было даже не во втором месте по рукопашному бою, которое она заняла на областных соревнованиях полтора месяца назад, а в том, что Ленька сказал про нее такое, чего говорить – никак не стоило…
Жанна скосила глаза на Илью:
– Ты предложил, ты за сиропом и вали! Чего тормозишь?!
– Кислота, ты че? Я же это… приколоться хотел. Че ты сразу, а?
Он знал – если Жанна шутку не поддержала, то лучше отыграть назад. Иначе может прилететь и ему. Бывали случаи…
– Не хочешь жрать? – Жанна снова переключилась на Леньку. – Ла-а-адно, полудурок… Тогда собачьим дерьмом рожу намажу. Тюфяк сегодня целую кучу навалил, как знал, что пригодится. Дэн, пакет дай. Ну, быстрей!
Цыганистый, низкорослый и прихрамывающий на левую ногу Денис с явной неохотой сделал три шага, протянул Жанне желтый пакет-«майку». Она достала из него длинную резиновую перчатку и старательно завязанный прозрачный пакетик с собачьими фекалиями.
Положила его на ребро кольца, возле контейнера, и без спешки начала натягивать перчатку.
– Когда я ее надену, будет поздно. Лучше жри.
– Я н-н-не… – Ленька с ужасом переводил взгляд с пакетика на контейнер. – Па-а-ачем-му? Я н-н-ниче-е-его…
– А, ты белый и пушистый, оказывается? Ниче-го-о-о, скоро будешь коричневый и некрасивый… Лучше ням-ням, Жирундель: время кончается. Ну?!
Ленька громко всхлипнул и потянулся к тараканам.
Ребята слаженно отвернулись в тот момент, когда Ленька положил насекомое на язык. Закрыл рот и начал медленно жевать. Илья почувствовал, как желудок выталкивает к горлу тугой ком тошноты. Отвернулся и обильно сплюнул – раз, другой, часто и глубоко дыша ртом.
Плечистый неповоротливый Костя спасовал секунд через десять. Глуповатая веснушчатая физиономия застыла в гримасе нерешительного протеста.
– Кислота, может, харэ? Ну его…
– Не харэ. Пусть жрет. По одному за уродку, дуру и гадину. В другой раз подумает, прежде чем сказать… Все пускай думают.
Илья сдавленно закашлялся. Затею Жанны он не одобрял, но признаваться в том, что упомянутые ею ругательства всецело были его выдумкой – не собирался. Не стоило даже давать повод для подозрения, потому что в таких случаях она становилась еще тем клещом: вцепится и не угомонится, пока не узнает всю подноготную…
Жрать вместо Леньки тараканов вперемешку с дерьмом Илья не желал. А ведь придется, если настоящий расклад вдруг выплывет наружу. При далеко не ангельском характере Жанна люто, отчаянно ненавидела ложь, карая за нее жестко и беспощадно, не делая различий между приятелями и недругами.
Леньку она шпыняла уже давненько, но в основном по мелочам, походя. Толстый, «плюшевый», с задержкой развития Жирундель вызывал у нее глухое раздражение, потому что напоминал младшего брата – пухлую, вконец избалованную скотину, почти без остатка забравшую себе родительскую любовь и внимание. Вот и срывалась время от времени, но без последствий…
Ленька безропотно сносил ее плевки, издевки, тычки. Словно Жанна была для него неизбежным и неодолимым злом, на которое не имело смысла жаловаться Ольге Андреевне, единственной живой родственнице, которая стала опекуншей Леньки после гибели родителей, бездетной и самозабвенно любившей племянника.
Честно говоря, сейчас Илья напрочь не мог упомнить, что дернуло его наклепать на Леньку. То ли скука, то ли плохое настроение: а может – все вместе…
Правда, он думал, что Жанна сорвет злость обычным способом, разве что тычков с подзатыльниками будет в два-три раза больше. Но она в тот день вдребезги разругалась с родителями и потому уготовила другую месть.
Илья мысленно костерил себя последними словами, но молчал. Оцепенело глядя, как Ленька глотает таракана, неверными движениями засовывает между посеревших губ следующего… Как будто что-то заставляло смотреть, не отводя взгляда. Во рту возник и не мог исчезнуть странный привкус, словно Илья сам только что размолол зубами хрусткую хитиновую оболочку цвета свежей ржавчины…
Он часто сплевывал вязкую, клейкую слюну, и с каждым мигом ему все сильнее мнилось, что Жанна обо всем догадается – и рассвирепеет вконец. Но минуты шли, а все оставалось по-прежнему.
Ленька сунул в рот последнего таракана, тяжело задвигал челюстью. А потом произошло то, чего Илья никак не ожидал.
Жанна резко надорвала пакетик с дерьмом и впечатала его в лицо Леньки. Растерла парой скупых, яростных движений.
– На, скотина жирная! Гарнир!
– Не, ну зачем, Кислота? – Костя покачал наголо бритой головой, с неприязнью глядя на Жанну. – Зря ты, епырь-жопырь, так…
– Да, зачем? – нахмурился Денис. – И так наказала уже…
Илья замер, выжидая, что будет дальше.
– Да пошли вы… Он не на вас пасть разинул. Я сама разберусь, чего ему до хрена, а чего – добавить…
Голос Жанны был страшен: приглушенный рык перемежался с шипением, от которого в груди заерзал шершавый холодный сгусток. Ненависть вылепила из симпатичной мордашки страшноватую маску, бесновалась во взгляде.
«Опять со своими поругалась, – понял Илья. – Сука, быстрее бы это все закончилось».
– Заткнись!
Он обмер, лихорадочно пытаясь сообразить, не произнес ли последнюю мысль вслух… И тут же с облегчением понял, что приказ Жанны относился не к нему. Ленька тоненько подвывал, часто вздрагивая всем телом. Изо рта тянулась ниточка слюны с рыжеватыми вкраплениями.
– Заткнись, урод!
– Да пошла ты… – с неожиданной злостью буркнул Денис. Шагнул к Леньке, доставая из кармана спортивных штанов мятый носовой платок. – Слышь, щас вытрем…
И – осекся, замер. Илья увидел, как в светло-карих глазах приятеля ворохнулось недоумение, тотчас же сменившееся испугом. Причину его Илья осознал через пару секунд, и холодный сгусток в груди взорвался, нашинковывая мышцы и мозг ледяной шрапнелью.
Ленька перестал выть и теперь хихикал, размазывая дерьмо по лицу. Илья медленно сглотнул, пытаясь убедить себя, что в хихиканье нет жутковатых, болезненных ноток, говорящих лишь об одном…
– Спятил, кажись, – Костя хрипло первым произнес то, что читалось на лицах у всех. – Жирундель, хорош, ну… Кислота, епырь-жопырь, ты че наделала?
– Тихо, тихо, – процедила Жанна, но Илья уловил в ее голосе ростки страха. – Притворяется, небось, урод… Заткнулся, кому сказали?!
Она схватила Леньку за подбородок и сжала что есть сил, заставляя замереть.
Вгляделась.
Илья следил за ней с дикой, вытеснившей остальные чувства надеждой. И в то же время – почему-то не сомневался, что надеется зря. Присосалась к душе обреченная уверенность, что Ленька точно тронулся умом, сбрендил… И это уже не исправить.
– Платок дай! – Жанна вдруг повернулась к Денису. – Быстрее!
Лицо у нее было бледное и отчаянное, но в глазах не мелькало и тени раскаяния. Жанна взяла платок и начала быстро, старательно вытирать Леньке лицо. Тот не сопротивлялся, продолжая хихикать. Жанна не затыкала его, негромко матерясь сквозь зубы, но Илья видел, как подрагивают ее руки.
Спустя минуту она побросала в пакет контейнер, платок, разорванный пакетик, перчатку.
– Все, уходим!
– А он как? – Денис угрюмо кивнул на Леньку.
– Он? – Жанна колебалась всего секунду. Потом подскочила к Леньке и сильно хлопнула его по спине.
– Домой вали! Пошел!
Тот вдруг умолк, заморгал, словно вникая в сказанное, а потом грузно, неторопливо потопал с пустыря, не оглядываясь на четверку.
– Вопросы кончились? Будем считать, что не было ничего.
Ребята молчали, глядя на уходящего Леньку. Жанна выдохнула сквозь зубы и чуть смягчила тон:
– Ладно, согласна, перегнула. Но назад уже не отмотаем, не кино. Да и так подумать: а что такого-то? Он и так с прибабахом был, а сейчас еще немного добавилось. Не убили же.
– Зря… – обронил Костя, не поворачиваясь к ней. Денис кивнул.
Жанна обвела друзей разочарованным взглядом.
– В общем, делайте что хотите. А я пошла. Надеюсь, вы со мной.
Она спокойно зашагала в другую от Леньки сторону, слегка покачивая пакетом.
Илья почесал нос, протяжно вздохнул:
– Пацаны, это… Ну, в самом-то деле, уже все. А я на Кислоту стучать не буду: в натуре, не убили же… Пошли, а?
Он шагнул вслед за Жанной, и этот шаг переломил угрюмую нерешительность друзей. Через минуту на пустыре никого не осталось.
Неделю спустя.
Новость принес Костя.
Сгрузил на горячий песок крохотного пляжа, целиком занятого их компанией, три запотевших «полторашки» дешевого «Буратино» и невесело оповестил:
– Тетка Жирунделя к Игнатьевне ходила. Сейчас слышал, бабки у магаза болтали… Епырь-жопырь, чего теперь делать, а?
Рука Жанны замерла на полпути к бутылке. На закаменевшем лице резко обозначились скулы: в жестком и – одновременно – растерянном прищуре коротко плеснулся испуг.
Денис и Илья царапнулись взглядами, колода карт в пальцах последнего мгновенно перестала быть послушной, тасовка сбилась с привычного ритма.
– И все? – сдавленно уточнил Денис.
– Ага.
Жанна все-таки дотянулась до бутылки. С хрустом свернула пробку, глотнула, закрыла бутылку, положила на песок.
– Подумай, может, чего забыл… – в ее голосе не было ничего, кроме равнодушия, но Илье показалось, что оно – как задернутые кулисы. За которыми набирают силу совсем другие чувства.
Костя помотал головой:
– Не, все сказал.
– Па-а-анятно… – Жанна мазнула взглядом по Денису, Илье. – И чего вы рожи-то как у покойников слепили? Страшно стало?
– А тебе не стало? – огрызнулся Денис.
– А может, и не стало! Вот если подумать, что мы про Игнатьевну знаем? Что она с нечистой силой тра-ля-ля? То ли ведьма, то ли еще какая-то фигня фигнянская…
Илья бросил колоду на песок, нервно защелкал суставами пальцев.
– Так и говорят…
– То-то, что – го-во-рят! А кто-нибудь видел, что она с чертями или демонами тусуется? Говорить что угодно можно. Я вот сейчас скажу, что Костян на самом деле – Человек-паук. Поверите?
Ответа не последовало. Жанна выдержала недолгую паузу и улыбнулась – широко, победно.
– Да, кстати! Кто помнит, с чего про Игнатьевну такие слухи идут?
Илья неуверенно пожал плечами:
– Лечит она, что врачам слабо́… Почти с того света вытягивает иногда.
– Точно! Потому и считают, что ведьма. Типа, если медицина ручками развела, а Игнатьевна помогла, то без нечистой силы не обошлось. Точно никто не знает, но все языками треплют! Правильно, что еще в нашем захолустье делать, как не чушь всякую выдумывать…
– А как же этот… Старченко или Сварченко? – встрял Денис. – Который зарплату рабочим на лесопилке зажимал, а потом за одну ночь поседел. Говорят, Игнатьевна ему показала, что за грехи бывает.
– Сколько это лет назад было? Пять-шесть где-то? А еще я слышала, что его тогда менты за что-то прессовали, посадить хотели. Думаю, что он из-за них поседел, а не Игнатьевна помогла…
– А Галька Мартышка?!
– Которая наркотой торговала? Обычная передозировка… Или ты поверишь, что она от собственных мозгов в горле задохнулась? Бред же. Ты побольше наших бабок слушай, они тебе еще чего-нибудь расскажут. Например… да чего угодно.
– А… – Денис беспомощно посмотрел на друзей, ища поддержки. Жанна ухмыльнулась с явным превосходством:
– Что, ничего не вспоминается? Вот и прикиньте, за столько лет, и – всего два случая, которые и без чертовщины легко объясняются. Против Игнатьевны-целительницы я возражать не буду, тут нормальных примеров хватает, что все так и есть. А все остальное…
Она говорила спокойно, неторопливо, словно разъясняя очевидное. Но Илья не сомневался: Жанна убеждает не их – себя. Ее испуг никуда не делся, он отодвинулся вглубь, потесненный «простыми и правдивыми» доводами, за которые Жанна будет держаться до последнего…
– Думаю, что тетка к Игнатьевне ходила, чтобы Жирунделю мозги на место вставить. Вот и все. А вы тут большой жим-жим устроили… Согласны?
– Фиг его знает… – пробормотал Костя.
Остальные промолчали.
– Ну вас! – фыркнула Жанна. – Очкуйте дальше, а я купаться.
С речки они засобирались часа через два, когда горизонт неожиданно превратился в сплошную темно-серую опухоль, быстро наплывавшую на городок.
– На весь вечер зарядит, – пробурчала Жанна, застегивая босоножки. – И завтра тоже обещали. А я так надеялась, что нет…
Натягивающий шорты Денис внезапно замер в нелепой позе, звучно хрипнул горлом, словно отхаркиваясь. Жанна смерила его удивленным взглядом:
– Ты чего?
Вместо ответа он судорожно кивнул в сторону тропы, бегущей к заброшенной железнодорожной ветке. Все уставились туда.
Ленькина тетка осторожно спускалась по крутой насыпи, балансируя пухлыми руками, вымахавшие сорняки до пояса скрывали невысокую фигуру в голубом сарафане. Ее и четверку разделяло около полусотни шагов, но даже с такого расстояния Илья рассмотрел лицо Ольги Андреевны: застывшее, пугающее… Маска. От прежнего добродушия не осталось ничего.
– Братва, бежим, не? – сыпанул растерянной скороговоркой Костя.
– Стоять, – приказала Жанна свистящим шепотом. – Кто слиняет, гнидой буду считать… Запомните намертво – мы не при делах. Если что, молчите: я сама как-нибудь. Одеваемся, спокойно.
– А вдруг бить будет? – сдавленно проговорил Илья.
– Не очкуй, прорвемся…
Илья покорно принялся натягивать футболку, стараясь глядеть в землю, но взгляд неумолимо тянуло в сторону насыпи. Денис надел шорты, и теперь бездумно управлялся с завязками. Один узел, второй, третий…
– Харэ! – шикнула на него Жанна, и он испуганно замер. – Кроссовки не забудь…
Они закончили сборы, когда Ольга Андреевна была всего в десятке шагов.
– Ну, все? – спросила Жанна с деланой беззаботностью, как будто не замечая женщину. – Двинули, пока не ливануло.
Илья помедлил, желая пристроиться к ней за спину, стараясь не смотреть на тропу.
– Лепила-лепила, кривое рыло…
Тетка Жирунделя заговорила нараспев, и в то же время – без малейших эмоций, мертво. Это сочетание пробрало Илью сильнее всего, и он застыл на месте, прикипев взглядом к невысокой фигуре в нескольких метрах от них.
– Глазки – врозь, зубки – врозь, приходи-ка как гость…
Слева от Ильи прерывисто и громко дышал Денис, сзади послышалось и тут же сгинуло неуверенное «а-а-аы-ы» Кости. Жанна превратилась в изваяние, чуть приподняв напряженные плечи, словно готовясь к рывку, драке. Ольга Андреевна поочередно переводила взгляд – такой же неживой, как и голос – с Жанны на Дениса, на Илью, на Костю. Как будто отмечала каждого печатью, от которой нет избавления…
– Была плата богатой, отработай же плату. Не врагом и не другом, воздавай по заслугам. День ли, ночь во дворе: приходи поскорей…
Ольга Андреевна замолчала. Илья со страхом ждал, что будет дальше.
Губы женщины внезапно дрогнули, в глазах мелькнуло подобие сожаления, словно она хотела что-то сказать или заплакать. Маска дала трещинку, но та осталась первой и единственной.
Тетка Леньки повернулась и быстро зашагала обратно к насыпи, провожаемая тревожным молчанием четверки.
– Никто не обоссался? – с фальшивой тревогой спросила Жанна, когда фигура в голубом сарафане скрылась за насыпью. – А то показалось мне – журчало что-то… Дэн, не ты?
– А ты самая смелая, что ли? – прошипел Денис. – Ты же говорила…
Жанна угрожающе сжала кулаки, шагнула к нему.
– Что я говорила?! Что все хорошо будет, и нам по миллиону подарят? Нет?!
– А это что было?! – Денис махнул рукой в сторону тропы.
– У тебя с ушами проблемы? Ладно, для глухих: стишок про какого-то лепилу с кривым рылом.
– Леха Шаман трындел, что так на зоне врачей называют, – вклинился в перепалку Костя. – Или, епырь-жопырь, лечилы… Не, лепилы, точно.
– Врачи тут с какого хрена? – опешил Денис.
Жанна развела руками:
– Может, у тетки Жирунделя тоже крыша поехала?
– Ты сама-то в это веришь? Сука, из-за тебя все…
Жанна ударила его кулаком в нос: коротко, умело. Денис вскрикнул, попятился, пряча нос в ладони. Нога угодила в ямку, он оступился, упал. Но сразу же начал подниматься, упрямо прогнусавив:
– Сука. Правильно тебя Ленька назвал…
Жанна молча прыгнула к нему, целясь ногой в лицо. Денис в последний момент убрал голову, и ребро босоножки чиркнуло его по уху. Жанна сумела не «провалиться», спружинила на носочках, развернулась, собираясь атаковать снова. В потемневших глазах крепла даже не злость – ярость.
– Э, завязывайте! – Костя сгреб ее обеими руками поперек живота, потащил назад. Второй пинок чуть-чуть не достал до подбородка Дениса.
Жанна яростно барахталась в захвате, локоть ее правой руки едва не расплющил Косте нос. Он громко матюгнулся, поднатужился и отшвырнул Жанну подальше от себя и друзей.
– Уймись! А то подеремся!
– Ну, давайте! Трое на одну! Ссыте?!
Илья прыжком очутился между ними. Растопырил руки, не давая Жанне сцепиться с Костей и побаиваясь, что вот-вот огребет сам. Отчаянно заорал:
– Заткнулись на хрен! Совсем, что ли?!
Он не ждал, что его послушают, но крик неожиданно подействовал. Жанна медленно разжала кулаки, презрительно сплюнула:
– Друзья называется. Да пошли вы вместе с лепилой, кто бы он там ни был.
– Кислота, погоди… – начал Илья, но Жанна показала ему «фак» и стремительно зашагала к тропе. Останавливать ее никто не стал.
– И что теперь делать? – растерянно бросил Костя, перескакивая взглядом с парней на Жанну и обратно.
– Прощения просить, – сказал Денис. Сочащаяся между пальцев кровь капала на камуфляжную майку.
Илья озадаченно посмотрел на него:
– У Кислоты?
– У Ленькиной тетки… Скажем, не хотели такого, это все Кислота. Нет, виноваты, конечно, но с другой стороны… Зараза, как бы сказать-то получше?
– Может, сразу перед Игнатьевной извиниться? – угрюмо проворчал Костя.
– Не… Говорят, если она что-то начала делать, то заднюю не включит, хоть ты обосрись…
– Если не включит, зачем тогда к тетке идти?
Денис с надеждой посмотрел на друзей.
– Ольга Андреевна добрая. Может, пожалеет, и к Игнатьевне сходит… Что-то же надо делать?
– Пожалеет, ага. Ты ее глаза видел? Мне стремно было…
– А вдруг она реально с ума сошла? – Илья обрадовался, что вместо него это спросил Костя. – И, епырь-жопырь, получится хрень какая-нибудь…
– А что ж она тогда не в психушке? – процедил Денис.
– Может, она только в этом совсем ку-ку стала… А так – нормальная. Бывает же такое?
Илья развел руками.
– Да фиг его знает… Может, и бывает.
На несколько секунд повисла тишина. Денис стащил майку, приложил ее к носу, невесело оглядел друзей.
– Пошли, чего стоять-то? Польет скоро. По дороге сообразим что-нибудь…
Сообразить ничего не получилось. Все десять минут до расставания шли в тягостном молчании, как будто затронувший их четверку раскол продолжал шириться, грозя новой ссорой. Илья втайне надеялся увидеть поджидающую их Жанну, но увы…
Дошли до перекрестка, на котором обычно расходились в разные стороны, неловко затоптались на месте.
– Ладно, пацаны… – первым нарушил молчание Костя. – До завтра.
Денис зябко повел плечами, отнял майку от носа.
– А с теткой как быть?
– Может, завтра решим? – вздохнул Илья. – Я, это… Думал, с Кислотой все-таки надо вместе, раз уж так вышло. Попробовать уболтать. Если не захочет, то – другое дело.
– А почему – кривое рыло? – внезапно спросил Денис. – Ну, лепила – кривое рыло…
– Это врач, который набухался в жопу, – грустно пошутил Илья. – Засечешь пьяного перца в белом халате – щемись куда попало.
Денис даже не улыбнулся. Скупо, задумчиво кивнул:
– Ладно, увидимся. Звоните, если что…
И они разошлись.
Дома Илья первым делом набрал в Гугле «лепила, кривое рыло». Ему хватило полчаса, чтобы понять – ничего внятного он не найдет. Разве что несколько сайтов подтвердили правоту Кости насчет жаргонного названия врачей.
Ближе к концу поисков он поймал себя на мысли, что всерьез хочет, чтобы тетка Леньки повредилась рассудком. Ведь нет ничего хуже, чем ждать и бояться чего-то непонятного…
Потом он почти безвылазно сидел «Вконтакте», время от времени скидывая в личку Денису и Косте «все ок?». Ответы были такими же скупыми, не дававшими повода для тревоги. Илья написал и Жанне, та прислала в ответ злющий смайлик.
В половину первого друзья одновременно вышли из Сети. Жанна еще была онлайн, Илья написал ей: «завтра надо поговорить, очень важно», но сообщение осталось непрочитанным.
Спать он собрался в начале третьего, перед этим взяв с кухни нож побольше и поострее. Лег на бок, прижался спиной к стене и сунул нож под подушку, крепко сжав в ладони темно-коричневую деревянную ручку.
Засыпал Илья плохо, часто разлепляя тяжелеющие веки и беспокойно обшаривая взглядом тесноватое пространство десятиметровой комнаты. Ища любой намек на нечто выбивающееся из намозолившей глаза обстановки, но наконец соскользнул в тягучее, липкое забытье. В нем не было ничего, кроме каркающего усталого голоса, раз за разом повторяющего уже знакомые слова. «Лепила-лепила, кривое рыло. Глазки врозь, зубки врозь, приходи-ка как гость…»
«Игнатьевна, хватит!» – Илья затыкал уши и бежал – медленно, как под водой, надеясь найти место, где жутковатый стишок будет не слышен. Но слова, казалось, просачивались сквозь плоть, лезли в голову, неторопливо, но верно подталкивая к безумию…
Он хотел проснуться, и не мог, – трепыхался во сне, как мошка в паутине. Потом вдалеке возникла кособокая, нескладная человеческая фигура в белом, щедро забрызганном кровью халате. Она бросилась к Илье, протягивая неестественно длинные худые руки с хищно растопыренными пальцами к его груди, как будто собираясь вырвать сердце. Вместо головы над воротником халата торчал такой же – белый с красным – бугристый ком размером со средний арбуз, без носа, глаз, рта…
Звонок лежащего на подоконнике мобильного разбудил Илью за миг до того, как пальцы лепилы уперлись ему в грудь. Илья судорожно рыскнул по комнате взглядом без единой капли сна, убеждаясь, что он в ней один, что все без изменений, и схватил старенький «Самсунг». Номер был незнакомый, но Илья без раздумий нажал кнопку, принимая вызов.
– Але!
– Кирюха, не разберу, это ты, что ли? – протараторил в ухо молодой, чуть картавящий женский голос. – Это теть Зина Шашенина, мамку мне покличь…
– Вы это… ошиблись, – выдохнул Илья. – Нет здесь таких.
– Точно ошиблась? – огорчилась женщина.
– Да.
– Генка, стервец, номер неправильно записал, поди. Ладно уж, извини, что побеспокоила…
– Не страшно. И, это… спасибо.
– За что?
– За то, что разбудили…
Он нажал отбой, положил телефон на место. И только сейчас осознал, что ухитрился взять его, не выпуская из руки нож. Вымученно улыбнулся:
– Кривое, сука, рыло… Хрен тебе, а не мое сердце.
Старенькие электронные часы на компьютерном столе показывали без четверти десять. Илья вернул нож на кухню и сразу же сел за компьютер, зашел «ВКонтакт».
Никто из троицы в Сети не появлялся. Илья кинул им в личку «все ок?» и потопал в туалет. Вяло позавтракал, полтора часа погонял в «танчики», снова зашел «ВКонтакт». Все три сообщения остались непросмотренными.
«Начало первого уже… – Илья взял телефон, набрал Костю. – Не могут же все дрыхнуть?»
Мелко, противно задрожали пальцы. Длинные гудки вселили надежду, оказавшуюся недолгой. Костя не ответил. Дозвониться до остальных тоже не получилось. Илья чертыхнулся и начал одеваться.
Жанна жила ближе всех, в паре минут ходьбы. На детской площадке во дворе дома Илья увидел ее брата – Ярослава. Тот с ногами забрался на скамейку и кормил голубей, отщипывая кусочки от батона. Птицам доставалась половина, каждый второй кусочек Ярослав кидал себе в рот.
Илья направился к нему.
– Яр, привет! Сестра дома?
Десятилетний, большеглазый и похожий на филина толстячок лениво кивнул.
– Привет… Дома, да. Мама с папой в райцентр уехали, а я с Тюфяком погулять вышел. Но он удрал куда-то: жду, когда прибежит.
– Давно гуляешь?
– С час где-то. А ты зайти хочешь? Жанка вчера злющая была, вообще как зверюга. Думаю, сегодня тоже будет.
– Ничего, я быстро. Два слова сказать.
– Иди, дверь не закрыта. – Ярослав отправил в рот очередной кусочек мякиша и снова уставился на голубей. – Фиг ли смотрите, жопы с перьями? Нате, лопайте. Гули-гули…
Илья быстро зашагал к ближайшему подъезду недлинной панельной пятиэтажки, мгновенно найдя взглядом окна нужной квартиры на третьем этаже.
Никакого шевеления за стеклами. Правда, комната Жанны была на другой стороне, но Илья не стал тратить время на беготню вокруг дома. Домофон в подъезде не работал уже давно, и парень шустро одолел пять лестничных пролетов: замешкался у двери, решая – стоит ли входить без предупреждения.
Нетерпеливо нажал серую клавишу звонка.
«Плям-плям… Плям-плям…»
Чуть-чуть выждал, снова позвонил, следя за дверным глазком: не потемнеет ли. Прислушался. Вроде тихо.
«В туалете, что ли? Или в ванной?»
Новый звонок и полминуты ожидания перемен не принесли. Илья решительно повернул серебристую узорчатую – под старину – ручку, толкнул дверь от себя. Перешагнул порог.
– Кислота, это я! Разговор есть.
В комнате Жанны раздался слабый не то стон, не то всхлип. Страх набросил удавку на шею и начал затягивать ее. Илья замер, до боли сжав дверную ручку, борясь с желанием выскочить обратно в подъезд.
Сдавленно позвал, не сводя взгляда с дверного проема Жанкиной комнаты:
– Кислота… Это ты?
Шлепанье босых ног по линолеуму было неторопливым и сбивчивым, как будто идущий в коридор человек плохо держал равновесие. Или топтался на месте, раздумывая – стоит ли вообще показываться Жанне на глаза.
Илья напрягся, безуспешно пытаясь унять ожившую в теле дрожь. И снова выдавил, готовясь в любой миг рвануть подальше:
– Кислота… Ты че?
Тень, пересекшая порог комнаты, выглядела совершенно нормальной, человеческой, и Илье чуть полегчало. Раздавшийся следом стон-всхлип вернул все на свои места, удавка страха затянулась до предела, сделав тело ватным, неуклюжим…
В этом звуке отчетливо сквозила та же самая болезненность, которую Илья слышал на прошлой неделе в хихиканье Леньки. Спустя секунду Жанна вышла из комнаты и повернулась к приятелю лицом.
Что это именно она, Илья понял по короткой мальчишеской стрижке и ее любимой черной майке с изображением Призрачного гонщика на полыхающем байке.
Потому что узнать Жанну по лицу было невозможно.
В нескольких шагах от Ильи стояла уродина. Похожую он видел в ужастике про мутантов, название которого уже вылетело из головы…
Небольшой курносый нос Жанны задрался еще больше и скривился вправо, притягивая взгляд провалом пугающе огромной ноздри: как будто в нее запихнули невидимый палец и вдобавок – оттянули в сторону. Второй ноздри не было видно, словно ее приплющили к носовой перегородке.
Губы приоткрытого и перекошенного рта растянулись так, что из нескольких трещинок выступила кровь. От прежней ровности мелких зубов пропал и след, они либо наползали друг на друга, либо выгибались вперед…
Левый глаз сильно косил к переносице, а правый был немного утоплен в глазницу. Но совсем страшным его делало верхнее веко – задранное, неподвижное, не позволяющее скрыть уродство.
Аккуратный подбородок с ямочкой расплюснулся, съехал вправо. Скулы остались прежними, но уши выглядели так, словно лишились хрящей. С полторы дюжины глубоких длинных шрамов-рытвин перепахали щеки, виски, лоб.
Шея, плечи и все остальное было нетронутым, изменения коснулись только лица. Полное впечатление, что кто-то перелепил его на новый, кошмарный лад.
Лишь сейчас до Ильи дошло, что Жанна не кричит от боли. А ведь такие перемены не могли обойтись без нее, никак не могли! Если только их виновник не обладал особыми возможностями. Запредельными, потусторонними…
Жанна подняла руки к лицу, ощупала его кончиками пальцев: нервно, дергано. Опять простонала-всхлипнула и шагнула к Илье.
– Не-е-е… – тот отпустил ручку, попятился. Запнулся о порог, но не упал, успев схватиться за дверной косяк.
– Эугуэу… – сказала Жанна, ее глаза светились чистым безумием. – Аопыогыы…
Она открыла рот еще шире, и Илья увидел язык подруги – страшный, искореженный. Илья молча, отчаянно замотал головой. «Не подходи!»
Жанна медленно пошла вперед, и это помогло ему избавиться от жуткого, набирающего силу оцепенения. Он отпустил косяк, качнулся назад, ломая протест собственного тела: сделал шажок, второй…
И без оглядки бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек. Выскочил из подъезда, на секунду замер, решая – что дальше.
Побежал к детской площадке, лихорадочно пытаясь придумать, что скажет Ярославу. Почему-то крепло убеждение, что если брат Жанны явится домой один, то она обязательно сделает с ним что-нибудь страшное, непоправимое…
Илья добрался до скамейки, распугав голубей, встал напротив Ярослава. Тот испуганно сжался, побледнел.
– Т-ты чего?
Илья понял, что вид у него еще тот. Конечно, после увиденного в квартире…
– Яр, Яр… – он пробовал улыбнуться, но губы не слушались. – Ты, это… домой не ходи. Родителям позвони, чтобы побыстрее ехали. И сам подальше куда-нибудь уйди.
– А-а что такое? – боязливо спросил толстяк. – Жанка еще больше разозлилась?
Илья торопливо закивал, агрессивными жестами изобразив что-то непонятное самому себе.
– Как черт! Чуть лицо мне не разодрала. Не ходи!
– Ладно, ага… Все расскажу про эту заразу психическую…
Илье внезапно захотелось врезать ему по носу. Со всей дури, чтобы кровавые сопли широким веером – отсюда и до подъезда. Ведь если вдуматься, Ярослав как никто другой виноват в жестокости сестры. Не будь брат такой эгоистичной тварью, Жанна не срывала бы зло на Леньке: и не было бы тараканов, собачьего дерьма, стишка про лепилу. Того, что Илья видел минуту назад.
Казалось, Ярослав прочитал его мысли. Слез со скамейки и проворно засеменил с площадки, оглядываясь – часто, с опаской. Илья кое-как унял желание метнуться за ним, пнуть в копчик…
«Да все, на хрен, виноваты», – выдохнул он сквозь зубы и поспешно зашагал прочь, доставая телефон.
Звонок Косте закончился точно так же, как и четверть часа назад. Денис тоже не отвечал.
Илья сломя голову побежал к дому Кости.
На долгий суматошный трезвон, перемежаемый стуком в дверь, никто не откликнулся. Илья выскочил из единственного подъезда старой бревенчатой двухэтажки, растерянно огляделся.
– Внучек, потерял чегой-то? – дребезжащий голос был полон жгучего любопытства. Илья обернулся, посмотрел вверх. Из окна второго этажа выжидающе глазела узколицая остроносая старуха в очках, явно из племени «высоко сижу, на всех гляжу, обо всем расскажу».
– Бабушка, Костю не видели?! – не раздумывая, выпалил он.
– С первого этажа, что ль?
– Да!
– Ой, внучек! Дык его ишшо по утречку на скорой увезли! И мамка его с ним туда же!
Мир в глазах Ильи пошатнулся, потемнел и размылся.
– Что с ними?!
– Мамка-то ладом! У Костика с рукой чтой-то беда. Прям кошмар, как искривилась! Я такое первый раз видела, а скоро ужо девятый десяток выйдет-то, как живу…
– А с лицом у него все нормально?! – перебил ее Илья.
Старуха озадаченно моргнула, зачем-то потерла ухо.
– С лицом, говоришь? А чегой-то с ним не так должно быть? Лицо как лицо…
Она говорила что-то еще, но Илья сорвался с места, побежал к Денису, чувствуя, как в груди усиливается противный холодок, хотя на улице было жарко.
Он надеялся увидеть Дениса живым и здоровым, но случившееся с остальными заставляло готовиться к иному раскладу.
Дома у Дениса он застал лишь его малолетнюю сестру и приглядывающую за ней соседку.
– Ногу ему изуродовало, – сказала женщина, скорбно кривя рот: неверие в ее глазах переплелось со страхом. – Да жутко так, как будто половину косточек перемололо. Но крови – ни капли, мистика как есть. И ведь ничего не говорит, не помнит: как затмение нашло, что ли… Антон Борисыч в командировке, Наталья с Денисом поехала, меня вот попросила с Дианкой посидеть.
Она помолчала, словно припоминая что-то. А потом спросила – робко, будто преодолевая себя:
– Вы Игнатьевне ничем не досадили?
Илья молча помотал головой и ушел.
Спустя десять минут он стоял перед квартирой Ольги Андреевны. Закусил губу, сдерживая слезы: и с силой нажал кнопку звонка.
«Дз-з-з!»
За дверью была тишина.
«Дз-з-з! Дз-з-з!»
Этажом выше послышались шаги, на лестнице возник высокий худой невзрачный мужик средних лет – в мятой майке, черных трениках и шлепанцах на босу ногу, с пакетом мусора.
– Не звони, уехали… – скучно обронил он, проходя мимо Ильи.
– Как – уехали?! Куда?!
– А я почем знаю? На такси вчера вечером. Ленька с ней, и сумки с вещами: как в отпуск прямо.
Мужик ушел. Илья постоял с минуту, тупо, неверяще глядя на дверь квартиры, а потом зашагал вниз на негнущихся ногах.
В голове бултыхался только один вопрос: «Что делать?»
Вариантов было не так уж и много. Рассказать все родителям или попробовать справиться самому.
Первое не хотелось делать жутко, до дрожи. Во втором варианте уживались страх и – то возникающая, то снова исчезающая и почти безрассудная тяга доказать неведомому злу, что он способен постоять за себя.
Илья брел как в тумане, куда-то сворачивая, блуждая во дворах, переходя неширокие улицы где придется, один раз едва не угодив под машину. Он не знал, куда направляется, но точно не хотел идти домой. Троицу расплата настигла именно дома, причем Жанну – уже засветло. Возможно, он сам до сих пор цел и невредим именно потому, что вовремя покинул квартиру…
Илью вернули в чувство первые капли дождя. Он посмотрел по сторонам, отыскивая убежище; улыбнулся – скупо, безрадостно. Бездумное шатание привело его к недостроенному и бесповоротно заброшенному торговому павильону на выезде из города.
Около трех лет назад их компания обустроила здесь подобие штаб-квартиры. Не обошлось без стычек с другими положившими глаз на недострой, но безжалостность Жанны при поддержке остальных сделали свое дело.
Правда, в последнее время они приходили сюда все реже. А сейчас Илья осознал, что их четверка вряд ли будет прежней. Что все поменялось – навсегда и безвозвратно. Поменяли они сами – глупо, жестоко, не задумываясь ни о чем…
Он всхлипнул, еще раз, еще… Потом заплакал, не пытаясь сдержать слезы, и пошел ко входу в павильон. Он не знал, чего хочет больше: укрыться от дождя или побыть в прошлом. Пусть так, пусть недолго.
Небольшой торговый зал встретил привычным полумраком. Во время недолгой, но яростной войны за недострой три из четырех окон были разбиты, а потом заделаны фанерой и полиэтиленом. Раньше компания разгоняла полумрак светом фонариков и полудюжины свечей, а иногда, под настроение и по возможности – костром, который разжигали в центре помещения.
Илья вытер слезы, включил фонарик на телефоне. Пятно света пробежало по грязному бетонному полу, осветило дальний угол. Старый, не раскладывающийся диван-книжка и донельзя обшарпанное, но еще крепкое кресло-качалка – любимое место Жанны – стояли там же, где и раньше.
– Простите меня…
Покаянный шепот всколыхнул угрюмую тишину и растворился в ней без остатка.
Шорох за спиной!
Ужас еще не успел раскромсать сознание, а Илья уже шарахнулся прочь.
Прыжок, другой.
Он поспешно развернулся лицом к источнику звука. Луч фонарика заполошно рванулся вперед, отыскивая – кто, что. В воображении ожили забрызганный кровью халат, бугристая голова, хищно скрюченные пальцы.
– Пшел, су… – набирающий силу крик стремительно погас, – …ка. Э-э, ты кто?
Попавшее в пятно света и застывшее в причудливой позе обнаженное существо не двигалось, давая рассмотреть себя. Оно было тщедушным, не больше средней собаки, но причислять его к животным Илья бы не стал. Руки-ноги-тело выглядели скорее человеческими, и в то же время – в них имелось что-то странное, несуразное…
Скоро он понял, в чем дело.
Метрах в трех от него сидел уродец. Его левая нога росла из впалого живота, начинаясь там, где должен был быть пупок. Он, правда, никуда не исчез: торчал выше, рядом с правым соском. В глаза бросалось колено – размером с крупный помидор, огромное для такой худой, по-паучьи длинной ноги. На плоской, словно расплющенной стопе было всего два пальца.
Правая нога росла, откуда полагается. Но голень выглядела так, как будто ее переломали в двух местах и перелом не успел срастись. Три недостающих пальца с правой стопы перебрались на левую, нависая верхним рядом.
Гениталий Илья не заметил, но под кожей паха лениво ерзало-пульсировало что-то бугристое, округлое: как будто потревоженное в спячке.
Грудная клетка съехала вправо, и на ее месте перекошенным частоколом выпирали тонкие ребра. Левое плечо смотрело вверх, правое – вниз, и вдобавок сильно выдавалось вперед. Худющие руки висели плетьми. Правая была на треть короче и росла из подключичной впадины. Тонкие, неожиданно изящные кисти не имели никакого изъяна, разве что левая смотрела ладонью вперед, как при вывихнутом запястье.
Под бледной кожей костяными желваками упруго выпирали ключицы. На кривой длинной шее с пугающе острым выступом сместившегося вниз кадыка сидела круглая, безволосая и неестественно большая для такого тела голова.
Но самым жутким было лицо уродца.
«Глазки – врозь, зубки – врозь», – вспомнил Илья, невольно скривившись от отвращения. Увиденное исчерпывающе описывалось одним словом: мешанина. Будто лицо было подобием кубика Рубика, который старательно перекрутили, как можно затейливее поменяв местами рот, глаза, нос и все остальное.
Но этим не обошлось: черты лица сильно исказились, став похожими на отражение в кривом зеркале.
– Ле… лепила, – произнес Илья. – Только п-подойди, су… сука…
Тварь спокойно наблюдала за ним обоими глазами: узким, расположившимся там, где обычно бывает переносица, и вторым – чрезмерно выпуклым, размером с крупную сливу, торчащим на месте левой щеки.
Илья поймал взгляд нижнего глаза, и хотел сказать что-нибудь еще, громче, с угрозой… Но вдруг осознал: желание сопротивляться тает сосулькой в кипятке. Лепила гипнотизировал его, подчинял своей воле.
Шажок назад дался Илье с диким трудом, а отвести взгляд не получилось вовсе. На второй шажок сил уже не осталось, и он опустился на колени, безвольно завалился на спину.
Лепила нагнулся, опираясь на все конечности, и направился к нему. Расхлябанно, напоминая увечного паука, и ни на миг не выпуская из вида.
– Уйди… – с ужасом прошептал Илья. Голосовые связки еще слушались, но кричать уже не получалось.
Уродец приближался. Осталось четыре шага, три… Обезображенное лицо Лепилы не выражало никаких эмоций. Илья где-то читал, что такие лица бывают у тех, кому предстоит сделать что-то насквозь обыденное, привычное. Или же тварь просто не могла испытывать никаких чувств.
«Не врагом и не другом, воздавай по заслугам», – всплыло в голове. Уродец добрался до него, приблизив голову вплотную к лицу Ильи. Глаз еще больше вылез из орбиты, взгляд давил, словно хотел заглянуть в душу и понять, какой кары заслуживает очередная жертва…
Илья ждал, что Лепила примется за его лицо, но ошибся. Пах ощутил прикосновение холодной ладошки, уродец начал задирать футболку, обнажая живот.
Пошевелиться было невозможно, и Илья выл – уже беззвучно, исступленно желая проснуться. Лепила управился быстро, задрав футболку до солнечного сплетения. Кончики пальцев скользнули по животу, будто примеряясь, – а потом уродец плавно надавил, и плоть Ильи отозвалась несильной болью.
Рука Лепилы прошла сквозь кожу, мышцы, добралась до внутренностей. Илья ощущал, как ладошка хозяйничает в кишечнике, но мучений не было, словно взгляд снижал боль до терпимой…
Пальцы короткой руки нырнули под подбородок, изувечив голосовые связки в несколько скупых, выверенных движений.
Пятерня добралась до позвоночника, замерла… А потом – сдавила его. Илья услышал короткий, негромкий хруст, и перестал чувствовать свое тело.
Лепила неспешно, аккуратно вынул руку из живота. Короткая рука переползла с горла – на глаза: смежила веки. Открыть их Илья не смог. Веки словно склеились, спаялись намертво…
Спустя секунду он услышал звуки быстро удаляющихся шагов: Лепила закончил воздавать по заслугам и уходил.
Телефон в неподвижной ладони завибрировал, первые аккорды «Колобка» «Алисы» раскрошили тишину. Илья слушал мелодию и не знал, чего ему хочется больше: дождаться помощи или умереть как можно быстрее…
Вадим Громов
Моя вторая половина
Нынешней ночью – первой ноябрьской ночью, когда идет снег, густой и пухлый, как выпотрошенное ватное одеяло, – пропадает Рита из пятой палаты. Маргарита Зайцева по прозвищу Русалочка.
Об исчезновении Риты мы узнаем утром: в коридоре ярко горит свет и суетятся медсестры. Обычно эти тетки невозмутимее бытовых приборов – от кулера, стоящего в углу нашей палаты, и то проще дождаться эмоций, чем от любой из них. Мы выходим посмотреть, что стряслось. Даже когда несколько дней тому назад Левку по прозвищу Статуя, давно неподвижного, но теперь особенно тихого, с головой накрыли белой простыней и увезли на каталке по подземному переходу во флигель, все было спокойно. Совершенно спокойно. Буднично. А тут вдруг забегали.
По распорядку дня, который здесь именуется «режимом жизнедеятельности», шесть сорок пять – время «постепенного подъема», когда в палатах еще горят ночники, двери прикрыты, а коридор освещен тускло-синими лампами, из-за чего голубые обои в белых цветах похожи на дно замерзшей реки с мертвыми водорослями, а яркие рисунки детей из отделения реабилитации, развешанные зачем-то и у нас, выглядят как замороженные ошметки мяса. Я достаю из кармана пижамы смартфон и смотрю время: шесть сорок одна. Однако же двери распахнуты, и всюду полная иллюминация.
– Катя, Люда! Марш в палату!
– А что случилось, Светлана Алексеевна?
– Катя, убери телефон сейчас же!
Я навожу камеру смартфона на полное, аляповато накрашенное лицо старшей медсестры и фотографирую. Снимок получается жуткий: распахнутый черный рот, кроваво-красные губы, выпученные глаза под пунктирно прорисованными бровями, на заднем плане – рисунок кого-то из малышни, веселая осьминожка, не попавшая в фокус и оттого здорово смахивающая на человеческую голову со щупальцами. Я улыбаюсь, придумывая к этой фотке самые убойные теги для «Инстаграма». У нас с Лю общий аккаунт и уже несколько тысяч подписчиков. Народ привык, что мы постим чего-нибудь эдакое. Самый хайп был, когда мы только приехали в интернат. Я тогда придумала сделать целую серию фоток про его обитателей. Рассказать про каждого пациента с первого этажа нашего отделения. Народ на наш «Инстаграм» валил толпами, а смартфон у нас с боем изымали три медсестры. Мы потом его выкрали из директорского кабинета. У нас с Лю коэффициент интеллекта – двести шестьдесят семь пунктов на двоих. Для заведения, которое называется «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей» – это самая настоящая катастрофа. Медсестры постоянно жалуются, что мы слишком много ходим, слишком много думаем и слишком много говорим. А главное – все сливаем в Сеть. Однажды директриса даже грозилась купить глушилку для Интернета, хотя вряд ли всерьез: медсестры тоже любят зависать онлайн.
Панику подняла молоденькая медсестра. Новенькая. Говорит, будто Русалочку, еще вчера вполне бодрую, куда-то увезли санитары и больше не привозили обратно. Светлана Алексеевна ругается на нее и грозит увольнением за то, что та поднимает панику без повода.
– С чего вы взяли, что она пропала? – кричит на новенькую старшая медсестра. – Да кому она, в самом деле, нужна?
И впрямь – кому нужна Рита Зайцева? Ребенок-отказник, как почти все здесь. В свои девять лет полная и смешливая Рита даже читать не умеет. Зато очень любит диснеевский мультик «Русалочка» и игрушечных рыбок. У Риты сиреномелия. Это значит, что ее ноги с рождения сросшиеся от таза до пят наподобие русалочьего хвоста. Самостоятельно Рита способна лишь медленно ползать, а в туалет она ходит только при помощи катетера.
Наверху, слышно, тоже суетятся, и кого-то там разбудили. Оттуда доносится резкий крик, который мы уже не раз слышали, но до сих пор не знаем, кто является его источником: на второй этаж отделения строго запрещено ходить всем, кроме персонала и посетителей из числа родственников (хотя таких, кажется, вовсе нет). Этот голос не похож на детский, да что там, вообще на человеческий. Монотонный и оглушительный скрип на одной ноте. Будто бесконечно поворачиваются проржавевшие петли огромных ворот. Нам с Лю почему-то всегда делается не по себе от этого звука, и мы возвращаемся в палату, закрывая за собой дверь.
Полдень, снег прекратился. Мы стоим на краю футбольной площадки. Несколько цепочек следов пересекают поле по диагонали. Небольшие отметины с ямками каблуков – директриса, миниатюрная энергичная дама, срезала путь от автостоянки до административного крыла. Большие тяжелые следы с пришаркиваниями – дворник, здоровенный глухонемой из бывших воспитанников интерната, шел расчищать дорожку к центральному входу. Я смотрю на следы и думаю о Рите.
– Как ты думаешь, куда ее перевели? Тут только одно отделение для таких, как она, – говорю я сестре.
– А нам вообще какое дело? – резонно замечает Лю. – Пошли лучше погуляем, пока можно.
«Пока можно» – это до половины второго, когда у детей из отделения реабилитации заканчиваются уроки. Нам с Лю запрещено попадаться тем детям на глаза. Считается, что это может вызвать у них «психическую травму», а они и без того эмоционально нестабильны. В первые дни после прибытия в интернат мы с Лю со скандалом требовали, чтобы нас поместили к «нормальным». То есть – в отделение реабилитации, где воспитанники сами передвигаются, сами себя обслуживают, посещают занятия и, если уж совсем честно, выглядят, ну как сказать… более-менее привычно для обывателя. То, что мы одним своим видом можем вызвать шок у всего отделения реабилитации, нам подробно объяснила директриса собственной персоной. «А мы что, не люди?» – огрызалась тогда Лю. «Вы хорошие девочки, но у вас слишком необычная внешность, вы должны понимать…» – юлила директриса. «То есть мы слишком фрики, – фыркнула я. – Ясно-понятно». И нас с Лю оставили в отделении милосердия. Правда, разместили в небольшой отдельной палате, где мы можем спокойно смотреть уроки по ноутбуку и выполнять домашние задания. У нас дистанционное обучение. Мы с Лю должны хорошо учиться, чтобы поступить в вуз. Хотим стать ветеринарами. Мы обе очень любим животных. Животным безразлично, как мы выглядим. Когда мы ходили в обычную школу, то посещали кружок животноводства, совмещенный с приютом для бездомных животных. Коровы и козы в небольшом хлеву, многочисленные кошки и собаки из приюта нам всегда были рады. Чего нельзя было сказать об одноклассниках. Хотя мы с Лю давно научились не обращать внимания на чужое удивление, отвращение или неприязнь. Однако из школы нас в конце концов все-таки выперли – точнее, спустя полтора года перевели обратно на домашнее обучение. Мы привлекали к себе слишком много «нездорового внимания» (по словам учителей) и «мешали учебному процессу». В школу время от времени приезжали журналисты, телевидение и все такое. Рассказывали про «равные возможности». Когда лавочку с «равными возможностями» прикрыли, это, похоже, стало для наших родителей последней каплей, и они развелись. Теперь мама в Чехии, папа в Соединенных Штатах. А мы – здесь. В интернате для детей с отклонениями. «Хорошее питание, постоянное медицинское наблюдение – и к тому же это совсем ненадолго!» Каждый из родителей звонит нам по скайпу пару раз в неделю и обещает забрать к себе, как только обустроится. Обустраиваются они уже не первый месяц. Отдыхают от своей «героической миссии» (выражение журналистов), которую, надо отдать им должное, тащили столько лет.
«Все эти годы они мечтали сбагрить нас подальше. Они нас сюда просто выбросили, когда мы их вконец достали», – сказала недавно Лю после очередного сеанса связи с предками, и мне – пожалуй, впервые в жизни – захотелось ее крепко стукнуть. Но я не стала этого делать: почувствовала, что мне тяжело дышать, и поняла, что Лю сейчас заплачет.
Мы пересекаем футбольную площадку. Под снегом – еще совсем живая, сочная зеленая трава, она топорщится в лунках наших следов, тщетно тянется к бледному морозному солнцу, она очень скользкая, и пару раз мы с Лю чуть не падаем. Взмахиваем руками – держать равновесие неудобно, потому что на нас обычная, всего с двумя рукавами, не перешитая куртка, ярко-красная, мне она очень нравится, хотя Лю предпочла бы что-нибудь поскромнее. Я вообще люблю яркие наряды, бижутерию, мейк-ап. Вот и сегодня Лю вынуждена была скучать, пока я рисовала стрелки и красила губы перед зеркалом. У меня светло-карие в прозелень – ореховые – глаза и волнистые, до пояса, темные волосы. У Лю – все то же самое, но свои волосы она давно попросила обстричь до плеч. Лю равнодушна к прическам, нарядам и макияжу. И вообще застенчива: я долго уговаривала ее на «Инстаграм». Все подобные затеи обычно принадлежат мне, недаром родители говорят, что у меня «шило в заднице». Зато Лю хорошо чувствует собеседников – сразу понимает, кто врет, а кто говорит правду. Я к сестре прислушиваюсь, она отлично разбирается в людях.
Мы входим в заросший парк. Беспорядочные растопыренные кусты, низко склоненные ветви. Мы нагибаемся, но все равно задеваем их, и снег сыплется нам на головы, застревает в волосах, тонкими мертвецки-ледяными пальцами пробирается за шиворот. Здесь почти никто не гуляет. Детей сюда вообще не пускают, даже тех, кто может нормально передвигаться и изредка под надзором воспитателя пинает мяч на площадке. Парк – это просто зона отчуждения. Ощетинившаяся голыми ветвями ограда, что надежно скрывает интернат от посторонних глаз. Нам в парк ходить тоже запрещено, но мы, разумеется, плюем на запреты. Нам здесь нравится: тихо и безлюдно, как на другой планете, а спрятанная в зарослях подстанция таинственно гудит, будто космический корабль. Мы с Лю иногда фантазируем, будто интернат – научная база вроде «Зоны 51», а дети-инвалиды – пришельцы с разных планет.
Ноги по щиколотки утопают в присыпанной снегом гнилой листве. Я осторожно переставляю правую ногу, Лю – левую. Главный врач отделения Виталий Иванович Симаков не перестает удивляться нашей координации. Мы не просто ходим – мы умеем бегать, танцевать, кататься на велосипеде, играть на пианино и делать стойку на руках. С четырьмя руками это, кстати, довольно легко. Родители, следует отдать им должное, вложили в нас уйму сил, времени и денег. Элитные медицинские и реабилитационные центры, лучшие физиотерапевты. Родители решили – раз уж им так «повезло» с нами, значит, следует стать счастливыми всем назло, с пафосом, напоказ. Мама с папой всю жизнь все делают напоказ – поженились не любя, лишь потому, что пришла пора создать семью, вознамерились завести детей, потому что так положено, и, следуя моде на «естественность», мама пришла на УЗИ на таком сроке, когда уже поздно было что-то предпринимать. Мы появились на свет, и свой новый долг родители взвалили на себя с истерическим азартом. «О, что вы, у нас совершенно, совершенно нормальная семья!» – выразительно говорила мама на камеру одного из центральных телеканалов. Только ночами мы слышали, что в нашей семье происходит на самом деле – бесконечные скандалы за стенкой.
Мы с Лю решили быть счастливыми просто так – пусть даже в интернате.
Чтобы подойти к забору, надо подняться на пригорок. Подъем не крутой, но долгий. Мы идем, и я начинаю чувствовать нехватку кислорода. Шагать все труднее, голова становится тяжелой, накатывает мучительная непрестанная зевота. Лю таращит глаза и хватает ртом воздух.
– Ты что, опять забыла кислородный баллончик? – напускаюсь я на нее.
– За… была. А ты… почему не напомнила?
– Я тоже забыла. Блин. Ну что, давай тогда назад поворачивать.
– Не… погоди. Отдохнем и пойдем дальше.
Мы садимся прямо в снег и переводим дух. Я глубоко и старательно дышу – за себя и за Лю. Вскоре нам становится легче. У Лю сильный сколиоз, и с каждым годом позвоночник искривляется все больше, что очень мешает ее легким. Врачи говорят, что сейчас ее легкие функционируют меньше чем наполовину, и дальше может стать только хуже, но делать операцию на позвоночнике Лю очень опасно: большая вероятность, что ее мы не переживем. Поэтому у нас в палате запас кислородных баллончиков, на всякий случай. И нам регулярно нужен осмотр врача. Когда Лю не хватает воздуха, удушье чувствую и я. Хотя мне, по словам докторов, повезло больше: с моим позвоночником все в порядке, к тому же именно я контролирую наши нижние внутренние органы. У каждой из нас по две руки, свое сердце, пара легких и желудок с поджелудочной, но общие печень, несколько ребер, кишечник, почки и все органы малого таза. Наши позвоночники сходятся в один повыше крестца. Я контролирую правую ногу, Лю – левую. Мы – сиамские близнецы-омфалопаги. Такие, как мы, обычно рождаются мертвыми или живут не дольше нескольких дней после рождения.
Мы с Лю живем на свете уже шестнадцать лет. Подобных нам, переживших детство, в мире лишь единицы. Разделить нас хирургически нельзя: слишком много общих органов, почти стопроцентная вероятность, что погибнет, по крайней мере, одна из нас. Поэтому мы просто живем – как получается, а получается вполне неплохо. И дальше собираемся в том же духе.
Солнце скрылось. Мне на правую руку, продетую в рукав общей куртки, падает несколько снежинок.
– Ты как? – спрашиваю я у Лю. Сама я удушья больше не ощущаю.
– Нормально.
Мы поднимаемся и идем дальше. Перед нами черный металлический забор с частыми прутьями, он ограждает территорию интерната. За забором пустынный пригород: узкий тротуар под нетронутым снегом, дорога с изредка прошмыгивающими автомобилями, автобусная остановка, пустырь, заброшенная промзона, гаражи, вдалеке – высотные новостройки, яркие, великолепные, именно на них мы и приходим посмотреть. Нам хочется туда, в жизнь яркую и новую, как те дома. Особенно хороши они в сумерках: вертикальные гирлянды празднично-золотистых огней. В нашем «Инстаграме» уже несколько вариаций этого пейзажа. Высотки хороши и сейчас, за вуалью редкого снега. Я просовываю руку со смартфоном сквозь прутья и делаю снимок. И чуть не роняю гаджет, чувствуя, как вздрагивает Лю.
Парень-велосипедист. Остановился на некотором отдалении и смотрит, разинув рот. Именно вот так обычно пялятся на нас все, кроме родителей и медперсонала.
А мы смотрим на него. Что он сейчас сделает? Сфоткает нас? Испуганно отведет взгляд и поскорее поколесит прочь?
Парень подходит ближе, ведя рядом с собой велосипед.
– Привет…
Наш ровесник. Высокий и стройный, светлые волосы выбиваются из-под шапки. Лицо – картинка, даже багровые прыщи на подбородке его не портят. Обалденно красивый парень. Я кошусь на Лю: та молча таращится на незнакомца так, будто это у него две головы и четыре руки, а не у нас. Я ее понимаю. После наших соседей по отделению любой человек симпатичной наружности покажется богом красоты и гармонии. Я навожу камеру смартфона на парня и смотрю в его удивленно расширенные глаза на экране.
– Ну, привет, – говорю я. – Что-то спросить хочешь? Спрашивай, не стесняйся.
Парень действительно стесняется, краснеет. Но все-таки спрашивает:
– Вы Катемила?
Так нас зовут в «Инстаграме». Моя придумка. Катерина+Людмила. Часть от каждой из нас, и получается что-то странное, но вполне цельное. Прямо как в жизни.
– Ага. Автограф хочешь попросить?
– Ну… вообще-то не… А… кто из вас кто? Меня Дима зовут.
– Люда, – говорит Лю.
Я наконец опускаю смартфон и смотрю прямо в глаза парню, ощущая нечто новое, непонятное: мне кажется, будто изрядная часть меня тут лишняя. И эта часть находится слева.
– Катя.
В следующие полчаса мы забываем о том, что нам холодно без шапок и в незастегнутой куртке. Диме семнадцать, он недавно приехал с родителями из другого города, в следующем году будет поступать в вуз, хочет стать программистом, у него дома три кошки, морская свинка и попугай, список его любимых музыкальных групп точно совпадает с нашим, и живет он в одной из тех ярких новостроек, теперь скрытых завесой снегопада.
– Как вы вообще тут оказались? – Его рука приближается к прутьям ограды и тут же отдергивается, будто это не забор, а клетка в зоопарке.
Лю молчит. Я нехотя рассказываю про развод родителей.
– Зачем вас сюда-то? Тут же одни дебилы и уроды всякие, – простодушно замечает Дима и сразу краснеет до корней волос. – Вот ведь я осел. Извините, а…
– Да забей, – говорит Лю. – Мы привыкли.
– Откуда ты знаешь, что дебилы и уроды? – спрашиваю я.
– Одноклассник с друганами сюда лазил. Они сталкерят по всяким закрытым объектам. Говорит, видел в окно мутантов с отростками из пуза, с двумя головами и вообще без лица.
– Ну, без лица – это твой одноклассник выдумал, – говорю я. – Мы уже почти два месяца тут, а таких не видели. А с двумя головами – это Таша и Таня, тоже сиамские близнецы. С отростками – это, наверное, Сережа, у него паразитарный близнец…
– Чего-чего? – теперь наш новый знакомый уже не краснеет, а бледнеет, аж до зелени.
– Забей, – говорит Лю.
Вернувшись в интернат, мы узнаем, что место Русалочки уже занято – теперь на ее койке новенький, мальчик с клешнями вместо рук и ног. Точнее, это не клешни, а по два больших пальца на каждой непропорционально короткой конечности. Называется этродактилия. Выглядит очень бесполезно и… уродливо. Мне неприятно произносить это слово даже мысленно, мы с Лю вообще стараемся никогда его не использовать – но я вспоминаю Димины руки, как он махал нам на прощание. Удлиненные ладони, крепкие красивые пальцы. Дима нашел нас в соцсети и теперь шлет нам дурацкие смешные картинки в личные сообщения. У Димы любящие родители, домашние питомцы и куча друзей. А у мальчика с клешнями нет никого. Скорее всего, от него отказались прямо в роддоме. Если и он вдруг куда-то исчезнет – никто не будет переживать. Разве что в каких-нибудь документах отметят…
Документация.
Это слово вертится у меня в голове спустя несколько дней, когда о Рите-Русалочке, кажется, уже все позабыли. Почему-то загадочный перевод в другое отделение (какое? отделений тут только два – реабилитации и милосердия) не дает мне покоя. Зудит и звенит, как спираль накаливания в лампе, которой суждено скоро перегореть.
– Очень странно, – говорю я. – Не может человек вот так взять и исчезнуть. Тут ведь ведется какой-то учет.
Лю понимает меня с полуслова. Неудивительно: наши нервные системы пересекаются.
– Надо посмотреть документы. Все это действительно как-то… непонятно.
– Давай залезем в их базу данных, – предлагаю я. – Тут наверняка есть локальная сеть.
Мы думали, что придется взламывать пароли, и собирались проконсультироваться на этот счет с Димой («Каждый порядочный программист должен быть немножко хакер», – похвалился он однажды посреди наших переписок в соцсети), но все оказывается гораздо проще. В кабинете старшей медсестры стоит компьютер. Мы запихиваем жвачку в замочную скважину и ждем, когда Светлана Алексеевна куда-нибудь отлучится. Кабинет она всегда закрывает на ключ. А тут у нее не получается. В конце концов она просто плотно прикрывает дверь, надежности ради припечатав ее толчком могучего бедра, и торопливо уходит. Мы пробираемся в кабинет. Если нас тут застукают, страшно представить, как нам влетит.
К счастью, никаких паролей на компьютере нет. Папки со списками воспитанников интерната мы находим быстро. Лю вставляет флэшку в порт, я щелкаю мышкой, копируя все папки подряд. Потом будем разбираться.
Едва выйдя из кабинета, мы натыкаемся на старшую медсестру.
– Вы что тут делаете? – пунктирно нарисованные брови Светланы Алексеевны ползут на лоб.
– А мы вас искали, – ляпаю я первое, что приходит в голову.
– Ну чего вам, говорите скорее, у меня дел полно.
– Мы хотели спросить, куда же все-таки делась Русалочка, – выдает Лю.
– Так… – старшая медсестра явно собирается с мыслями. – Девочки, не лезьте не в свое дело. Риты больше нет.
– Если она умерла, то где и когда? – Лю внимательно смотрит Светлане Алексеевне в лицо.
– Риты больше нет, – повторяет Светлана Алексеевна. – Все, хватит, не транжирьте мое время.
– Она чего-то здорово недоговаривает, – почему-то шепотом произносит Лю, хотя мы уже в своей палате, одиночной-на-двоих. Я верю Лю. Она отлично чувствует собеседников.
– Сейчас посмотрим. – Я открываю файлы с флэшки.
Русалочка в списке умерших. Ничего необычного. Большинство тех, кто населяет отделение милосердия, не доживают до совершеннолетия. Первое, к чему нам пришлось тут привыкнуть, – время от времени кого-нибудь увозят на каталке, накрытого простыней. При этом большинство здешних пациентов, даже увидев такое, на свое счастье из-за умственной отсталости не понимает, что к чему. А мы… Дистанцироваться – вот хорошее слово. Мы приучили себя дистанцироваться.
Но ведь Рита-то, по словам новенькой медсестры, была жива. И кстати – ту медсестру, похоже, уволили. Больше мы ее не видим в отделении. Все это очень подозрительно.
На ум мне приходят какие-то жуткие и идиотские вещи. Кто-то в интернате ворует детей, торгует органами. Дикий бред, конечно. Для большинства пациентов тут прожить очередной день и не умереть – уже победа. По словам врачей, у Риты была всего одна почка, и та недоразвитая.
В отделении милосердия мало кто с кем дружит. Для дружбы нужна хоть какая-то коммуникация, но многие здесь вообще не способны понимать других и выражать свои мысли. Большинство тут – словно единственные обитатели крохотных островов, затерянных посреди темного мглистого океана. На всю жизнь – Робинзоны, которым даже Пятницу не суждено встретить. Мы с Лю поначалу, как угодили сюда, пытались предположить, о чем может думать полностью парализованный с рождения слепой и глухой человек с крайней степенью умственной отсталости. «Овощ». Здесь таких только на первом этаже больше двух десятков. Лежат на кроватях, медсестры их кормят – некоторых с помощью зонда – и переворачивают, чтобы не было пролежней. Возможно, парализованные слепоглухонемые живут внутри себя, в своей голове, в собственном, непонятном нам мире с другими законами. Может – кто знает – они умеют создавать для себя множество увлекательных миров, иначе как же они вообще способны жить годами. Мы с Лю ложились на кровать, затыкали уши, зажмуривали глаза и долго лежали без движения, пытаясь представить кромешно-одинокую жизнь в бесконечной черноте. Не получалось. Хотя бы потому, что мы всегда чувствуем друг друга. Дыхание. Сердцебиение. Даже, кажется, отголоски эмоций. Мы с Лю никогда не бываем одиноки, нам невозможно представить, что это такое.
Те, кто может общаться, все-таки, случается, бывают связаны если не дружбой, то хотя бы симпатией, совместным провождением времени. Саша, с рождения безрукий и безногий, веселый восьмилетний говорун, обожает всех и каждого, кто согласен с ним поболтать. Сережа, застенчивый подросток с шокирующей наружностью – из его живота торчат деформированные руки и ноги недоразвитого брата-близнеца, неоперабельно вросшего туда еще в утробе матери, – любит посидеть рядом с Таней, у нее синдром Протея, она почти не способна передвигаться, потому что одна нога у нее худенькая и короткая, а другая – огромная, раздутая до слоновьих размеров, а половина лица скрыта под тяжелыми оплывшими глыбами кожных наростов. А Рита-Русалочка всегда радовалась нам с Лю. Махала нам толстой ручкой и показывала своих игрушечных рыбок.
Утро. Снова снежное. Природа за окнами крутит однообразное черно-белое кино – медленный снегопад, серые сумерки, воронье под окнами. На скрежещущее карканье вскоре начинает отзываться кто-то со второго этажа – своим невыносимым скрипучим воем. Многие пациенты в отделении милосердия никогда не произнесут ни слова. Все, на что у них хватает умственных способностей, – гуканье, хныканье или крик. Некоторые и смеяться не умеют. Вообще. Так, наверное, нельзя даже думать, но коровы, кошки и собаки в кружке животноводства умнее многих воспитанников интерната… Когда я однажды сказанула такое, Лю молча отвесила мне легкий подзатыльник. Всерьез мы никогда друг друга не стукаем, ведь каждая из нас ощущает отголоски боли, если что-то болит у другой. Чужая боль – почти как собственная.
Где-то не столь далеко отсюда, в нескольких километрах махрово-серого, будто пыльного снегопада, за стенами ярких новостроек люди принимают душ, готовят завтрак, между делом поглядывают в телик или в смартфон, одеваются, спешат на работу. В интернате – во всяком случае, в отделении милосердия – никто никуда не спешит. Медсестры уже развезли завтрак (в основном протертое питание) и накормили тех, кто не может есть сам. Через некоторое время придут психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели к тем, кто способен на какие-то контакты с внешним миром, и массажисты, доктора – к тем, кто способен лишь поддерживать жизнь в своем теле.
Мы с Лю идем по длинному коридору отделения в поисках немногих из старожилов, способных думать, а главное, внятно разговаривать. Заглядываем в палаты. Мы хотим выяснить, пропадали ли тут пациенты раньше.
Вот Миша по прозвищу Орангутанг, ему семнадцать и у него микроцефалия: крошечная плоская черепная коробка, грубо прилепленная к большому мужскому лицу. Совсем скоро Мишу переведут во взрослый дом инвалидов, а пока он, в своем развитии так и не продвинувшийся дальше четырехлетки, сидит на полу и играет в кубики с пятилетним Вовой, у которого три ноги: как и у Сережи, у него паразитарный брат-близнец, только вросший не в живот, а в спину, в позвоночник. Вова умный для своих лет, но он слишком мал, чтобы отвечать на наши вопросы. Позади Вовы сидят новенькие, близнецы-краниопаги, сросшиеся головами, их имен мы пока не знаем, лишь запомнили про них несколько любопытных особенностей: у них есть общие структуры мозга, они видят через глаза друг друга, и ими очень интересуются ученые. «Птица», – говорит один из близнецов, глядя в окно. «Синичка», – уточняет другой, сидя спиной к окну и рассматривая игрушечный автомобиль.
В другой палате возле окна отрешенно стоят Таша и Таня, они выглядят как тоненькая четырнадцатилетняя девочка с двумя головами. Таша и Таня дицефалы: каждая из них контролирует свою половину тела. Они тоже неглупые, но совсем дикие, заброшенные, насквозь сиротские, и нас они сильно недолюбливают: считают выпендрежницами. Еще они ненавидят, когда их фотографируют, хотя чего такого, не понимаю, на фоне своих соседей эти близняшки почти красавицы. Однажды Таша (или Таня?) чуть не разбила мне смартфон.
Чье фото действительно потянуло бы на шок-контент – так это фото Гали Резановой. У Гали синдром Тричера-Коллинза, или челюстно-лицевой дизостоз: когда почти нет лицевых костей. У Гали недостает верхней челюсти, скул и еще много чего, и ее лицо выглядит как скример из Сети: скошенные книзу глаза на месте щек, бесформенный нос на лбу, вечно открытый рот и высунутый язык. Дышит Галя прямо через трахею, у нее в шее разрез и специальная трубка. Говорить она, конечно, не может, зато знает азбуку глухонемых. Но мы не знаем.
И потому идем дальше.
А вот и тот, кто нам нужен. Костя по прозвищу Гуру. Полнейшее впечатление, будто ему не тринадцать, а все сто три года. У Кости прогерия – преждевременное старение. Но свое прозвище Костя получил не за внешность маленького старичка (большая голова в седоватом пушке, лицо в глубоких морщинах, остренький нос-клювик, с которого едва не сваливаются очки с толстенными линзами), а за ум. Правда, никаких хлопот персоналу, в отличие о нас, Костя не доставляет. Он постоянно читает книги, которые ему приносят волонтеры из благотворительного фонда. У Кости цель: прочитать все шедевры мировой классики. «Успеть прочитать», – порой уточняет он с улыбкой, такой спокойной и ироничной, будто он и впрямь прожил жизнь длиною в век.
– Да, пациенты пропадали и раньше. – Костя отвечает на наши вопросы, то и дело поправляя тяжелые очки сморщенными трясущимися старческими руками. – Их вдруг увозили куда-то, а куда – никто не говорит. Нет, в полицию никто не обращался. У интерната очень хорошие спонсоры. В том числе зарубежные. Директриса боится, что после любого скандала спонсоры откажутся помогать интернату.
Говорит он тихо, без выражения, будто читает с невидимого нам экрана, подвешенного у него перед глазами.
– А может, кто-нибудь из младшего персонала пытался выяснять? – неуверенно предполагаю я. – Быть такого не может, что всем все равно.
– У интерната очень хорошие спонсоры, – повторяет Костя мне по слогам, как маленькой. – Здесь все повязаны. Видели, на каких машинах приезжает старший персонал? Тех, кто лезет не в свое дело, увольняют сразу. Это ведь не простой интернат. Слишком много воспитанников с редкими отклонениями…
– Как ты думаешь, Гуру, куда деваются пропавшие? – спрашивает Лю.
– Не знаю, – Костя смотрит на нас большими круглыми глазами цвета жидкого чая, немного грустными и потусторонне спокойными. – Но я уверен, их нет в живых.
– Ты все-таки что-то знаешь… вернее, о чем-то догадываешься, – замечает Лю.
– Их куда-то специально забирают. И руководство в курсе этих дел.
– А кто именно этим занимается? – Я вспоминаю всех, кто регулярно приходит в отделение. Медперсонал, воспитатели. Довольно много народу вообще-то. Кто из них наиболее подозрителен? Мне сразу начинают казаться подозрительными все.
– Ты сам кого-нибудь подозреваешь?
Костя долго молчит.
– Нет. У меня недостаточно данных, чтобы подозревать кого-то.
– А ты знаешь, почему на второй этаж никого не пускают? – спрашивает Лю.
– Знаю, – медленно кивает Костя. – Потому что там пациенты с синдромом Нагера. И с синдромом Миллера. И со всякими другими похожими синдромами… Неподготовленным людям туда лучше не ходить. Страшно.
– Да ладно, – отмахиваюсь я. – Страшнее Лизы, что ли?
Вот на Лизу неподготовленным людям действительно лучше не смотреть. У Лизы паразитарный краниопаг – приросшая к голове сестра-близнец без туловища, которая может лишь моргать и улыбаться.
– Гораздо страшнее, – уверяет Костя.
– Там просто люди, – говорю я. – Такие же, как мы. Обычные. Ну, выглядят странновато, ну и что. Здесь все выглядят странновато.
– Не ходите туда, – просит Костя. За его спиной на койке тихо вздыхает Рома. У Ромы фибродисплазия – постоянно разрастающиеся костные образования, в которые превращаются мышцы и сухожилия, и он почти не может двигаться, а лежит только на животе, потому что вся спина у него в костяных гребнях, едва не прорывающих тонкую кожу. Такой же диагноз был у Левки-Статуи. Исправить это нельзя. Здесь вообще ничего нельзя исправить. Можно только жить, как сумеешь.
После обеда нам в личку стучится Дима. После нескончаемых переписок в Сети у меня такое чувство, будто я знаю его уже полжизни. Это чувство теплое, яркое и праздничное, как те далекие огни многоэтажек, я берегу его, не говорю о нем даже сестре – кажется, впервые я о чем-то ей не говорю, но Лю наверняка все знает и, похоже, ощущает то же самое. И тоже не говорит мне ничего. Это забавно.
«Хотите погонять на байке? – пишет Дима. – Мне дружбан одолжил на полдня». Ну как тут отказаться? Мы ни разу в жизни не гоняли на байке. И вряд ли такая возможность еще представится в обозримом будущем. Потому мы быстро одеваемся, Лю без моего напоминания прихватывает кислородный баллончик и маску, главное теперь – благополучно миновать пост проходной. Нас не всякий раз выпускают гулять, когда мы захотим. Но сегодня все складывается удачно.
Дима уже ждет, когда мы подходим к забору. Я смотрю на Диму и улыбаюсь. Какое все-таки красивое существо человек. Обычный здоровый человек.
– Ой, вам же, наверное, нельзя выходить за территорию интерната… Блин, до меня только сейчас дошло.
– Глупости, – решительно говорю я и смотрю на Лю. Она понимает меня без слов. Нам предстоит сложный номер: перелезть через забор. Почти запредельный для нас уровень координации движений. Ну ничего, мы справимся. Я берусь за холодную металлическую трубу ограждения правой рукой, Лю – левой. Я встаю своей ногой на кирпичное основание забора, а Лю закидывает ногу на горизонтальную трубу-перекладину. Снова подтягиваемся, сил не хватает, копья вертикальных элементов забора впиваются нам в живот, но тут Дима просто приподнимает нас и стаскивает на ту сторону. Хорошо, мы худые.
– Ну вы, девчонки, даете.
Лю скептически разглядывает забрызганный грязью мотоцикл.
– Дим, тебе ведь нет восемнадцати. У тебя нет прав.
– Сюда менты редко заглядывают, – смеется он. – Погнали.
Мы с Лю тоже смеемся: похоже, мы, все трое, стоим друг друга. Парень садится за руль, мы пристраиваемся позади, я вцепляюсь в Димину куртку правой рукой, Лю – левой, а свободными руками мы обнимаем друг друга. Честно говоря, страшновато. Даже не столько мне самой: я чувствую, что Лю боится. Ее страх ощущается как легкое онемение с левой стороны моего половинчатого тела. А еще я чувствую ее участившееся сердцебиение.
– Не бойтесь, – весело говорит Дима, будто тоже почувствовав что-то. – Держитесь крепче. Будет прикольно!
Мотоцикл оглушительно заводится, трогается с места. Морозный воздух туго и мягко ударяет в лицо, как огромная подушка – ледяная распоротая подушка, из которой во все стороны летит пух, густой оглушительно-холодный снег, он жалит глаза, попадает в рот, потому что я ору от восторга, как ненормальная. Заборы и промышленные постройки по сторонам мелькают с бешеной скоростью, навстречу раскрывается снежная бездна, мы объезжаем сигналящие нам автомобили, и я замечаю, что у какого-то водилы глаза на лоб лезут при взгляде на нас с сестрой. Почему-то сегодня это не обидно, а только лишь дико смешно.
Мы вылетаем на мост. За слившимся в полупрозрачную ленту решетчатым ограждением видны уходящие в сизо-серую снежную мглу поезда – мерно отстукивающие ритм свободы и путешествий, золотящиеся рядами жилых, домашних окон. Редкие пешеходы, первые рекламные огни. Светофор, горящий зеленым. Начинаются жилые дома, они поворачиваются одним, другим боком и стремительно остаются позади.
Ни с чем не сравнимое ощущение скорости.
Без преувеличения, это один из лучших дней в моей жизни. В нашей с Лю жизни.
Дима заруливает в какой-то переулок. Я снова хохочу, вспоминая ошарашенные лица водителей.
– Представляешь, если где-нибудь видеокамеры установлены, – давится смехом Лю.
– Ну и пофиг, номер все равно замазан, – сообщает Дима. Тут до него доходит, что именно мы имели в виду, и он тоже смеется.
– А ведь мы почти у меня дома, – произносит он вдруг. – Хотите в гости?
– Даже не знаю… – смущается Лю.
Я поднимаю голову: над нами в снежное небо уходят яркие стены жилых многоэтажек. Россыпь окон, в некоторых из которых уже зажглись мягкие огни. Хочу в гости, еще как. Да что там – хочу жить в одной из тех квартир наверху… Я вдруг понимаю, что думаю о себе в единственном числе, и мне становится неловко перед Лю. Согласиться? А если нас увидят Димины родители, что они скажут? Как отреагируют? Ужаснутся? Начнут жалеть?
И пока я раздумываю над ответом, подкрадывается удушье. Сильное. Аж темнеет в глазах. Внезапно мы чуть не падаем, потому что нога Лю подкашивается, а на своей я удержать нас обеих не могу. Мы хватаемся за мотоцикл, я вытаскиваю из кармана куртки кислородный баллончик и маску и сую Лю. Она судорожно дышит, дурнота понемногу отступает. Мы давно привыкли к таким приступам, но именно сейчас мне почему-то становится очень страшно. Я вспоминаю многочисленные предупреждения врачей о том, что из-за кислородного голодания мозг моей сестры может быть однажды серьезно поврежден. Я дышу, дышу изо всех сил. Помогаю ей.
Дима прыгающим пальцем возит по экрану телефона.
– Эй… Давайте скорую вызову?
– Не, не надо, все уже хорошо, – говорит Лю.
– Такое иногда бывает, – успокаиваю я парня. – Ничего особенного. Поехали обратно, а то нас в интернате искать будут.
Обратно мы едем в молчании. Все наше веселье осталось у стен разноцветных многоэтажек. Я почему-то снова думаю о Русалочке. За всю историю медицины никто с сиреномелией не доживал до совершеннолетия. У сиамских близнецов шансов куда больше. Пока мы с сестрой располагаем неплохой перспективой дожить до старости. Если состояние позвоночника и легких Лю не сильно ухудшится.
Поздно вечером мы лежим в кровати и слушаем нескончаемый скрипучий вой, сквозь все перекрытия доносящийся со второго этажа. Сегодня его слышно особенно отчетливо. Что должно происходить с человеком, чтобы он без конца так орал? Пациенты в соседних палатах всегда начинают волноваться из-за этого крика, где-то поблизости слышен плач и шаги медсестер. Даже Вовка-Мумия, мальчик, родившийся без кожи, весь замотанный бинтами, так не орет, даже когда ему меняют повязки, а делают это почти каждый день, и каждый раз он верещит от боли.
Я поглядываю на экран смартфона: Дима беспокоится за нас, все спрашивает, как у нас дела. Мы отправили ему уже с десяток «окей» и смайликов. Хотя мне ничуть не «окей», наоборот, тоскливо и тревожно. Наверное, из-за этого воя, он все-таки здорово действует на нервы.
– Давай завтра сходим на второй этаж, – говорю я сестре.
– Ага, – откликается Лю. – Надо наконец узнать, что там такое. Только не забывай, у лестницы всегда вахтерша сидит. Очень злостная. У нее даже экраны с камер наблюдения есть.
– Придумаем что-нибудь. Может, там что-то слышали, куда увозят воспитанников, – предполагаю я. – Наверняка среди тамошнего народу есть кто-то с нормальным интеллектом. Как бы они там страшно ни выглядели, они такие же люди, как мы.
– Этот интернат напоминает кунсткамеру, – помолчав, говорит Лю.
– Точно. Только с живыми экспонатами.
Я смотрю в темно-серый потолок. Когда мы некоторое время учились в обычной школе, нас там часто доставали всякие придурки. Называли уродами, мутантами, жертвами алкоголизма или радиации. Один козел как-то раз засунул нам в учебник биологии вырезку из журнала – фотографию заспиртованного младенца с двумя головами. В пику этому остряку мы нашли подобную фотографию в Интернете и поставили в профили всех своих страниц в соцсетях: пусть любуются. Выглядело очень крипово, нас много раз просили эту фотку убрать, прежде чем мы согласились.
Я так хочу, чтобы все у нас было хорошо. Чтобы мы выучились и открыли собственную ветеринарную клинику. А в отпусках – попутешествовали по миру. А еще завели Интернет-консультацию для людей, которые не такие, как все.
«Дим, мы правда выглядим совсем уродами?» – пишу я в окошке сообщения.
«Ну с чего ты взяла?» – пишет Дима в ответ. В единственном числе. И долго молчит, прежде чем написать:
«Ты очень красивая, Кать. Вы обе очень классные девчонки».
Наверняка он написал так просто из вежливости. Но… Интересно, как он угадал, что сообщение написала именно я? У нас один аккаунт на двоих. Да, я чаще пишу сообщения и комментарии, чем Лю, и тем не менее… Я открываю вчерашнюю свою фотку, загруженную в «Инстаграм». На ней лицо крупным планом, и потому кажется, будто я одна, без сестры. Правильные черты, крупные губы. Я была бы очень красивой, будь мы с Лю обычными, раздельными близнецами. Как бы тогда, интересно, сложилась моя жизнь?..
– Тебе чего, нездоровится? – шепотом спрашивает Лю. Разумеется, она чувствует что-то.
– Да так… – я не могу ей врать. Но и правду говорить не хочу. Это что-то новое. Странное. Неудобное. Почему-то мне стыдно. Я кладу телефон рядом с подушкой и закрываю глаза.
Мы на втором этаже. Вахтершу удалось отвлечь с помощью Миши-Орангутанга: мы рассказали ему, будто в карманах у вахтерши спрятаны конфеты. Миша помешан на сладостях. Их иногда приносят волонтеры. Стоит Мише услышать слово «конфета», как он прет вперед с настойчивостью бульдозера, протягивая огромные неуклюжие ладони. И пока вахтерша отбивается от Миши, мы проскальзываем на лестницу. Конечно, нас засекут на камерах наблюдения, но это случится не сразу.
Вроде ничего особенного тут нет. Такой же, как внизу, длиннющий коридор, только стены не голубые в цветочек, а просто белые. С одной стороны окна, с другой – двери в палаты. У окна, спиной к нам, стоит мальчик. Самый обычный мальчик – две руки, две ноги, коротко стриженный затылок. Но тут он поворачивается. Смотрит на нас.
Мы с Лю невольно пятимся. Его лицо: крошечные глазки и огромный темно-багровый вертикальный провал, идущий ото рта вверх до того места, где должна быть переносица; кривые зубы, растущие вдоль краев провала, алое отверстие единственной ноздри на лбу. Мы заглядываем в ближайшую палату и видим еще несколько страшно изуродованных лиц. Будто какой-то психованный скульптор ради нездорового развлечения мял, выкручивал и раздирал глину человеческой плоти. У большинства челюсти так деформированы, что вряд ли кто-то тут способен произнести хоть слово. Здесь пациенты с врожденными челюстно-лицевыми расщелинами. Наверняка такое лечится. Сложными, многочисленными и дорогими пластическими операциями. Тем не менее эти дети сидят здесь. И даже хваленые спонсоры интерната, видимо, им не помогут.
Мы переглядываемся и идем дальше. Следующая палата. Лежачие. На первый взгляд сложно сказать, что с ними не так. Заходим, кто-то шевелится и поворачивается к нам, и все это почему-то происходит в жуткой тишине. С ближайшей койки на нас смотрит человек с двумя лицами. Дипрозоп, вспоминаю я. Редчайший случай сиамских близнецов. Это когда двое заключены в одном теле: одна голова, два мозга и два лица. Невольно я пытаюсь представить, каково это. Хотя… должно быть, почти так же, как у нас. Только выглядит жутче. Со следующей кровати на нас смотрит циклоп. Настоящий живой циклоп. Я читала, что они живут не дольше месяца, и то в редких случаях, а этот… сколько ему, года три? Огромный кроваво-голубой глаз в единственной глазнице, рыжие кудри, хоботок на месте носа. Медленно шевелятся и поворачиваются в нашу сторону другие пациенты: безносые, безглазые, с деформированными головами.
– Слушай, Кать, пошли отсюда, – шепотом говорит Лю.
В таком же оглушительном молчании мы выходим в коридор. Я чувствую, как по спине скользят капли ледяного пота.
– Они обычные люди, – говорю я скорее для того, чтобы успокоить саму себя. – Они не виноваты в том, что родились такими. Просто люди…
– Такие же, как мы, – тихо заканчивает Лю.
Мы осторожно заглядываем в следующую палату – похоже, одиночную, как у нас. Там на кровати лежит кто-то очень большой. Не похоже, что ребенок. Взрослый. Дверь подлейшим образом скрипит, и этот кто-то сразу садится. Я как-то мигом окидываю взглядом сидящее существо, будто мой мозг, подобно смартфону, делает моментальный четкий снимок. Необъятные телеса, серовато-белая кожа. У него – у нее, это женщина с огромной грудью – нет головы. Почти нет. Утопленный в плечи выступ с крохотными ушами и широченным ртом. Рот распахивается, и она – оно – начинает орать. До ужаса знакомый неостановимый скрежещущий вой. Мне в нем слышится бесконечная безысходность и почему-то – столь же бесконечная злоба.
Будто от раскрытой печной топки, мы отшатываемся от входа в злополучную палату. Я чувствую, что Лю начинает задыхаться, и воздуха не хватает уже и мне. Двумя руками мы наперегонки достаем из вместительного кармана перешитой под нас двойной толстовки кислородный баллончик. И дышим – Лю в маске, а я так.
– Кунсткамера, – повторяю я между вдохами. – Точно кунсткамера.
– Девочки, что вы здесь делаете?
К нам подходит Виталий Иванович. Я думала, нас отсюда выставит медсестра или воспитатель, а оказалось – главный врач собственной персоной. Вообще-то Виталий Иванович мне нравится – моложавый и улыбчивый, он ни единым намеком не дает понять, что с его пациентами что-то не так. А вот Лю его, наоборот, терпеть не может. Говорит, что у него «пустые» глаза, а улыбка «резиновая». Я внимательно смотрю: глаза как глаза. Обычные серые.
– Вам не следует тут находиться.
– Извините, – неискренне бормочу я. Лю молчит и внимательно смотрит на главврача поверх маски из млечного пластика.
– Давайте-давайте на выход, – слегка подталкивает нас Виталий Иванович. – Люда, у тебя все в порядке?
Лю убирает маску и энергично кивает. Я чувствую, как она торопится уйти отсюда – от этих палат, с этого этажа, от Виталия Ивановича. Она так резко переставляет свою ногу, что нам едва удается сохранять баланс.
– Он был в бешенстве, – говорит Лю про главврача.
– С чего ты взяла?
– Чувствую. Он просто взбесился из-за того, что мы туда приперлись. Вообще, это была плохая идея…
– Ладно, не ной. – Я щелкаю мышкой, просматриваю на ноутбуке ворованные электронные документы интерната, толком даже не зная, что хочу найти. Мне интересно, откуда приезжали пациенты на втором этаже… со всей страны, наверное? Неспроста же их собрали в одном месте… Я нахожу упоминания каких-то научных программ, каких-то международных научных форумов, в которых принимал участие главный врач нашего отделения. Часто попадаются названия двух наук: тератология и эмбриология. Ну, второе более-менее понятно, все воспитанники-пациенты интерната – с врожденными пороками развития. А вот первое… Значение слова «тератология» мы смотрим в Интернете. И многозначительно переглядываемся.
Тератология – это наука, изучающая уродства. В буквальном переводе с греческого – «учение о чудовищах». Наука о таких, как мы.
Мне попадается список пациентов по номерам палат. Я смотрю тех, кто размещен на втором этаже. У всех у них есть имена, отчества и фамилии, надо же… Хотя откуда во мне это идиотское удивление? Конечно же, у них есть имена. У них должны быть имена. Как и у всех людей. Пети, Васи, Маши, Наташи. Могли быть обыкновенные люди, счастливые или несчастные, но обычно, по-человечески, однако же природа зачем-то смяла их в своих могучих пальцах и бросила так – исковерканными, на всю жизнь запрятанными в самые дальние углы общества – в специальные интернаты, в закрытые отделения.
С болезненным любопытством я смотрю, как зовут то орущее чудовище в одиночной палате. И у него… у нее есть имя. Симакова Виола Витальевна. Шестнадцать лет. Как нам. Шестнадцать лет тьмы и заточения. С морозом по коже я вспоминаю, как один из бывших одноклассников, мелкий злобный парень, наш самый непримиримый недруг, орал нам в спину: «Да таких сразу убивать надо, чтоб не мучились!» Но гляжу неотрывно на имя пациентки вовсе не поэтому.
– Это же капец, – тихо говорит Лю.
– Слушай, может, все-таки просто совпадение? – осторожно говорю я.
– Не верю я в такие совпадения. Теперь понятно, почему у него такие пустые глаза…
Завтра – выходной. Вечером мы договариваемся с Димой встретиться назавтра возле ограды ровно в полдень, сесть на автобус и поехать куда-нибудь погулять. На нас, конечно, будут пялиться квадратными глазами прохожие и пассажиры, а потом нам наверняка влетит от воспитателя за то, что пропадали невесть где. Хорошо, у забора не установлены камеры слежения. Я предвкушаю завтрашний день и очень надеюсь, что нашим планам ничто не помешает. Потому что Лю весь вечер чувствует себя неважно. Часто прикладывает к лицу полупрозрачную маску со шлангом, идущим от кислородного баллончика. Слишком уж часто. Из-за ее самочувствия нездоровится и мне: в голове мутно, слабость и разбитость. Позвать, что ли, медсестру… Мы лежим на кровати, Лю пытается читать книгу, я вяло листаю ленту соцсети в смартфоне и прислушиваюсь к тому, что делается на втором этаже. Там снова орут. Словно разбуженная ором, просыпается головная боль. Морщась, я прячу смартфон в карман толстовки, слишком уж сильно даже приглушенное свечение экрана режет глаза. Мне на ум лезет какая-то дичь: а что будет, если то… существо на втором этаже однажды вырвется из своей палаты? Вдруг оно начнет на всех кидаться? Чушь, чушь. Это просто инвалид. Человек с чудовищным пороком развития, но все-таки человек. Девчонка нашего возраста… Ужас.
Тем временем Лю опять начинает задыхаться. Я помогаю ей прижать маску к лицу и вижу пугающее: ногти у Лю синеватого оттенка. Ей не хватает кислорода. Стремительно становится плохо и мне, прямо до тошноты, но пока больше от страха. Я давлю на кнопку вызова дежурной медсестры, расположенную у нашей кровати на подобный случай. Медсестра прибегает быстро.
– Нам плохо, – говорю я ей, чувствуя, как голос отказывает. – Очень. Воздуха не хватает.
Быстро приходит и врач. Сам Виталий Иванович. Мне сейчас трудно даже думать, каждая мысль погружается в серую топь близкого обморока, но все же я не могу не задаться вопросом: каково жить, зная, что у тебя такая дочь, более того, наблюдать ее каждый день… целых шестнадцать лет? Каково это, когда твой ребенок – огромное безглазое чудовище? Без намека на интеллект, без малейших шансов что-либо поправить. В принципе подобный вопрос можно задать и нашим родителям. Хотя у нас хотя бы с интеллектом все в порядке…
Виталий Иванович быстро нас осматривает, говорит медсестре что-то про респираторную гипоксию и просит привезти в палату каталку. Сам тем временем подворачивает рукава толстовки на левой руке Лю и на моей правой руке. Достает шприц из пластикового чемоданчика. Набирает в него какой-то прозрачный раствор.
– Что это? – спрашиваю я полушепотом. Лю уже ничего не спрашивает, она почти отключилась. Моя левая половина тела стала неподъемно тяжелой. Будто меня пригвоздили к кровати.
– Лекарство, – улыбается Виталий Иванович. Улыбка у него как у манекена. Белая, безукоризненная и какая-то неживая. Резиновая, как говорит Лю. Правильно говорит. А я раньше не замечала. И глаза у него пустые. Серые провалы даже не в безвоздушное пространство (куда стремительно падаем мы с Лю) – нет, в абсолютное бесконечное ничто.
Виталий Иванович делает мне укол, и ничто накрывает меня с головой непроницаемо-черным одеялом.
Я просыпаюсь от того, что свет бьет в глаза. Резкий, белый, какой-то иссушенный свет. Ряды люминесцентных ламп на низком потолке. Я не сразу вспоминаю, что было до этого момента… Лю. Что с моей сестрой? С моей половиной? Она в порядке? Я поворачиваю голову и вижу лицо Лю, бледный профиль в кислородной маске, так похожий на мой собственный. Глаза закрыты.
– Лю, просыпайся, – сипло бормочу я. – Ну же, вставай!
Я пытаюсь приподняться на локтях, дергаюсь, и Лю наконец открывает глаза. Мне хочется ругаться и плакать от облегчения.
– Никогда больше не пугай меня так!
– Где мы? – спрашивает Лю.
– Без понятия. Может, в реанимации?
Мы оглядываемся. Это место мало похоже на реанимацию. Полное отсутствие окон, белый кафель, какие-то непонятные приборы на железных столах вдоль стен. Мы лежим на койке, рядом – только кислородный аппарат. Никаких датчиков, счетчиков дыхания и пульса или что там еще полагается в реанимации. Пованивает дезинфицирующими средствами и чем-то странным, неопределимым.
Мы медленно садимся. Самочувствие по-прежнему скверное. Болит голова и подташнивает. Неважно с координацией, нас то и дело пошатывает, как пьяных. Но ногти у Лю вроде больше не синие, нормальные, хотя при диком иссиня-белом свете сложно определить наверняка. И держится она ничего.
То, что я поначалу приняла за какие-то выступы вроде тумб, оказывается прямоугольными кафельными ваннами, вделанными в пол. В туалетах отделения в таких моют утки и судна. Только здесь они длиннее, вытянутой формы. И накрыты полупрозрачной пленкой, под которой виднеется что-то темное, багровых оттенков. Заполнены и закрыты пленкой только несколько ванн, большинство – пусты. На полу валяются шланги, идущие к ваннам от каких-то пластиковых бочек.
В помещении тепло. Слышно гудение вентиляции и электронное попискивание приборов.
Осторожно, пошатываясь от слабости, мы шагаем по помещению, продолжая озираться. В глазах то и дело все плывет и подергивается. Похоже, нам вкололи какой-то наркотик. Мы видим выключенные компьютеры с большими мониторами. Видим множество пробирок на столах и металлических полках. Видим какой-то большой шкаф, задернутый цветной полиэтиленовой шторкой, как в ванной. Проходим мимо него, я осторожно отвожу шторку, и мы с сестрой крупно, мучительно вздрагиваем. За шторкой стоят большие стеклянные емкости с заспиртованными младенцами. Немыслимые уродства: искореженные пучеглазые головы, зачаточные конечности. Будто порождения чьей-то больной фантазии. Но это всего лишь природа. Только природа. Кажется, будто заспиртованные уродцы смотрят на нас с сестрой внимательно и с насмешкой, из-за дурноты мерещится, будто они кривляются и чуть ли не подмигивают нам, пытаются выбраться из своих стеклянных тюрем.
Я судорожно задергиваю штору.
– Давай-ка убираться отсюда, – тихо говорит Лю. – Мне все это жуть как не нравится.
– А там что? – я указываю на заполненные ванны.
– Тебе так интересно? Мне – нет.
– Трусиха. – Я сую руку в карман за смартфоном, чтобы пофоткать все тут, но его нет. Я точно помню, что клала его в карман. Кто-то забрал наш смартфон, пока мы были без сознания.
Мы все-таки подходим к ближайшей ванне, и я приподнимаю пленку. В ванне стоит прозрачный пластиковый контейнер, и в нем в какой-то мутноватой жидкости плавает голое человеческое тело, с полупрозрачной кожей, под которой видны вены и кости.
Лю сгибается пополам, отчего наклоняюсь и я, и мы обе чуть не падаем. Ее рвет. Меня – нет. Но мне очень, очень страшно. Как никогда в жизни. Даже когда у сестры был сильнейший приступ, мне не было так страшно, как сейчас.
– Что это за место?
– Кать, ну все, сваливаем отсюда, – умоляет Лю.
Мы идем к дверям, и больше всего на свете я боюсь, что они заперты, но нет. Осторожно выглядываем. Кафельная кишка низкого коридора. Вдоль стен стоят пустые каталки и пустые пластиковые бочки. Непонятно, куда идти – и в той, и в другой стороне коридор заканчивается поворотом. Мы делаем наугад несколько шагов, и вдруг из-за двери по соседству навстречу нам выходит врач. Виталий Иванович. У него вытягивается лицо – он крайне удивлен нашим появлением. Да что там – прямо-таки ошарашен. Видимо, был уверен, что мы до сих пор валяемся под наркозом.
Я делаю шаг к нему, Лю, напротив, пытается отскочить назад, и мы снова чуть не падаем.
– Где мы находимся? – вырывается у меня.
– В отделении ретроспективной пренатальной терапии, – со своей неестественной, прямо-таки пластиковой улыбкой объясняет он. Почему я прежде не видела, насколько неживая у него улыбка? – Идите и ложитесь. Немедленно.
– Что здесь делают? – плавающим голосом спрашивает Лю.
– Пытаются помочь тем, кому нельзя помочь никакими другими способами. Путем возвращения человека во внутриутробное состояние. Пересаживают гены посредством специальных инъекций. Чтобы процесс формирования тела начался заново.
– Бред какой-то. Это невозможно, – говорю я.
– Вот мы и работаем над этим. Невозможное делаем возможным.
– Но при чем здесь мы с Людой?
– Девочки, у вас нет будущего. В ближайшее время вам суждено погибнуть. Сначала от гипоксии погибнет Людмила, а тебе, Катерина, суждена долгая и мучительная смерть от интоксикации. Сюда забирают тех, кто уже на грани. Для кого нет иного выхода. Здесь у них – и у вас – возможно, появится шанс…
Погрузиться в одну из тех ванн, осознала я. Где под действием каких-то веществ плоть начнет обновляться, подгоняемая ДНК-инъекциями, формироваться заново. Так вот что случилось с Русалочкой. Погрузиться во тьму с призрачной возможностью когда-нибудь из нее вынырнуть обычным здоровым человеком – а скорее всего, не вынырнуть уже никогда.
– Мы не хотим… – бормочу я.
– Так вы хотите умереть?
– Кать, пошли отсюда, он конченый псих, – отчаянно шепчет Лю.
Виталий Иванович идет к нам, и мы сначала пятимся, понимая, что не убежать, у нас не хватит сил, мы вообще бегаем медленно и неуклюже, а сейчас не сможем вовсе. Но почти инстинктивно я хватаюсь за ручки ближайшей каталки и толкаю ее прямо на врача. Лю делает то же самое. Наши нервные системы пересекаются, и впервые мы вовсе не заботимся о координации движений, которой учились долгие годы, а действуем слаженно, будто у нас не только одно тело на двоих, а будто мы и есть одно целое. Мы толкаем каталки, поворачиваем их поперек узкого коридора, опрокидываем грохочущие пустые пластиковые бочонки и бежим прочь. Бежим изо всех сил. Никогда мы так не бегали. Я почти не чувствую своего половинчатого тела. Прямо-таки лечу вперед. Кажется, позади что-то кричат. Мы минуем поворот, врезаемся в двустворчатые железные двери, с трудом, но распахивающиеся, потом еще в одни, взбегаем по пандусу и оказываемся в большом тускло освещенном помещении с рядами глухих стальных шкафов. В морге. Мы пробегаем его насквозь, в неестественной тишине, будто кто-то выключил звук, и снова оказываемся в коридоре, где нас чуть не ловит здоровенный санитар. Мы уворачиваемся от него с небывалой для нас ловкостью и несемся дальше. Еще санитар, охранник. Слишком удивлены, чтобы успеть нас схватить.
И вот мы на улице. Раннее утро. Золотое небо, розоватый, будто живой, снег. Сначала мы бежим к воротам интерната, но ворота в этот час закрыты, калитка тоже, и мы сворачиваем в парк. Я только сейчас начинаю слышать какие-то звуки. Нарастающий шум улицы за деревьями, где идет своим чередом счастливая или несчастная, но нормальная человеческая жизнь. Слышу страшное, натужное, свистящее дыхание сестры. Нам очень нужен кислородный баллончик, но его нет.
– Давай… отдохнем, – выдыхаю я, чувствуя, что левая нога, не моя, подгибается, и меня пугает то, как Лю дышит, с хрипами и всхлипами.
– Нельзя… Они нас поймают. И тогда точно все…
Мы с разбегу запрыгиваем на забор и кое-как переваливаем через него. Рядом нет Димы, чтобы нам помочь. Мы падаем на ту сторону, в нормальные человеческие будни, шлепаемся плашмя, и я физически чувствую, как в груди моей сестры будто что-то обрывается, настолько вдруг становится тяжело дышать.
Я пытаюсь подняться и не могу. Лю вообще не двигается. Мимо нас течет та простая обыкновенная жизнь, о которой мы всегда мечтали: едут машины, разбрызгивая кашу полурастаявшего снега, где-то за гаражами лает собака, снег ложится на землю и на нас – с легким, но уловимым шорохом.
– Вставай же, – я в ужасе смотрю на сестру. Губы у нее синие, глаза закатились. – Пошли! Нам нужно обратиться за помощью… Они ставят опыты над людьми. Ну вставай… – я начинаю плакать. – Нам ведь надо поступить в институт. Получить образование. Открыть свою ветклинику. Ну Люда… – скулю я. – Ну встань, пожалуйста…
Я дышу изо всех сил. Но меня одной не хватает на нас двоих. Я – мы – все глубже погружаемся в черное ничто, из которого вынырнули в подземной лаборатории. Лю уже там, далеко. Она настойчиво тянет меня за собой. Просто потому, что мы – одно целое.
Я еще успеваю осознать, что рядом с нами останавливается машина, водитель выходит и смотрит на нас пораженно, с брезгливым интересом, с гадливой жалостью и почти со страхом – так, как на нас почти всегда смотрят люди по эту сторону забора. Водитель достает телефон, что-то нервно говорит в него, а дальше я уже вовсе отключаюсь. Словно бегу куда-то вслед за Лю в кромешной темноте. И никак, никак не могу сестру догнать.
Мое сознание отвыкло от объективной реальности. Многие дни – недели, годы в моем субъективном восприятии – меня будто бы бесконечно окунали в мутно-розоватую жидкость ванн для опытов, чтобы ход времени для моего тела обратился вспять, кололи холодными иглами, чтобы изменить мои гены, я едва выплывала из беспамятства и погружалась в него снова.
Белая солнечная палата. Идут первые дни с тех пор, когда я окончательно пришла в себя. Я пока еще плохо осознаю, что со мной произошло, и от слабости часто проваливаюсь в зыбкое полубессознательное состояние. Ко мне регулярно приходят родители, они прилетели из своих заграниц. Пару раз приходил Дима, каким-то образом он меня нашел. Рассказал, что обратился в полицию после того, как мы больше суток не выходили на связь. А вот Лю со мной нет. Вместо нее – огромный отек с левой стороны моего тела. И швы. Врачи говорят, что это настоящее чудо: моя сестра-близнец скончалась от легочной недостаточности, а меня едва успели спасти. Операция по разделению меня и моей мертвой сестры длилась несколько часов. Я потеряла очень много крови и только чудом осталась жива. Я очень слаба, но мои органы функционируют нормально.
Теперь у меня полный комплект органов в единоличном пользовании. Только левой ноги не хватает. Доктора уверяют, что я смогу научиться ходить с протезом. И что, возможно, если с моим здоровьем все будет в порядке, я даже смогу когда-нибудь родить ребенка. Здорового и красивого. Такого, как все… почти все.
У меня в палате есть телевизор, и когда я чувствую себя немного лучше, то смотрю новости. Там много говорят про дело доктора Симакова, которого судят за опыты над пациентами. Он признан невменяемым. Журналисты называют его маньяком и «вторым доктором Менгеле». Однажды в новостном выпуске даже показали его лабораторию – как выяснилось, там, конечно же, никто ни разу так и не воскрес, не поднялся из жутких кафельных ванн. Люди просто умирали. А он с упорством глубоко помешанного раз за разом возобновлял попытки отмотать вспять время, изменить роковой генетический набор. Сумасшедшие попытки, практически бессмысленные с научной точки зрения. Но он пытался снова и снова, потому что на втором этаже интерната вот уже шестнадцать лет жила его дочь.
Я давлю на кнопку пульта. Не хочу больше все это слушать. Открываю рот, чтобы поделиться своим нежеланием с Лю – и в бессчетный раз смотрю на пустоту на подушке слева. Всю жизнь я делилась всем – ну, почти всем, если вспомнить про Диму, – со своей второй половиной. С частью себя. Я никогда не знала, что значит быть одной.
Одиночество.
Всю необозримую глубину этого слова я осознаю лишь теперь. Я всегда хотела жить, как все обычные люди. Рожденные в одиночестве, даже если у них есть братья или сестры, идущие по жизни в одиночестве, даже если у них есть любимые и семья. И я это получила. Теперь я навсегда предоставлена лишь самой себе. Навсегда одинока. Как и все-все вокруг.
Оксана Ветловская
Чучело-мяучело
– Мяучит, – сказала Марина, встав на пороге комнаты и переминаясь с ноги на ногу.
– Мяукает, – меланхолично поправил ее Кирилл, отбиваясь от полчищ зомби на мониторе.
– Мяучит, – упрямо повторила Марина. – Ну Кирь, а…
Кирилл мотнул головой и остервенело застучал разболтанной клавишей мышки.
– Киииирь, нуууу… – заныла Марина.
Босс зомби – оторванная челюсть, вытекшие глаза, куски плоти отлетают при каждом резком движении – размахнулся и мазнул рукой наотмашь, по центру экрана. Картинка моргнула и покрылась кровавыми потеками.
– Да черт! – Кирилл отшвырнул мышку и откинулся в жалобно скрипнувшем кресле. – Ну пара минут, а!
– Киииирь… – донеслось из коридора – Марина отступила вглубь, понимая, что провинилась. – Ну Киииирь…
– Ну ладно, ладно, – пробурчал он, выключая компьютер. Что-то подсказывало ему, что спасательная кампания затянется надолго.
Котенок прибился в подвал позавчера – если судить по истошному мяуканью, которое начало доноситься оттуда в четверг вечером. Кирилл с Мариной как раз ужинали, когда первый вопль заставил их вздрогнуть и прекратить самозабвенное воркование.
– Мяучит, – именно тогда Марина в первый раз произнесла это слово.
– Мяукает, – рассмеялся Кирилл. Испуг прошел, и он с азартом стал ковыряться в салате, выуживая оттуда куски курятины. В любой другой момент он бы получил от Марины по рукам за такую эгоистичную разборчивость – в любой другой, но не сейчас. Его жена была озабочена совершенно другим.
– Мяучит, – обиженно сказала она. – Мяукает – это когда по-другому. По-взрослому. А котята мяучат. Жалобно. С просьбой помочь, – уточнила с намеком.
Кирилл сделал вид, что не слышит. Он прекрасно понимал, что от просьбы полезть в подвал за котенком его отделяет всего лишь пара опрометчиво сказанных фраз. Нужно было срочно сменить тему – и он сделал это весьма удачно, подхватив хихикающую и игриво сопротивляющуюся Марину с табуретки и потащив в спальню.
Этой ночью – да и утром тоже – о котенке они больше не вспоминали.
В пятницу им тем более не было дела до того, что происходит в подвале: сначала работа, затем традиционные пятничные посиделки с друзьями в любимом суши-баре, потом затаривание продуктами на выходные в круглосуточном супермаркете – закупки в слегка подвыпившем состоянии отличаются глупым хмыканьем, закидыванием в тележку всякого ненужного, как станет ясно позже, барахла, забытым пин-кодом от карты и прочими дурацкими мелочами, которые приводят к тому, что по приходе домой пакеты с покупками швыряются в коридоре, а сонные тела едва-едва доползают до кровати. Так что если кто в пятницу и мяукал, то слушателей у него не было.
И вот сейчас, в полдень субботы, у котенка снова прорезался голос. Он орал так истошно, словно его пожирали живьем подвальные крысы. Марина ходила за Кириллом хвостиком, делая жалобные глаза.
– Нет там крыс, – ответил он на незаданный вопрос и демонстративно сел за компьютер.
Однако поиграть всласть ему не удалось – и вот он уже ищет одежду попроще, которую не жалко вымазать в старом полузаброшенном подвале.
– Ну хорошо, хорошо, – бормотал Кирилл, натягивая кроссовки в прихожей. Попутно он фантазировал, как Марина будет расплачиваться за заваленную кампанию в компьютерной игрушке и исследование вонючего подвала в законный выходной. По предварительным подсчетам он оказывался даже в выгоде.
– Мой герой! – Марина поднялась на цыпочки и звонко чмокнула его в нос. Кирилл вяло улыбнулся.
Дом был большим – на пятьсот с лишним квартир – изогнувшимся сложным зигзагом на пятнадцать подъездов. То ли из-за ошибки в плане, то ли по какому-то очень странному расчету, но у него не было отдельных для каждого подъезда подвалов. Вместо этого под всем домом распростерся один – гигантский, словно подземный этаж, – мечта всей местной детворы и недосягаемый рай для бомжей.
Ключи от крыши были у жильцов верхних этажей, от подвала – у обитателей первого. В их подъезде ключ достался Кириллу по наследству от предыдущих квартирантов – когда-то здесь на всю площадку были лишь две бабки, многодетная семья да бывший милиционер. Неудивительно, что на последнего и возложили эту ответственность. Милиционер уже лет двадцать как переехал жить в деревню, квартира сменила десяток хозяев – но ключ держался, как переходящий красный вымпел.
Он висел на гвоздике в прихожей, и о нем Кирилл вспоминал не чаще чем пару раз в год – когда проверяли трубы. Когда-то приходилось еще, кряхтя и подбирая печатные выражения, лезть за залетевшими в подвальное оконце мячами, но год назад оконца заколотили, полностью отрезав подвал от внешнего мира. Видимо, где-то доски провалились или разболтались гвозди – иначе никак нельзя было объяснить появление в подвале котенка.
Надо сказать, что к котам и вообще к домашней живности Кирилл относился достаточно равнодушно. Есть – хорошо, нет – не страшно. Марина же, наоборот, обожала всякую пушистую мелочь, умилительно сюсюкая над каждым встречным песиком и ставя на рабочий стол заставки с котятами. Заведению животного дома ей мешала лишь проблема выбора – ей нравились все коты и собаки разом, поэтому остановиться на какой-то конкретной породе она так и не смогла. Но кажется, сегодня эта проблема решится. Кирилл вздохнул. Оставалось только надеяться, что найденыш не будет слишком уж страшным и больным.
Вход в подвал находился как раз под их балконом. Над головой Марина уже шумно разгребала балконный хлам, чтобы занять самую выгодную для наблюдения за происходящим позицию.
Кирилл, кряхтя, присел на корточки, пытаясь хоть что-то разглядеть в щель в оконце – доски были прибиты неровно, кое-где разошлись, так что он надеялся, что котенок сидит где-то рядом и спасательная операция закончится, не успев начаться.
Но, конечно, ему не повезло. В щели плескался густой мрак, и даже если незадачливый кошак и болтался поблизости, рассмотреть его не удавалось.
Тяжелый ключ лязгнул в скважине, заржавевший за зиму навесной замок, скрипя, выплюнул дужку.
Кирилл отворил взвизгнувшую от натуги дверь. От петель прыснули во все стороны потревоженные мелкие сикарашки.
Вниз уходила лестница. Видимо, по весне сюда в изобилии стекал талый снег – доски сгнили и развалились на куски, а между щелями проглядывал проржавевший до кирпичного цвета металл. Кирилл поморщился. Да, он не отличался особой чистоплотностью – за что частенько получал по шапке от Марины, – но лезть в грязный и наверняка вонючий подвал ему не улыбалось.
Он вздохнул и осторожно спустил ногу, проверяя лестницу.
Вроде бы все нормально. Доски чуть пружинили, гвозди скрипели, вниз сыпались пыль и кирпичная крошка – но в целом лестница выглядела прилично и казалась относительно крепкой.
Еще шаг вниз, на этот раз второй ногой…
Черт!
Нога соскользнула на заплесневевшей доске – и Кирилл едва успел схватиться за какой-то выступ, со всего размаху шлепнувшись на ступеньку. Острой болью прострелило копчик, заныла содранная кожа на ладони.
– Ну как? – Марина заинтересованно свесилась с балкона, пытаясь разглядеть, что происходит внизу.
– Жопой об косяк, – процедил Кирилл, зализывая царапину.
– А?
– Да норм! – крикнул он. – Скинь фонарик, ни черта не видно.
Послышалось поспешное шуршание тапочек.
Кирилл изогнулся, отряхивая штаны. На заднице расползалось влажное ржаво-пыльное пятно с зеленоватыми потеками плесени и клочьями мха. Кирилл попытался оттереть его, но стало только хуже, и, ко всему прочему, ткань начала отвратительно холодно липнуть к коже. Он, брезгливо скривившись, зацепил ее двумя пальцами и оттянул, надеясь, что хоть чуть-чуть просохнет.
– Кирь, лови!
Кирилл, запинаясь о порожек, метнулся к балкону: с Марины бы сталось действительно скинуть фонарик вниз. Так и произошло – он едва успел подставить руки, как в них шмякнулся старый налобник. Не совсем то, что он хотел, да – но просить другой Кирилл не стал. Ему вовсе не улыбалось тратить весь субботний день на возню в подвале.
– Ладно, я пошел! – крикнул он.
– Удачи! – пропела Марина сверху.
Осторожно, цепляясь руками за стены, прощупывая ногой каждую следующую ступеньку, Кирилл начал спускаться. Фонарь он пока не стал включать – солнце с улицы худо-бедно освещало пятачок перед лестницей, и Кирилл продолжал надеяться, что котенок прячется где-то там.
– Кыса? – спросил он. – Кыса, ты где, блохастый?
Тишина.
«Ну вот, – недовольно поморщился Кирилл. – Как орать и мешать отдыхать, так всегда пожалуйста, а как полезли за ним, так нате…»
– Кыса, – с угрозой повторил он. – Выходи, падла, а то я уйду.
И в подтверждение своих слов развернулся и сделал несколько шагов по направлению к лестнице. Но стоило ему только поставить ногу на ступеньку, как из глубины подвала донеслось жалобное:
– Мяу!
Кирилл хмыкнул. Угроза и шантаж действенны не только по отношению к людям, да.
– Кыса, – забормотал он, натягивая налобник на голову. – Кыса-кыса-кыса, давай. Раньше сядем, раньше выйдем.
Он нажал на кнопку фонарика. Та туго спружинила, что-то клацнуло, но больше ничего не произошло. Эй, неужели сели батарейки? Черт, нужно было проверить фонарик сразу же, как получил его в руки. Теперь придется возвращаться обратно, просить Марину найти другой… а то еще и топать в хозяйственный, покупать батарейки… Как минимум еще полчаса бездарно проср… потраченного времени!
Кирилл сплюнул сквозь зубы и остервенело вдавил кнопку так, что фонарик сдвинулся к левому виску. Но это возымело действие – что-то зажужжало, и тусклый луч выхватил груду кирпичей, ржавую монтировку и выступ, за который уходили обшарпанные трубы. Еще пара шагов без света – и Кирилл со всего размаху впечатался бы в эту стену.
– Ну ладно, я пошел искать, – громко сказал он, заворачивая за угол и поправляя фонарик. – Кто не спрятался, я не виноват. А кто спрятался, тот получит по жопе. По мохнатой жопе!
Он сделал буквально десяток шагов, как его что-то резко и сильно ударило в лоб так, что голова откинулась назад. Боль пронзила шею аж до лопаток, а комок света, подпрыгивая, улетел в темноту метра на три.
– Ч-черт, – прошипел Кирилл, потирая лоб и разминая шею. Он уже понял, что произошло: старая рассохшаяся резинка не выдержала и лопнула, отшвырнув, как праща, фонарик и щелкнув на излете Кирилла по лбу.
– Знаешь, котэ, – обратился он к невидимому котенку, – ты уже должен мне копчик, руку, штаны, а теперь еще и голову. Ты со мной никогда не расплатишься.
Пятнышко света замигало и начало медленно тухнуть. Кирилл, невнятно выругавшись, в три прыжка добежал до него и успел подхватить фонарик до того, как тот бы погас и затерялся во тьме на полу.
– С-сука, – процедил Кирилл, завязывая оборванные концы. Резинка хрустела, узел не складывался, концы то и дело выскальзывали. Наконец ему удалось более-менее закрепить их, помогая себе зубами, – на это понадобилось аж два кривых и косых узла – и именно в этот момент фонарик мигнул еще раз и погас.
На Кирилла обрушился абсолютный мрак.
Кирилл не боялся темноты. Даже в детстве он спокойно засыпал без зажженного ночника и легко бегал в туалет по длинному темному коридору. Но сейчас он испытал страх. Настоящий первобытный страх, от которого вдоль хребта заметались тугие колючие мурашки и дыбом встали волоски на руках. Это была правильная темнота – не фальшивые сумраки квартир, где достаточно щелкнуть выключателем, чтобы залить все светом, или отдернуть шторы и увидеть россыпь зажженных окон в доме напротив – нет, это была настоящая темнота, с которой находишься один на один. Темнота, которая давила на глаза, закладывала уши и железной хваткой держала за горло, мешая дышать.
– Ух ты, – с восхищением пробормотал Кирилл. – Охренительно!
Он стоял, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, таращась в густую вязкую темноту и наслаждаясь ощущениями.
– Мяяяяу! – вдруг завопила темнота.
Кирилл вздрогнул от неожиданности. Сердце ухнуло куда-то в желудок, а потом гулко заколотилось чуть ли не в горле.
– Тварь, – от души прокомментировал он, с некоторым сожалением включая фонарик.
Видимо, батарейка была на последнем издыхании, контакты расходились, да и падение сделало свое дело – свет стал совсем тусклым, дрожащим, периодически в фонарике что-то жужжало, и лампочка начинала мигать. Приходилось легонько шлепать по батарейному отсеку – и так каждые две-три минуты.
Как гласят правила лабиринта, чтобы войти и выйти из него, нужно держаться рукой за стенку. Кирилл коснулся ближайшей трубы – и тут же отдернул ошпаренную ладонь.
– Да что ж такое-то… – прошипел он, зализывая больное место. – Что дальше? Ногу оторвет?
Он с опаской ткнул пальцем в трубу ниже. Холодная. Холодная настолько, что рука скользила по каплям воды, в изобилии выступившим на металле. Это было, конечно, неприятно – но лучше, чем ожог.
– Кыса-кыса, – снова забормотал Кирилл. – Давай подай голос, скажи, где ты?
Котенок молчал. В Кирилле начала подниматься мутная и тошнотворная злоба, ему снова захотелось все бросить, развернуться и уйти – на этот раз по-настоящему, без предупреждения, не возвращаясь. Его останавливало только то, что Марина гарантированно начнет ныть, причитать, заламывать руки – о, она умела театрализировать семейные драмы! – и страдать по котенку. В итоге она настолько вынесет Кириллу мозг, что ему все равно придется через пару часов снова спускаться в подвал и не выходить без этой блохастой твари.
– Кыса-кыса, – устало вздохнул он. – Ну давай же… Если найдешься в течение пяти минут, я лично тебе вкусную рыбку куплю.
Котенок молчал.
«Может, сдох?» – мелькнуло в голове.
«Да ну, – тут же ответил он сам себе. – Тогда это было бы понятно по крикам. Громче бы орал или, наоборот, умирающе. А так мяукал и мяукал».
Кыскыскать ему уже надоело, поэтому дальше он шел молча, лишь то и дело постукивая по фонарику. Под пальцами отшелушивалась старая краска на трубах, под ногами хрустели комья известки, в нос периодически шибал сладковатый запах гнилого дерева и склизкого камня. Рука, которой он вел по трубе с холодной водой, уже замерзла, и приходилось то и дело согревать ее дыханием.
«Не хватало еще в июле схватить насморк», – мрачно подумал Кирилл.
Он водил фонариком уже совсем вяло – картина перед ним не менялась. Обшарпанные, поблескивающие влагой кирпичные стены, горы какого-то хлама на полу – и трубы. Трубы, трубы, трубы – они уходили вперед, насколько хватало взгляда, вились змеями на полу, металлическим плющом облепляли стены, запирали Кирилла в причудливую разноцветную клетку. Кирилл, который всю жизнь считал, что существуют лишь три типа труб – для холодной воды, горячей и канализация, – был впечатлен.
– Сюда на экскурсию можно водить, – восхищенно бормотал он, ощупывая фонариком переплетения коммуникаций. – Или вообще квест организовать – даже декораций не нужно…
Фантазии о том, как можно использовать подвал, настолько захватили Кирилла, что он, озираясь по сторонам и задирая голову, совсем перестал смотреть под ноги. Поэтому совершенно не удивился, когда наткнулся на что-то мягкое.
Ожидая, что это очередная куча непонятного тряпья, он опустил голову, повел фонариком, и…
– Тьфу, мля! – отскочил в сторону, больно ударившись спиной о стену.
Перед ним, на правом боку, повернувшись к Кириллу спиной, лежал человек. Тусклый луч выхватил стоптанные, потерявшие всякую форму ботинки, дырявую телогрейку с оторванным рукавом, сбившиеся в колтуны волосы…
– Эй, – Кирилл брезгливо толкнул бомжа носком кроссовки. – Эй… Ты как тут оказался?
Бомж не ответил.
Кирилл прислушался. Странное дело, но тот не издавал ни звука – ни храпения, ни сонного бормотания, ни сопения.
Кирилл наклонился, ловя ухом дыхание. В нос ударила резкая волна вони – тугой и терпкой смеси застарелых мочи и пота, гноя, дешевого табака и еще чего-то, неуловимо знакомого, но никак не связывающегося в памяти с бомжами. Кирилл, не удержавшись, чихнул, а потом спрятал нос в сгибе локтя – от вони начала кружиться голова.
– Эй, – промычал он в руку. – Эй… Ты вывой?
Бомж молчал и не шевелился.
– Эй! – он пнул бомжа со всей силы. – Эй!
Рука, вытянутая до этого вдоль левого бока, дрогнула и бессильно упала за спину.
«Сдох», – кольнула неприятная мысль.
Не то чтобы Кирилл боялся покойников – нет, он относился к чужой смерти достаточно равнодушно, – просто сразу представил последующий геморрой. Приедет полиция, он окажется свидетелем – если вообще не подозреваемым, мало ли что взбредет в голову блюстителям порядка, – в итоге опознания, допросы, таскаться на всякие бумажные дела… тьфу!
Он потер затылок.
«Ничего не говори, – вкралась заманчивая мысль. – Тебя тут не было. Ну да, лазил искать котенка, но мало ли, может быть, всего лишь десяток шагов сделал и сразу поймал…»
«А следы?» – возразили здравый смысл и страх перед законом.
«Да тут месяцами никто не бывает. Следы исчезнут через пару недель, да и кто их потом отличит от чужих и более старых».
– Ладно, – Кирилл еще раз, от души, толкнул бомжа кроссовкой. – Лежи уж тут, не каш…
Что-то шумно забурлило внутри бомжа, с резким звуком вырвались накопившиеся в теле вонючие газы – и труп, шумно ухнув, перевернулся на спину, подставив фонарику кровавое пузырящееся месиво на том месте, где должно было находиться лицо.
А само лицо осталось на трубе. Скукожившиеся комочки глаз, тонкая шкурка щек, полупрозрачная пленка губ. Лицо бомжа смотрело на Кирилла с трубы.
– Твою мать! – Кирилл отшатнулся.
Теперь-то он понял, что это был за смутно знакомый запах! Вяленое мясо! Дорогое вяленое мясо! Бомж, видимо, умер, упав, или крепко заснул, одурманенный винными парами и опрометчиво прислонившись лицом к трубе отопления. На горячем металле кожа моментально схватилась хрустящей коркой – и потом мясо медленно подпекалось, пока Кирилл не потревожил тело. Прикипевшие кожа и хрящи так и остались на трубе…
Его вывернуло тут же, рядом с бомжом. Он блевал и блевал, согнувшись в три погибели, схватившись за живот, не ощущая больше вони и даже не замечая, что его лоб практически касается замусоленной и заплесневелой телогрейки.
«А в детективном сериале преступника вычислили по блевотине», – мелькнула в затуманенном разуме очередная ненужная мысль.
Наконец он выпрямился, отирая губы подолом футболки, стараясь не смотреть в сторону трубы, где… от мысли, что там, его снова скрутило в спазме, пока измученный желудок не начал исходить желчью.
Не поднимая головы, Кирилл на карачках отполз от трупа, лишь бы не видеть… ничего не видеть!
Его колотило от страха и отвращения. Нет-нет, конечно, он никого сюда не вызовет и никому не скажет о бомже! Еще чего не хватало – смотреть еще раз на эту… рожу отдельно от головы!
– Мяу!
Котенок! Да, да, котенок! Он пришел сюда за котенком. Бомжи, темнота – это все ерунда, это все не важно, это все побоку. Котенок – вот что ему сейчас нужно.
Котенок.
– Кыса-кыса, – как можно более умильно проворковал он, поднимаясь на ноги. – Кыса-кыса, где же ты, падла?
– Мяу!
Котенок, несомненно, был идиотом. Иначе как объяснить то, что не шел на зов, а, наоборот, словно отдалялся.
«Да мал еще, просто боится».
«Ну да, мне еще не хватало по всему подвалу за ним бегать».
– Мяу! – крики становились все более и более истошными, словно котенок подгонял Кирилла.
– Эх ты, мяучело, – сквозь зубы процедил он. – Чучело-мяучело…
Его еще трясло, поэтому луч фонарика метался по полу, трубам, стенам, вызывая к жизни какие-то причудливые тени. Кириллу казалось, что обиженный покойник следует за ним по пятам, поэтому он то и дело оглядывался, обшаривая фонариком пространство за собой.
«Надо было Маринку с собой тащить, – озлобленно думал он. – Пусть бы вдоволь хлебнула всего этого».
– Мяу? – вопросительно мяукнул котенок.
Но с другой стороны, животные же чувствуют зло, не так ли? Всякое там потустороннее, покойников, призраков, да ведь? Если бы тут бродил дохлый бомж, то котенок так беспечно не мяукал, а заткнулся бы, сидя ниже воды, тише травы – или, наоборот, орал бы истошно.
– Чучело, чучело, – пробормотал он старую детскую песенку, отчего-то пришедшую на ум. – Чучело-мяучело…
Стоило Кириллу отвернуться, как густая и тяжелая темнота схлопывалась за его спиной. Она нависала плотной завесой, через которую не пробивался свет, не проникали никакие звуки. В ней исчезали цвета, предметы теряли размер и форму – и казалось, что эта темнота поглощает их. Пожирает, чтобы разрастаться, набирать силу и мощь, чтобы иметь возможность жрать еще, жрать все, что попадает в ее лапы, и всякого, кто заходит в ее владения…
– Чучело-мяучело на трубе сидело, – запел он, отгоняя страх.
Эта темнота шла за ним по пятам, след в след – в какой-то момент Кириллу даже казалось, что ему действительно что-то мешает отрывать ногу от земли – точь-в-точь как наступают на пятки в толпе. Его руки затряслись с новой силой, сердце заколотилось так, что стало даже больно дышать, в висках запульсировала кровь. Ужас догнал его и сжал в своих объятиях.
– Чучело-мяучело песенку запело! – проорал он дурным голосом.
Единственное, что останавливало его от того, чтобы обернуться и опрометью броситься назад, к выходу, домой, к солнцу, к Марине, к людям – так это страх ступить в темноту. Залезть в пасть этому ненасытному чудовищу, что сейчас за его спиной пожирает пространство и время. Одному.
Поиск котенка превращался уже в поиск ключа, который позволил бы Кириллу вернуться назад. Ему казалось, что с котенком в руках – с живым маленьким теплым комочком – он беспрепятственно вернется обратно. Что тьма не посмеет напасть на него, что все те тени, что сейчас толпятся за его спиной – а они толпятся, толпятся, толпятся, иначе от чего у него так знобит спину и встают дыбом волосы на затылке! – рассеются как дым, что никто и ничто не навредит ему в этом подвале…
– Всем кругом от чучела горестно и тошно… – срывающимся голосом прохрипел он.
– Мяу! – был ответ.
Луч света шарил по грязному полу, выхватывая то комья мятой дерюги, то обломки досок, то куски какого-то металлолома – и все это валялось в песке и пыли, покрывавших пол толстым слоем. Кирилл прищурился, пытаясь разглядеть следы кошачьих лапок – так будет легче обнаружить убежище котенка, – но ничего не увидел.
Только глубокие разводы, словно тащили что-то тяжелое.
«Вот оно, логово бомжа, – догадался Кирилл. – Может быть, он-то как раз котенка сюда и притащил. Питомец, все такое… И, видимо, как помер, так котейка орать и начал от голода».
Кирилл вздохнул, представив грязь, в которой ему придется копошиться, если котенок действительно забился в бомжовые тряпки. Как бы не подхватить вшей, блох и прочую паршу…
В этом месте проход между коммуникациями сильно сужался – настолько, что плечи стали упираться в трубы. Кирилл попробовал было протиснуться боком, но уже через десяток шагов оказался зажатым между леденящим спину с одной стороны и припекающим грудь с другой металлом.
Уготовить своему лицу участь бомжовой рожи ему не улыбалось, так что он осторожно сполз вниз, присев на корточки, и посветил фонариком. Луч уперся в сгусток темноты в трех-четырех метрах впереди – видимо, искомое бомжовое лежбище.
– Мяу! – призывно раздалось оттуда.
В принципе, можно проползти на пузе… Бог с ними, с футболкой и штанами, наконец-то его одиссея по этому проклятому подвалу закончится.
– Всем кругом от чучела горестно и тошно… – ласково пробормотал он, подкручивая фонарик, чтобы выставить режим узконаправленного света.
Острый луч ощупал пол, потом трубы, а потом…
От котенка не осталось практически ничего. Свесившаяся тряпочкой пустая шкурка, веревочка хвоста и голова с отвисшей челюстью и вывалившимся сухим язычком – как будто кто-то нацепил малыша на манер дурацкой пальчиковой куклы. Безвольно повисшие лапки подрагивали, когда тельце дергалось то в одну, то в другую сторону.
– Мяу, – раздалось откуда-то над котенком.
Кирилл поднял голову и фонарик повыше…
…и хрипло выдохнул.
Это были не совсем щупальца – скорее это напоминало множественно сегментированные лапки, волосатые и грубые, гнущиеся во все стороны и в любой своей части.
На одной из них торчало что-то сморщенное, скукоженное, с клоками – шерсти? волос? Из него тянулась тонкая ниточка, на которой, как шарик из детской забавы, болтался белесый высохший комок.
Все остальное – темнота, густая, плотная темнота, которую не мог прошибить луч фонарика. И в этой темноте горели три ярких красных, с горизонтальным зрачком глаза.
Он столько раз читал в дешевых ужастиках эту фразу: «Глаза горели ненавистью», – и всякий раз ухмылялся: как это можно определить? Глаза не могут гореть – как не могут светиться, сверкать и делать многое из того, что приходит на ум бездарным авторам. Максимум – бликовать отраженным светом, и то не всегда. Да и выражать какие-либо эмоции глаза не могут. Это всего лишь покрытый слизью шарик с цветным пятном посередине – какие эмоции? За них отвечает мимика лица – брови, рот, носогубные складки, в конце концов…
Марина терпеть не могла эти его рассуждения – жаловалась, что он на корню убивает все обаяние книги. Кирилл же возражал, что он всего лишь ратует за правду и прозу жизни.
И вот теперь он понял, как ошибался.
Ужас продрал его до печенок, скрутил в тугой узел желудок и заставил мочевой пузырь сжаться и расслабиться. В паху намокло и потеплело. В этот момент Кирилл не отвечал за свое тело, да и вряд ли вообще ощущал его – взгляд был прикован к жутким глазам, что глядели на него из темноты. Да и глядели ли? Вряд ли можно было подобрать слово, которое хотя бы приблизительно описало то, что делали эти глаза. Смотрели? Таращились? Пялились? Они вынимали душу, выжигали внутри все теплое и живое, заливая внутрь расплавленный лед – скажи раньше кто-нибудь Кириллу, что ему на ум придут такие сравнения, он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Но сейчас, превратившись в натянутый нерв, в обнаженный комок животного ужаса, он понимал, что иных слов, могущих описать то, что совершали эти глаза, нет.
Что-то хрустнуло и упало на пол.
Кусок челюсти с желтыми гнилыми зубами. На обломках костей еще дрожало розоватое слизистое желе.
Кирилл даже не смог заорать – из раззявленного рта вырвался только сип. Не смог и сразу убежать – на негнущихся ногах сделал шаг назад, потом еще и еще… И лишь когда сумрак снова стал сгущаться над жутким существом, он заставил себя развернуться и побежать.
За спиной шуршало – словно кто-то тащил что-то тяжелое. Существо не издавало ни звука – но Кирилл понимал, чувствовал, ощущал всем телом, что оно там, позади, гонится за ним. В ушах шумело, сердце колотилось где-то в висках, в груди булькало, а легкие разрывало от жгучего воздуха – но Кирилл продолжал бежать, понимая, что каждая секунда может стать для него последней.
Луч света остервенело метался перед ним, не сколько помогая, сколько мешая, вызывая к жизни миражи, искажая размеры и расстояние. Казалось, что из-за каждого выхваченного светом угла на него таращится мертвый бомж – высохшее лицо отдельно от окровавленного мяса головы, заскорузлые пальцы вцепились в кирпич, синюшный язык жадно трепещет в предвкушении…
Шуршание не отставало.
Знакомый удар в лоб, от которого Кирилл на этот раз споткнулся и упал на колени – и в стороны полетели обрывки резинки, а луч света с тихим шорохом ускакал на землю.
Кирилл рванулся было в попытке поймать фонарик, но краем глаза уловил движение в темноте. Он отшатнулся в сторону, прижавшись спиной к стене – что-то хлюпнуло, и он провалился назад, упав навзничь, больно ударившись затылком. На лицо посыпалась кирпичная крошка, волосы слиплись от плесени и влаги, футболка набрякла холодным и склизким.
Это была небольшая ниша, образованная выпавшими когда-то – или разворованными – кирпичами и сгнившей известкой. Кирилл поместился там, как в коконе, прижав колени к подбородку и свернувшись в комочек.
Сердце колотилось так, словно хотело выскочить из груди – о, теперь он смог по достоинству оценить и этот штамп! Шумное прерывистое дыхание предательски вырывалось из пересохшего горла – и Кирилл заткнул рот кулаком, чтобы не выдать себя.
Оно выползло медленно, подтягиваясь на десятке щупальцев-лапок, вытягиваясь и снова сжимаясь. Три глаза – каждый вращается отдельно от остальных – обшаривали каждую щель. Кирилл сжался и вдавился в нишу, закрыв глаза ладонью. Ему казалось, что если он еще раз встретится взглядом с этим чудовищем, то его нервы уже не выдержат – он вскочит на ноги с истеричным смехом и сам бросится в объятия этих отвратительных лап.
Шуршание прозвучало где-то совсем рядом и затихло.
Кирилл осторожно глянул между пальцев.
Оно склонилось над фонариком. Огромное, бесформенное, не принадлежащее ни к одному из известных Кириллу видов существ. Лапки-щупальца аккуратно ощупывали фонарик, дохлый котенок постукивал лбом по земле, волосы, свисающие с осколка черепной коробки, подметали пол.
Фонарик перекатывался то на один бок, то на другой, луч света хаотично метался, выхватывая то бездонный провал пасти, то покрытую вязкой слюной жевательную пластину – у существа не было зубов, только два сплошных костяных выступа, из-за которых его пасть словно скалилась кровожадной и жуткой ухмылкой, – то длинные, все в жестких волосках и мембранах, сяжки, подрагивающие и словно пробующие воздух на вкус.
Кирилл сильнее вбил кулак себе в глотку – до боли в растянутых мышцах челюсти.
Существо начало озираться, продолжая пульсировать и менять очертания. Сяжки вытянулись вперед, и существо стало поводить ими, делая загребающие движения, словно гнало к себе воздух. Эти пассы гипнотизировали, заставляя раскачиваться им в такт. «Сюда, сюда, сюда…» – возникло у Кирилла в голове. Он подался вперед, неотрывно следя глазами за движениями сяжек, ком вязкой слюны застыл в горле, каждый мускул задрожал от напряжения…
Перед глазами снова мелькнула выпотрошенная и насаженная на щупальце тушка котенка. Один глаз вытек, и пустая глазница таращилась на Кирилла с каким-то немым укором.
Наваждение спало, и Кирилл, судорожно сглотнув, глубже вжался в нишу, чувствуя, как мягко подаются под его спиной мох и плесень. В нос ударил запах затхлости и гнили.
Пожилой коммунальщик, который проверял трубы в прошлом году, рассказывал, что когда-то, лет пять назад, по весне и осени подвал превращался в непролазную вонючую топь. Потом пол кое-где приподняли, стоки заделали, а на лужи махнули рукой, решив, что со временем высохнут сами. Видимо, Кирилл сейчас попал как раз в одну из так и гниющих с того времени ниш – и то ли ее запах, то ли тень, то ли поглощающая звуки влага скрывали его от существа. До поры до времени.
Масса над фонариком вытянулась, достав практически до потолка подвала.
– Мяу? – жалобно спросила она.
Кирилл затаил дыхание.
Существо подняло щупальце и резко ударило по фонарику, вколотив его в песок и грязь. Тонкий пластик хрустнул, и свет погас, погрузив подвал в кромешную и давящую темноту. Кирилл зажмурился, ожидая, что вот-вот, сейчас, эта тварь нащупает его, коснется – а потом наколет на себя, выпотрошит, превратит еще в одну иссохшую приманку. Он будет болтаться на одном из его мерзких волосатых щупалец – точь-в-точь как несчастный котенок, высосанный до капли, пустотелый, слепо тараща пустые глазницы.
Шуршание приблизилось.
В висках пульсировало, легкие разрывало. Остро хотелось выдохнуть и глотнуть еще воздуха, но Кирилл не мог этого сделать. Горло сдавило спазмом, а в грудную клетку словно вбили распорку.
По нише поскребли.
Кирилл впал в какое-то полуобморочное оцепенение; время растянулось в длинный вязкий – месяц? год? столетие? – перед глазами плавали белые полосы, в ушах шумела кровь. Все тело – за исключением, быть может, век, – онемело, Кирилл не ощущал его и не удивился бы, если б обнаружил, что он уже выпотрошен и насажен до самого мозга на волосатый кол, гнущийся во все стороны в любой своей части.
Что-то шумно вздохнуло – и шуршание стало медленно удаляться.
Кирилл разлепил до боли зажмуренные глаза. Темнота перед ним пульсировала, но это была пустая темнота. В ней не было ничего – и никого.
Шуршание отдалялось вперед, откуда Кирилл когда-то пришел. Или мог прийти – он уже понял, что окончательно и бесповоротно заблудился. Существо, разумеется, ориентировалось в подвале гораздо лучше случайно попадавших туда жертв – и теперь упорно направлялось к открытой двери, нащупывая след по запаху на земле, а может быть, по рассеянным в воздухе феромонам…
К двери! – сердце подскочило в груди, и Кирилл замер. К двери – над которой находится их балкон! А на балконе сидит ничего не подозревающая Марина! Нет, нет, ни в коем случае, этого нельзя допустить!
Кирилл выполз из ниши и начал озираться по сторонам, таращась в вязкую темноту. Не было смысла искать фонарик – вряд ли бы у него это получилось, да и тот, скорее всего, безнадежно испорчен – и самое главное, луч света мог выдать Кирилла… Точно, как же он этого не понял раньше! Он же фактически орал чудовищу: «Эй! Я тут, я совсем рядом!» – только что не расстилал ковровую дорожку…
Кирилл сделал было несколько неуверенных шагов – и остановился. Существо затаилось где-то там и уже, вероятно, поджидает его. Может быть, оно растеклось по узкому проходу между трубами и раскрыло обрамленную костяными выростами пасть – и он зайдет туда, перешагнет через острую пластину, а может быть, и запнется о нее, но будет уже поздно. Совершенно и окончательно поздно…
Нужно вернуть существо сюда. Нужно снова оказаться впереди него. Нужно заставить его ползти. И если оно молчит – то пусть заговорят песок и земля!
Кирилл дернул зубами уже подсохшую корочку на ладони. Кольнуло болью – Кирилл не видел, но ощущал, как на ранке набухает капелька крови.
Он подцепил зубами краешек кожи и рванул вверх и в сторону, разрывая ссадину все сильнее и сильнее, обнажая сосуды, вскрывая капилляры.
На этот раз болью уже полоснуло, жгуче запульсировала мякоть под большим пальцем. Хорошо, все правильно, хорошо!
Запястье защекотало – струйка крови из разорванной ранки потекла вниз. Кирилл, сберегая каждую каплю, мазнул рукой по трубе. Потом еще и еще.
«Антисанитария, – мелькнуло в голове. – Зараза. Столбняк. Нельзя так».
– К черту, – прошипел Кирилл. – К черту.
К черту! Даже если потом отрежут руку – главное, что он остальной спасется. Можно пожертвовать рукой, чтобы спастись всему!
Он тер и тер по трубе, пока не понял, что уже стачивает кожу о шершавую краску.
Только тогда он вернулся в ту нишу, где прятался раньше, – и вывалялся в слизи и плесени, зачерпывая грязь обеими руками, вымазывая волосы и засовывая под футболку.
А потом пошел – медленно, прижимаясь спиной к холодной трубе, мелкими шажками, боком – как трусливый крабик.
А когда мимо него пронеслось шуршание – оглянулся.
Темная масса – чернее мрака, царившего в подвале, как бы дико это не звучало, каким бы невозможным это ни казалось – приблизилась к трубе и обволокла ее.
Кирилл бежал – бежал со всех сил, на которые только был способен, спотыкаясь, падая, обдирая колени и руки. Кровь он тут же вытирал о песок и трубы – ни капли не должно было быть на нем, пусть чудовище задержится, пусть оно собьется с пути.
Тьма, чернее самого мрака, гналась за ним по пятам.
Кирилл уже и понятия не имел, где же находится та спасительная дверь, через которую он спустился в подвал. Скорее всего, он сейчас плутал по спирали или по кругу, заблудившись в переплетениях труб. Кирилл не мог бежать по прямой – в расстояние, что он отмахал, дом укладывался дважды, а то и трижды. Ему уже начало казаться, что он провалился в какой-то параллельный, потусторонний мир, который весь являлся одним сплошным подвалом.
И тут краем глаза он увидел слабый – едва заметный, как мутное белое пятнышко, – лучик света.
Выход! Там где-то выход!
Кирилл рванулся туда – но трубы преградили ему дорогу. Он метнулся влево, потом вправо, лихорадочно ощупывая их руками. Никак! Он был заперт в этом лабиринте, и хотя до спасительного окошка было не более пяти метров, Кирилл не мог преодолеть даже эту малость.
Он рухнул на землю и попытался пролезть под трубами.
Спину обожгло, мокрая футболка зашипела.
Кирилл инстинктивно дернулся было назад, но тут же остановил себя – и, стиснув зубы, пополз вперед.
Футболка уже не защищала спину, кожу не просто пекло, а жгло, а в тех местах, где ее касалась мокрая ткань, обваривало – Кирилл даже чувствовал, что стоит ему замешкаться, как отрываются прикипевшие к горячему металлу клочья кожи и набухают водянистые волдыри – но он полз и полз вперед, моля только об одном: чтобы проход не закончился тупиком.
В какой-то момент голова перестала проходить между трубой и полом. Кирилл тыкался ошпаренным лбом – но без толку, подбородок и зубы упирались в землю, расквашивая нос. В панике он начал слепо шарить руками вокруг, пока не наткнулся на обломок кирпича, практически полностью вросший в пол. Одним рывком он выворотил его – и со всего размаху стал вбивать под трубы, роя плотный мокрый песок и выковыривая комья глины. Понадобилось минуты три – долгих растянутых на три столетия минуты, – чтобы голова наконец-то прошла: боком, обдирая и сплющивая уши, но прошла. Телу пришлось распластаться, раскинув руки и вдавив грудную клетку в пол, как полураздавленный таракан, – только тогда, счищая кожу с хребта, ему удалось протиснуться к вожделенному свету.
Это было одно из тех самых заколоченных подвальных окошек – свет падал через щели между плохо пригнанными досками.
– Эй! – заорал Кирилл, прижавшись губами к щелям. – Эй! Помогите мне! Я тут!
Губы больно обдирались о шершавые доски, голос срывался.
– Эй! Сюда! Помогите!
Без толку.
Шум июльской субботы – это гвалт детей, чириканье воробьев, шорох шин по асфальту, ор телевизоров из открытых окон. Никто не услышит слабый крик практически из-под земли.
Кирилл бил и бил кулаками в доски, кричал и молил помочь.
Но никто его не слышал.
Двор жил своей неторопливой летней жизнью, ему не было дела до Кирилла.
За спиной послышалось знакомое шуршание.
Кирилл похолодел и застыл, не решаясь оглянуться. Неужели сейчас? Сейчас, когда от спасения его отделяют всего лишь пара сантиметров древесины?
Шуршание приблизилось.
Кирилл медленно развернулся, шаря руками за спиной в поисках хоть какого-нибудь оружия. Но на лестнице не было камней – лишь гнилые скользкие доски, проминающиеся под пальцами.
Существо нависало перед ним, зажатое в узком проходе буквально в паре метров от Кирилла. Сяжки чуть трепетали, щупальца нетерпеливо шевелились, пасть то открывалась, безмолвно втягивая в себя воздух, то снова закрывалась, мертвый котенок превратился в измохраченную тряпочку – а глаза… глаза опять делали это.
Кирилл прижался спиной к лестнице. Под руками с вялым щелканьем развалилась доска, вогнав ему в палец занозу. Заноза… значит, там есть кусок сухого дерева?
Выкручивая руку за спиной и выламывая суставы, он несколькими рывками отодрал что-то – и вытянул перед собой. Колышек. Небольшой, сантиметров в пятнадцать обломок, похожий на колышек, чуть острый с одного конца и резко расширяющийся к другому. Это не оружие. Оно слишком короткое, слишком толстое, слишком…
Волосатое щупальце протянулось к Кириллу.
Терять было нечего – и он с размаху, закусив губу от усилия, вогнал колышек в эту дрянь.
И звуки вокруг него взорвались тишиной. Она упала резко, как бетонная плита, ослепив на мгновение и чуть не сбив с ног. Существо ревело от боли этой тишиной, беззвучно выло так, что закладывало уши и разбухала изнутри голова.
Оно ударило раненым щупальцем – в нем так и болтался, проткнув его насквозь, колышек – в сторону Кирилла. Остальные были зажаты в проходе – видимо, существо неудачно протиснулось, а возвращаться и менять положение ему не давали азарт хищника и жажда легкой добычи.
Оно било и било, не жалея раненую конечность. Выбивало крошку из кирпичной стены, вырывало куски мха, ссыпало целые пласты песка.
Кирилл наклонялся то в одну, то в другую сторону, умудряясь уворачиваться с помощью какого-то шестого чувства.
Щупальце полетело ему прямо в лицо.
Кирилл парировал рукой – но промахнулся. Удар оказался слишком слабым, скользящим, он не оттолкнул щупальце обратно, а лишь сбил в сторону. Рука тут же онемела, предплечье оделось в кровавую манжету.
Существо заворочалось, втягивая раненое щупальце обратно и выпрастывая другое. Но что-то пошло не так. Щупальце дергалось над головой Кирилла, что-то скрипело, сыпалась труха, но оно не возвращалось обратно.
Кирилл обернулся. Отвратительная конечность тряслась, как в агонии, плотно прижатая к подвальному оконцу. Видимо, последний удар развернул колышек, и тот проскользнул в щель между досками, плотно заклинившись там.
Щупальце дернулось. Потом еще и еще. Доски трещали и выгибались.
Кирилл нагнулся, сгреб мокрый ком земли – и швырнул его в чудовище. Не целясь, не стремясь куда-то попасть – просто швырнул. Затем пришла очередь горсти песка, большая часть которого осыпалась тут же на самого Кирилла, залепив глаза и рот. Потом полетела гнилая доска и какая-то тряпка.
И снова беззвучный рев, от которого к горлу подкатил ком тошноты – но уже рев злобы и ненависти. Щупальце задергалось еще сильнее, то скручиваясь в жгут, то разворачиваясь.
Что-то лопнуло над головой Кирилла, посыпались обломки досок, а пятачок, на котором он стоял, залило ярким – о, каким ярким он сейчас казался! – светом.
Кирилл рванулся, подтягиваясь на ободранных руках, одним прыжком преодолев все пять ступенек, и метнулся в зияющий проем, выбивая телом остатки досок, раздирая плечи об острые выступы.
Щиколотку схватило, выкручивая и выламывая. Кирилл взвыл – во второй раз за время этой безмолвной погони осмелившись подать голос – и дернул ногу. Что-то хрустнуло, жгучей болью опоясало лодыжку, но Кирилл продолжал вырывать ногу, готовый даже лишиться ступни. Пусть не целиком, не весь, но он спасется, он выживет! Он уже наполовину вывалился из подвала наверх, пусть останется хотя бы эта половина!
Он скреб пальцами землю, ломая ногти. В рот набились песок и пыль, связки сжало судорогой – он уже не мог кричать, только едва слышно сипеть – не громче, чем старый сломанный водопроводный кран.
С заинтересованным лаем к его голове подскочил шпиц – невероятно тупая и злобная псинка из дальнего подъезда. Рыча и скалясь в лицо Кириллу, он начал метаться между окровавленными руками, топча их лапами. Кисти взорвались болью – казалось, что собака дробит ему кости, как асфальтоукладчик. Кирилл зашипел, выбросил одну из рук вперед и схватил собаку. Та взвизгнула и попыталась вырваться – но Кирилл держал как клещами, держал с такой силой, что пальцы свело судорогой.
А потом, вывернувшись юзом, зашвырнул собаку в темный провал дверного проема.
Щупальце ослабило хватку – лишь на мгновение, но Кириллу и этого хватило. Он рванул ноги на себя, сворачиваясь в тугой узел, видя, как волосатое многократно сегментированное нечто соскальзывает с его лодыжки, соскальзывает, срывая кроссовок, обдирая в лохмотья набрякший кровью носок, снимая кожу тонкой стружкой.
Кирилл крутанулся, отталкиваясь руками и тугой пружиной выбрасывая тело из подвала – и теперь уже лежал снаружи, на животе, плашмя, лицом к проему, из которого только что так рвался. Лицо было залито слюнями и соплями, залеплено землей, на зубах скрипел песок – и Кирилл оскалился, готовый кусать и рвать то, что сейчас снова потянется к нему. Пусть это будет последнее, что он успеет сделать в этой жизни, но так просто он не сдастся!
Что-то метнулось в темноте подвала – темнее самого мрака – и исчезло.
– Лает… – неуверенно сказала Марина, оглядываясь на подвал.
– Нет, – твердо ответил Кирилл, принимая у нее коробку с люстрой. – Нет.
Грузовая газелька была уже заполнена их вещами. Удивительно, как быстро можно найти новую квартиру, если из всех предпочтений будет только «как можно скорее». Удивительно, как покорно соглашается жена переехать в другое место, когда муж является домой, покрытый грязью и кровью. И совершенно неудивительно, почему решаешь сохранить все произошедшее в тайне.
Из подвала гавкнули. Жалобно и призывно.
– Нет, – ответил ему Кирилл.
Елена Щетинина
Нет места на земле
Бориска, зачерпывая воду, опасливо косился на середину реки. Там холодный быстрый приток Лены сшибался с камнем, похожим в лунном свете на голову огромного змея, который, как рассказывали, обернулся вокруг земли. Змеиная башка то ревела, то урчала, то шипела.
В полном бачке плеснулась вода. Бориска вцепился в ручку, поднатужился и понял, что не поднимет такую тяжесть.
Эх… Воды-то нужно много – мать вот-вот родит. А сестра Верка, зараза, побежала к артельным за помощью, да, видать, и осталась там на ночь. Не нужны ей новые брат или сестра. И мать с Бориской тоже без надобности. Верка замуж хочет – четырнадцать годков уже. Мать говорила, что в эти годы она таскала привязанной у груди старшую сестру, которую Бориска ни разу не видел. А может, видел да забыл.
Он чуть оторвал бачок от земли, но не справился, обозлился и пнул железный бок, и без того мятый. Вот же радость – бабью работу проворачивать! Даром что сестер семь голов. Только с матерью осталась жить одна Верка, блудня и попрошайка. Да и та скоро сбежит. Или уже подалась за лучшей долей.
Бориска кряхтел, его прохудившиеся ичиги скользили по стылой майской земле, которая оденется зеленью еще не скоро. Через каждый шаг переставлял бачок, тянул к бараку, из которого доносился приглушенный вой.
Змей на реке взревел особенно страшно. Почудилось: вот сейчас нависнет над Бориской алчная пасть, капнет за шиворот ледяная слюна, хрупнет в страшных зубах, как кедровый орешек, голова.
Бориска рванулся вперед, ручка вывернулась из ладони, бачок покатился с откоса к реке. Что-то заскрежетало – словно и впрямь змей схватил железо, стал мять в зубах. А потом дрогнула земля.
Но Бориска уже ввалился в дверь барака, где тетка Зина орала на мать:
– Тужься, шалава!
Мать мычала сквозь закушенную губу, ее шея со вздувшимися венами и лицо казались совсем черными в полумраке, несмотря на то что вовсю чадили керосинки. Свет лампочки Бориска видел только в поселке, когда прошлой осенью ездил с матерью за подтоваркой. В Натаре электричество отключили еще до Борискиного рождения.
Он стал возиться с ведрами, переливая остатки воды в одно большое.
Мать, видно, отпустили муки, потому что вместо воя послышалось:
– Зин… ты не злися… Не от твово ребенок-то… Ни при чем Виктор… В тайге меня кто-то валял, не помню кто. Пьяная я была…
Тетка Зина стала обтирать разведенные ноги матери, шипя ругательства – рожать шалава собралась, а ни йода, ни марганцовки не припасла.
Бориска ушел за печку, как делал всегда, когда ему было горько и обидно.
А все мать. Повадлива на блуд и водку. И Верка такая же. Сбежала из интерната. А Бориска бы рад учиться, но его без документов не взяли в начальную школу Кистытаыма, потому что гулящая мать забыла их оформить. И пособий из-за этого не получала.
Бориска заткнул уши от нового воя. Уж лучше бы в тайгу убежал, пока все не кончится. К артельным он ни ногой – их ребятишки все время дерутся и обзываются. И взрослые туда же – никто мимо без подначки не пройдет. Да что там, даже собаки норовят вырвать клок старых штанов и злобно облаять. Бориска никогда не станет клянчить у артельных хлеб или крупу. Будет варить березовую заболонь, как якуты делают во время бескормицы, но никому не поклонится.
Барак тряхануло так, что по печке поползли новые трещины, а с потолка посыпалась труха.
И тут же громко завопила тетя Зина:
– Ты с кем урода наваляла? На, смотри, что вылезло! Ой беда, беда…
Бориска похолодел. Неужто мать выносила ублюдка, ребенка таежного духа иччи? Он ведь помнит царапины на материнской спине, когда ее нашли охотники в тайге и приволокли в поселок.
Все тогда опасливо шептались: Дашку медведь покрыл, не иначе. А шалава, зажав ладони меж окровавленных бедер, пьяно щурилась и хихикала, как ненормальная.
Мать заголосила, но тетин Зинин басовитый рык перекрыл ее причитания:
– Чего воешь? Поздно теперь выть. Нужно тварь убить, пока за ней не пришел… отец. У-у, гадина, моя б воля, тебя саму придавила. Одно горе от тебя, Дашка. Детей наплодила – государство корми. Нагуляла с духом – Зинаида на себя грех бери. Ну, что решила? Сдохнем все через твое распутство или спасаться будем?
Бориска не услышал, что ответила мать, только увидел тетю Зину, которая прошла к ведру с водой и плюхнула в него что-то багрово-черное с дергавшимися крохотными ручками-ножками. Подумала и вынесла опоганенную посудину за дверь, в ревевшую непогодой майскую ночь. Потом вернулась к матери.
Бориска не смог удержаться и выскользнул из барака.
Над Натарой бушевала гроза. На реке безумствовал змей. А в Борискиной груди росло какое-то непонятное чувство. От него стало так муторно, что хоть кричи в темноту.
Бориска присел на лиственничные плахи, которые были вместо крыльца.
Ладно, пусть из матери вылез ублюдок. Но ведь он – его брат. Или сестра. Узнать-то ведь можно, кто родился?
Бориска весь вымок, но в барак решил не возвращаться.
Полыхнула молния.
Бориска глянул в ведро и увидел складчатое мохнатое тельце, сморщенное, как старый гриб-дождевик, личико.
Жахнул гром, от него вздрогнули бревенчатые стены барака. Только Бориска точно окаменел. Ну как же так? За что это все ему?
Дождь почему-то стал соленым и едким.
Бориска нагнулся над ведром, дожидаясь небесного огня, которого в тайге боятся пуще зверья, холода и бескормицы. В лесу молния – смерть. А Бориске она сейчас откроет правду.
Миг, когда голубовато-белый пронзительный свет сделал видимыми каждый комок грязи перед крыльцом, каждую щербинку стен, растянулся на долгое время. И Бориска успел заметить, как под слоем воды дрогнули и открылись зажмуренные веки. На него глянул горящий желтым огоньком глаз с черной щелью зрачка.
Бориска заорал.
Кричал долго и истошно, пока не вышла тетя Зина.
– Живой… живой… – только и смог сказать Бориска, указывая на ведро.
Тетя Зина страшно, по-мужичьи, заматерилась, потом перешла на молитву.
Толкнула ногой ведро, вытащила из-за плах топорик и размахнулась.
Бориска потерял сознание.
Очнулся на рассвете возле печки. Видно, тетя Зина собрала все одеяла, которые водились у матери с Бориской, заботливо постелила на лавку и уложила его, беспамятного.
В носу засвербело от запаха нашатыря. Этого добра было полно: выдали вместо сухого молока на подтоварке. Мать было раскричалась, но ей объяснили – бери, что завезли, или талоны пропадут. Бориска тогда расстроился до слез: ну почему ему досталась такая бестолковая мать, которая доказать ничего не умеет? И все этим пользуются.
А вот сейчас в воняющем нашатырем бараке он подумал, что мать всегда была точно дитя малое. Но ничего, он теперь за нее станет заступаться. Отучит пить водку. Сам будет работать и мать заставит.
Подошла тетя Зина, ласково провела шершавой огромной ладонью по щеке. Ее глаза были в красных прожилках, точно она всю ночь просидела у дымного костра. Сказала:
– Проснулся? Вставай да пойдем ко мне. У вас даже хлеба нет. А я накормлю.
Бориска сразу взъерепенился и буркнул:
– С хлеба брюхо пухнет. Я его не ем. Похлебки себе сварю, матери дам.
По весне похлебку они варили разве что из молотых корневищ рогоза да жухлых клубеньков картошки. Но не признать же перед этой толстухой, что мать – плохая хозяйка, не умеет растягивать на долгое время привозные продукты, ухаживать за плохонькой землей огорода? Хотя чего там, среди артельских не было ни одного, кто бы не обругал и не обложил матом по любой причине незлобивую и непонятливую Дашку.
Тетя Зина сдвинула было грозные рыжеватые брови, но морщины на ее лбу разгладились, и она снова с непривычной добротой позвала:
– Пойдем, не ерепенься. И в кого ты такой поперешный?
– Как мать? – сурово спросил Бориска, сел и начал нашаривать под лавкой ичиги. Кожаная обутка совсем прохудилась. Ее и отдали уже старой, а потом Бориска таскал где ни попадя.
Тетя Зина промолчала. На вопрос, где Верка, пожала плечами.
Под ложечкой возник и стал расти ледяной комок. Бориска снова почувствовал, как каменеет. Но послушно встал с лавки и пошел за тетей Зиной. В угол, где смирно и недвижно лежала мать, даже головы не повернул.
Но краем глаза все же зацепил ее синеватый профиль на фоне обшарпанной стены. Видеть мать такой было страшно.
С этой минуты в Бориске что-то сломалось. Он позволил себя накормить, вымыть, одеть в старье, которое осталось от сына тети Зины, служившего в армии. Ячневая каша с тушенкой показалась безвкусной, от горячей воды кожа даже не покраснела; под рубашкой сильно зачесалась спина.
Тетя Зина, которая искоса все присматривалась к парнишке, быстро задрала на нем рубашку, глянула, потемнела лицом и о чем-то зашепталась с мужем Виктором.
Бориска услышал, как мужик сказал: «Ну так гони его отсюда, еще других иччи притянет». При чем здесь злые духи, Бориска не понял, но не стал дожидаться, пока его прогонят, поднялся из-за стола и вышел во двор, потом на улицу. Тетя Зина выскочила за ним, однако не остановила.
Бориска увидел себя как бы со стороны: вот по дороге с рытвинами бульдозера, под ярким солнцем удаляется в лес худой пацанчик в белой рубашке. И с каждым его шагом прочь от изб на Натару наползает тьма.
Бориска даже самому себе не смог бы объяснить, как проплутал в тайге несколько дней, не покалечился в буреломе, не замерз и не пропал с голодухи. Словно бы сам стал одним из лесных духов, которые бродят в вечной тени огромных стволов, метят их прозеленью мха, пятнами лишайников. Жаждут встречи с человеком в надежде утолить голод и тоску по утраченному телу.
Он помнил, как лучи солнца обжигали глаза и ненадолго лишали зрения. И как потом в сумраке, который остро пах истлевшей корой и прелой хвоей, он начинал видеть следы животных и редких странников, когда-либо побывавших в этом месте.
Наверное, не год и не два назад, а тогда, когда не было и в помине Натары с ее злыми жителями, здесь прошел бродяга. А его след до сих пор стелется едва заметной дымкой, колышется над листьями папоротников, струится между елей и пихт. И обрывается там, где под слоем опадня лежат кости.
А еще странно будоражила пролитая когда-то кровь. Там, где филин вонзил когти в заячью шкуру, где росомаха скараулила олененка или прыгнула на грудь охотника отчаявшаяся спастись, загнанная рысь, Бориска вдруг начинал ощущать азарт и голод. Да такой, что все нутро точно пылало. И попадись ему в этот миг хоть гадюка, хоть человек, напал бы и убил.
День стал ночью, а ночь – днем. Сон – явью, а явь – смутными видениями. Ходьба, плутание – покоем, а неподвижность – быстрым бегом. И так продолжалось до тех пор, пока Бориска не выбрался к ольховым зарослям. Вот они поредели, разбавились чахлыми березами и кустами черемухи. Под ногами захлюпало, резко запахло водой, которая скапливается над пластами вечной мерзлоты.
Если бы Бориска не пришел в себя, он бы утоп в болоте. А так остановился, чувствуя зыбкое колыхание под ногами. Словно трясина хотела утянуть его, но не могла.
Впереди, на ярко-зеленом пятне ряски посредь черной жижи, стояла девка. Бориска с трудом признал в ней Верку. Сестру словно источила болячка. Верка грустно смотрела на Бориску, но он не верил в ее печаль. Верке вообще верить нельзя было: скажет одно, сделает другое, обманет, предаст и глазом не моргнет. В руке она держала туго стянутый узелок. Сквозь тряпку сочился багрянец, пятнал ряску кровавыми горошинами.
Верка скривила губы – вот-вот заплачет – и протянула узелок брату.
«Что это у нее?..» – подумал Бориска и вдруг вспомнил звук, с которым топор опускался на лиственничную плаху.
– А наша мамка померла… – сказал Бориска, отчего-то зная наперед, что сестре это известно. Но вот откуда? Гулена же загодя из дома ушла. И у артельских ее не было. И возле барака. Как попал ей в руки узелок с тем, что осталось от уродца?
Верка принялась точить слезы и тихонько подвывать.
Бориска страшно не любил всякое нытье и сам никогда не плакал. Однако нужно пожалеть дуреху, хоть она и старше на четыре года. Обнять, что ли, – сеструха все-таки. И узелок похоронить. Нельзя его с собой таскать. Хотел уж было шагнуть к Верке, ведь если ее топь держит, то и его не проглотит? Но заметил, как сверкнули желтым отблеском ее глаза, которые глубоко запали в глазницы.
Где-то он уже видел такое свечение… В ведре с водой. Как только вспомнил, сразу же отскочил назад.
А Веркино лицо почернело, словно проступила копоть. Зло сверкая желтыми глазами, сестра стала приближаться.
Бориска глянул на ее старые кроссовки, кое-где скрепленные проволочкой, которые не касались поверхности болота, и похолодел. С каких пор сеструха научилась летать? Не Верка это!
Кто-то в облике сестры снова протянул кровавый узелок, прорычал:
– Теперь ты вместо него!
Бориска попятился, оступился и упал копчиком на корягу. Все, сгинет он сейчас. И вспомнить перед смертью некого – один остался.
Но земля зашлась в дрожи, болото всколыхнулось и вспучилось.
Воздух стал таким плотным, что не вздохнуть.
Комья дерна, зеленые тяжи ряски, потоки черной жижи взвились вверх.
Из самого нутра болота стал вырастать камень.
Бориска, отерев залепленные грязью глаза и проморгавшись, узнал башку речного змея. Из провалов «ноздрей» вырвались клубы пара, выстрелили струи воды. Со скрежетом открылась полная чудовищных зубов пасть.
Дыхание змея отбросило Верку прямо на Бориску…
Когда он очнулся, то увидел, что никакого речного змея нет. Только бултыхается потревоженное болото да тянется полосой поваленный лес. Словно и вправду змей прополз.
А Верка лежала рядом, бессильно раскинув руки. Повернула разбитую голову, посмотрела на Бориску. Только сейчас он заметил, что глаза сеструхи точь-в-точь материнские: раскосые гляделки якутки-полукровки. А потом они закрылись. Навсегда.
Но теперь Бориска знал, что ему нужно делать. Бежать отсюда, где схлестнулись злой дух, на время вселившийся в Верку, и речной змей. Только сначала сделать волокушу, чтобы дотащить сестру до Натары. А там люди помогут зарыть их вместе – и Верку, и мать – на русском кладбище.
Сердце заныло: ну как он мог броситься в бега, не отсидев у тела покойницы положенные три ночи, не раздав тем, кто будет обряжать ее и копать яму, всю утварь, что была в бараке? Может, просто не хотел принять материнскую смерть. Или сама мать отправила его за сестрой, которая стала добычей лесного духа.
Бориска наломал веток, связал их обрывками Веркиного подола. Но не сумел даже сдвинуть тело с места, точно сама земля не желала отдавать сестру. Он решил вернуться в Натару один. Как бы там ни презирали семейство беспутной Дашки, таежные люди никогда и никого без помощи не оставят. Таков обычай, который еще никто на Борискином веку не нарушил.
Обратный путь дался легче, потому что Бориска вдруг стал видеть свои собственные следы. Сначала испугался, подумал, что уже помер, но потом догадался: ведь у мертвого же не крутит кишки от голода, не дрожат ноги от усталости, не саднят мелкие раны. Значит, жив он. А пока жив, будет идти к людям.
Долго брести не пришлось. На проплешине среди лиственниц он увидел мужиков из Натары, которые заталкивали на помост из свежих досок что-то длинное в знакомом покрывале – точь-в-точь таким была накрыта мать, когда он уходил из дома.
Бориска без сил привалился к шершавому неохватному стволу.
Стало быть, изгнали мертвую мать со своего кладбища. Как не принимали при жизни, точно так же не приняли и после смерти.
И куда теперь ему?.. Вернуться да лечь рядом с Веркой? Или посидеть у открытой птицам и зверью могилы матери и двинуть в поселок? Его, конечно, отправят в интернат, как старших сестер. Учиться будет. А когда вырастет, станет механиком на драге. Или шофером. Ведь не заканчивается же его путь здесь, в тайге?
Бориска направился к помосту, не сводя глаз с линялого покрывала. Спину будто огнем опалило. Он скинул рубашку, но холодный влажный ветер не остудил кожу, точно наждак, прошелся по рукам, груди и лицу.
Мужики обернулись в его сторону.
Бориска никогда не забудет, как исказились их лица. Мир словно онемел, и он не услышал криков, но запомнил черные провалы открытых ртов, дикий страх в глазах.
Бориска стал приближаться. Натарцы, пошвыряв инструменты и оставив самодельную тележку, бросились прочь. Он хотел крикнуть, чтобы подождали, но тишина внезапно кончилась, и все вокруг содрогнулось от звериного рева. И Бориска понял, что оглушительный раскатистый звук вырвался из его глотки.
Он схватился за голову, раскачиваясь от горя и обиды. Почувствовал боль, точно от ножей, которые рассекли плоть и вонзились в кости. Теплая кровь, которая заструилась из ран, быстро остывала на ветру, засыхала, стягивалась коркой.
Бориска отнял руки от головы. Они превратились в кошмарные лапы с черными изогнутыми когтями. И весь он был покрыт клочьями длинной шерсти, слипшейся в сосульки, с которых стекала темная кровь, похожая на деготь.
Вот что значили слова: «Теперь ты вместо него!»
Бориска побрел за натарцами. Пусть прикончат его. Все лучше, чем скитаться по тайге.
Но вышел он не к Натаре, давно числившейся нежилой, а к большому селу, которое находилось за много километров от родного поселка, почти на краю света, потому что за горой и притоками Лены. Он только слышал о нем, когда бывал в Кистытаыме, но запомнил рассказы, как и советы, которые давали матери, – отвезти туда Бориску и покрестить.
Вот и признал Тырдахой по церкви с куполами, которые одна из материных собутыльниц описывала так: «Ну просто душа радуется! Смотришь, как блестят, и веришь, что Боженька есть. Над ними никогда не бывает туч. Сама видела: гроза, дождь так и шпарит, а церковь под солнышком греется».
Бориска тогда ей не поверил, потому что за свои десять лет ни разу не видел такой грозы. Да и как устоять этому Боженьке против могучих духов, которые гнали над их Натарой тучи побольше окрестных гор? Бывало, неделями гнали, и Бориска помнит время, когда несколько артельских домишек целый месяц стояли в воде по самые окна. А вот теперь, когда он увидел, как улица словно бы припадает к крашеной изгороди, за которой на холме возвышается белая избища с желтыми крышами, похожими на половинки луковиц, то во все поверил: и в то, что в ней есть Боженька, и в то, что таежные духи иччи и близко к церкви не подойдут.
Не зря занесло его сюда! Бориска оглядел себя: нет больше мерзких волосьев на теле, и горе с обидой отступили.
Поначалу он не заметил редких людей возле ворот заборов, не услышал изумленных криков. А если бы и услышал, то это бы его не остановило, ведь в Натаре было не принято удивляться тому, кто может однажды выбраться из тайги.
Только вот в Тырдахое обычаи были другие. Так что, когда он подошел к изгороди, за спиной собралась толпа из стариков, ребятишек и женщин.
Но дальше крашеной калитки Бориска и шагу сделать не смог.
Какая-то сила подломила ему ноги, до хруста вывернула руки. Кишки точно вспороли ножом, а голова чуть не лопнула от боли.
Бориска свалился наземь, задыхаясь от обильной пены, которая хлынула изо рта.
Тело задергалось в страшной муке, и Бориска рухнул во тьму.
Из нее по его душу явился кто-то огромный, с желтыми яростными глазами, заслонил небо, принялся крушить все вокруг. В его лапищах мелькали, дробясь, золотые купола; меж огромных клыков свисали людские тела; глаза обливали выжженный мир потоками нового огня. Но ему было все мало, мало; он хотел добраться до Бориски.
И когда от мира осталось только крошево, то грохот, визг и свист в голове сменились удушавшей тишиной, которая была еще хуже. Потому что походила на пустоту, в которую ушли мать и сестра.
Бориска обмяк на холодной земле. И услышал не дикие звуки, а плач маленького ребенка, испуганные крики. Кто-то вопил, что нужно бежать в ментовку; кто-то орал, что «фершала» всегда нет на месте; кто-то советовал облить бесноватого водой. И только старческий голос шепнул почти в самое ухо:
– Ничего, ничего… сейчас отпустит. Ты, паря, главное, дыши глубоко. Падучая тебя свалила. Вот так, хорошо… Да, тяжеленько оно. Но не до смерти ж…
Борискиного лица коснулась сухая сморщенная ладонь.
– Похоже на шаманскую болезнь. Ну, когда человека духи мучают да гонят, чтобы потом он камлал, – произнес кто-то робко и неуверенно.
– Чирь тебе во весь лоб, язычник! – уже грозно и властно сказал старик. – Чтобы я больше не слышал такого!
Бориска прижился в избе деда Федора, как приживается приблудный щенок на чужом дворе.
Его влекли темные лики икон, которыми был занят целый угол горенки. От горящих лампадок казалось, что глаза Спасителя, Божьей Матери и Небесного воинства наблюдают за Бориской. Не хотелось даже уходить от них. Вот взял бы да и устроился на ночь под иконостасом. И днем бы не покидал угол, в котором Боженька или дед всегда могли бы защитить от того, что случилось в Натаре, на болоте, возле церкви.
Но Федор не разрешил: Богу Богово, а Борискино дело слушать всякие истории и учить молитвы. А еще быть послушным, поститься и работать. Все, кроме заучивания непонятных слов, давалось очень легко. Раньше приходилось и по три дня не есть, и работать на чужих огородах, и стайки чистить, да чего только не приходилось при такой-то матери, как Дашка.
Бориска боялся выйти в одиночку за забор дедовой избы. Тырдахой словно бы давил на него длиннющими улицами с лаем злых псов, магазинами, школой и клубом, толпами горластых ребятишек, кирпичным зданием поссовета. И в спасительную церковь ему было нельзя: дед сказал, что еще рано, что нужно заслужить.
Бориска бы и рад дослужиться, однако воспротивилась тетка по имени Татьяна, которая убирала избу бобыля и готовила ему.
Татьяна сразу расспорилась с дедом, куда девать приблудыша. Она считала, что его нужно сдать работникам, которые чудно прозывались: не сезонными, не вольнонаемными, а социальными.
Но дед решил оставить. За это Бориска был готов стелиться Федору под ноги вместо половика, чтобы разношенные чувяки названого деда не касались земли.
И все просил покрестить. А Федор твердил, что успеется. Но Бориска боялся, что этого не случится.
Ночами, когда он лежал на топчане в кухне, не в силах уснуть, кто-то беззвучно звал его из темноты за окном. Не только отзываться, но и шевелиться было нельзя: это бродили иччи, злые духи, которым нужен любой, кто даст поживиться своим телом. Лучше всего прикинуться недвижным, бесчувственным, как камень. Тогда иччи обманутся и уйдут.
Вот если б Бориску уложили рядом с иконами… Тогда б можно было не сдерживать дыхание до удушья.
Но именно в этот момент Федор тихонько вставал и совершенно бесшумно подходил к открытым дверям кухни.
Теплая радость заполняла Борискину грудь – о нем кто-то радеет, беспокоится! – и он засыпал, благодаря и Боженьку, и добрых якутских духов за деда.
Но Бориска не видел, как Федор злобно всматривался в окно и переводил полный ненависти взгляд на приемыша. Словно ночная темень со злыми духами и Бориска – одно и то же. А потом ухмылка кривила сухие губы старика.
В начале июля после прополки немалого картофельного надела Бориска обмылся во дворе и пошел в дом попить. Дородная тетка Татьяна загородила дверь в сени и шипящим полушепотом сказала:
– Уходи отсюда, блудень. Уходи, прошу. Целее будешь. Наш-то, наш… Он ведь к жертве всех призывает!
Бориска опустил голову и застыл истуканом. Он очень старался уяснить, чем так не угодил этой тетке, почему ему нужно уходить. А еще стало трудно дышать от затаенного протеста и горя. Однако он почувствовал: сейчас что-то случится. Помимо его воли, но именно из-за него.
Татьяна внезапно замолчала, грузно осела на пол, одной рукой сжала свою шею, а другой стала скрести некрашеные доски пола.
Ее глаза выпучились. Губы посинели, изо рта высунулся неожиданно большой темный язык. И без того пухлое лицо отекло, налилось багрянцем, который быстро сменился синюшностью.
Бориске не раз доводилось видеть удавленников: в дикой и лихой Натаре люди были вроде попавших в силки зайцев. Только вместо охотничьей ловушки – путы нужды и безнадежности. А выбраться из них легче всего через петлю на шею.
Но он не смог даже шевельнуться. Стоял и смотрел на труп, пока не раздался голос деда Федора:
– Ты чего это натворил, пакостник? Мразь лесная! Чем тебе баба не угодила?
Бориска хотел ответить, что он ни при чем и Татьяна сама свалилась без дыхания, но под грозным дедовым взглядом онемел.
Дед твердыми, словно деревянными, пальцами схватил его за ухо и потащил в сарай, где была сложена всякая утварь, потом навесил замок на щелястую дверь.
Бориска слышал, как приезжала милиция, как понабежали соседи и стали судачить о том, что бедную Татьяну придушил подобранный дедом лесной выкормыш – вот прыгнул на грудь, ровно рысь, и давай давить! – и почему бы не сдать неблагодарную тварь ментам. Слова людей в белом – «острая сердечная недостаточность» – канули в болото глумливых голосов, стали раздаваться выкрики: «Убить лесного гаденыша!»
Бориска ощутил ужас еще больший, чем на болоте. Ведь сейчас ему было что терять – деда Федора, местечко под всесильными куполами. Надежду на спасение.
Когда из дома двое соседских мужичков вынесли тело, один из них попросил остановиться – стрельнуло в плечо. Носилки опустили прямо на землю.
Бориска затрясся, глядя в щелку: ветерок откинул край простыни, и глаза встретились с мертвым взором Татьяны. Показалось, что покойница даже попыталась поднять голову, повернутую набок, чтобы ей было удобнее глядеть на Бориску.
«Почему ей не закрыли глаза? – в ужасе подумал Бориска. – Сейчас через них видит все, что творится вокруг, какой-нибудь иччи».
– Беги!.. – вырвалось из черного рта с вываленным языком. – Беги!
Мужики подхватили носилки и пошли со двора.
Остаток дня, вечер и ночь Бориска провел в узилище. Никто даже не подошел с кружкой воды. А ведь народу в дедовой избе собралось немало. И за забором – Бориска чуял – приткнулись несколько автомобилей.
С ним стало твориться неладное, как в лесу. Все тело саднило, а голову заполняли звуки. Казалось, он слышал даже то, что говорили в избе, только понять не мог. И ноздри ловили запахи, принесенные соседями и кем-то с дальних улиц, вообще из непонятных мест, где нет тайги и все провоняло неживым, чужим и страшным.
Бориска понял, что видит в темноте, как зверь, и с отчаянием начал шептать молитвы, но из глотки вырвалось урчание.
Как он смог услышать, о чем говорили в избе? Но слова точно громыхали у него в ушах:
– Искупление нужно, кровь! Чтоб на угольях шипела! Чтобы дым забил шаманские курильницы! Чтобы вопли порченого заглушили проклятые бубны!
– За пролитую Христову кровь взрежем жилы язычника! Пусть ответит за отнятую жизнь нашей сестры во Христе Татьяны!
– Чтобы крест воссиял, нужна жертва!
Бориска почувствовал, что злые слова направлены против него.
Голова стала подобна березовому костру, в котором затрещали прутья, загудело пламя. Перед глазами замелькала темная сетка, точно рой таежного гнуса.
«Беги! Жертва! Кровь!» Все мысли перемешались. Были среди них теплые, ласковые, как нагретый речной песок, – это мысли о деде. И еще бурливые, грозные, точно струи воды, которыми плюется голова речного змея. За какие зацепиться, Бориска не понял. Его тело откликнулось знакомыми судорогами. Но он сумел укротить мышцы. А вот как обуздать мир, который разодрало на две части, неясно.
Может, взять да и убежать со двора?.. А как же дед Федор? Нужна деду жертва – Бориска рад сгодиться. Что ему, крови жалко? Еще в Натаре один мужик, который обмороженным вышел из тайги по весне, рассказал, что он с напарниками по пьяни спалил зимовушку. И припасы тоже. Так они несколько дней пили талый снег, разбавляя его своей кровью, пока пурга не кончилась и не подбили дичь. Чем Бориска хуже их?
И словно в ответ на размышления его швырнуло о землю. Раз, другой, третий. Бориска поднялся, но чуть было не повалился от того, что под подошвой чувяка стала осыпаться вроде бы утоптанная почва. Ноги разъехались, заскользили вместе с ней…
Бориска взмахнул руками и тут же рухнул в громадную яму. О макушку забарабанили комья, щеку распорол невесть откуда взявшийся корешок.
В густом не то дыме, не то тумане стало невозможно дышать. Липкая взвесь забила ноздри, хлынула в рот. Затухавшим зрением Бориска уловил черные тени, которые сползались к нему.
Бориска попытался увернуться, но одна из теней приблизилась. Открыла желтые глаза с вертикальным зрачком. Дохнула смрадным холодом. Отросшие волосы на Борискиной голове встали дыбом – он даже почувствовал это шевеление. Тварь прильнула к его лицу, обдала едкой пеной. Торчавшие наружу зубы замаячили прямо напротив глаз. Багровая глубина пасти вспыхивала бледными огоньками.
Неужто он пропадет здесь? Вот так просто сдохнет в клыках чудища?
Но тварь почему-то не спешила расправиться с Бориской. В мире, где он вырос, человеку всегда дается миг покоя – на речном ли пороге, перед диким ли зверем, в метель ли, когда сбивает с ног и заносит снегом в считаные минуты. Жизнь и смерть зависают в страшном и коротком равновесии. Редко кто может воспользоваться этим мигом, мало кому удается уцелеть. Но все же случается…
Бориска рванулся, его кувыркнуло через голову. По животу будто край льдины скользнул. Бориска стал падать спиной, видя, как с когтистой лапы над ним разматывается что-то синевато-розовое, сочится багрецом. Его собственные кишки, что ли? Но как он может жить-дышать с выпотрошенным нутром?
И только тут полоснула дикая, гасящая сознание боль.
– Вот он, зверюга… – с ненавистью произнес чей-то голос. – Хватайте его, пока не утек. Тащите к реке, там ребяты надысь колесо приготовили.
Бориска лежал вниз лицом среди обломков досок и мусора во дворе. Он не сразу признал в человеке, плюющемся ужасными словами, деда Федора. Даже не шелохнулся, когда его перевернули тычками сапог под ребра. И когда схватили за ноги-руки и поволокли, тоже не дернулся. Не воспротивился, когда привязывали к щербатому занозистому колесу.
Хотелось ли ему жить? Да ничуть. Сейчас его, верно, сожгут, чтобы где-то там, в чернильной безбрежности июльского неба, Боженька заметил чад горящей плоти и пролил на землю благодать. Не об этом ли целый месяц твердил дед Федор, терпеливо глядя в вытаращенные от усердия Борискины глаза?
Его голова мотнулась – кто-то не сдержал ненависти к лесному выкормышу и ткнул кулаком в висок.
– А че это у него с кожей-то? – спросил один из мужиков.
Чьи-то руки разорвали ветхую рубашку.
– И здесь тоже, на груди…
– Пупырышки, ровно волосы повсюду прут, – откликнулся третий. – Слухайте, братцы, а человек ли он? Может, и вправду иччи, о котором старики говорили?
– Цыть, охальники! – прикрикнул дед Федор. – Не смейте поминать поганую ересь, шаманство это. Для чего мы здесь? Чтобы верой своей крепить православие, чтобы изничтожить мерзопакость языческую. Молитесь и делайте свое.
Кто-то нерешительно произнес:
– А что, мы его на самом деле… того… жечь будем? Попугали, и хватит. Отвечать потом…
– Перед Господом нашим потом ответишь, коли допустишь, чтобы языческая нечисть землю поганила! – выкрикнули из толпы вокруг Бориски.
– Да не менжуйся, он ж из этих, как их, неучтенных бродяг. Пришел – ушел, никому не доложился. Когда и куда – никто не знает, – успокоил чей-то голос, в котором явственно звучало нетерпение.
Едкий дымок от занявшегося прошлогоднего сена и веток заставил заслезиться глаза. Горло перехватило спазмом, а легкие чуть не разорвало от внутреннего огня, который просился наружу.
Бориска поперхнулся, ощущая в глотке словно бы тьму-тьмущую режущих стеклянных осколков. И выкашлял столб огненных искр. Увидел, как он, раздвигая ночную темень, взвился вверх.
С реки раздался знакомый рев.
Земля взбугрилась от чудовищных голов тварей, которые рвались из недр наружу.
Бориска даже глазом не повел. Он просто знал все, что происходит рядом. Пришли те, кто дал ему силу. Пришли вовсе не затем, чтобы он поблагодарил. Явились взять свое от нового иччи – дань головами тех людей, которые обрекли Бориску на сожжение. И он против воли подчинился.
Тело стало огромным и непослушным. Кожу словно пронзили раскаленными иглами – это рвалась наружу густая шерсть. Челюсти свело судорогой, десны хрупнули от прорезавшихся клыков. Хребет растянулся и выгнулся дугой.
Зверь даже не стал рвать державшие веревки, а просто переломил сухое дерево. Обломки колеса разлетелись в разные стороны. Медленно поднялся, взревел так, что лес отозвался громовым раскатом, и бросился на обидчиков.
Череп первого хрустнул под массивными когтями, как яичная скорлупа. Сграбастал второго, подмял под себя. Обломки костей порвали кожу несчастного.
Где же тот, самый главный среди бывших людишек, а сейчас – просто костей и мяса, еды для иччи?
Зверь обвел побоище горевшими ненавистью глазами.
Дед Федор повалился на колени, неистово крестясь, и это особенно взбесило зверя. Крест не смог уберечь старца от огромных клыков.
Горящие обломки колеса упали в сухостой неподалеку, и берег занялся огнем. Зверь поднял морду от теплых, исходивших паром потрохов деда и глянул на реку, где за языками пламени смотрел на него водяной змей. Гигантская башка чудовища выпустила из ноздрей струи воды и скрылась.
…Очнулся Бориска на мокрой земле. Все тело болело, как один большой синяк, и одеревенело от утреннего холода. Чтобы чуть-чуть согреться, он вскочил и принялся растирать безволосую кожу. Это были его руки, а не лапы, его кожа, а не шкура!
Бросил взгляд в сторону: над таежной грядой поднимался дым. Тут же в памяти вспыхнули события прошедшей ночи: дед Федор, раззявивший окровавленный рот, словно рыба на берегу, дергавшиеся в агонии тела мучителей.
И тогда Бориска повалился в высокую, окропленную росой траву и взвыл. Ему захотелось, чтобы все было как раньше, в Натаре, чтобы жива была Дашка, чтобы в его жизни не было ни водяного змея, ни желтоглазого, и главное – не было этой странной силы. Он попытался прошептать молитву, но, казалось, само тело воспротивилось одной мысли об этом и отозвалось страшной, ломающей кости болью. Бориска вскочил и, растирая кулаками слезы, побежал прочь.
После Тырдахоя он сторонился людей, особенно с доброжелательным взглядом – всюду чудились предательство, ловушки. Можно было сигануть в реку – к водяному змею. Или в тайгу податься навсегда. А то и под землю сверзиться, найдя выработанный отвал.
Но что-то держало – то ли неясные мысли, в которых маячила тырдахойская церковь, то ли нежелание терять свой облик. А облик-то этот – худоба до звона, вздутый от подножной пищи живот, рванье, нестриженые лохмы и пальцы с ногтями чернее звериных.
Мысли крутились вокруг заученного в доме Федора – Боженька сверху посылает «на земли» страдания. И их нужно терпеть до встречи там, «на небеси», а не в смрадных и кровавых местах, которые ему открылись.
Бориска не раз прибивался к сворам таких же, как он, отщепенцев, но те тут же отваливались от него, как ледышки от кровли по весне. Убегали прочь в диком страхе.
Никогда не забудется ночь на охотничьей заимке.
Бориска набрел на нее по осени, далеко учуяв мясной дух. И так захотелось хоть какого-нибудь варева, что ноги сами понесли к черной от времени развалюхе.
И ведь наперед знал, что все неладно, а поплелся. Если б то были охотники, собаки уже охрипли бы от лая. Кто ж без них отважится бродить в приленских лесах? Если такой же, как он, блукавый – безродный и бездомный, – от двери из лиственничной плахи тянуло бы довольством и радостью человека, ненадолго нашедшего приют.
А возле зимовейки смердело покойником. И еще той пропастью, где живут подземные твари.
Ни мертвяки, ни чудища Бориске не страшны. Его сердце глухо и часто забилось, потому что за дверью были живые люди. А от них ему уже досталось сполна. И все же он постучался.
Какое-то время избенка молчала. Но Бориску не обмануть – чьи-то глаза шарили по заросшему кустарником двору, кто-то, словно зверь, пытался учуять через дверь: что за гость бродит в осенних сумерках?
Бориска отскочил на несколько шагов за миг до того, как лиственничная плаха стремительно распахнулась, но не с целью впустить, а для того, чтобы зашибить насмерть.
Из затхлой темноты выступил мослатый дядечка в робе, его жесткий и быстрый взгляд сменился злорадным прищуром. Тонкие губы растянулись, обнажив зубы с частыми черными прорехами на месте выпавших. Или выбитых.
Это был тот зверь, страшнее которого нет в безлюдном Приленье, – беглый зэк.
Но Бориске было наплевать. Он, может, еще хуже – а кто убил деда Федора с мужиками в Тырдахое? Кто сеял смерть везде, где появлялся?
Только вот поесть бы по-человечески… вареного мясца, а не сырого или кое-как обугленного сверху на костерке. В тайге же принято никому в еде и ночлеге не отказывать.
– Этта кто у нас нарисовамшись? – ощерился зэк с веселостью, выдавшей давно спятившего от внутренней гнили человека. – Этта кто такой ха-а-арошенький по лесу нагулямшись и к дяде заявимшись?
– Поесть дашь? – без всякой надежды спросил Бориска, уже поворачиваясь, чтобы податься восвояси.
– Заходь, – дурашливо улыбаясь, произнес зэк.
Посредь избенки, на сто лет не крашенной печи с выпавшими кое-где камнями, исходил паром гнутый и изгвазданный накипью казанок. К печи приткнулись нары, к нарам – стол и табуретки.
– Вишь, дядик здеся один, дядик заждалси… – продолжил кривляться зэк. – Но дружок не задержалси. Каких краев будет наш дружок?
Бориска внезапно понял: что-то не так с этим густым паром. В сладковатом духе не было и следа терпкости таежной убоины. И не узнать, зверушка или птица угодила в казанок.
Зэк ткнул черным пальцем в Борискину грудь, и от этого в голове вспыхнул целый сноп искр. Бориска словно провалился под скрипучий пол, а когда открыл глаза, то не сразу сообразил, что смотрит на ту же избенку со стороны, сквозь густые заросли.
Снова эта легкость громадного тела, хотя теперь оно не казалось таким чужим, как в первый раз. Рядом с зимовейкой стояли двое: уже знакомый мослатый зэк и второй, тоже в робе, от которой остро тянуло кислятиной.
– За дровишками надоть сходить, – растягивая слова, сказал мослатый.
– Навалом их, неча, – стал отнекиваться «кислый».
– Не хватит, зима долгая, вон погляди, какое деревце – хорошенькое, сухонькое. – Первый взял напарника за подбородок и повернул в сторону тайги, указывая на ничем не примечательное дерево.
– Где? – «Кислый» испуганно пялился в чащу.
– Та вон же оно! – мослатый за его спиной поднял с земли крупный валун.
«Кислый» хотел повернуться, но камень обрушился на его голову, так что глаза вылезли из орбит.
В ноздри Бориске ударил хмельной запах крови. Звериное нутро заурчало, зубы ощерились сами собой, а когти взбороздили землю.
Мослатый подхватил за плечи оседающего «дружка» и поволок в сторону зимовки.
– Теперь хватит, – повторял он. – На всю зиму хватит.
В дверях зэк застыл, вглядываясь в кусты, где боролся с собой Бориска. Кажется, заметил бурую шерсть и быстро скрылся внутри избенки вместе с добычей.
Лес закрутился, сжался в точку, которая втянула в себя Бориску.
Он вернулся в избушку, грязный палец мослатого утыкался в грудь. Бориска встретился с зэком взглядом.
Таких в Борискином краю не выносили. Если удавалось распознать, гнали с собаками прочь. Рассказывали, что одного пришибли. Несмотря на злобность, окаянство, в родной Натаре могли друг с другом своей кровью поделиться, но поднять руку на человека с целью добыть пропитание – никогда.
А зэк, верно, подумал, что мальчонка оторопел от страха, поэтому продолжил дурковать, прикидывая, когда «дружка» оприходовать. Забил ногами чечетку, захлопал негнувшимися ладонями, затянул песню.
Бориска стал тоже притаптывать в дощатый пол, выводить свою песню. Зэк, не останавливаясь, подивился:
– Это где ж такое поют-то? Не слыхал. Давай-ко обнимемси да ты мне ишшо разок повторишь с самого начала.
Бориска не прервал слов, которые сами хлынули в голову, еще сильнее затопал.
И от этого ходуном заходила зимовейка.
А зэк вдруг уставился на порог, от которого оттеснил Бориску. У беглого глаза полезли на лоб, изъязвленный паршой. Потому что доски с треском приподнимались, рывками дергаясь вверх. Словно бы их кто-то толкал снизу.
Бориска было зажмурился: ну никак не хотел он видеть того, чьи части тела булькали на огне.
Да и зэк, наверное, тоже, так как забился, пытаясь сорваться с места и спрятаться. Как будто от иччи спрячешься. Ноги зэка намертво припаялись к полу.
Кости с обрезками мышц откинули половицы, показался залитый кровью череп. В глазницах – темные сгустки. Остов убитого выбрался из ямы. Направился к зэку…
Бориска тоже не смог шевельнуться. Так и простоял всю ночь, видя во тьме, как один мертвяк гложет другого.
Утреннего света было не разглядеть, потому что казанок выкипел и жирный вонючий чад превратил зимовейку в преисподнюю.
То, что пришел новый день, Бориска понял по отмякшим ступням и сразу же бросился прочь.
А от запаха пропастины уже не смог избавиться никогда.
В «Александровском Централе», психушке соседней области для особого контингента, Бориска оказался через четыре года скитаний. Душегубка, тюряга, ад, пропащее место – как только не называли эту больницу в старинном сибирском селе.
Но именно Централ дал Бориске возможность побыть человеком. Правда, недолго. Лекарства остановили духов, которые гнались за ним от самого Приленья, и теперь иччи бродили где-то далеко, лишь изредка тревожа душу воплями.
А врачи и соцработник Валентина Михайловна, крикливая тетка, от которой пахло хлебом, откопали в Борискиной голове ту малость, что он знал о матери и родной Натаре.
По всему выходило, что малолетний шизофреник – безродный сирота. Село Натара закрыто еще в прошлом веке как бесперспективное, а несколько семей промысловиков и золотодобывателей, хоть и жили в нем, но среди живых по документам не числились. Было решено за два-три года привить сироте кое-какие навыки для жизни в обществе, подлечить его, да и отправить в детский дом.
Бориске это понравилось. И ради казенной койки, уроков в школе, а потом и обучения чистой профессии по изготовлению обуви для заключенных он готов был терпеть все: лекарства, после которых было тяжко даже голову поднять, выходки соседей по корпусу, их бесконечное нытье: «Жрать хочу! Повара, медсестры, санитары – воры! Дерьмом кормят, а сами домой полные сумки волокут!»
Про сумки – правда. А про дерьмо – нет. Кормили трижды в день, и каждый раз давали по кусочку хлеба. Рыбный суп пах не хуже вареных оленьих кишок, которые изредка натарские охотники дарили его матери, беспутной Дашке.
Больные плевали в суп и опрокидывали тарелки в чан с отходами. А Бориска съедал все до капли. За это его невзлюбили.
Но не беда – Бориска и в Натаре не знал чьей-то любви, его, бывало, жалели, особенно мать Дашка, но чаще им тяготились. И он привык.
Но стерпеть, когда психи задумали насолить поварихе, не смог. Толстуха таскала помои скотине. Гоша, числившийся неизлечимым, решил отомстить поварихе за плохую еду и тайком насыпал в помои битого стекла. А Бориска все видел, Гошин замысел понял и рассказал ей. Ведь скотинку-то жалко.
Гошу посадили на очень тяжелое лекарство, разрушавшее печень. Его рвотой воняло на весь корпус. За это Бориску полагалось убить. А он, одурманенный лошадиными дозами лекарств, не смог учуять загодя.
Ночью в палате было душно от испарений напичканных аминазином тел. Худые животы бурлили от ужина – гороховой каши с комбижиром. Исколотые ягодицы с синяками в ладонь извергали канонаду.
Одежду и белье на ночь всех заставляли снять. К такой мысли пришел санитар, сожительствовавший со старшей медсестрой. Ей это показалось забавным – процессу лечения не помешает, и ладно.
Бориска маялся в снах и не услышал, как двое психов растолкали парня, который получил осколочное ранение в одном из военных конфликтов и выжил только благодаря крепкому организму. А его мозг, увы, не справился. Двадцатилетний здоровяк вновь и вновь переживал взрыв мины, видел ее везде, приходил в ярость только от одного слова.
– Вон у него мина, – сказали парню и указали на Бориску.
Бывший солдатик набросился на него и стал молотить кулаками по чему ни попадя.
И забил бы до смерти, если бы Бориска, так и не проснувшись, не схватил руками щетинистые подбородок и затылок и не скрутил до хруста.
Так и нашли солдатика возле Бориски – с вывернутой головой, раззявленным черным ртом и вытаращенными глазами.
Бориска, как и дистрофичные соседи по палате, остался в стороне – ну не мог же он расправиться с таким бугаем. И с записью в свидетельстве о смерти – «ишемическая болезнь сердца» – тело солдатика отправилось на местное кладбище.
Бориска, если бы был способен, удивился бы силе смертельного поветрия в Централе. Но он находился на усиленном лечении и не услышал, что Гоша, хихикая и гримасничая, попытался рассказать ему новость – санитара и старшую медсестру нашли сцепленными, как собак после случки, синими и дохлыми.
Однако, когда Бориску перевели на таблетки, он понял: духи обманули его. Они по-прежнему с ним. И стараются вытеснить самое дорогое – воспоминания о бледном лице матери на фоне обшарпанной стены барака и золотых куполах, о единственном, что еще не было изгваздано людьми и миром.
Тогда Бориска и подумать не мог, что вскоре ему предстоит потягаться не с иччи, а со зверем, который жил в нем самом.
Гоша, видимо, почуял в Бориске некую силу, стал лебезить, отдавать свой хлеб, до которого Бориска был большой охотник, задирать ему на потеху больных, уже совсем потерявших связь с миром.
Однажды он плеснул кипятком из кружки в лицо одноглазого старика и рассмеялся, оглянувшись на Бориску: мол, смотри, как весело завывает дохляк. Руки к самому носу поднес и, видать, не понял, что глаз-то тю-тю…
Бориска ощутил, как гнев заливает все перед ним знакомой темнотой. Но ничего не сказал и не сделал, только посмотрел вслед санитарам, потащившим идиота, который лишился единственного, что было ему доступно, – зрения.
Гоша отбыл неделю в одиночке и снова появился в палате, похожий на черта из-за синяков и ссадин на обезьяньей морде: он за свои поступки не отвечал, за его изгальство над стариком наказали санитаров, одного даже уволили. Оставшиеся полечили буйного пациента по-своему: не лекарствами, а кулаками.
Гоша выгнал с койки напротив Борискиной новенького больного, уселся и, раззявив рот, стал показывать, скольких зубов он лишился.
Бориска уставился в угол, стараясь не встретиться с Гошей взглядом.
Потому что завоняло чадом и пропастиной, жирная гарь закоптила все вокруг: и зарешеченные немытые окна, и худые фигуры на койках, маявшиеся в своих мирах, и Гошу, который от обиды за невнимание начал плевать на пол сквозь дыру между оставшимися зубами.
Бориска зажмурился. Только бы не рванула из его груди та сила, что может и мертвых поднять, и живых навсегда упокоить. Он стал думать о золотых куполах, о том, что понял когда-то из молитв. Даже о матери вспомнил.
А кожу жгли и кусали волоски звериной шкуры, и зубы ломило, и хребет трещал. Ветхая линялая пижама порвалась по швам рукавов.
Нет, только не зверь! Пусть люди, которые рядом, на людей-то не похожи ни мыслями, ни поведением. Но создал их не зверь. Нельзя отдавать их ему.
Из губы, раненной лезшим наружу клыком, прыснула кровь.
Нет!
И ему удалось сдержать зверя. Но высвободилось что-то иное, вроде незримого огня. Волна дрожавшего, как над костром, воздуха ринулась от Бориски на Гошу, других больных, окутала каждого коконом и… исчезла.
Бориска так боялся, что с несчастными случится плохое. И взмолился: если все обойдется, то пожертвует собой, каждым часом жизни, откажется от лечения и возможности изменить судьбу, вернется туда, откуда пришел – в позабытую и ненужную миру Натару, тайгу на берегах притока Лены. Он готов остаться в звериной шкуре навсегда, только пусть не гибнут люди.
А пациенты в палате не только не умерли, но и враз изменились. Бориска удивился их преображению, несмотря на то, что самого жгло и крутило страдание.
Гоша вдруг осмотрелся вполне осмысленно, как здоровый, подскочил, потряс решетку на окнах, подергал дверную ручку и бурно разрыдался, повторяя сквозь сопли: «Только не тюрьма, только не тюрьма! Удавлюсь!»
Седой идиот с отечным лицом без возраста, который лежал на голой мокрой клеенке, поднес руки к лицу, увидел засохший кал на пальцах и захотел встать. Но только спустил с кровати тонкие ноги с неживыми мышцами и свалился на пол. Тоненько заплакал: «Мама!..»
Вскоре вся палата рыдала. Бориска понял, что навредил больным еще больше, чем если бы принес им смерть.
Бориску обкололи лекарствами, поместили в изолятор с решетками. Но что такое путы и решетка для иччи? В первую же ночь он ушел через окно.
Ночами же брел через леса и болота, вдоль железных дорог и берегами рек, стремясь добраться до Лены, а потом вниз по ее течению до Натары. Не ел, не спал, стал почти тенью – кожа, кости да горящий взгляд одержимого. Мысль вернуться в Натару и освободить мир от себя гнала его вперед.
Когда Бориску, обезумевшего от скитаний, голода и боли, нашли туристы в тайге, он уже ничего не понимал и не помнил.
Сначала появилась женщина, увидела скелет в лохмотьях, взвизгнула и опрометью скрылась за деревьями. Вдалеке раздался ее пронзительный крик о помощи.
В Борискиной голове стрельнула мысль: «Люди! Беда!»
Он попытался встать и повернуть назад, в глухую чащу, где нет искуса убить человека, но ноги запутались во вьющихся по земле корнях так, что Бориска рухнул и сильно приложился о дерево. Из глаз посыпались искры. Сил подняться уже не было. Он знал: эта немощь кончится сразу же, как только освободится заточенный в слабой плоти зверь. Но лучше умереть. Или отдать себя в руки незнакомцев, которые, как все люди, причинят ему только зло и боль.
Вскоре послышался мужской голос, низкий и густой, как гудение осиного гнезда.
– Поглядите-ка, малец! Вылитый маугли. – Над Бориской склонился человек с пышной бородой. – Парень, ты откуда такой?
Ответить не получилось – просто не шевелились губы, а глотка не выдавала никаких звуков, кроме воя.
– Дела-а… – протянул человек и бросил через плечо: – Помоги. Оттащим его в палатку.
Двое ухватили его и понесли. Третий аккуратно придерживал голову, а женщина поправляла лохмотья, поднимала сваливавшиеся с груди Борискины руки с чудовищными ногтями.
Потом Бориска проваливался в забытье, иногда просыпался, слышал голоса: знакомый мужской, порой другой, неведомо кому принадлежавший, скрипучий, как карканье вороны, и очень редко – женский.
Его поили чем-то горьким и теплым. Он падал в пламя, в котором извивался исполинский змей, из чьей пасти вырывались не струи воды, а языки огня. Могучий хвост пытался обвить Борискино тело и сдавить до костного хруста. Сквозь эту вереницу безумных видений ворвалась сильная и прохладная рука, схватила его, потянула на себя, и Бориска вынырнул из пекла.
Вскочил. Мокрая тряпка сползла со лба на нос.
– Очнулся, маугли? – бородатый положил руку на плечо найденыша и аккуратным, но уверенным движением заставил снова улечься в теплый спальный мешок. – Тихо-тихо, полежи еще.
На берегу широкой реки костер швырял искры в звездное небо. Темнело. У огня сидела уже знакомая женщина, наверное, красивая по меркам того места, откуда она родом, а по Борискиным – так краше и не бывает, и с опаской поглядывала на него.
Рядом высокий, похожий на жердь, мужчина потягивал что-то из алюминиевой кружки, и с каждым глотком его острый кадык ходил вверх и вниз.
Сколько раз приходилось Бориске сидеть у ночного костра, но никогда он не ощущал такого умиротворения и покоя. Словно каждый из незнакомцев был не просто человеком, а кем-то равным Боженьке, только не на иконе, а в таежной глуши.
Бородатый отошел и скоро вернулся с дымящейся миской. Каша! Казалось, никогда в жизни Бориска не ел такой вкусной гречневой каши с крупными кусками мяса.
Бородатый терпеливо подождал, и только когда Бориска заскреб ложкой по дну мятой миски, завел разговор.
– Как тебя зовут, маугли?
Бориска, с трудом ворочая опухшим языком, назвал свое имя. Кто такой маугли, он не смог понять. Может, незнакомцы так своих иччи называют. Или всех найденных в тайге – ему-то какая разница?
– Видать, ты не один день шел.
Бориска угукнул.
– В лесу ночевал?
«Маугли» покивал головой.
– А скажи мне, Борис, пошто занесло тебя в такую глушь?
Выпытывает. Зачем? Сказать правду? Нельзя. Про Тырдахой, про деда Федора, про зэка. Нельзя! Иначе тут же отправят в больницу для психов или куда похуже.
– К матери еду. В Натару, – выдавил Бориска. – Деда у меня умер. Лесником он был…
Бородач с прищуром посмотрел – как пить дать не поверил! Но промолчал, кивнул, будто дал понять: не хочешь отвечать – дело твое, поможем чем можем, но и держать не станем.
Он достал из-за пазухи карту, подставил ее под пляшущий свет костра, поводил пальцем, снова кивнул, бормоча под нос: «Так-так, Натара, Натара… Вот она!»
А потом добавил:
– Отправимся поутру – завтра вечером будешь в своем поселке.
Женщина попыталась возразить, мол, нужно отвезти подростка в крупный поселок, вдруг его ищут, да и вообще негоже оставлять малолетнего в полных опасностей местах.
Бородач ответил:
– Знаешь, как здесь говорят о том, что нельзя стоять на пути человека и вмешиваться в его жизнь? «Не кричи ветру, что он не туда дует. Не лови его в свою шапку». Считается, что навязать свою волю другому – грех, за который придется ответить. Ибо неизвестно, кто или что направляет идущего. Отсюда множество обычаев: встретить с почтением любого бродягу, предоставить кров и еду, не спрашивать ни о чем, не провожать и не прощаться. Вдруг за людьми наблюдают таежные духи?
Женщина опасливо оглянулась на черную стену деревьев.
А Бориска прямо у костра провалился в сон, на этот раз без сновидений.
Утром они тронулись в путь.
Компания путешествовала на небольшом катере. Когда Бориска бывал в Кистытаыме, видел с берега, как моторные лодки бороздили Лену, соперничая с речным змеем в реве и скорости, и мечтал, что когда-нибудь прокатится на одной из них.
И вот он на палубе катера, но от этого никакой радости. Как натарский змей отнесется к самым лучшим в мире людям, которые ради него поменяли маршрут, да и вообще вели себя так, будто никого важнее «маугли» нет на белом свете?
Оказалось, бородач был из этих краев, другие, то ли в шутку, то ли всерьез, называли его егерем. Спутники егеря – жердявый и женщина – были туристами откуда-то из совсем дальних мест, которые и представить трудно. Жердявый все больше молчал, стоял на палубе и смотрел вдаль, а женщина, которая поначалу сторонилась Бориски, к середине дня привыкла, стала хлопотать вокруг него: то накрывала его красивым мохнатым одеялом под названием «плед», то приносила что-нибудь вкусное. Чем-то она напомнила горемычную Дашку, но мать никогда не заботилась о нем с такой нежностью.
Бориска больше молчал, может, из-за того, что отвык от людей, но ему было приятно слушать болтовню женщины, густой бас бородача и редкое карканье жердявого, хотя понимал из сказанного он далеко не все.
Вскоре на берегу показались дома.
– Твоя Натара, – кивнул егерь в сторону полузавалившихся избушек.
Поселок был пуст. Над крышами не вился дым. Не было повседневной суеты и обычных шумов: не ревела скотина, не рычал списанный с хозяйства золотопромысловиков бульдозер, не лаяли дворовые псы, не носилась горластая ребятня. Мертвая тишина окутывала еще недавно живой берег. Молчал даже речной змей, упрятав башку за камни.
Бориска прислушался к себе: вроде он должен обрадоваться возвращению, ощутить легкость и свободу, а вместо всего – горечь и пустота, точно что-то потерял.
Катер подполз к торчащим из-под воды столбам, в которых с трудом угадывались остатки причала.
– Эй, маугли! – Жердявый стоял за спиной. – Возьми-ка вещички, вдруг еще придется в лесу ночевать.
Он протянул большой сверток.
– Теплый спальник, консервы да кое-какой таежный припас. А мы назад будем возвращаться, с собой тебя прихватим, если захочешь, конечно, – добавил он и первый раз за все время улыбнулся.
Бориска принял подарок, переживая странное чувство – слезы пополам с радостью. Ему никто раньше не дарил что-то вот так просто.
Бородач потрепал за плечо, женщина приобняла. Бориска спрыгнул на шатающиеся доски и, с трудом держа равновесие, перескочил на берег; когда он обернулся, то катер уже скрывался за изгибом реки.
Барак, в котором он раньше жил с матерью, пустовал, даже не было следов крыс, которые следуют за человеком в любую тьмутаракань.
Бориска открыл дверь их комнаты: изнутри дохнуло сыростью, нашатырем и, кажется, еще сладковатым душком смерти.
Он прошел дальше по коридору и заглянул к соседям: то же самое, от былого порядка не осталось и следа. Будто те, кто покидал это место, старались забрать из комнат как можно больше ценных и не очень вещей.
Что Бориска искал среди этой рухляди? Другого человека или себя прежнего? Он вернулся на улицу. А что если Натара окончательно опустела? Куда ему идти?
Бориска закрыл глаза и прислушался. После встречи с добряками-туристами его обоняние притупилось. Но тут, в опустевшем поселке, оно снова набрало силу.
Рядом стояло почтовое отделение, под крышей висела перекошенная табличка, на которой видны были только последние буквы, остальные заслонили хлопавшие на ветру обломки шифера. От здания тянуло человеком. Нет, двумя. Один запах был ему знаком. Очень знаком.
Кусты неподалеку зашевелились. Бориска сморщился от похмельной вони, которую принес ветерок.
На поселковую дорогу вывалился человек. Одной рукой он придерживал штаны без ремня. Другую прятал за пазухой. Мутный взгляд раскосых глаз уперся в Бориску.
– Малец, ты откудова? – наконец спросил незнакомец и потер многодневную щетину.
– Жил я тут. С матерью, – угрюмо ответил Бориска.
Не отводя водянистых глаз, таких же, как у зэка из зимовейки, человек крикнул: «Вера!» Замер. Так они и простояли напротив друг друга, пока не открылась дверь почтового отделения.
На пороге стояла сестра Верка. Она сильно изменилась с того времени, когда Бориска видел ее, лицо опухло, как у тех, кто долго пьянствует, но даже это не могло скрыть былой сахалярской красоты.
Но как же так? Он ведь сам видел, как она умерла. Он помнит волокушу, трясшуюся голову покойницы, брошенное в тайге тело… И свое горькое отчаяние, и одиночество перед бедой.
– Ой! – вскрикнула Верка и прижала ладони к щекам, бросила вороватый взгляд на поклажу брата.
Вот по нему-то Бориска и понял, что Верка жива, что напротив него не дух, принявший облик сестры, а она сама.
Наконец Верка сказала мужику:
– Да что ты стоишь, как тюлень, не видишь, что Борька вернулся?!
Мужик не знал, что должен делать, когда вернулся какой-то Борька, поэтому молча кивнул и пошел в дом.
Вот почему этот запах оказался таким знакомым! Ведь это его, Бориски, родная кровь. Не зря он вернулся в Натару. А вдруг… вдруг мать тоже жива? И значит, можно проделать обратный путь – от зверя к человеку? От безродного, бесприютного иччи, сеющего зло и смерть, к обычному мальцу, у которого есть семья?
– Да ты проходи, – нерешительно позвала его сестра. Однако сама с места не двинулась, будто ждала, что брат откажется и уйдет восвояси.
Глядя исподлобья и чутко вздрагивая ноздрями, Бориска вошел в дом. Так же, как и в бараке, здесь царили сырость и пустота. Но было видно, что все-таки тут жили и распоряжались бывшим почтовым хозяйством: на столе – коричневая упаковочная бумага, в углу – топчан. В воздухе еще сохранился слабый запах сургуча, по углам стояли коробки с туго затянутыми пачками писем, старых газет, каких-то документов.
– А Зинаида с Витей, они того, уехали в поселок. Все уехали, – растерянно сказала сестра. – Когда с Васькой вернулись, тут уже никого не было. Да ты садись. Есть будешь?
Верка поводила в тазике с водой глиняной тарелкой, плеснула в нее какого-то месива и поставила на стол. Взяла большой нож с покрытым ржой лезвием и покрошила в миску подсохший хлеб.
Есть Бориске не хотелось. Тем более эта болтушка, в которой плавали картофельные очистки, комочки муки и размокшие хлебные крошки, вызывала только тошноту и желание опрокинуть стол, отшвырнуть тарелку.
– Верка, – начал он, с непривычки трудно подбирая слова, – а ты помнишь болото и лес, где мы с тобой расстались?
Верка замотала головой. В ее глазах застыло пьяное недоумение и обида: жила себе, водку пила, а тут брат объявился. Спрашивает про что-то докучливое.
– Я тебя на болоте встретил. Потом ураган случился. Или водяной змей прополз. Ты упала и дышать перестала. Я волокушу сделал, но дотащить тебя не смог, – стал медленно рассказывать Бориска.
Верка тупо глядела на брата, а потом спохватилась:
– Так ураган помню. Всю Натару разметало. Речка из берегов вышла. Я после в Кистытаым подалась, там Васю встретила.
Сестра снова замерла, прислушиваясь к тому, как возится в сенях мужик.
Бориске стало ясно: Верка так же далека от него, как если б была мертвой. А все водка… Жаль, хорошие люди не подарили ему спиртного, а то бы разговорить Верку было проще простого.
Тем временем появился Васька. Он уселся рядом, и перед ним возникла початая бутылка.
– Будешь? – спросил он Верку.
Сестра кивнула. Лицо ее озарилось радостью: тусклые глаза блеснули, губы пришли в движение и растянулись в улыбке впервые с момента встречи.
– Рассказывай, Боря, откуда тебя к нам занесло? Сам дошел или помог кто-то? – водянистые глаза внимательно разглядывали Бориску. От этого взгляда ему стало неуютно и беспокойно, как не раз бывало в лесу перед бурей.
– Туристы помогли. На катере довезли. Не слышал, что ли? – резко ответил Бориска. Он прекрасно помнил, как далеко разносились в хорошую погоду звуки работавших моторов или рев двигателей вертолетов. И тогда на берег или пустырь сбегалась вся Натара от мала до велика. А если Веркин хахаль, слыша катер, предпочел просидеть в кустах, значит, он прятался. Раз прятался… нужно с ним держать ухо востро.
– Аха, на катере… оно конечно… – протянул с пониманием Васька и опрокинул стакан. Снова уставился на Бориску.
Разговор не клеился. Приближалась ночь, в помещении горел лишь кудлик, отбрасывая на стены причудливые тени, и в полутьме еще больше клонило ко сну.
Бориска молча встал и пошел в соседнюю комнату. В ней хранилась всякая рухлядь, на полу как попало были свалены пустые полки.
Бориска расстелил спальник в свободном углу. Свернулся внутри калачиком, вдохнул запах меховой подкладки – запах другого мира и других людей, доброты, заботы и надежности.
Верка с хахалем о чем-то шептались за столом. Бориске даже не нужно было напрягаться, чтобы расслышать их.
– …тебе говорю, это тот пацан, которого Федор в Тардыхое нашел! Я тебе про него рассказывал!
– Не может быть! Это Борька… – заплетающимся языком ответила Верка.
– Ага, тогда твой брат порешил мужиков в Тырдахое!
– Нет, Борька такого не мог, – пьяно возмутилась сестра не ради заступы за брата, а так, чтобы возразить и проявить кураж.
– Вот я тебе и говорю, это не твой брат, а иччи прикинулся им! А Борька сгинул в тайге.
Сестра в ответ всхлипнула.
– Точно-точно, – Васька будто убеждал самого себя. – Говорю тебе, это мертвяк. То-то он не ел, потому что ему наша еда ни к чему. Он людей жрет!
Верка пьяно икнула.
– Это он сейчас притворился, вроде дрыхнет, а только дождется, как мы уснем, сразу в шею вцепится. Надо его прикончить, – наконец заключил он.
Звякнуло лезвие кухонного ножа.
К Борискиному лежбищу приблизились тяжелые шаркающие шаги.
– А спальничек я возьму себе, – пробормотал Васька.
Он хотел еще что-то добавить, но не успел: со сломанной шеей грузно повалился на пол.
В соседней комнате дико закричала сестра. Ее крик взметнулся над опустевшим поселком и резко оборвался.
Бориска бежал через лес. За спиной осталась мертвая Натара, гниющий барак и почта, внутри которой лежало изуродованное тело и тряслась от беззвучного плача Верка, со страху лишившаяся голоса. Жаль было только подаренного жердявым спальника.
Необутые, мозолистые после долгих скитаний ноги все равно ощущали каждый сучок, каждую неровность. Ветки остервенело хлестали по лицу. Но боли он не чувствовал, потому что другая мука разрывала его изнутри.
Зачем он добрался до Натары? Видимо, снова постарались духи, завлекли и обманули. Неужели для того, чтобы столкнуть нос к носу с прошлым?! Чтобы убить Веркиного хахаля? Достаточно уже крови! Ведь он клялся и обещал, что никогда никого не тронет.
Выход один – убить себя. Сгноить голодом в чаще. Напороться грудью на сук. Или забраться на сосну и сигануть вниз.
Душевная боль сменилась неистовством, и Бориска даже не заметил, как холодную осеннюю ночь будто смахнуло рукой, а высоко над лесом нависло бледное солнце. Покрытые шерстью лапы с черными когтями несли напролом его огромное тело сквозь тайгу.
Потом что-то изменилось. Из чащи потянулся след, его запах был таким дурманящим, что глаза заволокло багрянцем, а сердце погнало кровь по жилам с небывалой силой. Мысли о смерти, да и другие тоже, покинули лобастую мохнатую башку с горевшими от лютости глазами, которые видели мир и его изнанку тысячи лет назад, знали законы жизни, искали в непроходимой чаще то, чего нет важнее.
С наветренной стороны дохнуло теплом, зверь остановился, с хрипом втянул воздух и бросился через заросли.
В просветах между деревьев показалась маленькая голова – колченогий лосенок почувствовал хищника и попытался скрыться. Но зверь вырос перед ним, поднялся на задние лапы. Детеныш шарахнулся, не удержался на трясшихся ножонках, одна из которых была короче. Тут же могучая лапа обрушилась ему на шею. Теплая густая кровь полилась на землю. Зверь лакнул ее – не то! Не тот запах, по которому он шел.
Ноздри нащупали тонкую нить пьянящего следа, который тянулся дальше. Из пасти вырвался рев, и зверь ломанулся в чащу.
Его охватили доселе неизвестные ощущения: неукротимая мощь в каждой клетке тела и азарт погони. В голове нарастал стук, и казалось, что он звучал не только внутри, но и вокруг, в воздухе, весь лес содрогался от этих ударов.
След становился яснее. Петлял меж деревьев, обрывался, но зверь снова находил его.
Наконец он вывел на опушку, где привалилась к дереву женщина. Во сне она широко разметала обнаженные ноги. Кофтенка распахнулась, и на полной рыхлой груди темнели соски, стоявшие торчком, как молодые шишки.
Зверь остановился, раздувая ноздри. Настиг!
Это его самка. К ней вела неукротимая сила. Зверь поднял башку и огласил мир победным ревом. А внизу его живота разгорелось пламя. Где-то на краю сознания замаячило странное имя «Дашка» и обрывочные, глубоко спрятанные воспоминания о чем-то, возможно, очень важном… Крики роженицы. Удары топора за крыльцом барака. Сочившийся кровью узел в руках какой-то девки. Синеватый профиль на фоне грязной облупившейся стены. И золотые луковицы куполов, разлетавшиеся прахом.
Зверь отмахнулся от видений, как от назойливого таежного гнуса, и с ревом бросился на лежавшую.
Мерзкий, режущий ноздри запах спиртного оглушил нюх, но было уже все равно. Зверь навалился на женщину, проник огромной напрягшейся плотью во влажное теплое нутро.
Она не удивилась, не обмерла от страха, только попыталась что-то сказать, а потом безумно расхохоталась. Когтистая лапа полоснула ее по бедрам, но женщина словно не почувствовала боли. Из вспоротой плоти хлынула кровь. И только в этот миг жертва закричала от сумасшедшего наслаждения – протяжно и дико. Она содрогнулась, забилась в конвульсиях, затихла. А потом снова и снова стала поддаваться навстречу неиссякавшей животной страсти.
Над лесом равномерно грохотал бубен. В такт ему качнулась, цепляя верхушки деревьев, голова исполинского змея с желтыми глазами. Он скроется в речной глубине, вцепившись зубами в свой хвост. А зверь начнет свой путь заново.
Лариса Львова, Ярослав Землянухин
Зов высокой травы
1
Андрей решил, что ему показалось, но Дима повторил:
– Я перебил всех крыс и высыпал остатки порошка в унитаз.
Красное лицо Димы блестело от пота, хотя за спиной на подоконнике лежал снег. Челка прилипла ко лбу. Он поправил ворот рубашки, достал левой рукой из нагрудного кармана пиджака авторучку и начал щелкать кнопкой.
– Звучит, как признание наркодилера, – прокомментировал Витя и выпустил дым в камеру.
Андрей ненавидел, когда он так делал. Было ощущение, что он выпускает дым тебе в лицо. Правую сторону экрана затянуло серым.
– Я больше не могу работать над проектом, – голос Димы задрожал. – Все материалы я уничтожил. Вы должны сделать то же самое. Остановитесь. Или вы оба умрете.
– Почти напугал, – ответил невидимый Витя. – Но до Хеллоуина еще неделя.
– Я не шучу. Он сказал, что убьет меня, если я не прекращу испытания, – ответил Дима. – Что убьет нас всех.
– Кто «он»?
– Я не могу объяснить.
Глаза Димы заморгали. Казалось, он вот-вот расплачется.
– Не можешь объяснить?
Облако дыма развеялось, и сквозь него проступило бледное, перекошенное от злобы лицо Вити.
– Тогда я тебе кое-что объясню. Я не знаю, о чем шепчут тараканы в твоей голове, – голос Вити становился все громче и громче, как будто кто-то подкручивал бегунок с громкоговорителем в правом углу рабочего стола. – Но я точно знаю, что ты не можешь просто взять и бросить работу. Не имеешь права. Ты должен ее закончить.
– Подожди, – вмешался Андрей. – Давай разберемся. Дим, я понимаю, конец года, запарка на работе. Мы можем подождать, пока ты решишь свои вопросы. Сколько надо? Неделю? Две?
Дима склонился над клавиатурой так, что на экране была видна только его лысеющая макушка. Авторучка продолжала щелкать, отбивая секунды.
– Нет никакой запарки.
– Тогда что?
Авторучка щелкнула в последний раз. Дима бросил ее на пачку аккуратно сложенных бумаг на краю стола. Стало так тихо, что Андрей услышал, как гудит вентилятор в системном блоке под столом и как за стеной в отделе мутагенеза уборщица елозит шваброй по полу.
– Я не хочу умирать. Вот и все.
Его голос задрожал, а рука потянулась к клавиатуре.
– Дим, подожди…
Левая половина экрана погасла.
– Вот ведь мудак, – сказал Виктор и воткнул окурок в служившую пепельницей банку из-под кофе.
Андрей поморщился, но не ответил. Да, когда оскорбляют твоего друга, это касается и тебя. Но если один твой друг катит бочку на другого, то это уже что-то вроде внутреннего диалога.
– Его опять замкнуло, – сказал Витя, – как на прививке от СПИДа в институте. Можно попробовать поговорить с ним еще, но, по-моему, делов не будет. Нам нужен новый биохимик. У меня знакомый есть в Волгограде. Не хотел связываться, но придется. И давай расходиться, а то я еще поспать хочу, прежде чем домой ехать.
2
Ящик с луковицами гладиолусов под кухонным столом мешал выпрямить ноги. Юля четвертый год притворялась великим цветоводом, не желая признаться, что они купили эту унылую хатку с клочком земли только потому, что квартира той же площади стоила на неподъемные полмиллиона дороже.
– Как успехи на работе? – спросила она, когда вторая баранья котлета исчезла с тарелки Андрея.
Сын не торопился допивать чай и внимательно разглядывал надкушенный бублик. Разговоры родителей его интересовали намного больше, чем уроки.
– Димка объявил брекзит.
– В смысле, внял голосу разума и отказался принимать дальнейшее участие в вашей научной самодеятельности?
– Не знаю, чей это был голос, но да.
Брови Юли приподнялись. Лицо приняло заинтересованное выражение.
– И вы, конечно, поссорились?
– Конечно.
– И ты как всегда оказался на стороне альфа-самца из Екатеринбурга.
Она все больше походила на воспитателя в детском саду, озабоченного проступком одного из своих подопечных.
– Юль, хватит. Иногда бывает интересно послушать про архетипы и паттерны, но не сегодня. Хочу поужинать в компании жены, а не автора диссертации «Ссора и компромисс».
– А тебе не приходило в голову, что Дима просто наконец-то проявил здравомыслие?
– Он проявил свинство.
– Андрей, научное открытие в современном мире может сделать международная группа ученых с бюджетом в несколько миллионов долларов, а не компания из трех кандидатов наук с дырявыми карманами. Ваш так называемый проект – это бред сивой кобылы. И кобылу эту зовут Витя.
Сережа рассмеялся и подавился бубликом.
– А ты не подслушивай, когда взрослые разговаривают, – сказала Юля. – Допивай чай и пойдем проверять ботанику. Ты меня, конечно, извини, – подытожила она, снова обращаясь к Андрею, – это не мое дело. Но мне кажется, тебе не стоит разбрасываться друзьями. Тем более из-за такой ерунды.
3
Утром следующего дня сломался амплификатор. Запасного на складе не оказалось. Месяцем раньше его забрал Донцов. «Научная самодеятельность» была окончена, но оставалась еще и основная работа. Работа, за которую Андрею платили деньги и которой он не хотел лишаться.
– Пиши заявку, – сказал Фисенко. – Сразу два в ремонт и повезем. Антонова как раз документы на конкурс готовит.
– Какой еще конкурс? До отчета месяц остался.
– У тебя отчет, а у меня антикоррупционное законодательство. Спроси у Донцова или у Петренко. Может, к ним присоседишься.
Покидая кабинет, Андрей не удержался и хлопнул дверью.
Присоседишься… Как же задолбала эта формулировка. Как и приобретение канцтоваров за свои деньги. Как и поездки на семинары с командировочными по двести рублей в день. Ну ничего. Скоро будет праздник и на нашей улице.
Донцов отказал, сославшись на слишком дорогие праймеры, за которые отвечает он лично. Петренко согласился. Но лаборатория будет свободна только после четырех. А единственная Игорева лаборантка Оля сказала, что не может задерживаться после работы. Надо забирать ребенка из сада. Неувязки и отказы нервировали. Казались обидными и существенными. До тех пор, пока в четверть двенадцатого не зазвонил телефон.
– Алло. Андрей? Это Олег, брат Виктора. Сегодня ночью Виктор умер. Похороны в четверг в двенадцать.
– Как?
Вопрос сам вывалился изо рта, и к желанию выяснить причину смерти не имел никакого отношения.
– Самоубийство. Вы были друзьями. Я решил, что должен вам сообщить.
Вызов сбросили.
Андрей рассеянно сел на стул и посмотрел журнал вызовов. Номер незнакомый. Код оператора – не местный. Его назвали по имени. Это может быть ошибкой. Возможно, какой-то знакомый. Кто-то из одноклассников, однокурсников, дальних родственников, просто тезка.
Он набрал Витю. После четвертого гудка думал сбросить и побыть еще немного в неизвестности, но трубку взяла Ленка.
– Алло, – ответил хриплый едва узнаваемый голос.
Сомнения исчезли.
– Лен, мне очень жаль.
Она расплакалась. В памяти всплыл мокрый от пота лоб и часто моргающие глаза Димы. Он сказал, что убьет меня, если я не прекращу испытания. Что убьет нас всех.
4
В Екатеринбурге было на двадцать градусов холоднее, чем дома. Перевязанные черной лентой гвоздики в руках остекленели. Андрей шел по обледенелым улицам и заглядывал в пустынные заметенные снегом дворы пятиэтажек. Это должно быть где-то здесь. Вот автосалоны, вот высотка с магазинами на первом этаже. В гостях у Виктора он был раз в жизни, шесть лет назад, летом, после конференции по гепатиту. Теперь заблудился. Дома были похожи друг на друга, как кости домино. Можно было взять такси, но он поехал на маршрутке, чтобы на сэкономленные деньги купить в ларьке аэропорта пару теплых перчаток. Деньги были Юлины. «Возьми, – сказала жена, не дожидаясь, когда он спросит ее об этом, и протянула тощую пачку купюр, отложенных на покупку кухни. – Шкафы могут и подождать».
Андрей понял, что он у цели, когда увидел сбившихся в кучу людей у дальнего подъезда. «Слава богу. Все-таки нашел», – облегченно вздохнул он. И тут же одернул себя, напомнив, зачем эти люди здесь собрались. Чему радуешься? Вдоль бордюров, опираясь на самшиты, стояли похоронные венки. Темно-зеленые, с крупными красными цветами и черными лентами. Когда он подошел поближе, на лентах проступили надписи из золотых букв: «Любимому папе и мужу». «Сыночку». «Брату».
Гроб был закрыт. Его обнимала старуха в черном. Должно быть, мать. Жидкие седые волосы, выбившиеся из-под платка, скрывали ее лицо. У подъезда на лавке сидела Лена. С красными от слез и мороза кругами вокруг глаз. С обеих сторон к ней жались дети. Мальчик и девочка. Когда Андрей заезжал в гости, девочки еще не было и в планах. Андрей подумал, что если бы умер он сам, то Юля с Сережей точно так же сидели бы на лавочке перед гробом. И случись это на пару месяцев раньше, наверняка Юля нарезала бы с цветника гладиолусов. Он поставил гвоздики в пластмассовое ведерко перед гробом и подошел к лавке.
– Привет, Лен, – сказал он.
– Привет, Андрей, – сказала она и подвинула к себе дочку. – Садись.
Андрей сел. Стандартное «как дела?» явно не годилось для продолжения разговора. Он выбирал между «мне очень жаль» и «как это случилось?» до тех пор, пока Лена не заговорила сама.
– Как Юля?
– Нормально.
– Сережа?
– И Сережа.
Вдаваться в подробности показалось Андрею неуместным.
– А у нас вот… Сам видишь. Как это могло произойти, ума не приложу. Почему? Что было не так? Ты знаешь, в последние дни он перестал разговаривать со мной и с детьми. Он вообще сильно изменился. Ты не заметил?
Андрей прокрутил в памяти последние сеансы связи. Худое лицо с живыми пытливыми глазами. Сигарета в зубах. Тонкие, но сильные пальцы, часто барабанящие по столу.
– Нет.
– А я да. Но не понимала, что происходит. Спросишь – молчит. Кругом ведь одни секреты. Верно? Туда не смотри. Это не читай. Это были наркотики, Андрей? Вы делали наркотики? – Она спросила об этом как бы между делом. Как о чем-то само собой разумеющемся. Небольшое уточнение и так хорошо известного обстоятельства.
– Он испытывал их на себе, – продолжила Лена, не дожидаясь ответа, – верно? Кололся или глотал. Тут уж не знаю. А потом всю ночь шатался по квартире. Скажи мне, а почему он, а не ты?
– Лен, мы не делали никаких наркотиков.
– Ты врешь, Андрей. И он мне тоже врал. Вы врали мне оба.
Она громко разрыдалась. Дети расплакались следом за ней. Перед Андреем возникла пожилая женщина с крючковатым носом в серой куртке с капюшоном.
– Разрешите? Я смогу ее успокоить.
– Да. Конечно.
Андрей поднялся с лавки и отошел к двум мужикам, живо обсуждавшим вопрос, что должны нести впереди: гроб или крест.
5
На кладбище было еще холоднее, чем в городе. На обледенелых деревьях каркали голодные вороны. От автобуса до могилы было не меньше двухсот метров пешего хода. Процессия шла молча. Гроб, сменяя друг друга, несли восемь человек. Андрей вслушивался в хруст мерзлого снега под ногами и поглядывал по сторонам.
Кресты. В какую сторону ни посмотри, кресты. Тысячи крестов как напоминания о тысячах умерших. И о Боге. Что-то в христианской концепции было лишним. Либо идея любви к Богу, либо кресты на надгробиях. Может ли тот, чье имя неразрывно связано со смертью, рассчитывать на любовь смертных? Уважение – да, поклонение – да, страх – да. Но не любовь.
Яма выглядела как огромный, неподвижно раззявленный рот. Вечно голодная земля терпеливо ждала. Переваривать Витю она будет так же неторопливо. По миллиграммам, но до конца. Пока не останутся одни кости. Ребята в черных спецовках с надписью «Ритуал» на веревках опустили в яму гроб и отошли к торчащим из земли лопатам.
У края могилы появился Дима. Должно быть, он приехал сразу на кладбище. Левой рукой он неловко подобрал три мерзлых кома и бросил их на крышку гроба. Он сильно изменился с последней их встречи. Обрюзг, потолстел и постарел. Пятисантиметровый портрет на экране, который Андрей видел чуть ли не каждый день, лгал. Огромный масштаб съедал мелкие, но многочисленные и значимые изменения, составлявшие реальный облик.
– Привет, – сказал Андрей и протянул руку.
Дима молча отвел взгляд и втянул голову. Как будто обиделся и замялся. Андрей успел списать это на счет их последнего разговора, прежде чем Дима вытащил из кармана правую руку и помахал ею перед лицом собеседника. Из рукава куртки торчала свежая культя. Заботливо обтянутый кожей обрубок с перетяжкой точно посередине, как кончик сосиски.
– Он откусил мне руку две недели назад.
Андрей отступил на шаг, как будто ему в лицо плеснули холодной водой. Вода смыла прежние мысли. Их место занял образ безобразно аккуратной культи и жестокое объяснение.
– Охренеть.
Две бабки, стоявшие ближе остальных, замолкли и обернулись.
– Он хочет, чтобы исследование прекратилось. И он его прекратит. Жаль, что я не смог объяснить это Вите.
Дима ткнул Андрею в плечо изуродованной рукой, а потом указал на яму. Трое могильщиков уже взяли лопаты в руки и нетерпеливо топтались на месте.
– Нам не следовало заглядывать туда, Андрей. Мы разбудили древнее зло. Дикое и сильное. Вопрос намного сложнее, чем создание устойчивой молекулы теломеразы и пары сопутствующих белков. Это тайна. Чужая тайна. Понимаешь? Того, кто ее откроет, ждут не лавры первооткрывателя, а смерть.
Андрей пытался смотреть Диме в лицо, но взгляд снова и снова возвращался к торчащему из рукава обрубку.
– Дима, ты сам понимаешь, какую чушь ты несешь? Что случилось с рукой?
– Ерунда. Есть вещи намного страшнее. Ты пока еще можешь выйти сухим из воды. Да, мы работали несколько лет. Мы долго к этому шли. Но оказались мы не в райских кущах, как обещал Витя, а на проклятом кладбище. И отсюда надо бежать что есть мочи. Жизнь дороже шести уже прожитых лет.
Дима сунул культю в карман, развернулся и пошел к машине. Больше Андрей его никогда не видел.
6
Справа, за стеклом иллюминатора, сквозь облака пробивались огни города. Слева сухая старуха листала мятый номер «Сторожевой башни». «Кажется, свидетелей Иеговы запретили», – рассеянно подумал Андрей и снова погрузился в размышления. Вчерашний разговор на кладбище и образ обрубленной руки не шли из головы.
Дима всегда был мечтателем. В институте он бредил вакциной от СПИДа, а работать над теломерами согласился, предполагая попутно создать препарат, замедляющий старение. Романтик. Настоящий ученый и идеальный инкубатор для шизофрении.
Самолет провалился в воздушную яму. Волна вибрации пробежала от кабины пилотов до хвоста. Сзади донесся беспокойный шепот, запричитала женщина, и расплакался ребенок. Старуха положила журнал на колени и повернулась к Андрею.
– Вам не страшно?
– Немного, – признался Андрей.
– Мне тоже. Думаю, это Бог дает нам знак, – старуха вытаращила глаза и подняла палец вверх. – Напоминает о заветах. Дает возможность исправиться. Возможно, для кого-то эта возможность – последняя.
– Может быть, – согласился Андрей, – зачем такие прозрачные намеки? Мне кажется, для всех было бы лучше, если бы он выражался яснее.
– Нет. Бог прячется. Если помните, и воскресшего Христа видели только апостолы. Бог не может вдруг явить себя людям. Это противоречит его плану.
Андрей потер подбородок, скрывая улыбку.
«А мы его нашли», – мог бы сказать он бабушке и рассказать о проекте.
Но слушать до конца полета протухшие цитаты из священных писаний не было никакого желания. Ради приличия он покачал головой, словно задумавшись над услышанным. Потом отвернулся к иллюминатору.
Мозг экстраполировал не слишком оригинальную «Гипотезу прозрачных предупреждений» на события последних дней. Витя покончил с собой. Дима лишился руки и рассудка. Самолет, в котором летит Андрей, трясется так, что, кажется, вот-вот упадет, завершив зловещую картину. Богопротивный образ проекта проступал грязным черным пятном сквозь белые листы с химическими формулами.
7
Из соседней комнаты донесся пронзительный будильник жены. «У „Нокиа“ самый мощный динамик», – всплыли в памяти слова продавца-консультанта МТС. Андрей открыл глаза.
Как было бы хорошо, если бы и смерть Вити, и увечья Димы – все оказалось сном. Длинным, очень сложным, логичным, неестественно реальным сном. Но на прикроватной тумбочке лежали купленные в Екатеринбурге перчатки, а у двери стояла дорожная сумка, к ручке которой был приклеен стикер «Багаж Аэрофлота». Вчера он вернулся слишком поздно, чтобы разобрать ее.
Андрей встал с кровати и вышел в прихожую. Сережка спускал воду в ванной. Юля заправляла за собой диван, хотя вчера в кровать они ложились вместе. На ней была белая майка и красные пижамные шорты, что означало начало цикла. На все остальные дни у нее была длинная ночнушка голубого цвета.
– Еще раз с возвращением, – сказала жена. – Выспался?
– Да.
– Счастливчик.
– Я снова храпел? – Андрей изобразил улыбку из серии «извините, что так глупо вышло, но ничего не мог с этим поделать».
– Хуже. Как ты себя чувствуешь?
– Нормально.
– Ты ничего не помнишь?
– Нет. А что случилось?
Юля села в кресло, набрала в легкие воздуха и шумно выдохнула. Психологическая практика подготовки к серьезному разговору.
– Не знаю что, но выглядело это довольно жутко. Около трех ты начал ворочаться и бормотать.
Она говорила вдумчиво, глядя прямо перед собой, как будто припоминая детали минувшей ночи.
– Я толкнула тебя локтем и отодвинулась на край. Когда я проснулась во второй раз, ты уже крутил головой по сторонам и дергал ногами так, как будто схватился руками за высоковольтный кабель. Я включила ночник. Лицо у тебя посинело и перекосилось. Вены разбухли, как вшитые под кожу черви. Сперва мне даже показалось, что это не ты. Я подскочила с кровати. Хотела вызвать скорую. И как дура два раза подряд набрала на сотовом ноль-три. Во сне ты повторял одно и то же. Сначала мне показалось, что это пустой набор звуков. Черт. До сих пор мурашки по коже. Лучше бы я не вслушивалась.
Она на секунду замолчала, ожидая комментариев или объяснений. Но Андрей промолчал. Прежде чем выдвигать предположения, он хотел бы услышать всю историю до конца.
– И что я сказал?
– Ты сказал, что если мы не остановимся, то умрем. Так и сказал. Повторил это раз сто. И говорил ты это не просто в темноту. Да, глаза были закрыты. Но я уверена, что ты обращался ко мне.
Андрей стал кое-что понимать. Остановитесь, или вы оба умрете. Так говорил Дима. Проклятые слова засели в мозгах и вывалились изо рта ночью. Как у Сережи год назад после «Властелина колец», когда он всю ночь во сне убегал от голлума.
– А потом все вдруг закончилось. Как будто ничего и не было. Ты перевернулся на бок и замолчал. Лицо расслабилось и посветлело. Дыхание выровнялось. И трясти начало меня. За остаток ночи я выпила полфлакона валерьянки, но все равно не смогла заснуть. И вернуться в кровать тоже.
Юля замолчала. Немой вопрос «так что это было?» повис в воздухе. Ответ мог быть либо формальным, либо пугающим. Андрей выбрал первое.
– Это из-за похорон. Все время об этом думаю. Прости.
Юля подняла брови и заглянула ему в глаза. Из жены она моментально превратилась в психолога, жаждущего конкретики. И возможно, вопреки желаниям Андрея, она бы ее получила, но в комнату вошел Сережа.
– Привет, папка, – крикнул он и бросился Андрею на шею.
– Привет, парень.
Андрей даже не знал, чему обрадовался больше: возможности избежать дополнительных расспросов или встрече с сыном.
– Как дела в школе?
– Новых оценок нет. На четверг Пушкина наизусть задали.
– Вчера ходил на плаванье?
– Да. А что ты мне привез?
«Два кармана сомнений и сумку со страхами», – хотел сказать Андрей первое, что пришло в голову. Но шутка вдруг показалась не смешной. Совсем не смешной.
8
После обеда, вернувшись из столовой, Андрей заглянул в почтовый ящик. Там лежало непрочитанное письмо от Виктора, отправленное четыре дня назад, тем вечером, когда они в последний раз разговаривали по скайпу.
«Я не удержался и позвонил Диме. Хотел, как ты говорил, разобраться. Разобрался. У парня съехала крыша. Вторую неделю он разговаривает с Богом. А с понедельника уходит из института. Думаю, он рассказал начальству о своем Новом Знакомом, и его попросили. Не хочется думать, что проект произвел на него такое воздействие, но взаимосвязь „тема исследования – бред больного“ прослеживается.
Дима собирается уехать на побережье. К тетке, под Туапсе. Сказал, что купит участок и построит теплицу. Огурцы-помидоры и все такое. В общем, все. Тук-тук, я в домике. Я посоветовал ему на следующем свидании спросить у Бога выигрышную комбинацию „Русского Лото“, чтобы было, с чего начать карьеру огородника. На том мы и простились.
Теперь что касается дела. Я отправил данные Валере (его электронка в прикрепленном файле) и посылаю их тебе. Посмотри, что получается. Из шестидесяти семи твоих номеров по меньшей мере четыре будут работать. Остается только выяснить которые. До конца года он обещал закончить. Готовься к золотому дождю и продвижению по службе. Я думаю, это будет Нобелевка с одновременным причислением к лику святых. (История повторяется. Про апостола Андрея я уже где-то слышал.)
Материалы в „Физиологию“ я сдал. Публикация будет в январе.
Вчера по пути с работы заходил в автосалон „лексуса“. Шкура неубитого медведя будоражит воображение. Хотя разумнее, наверное, сначала сменить квартиру на дом.
Все. Пока. До связи.
P. S. Только по-прежнему не пойму, почему это не сделали до нас. Чисто технически работа могла быть проделана еще в восьмидесятых. Эти четыре тысячи локусов выглядят как заросший бурьяном пятак посреди огромного перепаханного поля. Дай бог, чтобы этот огрех был в мировой микробиологии, а не в наших головах».
И ни слова о намерении покончить с собой. Юля рассказывала, что самоубийцы подолгу вынашивают роковую мысль. Эти люди рождаются с миной в голове, таймер которой запущен. Они слышат обратный отсчет и часто обсуждают возможность ухода из жизни с родными и близкими. Но вот оно – письмо, написанное за несколько часов до прыжка из окна. И в нем ни слова о смерти. Возможно, где-то между строк и прячутся темные, неуловимые, как Бог, тени фатальных мыслей. Но знал ли о них сам Витя? Похоже, что нет. И желание прыгнуть вниз вдруг возникло у него, когда он уже стоял у окна.
Андрей открыл прикрепленный файл и пробежал по странице глазами. Виктор отправил на испытание в Волгоград еще номера, но результаты были ясны и без них.
За безобидными столбиками цифр скрывалось невероятное по своим размерам и значимости открытие. Да, шесть лет назад Витя обещал интересные результаты, но к такому не был готов никто. Неудивительно, что у Димы помутился рассудок. Тропинка, на которую они вышли, уводила далеко за пределы привычного миропорядка. Невозможно допустить самостоятельное возникновение табуретки, после того как под верстаком обнаружены молоток, ножовка, рубанок, гвозди и десяток досок. (А они обнаружили намного больше.) Существование изделия доказывает существование Создателя. Либо Создателей. И это серьезней, чем открытие закона всемирного тяготения или энергии атома. Намного серьезней. Жизнь на Земле была создана. Они это выяснили, и они могли это доказать.
Андрей встал из-за компьютера и подошел к окну. Через два часа Петренко должен был освободить лабораторию.
9
Дома Андрей появился в начале одиннадцатого. Юля как обычно встретила его у входной двери. Но вместо того чтобы повиснуть на шее, она отступила на три шага назад, в глубь коридора, и отвела взгляд куда-то в сторону.
– Что-то случилось? – спросил Андрей.
– Нет, – голос звучал тускло и отрешенно, – просто устала. День дурацкий. Я пойду спать. Ты скоро?
Последние слова она произнесла как будто через силу. Это было что-то посерьезнее обычных проблем на работе.
– Да, скоро. Как Сережа?
– Просил одеяло полегче. Но на вторник обещают снег. Я не стала менять.
Холодно и сдержанно. Как будто они вдруг снова стали незнакомыми людьми. То ли обида, то ли чувство вины. Андрей вспомнил компьютерщика, о котором жена рассказывала на прошлой неделе. «Очень интересный молодой человек», – сказала она. В тот момент ему показалось, что этот интерес был не только профессиональным.
– Юль, что случилось?
Она наконец взглянула ему в глаза. После этого сказать еще раз, что все в порядке, язык не поворачивался.
– Я… Не знаю, как это правильно объяснить… Не могу забыть то, что произошло ночью. Даже смешно. Каждый день копаюсь в чужих мозгах и вдруг оказываюсь совсем не готова к такой ерунде. Ты меня понимаешь?
На сжимавшем телефон кулаке побелели костяшки. Она отступила еще на шаг.
Остановитесь или умрете. Вы все умрете.
Да, теперь он понял. Она боялась его. С ума сойти. Она напугана до чертиков, и с трудом сдерживает себя, чтобы прямо сейчас не убежать и не запереться в ванной. За одну ночь он превратился для нее в чудовище. Возможно, в самое страшное чудовище, с которым она когда-либо сталкивалась. Как она вообще вернулась домой, да еще и привела сюда сына? Как у нее повернулся язык спросить «ты скоро?» Что она должна была чувствовать, готовясь очутиться в одной кровати со своим кошмаром? Черт бы тебя подрал, Дима. Черт бы тебя, спятившего идиота, подрал.
Андрей сел на пуфик у двери и потер пальцами лоб.
– Юль, я не знаю, что произошло ночью. Психологический срыв во сне. Временное умопомрачение. Сердечный приступ. Или что-то еще. Но чем бы оно ни было, оно прошло. Я уверен, это больше не повторится. Со мной все в порядке. Слышишь меня?
Жена снова искоса взглянула на него. Но задержала взгляд на секунду дольше.
– И не надо смотреть на меня как на восставшего из ада Чикатило.
Она вяло улыбнулась.
– Извини. Это было действительно страшно. И сейчас… Понимаешь, такие вещи не проходят бесследно.
– Хочешь, я лягу в зале? – спросил Андрей.
– А ты не обидишься?
Он подумал, что сама бы она этого никогда не предложила, и проглотил вдруг возникший в горле ком. Какой компьютерщик? Дурак ты, если мог подумать о таких глупостях. Это твоя женщина, и ничья больше.
– Нет. Тем более, кажется, я ничего не теряю.
Он кивнул на ее красные шортики. Юля рассмеялась.
– Ближайшие два дня точно. Я буду ждать твоего возвращения. Ну, скажем, например, в среду.
Страх в ее глазах уступил место облегчению. И все же поцеловать его на ночь, как это она всегда делала, когда уходила спать первой, она не решилась.
10
Сережа проснулся от шороха за окном. Если бы не одеяло с Винни Пухом, он бы не услышал этот слабый шелестящий звук. Одеяло было слишком жарким, и он всю ночь то накрывался им с головой, то сбрасывал с себя, разгоняя сон. Мама сказала, что скоро выпадет снег и все станет на свои места.
Снаружи кто-то терся о стену. Кто-то большой и сильный. Мальчик представил кавказца Артюховых. Они отпускали его с цепи на ночь.
– Нет, на этот раз ты себя не обманешь, – прошептал голос в голове. – Это звук трущейся о стену одежды.
Смутный пугающий образ, силящийся оформиться в слово, забрезжил в сознании. И Сережа чувствовал, что, обретя твердые очертания, это нечто станет сильнее и страшнее в тысячи раз. Тогда смутная тревога превратится в цепкий ужас. И это неминуемо случится, если он сейчас же не прекратит думать об этом.
Он резко сел в кровати. Звук исчез. Сережа посмотрел вокруг.
В комнате было темно. Сквозь стекло на стол, заваленный учебниками и тетрадями, падал желтый лунный свет. Обычно он собирал портфель с вечера, но в этот раз собирался утром повторить Пушкина. Как там начинается?
Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца: «Тятя! Тятя! Наши сети Притащили мертвеца…»– Вот ты и попался.
Сердце забилось чаще, как будто урок литературы уже начался и его вызвали к доске. Даже сильнее. Намного сильнее.
Зачем он только послушался Лешку? «Ходишь в бассейн – бери про утопленника». Глупая шутка была смешной только до тех пор, пока он не начал учить стихотворение. До тех пор, пока мрачные персонажи умершего классика не ожили в его воображении. Лешки в тот момент рядом уже не было.
Сережа сел на подушку, поджал колени и набросил на спину одеяло. За окном по светлому от луны небу бежали темные прозрачные облака. А ниже линии горизонта чернел провал. Мокрая земля перекопанного огорода выглядела как огромная черная дыра. Дождь, поливавший весь вечер, прекратился. Было так тихо, что Сережа слышал, как в подвале горит котел, как тикают часы на стене в кухне и как кто-то вкрадчиво скребется под окном.
Нельзя было его учить. Даже читать было нельзя. Лучше бы ему поставили двойку.
Прекрати. Это всего лишь собака.
Он подполз по кровати к окну и посмотрел сквозь стекло вниз.
– Где ж мертвец?
– Вон, тятя, вон!
В темноте что-то двигалось. Не прямо под окном, а ниже. Он вгляделся во тьму и увидел внизу чью-то голову в вязаной шапочке с помпоном. Это был очень низкий человек. Либо ребенок, либо карлик.
Сережа отодвинулся от окна. Ему вдруг очень сильно захотелось к маме. И пусть завтра она будет смеяться над ним, а отец станет укоризненно качать головой. Один раз можно. И он бы побежал в спальню к родителям. Немедленно. Но как слезть с кровати? Едва он ступит на пол, за ногу схватится костлявая холодная рука того самого утопленника, запутавшегося в сетях.
– Но как он может быть одновременно за окном и под кроватью?
– Очень просто.
Сережа вздрогнул. Надо было выбрать другое стихотворение. Как Лешка. Про зиму. Но теперь уже поздно. Он выбрал утопленника. А утопленник выбрал его.
11
– Елки зеленые, – Андрей сел и ощупал ладонями поясницу, потом шею.
Тело ныло, как будто он спал на кирпичах. Проклятый диван. Андрей провел рукой по простынке и нащупал выступающий стык между спинкой и матрацем. Одна-единственная небольшая неровность превратила мебель в орудие пыток.
В доме было необычно тихо. Андрей встал с дивана и прошел по комнатам. В зале никого. В спальнях тоже никого. В туалете и ванной свет не горит.
– Юля, – на всякий случай крикнул он.
Никто не отозвался.
Андрей посмотрел на часы. Тревога сменилось досадой. Вот черт. Половина девятого. Сейчас Юля записывает в блокнот жалобы очередного пациента, а Сережка решает линейные уравнения. И если он сам через полчаса не окажется на работе, Фисенко гарантированно наябедничает начальству.
12
Без пяти девять, когда позвонил Дима, Андрей стоял в пробке в шести кварталах от института.
– Ты сделал, как я тебе сказал? – спросил Дима.
С первых слов стало ясно, что Дима пребывает в прежнем параноидальном настроении.
– Нет. И вообще-то нормальные люди сперва здороваются. Как твоя рука?
– Не отросла. Это мое последнее предупреждение, Андрей. Уничтожь материалы, или ты умрешь.
Багажник белой «БМВ» за лобовым стеклом продвинулся вперед на пять шагов и замер.
– Знаешь, эта фраза с самого начала показалась мне не очень смешной. А сейчас она вызывает у меня труднопреодолимое желание послать тебя на хер, – ответил Андрей.
– Я звоню не для того, чтобы тебя развеселить. Я хочу помочь.
– Да что с тобой происходит?!
Андрей посмотрел на часы. Пешком было бы быстрее.
– Со мной? Лучше подумай о том, что происходит с тобой. Начни с вопроса «кто ты?». Что ты есть, Андрей, по сути? Где твое место в этом мире? Ты подобрался к ответу очень близко. И никогда, слышишь, никогда он не позволит тебе сделать последний шаг. Куры на птицефабрике должны иметь расплывчатое представление о мясокомбинате. Уничтожь все данные, и будешь жить дальше.
Андрей вспомнил последнее Витино письмо. Взаимосвязь между бредом сумасшедшего и темой исследования действительно четко прослеживалась.
– Целая философия. Ты понимаешь, что тебе следует обратиться к врачу?
Дима шумно проглотил слюну. Андрей ждал, что он сбросит вызов. Но ошибся.
– Это Бог. Бог приказывает тебе остановиться, Андрей. Он хочет, чтобы ты уничтожил все данные. Не знаю почему, но сам он это сделать не может.
Андрей свернул на объездную. Припаркованные по обе стороны автомобили сужали проезжую часть до ширины кузова. Управление одной рукой в таких условиях могло обернуться встречей с аварийным комиссаром.
– Я все понял, Дим. Иди поливать помидоры. За меня не переживай. Когда станет совсем туго, я вызову на помощь отряд джедаев. Будь здоров. Если что – звони.
13
День Андрей провел за компьютером. Сначала вбивал данные по гепатиту в программу корреляционно-регрессионного анализа, потом отписался Валере и изучал новые требования к оформлению годового отчета. Но все это время его мысли непрерывно витали вокруг результатов «научной самодеятельности».
Работа близилась к завершению, и от этого ему становилось немного не по себе. Он привык работать над проектом и не был готов его закончить. «Комплекс бесконечной работы», – так бы обрисовала его ощущения жена. Через месяц он получит цифры от Валеры. Они подтвердят предыдущие данные и лягут последним пазлом в общей картине. Все. Теорема доказана. Но что с нею делать дальше? Нести результаты в мир должен был Витя. Теперь его нет.
Они не поверят. Никто не поверит. Это настолько невероятно, что никто даже не попытается проверить результаты или повторить опыт. Вы хотите сказать, что она вертится? Это самая изумительная глупость, которую я когда-либо слышал. Да, отказ поверить в истину лучше пыток инквизиции, но это не решает проблемы.
Не поверят? Да тебе даже некому об этом сказать. Для твоего института это не профильный вопрос, а на заседания Академии наук тебя не приглашают. Черт. Да ты даже не можешь обсудить этот вопрос с Фисенко. Он гарантированно спросит, откуда взялись химикаты на проведение работ по вопросу, не имеющему ни малейшего отношения к тематическому плану исследований института.
И что остается? Написать статью и отправить ее в «Физиологию»? Разослать материалы по профильным институтам, отделам и кафедрам? Выступить с открытым обращением к жителям планеты Земля? М-да. Вместо обещанных Витей «Лексуса» и особняка, скорее всего, его ждут годы мытарств.
14
Когда Андрей вернулся с работы, Юля купалась, а Сережа в трусах ждал его на кухне.
– Ты почему не спишь? – спросил Андрей.
Часы на стене показывали без четверти одиннадцать.
– Пап, я хочу тебе что-то сказать.
Сережа переминался с ноги на ногу.
– Давай говори и иди ложись.
Андрей заглянул в холодильник. На верхней полке стояла кастрюля с макаронами, а где-то в дверке должен был лежать хвост сырокопченой колбасы.
– Ночью под окнами кто-то лазил, – сказал Сережа.
– В смысле?
– Кто-то топтался под окном и скреб стену. Какой-то человек. Я боюсь его.
Андрей забыл, зачем полез в холодильник, хлопнул дверкой и сел на табуретку напротив.
– И как он выглядел?
– Карлик в вязаной шапочке с бубончиком и с палкой в руке. Он что-то ковырял ею под ногами. Не знаю что, было темно. Я посмотрел и сразу отошел от окна. Боялся, что он меня увидит.
Кажется, кошмары мучают не одного тебя.
Андрей обнял сына за плечи и прижал к себе.
– Я думаю, это был сон. Знаешь, так бывает. Ты проснулся, умылся, что-то сделал, с кем-то поговорил, а потом вдруг оба-на – и ты просыпаешься.
– Это был не сон.
– Значит, тебе показалось. Если это случится еще раз, разбуди меня, и мы вместе посмотрим на этого карлика. Договорились?
Сережа кивнул.
– Ты уже говорил об этом маме?
Сережа отрицательно покрутил головой.
– И не надо. Ей своих страхов хватает. А пока иди ложись. И если вдруг что-то тебя снова напугает – буди меня.
15
Макароны Андрей разогревать не стал. Поел холодными и запил их чаем.
Фонарь лежал в нижнем ящике кухонного шкафа. Разряжен. Последний раз Андрей пользовался им в июле, когда отключали свет. Андрей воткнул его в розетку. Пятнадцать минут ожидания, прежде чем он начал мало-мальски светить, тянулись вечность.
На улице по-прежнему шел мелкий моросящий дождь. Мелкие капли часто мельтешили перед фонарем. Видно было не дальше чем на два шага перед собой.
За забором громко лаял кавказец Артюховых. Надетые на босу ногу полуботинки терли щиколотки. Сквозь запахнутую наскоро куртку продирался холодный ветер.
Если под окном у Сережи действительно кто-то ходил, должны были остаться следы. Как минимум у стены ванной, где раздолбили бетон, когда меняли канализацию.
Окно детской спальни выходило в огород. Между двором и огородом была низкая калитка на шпингалете. Андрей вошел в нее и очутился за домом.
Следы он обнаружил сразу, как только шагнул с асфальта на белую бетонную полосу отмостки. Куски размокшей грязи, прилипшие к краю бетона. Тот, кто недавно гулял здесь, вытер ноги, прежде чем направиться во двор. Грязные следы, наполовину смытые водой, уводили в темноту.
Все тайное становится явным.
Если только никто эту тайну не охраняет.
Он подошел к окну спальни сына. Тут же под левой ногой чавкнуло. Андрей почувствовал, как холодная грязь, перевалив за край полуботинка, коснулась голой ноги.
– Вот черт.
Андрей посветил вниз. Под стеной лежала большая куча грязи, в которой увязла нога. Откуда здесь земля? Он направил фонарь на цветник, в мельтешащую дождем мглу, туда, где летом росли гладиолусы. Луч света провалился в темноту. Потом выскочил на жухлую траву. И снова провалился.
Перед Андреем были две прямоугольные ямы, выкопанные вдоль отмостки фундамента. Одна побольше. Другая поменьше. Он шагнул к краю меньшей и посветил вниз. Ровные гладкие стенки. Вода на дне рябила от мелких капель дождя. О глубине можно было судить только по выбранному грунту. Он долго смотрел вниз. До тех пор пока ему не стало казаться, что яма затягивает его.
Яма? Ты назвал их ямами? Присмотрись внимательней. Такую же яму ты видел три дня назад в Екатеринбурге. Это могилы, Андрей. Две свежевыкопанные могилы. Одна – для взрослого. Другая – для ребенка.
16
Андрей вернулся в дом, дважды повернул ключ в замке и подергал за ручку. Посмотрел на часы. Без четверти двенадцать.
Мозги работали холодно и четко, как будто их погрузили в ведерко со льдом. Ключи от машины на тумбочке, одежда Сережи на вешалке (Юля всегда гладит ему все с вечера), документы и деньги (остаток сбережений на покупку кухни) – в спальне на полке. Только не ввязываться в разговоры и объяснения. Быстро. Разбудить жену, собрать ребенка и уехать куда угодно, лишь бы подальше от двух сырых ям под окном. От этого зловещего места, бывшего когда-то их домом.
Голова как ведерко со льдом? Нет. Ты думаешь так, словно твои мозги чебуреком плавают в кастрюле с кипящим маслом. И в этом чебуреке рождаются смертельно опасные глупости. Возможно, в полном соответствии с планами чертова землекопа. Он как раз ждет, когда вы с перепугу выскочите под дождь в темноту. И не пытайся понять, зачем ему убивать вас. Причины могут быть понятны только этому парню с лопатой. А может быть, непонятны и ему. Не дергайся и приготовься защищаться. Это лучшее, что ты сейчас можешь сделать.
Андрей прошел на кухню, выдвинул ящик стола и достал самый большой нож.
Думаешь, он все еще здесь? Сережа видел его вчера ночью. Две ямы, а не три. Вчера у этого психа что-то пошло не так.
Он заглянул в спальню к жене, потом в детскую. Юля и Сережа спали.
«Пусть спят. Не нужно переполоха. Перепуганного до чертиков папы более чем достаточно», – прошептал он вслух и усмехнулся.
Он вернулся на кухню и посмотрел в черное окно. Жаль, что во дворе нет света. А ведь Юля сорок раз просила поставить какой-нибудь фонарь. Тот, кто стоял снаружи, мог спокойно наблюдать за всем, что происходило внутри дома. Он мог не торопясь обойти вокруг. Заглянуть в каждое окно. Ему нечего было бояться. Темнота надежно скрывала его. Бог прячется.
Андрей подошел к окну и задернул занавеску.
Спрячемся и мы.
Стало тихо. Как будто весь мир погрузился в сон. Спала жена. Спал сын. И луковицы гладиолусов в ящике под столом тоже спали. Не спал только Андрей и тот, кто выкопал могилы. Если он, конечно, все еще был здесь. А это было невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.
Ночь шла медленно, как будто упираясь. Минутная стрелка нехотя очерчивала циферблат. Каждую половину круга он поднимался со стула и обходил спальни. Потом возвращался на кухню. Наводил себе кружку крепкого чая. К четырем началась изжога, и вместо чая он стал пить воду с содой.
17
Бледный поздний рассвет Андрей встретил в детской спальне. Сережа ворочался во сне, чувствуя приближающийся подъем. За стеклом по черной пашне огорода ходили вороны. Две пустые могилы, ждущие своих покойников, отсюда не были видны. Они находились слишком близко к стене. Но если внимательно присмотреться, можно было заметить, что трава на цветнике грязная и притоптанная.
– Привет.
Голос за спиной заставил вздрогнуть и повернуться. В дверях стояла Юля и сонно потягивалась.
– Теперь моя очередь тебя пугать.
Он усмехнулся. Если он скажет, что находится в четырех метрах от нее за стеной, то разговоры во сне покажутся ей забавным происшествием.
– Мы снова друзья? – спросил он.
– И даже больше. Сегодня вечером возвращайся. Я надену голубую ночнушку и буду тебя ждать.
Она поцеловала его в щеку (наконец-то) и пошла в ванную. По спине побежали мурашки. Ее пустая безмятежность выглядела так же пугающе, как могилы у окна. Безмятежность, означающая абсолютную уязвимость. Ее самой и сына.
«Надо засыпать эти чертовы ямы, – сказал себе Андрей. – Сегодня же».
Но планам этим не суждено было сбыться. Позвонил Петренко, сказал, что подхватил грипп и сегодня лаборатория свободна с самого утра.
18
Бессонная ночь не способствовала работоспособности. В голове все смешалось: маркеры, праймеры и могилы под окном детской спальни. Перед выходом из дома он еще раз осмотрел их. Ямы оказались не такими глубокими, как ему показалось ночью. Но в том, что это были именно могилы, сомнений не возникало. Рядом с ямами он нашел перемазанную в грязи лопату – ту самую, которой два месяца назад перекапывал огород. Ночной гость неплохо ориентировался во дворе, если смог в потемках отыскать инструмент. Он подумал о Диме и тут же оборвал себя. Не глупи. Дима был у тебя в гостях лишь однажды и вряд ли мог запомнить, где стояла лопата. К тому же теперь он калека.
В начале первого Андрей оставил Олю мыть ванночки для электрофореза, а сам вернулся в кабинет, включил чайник и позвонил жене.
– Привет, – ответила Юля, – бассейн закрыт. Воду меняют. Так что мы уже дома. Ты ночью забил раковину заваркой. Приедешь, будешь чистить.
Сообщение о том, что жена с сыном дома одни, заставило его поежиться. Но судя по спокойному голосу Юли, все было в порядке.
– Да. Хорошо, – ответил он (после того как я свожу тебя за дом, ты надолго забудешь про раковину). – У меня есть предложение на вечер.
– Романтический ужин?
– Поездка к твоей маме.
– Непредсказуемость – твое второе имя, дорогой. Но я только «за». Кстати, где вчера тебя черти носили?
– Ты о чем?
(А ты не догадываешься?)
– О грязных вещах в корзине. Синие штаны, финский свитер с оленями, черная ветровка. И кто тебе разрешал брать мою синюю шапку с помпоном?
Она сказала что-то еще, но Андрей ее не слышал. Он снова слышал Диму. Вы умрете. Вы оба умрете. Он вспомнил боль в пояснице после первой ночи на диване, историю про карлика в вязаной шапке с бубончиком и страх в глазах Юли. Бог прячется. Не добрый дедушка на небесах, а спрут, запустивший щупальца в мозги. Андрей зажмурился до фиолетовых пятен перед глазами. Вдруг стало ясно, почему могил было не три, а две. Он чувствовал, как проваливается в собственные мысли. Они засасывали, затягивали, как черные ямы ночью под дождем.
– Ты меня слышишь? – прокричала в трубку Юля. – Я говорю, где ты умудрился так вымазаться?
Он представил, как берет нож, тот самый, с которым сегодня ночью он бродил по дому, и направляется в спальню к сыну.
– Я не могу тебе этого объяснить. Со мною что-то происходит. Вы должны уехать, Юля. Срочно.
Она выдержала паузу, а когда заговорила, он услышал не жену, а специалиста по психологии.
– То есть ты не помнишь, когда и как вымазал одежду?
– Нет. Забери Сережу, и уезжайте из дома. Не говори мне куда. Я не должен этого знать.
– Андрей, ты должен успокоиться.
Он представил, как Юля держит карандаш в руке и записывает в своем блокнотике каждое его слово, как она всегда делает, разговаривая с пациентами по телефону.
– Я знаю, о чем ты думаешь. Диссоциативное расстройство идентичности. Раздвоение личности – в миру. И ты ошибаешься. Это заболевание встречается реже, чем шаровая молния. Есть мнение, что его вообще не существует. И есть сопутствующие симптомы, и они мне известны, и у тебя их нет.
Твоя проблема – это глубокое нарушение сна. Сомнамбулизм. Не такая уж и большая редкость. У меня было два таких пациента. В обоих случаях мы решили проблему. Так что возвращайся спокойно домой, и мы тобой займемся. Это как раз по моей части.
– Юля, это может быть что угодно.
– Не может.
– Уезжай.
– Нет. И прекрати командовать. Хочешь, я сама к тебе приеду? Возьму Сережку, и через полчаса мы будем у тебя.
– Не надо. Я перезвоню.
– Приезжай. Я буду ждать. Пока.
Динамик сухо щелкнул, как Димина авторучка. Андрей убрал телефон в карман и посмотрел на мелко трясущиеся пальцы.
19
Он запер дверь туалета на шпингалет и открыл кран. Пригоршня ледяной воды, растертая по лицу, помогла сбросить накатившую волну страха и собраться с мыслями.
Как она сказала? Глубокое расстройство сна? Сомнамбула? Да, это было бы здорово. Намного лучше, чем злобный Бог внутри, обеспокоенный раскрытием тайны своего существования. Чем спрут, запустивший щупальца в мозги и спрятавшийся в черепную коробку. Тук-тук, я в домике. Будем сажать помидоры.
Но Юлин диагноз не объясняет Витино самоубийство, Димино сумасшествие, увечье и угрозы. Слишком много совпадений.
Ты подобрался к ответу очень близко. И никогда, слышишь, никогда он не позволит тебе сделать последний шаг. Куры на птицефабрике должны иметь расплывчатое представление о мясокомбинате.
Андрей посмотрел на отражение в зеркале. Мокрые взъерошенные волосы, круги под глазами и побледневшие от страха губы. Через час Оля уйдет домой, он сдвинет стулья и поспит хотя бы пару часов. Хоть лунатизм, хоть всемогущий спрут, суть одна. Источник опасности в нем самом. Потеря контроля над телом происходит во сне. Дома он должен появиться выспавшимся.
– Я не уверен в том, что ты существуешь, – сказал Андрей отражению в зеркале, – но все же предупреждаю. Я написал двенадцать отложенных писем. Если с моей семьей или со мной что-то случится, завтра в одиннадцать часов утра письма разлетятся по адресатам. О результатах исследования узнают еще как минимум двенадцать человек. Это так. На всякий случай. Как крещение Сережи и отпевание отца.
Андрей замолчал и придвинулся вплотную к зеркалу, коснувшись его носом. Светло-серая радужная оболочка с радиальными линиями, несколько темных точек, черный, как будто слегка пульсирующий зрачок в центре. Ничего особенного. И все же ему казалось, что из зеркала кто-то молча на него смотрит.
– Поговори со мной, как ты говорил с Димой. Я сделаю все, как ты хочешь. Обещаю. Но сначала ты должен поговорить со мной. Прямо. Безо всяких намеков и недомолвок. Как мужчина с мужчиной. Или, если хочешь, как Бог с человеком.
20
В соседней комнате что-то стеклянное упало на пол и разбилось. Сережа проснулся. В комнате было темно. Черное окно было как будто замазано снаружи грязью. Из-под двери пробивалась узкая полоска света. За дверью закричала мама.
– Отойди от меня. Я позвоню в полицию. Ты меня слышишь?
Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца… Он не полез в окно, а зашел в дверь.
Несколько секунд мальчик завороженно смотрел на игру теней в полоске света из-под двери. Потом слез с кровати и открыл дверь. Яркий свет ослепил его. Сережа прищурился. Огромная расплывчатая фигура медленно шевелилась у дивана. Он оказался больше, намного больше, чем ему показалось тогда у окна. Черты становились четче, и Сережа увидел родителей.
Они стояли рядом. Мама впереди. Отец сзади. Как если бы обнимал ее. И она обнимала его, закинув руки вверх и назад. Где-то в альбоме была такая же фотография. Потом Сережа увидел, что лицо мамы синеет. Налившиеся кровью глаза вываливались из глазниц. Она смотрела на Сережу. Раздувшиеся пунцовые губы беззвучно шевелились. Ее руки вцепились во что-то невидимое на затылке. Как если бы она примеряла невидимые бусы, которые делили ее худую шею на пунцово-красную и бледно-белую части.
За спиной у нее был не отец, как ему показалось сначала, а мертвец. Он запрыгнул маме на спину, вцепившись руками в волосы, и тянул голову на себя. На нем была сбившаяся набок маска из лица папы. Из-под маски проступали острые уродливые черты. Он тоже смотрел на Сережу и улыбался.
– Иди ко мне.
Голос был старым и скрипучим.
Мама начала медленно опускаться, как если бы вдруг собралась сесть на несуществующий стул. Ее тонкие обессилевшие руки упали вниз и повисли над полом.
Убийца заботливо уложил ее на пол, продолжая держать кулаки у нее за затылком. Сережа бросился к окну, нащупал ручку, отвернул и потянул ее на себя. Холодный влажный ветер растрепал волосы. Сломанная москитная сетка легко выскочила из зажимов и упала вниз. Прежде чем выпрыгнуть, он обернулся.
Мертвец стоял в дверном проеме в пяти шагах от окна. Длинные руки едва не касались пола. В левой руке был зажат черный шнур зарядки от телефона. Он медленно шагнул вперед.
– Иди ко мне.
Сережа спрыгнул. Приземлился на ноги и больно ударился пятками о бетон. Сверху что-то мазнуло его по голове. Он шагнул в сторону и поднял глаза. Свесившаяся из окна неестественно длинная рука тянулась к лицу. Тело, застрявшее в оконном проеме, дергалось, пытаясь просунуться еще глубже.
Бежать.
Калитка замкнута. Ключи дома. Можно перелезть. Только босиком легко проткнуть ногу о штырь засова.
Он еще раз взглянул вверх. Утопленник исчез. В пустом окне ветер шевелил занавесками.
Нет. Теперь только не во двор. Через огород. Через сетку к соседям. Не к Артюховым. У них собака. К Еремеевым. Стучать в окна. А вдруг тетя Валя не сможет победить это чудовище? Лучше через их двор на улицу и куда-нибудь подальше отсюда. Быстрее.
Сережа сделал два шага и вдруг провалился. С громким шлепком он упал в ледяную грязь. Правую ногу пронзила боль. Он попробовал подняться и не смог. Чернота обступила его со всех сторон. Ветер стих. Сережа запрокинул голову и увидел черный ссутулившийся силуэт на фоне прямоугольника неба.
– Нет, – прошептал Сережа.
Мертвец спрыгнул вниз. Холодной грязью ляпнуло в лицо. Сережа выставил руку, но нащупал только пустоту.
– Я здесь, – услышал он из-за спины и почувствовал, как тонкий шнур впивается ему в шею.
21
Андрей закричал от боли и проснулся. В левый глаз как будто воткнули раскаленную проволоку и медленно проворачивали ее. Он коснулся больного места кончиками пальцев. Проволока погрузилась глубже и пронзила мозг.
– О, черт.
Он лежал не на стульях, а на полу. Не в рабочем кабинете, а дома, в зале. В комнате горел свет. Прямо перед лицом торчала ножка перевернутого кресла. Опираясь на диван, он медленно поднялся с пола. Двери в комнаты были открыты. Из детской тянуло сквозняком.
Андрей оглядел себя. Перемазанные по колено в грязи джинсы, порванная рубашка, грязь на босых ногах. Словно он бегал босиком по огороду. Или…
Не надо «или». Никаких «или», или ты свихнешься прямо здесь и прямо сейчас.
Вы умрете. Вы все умрете.
– Юля?
За окном было темно. Часы на стене показывали начало седьмого. Тяжело переставляя ноги, глядя на пол и стараясь не наступить на осколки кружки, он доковылял до спальни.
Пусто. Еще четыре шага до детской. Холодный ветер из окна трепал занавески. За занавесками открытая створка окна билась о раму. На полу валялось синее одеяло с Винни Пухом.
Не хочешь выглянуть в окно и посмотреть, что там делается на клумбе?
От этой мысли его бросило в дрожь.
Забудь. Плохие мысли могут материализоваться. Пусть это был скандал. Скандал, который положит конец их семейной жизни. Она забрала с собой вещи и сына и уехала к маме. Помнишь, как тогда, десять лет назад? Да. Пусть он окажется неудачником, не сумевшим прокормить семью. Пусть она бросит его и он больше никогда не увидит сына. Разве этого мало?
А грязь? А открытое окно? А сломанные ногти?
Андрей сел на диван.
На журнальном столике рядом с его «Самсунгом» лежали окровавленные маникюрные ножнички и глаз. Грязными выбитыми пальцами, скривившись от боли, он взял его в руку. Привет мистеру Хайду от мистера Джекила. Упругий, подсохший, с красным шматком спутанных сосудов. Андрей развернул его зрачком к себе. Глаз как будто смотрел на него сквозь ссохшуюся матовую роговицу.
Там под опухшим веком ничего нет. И это был не просто скандал.
Шесть лет назад ты впервые постучался в дверь. Тебе никто не ответил. Ты постучался еще раз и начал дергать за ручку. Тебе сказали с той стороны: «Уходи». Ты не послушал и стал ломиться внутрь. И тогда дверь открылась. Медленно, со скрипом. Совсем немного. Так, чтобы нельзя было разобрать, что там, за ней. Но достаточно широко для того, чтобы оттуда, из темноты, просунулась чья-то рука, вырвала тебе глаз и сделала кое-что еще.
Теперь ты доволен? Доволен, черт возьми?
– Я все понял. Не надо. Я выкину все реактивы и отформатирую жесткий диск. Уничтожу письма. Не надо. Прошу тебя. Ты же не только всемогущий, но и всемилостивый.
Помнишь, я спрашивал тебя, кто ты? Так вот знай. Ты зомбированный муравей с личинками глистов в голове, забравшийся на высокую травинку в ожидании барана. И существуешь ты только потому, что являешься звеном в превращениях этой личинки.
– Как скажешь, только оставь в покое мою семью.
Андрей нащупал телефон в заднем кармане джинсов. В журнале вызовов ее номер был первым.
Длинные гудки. Сколько их прошло? Два или три. Лучше два.
Давай же возьми трубку, скажи, что ночью я снова стал чудить. Что ты собрала сумку, забрала Сережу и уехала к маме. Что после всего случившегося ты подашь на развод, что я буду платить алименты. И что дом ты заберешь себе, а мне оставишь ипотеку, что…
Конец вызова.
– О боже, черт, черт. Юля! Сережа!
Он набрал снова и убрал трубку от уха. Показалось? В детской спальне еле слышно пиликал звонок «Нокии».
И это самый громкий звонок в мире?
Андрей опустил телефон и двинулся на звук. Медленными короткими шагами.
Ты ведь знал. С самого начала знал, что произошло. Это был не просто скандал. Дурные мысли материализуются.
Он подошел к окну и отодвинул в сторону колышущуюся занавеску. Разбитое окно щерилось остриями торчащих из рамы стекол. Сквозняк захлопнул створку, и звук исчез.
Створка открылась. Телефон снова тихо запиликал.
Смотри, какая прелесть. Ты ведь шел к этому долгих шесть лет.
Андрей высунул голову в окно. На месте большой ямы был холм. Звук шел из-под земли.
Ты скоро? Я буду тебя ждать.
22
«Я разрешил меня искать, но не находить». Так сказал оживший утопленник, маниакальное второе «я» отца, убившее мать. Сергей снова чувствовал шнур, впившийся в шею, холод, сырость и страх, перебивающий все остальное. Остро, как будто и не было девяти лет, прошедших с той ночи. Потом хватка ослабла. Утопленник не собирался его убивать. Только напугать отца возможной расправой. Подчинить себе.
Оказавшись здесь, между первым и вторым корпусами диспансера, Сергей всегда вспоминал ту ночь. Скорее всего, из-за небольшого заброшенного фонтана с прямоугольной чашей, напоминавшей ему яму, в которую он тогда свалился. И каждый раз повторение мыслей и чувств было настолько полным, что Сергею казалось, будто кто-то водит его по кругу.
Прихрамывая на правую ногу, он медленно поднялся по разрушенным ступеням к высоким двустворчатым дверям. За ними склеп живых мертвецов, по коридорам которого бродит тело его давно умершего отца.
– Ездит, – мысленно поправил себя Сергей. – Не бродит, а ездит.
После инсульта отец перестал говорить и ходить, и теперь передвигался исключительно на инвалидной коляске.
Сергей соскреб о железную чистилку прилипшие к ботинкам гнилые листья и локтем (в руках были пакеты) толкнул дверь.
Старик дежурный с желтыми прокуренными усами проверил документы и заглянул в список посетителей. Щелкнуло реле. На вертушке загорелась зеленая стрелка.
– Знаете, куда идти, Сергей Андреевич?
Сергей кивнул.
Комната свиданий находилась в световом кармане длинного коридора. Каталка с отцом стояла у окна. Перед каталкой стоял стул, а за спиной отца – санитарка с толстыми руками и пустым лицом. Как будто та же, что была в прошлый раз.
– Здравствуйте, – кивнул Сергей женщине и наклонился к отцу. – Привет, пап.
Он пожал сухую ладонь, лежавшую на подлокотнике. Безвольная кисть стала еще костлявее и тоньше.
Сергей поставил пакеты перед креслом и сел на стул.
– Я привез тебе котлет из баранины, как ты любишь, и толченки. Ленка вчера до полуночи готовила.
Высохшее лицо с пустой глазницей на месте левого глаза оставалось обращено куда-то в сторону.
– Там еще вещи всякие: рубашки, майки, два спортивных костюма. Тот, что зеленый, я себе брал. Оказался большой.
Единственный глаз отрешенно смотрел поверх плеча Сергея, в серое осеннее небо за стеклом.
– Хотел поменять, но забегался. Суета. Сам ты тут как?
Сергей где-то читал о старинном обычае викингов, когда вдовы моряков выходили к морю и звали домой своих утонувших мужей. Сейчас он делал то же самое. Стоял на краю опустевшего отцова сознания и кричал в пустоту. Как будто забрасывал снасть в глубокую черную воду.
– Как он? – спросил Сергей санитарку. – Как будто еще похудел.
– Да, человек уменьшается, а сахар растет. Стараемся держать диету. Но иногда и инсулин подкалываем.
– А ночные припадки?
– Все по-прежнему. Виктор Васильевич говорит, что вряд ли здесь мы добьемся прогресса.
– Я привез кое-что. Мне кажется, это должно его заинтересовать.
Сергей достал из кармана куртки сложенные вчетверо листы, развернул их и положил больному на колени. Четыре ксерокопии из двенадцатого номера «Физиологии» за две тысячи одиннадцатый год.
– Пап, смотри, что я откопал. Твоя последняя. В соавторстве с дядей Витей и дядей Димой. Я прочел ее.
Пустой взгляд отца скользнул по листам и вдруг зацепился за строчку с названием. Лицо зарябило, как лужа под дождем. Тонкие пальцы задрожали.
– Не моя тема. Но насколько я могу судить, материал по-прежнему актуален, – продолжал Сергей.
Под тонкой серой кожей задергался кадык. Отец раскрыл рот, как будто собираясь что-то сказать? Неужели на этот раз получилось? Сергей почувствовал, как в заброшенных им в темноту небытия сетях что-то пошевелилось.
– Удивительно, как до этого никто не додумался раньше. Хочу показать этот материал Лешке. Теломеры по его части.
Прежде матовый тусклый глаз вдруг заблестел и сфокусировался на шее Сергея. Из черных вод безумия он вытянул свой улов. Тятя! Тятя! Наши сети… Сергей отодвинулся, вдруг узнав под маской из кожи острые черты мертвеца. ИДИ КО МНЕ.
Щеки как будто вдруг впали еще глубже, резко очерчивая нижнюю челюсть. Синие вены на шее вздулись червями. Утопленник затрясся в хриплом смехе, раскачивая коляску. Листы бумаги попадали с коленей на пол.
Он вернулся. Вновь оживший кошмар, убивший мать и забравший отца, теперь вернулся за ним.
Беги. Но только снова не свались в яму.
Сергей не мог пошевелиться.
Ты сам выбрал стихотворение, ты сам вызвал меня сюда из темноты. Я РАЗРЕШИЛ МЕНЯ ИСКАТЬ, НО НЕ НАХОДИТЬ.
– С вами все в порядке? – перекрикивая смех, спросила санитарка.
Одной рукой она держала отца за запястье, другой – прижимала его трясущееся тело к спинке кресла.
– Да. Извините, – пересохший язык с трудом ворочался во рту.
Отец давился смехом, кашлял и снова смеялся. Громче и громче.
– Он переволновался. Пульс не меньше ста сорока. Надо вколоть успокоительное.
– Конечно.
– Если хотите, приходите завтра.
Она развернула коляску. Толстая правая рука легко подхватила пакеты. Коляска покатилась в темноту коридора. Из коляски, ни на секунду не смолкая, летел громкий смех.
Оцепенение спало. Сергей поднялся на ноги. Он не мог больше находиться здесь. Как ребенок, вытянувший те проклятые сети, теперь он бежал прочь. Разрывающий, дикий, неудержимый смех из глубины коридора летел за ним вдогонку. И вместе с сумасшедшим отцом что-то смеялось внутри Сергея.
Алан Кранк
Ползущий
Зима в сороковом году началась раньше срока. С конца сентября задули пронизывающие ветра, споро зашевелились песчаные барханы, невидимые руки мяли их, вылепливали, постоянно меняя форму. Потянулись на восток цепочки следов. Стада диких ослов, газелей, верблюдов мигрировали прочь от суровых зазимок. Высохли и растрескались глинистые такыры, а ведь совсем недавно тут были болота и скот щипал сочный хумыль, дикий лук. По утрам Болд прикладывал ладонь козырьком к лохматым бровям и озирал волнистый горизонт пустыни Гоби. Щелкал языком многозначительно, и пятилетний сын выбегал из дома, чтобы похмыкать и пощелкать вместе с ним. За тонкую шею Болд ласково звал сына «орчуулах» – «тушканчик».
– Теперь, считайте, до апреля мерзнуть, – эти слова адресовались советским гостям, чете Александровых. Палеонтолог Богдан был тощим и нескладным, сохранившим к тридцати шести годам какую-то детскость в чертах лица. Геолог Алена – крупная и красивая, с толстыми косами и горделивой осанкой.
«Царица, – ласково говорил Болд про себя, – зря они цариц постреляли».
Болда не волновала политика, но глубоко верующий председатель Пелжедиин Гелден нравился ему больше, чем уничтоживший монастыри маршал Чойбалсан.
Гости ели бараний ливер, запивали кумысом.
– Жан, – сказал Александров, утирая рот. Так он сокращал мудреное для русского слуха имя Болда – Жанчивдворжийн, – зря мы, что ли, тащились из Улан-Батора? Нам трех недель хватит, а одежда у нас теплая и спальники на меху.
Здесь, в поселке, заросшем тамарисками, возле щебечущего родника, пустыня не казалась чем-то страшным, губительным.
Но сорокапятилетний Болд знал, что такое зима среди обнаженных горных пород, песка и меловых отложений. Когда ураган взъерошивает свои рассыпчатые богатства и из быстрой тьмы может явиться что угодно.
– Зачем они приехали? – улыбаясь, наливая кумыс в чашки, спрашивала по-монгольски супруга Болда. – Чтобы пропасть, как другие?
Болд прикрывал веки и говорил заученно, не без удовольствия:
– Для всестороннего изучения условий формирования месторождений важнейших полезных ископаемых на территории МНР. Ну и кости драконов ищут…
– Для палеонтологов, – вещал, захмелев, Богдан, – Гоби – рай. Двести миллионов лет тут была суша! Морские ингрессии пощадили важнейшие реликвии доисторических эпох, и, благодаря ветру, они ждут нас практически на поверхности.
«Мало ли что ждет на поверхности промозглой ночью, – учил Болда отец. И гобийские медведи или снежные барсы – не самые опасные хищники, что могут повстречаться человеку в каньонах и на равнинах».
– А палеоландшафты! – Богдан поворачивался к жене. – Это же просто слоеный торт!
Алена болтала меньше, толкала локтем, кивала на мясо: закусывай! За кумысом следовала наливка из красных ягод, которые даровали людям стелющиеся по кочкам кусты.
Опрокинув три чашки, Богдан рассказывал заново об американской экспедиции к Шабарак-Усу, о сенсационных находках, скелетах и кладках яиц динозавров.
Болд поглаживал бороду.
Что-то там стряслось у ученых на советской границе. Органы задержали руководителя Александровых, профессора Грановского, который должен был прибыть в столицу республики днем позже супругов. И зоолога задержали, и скульптора-реставратора. Богдан заверял, что это нелепая ошибка и товарищи вскоре прибудут. Алена молчаливо теребила рукав и кусала пухлые губы.
Ночью в пустыне рвалось и ухало, потревоженные птицы взметались к круглобокой луне с сопок, всполошенные зайцы сигали за колючки.
На рассвете, плотно позавтракав, палеонтологи сели в арендованный грузовичок АМО. Богдан подробно объяснил, где их искать, на случай если появится наконец профессор Грановский. Поедут они мимо исследованного американцами Баин-Дзак, к Китаю, к костеносным горизонтам.
Оручуулах поставил перед собой двух оловянных красноармейцев, сувенир от советских гостей. Свернул из платка рулон и водил им по кошме. Хлопчатобумажная змейка извивалась в крошечных пальчиках, подбиралась к солдатикам. Мальчик зажужжал, будто имитировал звук электричества, и атаковал платком оловянных болванчиков.
Вечером того же дня Первому секретарю ЦК МНРП, Председателю Великого Народного хурала МНР сообщили из Москвы, что профессор Грановский и его так называемые ученые оказались троцкистами. Никаких распоряжений по поводу въехавших на территорию страны Александровых не поступило.
Богдан запрокинул голову к безоблачному небу и засвистел. Горные отроги передразнили палеонтолога свистящим эхом. Эмоции переполняли, душа пела. Толщи Гоби таили в себе несметные богатства, моллюсков, остракодов и конхостраков, на останце, как на блюде, лежали невидимые пока черепа ящеров. Голуби парили над скудной растительностью. Полуденное солнце припекало, холода пятились в межгорные впадины. Палеонтолог расстегнул куртку, сорвал шерстяную шапочку, подставил солнцу макушку. Лысеющий подросток, – говорила про него Аленушка. Он притворялся, что не обижается.
Богдан думал о знаменитых соотечественниках, ходивших по этой сухой земле до него, угадывал в скользящих по скалам тенях Пржевальского, Потанина, Обручева.
Лагерь они разбили в долине, выстланной каменистой галькой. Скалы мерцали кристаллическими вкраплениями. Гряда Гобийского Алтая возвышалась горбами и пиками. Узкие ущелья порезали живописные массивы.
Алена изучала пологий склон, ступенчатый язык базальтовой лавы. Гнетущая мысль посетила Богдана: любовь, даже самая яркая, способна застыть, как этот вулканический лавопад.
Вылазка щедро отвешивала пресноводных беспозвоночных, коими кишели здешние фации. Водоросли и листья отпечатались на отложениях. Алена сквозь лупу рассматривала мелких рачков, а Богдан, замерев у валуна, рассматривал жену. И после десяти лет брака он не разучился любоваться ею. Какое выразительное лицо, какой пухлый и желанный рот, и белая шея под косами. Расплети их, и пшеничные ручьи потекут по холмам грудей. Давно ли молодой преподаватель Александров впервые впился жадным поцелуем в губы аспирантки Алены, возмущенно сомкнутые сначала, податливые потом?
Давно, вон и волосы успели облететь…
В стороне, за черной, словно закопченной галькой золотилась настоящая пустыня.
Тень выдала соглядатая, жена обернулась, подняла светлые брови.
– Привет, Аленушка, – смутился Богдан.
Разве есть в русском языке слово нежнее, чем это алое «Аленушка»?
Она тряхнула головой и снова уставилась на базальт.
– Голодный? – спросила коротко.
– Быка бы съел, – признался он. Под защитой зубчатых хребтов он чувствовал себя непозволительно молодым, живым, алчным, каким-то хоть и одухотворенным, но мясным, настоящим.
Хотелось остаться навсегда, жить среди аратов, пасти скот.
Вдруг вдали от загазованных городов Алена сможет выносить-таки их ребенка?
Фантазируя, он спустился к ручью и набрал в казан студеной воды. Над ручьем темнела нора, грот, уже исследованный им. По камням петляли русла пересохших рек, как отпечатки ползущих к лагерю чудовищ.
Сумерки принесли холод. Ветер трепал стенки палатки, но припаркованный поперек базы грузовик кое-как защищал от прямых ударов. В детстве Богдану нравилось пугать себя, воображая ведьм и драконов. Сейчас он представлял зауроподов, пришедших из ущелий, их огромные клыки и пластины…
В животе переваривалась сладкая козлятина. Чашка с зеленым плиточным чаем грела ладони. От печи веяло теплом. Коленчатая труба проходила сквозь клапан в потолке палатки, между двух мачт.
Алена сидела по-турецки, в свитере, штанах на ватине и вязаных носках. Чиркала в блокноте, составляла геологический разрез, описывала битуминозные сланцы, выводила каллиграфическим почерком слова «сапропелиты» и «осадконакопления». Фонарь бросал на ее белоснежную кожу оранжевые блики.
Внезапно она прервалась, прикусила ровными зубами щербатый карандаш. Лоб перечеркнула вертикальная морщинка, от вида которой сердце Богдана всегда почему-то ныло.
– Что если они в беде?
– Кто? – Богдан притворился, что не понял. Словно сам он не возвращался мысленно к профессору и коллегам.
– Грановский. Аронзон.
– Они арестовали бы всю группу, – сказал Богдан убедительно.
– Но, допустим, что-то стряслось, когда мы уже пересекли границу.
– Мы приехали с разницей в сутки. Нас бы задержали по дороге к сомону, подозревай они в чем-то Грановского. Как называется эта должность? Партийный руководитель района?
– Намын-дарге, – сказала Алена.
Ветер боднул палатку, дыхание пустыни проникло под полог.
– Угу, – Богдан поежился, – нас бы не встречал товарищ намын-дарге, представитель комитета наук МНР. Не грызи, испортишь зубы.
Алена выплюнула карандаш и, не раздеваясь, залезла в спальный мешок. Муж помнил, какой жаркой она бывала – жарче раскаленных солнцем камней.
– Завтра поеду на север, – сказал Богдан. – Поищу аратов и расспрошу о драконьих мощах.
Ему приснился вмурованный в сланец палеонтолог Одоевцев, который моргал беспомощно и таращился на младшего коллегу.
Утром было зябко и солнечно. На костре булькал казан, пахло кашей и тушенкой. Богдан помассировал шею, повертелся, выискивая жену. Увидел ее, уходящую к отполированным до блеска скалам. Полотенце на плече, чайник в руке.
Пульс участился. Богдан посеменил через долину, обогнул ощетинившийся колючками караганы холм. Под подошвами шуршала мелкая галька. Он припал к земле, затаил дыхание.
Алена была внизу, в пятнадцати метрах от него. Приспустила толстые штаны и пи́сала. От утренней свежести ее крупные гладкие ягодицы порозовели, и Богдан сглотнул слюну.
Вот он, научный сотрудник, сидит в засаде, наблюдая исподтишка. Стыд и позор палеонтологии. Справив нужду, Алена выпрямилась, словно нарочно повернулась к холму. Сосредоточенно хмурилась, выливая на ладонь воду, подмываясь. Терла светлый куст между чуть раздвинутых бедер и привычно кусала губу.
Зачарованный Богдан сунул пятерню за пояс.
Дома у него пылилась энциклопедия, в которой Александр II значился ныне здравствующим государем. Онанизм же именовался разжижающим мозг пороком юношей. И тридцатишестилетний палеонтолог предался этому пороку, ловя каждое движение ничего не подозревающей жены. Горы вздымались кругом, как позвоночники динозавров.
– Где ты был? – спросила Алена, мазнув взглядом зеленых глазищ.
– Смотрел выходы третичных пород, – ответил он, выравнивая дыхание. И плюхнулся возле костра на одеяло из верблюжьей шерсти.
Алена прихлебывала чай и листала записи, а он гадал, почему они перестали общаться взахлеб, как в первые годы отношений.
Набив желудок, Богдан завел грузовичок. Кузов был теперь частично освобожден от снаряжения. Алена работала на уступах осадочных пород. Он махнул ей из кабины, покатил по едва намеченной дороге, старой караванной тропе, к желтым дюнам. Машина ворчала, подскакивая на кочках.
Странно было созерцать барханы в обветренном тамариске, горделиво скользящего над утесами орла, пересекать пустыню, которая всегда рисуется раскаленной, но при этом ежиться от холода.
Зорким глазом палеонтолог отметил третичные отложения справа, сказав себе, что поднимется к ним позже. Колеса расшвыривали песок, грузовичок вилял боками и норовил забуксовать.
Убаюканный бурчанием мотора, Богдан думал о Грановском. О том, что в данный момент профессора могут вести на допрос люди со взорами острее верблюжьей колючки. А ежели так, их, Александровых, вполне вероятно, ждет то же самое.
– Нет! – отрезал он, перекрыл доступ кислорода испуганному человечку внутри. – Грановский скоро прибудет. Со дня на день, со дня на день.
Спустя полчаса АМО достиг бледно-красного массива и заросшего травой стойбища. Белые юрты и глинобитные хибары скучились под гранитным уступом. Богдан посигналил, бодро выпрыгнул из кабины. Аймак следил за пришлецом темными окошками. Абсолютная тишина. Запустение, не то что в поселке Болда, с водокачкой и радиовышкой.
Топчась у безлюдного аймака, он думал, что пройдет лет десять, и современные автострады побегут по Гоби, зацветет пустыня, разрастутся сомоны. И хрупкие кости динозавров канут под асфальтом и бетоном.
Пустой аймак произвел удручающее впечатление. Как и набранная из колодца вода, мутная, соленая. В деревянной поилке для скота валялась детская кукла.
Богдан набрал канистру водицы – для промывания находок и первичной препаровки.
Отгоняя тревогу, повернулся резко, сел за руль. Утопил педаль. Песок стучал в днище. Не позже субботы примчится профессор, они построят настоящий экспедиционный городок, поставят лабораторию. Миша Аронзон расчехлит старую гитару, ударит по струнам. Как он поет, наш Мишка! Литолог Руслан будет травить анекдоты, рассмеется, оттает Алена…
Настроение улучшилось, и послеполуденная рекогносцировка принесла плоды: позвонки, кости рогатых рептилий, фаланги птицетазовых ящеров.
Ночью ревел ветер, Алена стонала и беспокойно ворочалась в спальнике. И будто кто-то огромный бродил во тьме.
Заслышав мужской голос снаружи, Богдан воспрял духом.
– Не запылились, голубчики.
Он откинул полог.
На краю лагеря паслась каурая лошадка. Коренастый, дюжий монгол беседовал с Аленой. Алена улыбалась, кажется, впервые за двое суток.
– Доброе утро, – крикнул монгол. – Долго же вы спите.
– Доброе, Жан. Да уж, в Москве не выспишься так. Воздух превосходный.
– Жан привез молоко и свежий хлеб.
Богдан пожал широкую ладонь Болда.
– Нет вестей от наших коллег?
– Ни словечка.
Алена пригласила визитера к костру. Зазвенели, заскребли по мискам алюминиевые ложки. Болд вынул из овчинного полушубка флягу, и Богдан взбодрился. Самогон опалил гортань, палеонтолог закашлял. Болд хмыкнул, тряхнул флягой в сторону Алены.
– О, нет, спасибо.
Женщина неодобрительно смотрела, как муж повторно прикладывается к горлышку.
«Раньше не была такой, – тоскливо подумал Богдан, – мрачной, шершавой»…
Раньше они пили шампанское и на заре засыпали, изможденные, счастливые.
Богдан рассказывал о находках. Болд ковырял носком сапога-гутала гальку, крутил черный ус и с любопытством поглядывал на Алену. Понравилась? Она всем нравилась, особенно если смеялась, так мелодично, заливисто. Даже этой мумии Натану Одоевцеву, который нежность проявлял только к вымершим существам.
Алена отставила миску, потянулась, тряхнула косами. Неужто флиртует, красуется перед Болдом?
Да ну, чушь.
– Жан, – сделав третий глоток самогона, сказал Богдан, – а что за аймак заброшенный на севере?
– Ах, этот, – монгол дернул широкими плечами, – летом опустел. Араты в аймачный центр ушли. Все ушли. Люди, верблюды. Боятся, что с холодами придут олгой-хорхои.
– Кто? – переспросила Алена.
Богдан вспомнил, Рой Эндрюс из Американского музея естественной истории описывал этот казус. Во время разговора Эндрюса с представителями власти премьер-министр богдо-ханской Монголии попросил изловить allergorhai-horhai, ужасного червя. Местные свято верили, что в пустынных частях Гоби обитают чудовища настолько ядовитые, что одно прикосновение к ним карается смертью. В некоторых версиях легенды им достаточно было взглянуть на жертву, чтобы отравить ее. Чудовища отличались прожорливостью и могли проглотить корову целиком.
Для палеонтологов таящаяся в песках живая колбаса с повадками Медузы Горгоны была шуткой, не более. Вымышленной и растолстевшей сестричкой двуходок и выделяющего синильную кислоту кивсяка. Молодая республика истребит чудищ заодно с безграмотностью.
Но Богдан интересовался народными преданиями и внимательно слушал Болда.
– Олгой-хорхои – это такие здоровенные червяки. Они производят яд и электричество и очень опасны для человека. Столкнешься с ним взглядом – глаза закипят в глазницах. Животные чувствуют приближение олгой-хорхоев и избегают их маршрутов. Говорят, их приход предвещает беду. Войны, катастрофы. Червей видели тут, когда маршал начал отбирать у аратов скот и расстреливать монахов. И двадцать лет назад, когда китайцы заняли Ургу. И до этого, когда была чума.
Богдан ухмыльнулся, поболтал жидкость во фляге:
– Вы же понимаете, Жан, что это просто байка?
– Мой отец застрелил из ружья детеныша олгой-хорхоев, червь был крупнее осла. А встреть отец взрослую особь, я не родился бы на свет.
Болд встал, поблагодарил за пищу.
– Будет буря, – сказал он, как пес принюхиваясь, и Богдан механически потянул воздух ноздрями, но почуял лишь аромат головешек и сивушный запах. – На вашем месте я бы подыскал хорошую впадину для укрытия.
Он ускакал, оставив туман в голове Богдана. Алена собиралась к своим сланцам. Богдан поймал ее, обвил талию. Ощутил, как напряглось женское тело.
– Ты пьян с утра, – железные нотки в голосе жены заставили разжать объятия. Показалось, что она сейчас ударит его геологическим молотком.
– Да я же так, за компанию. Я – как стеклышко.
«Тверже камней своих», – подумал, провожая жену взором.
Хмель быстро испарился, во рту стало сухо, на сердце – тяжко. Он шел, пиная песочные наносы.
«Ну, найду я скелет, дальше что? Сам я с ним ничего не сделаю. Где экспедиция? Где профессор? Где наши парни-сибиряки с ломами и лопатами? Глупостями занимаемся вдвоем».
От скуки он принялся угадывать в кочующих над скалами облаках знакомые формы. Верблюдов, крокодилов, автомобили. Бросил развлечение, узрев в брюхастом облаке анфас Одоевцева, своего бывшего коллеги.
Пропал Одоевцев, а Богдан занял его место на кафедре…
Перед сном он похвастался припрятанной зубной пластиной.
– Гляди! Акулья. А теперь, Изотова, вопрос, – он назвал ее девичью фамилию. – Откуда акулий зуб? Моря здесь не было никогда.
– Меловые акулы обитали в пресноводных бассейнах, – отчеканила она.
– Браво! – он зааплодировал. – Ты заслужила пятерку и маленький поцелуй.
Снова она отшатнулась. Ошпарила брезгливостью.
– Я устала.
– Да в чем я провинился, Ален? Зачем ты со мной так?
– Ты знаешь.
– Не знаю!
Жена отвернулась к трепещущей холстине палатки.
– Из-за Одоевцева, да?
Она молчала. В мыслях тощий, аки глиста, Натан Одоевцев протирал линзы круглых очков и скрежетал:
– Вам, Богдан, в Монголию путь заказан. Вы если закладывать за воротник не перестанете, вовсе окажетесь без работы.
«Сволочь, – цедил про себя Богдан, – ты ребенка не терял, не видел, как из любимой жены кровь хлещет, нет у тебя жены, Натан Аркадьевич, и плакать никто о тебе не будет».
Одоевцев – редкость для палеонтологов! – верил в Бога и носил на шнурке крестик. Копая на Поволжье, упорно нарекал город Чапаевск прежним вражьим именем – Троцк. И квартира его была забита подозрительными книжонками.
– Ты донос подписал, – сказала Алена.
Плохо сказала, словно вынесла приговор. Богдан взвился:
– А мог ли не подписать, ответь?
Что ей этот Одоевцев? Она же презирала его при жизни! Слова доброго о нем не сказала! А кажется, что одна загогулина под честным докладом для нее страшнее обоих выкидышей!
– Мог бы, – буркнула Алена и затихла в гнезде.
Ветер выл и трещал.
Во сне Богдан шагал по бесконечной тропинке, мощенной панцирями вымерших черепах, а по бокам в клубящемся мраке ползли громадные туши и иногда вспыхивали электрические разряды.
Попрощавшись с Александровыми, Болд взял курс на север. Лошадь беспокойно озиралась, пряла ушами.
– Чувствуешь, чувствуешь, девочка, – бормотал монгол и трогал висящие на бедре ножны.
Сердце отплясывало в груди. Мнилось, что барханы преследуют его, лишь зазевайся – перемещаются по желтому полю.
Он не сказал ученым всей правды. Правда – она такова, что брякни ее, и будет обсмеяна, а как только потемнеет, обретет правда плоть и клыки и вопьется в глотку.
Его отец, выпив, часто говорил об олгой-хорхоях. Звал их кратко: Ужас. Ужас жил в отцовских историях, оттуда переселился в сны маленького Жанчивдворжийна.
Желто-серые кольчатые тела волочились под сверкающей луной, с тупых морд срывались электрические зигзаги, разряды, похожие на лапки насекомых, и морды кишели этими синими лапками.
Да, отец застрелил юного олгой-хорхоя, но другие твари отомстили ему. Жанчивдворжийну было семнадцать, когда отец пропал в пустыне.
Погоняя лошадь, он вспоминал отца, его улыбку, его ясные глаза. Мать Болда скончалась от укуса змеи в тысяча девятьсот втором, и отец был ему за обоих родителей. Позже появилась мачеха, Таня, она научила Болда русскому языку.
Будто вчера сидели за столом, отец и сын-подросток, и пили, один – вино, второй – чай. Таня подавала хуушуур, пирожки, мясной сок стекал по подбородкам, и мужчины смеялись. Если Таня наклонялась к столу, отец разгибался, точно пружина, и молниеносно чмокал ее в нос, и она хлопала его по плечу наигранно-возмущенно.
Болд обожал такие вечера.
Он успел и алкоголь пригубить с отцом пару раз. Впервые почувствовал себя взрослым. Папка клал ему на затылок ладонь, притягивал к себе, и они бились лбами легонько.
– Сынок, – говорил отец, словно смаковал это слово, и глядел лучащимися пьяными глазами, и не было ничего лучше.
В низине, изъязвленной мелкими воронками, Болд спешился. Ветвистый саксаул маскировал дыру у подножья крутой горы. Болд встал на четвереньки и втиснулся в узкий проход. Зажег керосинку. С каждой минутой туннель становился просторнее, и Болд выпрямился. Пламя озаряло катакомбы.
Отец не боялся ни черта, ни бога. Всовывал кулак в медвежий капкан и вытаскивал, прежде чем железные челюсти лязгали. Разрешал янтарным скорпионам забираться на кисть и ловко отшвыривал, избегая смертельного жала.
Никто не искал отца. Словно его не существовало в природе. И Таня, отплакав, уехала из поселка.
За поворотом туннеля Болду открылась пещера, чей потолок терялся во мраке, а в дальних углах роились угольные тени.
Олгой-хорхои отомстили отцу.
Болд отомстил дьявольским червям, убив одного прямо тут.
Месть идет за местью, как звенья цепи. А человек…
Мысль оборвал вторгшийся в пещеру шум.
Болду померещилось, что мерзкая какофония рождается в его черепной коробке. Треск и шипение статических помех. Опрометью он кинулся обратно. Камушки царапали спину, свет фонаря выталкивался из норы с трудом, как тугая винная пробка.
Треск стоял такой, будто сотни молний гвоздили пустыню. Облака мчались по набычившемуся небу. Ветер ударил запахом озона. В тридцати метрах от пещеры, свернувшись кольцом, затаился олгой-хорхой, и Болд впервые видел особь подобного размера.
Электрические щупальца сжимались и разжимались.
Болд завопил.
Кладку Богдан случайно обнаружил в мглистой котловине гравелитовых пластов. Бесценный скарб, не хуже того, что выудили американцы на уступах Шабарак-Усу. Напоминающие огурцы, яйца залегали веерообразно в три слоя. Скорлупа практически не изменена, налицо и минеральная, и органическая составляющая.
Вокруг Богдана поднимались горные системы и осушались материки, исчезала растительность, правящие сто пятьдесят миллионов лет динозавры замертво падали на потрескавшиеся плато. Все это было здесь, колоссальное, великое, а они с женой не могли просто помириться!
Изучая мембрану, аэрационные каналы с минимумом вторичного кальцита, он представлял себя на заседании Президиума Академии наук СССР. Радостная улыбка не сходила с лица.
– Вот тебе и пьяница, Натан Аркадьевич.
В фантазиях его хлопали по спине и даже носили на руках товарищи, прибывшие наконец после таможенных проволочек.
– Ален, Ален!
Он торопился вдоль песчаных кос. Жена замерла у гранитного обелиска, она смотрела на запад, и Богдан посмотрел туда же.
Небо словно зашторили. Между холмами и черными тучами выросла непроницаемая стена, новые горы вздыбились по горизонту. Пустыня рокотала. Тьма и зловещий шум двигались к равнине. По гальке уже мела поземка из песчинок. Промозглый порыв ветра вынудил качнуться, зажмуриться. Он подминал барханы, точно сбивал шапки с голов.
– Собирай вещи! – шикнул Богдан.
Температура падала. Скорость ветра достигла восьми баллов. Панически извивался кумач на шесте. Богдан закидывал в кузов легкие коробки, вьючные чемоданы с клеем, растворителем и гипсом, примус. Алена ассистировала. Тень наползла на щебень и базальт. Песчинки атаковали, как рой мошкары. Александровы нацепили защитные очки, и песок скреб стекла, оставляя царапинки. Жалил щеки.
Упаковка марли выскользнула из пальцев, упорхнула в сгущающийся мрак.
Богдан ощутил страх, волнами поднимающийся из глубины сознания, щипающий кожу, будто холод и песок. Горные хребты показались безжалостными исполинами. Приближающийся рев – пением прожорливых олгой-хорхоев. И утром Болд обнаружит пустую стоянку…
Тень величаво наползала на лагерь.
– Прячемся! – воскликнула Алена.
Гобийская ночь опередила положенный ей срок. Под пологом Богдан включил фонарь, но не стал зажигать печь. Опасался, что старая жестянка повалится и устроит пожар.
Алена обратила к мужу смертельно бледное лицо. Щеки рдели от укусов пустыни. В глазах стояли слезы.
– А если палатка улетит?
– Что ты, Аленушка, – поспешил он утешить, – я придавил пол вьючниками…
Заверения не убедили. Камушки барабанили по стенкам. Монотонно свистел ветер.
– Колья выдержат, – с сомнением в голосе сказал Богдан.
И подумал: «Даже теперь она не возьмет меня за руку».
За клапаном гремело. Пронеслось, чиркнув по западному углу, что-то тяжелое. Печная труба скрежетала о железную окантовку.
– Я нашел яйца, – вспомнил Богдан.
– Давно пора, – сказала Алена, буравя его ледяным взором. Словно это он чертовой подписью под доносом накликал бурю.
– Не я написал этот донос! – выпалил он.
– Аранзон узнал, – тихо сказала Алена, – и Грановский, и Маслянников – все. Потому они все сделали, чтобы с нами в одном поезде не ехать. Нас бы тоже с поезда сняли, если бы не это. Я даже думала, они нас убьют здесь. Профессор и Аранзон. Убивают же в лагерях стукачей. И еще, – она до крови прикусила губу и продолжила: – Еще я думала, что это ты снова донос настрочил.
Богдан сморщился, будто от пощечины.
– Как ты можешь говорить такое! Ты же жена моя!
Над головами заскрипели мачтовые конструкции. Горсти песка били в плещущую холстину.
– Я тебя не люблю, – простонала Алена. Словно выблевала жуткую фразу. – Я тебя ненавижу.
Он вцепился в свои редеющие волосы. Плотно сжатые губы раскололись криком. Он кричал до хрипа, слезы лились по щекам, а она смотрела, не мигая, без капли сострадания.
– Я же ради тебя все! Всю жизнь ради тебя! Я об одном мечтал: о детях, и чтобы они гордились мною!
– Я не хочу от тебя детей, – устало откликнулась Алена. И тем же тоном сказала: – Палатка падает.
Как по команде металлическая поперечина выломалась из соединительной муфты. Ненадежное укрытие накренилось. В прореху хлынули потоки песка. Муж и жена очутились внутри полосующего урагана.
– Грузовик! – завопил Богдан.
Он захлебывался от лессовой пыли, плевался, шарил руками. Силуэт Алены растаял во мраке. Мрак бесновался, рыкал, закручивал. Сбитый с толку, Богдан брел вслепую. По коленям рубануло, подсекая. Это палатка проползла мимо, махая краями, тыча в землю погнувшимися колышками, как капризно тычет в тетрадь карандашом не желающий делать уроки школьник.
Песчинки обжигали, свежевали лицо, но куда сильнее ранили повторяющиеся в голове слова: «Я тебя не люблю».
– Алена! – крикнул он. Рот закупорил песок.
Зато среди хаоса мелькнуло пятно, и Богдан похромал туда.
Жить ему оставалось две минуты.
Три дня олгой-хорхой наблюдал за людьми.
Как они ссорятся, жрут, копошатся в земле, как играют в свои человеческие игры.
Червь зарылся в песок и следил, и запоминал. Иногда он выползал на сцементированные плиты песчаника, и солнце грело свитые кольца. Удивительно, что они ни разу не заметили его.
Ему нравилась самка. Она будила в древнем черве что-то, помимо голода. Вожделение, да. Приток слюны, которой он позволял стекать на камни. Электрические нити плелись вокруг кривящегося мокрого рта. Хвост нервно колотил о щебень.
Червю нравилось ощущать свое могучее тело, все его витки, даже собственный голод тешил его, ибо голод был сутью силы.
Сами того не зная, люди взяли его в игру. Когда самка мыла себя, когда самец подглядывал за самкой, присутствовал третий, кто созерцал с вершины, перекатываясь от нетерпения и покусывая, покалывая разрядами ядовитое жало хвоста.
Во все века скотоводы боялись олгой-хорхоя, потому что он был ползучим голодом. Но они не ведали, что олгой-хорхой был еще и ползучей похотью.
Эрекцией этой беспредельной пустыни.
Сочащийся смазкой рот причмокивал, и в черных глазах отражалась человеческая стоянка.
Под покровом бури олгой-хорхой спустился с горы, чтобы убить самца и овладеть самкой.
Последние полтора года у Алены было чувство, что она мертва. Мертвее обожаемых зауролофов мужа. И вместо того чтобы закопать, ее кости обмахивают кисточками, ее скелет вырезают из тайника заодно с куском плотной красной глины, заключают в деревянную опалубку, заливают гипсом, монолит тянут на волокушах, и Богдан ласково гладит крышку ящика-гроба, приговаривая:
– Там Аленушка, солнышко мое.
Все вокруг было гробом. Квартира, институт, купе международного вагона, отчалившего от Москвы.
За окнами мельтешили города, менялись пейзажи. Новосибирск, Красноярск, сибирские просторы, Хангайская степь. В межгорной долине примостился Улан-Батор. Святая Гора зеленела лиственницей, на закате небо приобретало лимонный оттенок.
До отъезда за Монгольский Алтай Алена прогулялась по старинным улочкам столицы. Застывала около заборов и вглядывалась в окна бревенчатых домишек, пытаясь представить, как живут в них люди. Счастливы ли?
В хошанах, дворах, состоящих из аккуратных юрт, молодые мамы укачивали детей.
Привязанность мужа раздирала рыболовными крючьями, она больше не помнила – не собиралась помнить! – что любила его когда-то.
Он нагло лгал. Не единожды он писал – да, лично писал, а не подписывал – доносы. Богдан Александров был профессиональным стукачом, мастеровитым клеветником и изворотливым кляузником. Нахамившая Алене продавщица впредь не появлялась за прилавком. Вредные соседи исчезали в неизвестном направлении. Заносчивого студента исключали…
На десятом году брака она поняла, что ее муж невыдающийся, неталантливый, непорядочный, со студенчества привыкший всего добиваться звонками и жалобами – стукач и интриган.
И кто, как не высшая сила поставила печать на чреве Алены, не позволила выносить ребенка от Богдана? Господь, в которого она не верила, или ее собственный протестующий организм?
Даже узнав о тайной страсти супруга, она тщилась смириться, найти в залежах его души причину любить.
Но летом от Александровых отвернулись друзья. Ее опора, ее отдушина. Клеймо предательницы пульсировало на лбу. Она так надеялась, что экспедиция все исправит, у нее будет шанс объясниться, вымолить прощение. Но она оказалась в ловушке. Сперва изолированная наедине с человеком, которого презирала. Потом – в сердцевине бушующей бури.
Растерзанная палатка пронеслась сбоку. Прокатился пустой ящик. Дезориентированная, Алена брела вслепую. Насыщенный пылью воздух душил. Шквал сбивал с ног.
Где этот чертов грузовик? Куда подевался Богдан?
Она замешкалась, определяясь с маршрутом. Закрыла рот рукавом. Натягивать капюшон было бесполезно, ветер немедленно сдергивал его. Икры под штанинами задубели, пальцы сводила судорога. Стихия закручивала юркие смерчи. Казалось, Алена сама заперта в смерче, как в телефонной будке.
– Богдан! – Ветер заглушил зов.
Удерживая равновесие, она двинулась в клокочущий сумрак. Перпендикулярно тропке прокатился фонарь.
И уткнулся в барьер. Барьером был Богдан.
Желудок Алены скрутило, и колени яростно затряслись.
В памяти всплыло диковинное слово: «олгой-хорхой».
Жан, симпатичный и дружелюбный, верно, не подписавший за жизнь ни одного доноса, говорил: «Столкнешься с ними взглядом, и глаза закипят в глазницах».
Богдан лежал на черной гальке, черная кровь струилась по вискам, вытекая из дыр, в которые превратились его глаза. Рот был посмертно открыт и напичкан песком.
Алена, не издав ни звука, кинулась прочь. Не гибель мужа заботила ее сейчас. А то, что убило Богдана. То, что кралось за песчаной завесой.
Периферийным зрением женщина засекла справа от себя продолговатую громаду. Вздыбившуюся во мраке тушу, много больше грузовика. Сыпануло щебнем. Тварь громоздилась у скальных откосов. Длинное тело, плоть от плоти монгольской ночи.
Олгой-хорхой наползал.
Оружие! – засигналил внутренний голос. – Что-то, чем можно обороняться!
Предполагалось, что охотничьи ружья привезет Грановский. В лагере были ножи, кирки, ломы, зубила, но все они лежали в грузовике, а тот словно сквозь зем…
Она взвизгнула, едва не налетев на АМО. Колеса утонули в наносах, машина скособочилась. Алена прокляла себя за то, что не научилась водить. К тому же она понятия не имела, где ключи и насколько завяз грузовик.
Разорванный тент трещал и хлопал в агонии. Она оглянулась, ожидая увидеть увенчанные острыми пластинами морды переплетенных кольчатых червей. Разверстые пасти, крест на всем, что она знала о зоологии и палеонтологии.
Но смерть затаилась, потешаясь над добычей. Алена метнулась вдоль борта, воюя с ветром. За треском брезента отчетливо слышался иной треск, и что-то двигалось сквозь буран, быстро, целенаправленно, отрезало путь к кузову.
– Не оборачивайся!
В смерче сформировалась человеческая фигура. Лицо было замотано платком, но она узнала осанку и голос.
– Жан!
– Не оборачивайся, – повторил Болд глухо. – Оно ждет, когда ты посмотришь на него.
Алена кивнула, отдавая себя на милость ангелу-хранителю.
Позволила слезам пролиться, омыть засоренные глаза.
– Над ручьем есть грот. Оно не заберется туда.
Болд схватил женщину за руку и увлек за собой. Алена вперилась в землю. Шквал хлестал песком, тащил назад, к бугрящейся в хаосе твари.
Журчание ручья слабо пробивалось сквозь вой. Алена карабкалась на каменные полки, боясь упустить проводника. Порыв ветра сокрушительной силы обрушился на людей, заставил скорчиться. Подошва скользнула по тверди, камень предательски завибрировал.
– Жан!
Алена рухнула в бездну, в раззявленную пасть олгой-хорхоя. Боль прострелила голень. Тело погрузилось в кипяток.
Болд видел, как Алена сорвалась. Как полетела вниз с уступа. Молясь своим богам, он ринулся к краю полки. Прямо под ним был полузасыпанный ручей. Женщина брыкалась в ледяной воде. Так мучимый кошмарами человек барахтается на скомканных простынях.
Стараясь не смотреть по сторонам, Болд съехал по склону. Во мгле вспыхивали и ветвились электрические щупальца. Червь кутался в бурю, как в царскую мантию.
Гуталы мгновенно промокли. Болд схватил женщину, вырвал из убийственного плена. Отяжелевшие косы раскачивались маятниками. Вода стекала с куртки. Посиневшие губы вяло шевелились.
Болд закинул Алену на плечо и, собрав силы в кулак, бросился вверх.
Судя по молниям, Ужас подполз вплотную к скале и гнездился у подножия. Голодный, свирепый, слишком огромный, чтобы уместиться в каменном кармашке.
Грот представлял собой округлую залу, уходящую метров на десять в глубь скальной породы. Болд оттащил Алену к дальней стене, посадил и принялся стягивать с нее набухшую от воды одежду. Женщина слабо мычала. Он поднял ее руки, снял свитер, сорочку, майку, тоже мокрую, бюстгальтер. Рванул штаны. Тело источало холод, словно ледяная статуя, и на ощупь было таким же.
Не раздумывая, Болд обнажился по пояс, обнял дрожащую Алену, притиснулся к ней, согревая. Он массировал спину, шею, тер, щипал, тряс, словно куклу: «Только не умирай!» Месил как тесто большие мягкие груди, напряженный живот, мерзлые бедра. И возликовал: женщина оттаивала постепенно, расслаблялись мышцы, растворялись под кожей узелки. Решив, что опасность обморожения миновала, он укутал ее в полушубок, лег рядом, стуча зубами. Гладил и говорил по-монгольски, что спасет ее, а в горловине грота мрак перемешивал щебень и песок и вспыхивали молнии.
«Ведь ночь ее еще не пришла», – подумал Болд.
Ночью стало много хуже. Демоны пустыни явились в долину крушить и уничтожать. Все двадцать семь ртов Аврага Могоя исторгали сводящий с ума вой. Змееголовые мангусы шипели, топча стоянку, неупокоенные чонгоры рыскали, вынюхивая жертв.
Алена очнулась и застонала.
– Нога!
Правая ступня женщины опухла. Вывих? Перелом?
– Больно, – выдохнула Алена.
– Лежите смирно. Я перебинтую.
Он вынул нож и вслепую вспорол майку. Положил на травмированную стопу холодный компресс. Алена ойкнула. Болд замотал ногу и закрепил над щиколоткой узел.
– Что случилось? – спросила женщина.
– Вы упали в ручей. Мне пришлось снять мокрую одежду.
– Богдан мертв.
Она констатировала факт. Без надрыва, без слез. Хотелось бы ему видеть ее лицо.
– Знаю, – сказал Болд. – Ваш муж посмотрел на олгой-хорхоя. И не выдержал увиденного.
– Это был он? Червь из легенд?
– Вы сами видели.
– Да.
Она молчала, обдумывая, потом сказала:
– Хочется пить.
Болд поднес лоскутья майки, и Алена присосалась к ткани измочаленными губами, выцедила влагу. Если Ужас не уйдет в пески, а одежда высохнет, они умрут тут от жажды. В ловушке, в пятнадцати метрах от источника.
– Как вы очутились в лагере?
– Вчера я поехал от вас на север. Там, в низине, я встретил олгой-хорхоя. Он сожрал мою лошадь, а я спрятался в пещере. Прождал сутки. Началась буря, и он пропал. Я шел предупредить вас. Я видел, как Ужас убил Богдана. Мне жаль.
Она не отреагировала на соболезнования. Вместо этого сказала:
– Вы видели олгой-хорхоя. Но не погибли.
– Я видел его мельком. Туловище, а не глаза. Сразу отводил взгляд.
– Я тоже, – голос женщины дрогнул.
– Вы бежали к грузовику. Он достал бы вас в кузове.
– Я хотела вооружиться. Там есть лом и кувалда.
Болд уважительно хмыкнул.
– Вы спасли мне жизнь, Жан.
– Пока еще – нет. Но спасу. Обещаю.
В темноте зябко клацали зубы. Казалось, стены грота зарастают инеем. Болд опять улегся подле Алены, и она прижалась к нему маленьким замерзшим котенком. Он оплел ее ногами, стараясь не задевать раненую ступню, укрыл собой и, сцепившись, пленники пустынного червя провалились в беспамятство.
«Богдан умер. Богдана больше нет».
Алена жевала сырой рукав кофты и старалась вызвать в душе хоть какой-то отклик. Душа оставалась черствой, и она ненавидела себя за это.
Ни намека на скорбь. Точно не было десяти лет брака. Точно Богдан пришел и ушел, чужой мужчина, стертый песочным наждаком из жизни. Все мысли сосредоточились вокруг собственного спасения, и она бросила тщетные попытки сострадать.
Утро не принесло облегчения. Ветер, пусть и поутих, по-прежнему махал в горловине пыльными крыльями. Тусклый свет проникал в нору. Алену посетила странная мысль: червь убил солнце, мертвое солнце остывает, и скоро будет сплошная тьма, днем и ночью.
Ступня распухла, малейшее движение вызывало острую боль. Нора была не теплее морозильной камеры, но Болд, проигнорировав увещевания, отдал ей свои штаны.
Алена вообразила, что могла очутиться в гроте одна, без Болда, без его защиты и заботы, и ужас сковал ледяной коркой.
– Жан…
Монгол поднялся. Свитер из верблюжьей шерсти доставал ему до середины бедер. Ноги были мощными, будто колонны, «незыблемыми», – подумалось Алене.
– Жан, ты куда?
Он не ответил. Прокрался к выходу, вжавшись в камень спиной.
– Не надо…
– Я краем глаза.
Представилось: вот он падает, лицо искажено страданием, кровь хлещет из глазниц. Она вспомнила фонарь, ткнувшийся в труп Богдана. Припорошенные песком дыры, глядящие на нее с укоризной.
– Жан! – Алена стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони.
– Оно там, – сказал Болд, отворачиваясь. – Караулит нас.
По позвоночнику побежали мурашки.
– В лагере?
– Нет. У барханов. Я вижу лишь хвост.
– Оно большое?
– Не думай об этом.
Болд сел в двух метрах от Алены. Стал дробить лезвием ножа камушки. Желваки его ходили ходуном.
«Спаси нас, миленький», – мысленно попросила Алена. А вслух проговорила:
– Тебя не было дома двое суток. Разве жена не станет тебя искать?
– Только через неделю.
Информация отозвалась всхлипом. Голод уже ввинчивался в нутро, грыз кишки.
«Мы умрем от жажды и голода или выйдем, отчаявшиеся, чтобы взор гигантского червя оборвал муки».
– Больно?
– Да, – она зыркнула на перебинтованную ступню. – Расскажи мне что-нибудь, пожалуйста. Болд печально улыбнулся в бледном свете.
– Хочешь, я расскажу, как отец охотился на гюрзу?
Она кивнула, устраиваясь поудобнее в полушубке, абстрагируясь от реальности.
Вечность спустя снаружи стемнело, и с озлобленным ветром пришли холод и песок.
Во сне Алена цеплялась за плечи и бороду Болда, словно тонула. Ей снился Богдан, танцующий в смерче, хохочущий.
Разбудила ее боль, которой она не испытывала прежде.
С ногой Алены было все хуже, и Болд решил выйти в лагерь. Женщина рычала и металась по овчине. Одежда высохла, но он выжимал ей на язык капли из волглых сапожных стелек.
– Где ваша аптечка? – спросил он, оглаживая пылающий лоб Алены.
– В кузове. Но туда нельзя. Там Одоевцев. Стережет в темноте.
Он дождался рассвета. Алена забылась тревожным сном. Без штанов, без ружья, с бесполезным ножом, он выполз на природный балкончик и расфокусировал взгляд. Хвост олгой-хорхоя окольцевал бархан. Морда до поры пряталась.
– Дрыхнешь, – шепнул Болд.
Пыль заволокла равнину. Щекотала ноздри. Метры до ручья он преодолевал четверть часа, стараясь ни единым звуком не выдать себя. Однажды хвост оторвался от земли, но, повисев, снова упал в песок.
У источника Болд напился, жадно зачерпывая воду. Медленно пошел к разрушенному лагерю. Он двигался так, чтобы ловить размытые очертания червя краем зрения. Первой важной находкой стал спальный мешок. Болд поднял его и вздрогнул: из песка торчала иссеченная щебнем кисть. Скрюченные пальцы. Богдан.
Он не задержался у могилы палеонтолога. Сапоги увязали в насыпи. Правый борт грузовика почти исчез под наносом.
Сосредоточившись на мыслях об Алене, Болд прокопал лаз в кузов, и здесь немного расслабился. Он шарил взглядом по опрокинутым покрышкам и бензобочкам. Металлический каркас тоскливо повизгивал под давлением, песок напирал на брезент.
Вот кувалда, о которой говорила женщина. Вот консервы. Вот и аптечка.
Он сгреб банки в спальник. Прихватил лопату и пустую канистру.
Извиваясь червем, выбрался из кузова.
Не обязательно было смотреть на бархан в упор, чтобы понять: олгой-хорхой оседлал его верхушку.
Из забытья Алену вытащил далекий гудящий звук. Ужас навалился стокилограммовой гирей. Болд ушел. Бросил ее умирать. И это – расплата за грехи мужа, за чертовы письма Богдана.
В течение часа она тряслась от страха, превосходящего даже боль.
И зарыдала, когда вместо разложившегося трупа, вместо слепого мертвого супруга в горловине появился Болд. С мешком подарков, как Дед Мороз.
– Ты не оставил меня.
– Я не посмел бы.
Он принес родниковую воду. Лекарства. Пищу. Три минуты она, захлебываясь и кашляя, утоляла жажду. Алчно ела, выуживая грязными пальцами кусочки мяса, брызгая жиром на воротник. Обезболивающее подействовало быстро. Она была почти счастлива.
– Как ты проскользнул мимо него?
– Он спал. Проснулся, когда я шел обратно. Я думаю, я ему не интересен.
– Вот как? – щеки защипало, мясу стало тесно в желудке.
Алена думала о чем-то подобном. Олгой-хорхою безразличен монгол. Ему приглянулась она. За ней он приполз из ада.
– И мы сыграем на этом, – сказал Болд, неспешно пережевывая свинину. – В кузове есть запасы бензина. Завтра я попробую снова спуститься туда и зажечь костер. Отец говорил, они не любят огонь.
– А грузовик? Ты не заводил его?
Он махнул рукой.
– Завяз по горло. И масло наверняка застыло. Но если мы прогоним Ужас, будет время расчистить колеса и прогреть мотор.
«Шанс, – подумала Алена. – Это наш шанс».
Она смотрела, как Болд ест, и покусывала губу.
Чем черт не шутит, вдруг завтра червь сам уйдет, возвратится в пекло?
Болд слизал с запястья жир. Указал на спальник.
– Давай подстелем. Береги ступню.
Мускулистые руки оторвали от пола. Борода кольнула в щеку, Алена улыбнулась. Болд уложил ее на мешок, как жених укладывает невесту на перину.
– Твои брюки, – ойкнула она.
Расстегнула ремень.
– Тише, тише, – Болд, баюкая забинтованную ногу, помог стащить штаны. Правая ступня покоилась на его коленях. Левую Алена подогнула под себя и внимательно смотрела на мужчину. Овчинные полы разошлись, наполовину оголив грудь. Грудь приносила Алене множество проблем: слишком чувствительная, слишком тяжелая, бывало, после долгой полевой работы соски натирались до крови о грубые чашечки бюстгальтера. Лифчиков такого размера не выпускают, а под заказ дорого. И ученым мужьям пойди докажи, что она – личность, высококвалифицированный специалист, а не скифская баба.
Сейчас эти непокорные капризные мячи лежали смирно, ожидали, пока их покачают в мозолистых ладонях.
Сердце галопировало под мякотью, но лицо онемело и было спокойным, сосредоточенным.
Минуту длился безмолвный диалог. Наконец Болд смилостивился и поступил, как надо было обоим.
Груди мотались по взопревшему телу, раненая стопа подрагивала. Каждый удар чресел встречался восторженным выдохом.
«Волшебный, – думала она, почти плача от нежности, – большой, родной, волшебный».
Болд стал темным пятном, он двигался над ней, в ней, и она сжимала его бока и потом кричала.
Закончив, он встал, кряхтя. Она лежала, растрепанная, мокрая, со смесью удивления и мечтательности трогала свою грудь, будто та отросла минуту назад и нуждалась в изучении.
– Я снова голодна, – тоном провинившегося ребенка сказала Алена.
Болд обвел ее поблекшим взглядом, побрел, пьяно покачиваясь к выходу. Голый, ссутулившийся.
И ушел из грота.
Она звала, умоляла и плакала.
Да, ее порыв был дурным, аморальным, но они вместе поддались ему, он тоже хотел – еще как хотел!
Почему же он наказывает ее, последний мужчина на земле, последний под злобным небом?
Или это не кара?
Может, ему стало плохо? Может, он выбрался из убежища, чтобы умереть, и его труп лежит в ручье, омываемый чистыми струями?
Может, червь нашел способ выманить его, пригласил, как Крысолов из сказки, и мужчина не сумел противиться назойливой дудочке?
Где же ты, Жан?
Она сорвала голос. Слезы иссякли. Всматриваясь в горловину, она начала подниматься – медленно, хватаясь за стену. Выпрямилась, опираясь об уступы, на одной ноге запрыгала к свету. От страха по бедрам потекло горячее.
«Одним глазком! И сразу назад».
Буря прекратилась. Солнце проклевало серый занавес и грело скалы. Алена замерла на краю грота.
Она таращилась в пустоту, периферийным зрением выискивая олгой-хорхоя. Никакого гротескного силуэта там, где утром сторожил червь. Осмелев, она покосилась на барханы. Тварь ушла, но надолго ли?
Словно паучьи лапки мерзко закопошились под сердцем.
Хрустнула шея, когда Алена резко обернулась к лагерю. Шквал занес его песком, выстроил баррикады, но отрытый грузовик стоял на выезде из лощины. Слезинка скатилась по чумазой щеке женщины.
Она смотрела на песчаный бугор и понимала, что две ночи назад приняла его за огромного червя. Что, убегая в буране, даже не подумала о научном объяснении происходящего.
Не изучила раны Богдана. Не проверила, стоит ли кто-нибудь в данный момент на выступе слева.
Олгой-хорхой – настоящий олгой-хорхой – рявкнул коротко, и железное полотно лопаты плашмя обрушилось на темечко Алены.
Грузовик ехал по пустыне. Дорога-гребенка вилась среди осадочных пород, образующих своими глыбами лабиринты. Тень горных хребтов скользила по пыльному лобовому стеклу, по лицу водителя.
В кузове, заваленная баками и ящиками, связанная бечевой, лежала самка, а подле нее – откопанный самец. Тупой, слабый, недостойный этой красивой женщины. Ему хватило доброго удара в живот и двух быстрых тычков ножом. Первый глазик. Второй глазик. Спокойной ночи, собиратель драконов.
Болд ухмыльнулся.
Он никогда не выпивал с отцом. Папаша предпочитал надираться в одиночестве. А выпив как следует, измывался над сыном. Мачеха не заступалась. Знала норов мужичка. Выбегала из дома, скобля шрамы, папиросные ожоги. У Болда тоже была коллекция таких отметин. На животе. В паху. Там, где их не увидят соседи.
Отец был чокнутым мерзавцем. Он брал руку тринадцатилетнего сына и засовывал ее в медвежий капкан. К его чести, всякий раз успевал выдернуть до того, как зубастая пасть сомкнется. Он сажал на плечи окоченевшего от страха мальца скорпионов и похрюкивал от смеха. Особенно ему нравилось, когда сын уписывался.
Отец был Ужасом. С большой буквы.
Грузовик лавировал между обелисков, палеонтолог в кузове перекатывался и толкался в спину жены. Сукровица и песок смешались внутри глазниц.
Болд был олгой-хорхоем и съел отца.
А порой наоборот, отец был олгой-хорхоем, и его победил смелый семнадцатилетний Болд.
В черепной коробке затрещало электричество. Он затормозил, и пальцы стиснули рукоять кувалды.
Лошадь сдохла, привязанная к саксаулу. Круп издырявил щебень, словно по животному палили картечью. Остекленевшие глаза тоскливо взирали на хозяина.
Болд спрыгнул на глинистую почву, обогнул грузовик. Самка очнулась и чесалась запястьями об угол ящика, пытаясь освободиться. Груди нелепо подпрыгивали.
Замерев, она затравленно посмотрела на Болда.
– Пойдем, – сказал он, – я докажу, что олгой-хорхои существуют.
Он гнал ее перед собой. Голую, грязную, израненную, с запекшейся кровью в волосах. Нестерпимая боль взрывала разум белыми вспышками, реальность превратилась в череду разрозненных кадров. Она падала, он тащил ее за косы.
Червь в обличье человека.
И не было никого, кто бы защитил ее в этих ледяных пустошах.
– Туда! – Болд кивнул на отверстие у подножья скалы.
– За что? – прошептала Алена.
– Туда! – рявкнул он, замахиваясь.
Она послушно опустилась на четвереньки, поползла, волоча ступню.
«Он убьет меня», – глухо пронеслось в голове.
Лаз расширялся, но Алена все так же двигалась на четвереньках, а рядом шагал мучитель, червь, Болд.
Загорелся свет. Это монгол подобрал керосиновую лампу, и огонь озарил его вдохновленное лицо, ясные глаза. Впереди раскинулась пещера. Стены в кальциевых натеках и червоточинах.
– Здесь я поборол его, – горделиво сказал Болд, – здесь я побеждал его снова и снова.
Он поднял лампу к сводам.
Пол пещеры от стены до стены занимал скелет олгой-хорхоя. Громадный, не меньше шести метров. Костяное веретено ощетинилось серпами ребер. Хвост вился по базальту аккуратной вереницей позвонков. Ошарашенная Алена глядела на зубастую морду с десятком глазных впадин.
Осознание заставило скулить.
Скелет чудища был собран из костей. Белые кости принадлежали людям. Темные, окрашенные солями марганца, – динозаврам. Голову составляли черепа протоцератопсов и велоцирапторов, вымерших крокодилов и скотоводов.
И Алене было суждено слиться посмертно с червем, стать частью конструктора.
Стоя коленопреклоненно у детища Болда, она прикоснулась к обломанной красноватой кости рептилии, сжала ее в кулаке, как нож. Она слышала шаги. Безумец приближался. Тень легла на костницу. Тень помахивала кувалдой.
Алена подумала отстраненно, что легенды были правдивы.
Олгой-хорхои существовали на самом деле.
Они пожрали ее мужа. Одоевцева. Профессора Грановского. Двух нерожденных детей. И мужчину, который заботился о ней в гроте.
Черви сожрали весь мир, оставив морозную пустыню.
Тень поднимала кувалду.
Алена развернулась и вонзила кость в живот человека-червя.
Серый журавль спланировал на дорожный указатель, пирамиду из камней, переложенную корнями и ветвями саксаула. Он сложил крылья, пощелкивая клювом. Журавль чистил перья. Внимание птицы привлек тарахтящий звук. Пыльный грузовик ехал по тракту. Журавль напрягся, готовый сорваться в прозрачное небо, но машина мчалась на запад. Журавль смотрел, склонив голову, пока лязгающий и гудящий грузовик не скрылся за скалами, а после продолжил свои журавлиные дела.
Мальчик играл с оловянными солдатиками, подарком приятной русской пары, когда входная дверь хлопнула.
Он вытянул длинную шею. Робкая улыбка тронула губы.
– Папочка? – спросил мальчик.
Встал и двинулся к полумраку за занавесками из раскрашенных палочек. Занавески зашуршали, пропуская. В коридорном устье лежал отец. Лицо его было закопано в ворс ковра, руки распростерты.
– Папочка? – с нарастающим беспокойством проговорил мальчик.
Отец шевельнулся. И пополз, извиваясь всем телом и издавая трещащее жужжание.
Мальчик моргнул удивленно.
Отец подполз к его ногам и перекатился на спину.
И вдруг схватил мальчика за щиколотки, дернул, опрокинул на себя и крепко обнял.
Он пах кровью и пылью, он хохотал и тискал сына, и, счастливый, мальчик засмеялся в сильных отцовских руках.
Максим Кабир
В домике
Последний пузырек лопнул с веселым бульканьем, на экране замельтешили жуки и золотые монеты, поздравляя Олега с победой.
– Мишка!
Пальцы замерзли, батарея доживает последние минуты. На новой детской площадке – аншлаг, на горки – очередь, на качели – очередь. Чего сюда потащились, рядом есть своя, не хуже, а народу меньше. Олег отыскал глазами сына. Тот наконец оседлал маленькую желтую лошадку, которую дожидался с момента их прихода.
– Пошли домой, – крикнул Олег. – Дай девочке покататься! – попытался он воззвать к рыцарским чувствам сына. Рядом крутилась какая-то тощая девчушка лет пяти. Из-под короткой шубки торчали тонкие ножки в грязных белых сапожках. Она явно мечтала о той же самой лошадке. Рядом с ней, спиной к Олегу, стояла женщина в неряшливом зеленом пуховике.
– Не! – крикнул Мишка, яростно раскачиваясь. – Я только начал!
– Десять минут! – крикнул Олег и добавил себе под нос: молодец, сына. Нечего уступать всяким девочкам, успеешь еще, а что не уступишь – сами возьмут.
Олег усмехнулся, глянул на индикатор зарядки. До следующего уровня – и сразу домой. Он щелкнул по жуку, и блестящие пузырьки выстроились в ровные ряды.
Олег очнулся много позже, когда окоченевшие руки ощутили неприятное тепло разогревшегося смартфона, который из последних сил довел Олега до финала очередного уровня и погас.
Его выбросило в реальность, и он сразу почувствовал стылый ноябрьский холод, проникающий под куртку, замерзшие уши, требовательно ноющий мочевой пузырь и лютый голод, словно не ел сутки. Пора домой, обедать.
Олег ошалело крутил головой. Кругом незнакомые лица. На лошадке, смеясь, сидел малыш. Бабушка в кокетливом берете придерживала его за капюшон.
– Мишка?
Олег шмыгнул носом – не хватало еще простыть, – встал, разминаясь, высматривая знакомый зеленый комбинезон сына. Куртки и пальтишки, шапки и шарфы, заячьи ушки, помпоны и кисточки сливались в веселую мозаику, но Олег никак не мог найти нужный элемент пазла.
– Я совсем ку-ку, что ли, – озадаченно сказал он сам себе, обходя площадку по кругу. – Миша!
Несколько малышей повернули к нему головы, но сына среди них не было, и Олег занервничал. Он стал вглядываться в лица детей, описывая их про себя, как будто одного взгляда было мало: мальчик в фиолетовом, девочка с жирафом, мальчик с роботом, близнецы Бровкины, курносый мальчик, девочка с помпоном – детские лица улыбались или плакали, но лица сына среди них не было.
Под курткой и свитером стало жарко. Олег закончил свой короткий обход там же, где и начал: у желтой лошадки.
– Вы не видели мальчика, который тут до вас катался? – спросил он бабушку в берете.
Она посмотрела очень неодобрительно и отрезала ужасное:
– Нет.
Мишка мог потерять его из виду и вернуться домой. Он ребенок, и такое бывает, – говорил себе Олег, трусцой перебегая дорогу. Ему же всего пять, он мог запутаться, не найти папу, испугаться. Олег не верил в страшилки про детей, исчезающих с игровых площадок супермаркетов, ресторанов, детских садов. Его собственная мать была из тех, кому сейчас с ходу приклеивают ярлык «тревожный родитель», и Олег делал все, чтобы не быть на нее похожей: никакой гиперопеки, никаких ненужных волнений, никаких лишних страхов, все будет хорошо, сын, и только так.
Он успокаивал себя те пять минут, что занял путь от площадки до квартиры, затыкая звучащий в голове голос матери, еще тихо, но уже вполне отчетливо подсказывающий ему, что случилось страшное, какая-то ужасная непоправимая катастрофа, и виноват в ней Олег.
С женой он столкнулся у входной двери. Глядя в телефон, Марина стояла в куртке, надетой на домашний костюм.
– Вы где? Я звоню – ты не отвечаешь.
– Телефон сел, – прохрипел Олег, выискивая взглядом какие-нибудь следы присутствия сына. Сейчас он выбежит из комнаты с зареванным лицом, спросит: папа, где же ты был?
– А, ясно. А то я уже собралась за вами идти. А Мишка где? – встрепенулась она, заметив, что Олег один.
– Там он, – Олег махнул рукой, глотая окончание фразы. В рот словно насыпали песка. – Катается на лошадке.
– С кем?
– Мы там эту встретили… – поспешно сочинял на ходу Олег, надеясь, что жена сама поймет, додумает, скажет за него.
– Жанну? – подсказала Маринка.
– Ну. Ее.
– Слушай, я ей должна кое-что отдать, сейчас с тобой пойду.
– Нет! – почти крикнул Олег. – Давай я передам.
Маринка подняла брови, покачала головой, но промолчала.
– Я в туалет, быстро.
Олег поспешил укрыться в ванной, щелкнул замком. Справил нужду, закрыв глаза, прислонясь лбом к кафельной стенке, отвергая навязчивую мысль, что Мишки дома нет, что он сюда не возвращался. Крутанул вентиль, бездумно, по привычке ополоснул лицо. Обжигающе холодная вода окатила руки ознобом. Олег смотрел, как она с какой-то бешеной скоростью несется, закручиваясь в черную воронку водостока, и повторял себе, что все бывает, Мишка мог перепутать дом, квартиру, ему пять лет, это очень мало. Как же ты мог оставить такого маленького, скотина, – психовала мать.
– Ты там год собрался провести? – Марина постучала в дверь.
Олег вздрогнул. Хорош паниковать. Не найдя дом, Мишка наверняка вернулся, и надо скорее бежать туда, успокоить его и успокоиться самому, а не психовать.
– Держи, – Марина всунула в руки какой-то пакет. – Отдай Жанне, скажи, что я ее вечером наберу. – И давайте уже домой, я накрываю!
Желание закричать сдерживал страх оказаться в окружении этих женщин, которые, узнав, что он потерял собственного ребенка, обступят со всех сторон, как обступают жертву, стиснут, возьмут в кольцо, из которого вовек не выбраться, и уничтожат.
И потому Олег лишь бестолково кружил по площадке, натыкаясь на незнакомых малышей, а потом по соседним дворам, и снова по площадке, и кружил так, пока не заметил взгляды, со всех сторон направленные на него, как копья, готовые сразить одним ударом всякого, кто рискнет подойти к чужому ребенку.
И тогда он сдался и спустя целую вечность вернулся домой, без сына, с полиэтиленовым пакетом, ставшим противно влажным в ладонях.
– Вы пешком с Аляски, что ли, идете? – Марина вышла из кухни, на ходу вытирая полотенцем руки. – А Миша где? – спросила она второй раз. Тепло и сытно пахло жареным мясом, домом, уютом.
Олег только смотрел на нее, как в последний раз, потому что это был и правда последний раз – он осознал это ясно, как и то, что через секунду с первым его словом весь уют, вся их жизнь со звоном разлетится и осыплется, как стекло, в которое швырнули камень и которое уже нельзя будет ни склеить, ни собрать.
И потому он втянул в себя тепло дома, стараясь вобрать его в себя на будущее, как запасают силы перед долгой-долгой дорогой, и ответил, как в полынью нырнул:
– Прости меня. Я его потерял.
Время тянулось медленно. От звонка до звонка. От одного скупого известия о том, что новостей пока нет, до другого. Прижавшись лбом к холодному стеклу, Олег видел из окна площадку, свою, близкую. Если бы они пошли сюда, Мишка бы не пропал. Олег закрыл глаза. Сейчас он их откроет – и сын будет там, на качелях. Или на горке.
Но Олег видел только близнецов Бровкиных, которые ковырялись в песочнице, невзирая на мелкий дождь.
Олег прислушался. В соседней комнате было тихо. Наверное, Марина спит. Когда не спит, включает телевизор, чтобы Олег не слышал, как она плачет, но Олег все равно слышал. Он мог бы войти туда, вместе им, наверное, было бы легче, в горе, не только в радости, но эту идею пришлось отбросить после первых неудачных попыток утешить ее хоть как-то (ты, мудак, разве не понимаешь, теперь нас все равно лишат прав, опека отберет у нас ребенка, потому что ты мудак, куда ты смотрел, дебил, я тебя сама лишу, я тебя ненавижу, ненавижу тебя, мудака, зачем тебе вообще глаза, зачем тебе семья, зачем ты вообще живешь, пошел вон).
Маринка закрылась в спальне, оставив в распоряжении Олега детскую, где все напоминало о том, какой он мудак безглазый.
Она подчеркнуто старалась с ним не встречаться, и Олег покорно принял правила игры, не выходил из комнаты, если слышал, что Марина возится на кухне или в ванной.
Сейчас он воспользовался паузой, прокрался на кухню, как вор. Сделал бутерброд, съел без аппетита. Возвращаться в Мишкину комнату было невыносимо, но уходить от дома далеко не хотелось. Казалось, он пропустит что-то важное, звонок, письмо, визит участкового, какой-то знак – все что угодно.
Все же Олег оделся, вышел на улицу, вздрогнул от сырого ветра. Температура опускалась все ниже.
Он сел на пустую скамейку, смотрел на Бровкиных в песочнице, на их покрасневшие носы, обветренные губы, и старался ни о чем не думать, потому что мысли были одна другой страшней.
Близнецы сосредоточенно и тихо рыли какую-то яму. Хотя, строго говоря, Бровкины вовсе не были близнецами – девочка родилась раньше мальчика года на три. Но до того казались похожими их невыразительные, лишенные хоть какого-то детского обаяния лица, такие они были долговязые, длиннорукие, одетые не плохо, не бедно, но как-то одинаково безвкусно, что все называли их близнецами.
Бровкины были обязательным элементом окрестных дворов. О них судачили, все их знали, даже Олег, хотя больше по рассказам жены, которая без конца возмущалась их неприкаянностью.
Мать Бровкиных работала где-то вахтой, и за ними присматривала специально выписанная из деревни бабка. Увлеченная открывшимся миром телесериалов и лишенная всякой паранойи городских родителей, бабка честно выполняла свои минимальные обязанности, но в остальное время Бровкины бегали, где хотели, и несчастными не казались, хотя и счастливыми тоже.
– Так и надо, – говорил жене Олег. – А то растим, как в теплицах. Мы в детстве во дворах играли, а теперь – что?
А теперь он так не думал.
Олег моргнул и понял, что Бровкины уже давно ничего не копают, а смотрят на него пристально и молча.
– Потеряли Мишку? – вдруг спросила девочка. В голосе ее не было ни интереса, ни обвинения. Она констатировала это, как в новостях констатируют крушение поезда. Никаких эмоций, голый факт. И потому Олег просто кивнул.
Бровкины переглянулись между собой. И девочка снова спросила, только теперь у брата:
– Расскажем ему?
– Вы что-то знаете? – вскинулся Олег, вздрогнув всем телом, словно можно было уже бежать куда-то, не теряя драгоценных минут.
– Нет, мы ничего не видели, – протянул мальчик. Даже голоса их были одинаково бесцветны. – Но знаем, кто может знать.
– Кто?
Близнецы замолчали, сканируя его взглядами. Олег сидел смирно, боясь спугнуть. Подсказка, намек, подойдет что угодно, он уцепится за эту нить во что бы то ни стало и пройдет по ней до конца.
– Знаете, где корабль?
Еще бы он не знал. Площадка с кораблем! Мишка канючил об этом корабле каждый раз, когда они выходили на прогулку. Сделан он был и правда здорово: мачты-столбы, горки-трапы, каюты-скамеечки. Но находился корабль в парке, в соседнем квартале, и тащиться туда было лень. Неужели Мишка решил сбегать туда один?
– Там есть домик. В углу, его не сразу заметишь, – продолжил мальчик. – Приходите в этот домик ночью, когда темно, и ждите.
Олег встал, не совсем понимая, что делает, шагнул к близнецам. Ему захотелось схватить за ноги их обоих и трясти, трясти с силой, вытрясти всю эту дурь, эти злые шутки, подсмотренные, вероятно, в каком-нибудь бабкином сериале.
– Что за игры? – прошипел он.
Но близнецы смотрели на него снизу вверх без всякого страха, даже с каким-то недетским скепсисом.
– Никакие не игры, – сказала девочка, вытирая нос грязной перчаткой. – Не хотите, можете и не ходить. А если пойдете, то не бойтесь. Он вам ничего не сделает.
– Кто «он»?
– Хозяин.
– Какой еще хозяин? – опешил Олег.
– Ну, – девчонка задумалась. – Вот вы смотрели «Тоторо»?
– Какого еще торото?
– Мультик такой, – пояснил мальчик. – Японский.
– А-а-а. Ясно, – Олег потерял к разговору интерес, осаживая себя. Это просто дети. Они никому не желают зла.
– Мультик. Я понял, – сказал Олег. – Всего хорошего.
– До свидания, – вежливо попрощались Бровкины.
– Зря вы не верите, – крикнула девочка в спину. Олег вздрогнул, но не обернулся.
За окном давно стемнело, но что значило «ночью»? Ночь – это когда? Он бросил взгляд на телефон: двенадцатый час. По опыту он знал, что ночь у детей может начинаться когда угодно, у Мишки она начиналась как-то внезапно, с ранней осенней темнотой, или, наоборот, могла не приходить почти до утра, если в планах значились мультики, а в руках оказывался планшет.
Но Бровкины были старше Мишки, уже ходили в школу, значит, день от ночи отличали.
Олег обдумывал слова близнецов. Сначала они казались ему чушью, не стоящей внимания. Но дети могли назвать Хозяином кого угодно. Что, если Хозяин – реальный человек, подонок, мразь? Руки сами сжались в кулаки.
Он лежал на узкой Мишкиной кроватке, слишком короткой, неудобной. За стеной заиграла набившая оскомину заставка телешоу. Телевизор не умолкал с тех пор, как он вернулся. Олег выучил сетку вечерних передач наизусть.
Через час Олег вышел из комнаты, прислушался по привычке, но не услышал ничего, кроме тупого искусственного смеха, сопровождавшего каждый выпуск программы, против воли представил, как Маринка плачет, слушая этот дебильный хохот. Он задохнулся от горечи и ненависти, обращенной внутрь, на себя. Поколебавшись, взял на кухне небольшой нож, записку оставлять не стал.
К встрече с Хозяином следовало хоть как-то подготовиться. Кем бы он ни был.
Все будет хорошо, сына. И только так.
Он шел по ночной улице, представляя, как шел к кораблю Мишка. Он еще смешно путался в расстояниях и времени. Тетя в поликлинике делала мне укол долго, наверное, три часа! Мы ехали на дачу, наша дача, наверное, далеко, десять тысяч километров! И дорога до корабля, должно быть, оказалась длиннее, чем ему запомнилось, когда они ходили туда в сентябре. Олег только сейчас заметил, как много тропинок, дорожек, разбитых и вымощенных, отходит в глубину дворов, к тупикам гаражей, к завалам помоек. Он подумал о парке, у берегов которого стоял корабль. Не парк – целый лес для пятилетнего ребенка.
Пошел первый в этом году редкий и легкий снег. Одиночные снежинки таяли, едва касаясь земли.
Олег шел по пустой улице, по редким пятнам оконного света. Как мирно спит город! Он нащупал в кармане нож. Обычный, кухонный, домашний, которым еще днем резал хлеб и сыр. Сможет ли он пустить его в дело, если будет нужно? И, хотя ему ни разу не приходилось бывать в серьезных переделках, Олег был уверен: сможет.
Ради Мишки и Маринки он сделает все.
Домик на самом деле стоял с краю, приткнувшись как-то нелепо, словно те, кто обустраивал площадку, забыли о нем, вспомнив только, когда все остальные ее элементы, замки и лошадки, заняли свои места, и поставили на отшибе, где еще оставалось свободное место.
Домик скорее был крошечной детской беседкой, тоже желтой, насколько удавалось разглядеть в свете далекого фонаря. Олег оглянулся. На всякий случай прогулялся до ровного ряда кустов, присматриваясь, но было тихо и безлюдно.
Согнувшись, Олег кое-как забрался в домик, опустился на жесткую ледяную скамью. Колени едва не упирались в противоположную стену. Внутри было темно и тесно.
Олег услышал характерное шуршание шин и внутренне напрягся, нащупал рукоятку ножа, но машина проехала по дороге мимо. Все стихло. Олег проверил время: начался новый день. Свет экрана выхватил несколько корявых надписей, мальчик плюс девочка, кто-то лох.
Зачем он здесь? Чего ждет? Ответов не было. Скрючившись, Олег ждал, сам не понимая чего. Здесь ему вдруг стало почти спокойно. Над домиком шуршали ветки, свет не проникал внутрь, и казалось, что город остался далеко-далеко.
Олег не знал, сколько просидел так, ни о чем не думая. Он почувствовал, как затекла спина, дернул плечом, вздохнул и ощутил неприятный запах. Ком подкатил к горлу, Олега едва не вывернуло на колени. Он ненавидел этот запах с детства: густую тяжелую вонь зверей, нечищеных клеток, свалявшейся шерсти, пота, испражнений.
Мать водила его в зоопарк с каким-то странным упорством, едва ли не каждые выходные. Но каждый раз, когда маленький Олег тянулся к какой-нибудь клетке, она дергала его за руку, приговаривая, что подходить близко нельзя. Животные кусаются и царапаются, птицы могут выклевать глаза, хищники – сломать вольер и наброситься.
Олег вырос со стойкой, самому противной неприязнью ко всяким животным, даже к волнистым попугайчикам и собачонкам размером с баклажан.
Он зажал ладонью нос и рот, улавливая краем глаза, как в домик входит, влезает, забирается нечто. Запах усилился, лицо обдало жаром, точно он встал к плите, и Олег никак не мог заставить себя повернуть голову, чтобы посмотреть на это – то, что вошло в домик – на Хозяина.
Он сидел прямо, вжавшись спиной в стену, слыша вязкое дыхание. Лежащий в кармане нож стал смешным бесполезным бутафорским реквизитом фокусника, который тот заглатывает, не причиняя себе вреда.
Они сидели так, зверь и человек, и Олег никак не мог придумать, с чего начать, что сказать, сделать. И вдруг рядом с Хозяином на лавочной дощечке что-то зашуршало, защелкало – странный звук, словно костяшки бьют друг о друга, – а потом пропищало детским, высоким и тонким голоском:
– Зачем пришел?
Олег вздрогнул. Голос принадлежал не Мишке, в этом он был уверен, как и в том, что говорящий – не ребенок.
Онемевшие губы слушались плохо, язык во рту ворочался как чужой.
– Где мой сын?
На лавке снова что-то защелкало, там возился кто-то маленький и юркий.
Зверь протяжно вздохнул. Становилось жарко и влажно, как в бане.
– Дай! Дай-дай! – звонко потребовали с лавки. – Дай руку!
Олег протянул ладонь не глядя, ожидая, что сунет ее в печное жерло, но пальцы ощутили лишь шерсть, грубую и жесткую. Потом что-то теплое и шершавое накрыло его ладони.
– Не суй руки в клетку к зверям, – строго сказала мать. – Не трогай их, они все больные.
Олег тряхнул головой, стараясь дышать неглубоко и часто.
– Твой сын жив, – запищало с лавки. – Но с каждым днем он все дальше.
– Как его найти?
– Можно. Кое-что понадобится. Ты должен что-то принести. Нам принести.
– Что?
В голове мелькнула шальная мысль, что это просто развод на деньги. Очень умелый, тщательно спланированный, без сомнения, эффектный. Более того, кто-то знал, как он не любит зверей, как парализует его один лишь запах.
Деньги были, пусть и не так много. Они с Маринкой копили на квартиру. Связываться с банками не хотелось, хотелось продать свою и с доплатой купить новую, просторнее, в другом районе.
– Глаза. Принеси глаза.
– Что? – не понял Олег.
– Нужен правый глаз отца, левый – матери.
Олег выдернул руку так резко, что больно ударил себя по лицу.
– Это не для меня. Мне – ничего. Это для тебя, – сказал голосок. – Иначе не увидеть.
– Может, деньги? – Олег решил играть по-крупному и сразу предложить им то, чего они хотят.
– Себе. Как увидишь деньгами? Нужны глаза. Глаза нужны, чтобы видеть, – настойчиво повторяло что-то маленькое, постукивающее, словно оно дергалось при каждом слове.
– Еще нужны зубы. Но зубы можно любые. Всякие подойдут. Годятся все.
Олег молчал. Сказать было нечего.
– Еще принеси медведя.
Представилось, как он идет в цирк и выкупает там одного из тех страшных замученных зверей, которые понуро ходят по кругу, а в перерывах фотографируются со зрителями за деньги.
– Твоего сына друга. Его неси, – пояснил голос.
И Олег понял, что речь идет не о каком-то медведе вообще, а о Мишкиной игрушке: классическом teddy bear, какао с молоком, нос – шоколадка. Игрушка чрезмерно слащавая, слишком милая для мальчика, но сын внезапно привязался к нему так сильно, что Олег не возражал. Думал, подрастет Мишка, и сам бросит чертова медведя.
– Кто ты?
– А посмотри, – с готовностью предложили с лавочки. – Ты же давно хочешь.
Олег кое-как извлек из кармана телефон. Затаил дыхание, осветил жердочку напротив. Сморгнул пару раз, и крик застрял в горле, вырвавшись невнятным сдавленным звуком.
На скамейке рядом с черным меховым боком сидел пластиковый пупс, каких делали в Советском Союзе. Жесткие пластмассовые руки-ноги на резинке, голова с обозначенными краской волосами, намалеванные синим глаза, один слегка облупился, круглые щеки, круглый лоб. В углублении рта шевелился маленький розовый человеческий, детский язык.
– Вот так. Смотри, – сказало это существо, и язык шевельнулся, голова дернулась, ударяясь о стенку, издавая тот самый костяной звук.
Палец сам нажал кнопку. После света темнота вокруг на миг стала кромешной, и Олег испытал облегчение, что видеть больше не нужно.
Голова затряслась как-то само собой, против воли. Все это была какая-то дикость, но в эту дикость он уже был втянут по уши.
– Нет-нет-нет, – повторял он.
– Успокойся, – запищали с лавочки. – Можно помочь. Левый глаз матери. Правый – отца, – настойчиво повторил пупс. Олег услышал стук-стук и отчетливо представил, как тот ударился о стенку круглым затылком.
– А зачем тебе глаза, мудила? Ты же своего ребенка не видишь.
Они с Маринкой пили водку. Та была слишком теплая, но сладкая, приятная на вкус. Скользила внутрь змейкой, ничуть не обжигая горла.
Олег кивал, соглашаясь, а потом вспоминал, почти плача:
– Один же твой нужен, Марина, – он слезливо и пьяно тянул это «а-а-а», упрашивая ее.
– Обойдешься, – хохотала Маринка, опрокидывая стопку за стопкой. – Свои давай.
– Это я его таким воспитала, – в кухню вошла мать. Как обычно, в турецком халате с розами, губы брезгливо поджаты, – без яиц. Резал-резал, живодер, а глаз себе вырезать не может.
Они засмеялись обе, их лица слились в одно, Олег почувствовал, что не может дышать, тело затряслось крупной дрожью. Он проснулся в испарине, лежа на полу детской, вцепившись обеими руками в Мишкиного медведя. Голова не поднималась, чудовищно пахло спиртом и какой-то кислятиной. Рука нащупала гладкий стеклянный бок. Олег с трудом различил этикетку: вино. К горлу подступил комок омерзительной отрыжки. Вино. И еще водка.
Ни Олег, ни Маринка не испытывали нездоровой тяги к алкоголю, но в шкафчике на кухне всегда стояла пара бутылок крепкого и не очень на случай гостей или просто внезапного желания немного расслабиться простым и безотказным способом.
После встречи в домике Олег забрал из шкафчика все, что там было: полбутылки вина и непочатый пузырь беленькой. Закрылся в комнате у Мишки и начал готовиться, морально и физически.
Учиться на ветеринара назло матери с ее брезгливой тягой к животным – такое мог придумать только инфантильный подросток, одолеваемый духом противоречия и гневом. И после школы, ощутив некоторую свободу выбора, он распорядился ею как-то совсем неумно. Желая преодолеть нелюбовь к братьям меньшим, а на самом деле – влияние матери и досадить ей хотя бы таким способом, Олег подал документы в ветеринарную академию, выдержал экзамены и поступил.
Сжав зубы, он проучился почти все пять лет, ненавидя то, что приходится делать, и маясь. Животных он так и не полюбил, дисциплины – тоже, но хотя бы научился смотреть на зверей без боязливого отвращения. Когда до окончания оставалось чуть меньше года, мать внезапно скончалась от сердечного приступа. Механически целуя ее в лоб на похоронах, Олег вдруг понял, что сражаться больше не с кем, а уж доказывать кому-то что-то тем более. Под всеобщее недоумение забрал документы и впервые вздохнул с облегчением.
Вскоре он продал маленькую квартиру, переехал в другую, занялся изучением инвестиционных рисков и финансовых рынков, встретил Марину, и все забылось, как дурной сон.
А теперь снова всплыло. Остаточные знания – так, кажется, это называется.
Он засмеялся: пора их проверить. Когда решил, что готов, отправился в ванную. Телевизор из соседней комнаты пищал на одной ноте. Стояла глухая ночь. Олег встал напротив зеркала, достал нож. Продезинфицировал лезвие водкой, остатки выплеснул в горло. Та обожгла пищевод, разлила по венам кураж: давай, парень!
– Я иду, сына, – сообщил Олег помятому мужику в зеркале. – Все будет хорошо, и только так.
Дело почему-то казалось простым. Резать одну плоть или другую, какая разница. Из курса лекций он помнил историю о медике, который прооперировал себе аппендикс. Так что все возможно. Он стоял у зеркала чрезмерно долго.
– Давай-давай, мудила, – подбадривал он мужика. – Это ради сына.
О том, что делать с тем, вторым, глазом, Олег пока решил не думать. Жаль, что водки больше нет.
– Ты и так пьян сверх всякой меры, – заметил мужик из зеркала.
– Завали! – приказал ему Олег. Мужик послушался. Потом Олег взял в одну руку нож, а другой так низко оттянул нижнее веко на правом глазу, что стала видна влажная красная кромка. Мужик поднес белое керамическое лезвие к глазному яблоку и чуть-чуть надавил на слизистую, как бы пробуя на прочность. Надо подковырнуть его, быстро и резко, все! Руки тряслись, ладони потели, и никак не получалось нажать, надавить с нужной силой. Не сдаваясь, он пробовал снова и снова, то медленно поднося лезвие, тыча легонько, примериваясь, то размахиваясь, но рука предательски останавливалась, тормозила у самого финиша. Олег дышал мелко и часто, чувствуя, как подкатывает к губам проглоченный винно-водочный коктейль. Мужик напротив согнулся над раковиной в рвотных позывах. Он смотрел, как стекает слизь по грязной эмали, и думал о том, что так же медленно, но неуклонно течет в бездонный водосток время, унося с собой его мальчика глубоко-глубоко в небытие. Лицо мужчины в зеркале расползлось, он выронил нож и заплакал, некрасиво, по-бабьи сморщившись.
Они прижались друг к другу потными лбами.
– Прости, Мишка, – прошептал Олег. – Прости, малыш. Я не могу.
Только на голубом, а точнее, на синем глазу можно было решить выколупать себе глаз кухонным ножом. Только полному мудиле могла прийти в голову подобная мысль. Спустя несколько часов Олег смотрел все на того же мужика. Один глаз у мужика покраснел и слегка воспалился. Оба глаза выглядели отвратно, что неудивительно. Олег умыл их холодной водой, собрал мусор, оделся и снова оказался на улице, в ноябрьском жидком утре, едва отличимом от ночи. Но надо привести себя в порядок. Аптека, душ, кофе.
Олег поднял воротник повыше, с похмелья колотило, голова отказывалась работать. Все произошедшее казалось бредом. Вероятно, он начал пить, не выходя из дома, все остальное – пьяный сон. Он машинально дотронулся до глаза, веко отозвалось саднящей болью.
Олег повернул к сияющему кресту аптеки и сразу за углом налетел на какую-то маленькую старушку.
– Глаза разуй, алконавт.
– И вам доброе утро, – процедил Олег.
За женщиной на некотором расстоянии, подчеркивая свою полную обособленность от мира, шли две маленькие фигурки близнецов Бровкиных. Олег остановился, словно увидел призраков. В голове точно заворочались, завертелись какие-то механизмы, подкатила тошнота.
– Пришел? – спросила девочка, поравнявшись с ним.
Олег оторопело кивнул, вчерашнее возвращалось к нему во всей полноте, захлестывало волнами прибоя. Запах шерсти, зверя, прелых опилок, тук-тук пластика о стенку, кончик розового языка меж пластмассовых губ. Он зажмурился, стиснул пальцами лоб, словно удерживая все это в голове.
– Все делайте, как он сказал.
– Лизка! – крикнула старушка, и Олег догадался, что это и есть выписанная из деревни бабушка. – Отойди прочь.
Олег поспешил отбежать. Он сам был как чума, болезнь, никого нельзя было касаться, ни к кому подходить.
– Если он пришел, значит, поможет, – услышал он, открывая дверь аптеки.
Через три с половиной часа Олег стоял у двери обычной пятиэтажки, умытый, чисто выбритый, одетый в свежее. Он должен был произвести благоприятное впечатление, хотя те, кто ожидал его по ту сторону, вероятно, привыкли к мужчинам самого разного вида. Чего не ожидал он сам, так это увидеть полную, скорее даже грузную тетку с короткой мальчишеской стрижкой, в медицинском халате и черных чулках, туго обтягивающих тяжелые икры.
– Марьяна, – представилась она с кокетливой грубостью. Голос был ей под стать, низкий и хриплый. – А к вам как обращаться?
– Дэн, – ляпнул Олег первое, что пришло в голову. Тетка ухмыльнулась.
– Будь как дома, Дэн. У нас все готово.
Она повернулась, приглашая за собой. По правому чулку ползла стрелка, сквозь дорожку проглядывала рыхлая белая плоть.
В комнате было душно, полосатые обои с золотом, окна закрыты тяжелым темным, винным бархатом – все в лучших традициях. В середине под ярким светом большой круглой лампы громоздилось гинекологическое кресло.
– Прошу, – что-то коснулось его плеч, запахло латексом. В комнату вошла вторая женщина. Эта была тонкая и сухая, с крашеными волосами, похожими на черную солому.
– Диана. Чего стоишь? Располагайся, – она поправила перчатку.
– Девчонки, мне это…
Они обе смотрели на него с плохо изображаемым интересом.
– Глаз надо вытащить.
Их лица вытянулись, в них впервые проскользнуло что-то живое, вполне человеческое.
Это был своего рода триумф.
– Где глаз, а где писька, мужик, ты соображаешь? – кричала Марьяна спустя пять минут благим матом.
Олег стоял насмерть, в прямом смысле слова, прижав к горлу все тот же нож, который так и носил в кармане.
– Я заплачу, ты не волнуйся. Я отсюда не уйду.
– Вот козел! – возмущалась Марьяна. – Мудила! Сразу не сказать было?
– Не можете сами, давайте того, кто может, – процедил Олег. – Я не уйду. Хотите с трупом разбираться?
– Психованный, – выплюнула Марьяна. – Хоть справки с них требуй. Гемора больше, чем навара.
– Самому яиц не хватает? – поддела Диана. – Может, тебе пришить?
– Да давай вынем, – обернулась она к товарке. – Один хер.
– Сама и вынимай, – огрызнулась Марьяна. – Это же натурально подстава!
– Да посмотри на него, «подстава», – передразнила Диана спокойно и зло. – Цирк с конями.
Она посмотрела на Олега с какой-то почти что жалостливой брезгливостью, как смотрела мать на животных, запертых в тесных клетках зоопарка.
Олег подумал, что она, должно быть, старше, чем кажется. И он, и Диана понимали, что разыгрывают сейчас дешевый и унизительный спектакль. Обоим было ясно, что Олег совершенно загнан в угол, раз ему приходится соглашаться на такую роль. Он опустил нож и устало сказал:
– Я не псих. Я просто человек, который попал в беду.
И все они вдруг успокоились, в комнате стало тихо. Марьяна тяжело вздохнула, посмотрела на Диану, как смотрят друг на друга женщины, когда без слов обмениваются информацией, безошибочно улавливая суть сообщения – есть у них такая телепатическая связь. Диана дернула бровью, вышла, вскоре вернулась, протянула какой-то листок с латинскими буквами.
– Что за шифр?
– Это «Телеграм», дурачина, – устало сказала Диана, и было видно, как все это ей смертельно надоело. – И пароль. Напишешь в начале сообщения.
– С тебя двойная такса, по-любому, – перебила Марьяна.
О даркнете Олег слышал смутно, краем уха. Он знал, что там вроде бы можно найти все что угодно, но времени искать, связываться, рисковать попросту не было. Он напрягся и вспомнил офисную историю, над которой они как-то ржали дружно и весело за полчаса до конца рабочего дня, когда незавершенных срочных дел не оказалось, а новые начинать смысла не было. Стояла весна, все изнывали в предвкушении долгих выходных, были в приподнятом настроении и заказали пиццу.
– Эй, мужики, яйца никому не мешают? – спросил Вадик, разглядывая что-то в мониторе.
– А что, кто-то покупает? – поддержал кто-то шутку.
– Не, тут ты еще и сам приплатишь. Госпоже Марьяне, – присвистнул Вадик.
Под заказанную пиццу долго обсуждали баб, которые кастрируют и унижают желающих мужиков, и мужиков, которые к этим бабам ходят.
– Платить, чтобы тебе по яйцам надавали? Вот это я понимаю – изврат.
– Ты, Феденька, еще не дорос, – ласково сказал Олег. Феденька был детиной – косая сажень в плечах – и мог бы играть богатыря. – Это для искушенных.
Все заржали, видимо, представив Феденьку в роли раба. Чего Олег даже представить не мог, так это что скоро сам окажется у госпожи Марьяны.
Найти статью оказалось делом несложным, и госпожа Марьяна, почуяв запах хорошего навара, была сговорчива, как рабыня.
Олега передернуло. Он трясся в вагоне пригородной электрички под лязг колес. За мутными стеклами ползли унылые ноябрьские пейзажи. Все было какое-то грязное, серо-коричневое. «Как в дерьме», – подумалось ему. Хотелось отмыться от этой унизительной сцены, от своей нынешней жизни и себя самого.
Олег ехал по полученному адресу, плохо представляя, кто его встретит. Но действия, даже такие взбалмошные, возможно не самые умные, были лучше бездействия, придавали хоть какой-то, возможно иллюзорный, смысл этим тягучим дням, заполненным ожиданием и чувством вины. А дни утекали, беспощадно быстро, безрезультатно.
Звонил следователь. Кто-то из прохожих в тот день видел женщину в зеленом пальто, с двумя детьми. Все. Сколько теток в городе носят такие серо-зеленые пуховики?
Олег вышел на перрон в полном одиночестве, быстро отыскал нужную дорогу в маленький коттеджный поселок. Дома поселка были обнесены глухими заборами, сквозь резные калитки просматривались лужайки, неопрятно покрытые опавшими листьями. Сюда не доносилось никаких звуков, кроме стихающего перестука колес и редкого лая невидимых собак.
Нужный дом ничем не отличался от прочих: высокий забор, дверь вместо калитки.
– Слушаю? – как-то вопросительно произнес низкий голос.
– Актеон, – повторил Олег по уговору. – Курьерская доставка.
Домофон запищал, разрешая войти. Чисто выметенная мощенная серой плиткой дорожка вела к крыльцу аккуратного дома. Олег с удивлением увидел на участке ровные ряды теплиц, заботливо укрытые грядки, клумбы, присыпанные еловой хвоей. По столбикам крыльца поднимался сухой вьюнок, на дощатом полу лежал секатор.
Олег ожидал увидеть едва ли не мясника из фильмов, лысого гномоподобного мужика в сомнительных наколках и в резиновом фартуке. Но высокий худощавый мужчина с аккуратной бородой, с русыми с проседью волосами был скорее похож на моряка, бравого капитана, какими их изображают в приключенческих книжках.
– Игорь, – представился он, быстро оглядывая Олега с головы до ног. – Свое имя можешь не говорить, если не хочешь. Но как-то все-таки хотелось бы к тебе обращаться. Вон, тапки надень, – сказал он совсем по-домашнему, точно Олег пришел чай пить.
– Дэн, – Олег не стал изощряться. Влез в клетчатые тапки такого гигантского размера, что снова ощутил себя как в детстве, приезжая к дедушке с бабушкой. Разношенные дедовы тапки соскакивали с ног, но ходить босиком не разрешалось. По мнению матери, это сразу же означало простуженные почки, пневмонию и почему-то глистов.
– Проходи, не стесняйся.
Игорь буднично и просто провел его внутрь, куда-то направо, затем по лестнице, вниз, в подвал. Распахнул дверь. Здесь было прохладно, очень чисто, стояли железные шкафчики, стол, медицинская кушетка.
– Присаживайся, Дэн.
– Прямо здесь?
– А где? А, ты об этом, – Игорь улыбнулся, улыбка у него была приятная, не приклеенная, как это бывает у людей, оказывающих другим услуги. – Не беги вперед паровоза.
Игорь открыл шкафчик, достал какие-то коробочки.
– Давление, температура, давай-ка под мышку. Сейчас заполним небольшую анкету. Ничего личного, – к удивлению Олега, Игорь достал стопку бумаги, расчерченной явно вручную, и принялся задавать простые понятные вопросы, какие обычно задают врачи. Заболевания, аллергия, операции, наследственность.
– Тебя хоть в космос, – подытожил Игорь, разглядывая его исподтишка, но с явным любопытством. – Пошли, если не передумал.
– За это можете не беспокоиться.
Игорь почему-то покачал головой, отодвинул занавеску. За ней оказалась дверь, за дверью – еще одна комната, холодная, с гладкими белыми стенами, операционным столом, большой круглой лампой, ящиками, полками, железным многоэтажным столиком вроде того, что был у Дианы.
– Прошу. Пора переодеваться.
Олег влез в прихваченные из дома старую футболку и треники. Игорь облачился в белый халат, шапочку, и сразу превратился из капитана во врача.
– Устраивайся.
Олег послушно забрался на стол. Ему никогда не приходилось бывать в операционных. Вопреки всем маминым опасениям и паранойе, здоровьем Олег отличался крепким – вот уж точно ей назло. Он лег на спину, и его ослепил пронзительный белый свет, усиленный отражающим покрытием. Теперь он только слышал: вкрадчивое шуршание целлофана, металлический звон, сухой треск вскрываемых ампул. Игорь коснулся его руки, стянул крепко. Олег дернулся.
– Ну ты чего, зафиксирую тебя, не бойся. Чтобы ты не помешал во время процесса.
– Извините. Я это… – Олег не договорил.
– Да не извиняйся. Но взялся за гуж – не говори, что не дюж, – Игорь подмигнул, и Олег улыбнулся этой внезапно всплывшей поговорке. – Могу музыку включить.
– Спасибо, не надо.
Олег смотрел строго на лампу, словно пользуясь возможностью впитать это сияние обоими глазами. Все тонуло в неприветливом голубоватом свете, и Олег старался ни о чем не думать, даже радуясь, что уснет, даст мозгу краткосрочный, но отдых.
– А я скоро проснусь?
– Проснешься? Да ты и не уснешь, такое под местным наркозом делают. Но это только звучит страшно, чувствовать ничего не будешь, гарантирую. Да и переносится легче.
Олег задержал дыхание, ощущая, как кожа впускает в себя иглу.
– Сейчас погодим маленько, потом второй сделаем. В глаз. И начнем.
Он шуршал чем-то, Олег слышал, как гулко и громко бьется сердце. В глаз.
– Я под общим не делаю, – продолжил Игорь, фиксируя ноги. – Небось, думаешь, что попал к бандиту? – Олег не видел, но почувствовал, что Игорь усмехнулся. Что-то зашуршало, с коротким звоном шлепнулось в ведро. – Почти так и есть. Я был обычным хирургом. Говорили, хорошим. Оперировал. Хотел людей спасать.
Запахло сладко и резко, Игорь склонился над Олегом, оттянул нижнее веко, рассматривая глаз. Что-то звякнуло, холодно и зло.
– Девчонка умерла на столе. Очень молодая. Жить и жить, все впереди, но аппендицит упустили. В общем, такое дело. Никто меня не винил, даже косо не смотрел, но я на себя смотреть не мог. Смотрел на пациента, а видел ту девчонку. Ну, здравствуйте, чего глаза-то закрыл?
Олег очнулся. Усталость навалилась, как песочная гора, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он сморгнул от холодной капли, упавшей в глаз, и в мути успел увидеть отблеск металла.
– Смотри прямо, не дергайся.
Игла вошла под веко легко. На секунду показалось, что он ощущает, как бесконечно длинное острие ворочается прямо под глазным яблоком, проникая все глубже. В затылке заломило, он инстинктивно заскреб пальцами по тонкой ткани одноразовой простыни, запоздало понимая, что почти не чувствует никакой боли – только страх.
– Я же говорил, что не офтальмолог.
– Мне не важно.
– Вроде нормально прошло. – Игорь широко растянул веки, пристраивая что-то между ними, и Олег подумал, что все уже началось, но Игорь исчез из поля зрения, и теперь глаз, не в силах закрыться, тонул в льющемся в него, как в колодец, свете.
– Выключу.
– Оставьте, – предельно суженный зрачок вбирал этот кристальный, чистый концентрат. Олег смотрел, словно заранее хотел ослепнуть.
– Воля твоя. Ждем. В общем, начал я пить. Нехорошо пить, запойно. А для хирурга в начале карьеры это означает ее же конец, сам понимаешь. Хотя чего я тебе все эти ужасы рассказываю. Ты не бойся, я уже десять лет чист. И не бандит.
– Мне не важно, – повторил Олег. Во рту было сухо, лицо начинало неметь, и тело тяжелело. – Я вам доверяю.
– Ишь какой, – Олегу показалось, что Игорь польщен этим неуклюжим комплиментом.
– Ну, в общем, история, сердцу знакомая. Все быстрее на дно. Попросили меня из хирургии, но жрать тоже было надо, пристроили в морг по доброй памяти. Ты вот какого года?
– Восемьдесят третьего.
– Значит, разгул девяностых смутно помнишь, а я вот застал. Расцвет империи. Работы в морге хватало. И там встретил Витька. Это мой однокурсник. На все плюнул после первого года и ушел по кривой дорожке. Как выяснилось, его она вывела куда-то на самые верха. Теперь он звался не Витьком, а Крепким, но я его узнал, он меня тоже. Кого-то там из банды подстрелили, они хотели его со всеми почестями хоронить. Ну, слово за слово. Стал я кем-то типа подпольно-полевого хирурга. В Витьке жизнь кипела всегда, южная кровь, ему всегда надо было в гуще вариться, и он и варился. А я его латал и его друзей, и подружек они своих приводили. Там с Дианкой, кстати, и познакомились. Она в неприятную историю попала. Парня потом Витек с друзьями в лес куда-то увез, а ребенка она почему-то решила оставить. Теперь, наверное, мстит мужикам. Хотя баба она неплохая.
Когда она мне написала, я сначала отказаться хотел от тебя. А потом передумал. Публика остепенилась, повзрослела, практики нет. А случай интересный. Ко мне, знаешь ли, обычно приходили с просьбой что-то вставить и пришить оторванное, а тут вынуть. Да еще глаз. И глаз хороший, чем тебе мешает? Не скажешь, конечно?
– Простите, не могу.
– Да я не лезу. Я за эти годы всякого повидал и наслушался. Жизнь такая штука, в ней все бывает.
Олегу вдруг сжало горло и нестерпимо захотелось рассказать Игорю обо всем. О сыне, Маринке, домике. Поделиться хоть с кем-то. Почему-то казалось, что Игорь поверит, поймет, найдет простые нужные слова. Но все же сдержался: один неверный шаг, и все может быть потеряно.
– Я не психопат, – только зачем-то сказал Олег.
– Знаю, – просто откликнулся Игорь. – Ну как? Действует анестезия? Чувствуешь?
Игорь ткнул куда-то, но Олег не понял, не ощутил ничего.
– Да.
– Тогда начнем.
– А вы не могли бы подробно описывать все, что делаете? Мне так спокойнее, – попросил Олег.
– Понимаю. Расскажу.
Олег пытался сосредоточиться на словах, не обращая внимания на ощущения, противные звуки, бряцанье металла, какое-то чавканье, но мысли уплывали, и Олег плыл вместе с ними, почему-то думая о ребенке Дианы: мальчик или девочка? И вслед за ней – о Мишке. И все могло бы, и должно было казаться сном, но все стало наоборот. Прошлая жизнь обернулась приятной фантазией, которую он сам себе выдумал, далеким берегом, от которого он уплывал в сияющих волнах, закрывая левый глаз.
Настоящее было реально, сконцентрировано в каждой секунде, ослепительной и быстрой. Он ощущал и влажную от пота шею, и тонкую синтетику простыни, и прохладный воздух в комнате, и легкий медикаментозный запах, и видел волоски на руках Игоря там, где заканчивалась перчатка, и кончики острых палочек и крючочков расплывались, приближаясь, и не причиняли боли. Олег лишь чуть морщился от действий, которых не ощущал, а только представлял, слушая голос Игоря.
Там, в рюкзаке, крутился диктофон, который Олег купил по пути сюда. Работа с финансами научила его хоть что-то просчитывать наперед. И тому, что никогда, никто и нигде не может подготовиться к катастрофе. Выставляй дозоры, смотри в бинокль, но трагедию всегда встречаешь безоружным.
– Не спать, не спать, – говорил Игорь, склоняясь над ним. – Сейчас поддену.
Послышался странный звук, скрип, влажное хлюпанье, что-то зашевелилось, отделяясь от тела навсегда, и свет справа перестал слепить, стало темно и черно. Скосив левый глаз, Олег увидел какие-то тонкие красные ниточки и почти с блаженством подумал: «Ну вот и все».
Когда дело было кончено, Олег осторожно сел, свесил ноги, завертел головой, как птица.
– Будет отпускать, начнет болеть. Я тебе напишу, что взять в аптеке, по возможности покажись нормальному врачу. Отдыхай сегодня, никуда не бегай. Голова будет болеть, это все нормально, – Игорь объяснял, одновременно записывая что-то, повернувшись спиной. – С протезом не тяни.
– Спасибо, – тихо поблагодарил Олег, разглядывая столик, где были разложены ампулы и коробки, в лотке лежали влажные красные комки ваты и марли, и рядом в баночке с крышкой, словно муляж, плавал в какой-то жидкости Олегов правый глаз, таращился пусто и бессмысленно.
– Хорош сувенирчик? – Игорь постучал по банке, протянул какой-то листок с перечнем названий, сложенных из длинных цепочек букв.
– А можно мне воды? – попросил Олег.
– Так пойдем. Наверху посидишь, там попьешь.
Эти слова почему-то отдались болью в зияющей дыре справа. Олег машинально поднес к ней пальцы, и те нащупали только шероховатость повязки.
– Я бы лучше здесь, если можно. Очень пить хочется.
– Ладно. Посиди.
Олег дождался, пока захлопнется та, вторая дверь, соскочил на пол, пол пошатнулся, к горлу подкатила тошнота, но ждать, пока пройдет приступ, было некогда.
Олег схватил рюкзак, метнулся к столику и, не глядя, стал кидать в него упаковки, ампулы, выхватил из кюветы крючки, зажимы, железки в подсыхающих бурых пятнах с какими-то склизкими ошметками, глаз в банке.
Игорь оставил все совершенно свободно. Наверное, его посетители не имели тяги к воровству инвентаря: это было западло. Не дожидаясь, пока Игорь вернется, Олег погасил свет, кинулся к железной двери и на лестницу. Он выскочил в коридор. В затылке билась тупая боль, сердце колотилось громко и рвано, и Олег подумал, что вышедший из кухни Игорь со стаканом воды в руке услышит и все сразу же поймет.
– Зачем вскочил? – только сердито сказал он. – Вот вода.
– Спасибо, – Олег осушил стакан залпом. – Извините, я тороплюсь.
– Да погоди, давай такси вызовем.
– Все в порядке, – Олег, заставляя себя дышать медленно и ровно, нарочито спокойно стал одеваться. – Я нормально себя чувствую.
Игорь покачал головой.
– Сувенир-то не забыл?
– Взял, конечно. Скажите, – Олег споткнулся, сомневаясь, стоит ли озвучивать вопрос. – А вы могли бы сделать то же самое еще для одного человека?
– В смысле? – Игорь спросил спокойно, но лицо его изменилось.
– Поехать в одно место и сделать то же самое.
– Нет, парень. Не дури, – голос Игоря стал жестким. – Все только здесь. Конфиденциально. Строго добровольно.
– Я просто. На всякий случай.
– Ты что задумал? – оборвал Игорь с неприязнью, вся приветливость исчезла, словно в замке повернули ключик.
– Я понял. Извините.
Хотелось попрощаться с Игорем по-человечески, отчего-то это казалось очень важным.
– Большое вам спасибо, – искренне поблагодарил Олег, протянул руку, и что-то внутри рюкзака нехорошо брякнуло, но Игорь, к счастью, не заметил. Холодно и быстро пожал протянутую ладонь, и выражение настороженности так и осталось на его приятном лице.
Выйдя за ворота, Олег почти побежал. Им овладел какой-то дурной липкий страх, казалось, как только Игорь заметит пропажу, то бросится за ним, позвонит кому-нибудь из влиятельных друзей, и те кинутся в погоню, выследят его, как охотники добычу. Зря он спросил все это на прощание, да еще так прямо. Мысли путались, на месте глаза зудело едва ощутимо, но явно обещая разойтись во всю силу в ближайшие часы, хотелось пить, и одновременно подкатывала тошнота. Воздух, казавшийся свежим, превратился в морозный. Пару раз Олег споткнулся, оборачиваясь, а когда за спиной вдруг послышалось урчание мотора, почти прыгнул в придорожную канаву. Тут же угодил по щиколотку в какую-то ледяную жижу, но, как зверь, бросился напролом в кусты, где, прижавшись к холодному стволу дерева, наконец согнулся в рвотном спазме, извергая выпитую воду с привкусом горечи.
Но машина, серебристый седан, спокойно проехала мимо и скрылась из виду. Олег некоторое время пробирался по редкому перелеску, потом вылез на пустую дорогу. Левый ботинок был покрыт грязью, между пальцами, просачиваясь сквозь носок, мерзко хлюпала вода.
В электричке, трясясь от холода и уходящего из тела адреналина, он пересчитал деньги. Игорь принимал задаток переводом, а остаток – наличными, и сумма на балансе была так ничтожна, что Олег перед приездом сюда снял все, чему теперь даже порадовался.
От станции до дома он вызвал такси. Поджидавший водитель смерил его неодобрительным взглядом, но быстро совладал с собой, включил радио, равнодушно уточнил адрес.
В зеркальце заднего вида Олег увидел свое белое бескровное лицо с квадратиком повязки на глазу. Волосы неопрятно прилипли ко лбу, из капюшона торчала ветка с сухим листком.
– Сделаем по пути крюк, – велел Олег. Затем крепко прижал к себе рюкзак со всеми своими сокровищами и, закрыв глаз, откинулся на сиденье.
Стоя над булькающей кастрюлей, извергающей пар, Олег кипятил инструменты. Вернувшись домой, он нарочито громко хлопал дверями, шумел и кашлял, чтобы Маринка успела укрыться в своем убежище, но, видимо, она его и не покидала. Из-за закрытой двери пробивался электрический свет и доносилась привязчивая рекламная песенка.
Олег принял душ, обезболивающее, немного поел и почувствовал себя лучше.
Он вытряхнул из рюкзака свою добычу. Бережно обернув бумажным полотенцем банку с сувениром, сунул ее во внутренний карман куртки, остальное, сдернув скатерть, разложил на столе. Достал стремянку, слазал на антресоли. Прорывшись через нагромождение вещей (санки, лыжные ботинки, туристические рюкзаки, ласты, маска, какие-то черепки, обрывки обоев, шахматы), извлек небольшую коричневую коробку. Здесь хранились конспекты и инструменты, оставшиеся с недолгой ветеринарной практики. На последних курсах он не раз вызывался ассистировать на операциях.
Кровь, влажный блеск внутренностей не вызывали ни ужаса, ни омерзения, в отличие от шерсти, сладковато-удушливого густого жирного запаха животных выделений, страха, который безошибочно ощущался животными как запах смерти. Они притихали задолго до того, как игла впивалась в кожу, скулили, издавали низкие утробные звуки.
Олег рассматривал инструменты, заставляя себя вспоминать название и назначение каждого. Ампулы, таблетки, марля, вата, перекись, кабельные стяжки, зажимы, крючки, нитки, перчатки, пинцет, скотч, шприцы, спирт, салфетки, пеленки и прочие предметы ожидали его, как маленькая армия, готовая к игре в госпиталь.
Раньше Олег думал, что «Ютуб» годится только для бездумного пролистывания роликов в ожидании обеденного перерыва, конца рабочего дня или Маринки из душа, но оказалось, что там можно найти буквально все, включая подробный процесс энуклеации глазного яблока.
– Вот как это называется, – бормотал он, почти завороженно разглядывая копошения рук и инструментов в кровавой каше. Запись в диктофоне, получившаяся вполне удачно, обретала зримость, и Олег, поставив на повтор, смотрел ее до тех пор, пока не запомнил все действия точно, до доли минуты. Он изучал записи и разобрался почти со всеми ампулами и упаковками, кроме двух. Их он отложил в сторону, а все нужное он расположил на подносе, вскипятил воду.
Сложнее всего было представить, что это не Марина. Он никак не мог заменить ее в воображении ни на животное, ни на какого-то абстрактного человека, которому он – абстрактный врач – должен провести операцию.
Если что-то пойдет не так, она может умереть, здесь, на кровати, где когда-то был зачат Мишка. И думать об этом, как о чем-то абстрактном, было невозможно, потому что он знал эту женщину, и эта женщина была ему ближе любой другой, и нужно было вернуть этой женщине ребенка, потому что других у нее, вероятно, уже не будет. О последнем они узнали вскоре после родов, и в первое время Олег не мог взять в толк, почему Маринка так долго плакала. Сам он о большой семье не мечтал и отнесся к известию спокойно, но жена переживала его долго, и как-то совершенно случайно из ненароком подслушанного разговора с подругой он с удивлением услышал, как Маринка назвала себя бракованной, словно могла быть испорчена, как негодная техника.
– Ты бы поняла меня, – сказал он сам себе, прислушиваясь под дверью. Заставка из телешоу давно отыграла, было за полночь, но телевизор не умолкал, а полоска света из-под двери ярче обозначилась в темноте.
Ты бы поняла меня, если бы была в домике. Если бы видела розовый, живой язык, шевелящийся на неподвижном пластмассовом лице, как маленькое насекомое.
Олег повернул ручку, потянул дверь на себя и вдруг подумал, что, даже если жена не спит, то сделает вид, будто его нет, будто в комнате она одна. И Олег наверняка мог бы войти, мог бы сесть и даже лечь рядом, а она бы не шевельнулась, уставившись в телевизор и ничего там не видя.
Он вдруг разозлился, и злость придала ему сил. Дверь поддалась легко, Олег вошел. Марина лежала на неубранной кровати и, кажется, действительно непритворно спала. В комнате было душно, стоял затхлый запах нестираных вещей, пота, хотелось распахнуть окна и выбежать вон, но спящая женщина с некрасивым опухшим лицом, утопленным в подушке, в заношенном домашнем костюме с расплывшимся коричневым пятном на коленке не показалась ему чужой, на что Олег втайне надеялся.
Он подошел и, перед тем как начать, некоторое время разглядывал ее, но это было лишнее: с каждым мгновением, с каждым вздохом решимость слабела, и медлить было нельзя.
Начал с рук, зафиксировать их сразу – самое разумное. Он действовал осторожно, мягко, насколько возможно, хоть и думал, что предосторожности излишни и Маринка проснется сразу, но жена спала глубоко, на самом дне сонного колодца, только что-то промычала, неразборчиво и жалобно. Очнулась она, когда Олег заканчивал со второй рукой. Слабо дернулась, еще не понимая, что происходит, и Олег поспешил воспользоваться моментом, затянул стяжку резко и сильно, слишком быстро. Внезапная боль окончательно выдернула Маринку из сна, и Олег навалился на нее всем телом, вжимая в кровать, нашаривая рукой заготовленный скотч.
– Что ты делаешь? Олег! – К счастью, еще не понимая, что происходит, Маринка не кричала, только бестолково дергалась, извиваясь под ним, пытаясь сбросить, но какие шансы у женщины, застигнутой спросонья, с привязанными к решетке кровати руками? А ведь сама такую выбрала, беленькую, с какими-то завитушками. Маринка рычала, крутила головой, попыталась укусить его, задрыгала ногами.
Но он заклеил Маринке рот, и теперь, в домашнем костюмчике, с привязанными к спинке руками, она стала похожа на жертву маньяка из кинофильмов категории «дно».
Не глядя на нее, не давая воли эмоциям, Олег принялся фиксировать ноги. Маринка пару раз заехала ему коленом в бок, случайно – вот почему женщин так легко обезвредить: в борьбе они все время расходуют ресурс на лишние движения, бьют плашмя, не целясь и не глядя, точно исход схватки решает чистая удача.
Ее мычание перешло в глухой, подавленный крик, Олег увеличил громкость телевизора.
В глазах Маринки, превратившихся в два мутных зеленоватых озера, был только первобытный животный ужас. Она поняла, что ее ждет что-то страшное, и неизвестность увеличивала ее страх, делая его непомерным.
Олег склонился на ней, отвел волосы со лба. Настало время запрещенного приема.
– Тише, солнце, – мягко попросил он. – Это я, Олег.
Ее взгляд был пустым и слепым, и Олег на минуту засомневался, понимает ли она вообще его слова.
– Скажи, ты хочешь, чтобы Мишка вернулся?
Маринка дернулась всем телом, глаза ее расширились, и взгляд остановился. Она, видимо, только сейчас заметила повязку Олега.
– Ты. Хочешь. Чтобы. Миша. Вернулся? – делая ударение на каждом слове, повторил Олег.
Маринка неистово затрясла головой.
– Тогда все зависит от тебя, – Олег старался говорить спокойно и тихо, с паузами, донося значение каждого слова. – Если ты будешь вести себя спокойно, я верну нашего сына. Обещаю. Но для этого я должен забрать твой глаз.
Он помолчал, давая ей возможность осмыслить услышанное. Она дышала часто и мелко. А потом завыла сквозь скотч, зажмурилась, дергаясь всем телом. Олег подождал, пока она не утихнет, не поймет, что попытки бессмысленны, и продолжил:
– Я постараюсь сделать все быстро и аккуратно. Но все зависит от тебя. Мишкина жизнь сейчас зависит от тебя, – нажал он. – Понимаешь?
В глазах жены он увидел отражение собственного безумия. Что, если все это – его галлюциногенный бред? Если разум его вдруг дал сбой, не было никакого домика, он сам украл сына, изувечил, где-то спрятал и сейчас изувечит жену?
Олег резко выпрямился. Думать об этом нельзя, отступать поздно.
– Ты бы отдала глаз ради Мишки?
Маринка закивала – слишком поспешно, наверное, вспомнила о том, что психопатов нельзя раздражать, нельзя с ними спорить.
– Давай начнем.
И она замерла, как-то вжалась в матрас, тело ее хотело скрючиться, и Маринка стала похожа на всех тех зверей, больших и маленьких, которые, оказываясь на столе, так же сжимались в комочки, затихали, надеясь, что так люди в халатах, олицетворение смерти, пройдут мимо, не заметят, а если тронут, то быстро и не больно.
Дожидаясь действия анестезии, Олег отвернулся к окну, смотрел на пустую темную улицу, ловя в стекле плавающий контур своего лица. Игорь мог заполнить ожидание спокойным голосом, рассказом, уверенностью, что все кончится хорошо, что он точно знает, как и что делать. Старт и финиш были обозначены ясно. Но Олег не мог ни сказать правды, ни успокоить, и сейчас не был в состоянии придумать что-то, что оправдало бы все это безумие. И тем более он не был способен увидеть ни маршрут, ни конец истории, только бежал эту дистанцию в буром тумане.
Рассеянно разглядывая искаженные контуры предметов в стекле, он думал о том, что мог бы взять Маринку туда, в домик. Но это означало бы терять время, а терять время означало терять сына. С каждым днем он все дальше и дальше. Что сын уже, возможно, потерян, Олег не думал, запретил себе. И потом, женщину ничего не стоит застать врасплох, наброситься, спеленать, но предугадать ее реакцию невозможно. Что подумала бы, что сказала Марина, увидев Хозяина, и что такое этот Хозяин? Олег был почему-то рад, что это звериное мохнатое существо, пришедшее неизвестно откуда и уходящее неизвестно куда, не видело Марину. Лучше уж так. Пусть вся ответственность будет на нем. Он за это ответит.
Он вдруг понял, что говорит вслух – интересно, как давно? За спиной тихо всхлипывали – жена попыталась сдержать слезы, когда Олег снова подошел к кровати, но они лились из нее, катились по щекам на наволочку, впитывались, уходили в мятую ткань, как в землю. Маринкин нос покраснел и распух, она тряслась. Олег вытер ей лицо полотенцем, подавляя спазм в горле.
– Я быстро, – пообещал он. – Это для Миши.
Олег понимал, что, возможно, уже не вернется, а значит, нельзя было оставлять жену привязанной.
– Прости меня, если сможешь, – попросил Олег, поправляя повязку. – Возможно, мы больше не увидимся.
Маринка безучастно молчала. С какого-то момента тело ее обмякло, расслабилось, она не сопротивлялась, будто разом потеряв ко всему интерес, только машинально смаргивала слезы.
– Знаю, в это трудно поверить, но я тебя очень люблю. И Мишку тоже. И я его верну.
Маринка отвернула голову. Олег перерезал стяжку, рука жены опала плетью, и она даже не сделала попытки пошевелить пальцами. Олег перерезал вторую, освободил ноги. Укутал Маринку одеялом, ему хотелось поцеловать ее, убаюкать, посидеть рядом, дожидаясь врачей, но он понимал, что этого не будет, здесь они расстаются навсегда. Олег только несмело погладил ее руку.
В прихожей он набрал номер скорой с Маринкиного телефона, оделся, проверил карманы: два сувенира, медведь.
Раньше он все время удивлялся пожарным, спасателям, врачам, их хладнокровию и спокойствию, уверенности. Присутствуя на операциях, он невольно вздрагивал сам, морщился от запахов, иногда трусил, порой скучал. Но, стоя над Мариной, Олег ощущал только пустоту, его словно высосали и вычистили. Внутри было стерильно, как в операционной, все по полочкам, всегда бы так.
– Я иду, сына. Все будет хорошо, и только так, – сказал Олег себе на прощание, и все эти полочки вдруг обрушились – ему даже послышался звон разбитого стекла – все посыпалось, распалось, покатилось по углам. Олег вцепился в дверную ручку, его оглушила мысль о зубе.
Выбить его на месте, прямо там? Сейчас, в ванной, до приезда скорой? Ловить на улице кошку? Времени не было, и Олегу на секунду показалось, что он задыхается, но память вдруг подкинула воспоминание, как бросают спасательный круг.
Зуб хранился в коробке из-под леденцов как трофей, как напоминание о Мишкином мужестве и выдержке, о дне, когда он был героем и не расхныкался. Молодец, сына! Олег бросился в детскую. К счастью, круглая жестянка была на месте. Олег снял крышку и чуть не заплакал от облегчения, увидев маленький желтоватый клык.
Он бежал из одного двора во двор, как бежит убийца с места преступления. Пересекая улицу, оглянулся. Следить за ним было некому, но Олегу все казалось, что следят, и он держался темных мест, обходя редкие неровные прямоугольники света из квартир. На бегу он прощупывал карманы – на месте ли? Все было на месте. Где-то далеко, словно в другой вселенной, шумели машины, летел снег, жили, ели, спали, рождались и умирали люди, пока он, Олег, с каждым шагом проваливался в какую-то параллельную реальность.
– Не подведи, хозяин, – сказал сам себе Олег, устраиваясь в домике.
Когда в нос ударил густой резкий запах, Олег так обрадовался, что едва не вскочил навстречу, но тело опять словно парализовало.
Он услышал знакомое постукивание пластика, и вслед за ним тяжелое сопение, ощутил привычный, наполняющий пространство жар.
– Ты пришел! – зазвенел в темноте знакомый голос. – Ты принес?
– Да, – Олег поспешно вытащил все из карманов. Медведя, банки с глазами, завернутый в бумажку зуб.
– Открой! Разверни! Вынимай! Отдай! – пупс выкрикивал приказания по-пионерски отрывисто, четко и задорно.
В темноте Олег не сразу справился с крышками, в ладонь упали скользкие упругие шарики. Олега передернуло, он уронил их в горячую темноту.
– А ключи ты взял?
Олег растерялся.
– Ключи? Дом, ключи?
– Да, – растерянно сказал Олег, машинально нащупывая их в кармане. Дверь он оставил открытой для бригады врачей, но ключи лежали в кармане.
– Оставь. Зуб! Один! – почти разочарованно отозвался писклявый голос, когда Олег протянул в темноту Мишкин зуб. Олегу захотелось схватить эту куклу, лупить ее головой о стенку до тех пор, пока пластик не треснет. Тепло переходило в жар, что-то двигалось наискосок от Олега, который наконец впервые осмелился, затаив дыхание, поднять взгляд, но увидел над собой только две маленькие точки. Они слабо светились, словно готовые потухнуть угольки.
– Не смотри! Потом! – одернул голос, и Олег послушно отвернулся, уставился на темный снег.
– Долго! – пропищал пупс, и Олег не сразу понял, к чему это относилось. – Но еще успеешь. Беги!
Первым на снег выскочило что-то маленькое, в мягких очертаниях круглых ушей и непропорционально большой головы Олег узнал Мишкиного медведя.
– Ну что! Беги! Беги! Можно!
Его словно вышвырнуло из домика и повлекло вслед за медведем. Тот бежал, чуть подпрыгивая, неуклюжие мягкие лапы не оставляли следов на снегу и несли его легко и быстро. И Олег бежал за ним, смертельно боясь упустить из виду, но внутри, через пупок, словно протянули нить, и она тащила его по темным дворам и улицам, освещаемым грязноватым оранжевым светом качающихся на ветру фонарей.
Несколько раз Олегу показалось, что он уловил какое-то движение, на самой периферии зрения шевелились смутно различимые фигуры.
– Ни хера ж себе, – сказал кто-то, пытаясь преградить им путь, но медведь подпрыгнул неожиданно высоко, и фигура с воплем шарахнулась в сторону.
Они спешили, медведь и Олег, им было некогда, они пересекали дороги, бежали через дворы, перебирались через какие-то заборы, в лицо летел колючий снег, Олег потерял счет времени, он забыл себя, Игоря и Маринку и помнил только Мишку, его лицо.
Их путь окончился у тусклого серого дома. Где он находился, Олег не имел представления, но раньше здесь не бывал. Он озирался по сторонам, словно внезапно пришел в себя после долгого обморока. Место было тихое, глухое, через дорогу тянулись ряды гаражей, поднималась насыпь железки. Олег толкнул старую дверь подъезда, та поддалась, они побежали по ступеням на самый верх, остановились перед черной дверью, единственной на этаже. Олег дернул круглую ручку – безрезультатно.
Не раздумывая, он надавил кнопку звонка. Тело напряглось в ожидании возможной схватки. Пальцы стиснули нож, который лежал в кармане со времени первой встречи с хозяином.
Что-то дергало его за штанину, Олег опустил глаза и задохнулся. На него смотрели глаза: его, карий, правый, и Маринин, зеленый, левый. На плюшевой мордочке медведя, некогда глуповатой и дружелюбной, они стали похожи на две блестящие крепко пришитые пуговицы. Медведь бешено вращал карим глазом, точно ощупывая им все вокруг, а зеленым уставился на Олега так пронзительно, словно пытался разглядеть Олега изнутри.
Олег перевел дыхание, свыкаясь с этим зрелищем, но медведь вдруг подпрыгнул, пытаясь дотянуться до кармана.
– Что ты хочешь? Нож?
Медведь неопределенно качнулся из стороны в сторону и махнул лапой на дверь. Олег вспомнил странный вопрос пупса.
– Ключи?
Медведь подпрыгнул, крутанулся и раскрыл пасть, ощеренную двумя рядами великолепных острых зубов.
Олег бросил всю связку медведю в пасть, которая казалась бездонной, словно дыра в другой мир. Медведь задумчиво подергал черным носом и быстро-быстро заработал челюстями, что-то омерзительно хрустело, потом плюшевый мягкий живот растянулся, пошел буграми, и медведь срыгнул на пол маленький ключ, серебристый и блестящий.
Олег вставил его в скважину, и тот подошел идеально, скользнул на место легко, как новенький, дверь открылась бесшумно; Олег набрал воздуха, будто собирался прыгнуть с вышки, и вошел в квартиру.
То, что она была пуста, Олег понял как-то сразу по спертому воздуху, затхлому пыльному запаху покинутых помещений. Из прихожей, где в углу стояла железная вешалка с наброшенной на нее старой растянутой кофтой, виднелся голый стол на кухне и одинокая табуретка.
Короткий коридор расходился на три двери, покрытые облупившейся краской. Медведь запрыгал к правой.
– Миша! Мишка! – закричал Олег.
– Папа? – Олегу показалось, что он сам выдумал этот отклик, но он повторился, и с той стороны тоже стали кричать, надрываясь, что-то шмякнулось.
– Папа! Я здесь!
Олег дергал дверь, навалился всем телом, забыв о медведе, но тот беспокойно сновал, путаясь под ногами и с готовностью разевал пасть.
– Быстрей, хороший, – торопил Олег. В голове проносились картинки одна хуже другой: искалеченный, измученный раздетый сын.
Второй ключ оказался длинный, старомодный, даже с веревочкой.
В нос ударил запах пыли и мочи. Посреди комнаты с нагромождением матрасов в углу, бледный до синевы, босой, сидел на полу Мишка, его сын, его мальчик, его ребенок.
– Папа! – Мишка разревелся от избытка чувств. – Где ты был, папа?!
– Где болит? Тебя трогали? Били? Миша! – Олег торопливо ощупывал руки, ноги, голову, живот сына, не ощущая запаха давно не мытого тела, исходящего от сухой горячей кожи. – У тебя жар. Что болит?
– Я так долго тебя ждал, – Мишка глотал слезы, вцепившись в его куртку. – Наверное, целый год. Пойдем домой, папа!
Он шмыгнул носом и добавил:
– Я есть хочу. И пить.
– Конечно, сынок. Сейчас что-нибудь найдем, – Олег растерянно оглянулся, словно надеясь отыскать в комнате накрытый стол. Комнатка была маленькая, пустая, с невыразительными зеленоватыми обоями, с нагромождением матрасов в углу. На проводе болталась лампочка, источая скудный свет. Сквозь затянутое каким-то прибитым полотнищем окно сочился бледный свет, и Олег понял, что уже давно настало утро.
– Вафля! – вдруг закричал Мишка, и Олег резко обернулся, готовый ко всему.
Но к ним, выпучив оба глаза, переваливаясь на мягких лапах, ковылял медведь. Внутри все похолодело, и Олег уже протянул руку, чтобы закрыть от Мишки этого уродца, но Мишка кинулся навстречу, будто не замечая ничего необычного.
– Вафля! – повторил он с такой искренней радостью, какую выражают при встречах только маленькие дети. – Я знал, что ты меня услышишь!
Олег оторопел. Мишкины бледные губы растянулись в улыбке, держа медведя за лапу, он обернулся и повторил:
– Папа, я есть хочу.
Олег подхватил сына на руки, прижал к себе, стараясь не смотреть в глаза Вафле, гадая, видит ли Мишка того же Вафлю, что и он.
На кухне в неработающем холодильнике нашелся только сгнивший помидор и покрытый бархатом синевы сыр.
– Гадость, – сказал Олег, захлопывая холодильник. – Мы сейчас в магазин пойдем. Или кафе. Там всего возьмем, что захочешь. А потом сразу домой, к маме… – Олег осекся, вспомнив неподвижное тело.
– Папа, а ты что, теперь пират? – поинтересовался Мишка.
– Ага. Записался на корабль. Наверное, скоро уплыву далеко-далеко.
– Как далеко? Дальше, чем Африка?
– Дальше. До Луны и обратно, – вздохнул Олег. Собственное будущее он представлял плохо, но однозначно не в радужных тонах. – Буду искать тех, кто тебя сюда привел. Помнишь, как сюда попал?
– Была тетя. С девочкой, – пожал плечами Мишка. – Мы шли куда-то, а потом я помню уже здесь.
– И где эта тетя? Когда она приходит?
– Я не знаю, – Мишка зевнул. – Она была потом еще, а потом перестала. Наверное, целый год уже не приходила.
Олег задумался, высчитывая, сколько времени это может быть в реальности.
Мишка снова шмыгнул носом.
– Ну-ну, сына. Ты молодец! – Олег потрепал Мишку по голове. – Я найду эту тетю с девочкой, это я тебе обещаю!
– Так девочка здесь, – Мишка поднял глаза, зеленые, как у мамы, на исхудавшем лице казавшиеся в два раза больше.
– В смысле – здесь? – опешил Олег.
– Мы с ней разговаривали сначала через двери, потом она перестала отвечать.
Олег почувствовал, как холодеют руки, от пальцев к локтям, и вспомнил о второй двери.
– Только сначала я зайду, ладно? Ты жди.
Одинаковые двери открывались одним ключом. Олег осторожно заглянул в комнату – она была такая же пустая, и запах здесь стоял такой же: больной и мерзкий, только вместо матрасов к стене приткнулась кроватка, и с первого взгляда было видно, что лежащая в ней девочка мертва. Олег узнал белые сапожки, вспомнил малышку с площадки и не смог вздохнуть.
– Не смотри! – прошептал он, заслоняя собой проем, но Вафля и вслед за ним Мишка уже пробрались внутрь и тоже смотрели на девочку.
Мишка пожал Вафлину лапу, что-то прошептал в плюшевое ухо, и Вафля замер, потом разбежался и запрыгнул на кровать, завозился там, подлезая под неподвижные пальчики, устраиваясь, как в шалаше. Он посмотрел на Олега из этого укрытия, внимательно, словно что-то говоря, но языка у него не было. Правая глазница отдалась резкой, пронизывающей до темечка болью, и оба глаза, правый карий, Олега, и левый зеленый, Маринкин, выскользнули, упали на пол блестящими шариками, и изо рта выпал зуб, и Вафля снова стал Вафлей, мягким шоколадным медведем.
– Пока, Вафля, – грустно попрощался Мишка.
– Не смотри, – вскрикнул Олег, все пытаясь уберечь Мишку, хотя было поздно уже уберегать то, что не уберег до этого, за чем недосмотрел, что не предвидел.
– Пап, ты чего? – спросил Мишка. – Ты же говорил, мальчики не плачут.
Они спустились в пустой, заросший сорной травой двор. Олег крепко прижимал к себе сына. Во дворе он остановился, пытаясь сообразить, в какой части города они находятся.
– Я сейчас, погоди, – он опустил Мишку, доставая телефон.
Еще до того, как он кликнул по иконке приложения, послышался шум мотора, захлопали дверцы, Олег оторвался от экрана и замер. Из автомобиля выскочил неприятный следователь, кто-то еще, но Олег смотрел и видел только Марину. Ты жива, моя девочка, и все хорошо.
– Это он! – закричала она высоким надсадным голосом. – Миша!
И потом снова: «Это он!»
Олег улыбнулся, Мишкина рука выскользнула из его руки, и Олег смотрел, как сын идет к маме, и та бежит навстречу, распахивая руки, и на это можно было смотреть бесконечно, и это было последнее, что увидел Олег своим левым глазом, прежде чем кто-то схватил его, грубо заломил за спиной руки, ударил в затылок, и он больно приложился скулой к холодной скамейке. Его держали крепко, но Олег все пытался повернуть голову так, чтобы увидеть, как жена обнимает сына.
Ксения Кошникова
Ванькина любовь
Обретаюсь ни живой и ни мертвый. Пугало бесприютное, в Бога плевок. Зрю в грядущее мутным оком. Тьма внутри и темнота во вне. «Любовь победит», – шепчет голос бесплотный в самое ухо. Гоню его прочь, глумливым смехом давлюсь. Вместо смеха вырывается плач.
I
Ванька Шилов боязливо мялся у входа в подземную чернь. Из провала дышал холод, пахнущий смертью и тленом, лез под рубаху, смрадным языком пытаясь уцепить за лицо. Беда привела Ваньку на Лысую гору к проклятым руинам. А иначе и не ходят сюда. Вчера были у Ваньки невеста, мечты и вера в Господа Бога. Сегодня нет ничего, отняли все, выжгли душу каленым железом, залили в дыру злость, опустошенность и страх.
Прожил Ванька на свете длинную жизнь, целых восемнадцать годов, уродился в отца – крепким, рукастым, светловолосым. Отец у Ваньки большой человек, не смерд-землепашец, не холоп, а купец. Дело горбом своим поднял, каждую копейку берег, корки плесневелые грыз, а выбился в люди, восковую торговлю завел, всю округу подмял. Сызмальства Ванька при отце по торговым делам: в Новгороде Великом иноземных купцов повидал: горделивых франков и свеев, бухарцев в длинных халатах, с диковинными горбатыми лошадьми в поводу, любовался в Москве на белокаменный кремль, волок ушкуи на перекатах, бесов лесных серебром отгонял.
Вольная жизнь по сердцу пришлась. И вдруг прикипел. Жила в селе Марьюшка Быкова, станом тонкая, с улыбкой застенчивой, синие глазища озорными огнями горят. Занялось от того огня Ванькино сердце, ходил как чумной, забыл о делах. Встречи искал. Улучил время, душу настежь раскрыл. Боялся, откажет. Навеки запомнил Ванька Марьюшкино сосредоточенное молчание и робкое «да». Чуть не сполоумел на радостях, в охапку Марьюшку сгреб. Та завизжала, ладошками в спину затюкала: «Пусти, медведь окаянный, пусти». Ванька остепенился, перестал на гульбище ходить, руки с Марьюшкой не распускал, хотя иной раз и подмывало, гулящих баб-то он рано узнал. А тут как отрезало. Страшился нарушить хрупкую девичью честь, мысли проклятые гнал. Ведь она… она такая… эх.
Велел отцу сватов засылать. Тот ни в какую, дескать, не пара, богатую невесту найдем, есть на примете одна. Пущай не красавица, зато приданого тыща рублев. Чуть не подрался с отцом. Обещался из дому уйти. Сдался отец, единственный Ванька наследник, некому больше торговлю вести. Сестренка младшая – Аннушка – махонькая совсем, а вырастет, лехше не станет, баба, какой с нее толк? Позлобничал отец и смирился, к Покрову свадьбу назначили. Хорошо, да больно долго уж ждать. Месяц прошел, а Ванька истосковался, измучился, высох. Уехал в Новгород с обозом. Вернулся, а от надежд пепелище. Без него порядили Марьюшку Заступе отдать, воскресшему мертвяку из проклятых руин. Трупу с червями гнилыми вместо души. Обретался упырь при селе боле полвека, добрую службу служил: нечисть лесную отпугивал, людей и скотину от мора хранил, редко какому селу или городишку такая удача. За услуги требовал жертву кровавую по весне – девицу красную. Страшная плата, но без Заступы плата страшней. Вот и терпели люди, привыкли, так дедами заведено. Сколько невест Ванька сам проводил? Радовался вместе со всеми, костры палил, брагу в глотку до исступления лил, а теперь коснулось и самого. Да так коснулось, хоть вешайся.
Ванька поморщился. Знатно вчера почудил. Отбить пытался любимую, двоим успел носы на сторонку свернуть, да сзади саданули поленом по голове, очнулся запертым в бане, волосья на затылке в кровавую корку спеклись. Выл в оконце, бревна зубьями грыз, дверь ломал, да там и упал, обессиленный. Разрыдался взахлеб, слез не стесняясь, представляя, как терзает Марьюшку проклятая тварь. Утром выпустили: притихшего, сомлевшего, мутного. В спину шептали:
– Смирился.
– В покорности лехше…
– Кротость пользительна для души.
Как же, смирился. Хер там. Из бани Ванька пошел прямиками домой, мать не слушал, сестренка отпрянула, обожженная взглядом. Огонь, и прежде горевший в Ваньке, из ласкового и теплого превратился в лютое пламя. От отца отмахнулся. Взял топор и ушел. Не прощался, но и вернуться не обещал. На опушке выбрал осинку, свалил в два удара, выстругал кол. Второй про запас. Обиду и ненависть в горсть. К отцу Ионе в храм Божий зашел. Меч душевный острить. Трудный был тот разговор, не шутейный. Настоятель не отговаривал, но и лихого дела не одобрял. Предупреждал о последствиях. Для Ваньки, для семьи его, для села, обдумать велел, поостыть. Ванька слушал и кивал, оставаясь глух. «Воды святой дай», – ласково попросил. Иона понял – парня с пути не свернуть, благословил неохотно, налил воды, вот она, в баклажке на поясе булькает. Во всеоружии Ванька к проклятым руинам пришел – колья осиновые, святая вода, на шее низка желтелого чеснока. Овощ злодейством великим взял, спер у бабки Матрены, ну ничего, Бог простит, ведь на благие дела.
Воздух из провала вытекал стылый, воняющий мертвечиной и падалью. Страшное таилось внутри. Ни разу Ванька так не боялся за всю свою жизнь, а ведь смельчаком себя почитал. С татями бился; видел, как оживают деревья в болотах, идут, вытягивая корни из глубины; заманивали его мавки, с виду красивые девки, а ниже пояса голый скелет; на спор ходил к старому капищу, где вырастают из земли валуны, испещренные непонятными письменами, красовался силой и удалью, а тут струсил, аж поджилки тряслись. Мыслишки поганые лезли: «отступись», «забудь», «погубишь себя», «Марьюшку не вернуть». Заколебался Ванька. Наплевать на обиду, бросить все и уйти, куда ноги несут. Есть в Новгороде дружки. Податься в ватагу, грабить ливонцев и бусурман, там головушку буйную и сложить…
«Струсил, пес шелудивый?» – Ванька встряхнулся, прогоняя дурные мысли и холодную дрожь. Закусил губу до крови, защелкал кресалом. В глиняной лампадке заплясал крохотный огонек. Слабый, трепещущий, еле живой. Комар бы у такого согреться не смог.
Вязкая темнота приняла его жадно, укутала смрадным дыханием, пробежала костлявыми пальцами по волосам. Раскрошенные каменные ступени уводили в стылую глубину. Болезненный мох, наросший у входа, остался последней чертой между миром мертвых и миром живых. Ступеньки кончились. Ванька обернулся. Вход подмаргивал бледным пятном, среди шевелящихся корней просматривалось синее небо. Хотелось расплакаться. Лампадка отбрасывала непроглядную чернь на пару шагов, заключая Ваньку в спасительный шар. Масло шкворчало и плевалось, обжигая руку. Он не замечал боли, сердчишко трепыхалось, кровь стучала в висках. Куда идти, Ванька не знал, утешаясь мыслями, что окаянный подвал, небось, невелик. Ну и просчитался, конечно. Проход раздвоился, разошелся узкими отнорками по сторонам. На пути попадались комнаты: одни пустые, гулкие, другие – заваленные кучами отсыревшего тряпья и сгнившего дерева. Угадывались остатки мебели: длинные лавки, столы, сундуки.
Ванька не удержался, рванул крышку окованного железными прутьями сундука. Слухи про упырьи сокровища не на пустом месте родятся. Скопил, падлюка, за годы, чахнет над златом, пьет святую православную кровь. Ванька вурдалака заколет, а сокровища заберет. Сирым и убогим раздаст, церкву построит, остальное пропьет до гроша. Пойдет по Руси слава о новом богатыре.
В сундуке было пусто. Не дался в руки проклятый клад, слово надо верное знать. Во втором сундуке одиноко догнивала тряпичная кукла, в третьем смердело дохлыми кошками.
Ванька затряс головой, пристыдил сам себя: «Окстись, нешто за богатством пришел?» Коридоры уводили в глубь вурдалачьего логова. Зыбкий, разбавленный, словно молоко водой, дневной свет проникал через проломы и щели, окрашивая тьму мертвенной синевой. Местами потолок и вовсе обрушился, обломки камней громоздились под ногами, мешали идти. Сквозняки несли то потоки свежего весеннего воздуха, то гнилость и прель.
Ванька вывернул за угол и резко остановился, увидев впереди едва заметные отблески. Тусклый огонечек маячил во тьме. Сердце едва не вырвалось из груди, и парень спешно прикрыл лампадку рукой. Заметили, нет? Кто-то блуждал в темноте, огонек сместился и поплыл. Ванька крадучись двинулся следом и чуть не упал. Левая нога скользнула по краю, осыпав мелкие камешки. Прыгающий свет лампадки высветил бездонную пропасть. В полу зияла дыра, слышался отдаленный шум текущей воды. Уф, пронесло. Ваньку бросило в жар, он вытер пот с лица рукавом и чертыхнулся. Чужой огонечек пропал, затерялся во тьме. Ванька засуетился, вжался в стену и приставным шагом миновал провал по остатку пола шириною в ладонь. На глубине плеснуло, в воде мелькнула белесая спина с выпирающим позвоночником. Господи, чего только со страху не привидится! Ванька поспешил за огоньком, не забывая посвечивать под ноги. Очень уж не хотелось брякнуться костями в бездонную пустоту. Тьма сгустилась, стала непроницаемой, липла к лицу, выпускала длинные руки-пальцы, стремясь затушить лампадку. А потом тьма вкрадчиво позвала:
– Ванюша.
У Ваньки волосы поднялись дыбом.
– Ванечка.
Голос смутно знакомый, чарующий, коленки ослабли. Марьюшка?
– Родименький мой.
Ванька дернулся на голос, пьяно шатаясь, голова затуманилась.
– Иди ко мне, Ванечка.
Ванька раскрыл было рот, но опомнился, вспомнил бабки покойной слова: «Ежели кликать будут в месте худом, на погосте иль на перекрестье дорог, отзываться не вздумай, враз пропадешь».
– Холодно мне, – плаксиво сообщили из темноты.
– На, грейся, – Ванька судорожно перекрестился по сторонам. Манящий голос тут же пропал, обернувшись затихающим плачем и мерзким смешком.
Ванька выдохнул – пронесло. Завернул за угол и попятился. Чужой огонек помаргивал в паре саженей, высвечивая темную сгорбленную фигуру. От напряжения заломило в висках. Фигура не двигалась. Ванька собрался с духом и шагнул, выставив осиновый кол. Незнакомец шевельнулся и медленно, словно нехотя, обернулся. Крик застрял в высохшей глотке. Ванька увидел себя. Двойник уставился черными дырами, оскалил голые десны, изо рта вместо языка вывалился ком пупырчатых щупалец. Ванька захрипел, отшатнулся, теряя равновесие, отвлекся на миг, а когда поднял глаза, призрак исчез. Проклятое подземелье шутки шутило, или и вправду увидел Ванька себя, и суждено ему отныне, до самого Страшного суда, плутать по каменным коридорам среди мрачных теней и неприкаянных душ?
Стены отхлынули, и Ванька вывалился в комнату необъятных размеров. Было сухо и холодно, лучики света косо падали с дырявого потолка. Из сине-серой дымки проступил силуэт, за ним еще и еще, обступая кружком. Ванька шарахнулся, замахнулся колом, но никто на него не напал. Время застыло, сожрало звуки и свет, только пылинки оседали хлопьями пепла. Статуи? Ванька осторожно подошел к крайнему силуэту и пошатнулся на обмякших ногах. Рубаха прилипла к спине. Прямо у входа безмолвным стражем коченел высохший труп – баба в истлевшей рубахе грубого полотна. Плесневелая кожа туго обтягивала череп, рот щерился в крике, костлявые руки повисли. Тело было прибито к стене железным гвоздем. Прядки темных волос, накрученные на гвоздики поменьше, удерживали голову.
Ванька оправился от страха, вытянул руку. Труп от легкого касания рассыпался в прах, кости упали к ногам, череп остался висеть, похожий на огромного паука.
«Сколько лет костяку?» – подумалось Ваньке. Рядом с первым, вдоль стены, застыл второй труп, дальше еще и еще. Иссохшие, истончившиеся, окоченевшие. Голые кости, торчащие зубы, жуткие оскалы, пустые глазницы, шершавая кожа, венки из полевых цветов на головах. Десятки трупов окружили Ваньку со всех сторон, не комната – склеп. Друг подле друга, сцепляясь руками, мертвецы вели свой дьявольский хоровод. И тут Ванька, обмирая от ужаса, узнал Василису Пискулину. Поднял лампадку повыше. Ну точно, она. Нос с горбинкой, бровь коромыслом, черная густая коса. Даже после смерти красивая. Мужик у ней в Ливонскую сгинул, осталась одна, хорошая баба, ласковая, парней привечала, и Ванька ходил, чего греха-то таить. Женатые мужики частенько заглядывали, чужая малина слаще всегда. Ну бабы подсуетились, словечко кому надо замолвили. Два лета, как Василису Заступе отдали. Вот, значит, и свиделись… Ванька шарахнулся в сторону, подавляя заячий вопль. Распятая на стене Василиса задергалась, пошла ходуном. Голова с остатками плоти поднялась и раскачивалась, блукая пустыми глазницами, плечи тряслись. Ванька приготовился дать стрекача. В глотке мертвеца шевелилось и чавкало. Изо рта вылезла огромная крыса, сверкнула угольями глаз, винтом скользнула по телу и исчезла в темной дыре.
– Гадина! – Ванька поддал ногой, вымещая стыд за нахлынувший страх. Следующую мертвячку тож опознал. Прошлогодняя. Тьфу, слово какое-то мерзкое. Из Новгорода привезли. Сердце предательски екнуло. Если эта в прошлом году, то следующая…
Ванька метнулся дальше, подсветил себе, зашарил рукой по плесневелой стене. От радости замутило. Марьюшки не было. К добру или к худу?
Выход из зала, полного мертвецов, вывел в небольшую, залитую чернотой комнатенку. Тусклые отсветы выхватили признаки обитаемого жилья: вытертый персидский ковер, стол, заваленный книгами и пергаментом, узкое ложе у дальней стены. Сердце остановилось, сжалось до рези и вновь застучало, разгоняя вскипевшую кровь. Думал, в гробу тварь проклятая спит, а он, сука, в кровати. Медвежья шкура, застеленная на ложе, дыбилась высоким горбом. Сейчас я тебя! Ванька вытер вспотевшие ладони и поудобнее перехватил осиновый кол. Шаг, второй, не чувствуя ног. От напряжения ломило в груди. Еще шаг.
– Наверняка бей, – отечески посоветовал скрипучий голос из темноты. Откуда-то слева выплыла лысая шишковатая голова и страшная харя: трупно-серая, костлявая, пронизанная вздутыми черными жилами. Тонкие, сложенные в паскудной ухмылочке губы задули огонь, и снизошел зловонный, ужасающий мрак. Ванька истошно завыл.
II
Придурка с заточенной деревяшкой вурдалак Рух Бучила почуял, еще когда тот топтался на входе. И мысли не надо читать. Явился по его, Руха, грешную душу, злодей. Вот она, судьбинушка горькая, живешь, никого не трогаешь, людишек оберегаешь, а каждый валенок норовит палку меж ребров всучить. Благодарность, мать ее так. Оттого все меньше на свете Заступ, а как переведется последний, тут и миру конец. Раньше Бучила ждал смерти, избавленья искал. Только старые охотники вывелись, а новые так и не родились. Не дождался Рух, отмучился, пообвык. А тут на тебе, здрасьте…
Парень долго собирался с духом, страхом и ненавистью смердел. Решился. Полез без спросу, потревожил соседей, рылся в вещах, жен ворошил. Ни почета, ни уважения. Словно в хлеву родился. Хотел Бучила дурную башку оторвать, на полку любоваться поставить, а передумал. Чай не изверг какой.
В опочивальню богатырь проник, по его меркам, бесшумно, крался к ложу, недоброе замышлял. Рух долгое время наблюдал за пришельцем, прекрасно видя во тьме. Решил помочь, по доброте своей неизбывной. Крика такого не слышал давно. Так кричат, ежели нутрянку клещами раскаленными рвут. Свет потух, лампадка грянулась об пол, разлетелась на сотню кусков. Масло теперь оттирать…
Крик оборвался, и Рух едва успел отскочить. Быстро оправился, лиходей. Парень закрутился на месте, слепо разя во все стороны острым колом.
– Ты чего? – подавился Рух нехорошим смешком.
В ответ – сдавленная брань и удар на голос. Кол со свистом рассек темноту. Ух какой. Бучила мог закончить дело мгновенно, но предпочел поиграть. Отпрыгнул к выходу и поманил:
– Эй, а ну догоняй.
Парень дернулся следом, налетел на лавку и едва не упал. Прыткий, гаденыш.
– Под ноги смотри, расшибесси, – посочувствовал Рух, спиной шагнув в женскую половину, на зыбкий свет, едва пробивающий плотную темноту. Тут у охотничка будет шанс. Честность и благородство – главные добродетели Руха Бучилы. За то и страдает всегда.
Супротивник выскочил следом, бросился к Руху, целя в лицо. Бучила легко уклонился и саданул поганца под дых. Парень охнул, сложился напополам, упал на колени и шумно проблевался. Такие нынче богатыри…
Рух закатил глаза. Женская половина – святая святых – безнадежно осквернена. Мордой, как котенка, надо бы навозить! Вурдалак молниеносно подскочил, вырвал кол и зашвырнул в темноту, добавив гостю ногой по лицу.
Надо отдать должное, парень не сдался. Подорвался, пуская слюни и кровь, бросился с голыми руками на упыря. Заорал неразборчиво, поминая чью-то несчастную мать и срывая с шеи чеснок. Рух пригнулся, овощи пролетели над головой. Какой идиот выдумал бороться с вурдалаками чесноком? Сами упыри эту байку и распустили. Приятно, когда не знают твоих слабых сторон.
Забава быстро наскучила, и Рух ударил гостя в середину груди. Парень словно напоролся на стену, всхрапнул загнанной лошадью и упал. Только ножки задергались, взрывая мягкую пыль.
– Достаточно? – миролюбиво поинтересовался Бучила.
– Ты… ты… – парень заворочался, поднялся на четвереньки, пуская ртом багровую жижу. – Я… я тебя…
– Чего ты меня? Залижешь до смерти, слюнявый щенок?
– С-сука…
– Сам дурак. Чего бросаешься? Бешеный?
– Невесту забрал…
– Кто?
– Ты. Марьюшку мою украл. – Гость плюхнулся на задницу, в драку больше не лез. Не такой дурак, каким кажется.
– Не украл, а отдали, по уговору, не тобой заведенному, – напомнил Бучила.
– На хер такой уговор, – парень вытерся рукавом, в челюсти щелкнуло.
– Поговорим?
– Не о чем нам с тобой говорить.
– Звать тебя как?
– Ванькой.
– А я Рух. Рух Бучила.
– Х…чила.
– Ой, грубиян. За невестой пришел?
– Ну.
– А спросить гордость не позволяет? Убивать зачем? Грех.
– Упыря не грех. Дело богоугодное, – буркнул Ванька, кося глазами в поисках чего бы потяжелей.
– Где сказано? – удивился Бучила. – Я в богословии наторел, Святое Писание изучил. Нигде про вурдалаков не упомянуто. Наоборот, писано – все дети божии. Вот и я дите.
– Отец Иона другое говорит.
– Пророк-то ваш доморощенный? У него язык – помело. Имел с ним беседу, доводы приводил, примеры исторические, Евангелие цитировал – как об стенку горох. Фанатик.
– Иона отговаривал тебя убивать.
– Большого ума человек!
– Я не послушал.
– И здорово преуспел?
– Преуспею ишшо, – Ванька глянул с вызовом. – Чего уставился? Давай пей кровушку. Твоя взяла.
– Не хочу, – признался Бучила. – Спасибочки, сыт. Не надо делать из меня чудище.
– А кто же ты есть?
– Вполне разумное, легко ранимое существо. На тебя обиду не затаил, молодой ты, а может и просто дурак. Был бы умным, гостем зашел, поговорить да чашу хмельную распить, Марьюшку свою бы забрал.
– А ты бы и отдал? – насторожился Ванька.
– Смотря как попросить, – хитро прищурился Рух.
– Никак живая она? – вскинулся женишок.
– Живая. Ты ведь всех моих жен посмотрел, – уличил Бучила.
– Отдай невесту, Заступа, Христом Богом прошу, – Ванька бухнулся на колени и пополз к упырю. Уголек надежды разгорелся жарким огнем. – Все для тебя сделаю.
– Ну буде, буде, – Рух отстранился. – Мне много не надо, мы люди негордые. Пойдешь туда, не знаю куда, принесешь то, не знаю что, и невеста твоя. Плевое дело.
– Заступа-батюшка… – поперхнулся жених.
– Ну сшутковал, сшутковал, – не стал терзать парня Рух, и серьезно спросил: – Любишь ее?
– Пуще жизни, батюшка, – Ванька клятвенно перекрестился, втайне надеясь, что при виде крестного знаменья сдохнет адская тварь.
– Понятно, без любви сюда б не пришел. Ну так забирай, для хорошего человека бабы не жалко, – Рух повысил голос. – Марья! Подь-ка сюда!
Ванька часто, с присвистом задышал. Из темнотищи медленно выплыла белая, похожая на призрак тень. Марьюшка ненаглядная. Живая! Бледная, осунувшаяся, с растрепанными волосами и робкой, печальной улыбкой.
– Родненькая! – Ванька бросился невесте на шею.
– Тихо-тихо, – остановил Бучила. – Эко прыткий какой. Бабу будем делить. Ты к себе зови, я к себе кликать начну, к кому пойдет, того и жена.
Ванька напрягся, сжал кулаки.
– Да ладно, вдругорядь пошутил, – успокоил Бучила. – Прямо несет чегой-то с утра, удержу нет, – и строго спросил у Марьюшки: – Ну а ты, лебедушка, любишь жениха, или неволит ирод тебя?
– Люблю, батюшка, – Марья опустила глаза.
– Все честь по чести, – Рух виновато развел руками и сказал Ваньке: – Прости, должон удостовериться был. Чай не чужая, душой прикипел.
– За ночь?
– Иная ночь целой жизни длинней, – многозначительно подмигнул Бучила. – Ладно, проваливайте.
– Батюшка… – ахнул Ванька.
– Ступай, ступай, – отмахнулся Бучила, опомнился, придержал парня и шепнул на ухо: – Ты это, не серчай ежели что, не девица она больше. Такие дела.
– Да ничего, – невпопад отозвался Ванька, голова была занята совершенно другим. – Благодарствую.
– За что? – растерялся Бучила.
– За все, – Ванька взял Марьюшку за руку. Она прижалась к нему, родная, манящая, желанная. Они поклонились Заступе в пояс и пошли в сторону выхода.
– Эй! – окликнул Бучила. – Хорошенько подумай! Назад не приму!
Ванька не обернулся.
Рух стоял и пристально смотрел им вослед. Не бывает любви? А что это тогда? Любовь или победит, или раздавит, третьего не дано. С невестой он расстался без сожалений, легко пришла, легко ушла, будут еще. Но дело нечистое. Впервые девку на выданье отдали, да при живом женихе. Обычно как? Собирают Заступин мыт, со двора по копейке, покупают рабу, Бучиле и отдают. Тайну блюдут, думают, не знает он, мол обставили дурака. А Руху все едино, лишь бы свадьба была. Из своих, нелюдовских, если и отдают, то редко, которых не жалко. Странно. Очень странно. А странности Бучила ух как любил…
III
Тьма нехотя разжала липкие пальцы, солнце нестерпимо резануло глаза, Ванька мешком повалился в траву. Его трясло. Леденящий холод, зачерпнутый в подземелье, не хотел уходить, свив зловонное гнездо где-то под ребрами. Пахло нагретой землей, свистели пичуги, и небо было синее-синее. Ванька перевернулся на спину, широко раскинув ослабевшие руки. Господи, живой. И невесту выручил! Мог ли о таком еще утром мечтать? По чести – боялся наружу идти, думал, мороком окажется Марьюшка, насмешкой упырьей, развеется туманом, увидев солнечный свет. Обошлось.
Марьюшка присела рядом, робкая, бледная, милая. Босые ножки изодраны в кровь, на лодыжках расползлись ссадины и синяки. Изменилась за ночь: осунулась, похудела, под глазами залегли черные тени, золотые волосы поблекли, утратили цвет. Только улыбка прежняя, родная и теплая.
– Думала, свету белого не увижу, – Марья тихонечко положила голову Ваньке на грудь. Он осторожно, боясь развеять тихое счастье, коснулся пальцами сухих, ломких волос. Хотелось одного – лежать рядом целую вечность, наслаждаясь уединением и тишиной.
– Куда мы теперь, родименький? – спросила Марьюшка. – Домой не пойду, не примут меня.
– У меня поживешь, – Ванька все уже твердо решил. – Осени ждать не будем, свадьбу сыграем в ближнее время. А там как Бог даст.
– Ванечка, – прошептала Марьюшка, прижимаясь всем телом. Коса упала, приоткрыв на шее синюшный кровоподтек с двумя дырочками посередине, затянутыми спекшейся коркой. Ваньку передернуло. Какая сволочь этот Заступа. Сколько душ перевел? Польза от него есть, но какая цена? Ладно Марьюшку вырвал… Ага, вырвал, стыдища какая, навалял нечистый тебе. Как уляжется, сразу в Новгород ехать, архиепископу Пимену в ноги упасть. Владыка верой тверд, нечисть велит огнем выжигать. Покается ему Ванька, обскажет, как упырь село подчинил. Не оставит архимандрит паству в беде, пришлет молодцов. Вдругорядь посчитаемся!
В глотку словно набили сухого песка. Ванька встал на нетвердые ноги, сорвал баклажку и долго пил, отфыркиваясь и проливая на грудь. В башке прояснилось. Он подавился, вдруг вспомнив, что в посудине святая вода. Ну и дурак. Кто ж воду святую так хлешшет? Как с вурдалаком дрался, забыл о воде, а она, глядишь бы, и помогла. Да чего уж теперь…
– Идем, – он крепко сжал Марьюшкину ладонь.
– Ночи б дождаться, – испуганно сжалась девка. – Люди там, боюся я их.
– Куриным дерьмом пусть подавятся, – напыжился Ванька и притопнул ногой. – Мы худого не делали. Идем.
Марьюшка посмотрела доверчиво, Ванька через ладонь слышал дикий стук маленького сердечка. Тропка бежала с холма, прочь от страшных руин, ласково нашептывал березняк, пронизанный солнцем, высоко в поднебесье завис крохотный жаворонок, напевая победно и радостно. Какое дело Ваньке до людей? Упыря не спужался, и тут честь не уронит.
Решимость иссякла при виде зачерневших среди молоденькой зелени крыш. Вот и село. Век бы его не видать. Отец не обрадуется, матушка плакать удумает. Сукина жизнь. Тропа вильнула собачьим хвостом, выводя на околицу. Нелюдово – село большое, зажиточное, вольготно раскинувшееся на торговом тракте из Новгорода Великого в Тверь и далее на Москву. Не одну сотню лет стоит село на берегу медлительной Мсты, что катит черные воды сквозь непроходимые дебри, мимо разрушенных языческих капищ и могильных курганов до самого Словенского моря – озера Ильмень. Издревле звалось село Нелюдова Гарь. Во времена светлого князя Ярослава поселился на реке странный человек Нелюд, откуда пришел и что за душой принес, никто никогда не узнал. Людей сторонился, жил бобылем, поставил избушку. Нечисть чащобная Нелюда не трогала. Выжег поле, высеял рожь. Была просто Гарь, стала Нелюдова Гарь. Привел жену, в соседних деревнях не сватался. Люди говорили – лесную мавку замуж принял. Детишки пошли диковатые, черноглазые, с волосами цвета сохлого мха. Росло Нелюдово племя, лес выгорал десятинами, была одна изба, стало полдюжины. Завистники из соседней Помиловки зубоскалили, дескать с дочерьми Нелюд грешил, бесов тешил. А может, и правда был колдуном, кто теперь знает? Обронил Нелюд семя в благодатную почву. Малый хуторок вырос в большое село, славное купцами, волокушами, бондарями и промысловиками. Уходили из Нелюдова молодцы в Пермь и за Камень, в ратях бились с рыцарями на Чудском озере и при Раковоре, душегубничал в окрестностях тать и разбойник Абаш Берендей, уйму кладов на древних погостах зарыл. Княжеские усобицы и злые язычники – татары обошли Нелюдово стороной, владычный Новгород податями не донимал, торговля шла бойко, и беспокоила нелюденцев только крепнущая, разбухающая под боком Москва.
Тропка влилась в накатанный тракт. Околичные дома поставлены кругом, меж ними высокий тын и дозорные башни. Двое крепких ворот. Село с наскоку не взять, пробовали лихие люди – кровью умылись. Ванька все ходы и выходы знал, мог ворота и миновать, да не схотел. Негоже в село воровскими стежками лезть. От чужих глаз все равно не укроешься. На Тверских воротах сторожами Истома Облязов и Васька Щербанов, Ванька еще с утра подсмотрел. Старик Облязов черной вороной горбился в открытых воротах, опираясь на рогатину с толстым захватанным древком. Васьки, старого Ванькиного приятеля, не видать, дрыхнул поди. Ну точно, вон и лапти из копны торчат. Ванька крепче сжал Марьюшкину ладонь. К воротному столбу была приколочена башка кикиморы, просмоленная, высушенная на солнце, до сих пор внушающая ужас, покрытая наростами и бахромой коротких щупалец, с пастью, полной кривых желтых клыков. Рядышком, насаженные на колья, пялились пустыми глазницами на прохожих уродливые головы трясцов, глушовцев и дремодарей.
Облязов подслеповато щурился, силясь рассмотреть появившихся на дороге людей. И разглядел. Сторож неожиданно проворно скакнул к куче сена и отвесил спящему тумака. Лапти дернулись, послышалось сдавленное мычание. Из вороха поднялась всклоченная голова с одутловатым, отекшим лицом и дурными глазами, грязная рука инстинктивно искала задевавшийся куда-то топор.
– Ты чего, дядька Ис… – заканючил Васька и застыл с открывшимся ртом.
Ванька с Марьюшкой вошли в родное село. Преград им никто не чинил. Старик Истома надсадно пыхтел, Васька слюни пускал, не вполне понимая, проснулся он или видит затейливый сон.
– Здорово, Василий, – поприветствовал Ванька дружка.
Васька неразборчиво булькнул в ответ, глаза полезли на лоб. Ванька распинал лезущих под ноги кур и горделиво вступил на кривоватую, в ямах и выбоинах улицу. Кое-где из непросыхающей грязи дыбились остатки бревенчатой мостовой. В месиве вальяжно похрюкивали толстые порося. За заборами рвались остервеневшие псы. Идущая навстречу дебелая баба с коромыслом на могучих плечах остановилась и обмерла, переводя испуганный взгляд с Ваньки на Марьюшку. В деревянных ведрах плескалась вода. «Примета хорошая», – подумалось Ваньке. Хотелось в тот момент верить в хорошее. До жути хотелось, до рези под сердцем. Баба развернулась и пошла обратно к колодцу, словно забыла чего. Ускорила шаг, бросила коромысло и, подобрав юбки, побежала по улице, истошно вопя:
– Убил! Заступу убил! Убил!
Белые лодыжки мелькали с ужасающей быстротой. Ванька поморщился. Началось. Ну что за народ? Чертова дура, клятое помело.
– Ой, что теперь будет, Ванюша, – испуганно выдохнула Марьюшка.
– Не боись, за мною не пропадешь, – сам не очень-то веря, отозвался Иван. – От упыря утекли, а эти мне что? Тьфу.
– Люди страшнее, – Марьюшка прижалась к нему.
– Ничего, – раздухарился Ванька, почувствовав себя сильным и нужным. – Пусть ужо сунутся!
Хлопали калитки, люди отрывались от работы, бросали дела. Недоумение на лицах сменялось страхом и непониманием. Не бывало в Нелюдове, чтобы Заступина невеста вернулась живой. Слышался сдавленный, злой шепоток. Народ шел следом, толпа росла, разбухая как паводок, впитывая новые и новые ручейки. Разом заголосили бабы, заплакал ребенок.
Ванька шел к дому, втянув голову в плечи, стараясь не зыркать по сторонам, не встречаться глазами. Объяснять бесполезно, сделаешь хуже. Толпа не послушает, она жаждет одного – рвать и кромсать. Дурная весть про убийство Заступы вихрем облетела село. Теперь доказывай не доказывай, все едино. Здесь, в Новгородчине, убить Заступу – самый великий грех. Село без защитника обречено. Ванька видел знакомые лица, искаженные масками страха и ненависти. Перекошенные рты, пена, оскаленные зубы, колы и палки в руках.
– Иуда, – упало проклятие в спину.
– Убивец.
– Всех нас убил!
– На бабу сменял.
Толпа сомкнулась.
Ванька остановился, набрал в грудь воздуха и громко сказал:
– Люди добрые, не велите казнить, ве…
Первый камень шмякнулся в грязь, второй попал Ваньке в лопатку. Он качнулся, зашипел от боли, но не упал. Следующий камень угодил повыше виска, оставив глубокую сечку. Ванька заурчал по-звериному, подгреб Марьюшку, закрывая собой. В голове помутилось, ноги налились слабостью, клок сорванной кожи лез на глаза, сочась липкой обжигающей кровью. Мысли смешались.
Накатилось смрадное, визгливое, многоголосое сборище. Удар поперек хребта бросил Ваньку на колени в жидкую, навозную грязь. Ну вот и все. Добыл невесту, дурак? Руки поймали пустоту. Марья пропала, непостижимым образом вывернувшись из-под него. И тут же общий гомон прорезал звенящий, надрывистый крик:
– Не трожьте его! Не трожьте!
Ванька поднял залитые кровью глаза. Марьюшка стояла над ним, одна против всех, похожая на маленького боевитого петушка, с зажатым в ладошке клоком жидких волос. Прочь от нее отползал на заднице старик Толопыгин, выронив палку. Бороденка старика на левой щеке была выдрана с мясом. Толпа подалась назад. От Марьи Быковой, девки тишайшей и доброй, никто такого не ожидал.
– Сволочи! – исступленно крикнула Марьюшка. – Стаей слабого рвать! Ненавижу! Всегда ненавидела! Будьте вы прокляты! Жив Заступа! Ванечка выручать меня пришел, а Заступа, добрая душа, взял меня и отдал!
Людишки притихли, запереглядывались.
– Сходите проверьте! – притопнула Марья ногой, указав в сторону Лысой горы, склонилась к Ваньке. – Пойдем, Ванечка, не тронут они.
Ванька поднялся со стоном, в спине мокро щелкнуло, никак ребра сломали, диаволы. Он стоял и смотрел на Марьюшку: смелую, сильную, неустрашимую. Глазам не верил. Эта ли девка робела, боясь за полночь на свиданки к старым ивам ходить? Чудеса!
Марья шагнула, толпа раздалась, отхлынула, давая проход. Она пошла первой, ступая, словно лебедушка, горделиво неся голову на тоненькой шейке. Девка, не убоявшаяся разъяренной толпы. Красавица, защитница. Ванькина невеста. Он выпрямился, скалясь страшно и вызывающе, пихнул крайнего мужичонку плечом. Их не преследовали, не забрасывали камнями, не проклинали, поверив на слово девке, невесть каким образом вырвавшейся из лап упыря.
Ванька вздохнул с облегчением, увидев родные ворота. Дома и стены помогут. Сердце предательски екнуло. Чем встретят? Пока не зайдешь, не узнаешь. Калитка открылась бесшумно, сам недавно петли салом натер, чтоб на гулянки шастать ночные. Двор чисто выметен, ни соринки, ни пыли, матушка блюдет чистоту. Изба – пятистенок, крытая тесом, в окружении подклетей, амбаров и сараев, с резными конями на крыше и высоким крыльцом. Большой дом для счастливой семьи. Так думалось. Теперь как Бог даст…
Из-под забора с рыком выкатился огромный взлохмаченный пес. Клацнули в жутком оскале длинные зубы.
– Ай! – Марьюшка испуганно вскрикнула.
– Тю, проклятый! – замахнулся Ванька. – Никак, не узнал?
Огромный дымчатый, усеянный репьями кобель натянул звенящую цепь, брызжа с клыков пенисто-желтой слюной. Уши прижались к башке, шерсть вздыбилась, бока пошли ходуном. Ванька отпрянул, зубы щелкнули возле ноги.
– Тише, – ласково сказала Марьюшка и протянула ладонь. Грозное рычание оборвалось, пес понюхал пальцы и протяжно, умоляюще заскулил, пушистый хвост обвис между лап. В следующее мгновение кобель прижался к земле и резко подался вперед, целя в горло.
– Хватит, Серко! – подбежавшая фигурка упала собаке на спину, не дала сделать последний прыжок. – А ну пошел! Кому говорю!
Серко зазвенел цепью, скрылся в своей конуре. Перед ними осталась краснощекая девочка в синем сарафане и белом платке. Улыбчивая, крохотная, с веселыми глазами и конопатым лицом. Аннушка. Ванькина семилетняя сестра.
– Я переживала, – насупилась девочка. – Куда ушел? Теперь-то понятно!
Она бросилась, обняла обоих, завсхлипывала:
– А я… а ты… А батюшка злой. Грит, пущай не вертается… А матушка плакала… А я ей говорю: не реви… Дурак, дурацкий дурак!
– Прости, Анька, – Ванька подхватил сестру на руки, чмокнул в нос.
– Фу, не слюнявь, – Аннушка прижалась брату к груди, нашарила и притянула Марьюшку. – Ой, как я рада…
С крылечка вальяжно спустился пушистый, черный, с белой мордочкой кот Васька, первейший Аннушкин друг и любимец. Притащила она год назад крохотного, задрипанного, еле живого котенка. Под забором в крапиве нашла. Задние лапки от голода отнялись. Ванька хотел из жалости утопить. Аннушка не позволила, выходила, отпоила козьим молоком, отогрела в постели. Превратился доходяга в красавенного, игривого, знающего себе цену кота.
На пороге появилась мать. Охнула, привалилась к стене, рот прикрыла рукой. Глаза на мокром месте. Не чаяла сына увидеть. Ванька виновато улыбнулся. Мать сделала шаг, собираясь броситься к ним, и замерла. Из дома вышел отец. Угрюмый, нечесаный. Брагой пахнуло аж до ворот. Плохо дело, запил купец. Ванька приготовился к худшему. По пьяному делу отец дурным становится, может и зашибить. Сколько крови мамке попортил? Через это рано и постарела. Суров Тимофей, нравом крут.
Отец недобро глянул из-под лохматых бровей.
– Явился?
– Явился, – Ванька глаз не отвел. Хватит, вырос уже. На силу другую силу найдем.
– И эту привел? – мутный взгляд задержался на Марье.
– Привел!
Отец смерил тяжелым, налитым злобой взглядом.
– Ну-ну, – сплюнул, попав на бороду, и, пошатываясь, убрался в избу. Внутри что-то обрушилось, зазвенело, покатилось, зазвякало.
– Уф, – фыркнула Аннушка. – Как же я испужалась! Батюшка тебя прибить обещал!
– А ты и рада, лиса, – уличил сестренку Иван.
– Скажешь тоже, – Аннушка прижалась тесней. – А вы насовсем?
– Насовсем. Свадьбу сыграем.
– Только о свадьбах и думаете! Вправду Заступу убил?
– Нет, – качнул Ванька башкой. – Поговорили с ним, всего и делов.
– Ох и смелый ты, Ванька.
Кот настойчиво мявкнул, призывая хозяйку.
– Уж какой есть.
Ванька поставил сестру на землю, к матери подошел. Евдокия сидела на крыльце, привалившись спиной к прогретым солнышком бревнам; в морщинках, собравшихся вокруг глаз, блестели слезинки.
– Все хорошо будет, матушка, вот увидишь, – улыбнулся Ванька, понимая, что говорит не то и не так.
– Дай Бог, – Евдокия улыбнулась слабо и вымученно. – Веди невесту, сынок.
– Матушка, – Марья упала к ее ногам и принялась целовать натруженные, перевитые синими жилами руки. – Матушка.
– Была одна дочка, теперь будет две, дожила на старости лет, – Евдокия коснулась Марьюшкиных волос. – Ступайте в избу. А я маненечко посижу отдохну. Сердце жмет. Сейчас вечерять соберу.
Ванька привел невесту в свою горницу. Шиловы жили богато. Изба большая, просторная, не чета бедноте, ютящейся вповалку и старый и малый. У Ваньки горенка, у Аннушки с Васькой горенка, у матери с отцом опочивальня, просторная обеденная, где отец и торговые дела вершит, гостей принимает, да для челяди закутки – девки Малашки и долговязого Глебки.
Сели к оконцу, рядышком, и долго молчали, боясь порушить сплотившую их близость. Думали каждый о своем и об одном одновременно. Солнце садилось, затихало село, мычали коровы, щелкал кнут пастуха. В доме слышался неразборчивый голос отца и тяжелые, постепенно затихающие шаги. В дверь тихонечко поскреблись.
– Вань, а Вань.
– Ну чего, пострела?
В горенку просочилась Аннушка. Васька маячил за порогом, внутрь не пошел.
– На вота, – сестренка подала ледяную глиняную крынку и кусок чего-то теплого, обернутого чистой тряпицей. – Поисть принесла. Батюшка дюже злой, вас кормить запретил, а я в чулан прокралась и стащила.
– Мамка дала?
– Ага, – рассмеялась Аннушка и широко зевнула. – Ну, я побегу.
– Беги, – Ванька проводил сестру взглядом. В двери мелькнул черный хвост.
Только тут Ванька понял, насколько оголодал. В тряпице оказался пирог с грибами, в крынке – жирное молоко. Накинулся жадно и торопливо, отфыркиваясь и ухая. Марьюшка ела вяло, пощипала пирог, едва пригубив молоко.
– Не ндравится мамкина стряпня? – обиделся Ванька.
– Что ты, Ванечка, Бог с тобой! – всполошилась Марьюшка. – Не хочется, кусок в горло не лезет. Мне много не надо, сытая я. Ты кушай, вон какой большой у меня. И сильный.
– Я такой! – напыжился Ванька, подобрал крошки на ладонь, закинул в рот, допил молоко, вытер белые усы.
Марьюшка смотрела сквозь слезы, улыбнулась невесело и тихо сказала:
– Ты прогони меня, Ванечка, беда одна от меня. А тебе жить надо.
Словно ножом Ваньку пырнули, поник он, понурился, навалился грудью на стол, захрипел:
– Дура ты, Марья, дура как есть! Я за тебя… я за тебя! Эх! Дура!
– Ты ругай меня, Ванечка, ругай, – Марья бросилась на шею, придушила жарким объятием. Теплая, родная, милая. – Люблю я тебя, больше жизни люблю! Век благодарна…
– Ну буде, буде, – опешил Ванька, отстранил невесту и встал.
– Куда ты? – испугалась Марьюшка.
– Спать. Ты тут, а я на сеновал.
– Не бросай меня, родненький, не хочу я одна.
– Люди чего подумают? – Ваньке пуще всего хотелось остаться.
– Теперь не все ли равно?
– Не все! – отрезал Ванька. – По-хорошему у нас будет, Марья, по-божески. Спи. Завтрева свидимся.
Марьюшка словно еще меньше стала, сжалась в комок. Ванька поцеловал ее в лоб, закрыл дверь, постоял, переводя дух, и вышел из притихшей избы. Стемнело, на небе народились первые звезды, ветерок дул прохладный и ласковый, как Марьюшкино дыхание. Он забрался на сеновал, расстелил одеяло и лег, рассматривая узор на досках и осиные гнезда под потолком. День выдался тяжелый и длинный. Упырь Рух Бучила и подземные ужасы казались теперь далеким, забывчивым сном. Звезды вызрели и сверкали серебряной россыпью, клочьями ползли подсвеченные луной облака. В Гнилом лесу выли волки. Зловеще хохотал козодой. Заскрипела лестница, и Ваньке показалось, что на сеновал проник дикий зверь. Узкая, сильная ладошка зажала рот. Запахло весенним лугом и молоком, с легким, едва уловимым послевкусием свежей земли. Марьюшка. Она стянула рубаху, обнажив небольшую, упругую грудь. Рука отнялась от лица, и он почувствовал вкус ее мягких, обжигающих губ…
IV
Аникей Басов, первый из старейшин Нелюдова, проснулся среди ночи в липком поту и сдавленном сипе. Еще не придя в себя, истово закрестился на огонек лампадки в красном углу. Уф, спаси Господи и помилуй. Приснилось Аникею, будто шлепает он в темнотище кромешной, сам не знамо куда, выставив руки наперед, как слепец. А из темноты кличут по имени, манят. Ласковым таким шепотком. Аникей спешит на зов, не может противиться, и неожиданно проваливается в черную яму. Шмякнулся об донышко и проснулся, растудыт твою душу…
– Ты чего всполошился, хер старый? – прошамкала с печки жена, бабка Матрена. Ишь, услыхала, чума. Заноза в заднице, а не старуха, диавол в юбке, Аникеево наказание за грехи.
– До ветру, Матренушка, захотел, – угодливо отозвался Аникей. За годы сумел примириться с бабкиным нравом. Без Матрены Аникею так бы высоко ни в жисть не взлететь. Без приданого и нужных знакомств покойного тестя Григория Полосухина. Всем обязан ей Аникей, оттого и терпел.
– Так иди, чего стонешь?
– Иду, Матренушка, иду! – Аникей заспешил к выходу на сведенных костной хворью ногах. До ветру ему и вправду хотелось. Аж резало низ живота.
– В корыто не напруди! – пригрозила старуха. – Живо бороденку оттяпаю.
Аникей удрученно вздохнул. Гадина старая, как есть сатана. За печкой похрапывала работница Глашка. Помогала по хозяйству дьяволу в юбке: воду таскала, за скотиной следила, мыла полы. Ладная баба, молодая, задницей угол заденет, весь дом задрожит. Сиськи из рубахи вываливаются, сами в руки хотят. И с Аникеем ласковая, «дедушкой» кличет. Эх, щас бы к ней под бочок… Из-за занавески доносилось размеренное дыхание и пахло потным, разгоряченным женским телом.
Аникей с трудом оторвался от щели, вышел в сенцы. Ага, под бочок. Матрена ухватом по темени вдарит, забудешь, чем баба отлична от мужика. Улица встретила прохладой и темнотой. В хлеву шумно возилась свинья. Аникей заспешил через двор, зябко поджимая босые ноги. По-весеннему ледяная земля кусала за пятки. Поджимало так, что не было терпежу. Проклятая баба! Старческие пальцы лихорадочно потеребили завязки подштанников и затянули узел еще крепче. Холера те в бок! Увлекшись, не заметил, как от ворот отделилась черная, зыбкая тень и поплыла прямо к нему. Аникей приплясывал и ругался сквозь зубы, пытаясь сладить с тесьмой. На глаза навернулась слеза. Тень приблизилась, и участливый голос спросил:
– Помочь, Аникей?
Помогать нужды уже не было, старейшина Аникей Басов, большой по нелюдовским меркам человек, опорожнился прямо в портки.
– Ну тише-тише, не верещи, – попросил Рух, глумливо посмеиваясь про себя. Знатно пуганул старика, спасибо, не помер. И ведь не хотел пугать, так получилось, слишком долго ждать пришлось. Старикам пока в голову влезешь и дозовешься – наплачешься. А дело-то спешное.
– Ты? – Аникей выпучил глаза.
– Ну я, а ты кого ждал?
– Н-никого. Ну и сволочь ты, Заступа.
– Не лайся.
– Я в штаны напрудил!
– Новые принести? Я мигом, только скажи.
Аникей заохал, держась за промежность. Надрывно вздохнул и спросил:
– Чего тебе?
– Проведать зашел.
– Ага, поверил я. Чего надо?
– Слыхал поди, невесту-то у меня Ванька-постреленок отбил.
– Слыхал, – скорчил рожу Аникей. – Они как приперлись, ахнули все. Такой переполох поднялся, упаси Бог. Думали, пристукнул Ванька тебя.
– Пытался, чутка не хватило.
– А фурия эта, Марья, как с цепи сорвалась, люди поговорить хотели, так она на них кинулась, и пострадамшие есть.
– Горячая девка, – мечтательно причмокнул Рух.
– Мы к тебе, Заступа-батюшка, гонца посылали.
– Испугались?
– Как Бог свят, испужались. Куда мы без Заступы-то? Пропадем.
– Лестно.
– А гонец вернулся, грит, Заступа живой, показаться не показался, но ругательствами такими обложил, что и слышать не доводилось.
– А чего он орал? – пожаловался Бучила. – Может, я спал. Дело ли, человека будить?
– Не дело, – согласился Аникей и поморщился. – Так, стало быть, ты Марью-то отпустил?
– Отпустил. Добрый я.
– Ага, добрый. Точно, – Аникей подтянул сырые штаны. – Нешто побрезговал, батюшка?
– О том речи нет, свою пенку снял, – отмахнулся Рух. – Ты лучше скажи, Аникей, как на Марью жребий пал? Неужто Заступин мыт не собрали?
– Собрали, – затряс седой бородой Аникей. – Все до копеечки, как полагается, и людей в Новгород снарядили, да не срослось.
– Чего так?
– Устинья поперек дороги нам встала, – наябедничал старик. – Ты знаешь, ее слово в выборе невесты самое первое. Раньше-то она не совалась, поглядит, покивает, да и все, а тут словно вожжа под хвост угодила. Сказала, кости гадальные велели Заступе из своих девицу непорочную дать. А ежели нет, то будет два года неурожай, скотина охромеет и дети народятся страшилами. На Марью и указала.
– Устинье какой с того интерес?
– А не знаю, – развел руками Аникей. – Может, нет интересу, а может, и есть.
– Хм.
– Люди меж собой всякое говорят, – старейшина понизил и без того тихий голос до шепота и воровато огляделся. – У Устиньи дочка – Иринка, соков женственных набрала, и, дескать, замыслила мать выдать ее за Ваньку Шилова, а Марьюшку, невесту его, через тебя извести.
– Вот оно как, – удивился Бучила. Ну и Устинья! Решила и рыбку съесть, и все такое прочее. Хитрая баба. Дело приняло совсем иной оборот. Нехорошее чувство возникает, когда тебя попытались использовать.
– Устинья страсть как озлобела, узнав, что Марья живой вернулась и у Ваньки живет, – сообщил Аникей. – Чисто мегера. Сатаниил.
– Осатанеешь тут, – Рух потерял к старейшине интерес. – Тебе, Аникей, спать не пора? Любишь ты разговоры вести, прямо удержу нет.
– Так я пойду? – оживился старик.
– Так иди.
Аникей поклонился и засеменил к избе, смешно, по-журавлиному выставляя длинные, тощие ноги. Хлопнула дверь, лязгнул засов. Руха Бучилы на дворе уже не было, заполночные визиты продолжились.
V
Устинья Каргашина еще не ложилась. Глубокая ночь – лучшее время для отложенных дел. Тех дел, что белым днем не свершишь. Устинья не зналась с чертями и не молилась старым кровавым богам, до сих пор дремлющим в чащах и топях, не приносила в жертву младенцев и не летала на помеле. Хотя ведьмой была потомственной, получившей дар от матери, а та от своей его получила. Немножко гадалка, немножко колдунья, больше лекарка и мастерица в снятии порчи. Всего по чуть-чуть. Достаточно, чтобы быть нужной людям и не взойти на костер.
Сизый дымок от лучины клубился под потолком, тоненькой струйкой утекая в окно. Изба полнилась пряными ароматами полыни, одолени, гермала, зверобоя, лапчатки, зайцегуба и еще тысячи травок и трав. От живота, от сглаза, от женских и коровьих болезней, для мужской силы, да мало ли для чего. У Устиньи на всяк случай своя травка припасена.
Знахарка сидела, подперев голову руками. Перед ней, на столе, в бадье настаивались болиголов, можжевельник и чеснок, приправленные сухими веточками березы. Заваренный в ночную пору, до полнолуния, отвар поможет детям избавиться от кошмаров, прогонит демонов-сонников, норовящих забраться в открытые рты.
Дочка – Иринка, шестнадцати лет, – посапывала на лавке, разметав по подушке черные косы, похожие на свившихся змей. Материна надежда и радость, ей, когда придет время, передаст Устинья свой дар.
Рыжий, какой-то совершено не подходящий для колдовских целей, слегка ободранный, разбойничьего вида кот, свернувшийся рядом, внезапно навострил порванное в многочисленных драках ухо. Гибко вскочил, выгнул спину дыбом и зашипел на стену.
– Ты чего, Асташ? – напряглась Устинья, кошачий страх передался и ей. За стеной послышались тихие, вкрадчивые шаги. Или ветер шумит? Устинья тяжело задышала. Асташ ворчал и шипел. Иринка забеспокоилась во сне, белая рука соскользнула на пол.
В дверь отрывисто постучали. Устиньино сердце едва не оборвалось. Кого черт принес?
Стараясь ступать бесшумно, прокралась в сени, прихватив приставленный к стенке топор. Асташ не пошел, не дурной. Трусливая скотиняка. Тяжесть железа вселила уверенность. Стук больше не повторялся. Устинья прижалась к двери, прислушалась. Тишина. Рядом брехали псы.
– Кто там? – с придыханием спросила знахарка. Никто не ответил. Может, почудилось? Устинья коснулась запора. Не открывай, дура, не открывай! Она встряхнулась, прогоняя липнущий страх. Каждого чиха бояться?
Распахнула дверь и проворно отскочила, готовя топор. Никого. Устинья вышла на крыльцо, ее потрясывало. От обиды закусила губу. Верно, прохожий шутнул. Или парни озоруют, скучно им, падлам. Почти успокоившись, она прошлась по двору, помахивая топориком, проверила калитку, заглянула в темный, страшный амбар. Внутрь зайти поостереглась. Вроде знакомое, а ночью все другим кажется – настороженным, злым. И темнота изменилась, став опасной и жадной. От амбара Устинья на всякий случай отступала спиной. Береженого Бог бережет. С крыльца осмотрелась еще раз. Задвинула засов, не заметив пары комочков рассыпчатой, влажной земли на полу.
В горнице словно стало темней, хотя лучина горела прежним ровным огнем. Устинья вдруг перестала дышать. Мысли птицей метнулись к оставленному в сенях топору. Дура, чертова дура. В красном углу, под иконами, сидел человек в темной хламиде, лицо закрывал капюшон. Устинья подавила рвущийся вскрик, стрельнула глазами на дочь. Иринка спокойно, умиротворенно спала.
– Здравствуй, Устинья, – голос ночного гостя был низок, вкрадчив и хрипл. Знакомый такой голосок. Человек сдвинул капюшон, приоткрыв худое, резко очерченное лицо, пронизанное сеткой черных, болезненных жил. Тонкие губы тронула мерзостная усмешка. На знахарку пристально глядели страшные, завораживающие глаза – белые бельма, без радужки, с черной точкой зрачка.
– Напугал, проклятущий, – Устинью чуть повело.
– Не тебя первую, если это поможет, – ласково, по его меркам, улыбнулся Бучила. – Ты проходи, будь как дома, садись.
– Спасибо, – Устинья присела напротив упыря, страх понемногу ушел. – Говорила: ночью не приходи. В прошлый раз соседка увидела, распустила слух, будто Степка Кольцо ко мне шастает.
– А Степка не шастает?
– Ты пошто пришел? – проигнорировала Устинья скользкий вопрос.
– Соскучился.
– Угу, дура я.
Рух откинулся на спину, посмотрел пристально и сказал:
– Очень давно, в той еще жизни, гадала мне знахарка одна. Счастья обещала воз, богатство, любовь. Радовался, верил. А оно вона как вышло.
– Пожалеть тебя? – фыркнула Устинья, не понимая, куда клонит упырь.
– Можно и пожалеть, я до ласки ух какой жадный. А лучше погадай мне, Устинья, слыхал, мастерица ты кости кидать. Кстати, чьи? Запойного пьяницы-самоубивца? Они вроде самые верные. Или на бычьих?
– У младенчиков кровь выпиваю, а костями в кружке бренчу, – напряглась Устинья.
– Марью таким макаром сосватала мне?
– Ах вот ты приперся чего, – Устинья взгляда не отвела. – Дело мое, кого я сосватала, тебе какая беда?
– Не люблю, когда мной играют. Очень от этого злюсь, – признался Рух.
– А кто играет? – загорячилась Устинья.
– Не знаю, но обязательно выясню. А пока с тебя спрос. Слухи дошли, Иринку свою хочешь за Ваньку Шилова выдать, вот Марью и спровадила мне.
– Кто сказал? – Устинья побелела.
– Ну мало ли кто. Люди. Я, знаешь ли, общительный, умею развязывать языки.
– Врут люди твои, – вспылила знахарка и осеклась, боясь разбудить спящую дочь. – Чтобы я ягодку мою за Ваньку Шилова отдала? Кобелюку паршивого? Да ни в жисть! Не дай Бог с семейкой их породниться.
– И то верно, не пара он Иринке твоей, я сразу так и подумал, – Рух искоса посмотрел на спящую девушку. – Красивая она у тебя, кровь с молоком, может, отдашь за меня, чтобы свиньи хорошо поросились и злой неурожай миновал? Так ты вродь нагадала? Я возьму.
– Нет, – вскинулась травница.
– А чего, в женихи не гожусь? Рылом не вышел? – Рух оскалил клыки, приоткрыв лепестковую пасть. Устинью передернуло.
– Наврала я. – Она инстинктивно прикрыла дочку собой, так наседка закрывает цыпленка, увидев ястреба в небесах. – Набрехала и про поросей, и про неурожай. Кости всякое показали, а я додумала.
– И зачем?
– Не моя тайна, – Устинья отвела взгляд. – Уходи, Бучила, не мучай. Все равно не вышло у нас.
– Не скажешь?
– Не скажу.
Рух помолчал, задумчиво поскреб черным ногтем стол и проговорил:
– Пятнадцать весен тому, к воротам Нелюдова прибилась бродяжка – голодная, босая, окровавленная, раздетая, с умирающим младенцем в слабых руках. Свалилась в канаву у ворот, просила еды. Лохмотья на спине разошлись, и все увидели – женщина клеймена как скотина. Крест в круге, знак новгородского патриарха. Ведьма. Люди хотели камнями забить. Помнишь, Устинья, кто их остановил? Помнишь, кем была та бродяжка, и что с ней стало потом?
– Помню и никогда не забуду, – с придыханием ответила знахарка, роняя внезапно закружившуюся голову на руки. – Все тебе расскажу…
VI
Ночка миновала, полная страсти и нежности, смешивая запахи прошлогоднего сена, пыли и неистовой жаркой любви. До изнеможения, до животного стона, до закушенных до крови губ. Первый и словно в последний раз. Марья ушла, едва небо чуть засветлело, и звезды начали потухать, оставив после себя тепло и хмельное кружение в голове. Поспать Ваньке так и не удалось. Вскочил с рассветом, счастливый, довольный и радостный. Умылся, хлеба кусок ухватил, по хозяйству захлопотал. Горы готов был свернуть. Воды натаскал, дров наколол, задал овса лошадям. Аннушка вышла заспанная, руками всплеснула. Отродясь не видела брата таким. Мать улыбалась тайком. Поняла, что к чему, почуяла женским нутром. Глава семейства храпел в опочивальне, просыпался с криками, орал на весь дом. Всю ночь шатался по кабакам, дружки притащили под утро, усадили у ворот: расхристанного, пьяного, вывалянного в грязи. Тимофей упал, пел матерные частушки, грозился в предрассветную тьму. Своих не узнавал. Едва уложили.
Сердобольная Аннушка хлопотала над отцом, успокаивала, таскала из подполья крепкий огуречный рассол. Отцовскому загулу Ванька обрадовался. Знал, предстоит сурьезнейший разговор. К Шиловым зачастили гости. То соседка за солью, то кума поздоровкаться, то мимохожий зайдет. Искоса посматривали на Марью, незаметно крестились, пришлось ворота закрыть.
Марьюшка помогала во всем: быстрая, сноровистая, умелая. Они почти и не говорили, лишь изредка обмениваясь взглядами шальных, обжигающих глаз. Матушка к обеду покликала, когда Марьюшка, подметавшая двор, вдруг побледнела и едва не упала, схватившись за столб.
– Марьюшка! – Ванька подскочил, успел поддержать.
– В голове помутилось… ох, – Марьюшка обмякла у него на руках, потеряла сознание.
Ее грудь вздымалась бурно и тяжело. Лицо приняло землистый оттенок, она засипела, из носа капала водянистая, алая кровь. Напуганный Ванька потащил невесту в горницу, бережно опустил на ложе. Прибежала Аннушка, сунулась под руку, округляя от страха глаза.
– Вань, Вань, чего тут?
– Марьюшке поплохело, – огрызнулся Ванька, не зная, что предпринять.
– Ое-ешечки! – сестренка вылетела из комнаты. – Матушка! Матушка!
Марьюшке становилось хужей и хужей. Лоб покрылся испариной, рубаха приклеилась к телу, лицо заострилось. Лежала раскаленная, мокрая, вялая. Ванька приготовился расплакаться от бессилия.
Вошла мать, оттерла сына плечом. Склонилась к Марьюшке, положила руку на лоб.
– Горит девка. Беги за лекаркой, живо!
– Это я щас! – Ванька пришел в себя, опрометью бросился на улицу. С полдороги спохватился, вернулся, схватил рубаху, потянул на бегу через ворот.
– Анька, воды! – донесся в спину материн крик.
Никогда так Ванька не бегал, дышать стало нечем, спицей кололо в боку. Лекарка Ефросинья жила на другом конце села, возле Тверских ворот. Бабка поможет, всякие болезни знает и лечит, и телесные, и душевные. Берет недорого, кто сколько даст. Ванька бежал, распугивая курей, перепрыгивая грязные лужи. Наступил в воду, черпанул через край. «Марьюшка, Марьюшка», – прыгала в голове дикая мысль. Впереди замаячила островерхая крыша. Всем телом ударился в калитку, залетел на двор. Огляделся. Бабка Ефросинья ковырялась на огороде, тяпая землю мотыжкой. Рядом дергался приживала – оживленная волшбой деревянная кукла высотой бабке до пояса, с ручками на шарнирах и грубо намалеванным краской лицом. Такие еще встречались у старых колдуний, помогая по хозяйству и в ведовстве. Увидав Ваньку, приживала заслонил хозяйку собой. Ефросинья, напуганная вторжением, погрозила сухоньким кулаком.
– Куды лезешь, диавол?
Ванька попер на нее.
– Репу подавишь, лободырый! – приживала замахал тоненькими ручонками. – А ну повертай!
– Отвали, полено. Спаси, бабушка, – Ванька хлопнулся на колени, не обращая внимания на разбушевавшегося деревянного человека. – Невеста помирает.
– Марья? – подозрительно прищурилась лекарка.
– Она.
Лекарка отступила, щеря беззубый рот.
– Пущай помирает, оно и к лучшему выйдет.
– Бабушка!
– Заступе невесту верни, – Ефросинья погрозила пальцем. – Она с ним повязана, так и будет соки тянуть. Ту жилочку порвать сил моих нет, дело богомерзкое, грешное. Не возьмусь. К Устинье иди, она с чертом на короткой ноге, авось подмогнет. Ну, а ты чего встал? – ощерилась бабка на приживалу. – Копай!
От бабки Ванька рысью несся, задыхаясь и падая. Из конца села в конец, как дурак. А Марьюшка помирает… Лишь бы успеть. Изба Устиньи за глухим забором, ни щели, ни перелаза. Ведьма она, вот и прячется с глаз людских, вершит худые дела. За помощью к ней обратиться – душу продать. А куда денешься? Ванька заколотился в ворота, как мотылек.
Устинья открыла сразу. На Ваньку уставились чернющие, омутные глаза.
– Чего тебе?
– Там это, – Ванька зашелся надсадным кашлем, – Марьюшка помирает. Помоги, век служить тебе буду!
– Уходи, – Устинья попыталась захлопнуть калитку.
– Помоги, – Ванька сунул в щель ногу. – Помирает…
– Мне что с того? Твоя голова где была, когда к Заступе полез? Уходи.
Устинья налегла на калитку, стукнул засов.
Обратно Ванька шел, не разбирая пути. Для себя решил: помрет Марьюшка, сначала Ефросиньин дом подожжет, потом и Устиньин. Опосля себя порешит. Пусть знают. Домой зашел, хлопнул дверью, что было сил.
– Цыц! – из кухни выглянула недовольная мать. – Не шуми, спит она, отпустила лихоманка проклятая, жар унялся.
В горницу Ванька как на крыльях влетел. Марьюшка спала, разбросав по подушкам спутанные русые косы. Грудь вздымалась спокойно и ровно, на щеках появился румянец. Ванька обессиленно сполз спиной по стене.
– Кыс-кыс! – вошла Аннушка и пожаловалась: – Васька пропал. Не видал?
– Нет, – Ванька мотнул головой. Кот сейчас волновал его меньше всего. Он и раньше исчезал то на день, то на два, ничего страшного. Весна на дворе.
– Только был, и нету его! – развела руками сестра. – Марьюшка заметалась, закричала, он и испугался поди, обормот. Мы с маманькой с ног сбились, то к Марьюшке, то к отцу, а тебя все нет и нет. А тут коровки вернулись, мы к ним. Пока бегали, глядим, а она и выздоровела совсем. Такие вот чудеса!
VII
К вечеру Марьюшка не проснулась. Ванька будить не стал, сидел цепным псом, ожидал. Внезапный недуг отступил, выпустил девку из лап. Домашние вели себя тихо, даже отец не буянил. Сунулся в горницу, посмотрел волком и отбыл в кабак, заливать непонятное горе. Мать громыхала горшками, Аннушка, не найдя Ваську, занялась рукоделием. По дому плыл аромат свежего хлеба и щей.
Ванька поклевал носом и незаметно уснул, забылся тяжелой, болезненной дремотой. Проснулся рывком. Свеча почти догорела, время к полуночи. Темнота налилась чернотой, густела вдоль стен. Ванька потянулся, зевнул, да так и застыл. Марьюшки не было. Смятая постель остыла, лоскутное одеяло отброшено в сторону. К Бучиле ушла! – пронзила первая, глупая мысль. Ванька засуетился, выскреб огарок, запалил новую свечку. Темное облако нехотя отступило, сжалось в углах.
Высунул нос из горницы. Темно и тихо было в избе, лишь под печкой шебуршились и попискивали мыши. Ванька прокрался в сени. Свечные отблески прыгали по ушатам и веникам. Он замер, уловив странный шум. На конюшне беспокоились лошади, били копытами, фыркали. Словно волка почуяли.
Ванька толкнул двери на двор. Внутри клубилась пропахшая навозом и гнилым сеном темнота. В хлеву завозились, в длинную щель просунулись свинские пятачки, щетинистые бока терлись о жерди. Коровы, Буренка с Малушей, проводили Ваньку сонным, задумчивым взглядом. Кони похрапывали. Никак домовой балует, гривы плетет? Увидеть его большая удача. Ванька, обмирая со страху, вошел на конюшню, подняв свечу над головой. Теплый свет отбрасывал тьму на пару шагов. Ноги бесшумно ступали по рыхлой подстилке. Ломовик, ленивый, вислогубый Каурка, и две пристяжные кобылы испуганно жались к черным стенам. Остро пахло нагревшейся медью. Посреди конюшни каменел Жаворонок, смолистый вороной жеребец, отцовский любимец. Дивно красивый и быстрый. Под бархатной шкурой мелко подрагивали упругие мышцы. Задние ноги подгибались в полуприседе. К шее коня, резко выделяясь на угольном фоне, припала белая, скособоченная фигура. Слышалось жадное чавканье. У Ваньки волосы встали дыбом. Надо было топор прихватить, да чего уж теперь…
Фигурка дернулась, угодив в полосу света, ушей коснулся сдавленный шип. К Ваньке повернулось страшное, окровавленное лицо. Багровые подтеки сползали на грудь, в оскаленном рту белели острые зубы.
Сука! Ванька оступился и едва не упал. Тварь прыгнула с места на полусогнутых, выставив руки перед собой… И замерла. Косматая голова склонилась к плечу, уставив на Ваньку крохотные, наполненные безумием глаза.
– Ванечка? – растерянно спросила тварь. Перед ним стояла Марьюшка: поникшая, жалкая, страшная. С уголка губ, пузырясь, сочился багровый кисель.
– Ты чего это? – невпопад спросил Ванька. Его мутило.
– Я не знаю, – Марьюшка с ужасом рассматривала залитые кровью руки. – Ванюша, Ванюша…
И упала без чувств.
VIII
Чуть свет, Ванька был на Лысой горе. В стылую дыру не полез, на своих ошибках учатся. Крикнул вниз, слушая гулкое эхо:
– Бучила! Бучила! Выйди на час!
Ответа не было, упырь издевался или крепко спал. Наконец из кромешной тьмы донеслись шаркающие шаги. Тени зашевелились, потекли кудлатыми прядями, потянуло нечистым, болезненным воздухом. Рассветное солнце пугливо замерло на изломе черных лесов.
По ступенькам поднялся Бучила в балахоне до пят, с глубоким капюшоном на голове, кисти спрятаны в рукавах. Похож на монаха, да не монах.
– Че приперся? – Рух посмотрел выжидательно. Внутри у него звенели серебряные колокола. Приятно побеждать. Знал, что придет.
– С Марьюшкой беда, – выдохнул Ванька.
– То ли еще будет, – обнадежил Бучила.
– Ночью у коня кровь пила.
– Вот оно как, – притворно удивился Рух. – Быстрая. Ах, ну да, прибывающая луна. Стоило ждать.
Ванька подался вперед, пытаясь заглянуть Бучиле в глаза.
– Об одном прошу, ответь на духу: Марьюшка моя станет такой же, как ты?
– Как я? Ну уж нет. Я вурдалак, мертвец неупокоенный и восставший, вурдалачим зовом из могилы поднятый. Смертью лютой обретший новую жизнь. Сохранивший разум. А Марья твоя обратится упырем, тварью злобной и обезумевшей. Сегодня кони, завтра люди. Жажда будет расти, съедать изнутри. Сначала кровь, потом мясо. Одичает и изменится, станет бояться солнечного света и проточной воды.
Ванька стоял, покачиваясь на каблуках. Кулаки сжал добела. Все рухнуло, рассыпалось в прах.
– Лекарство…
– Лекарства нет, – отрезал Бучила. – Есть два пути. Оба тебе не пондравятся. Первый – уйти от людей, скрыться в лесах. Ты и она. Если поить козлиной кровью, заваренной на чертополохе и красном грибе, выгадаете несколько лет. Будешь засыпать, не зная, проснешься иль нет.
Рух многозначительно замолчал.
– А второй? – выдохнул Ванька.
– Девку убей.
Ванька похолодел.
– Тогда будет выбор, – закончил Бучила. – Похоронишь, и Марья возродится с полной луной, выроется из-под земли, станет вурдалачкой, родичем мне. Если любите, будете вместе. Мертвый с живым. А проткнешь колом – успокоишь навек. Тебе решать.
– Ты мог мне сказать, – у Ваньки в горле заклокотало.
– Мог, да кто меня слушал? Дома она?
– Ну, – напрягся Иван. – Запер и велел никому не входить, сказал, лихоманка вернулась.
– Рисковый ты, – хмыкнул Бучила, улыбка вышла паскудной.
Ванька попятился, меняясь в лице, повернулся и побежал вниз по тропе. Ветер рвал рубаху, трепетал в волосах. Ванька бежал. Ворвался в избу, сложился напополам, хватал воздух ртом, держась за косяк. Дверь в горницу была приоткрыта, роняя в коридор лучик яркого света. Марья пропала, оставив после себя измятую, скомканную постель. Выпустили! Ох, е! Он едва не расплакался и тут увидел торчащий из-под ложа кусок черной шерсти. Свалился на пузо, сунул руку, нашарил мягкое. Сердце учащенно забилось. Ванька вытащил мертвого кота, легкого, словно былинку. Окоченевшие лапки торчали колом, мутные глаза выкатились, шерстка на шее слиплась в засохшей крови. От упитанного Васьки остались кожа да кости. Нашелся котейка.
Мать прибиралась в хлеву.
– Марья где?
– Напугал, окаянный, – вскинулась мать. – Ты где был? Ушли они.
– Кто?
– Марьюшка с Аннушкой. На реку… Ванька, постой!
Мать кричала, прохожие шарахались в стороны, от ворот свистели и гикали. Перед глазами плыло, расходились и лопались цветные круги. Ванька знал, куда бежать. К трем кривым ивам, макающим ветки в омут, где со дна бьют ледяные ключи. Их любимое место…
Ванька запыхался, упал, несколько шагов одолел на четвереньках, поднялся шатаясь, как пьяный. Старые ивы встретили угрожающим шепотом. Птицы не пели, солнце померкло. Ванька заорал дико, заблажил, увидав у воды крохотное тельце в лазоревом сарафане. Аннушка лежала на берегу, и ивы пытались прикрыть ребенка тонкими, гибкими кронами. В остекленевших, полных удивления глазах отражались плывущие облака, из разорванной шеи толчками шла алая кровь. Ножки взбили песок, руки намертво вцепились в траву.
Ванька рухнул на колени и захрипел. Слез не было – выкипели.
В зарослях зашуршало, он резко повернулся. Из-за деревьев вышла Марьюшка, застенчиво улыбнулась. Милая и родная. Впечатление портили багровые подтеки на губах и груди. Ваньку трясло.
– Ты… ты… ты зачем? – он поднялся, раскачиваясь.
– Любимый, – Марьюшкин голос очаровывал, – я не виновата… Я ради любви… Ванечка.
Ванька окоченел, позволяя обнять себя. Они опустились в песок. Марьюшка жалась щенком, виновато заглядывала в глаза.
– Уедем, ты и я, нам не нужен никто, Ванечка, – шептала она, пачкая его кровью сестры. – Злые они, не поймут, а у нас любовь…
– Оно так, – отвечал Ванька чуть слышно, баюкая любимую на руках. Хотелось лечь и уже не вставать.
– Уедем далеко-далеко, – Марьюшкины глаза горели безумным огнем. Она украдкой облизнула липкие пальцы.
– Оно так, – повторил Ванька.
– Люби… – Марьюшка хоркнула, скосив глаза на нож, торчащий ниже левой груди. Ванькины слезы капали ей на лицо. Он бил снова и снова, чувствуя теплые струйки, выплескивающиеся на живот, и сосущую пустоту. Клинок легко входил в мягкую плоть. Марья обмякла, руки разжались.
– Ванюша…
Ванька надрывно, по-волчьи, завыл.
Аннушку снес домой, бережно опустил на ложе рядом с котом. Девочка и зверь, Ванькина плата за несбывшуюся любовь, за счастья единственный день. Убрел, шатаясь, прикрыв уши руками, заглушая истошный материн крик. Марье вбил в сердце осиновый кол, зарыл невесту под тремя старыми ивами, на высоком речном берегу. Ни холмика, ни креста не оставил, пускай зарастает быльем. Стоял, опустошенный и сломленный. Вспоминал себя, обмирающего со страху перед логовом упыря. Обид не таил. Сам виноват. Была мечта, осталась черная гарь. Шагнул было к омуту. Нет. Грехи можно лишь искупить. Блеклое солнце коснулось земли, бросило извилистые, жирные тени. Ванька Шилов без оглядки уходил по дороге на Новгород.
IX
Дзынь. Дзынь. Рух забавлялся, роняя монеты на стол. Серебряные кругляши обжигали пальцы огнем и разлетались с мелодичным бренчанием. Горница пропиталась застоявшимся перегаром, кислятиной, овчиной и стухшей мочой. Пламя свечи колебалось и прыгало. Мужик, разметавшийся на ложе, сдавленно замычал. Из недр битой молью медвежьей шкуры тяжело поднялась лохматая голова. Рожа опухшая, заплывшая синяком, в нечесаной бороде налипла засохшая блевотень. Дико вращались налитые кровью глаза. На Тимофея Шилова было страшно глядеть. Допился.
– Кто таков? – прорычал Тимофей.
– Заступа, – любезно представился Рух. – Вставай, Тимоша, поговорим.
– Не о чем мне с тобой разговаривать, чудище, – закашлялся Тимофей, подхватил с пола кувшин и забулькал, кадык заходил ходуном. Пил жадно, проливая на грудь. По горнице разлился пивной дух.
Тимофей отфыркался, грохнул кувшином по столу, уставился на монеты.
– Деньгу принес, образина? У меня своих курья не клюют.
– Любишь серебришко? – полюбопытствовал Рух.
– А кто не любит?
– Мертвые, – вкрадчиво сказал Рух. Тимофей отшатнулся, в осоловелых глазах мелькнул страх.
Рух сгреб деньги в кучку.
– Пятнадцать монет, Тимофей.
– Эка невидаль, тьфу.
– Столько ты заплатил Устинье, чтоб нагадала мне Марью отдать.
Тимофей Шилов вмиг протрезвел. Съежился, втянул голову в плечи и прошипел:
– Откуда узнал?
Рух неопределенно пожал плечами.
– Можно скрыться от людей и от Бога, от меня не скроешься, Тимофей. Не хотел сына на беднячке женить, гордыня взыграла, отговорить не сумел, ни угрозы, ни посулы не помогли. Серебро тайком девке сулил. Отказалась она от денег поганых твоих. Не предала любовь свою. Тогда удумал злодейство. Все рассчитал, Устинью уговорил. Она и не отпиралась, серебро на дороге не валяется. Сладились вы. Нагадала знахарка Марьюшке злую судьбу.
– Моя то воля, отцовская, – захрипел Тимофей. – Не тебе меня совестить, чудище.
Монета со щелчком вылетела из пальцев Руха, ударила Шилову в грудь, отскочила и покатилась кругом на дощатом полу. Вторая попала в лицо. Бучила кидал, ведя зловещий отсчет.
– Пятнадцать монет, Тимофей, небольшая цена. Пять за Марьюшку, пять за дочь твою, Анну, пять за порушенную Ванькину жизнь.
Деньги, тускло посверкивая, летели Шилову в грудь и лицо. Тимофей не пытался уклониться, окаменел. Последняя монета исчезла в косматой, давно не стриженной бороде.
– Три загубленные души, Тимофей. За пятнадцать монет. Не продешевил?
Шилов бухнулся на колени, пополз к Руху, умоляюще вытянув руки.
– Грех на мне великий, нет мне прощения. Убей меня, Заступа-батюшка, убей, заслужил!
Бучила встал и отступил в темноту, брезгливо корча тонкие губы.
– Это слишком просто, Тимоша. Живи, помни, жри себя заживо, пусть Марья с Аннушкой являются тебе по ночам. Об этом я позабочусь.
– Заступа! – Шилов полз следом за ним. – Прости!
– Бог простит, – Рух пихнул скулящего Тимофея ногой, отошел к двери, обернулся и сказал на прощание: – Я хотя бы дал твоему сыну надежду. Так кто из нас чудовище, Тимофей?
Иван Белов
Шепот крика
Ми
Глеб знал, что когда-нибудь снова услышит голос жены.
Вообще-то, надежды уже не осталось. Прошло два года с тех пор, как Валя вышла из дома в парикмахерскую и не вернулась. Всем было понятно, что вряд ли ее найдут живой. Разве что в пабликах о пропаже людей время от времени появлялись комментарии, что женщины просто так не пропадают, а уходят из дома к другим мужикам, отдохнуть и развеяться.
И твоя нагуляется и придет, писали со знанием дела. Женщинам только этого и надо. Плохой ты муж, раз телка свалила налево.
Хотелось найти каждого комментатора и методично вбить в голову простую до слабости в ногах мысль: трагедии случаются. Даже с такими умниками, как вы.
…Первый год Глеб искал. Возможностей у него было немного. Это только в фильмах среди телефонных контактов всегда находился человек из МВД, имеющий связи, готовый по доброте душевной включиться в поиски пропавшего человека. На деле же круг знакомств Глеба ограничивался коллегами по работе и соседями по лестничной площадке. Среди них всемогущих энтузиастов не было.
Сообщества по поиску людей тоже не принесли результата. Информация была разослана, волонтеры обследовали маршруты жены, подключились к поиску вместе с полицией, но через две недели начали потихоньку сворачивать активность. Терялись другие люди, им тоже требовалась помощь. Глеб понимал.
Он обошел всех магов и чародеев в районе (с кем-то Валя была знакома; эти ее увлечения хиромантией и загробной жизнью), но никто помочь не мог. Как полагается, брали деньги, отвечали туманно и размыто. Вроде бы жива, а вроде и нет. Один маг сообщил, что Валя застряла между жизнью и смертью, а вытащить ее никто не сможет. Вернее, он бы попытался, без всяких, разумеется, гарантий, но за такие деньги, каких у Глеба никогда не было.
В конечном итоге, Глеб почти сдался.
На второй год он попытался начать жить заново. Кто-то ему посоветовал удалить все записи, видео и аудиофайлы с Валей, сжечь прошлое, оставить его за спиной. Не получилось. Не мог он уничтожить ни единого файла из ноутбука или телефона. Ловил себя на том, что сидит глубокой ночью и рассматривает Валины фотографии. Понимал, что жизнь не будет новой, придется болтаться в старой с ее светлыми и грустными воспоминаниями и – самое ужасное – с тем самым днем в голове, когда жена поцеловала в небритую щеку, прихватила ключи и сказала коротко: «Через пару часов жди». Однако же не пришла ни через два часа, ни через тысячу.
Он тоже как будто завис между жизнью и смертью и не знал, как двинуться в нужную сторону. Да и где она вообще была – нужная сторона?
Си
На третий год после пропажи он услышал вдруг Валин голос.
Как будто она шепнула на ухо: «Я здесь!»
И этот шепот, раздавшийся в тишине пустой комнаты, показался криком.
Глеб замер с чашкой кофе в руках. Он как раз завтракал, собираясь на работу. На блюдце перед ним лежали два тоста с маслом (Валя любила с джемом. Баночка черничного стояла на полке в шкафчике над раковиной). Кофе был обжигающе горячим, только из кофемашины.
«Я здесь!»
Ее голос. Ее божественный возбуждающий шепот.
Однако же в их однокомнатной студии больше никого не было. Сложно, знаете ли, не заметить человека среди двадцати пяти квадратов, включающих совмещенный санузел.
«Спаси меня!» – шепнула Валя.
Глеб сразу поверил, что слышит именно Валю. Каким-то образом она нашла способ связаться с ним. А как же иначе?
– Ты где? – спросил Глеб у пустой квартиры.
Ему никто не ответил.
– Я смогу тебя найти? – спросил он, озираясь.
Смятая постель, телевизор на стене, книжный шкаф, тумбочка с зеркалом, на котором все еще стояли Валины духи, губная помада, тени, пудра, еще что-то, что Глеб не трогал и не убирал, подчиняясь глубинному, какому-то серому суеверию о памяти человека и его обязательном возвращении.
Глеб ощутил тревожное беспокойство, какое было у него в первые недели после пропажи жены. Тогда надежда была особенно сильна. Тогда не хотелось – да и невозможно было – сидеть на месте. Надо было действовать, тратить каждую минуту с умом, заниматься поисками, анализировать, рыскать, вынюхивать. Глеб ходил с волонтерами по городу, исследовал мусорные баки, канализационные люки, забирался на чердаки, спускался в подвалы. Тогда казалось, что, если остановиться хотя бы на мгновение, время будет упущено и Вале уже никто не сможет помочь.
Только прошло два года, а Валя до сих пор не нашлась. Глеб перестал искать. Разве что иногда подмечал детали: вот он идет тем же подземным переходом, каким Валя каждое утро проходила на работу, мимо киоска «Бистро», глухонемого попрошайки с гитарой, ларька «Делаем ключи», к автобусной остановке; вот зеленый трамвай «тройка», на котором Валя добиралась до фитнес-клуба; вот базарчик на углу многоэтажного дома, где пахнет шаурмой и сигаретами – Валя покупала на этом базаре овощи, считая, что здесь они самые свежие.
Где-то на привычном маршруте она изменила себе, прервала путь, свернула в сторону. Или ей помогли свернуть, чтобы вырвать из жизни навсегда.
– Показалось? – спросил сам себя Глеб.
Конечно, все перемещения Вали давно изучили. Видели ее в лифте, выходящей из подъезда, затем на перекрестке двух улиц перед остановкой. Непонятно было, садилась ли она на автобус. На выходе через три остановки тоже не нашлось свидетелей, кто запомнил бы осенним вечером двадцатишестилетнюю девушку с красными или даже темно-рыжими волосами, в джинсах, коричневых сапожках и в кожаной куртке с меховым капюшоном. Кажется, одна камера на углу дома, где располагалась парикмахерская, засекла похожую девушку, но на сто процентов никто уверен не был. Полицейские, как казалось Глебу, искренне хотели помочь. Просто не все было в их силах.
Беспокойство заставило Глеба быстро собраться и выскочить на улицу. Он шел по тротуару, вжав голову в плечи, той же дорогой, которой Валя отправилась к парикмахеру. Мелкий дождь раздражал. Через полчаса Глебу надо было выезжать на работу, а он даже не закончил завтрак: эта мысль казалась безнадежно устаревшей и неактуальной. Глеб крутил головой, будто был антенной, пытающейся еще раз настроиться на Валин голос.
Он нырнул в подземный переход. Кафе «Бистро» уже открылось, сонный таджик раскладывал на витрине пакеты со специями. За его спиной крутилось мясо для шаурмы.
Глеб вышел из перехода к остановке автобуса. Замер, услышав вдруг слабое:
«Приди, пожалуйста!»
Как раз подъехал нужный автобус. Глеб влез в него вместе с потоком людей, был оттеснен к окну и ехал, разглядывая собственное отражение в мокром от дождя окне.
Сейчас он должен был бриться. Мелкая светлая щетина ему не шла. Валя всегда просила бриться перед работой, чтобы выглядеть в офисе лучше всех.
Вышел на нужной остановке, вспоминая маршрут жены. Вроде бы через дорогу, налево, мимо ирландского бара, вон к тем многоэтажным домам.
Что он хотел найти здесь? Сам не знал. Просто шел.
Вокруг люди отправлялись на работы. На дороге в утренней пробке сигналили нетерпеливые автомобилисты. На пешеходном переходе столпились велосипедисты – им даже дождь нипочем. Жизнь текла в привычном ритме, и Глеб вдруг понял, каким лишним он здесь кажется, каким ненужным с этим поиском непонятно чего. Его накрыла трезвая реальность. Он остановился у зоомагазина, подмигивающего разноцветной вывеской с изображением котенка. Размазал по лицу холодные капли дождя. Осмотрелся.
Никаких слов он, конечно, не слышал. Жена не могла шептать, потому что, скорее всего, была уже давно мертва. А у Глеба депрессия, как и говорили родители. Теперь вот еще и галлюцинации.
Он обнаружил, что не переобулся и все это время разгуливал по улице в домашних тапках. Ноги порядком замерзли. Надо бы домой, выбриться и – в офис.
«Не уходи, пожалуйста», – шепнули в ухо.
Глеб вздрогнул и вдруг понял, что никуда не уйдет.
Соль
Сначала я подумал, что их крики – это галлюцинации. Тихие, далекие, похожие на шепот.
Забирающиеся внутрь головы, словно всегда там были.
Семьдесят процентов людей хотя бы раз видели или слышали глюки. Из них почти пятьдесят процентов до конца жизни верят, что видели что-то по-настоящему. Ну, знаете, призраки, выглядывающие из шкафов, таинственное свечение в окнах пустого дома, волк с человеческой головой и так далее. У трех процентов из этих людей глюков не было. Они видели что-то на самом деле. Другой вопрос – что именно. Вампиров, оборотней, обнаженных русалок оставьте, пожалуйста, себе. Их не существует.
Тогда что?
Я, к примеру, услышал крики людей, которых давно убил.
Они кричали, когда были еще живы. Перед смертью я давал каждому наораться вдоволь – это главное, ради чего я убиваю. Однако после смерти никто кричать не может. Факт.
Головы мертвецов – одиннадцать жертв за семь лет – лежат в стеклянных сосудах. Должно было быть двенадцать, но одна жертва сбежала, и я пока не собрался с силами (морально и физически), чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.
Двенадцатая орала очень громко. Ей было больно до омерзения. Я видел густую кровавую пену на ее губах. Как ей удалось выбраться? Мой просчет. Расслабился, думая, что жертва бессильна, что она всего лишь комок боли и не способна трезво мыслить. Если бы вам прокалывали бедро раскаленной струной от гитары (Ми), вы бы думали о чем-то рациональном? Вряд ли.
А она думала. Девушка с волосами цвета морковного сока. Ей хватило ясности ума, чтобы дождаться, пока я сосредоточусь на струне и запахах паленого мяса. Она как-то очень быстро дотянулась до газового ключа (каюсь, ошибка: положил его не на табурет, а на пол) и ударила меня в висок. Шрам на всю жизнь. Хорошо хоть не вышибла глаз (в тот момент я действительно думал, что у меня вывалился правый глаз!). Боль была такой силы, что я на какое-то время отключился. Пришел в себя, когда рыжей бестии след простыл. Вернее, след-то как раз оставался – яркие капли крови, тянущиеся из подвала на лестничный пролет, потом к двери подъезда. Я выскочил следом, не зная, как далеко девчонка могла убежать. Мне даже показалось, что вот сейчас я открою двери, а на крыльце уже стоят полицейские.
Следы крови терялись в слякоти дождливой ночи. Я обошел все дворы, заглянул в подъезды и подвалы, исследовал остановки, подземные переходы, спуски в метро. Моя девушка пропала.
Наверное, она умерла где-нибудь, как кошка, в безлюдном и тихом месте, чтобы ее никто и никогда не нашел. По крайней мере я точно знаю, что до дома или полиции она не добралась. Жалею только о том, что ее чудесная рыженькая голова не оказалась в двенадцатом сосуде. Теперь пустое место на полке каждый день напоминает мне о чудовищном промахе и невосполнимой утрате. Разве я найду еще одну такую же? Вряд ли.
Одиннадцать сосудов, одиннадцать голов. На лицах мертвых женщин навсегда застыли гримасы боли. Рты открыты. Когда я убивал каждую из них, они орали. Их крики – единственное, что я вообще могу слышать. Даже самый громкий крик для меня звучит не громче шепота. Но это, черт возьми, божественные звуки. Они открывают врата в совершенно новый мир.
Я глухонемой от рождения. Жуткий диагноз, сломавший жизнь родителям. Я-то сам не очень понимал, что это трагедия. Я никогда не слышал звуков и не мог их произносить. Моя реальность изначально была искажена, протекала в другой плоскости, нежели реальность так называемых обычных людей. А вот родители изрядно помучились. Когда мать говорила: «Я жизнь на тебя положила», она нисколько не преувеличивала. Так и было.
Они продали трехкомнатную квартиру, купили однушку, а оставшиеся деньги пустили на лечение и адаптацию. Я не должен был считать себя ущербным.
У них, надо сказать, получалось. Мой искаженный мир был хорош. Я в некотором роде был счастливее многих детей. Мне позволяли капризничать без повода, никогда не ругали, относились ко мне терпимее, чем к другим. Много всего такого, поверьте. Хорошее детство.
Мама уволилась и таскала меня на процедуры. У людей всегда есть надежда на лучшее. Одиннадцать моих жертв до самой смерти надеялись выбраться живыми, даже когда я начинал резать им шеи. Мама тоже в некотором роде была жертвой. Я ничего не знал о ее прошлой жизни, но когда вырос и просматривал альбомы с фотографиями, понял, что родители, в общем-то, были счастливы до моего рождения. Много путешествовали, увлекались кино, имели друзей. А потом… Кажется, мы ни разу не выезжали за пределы Москвы до самой маминой смерти. А из друзей я видел разве что тех, кто имел отношение к медицине.
Очень часто я слонялся без дела по торговым центрам, бродил среди магазинов, пялился на экраны с рекламой, читал вывески. Мне очень нравились уличные музыканты. Я стоял и смотрел, как они играют. Кто на чем – на барабанах, гитаре, флейте, скрипке. Я не слышал музыки, но ощущал такт, дрожь, вибрации. Особенно меня завораживала одна девушка с электрогитарой. Пальцы ее левой руки так ловко бегали по струнам, будто были единым целым. Это был танец длинных красивых пальцев, танго гитарных струн. Они создавали у меня в голове какие-то свои звуки, позволяющие хотя бы немного разбавить вечную тишину.
Как-то я уговорил родителей купить мне гитару. Они не поняли зачем, но не отказали. Я потратил почти полгода, чтобы научиться играть. Это было славно, если учитывать, что я не слышал звуков, издаваемых гитарой. Струны я настраивал при помощи тюнера в телефоне, а аккорды учил по видеоурокам. До шестнадцати лет я понятия не имел, умею ли вообще играть так, как играют нормальные люди. Что за звуки издает мой инструмент? Похожи ли они на музыку? Но сама по себе игра на гитаре как-то здорово заряжала позитивом. Было у нее еще одно свойство – она помогала неплохо зарабатывать.
В шестнадцать детство кончилось. За год до этого родители развелись, папа умотал в другой город к какой-то новой жене, а потом мама тихо умерла во сне. Я вдруг остался один на один с огромным миром, в котором не привык жить. Тут-то и выяснилось, что родители слишком хорошо обо мне заботились. Я ни разу не задумывался о том, что мир заточен под людей слышащих и умеющих разговаривать.
Люди не обращают внимания на глухонемых. В крайнем случае – торопливо отходят в сторону или проявляют непонятную заботу, в которой я не нуждаюсь. Пришлось очень быстро адаптироваться. Хорошо, что был Интернет – верный друг и помощник. Он подсказал, что в скором времени ко мне приедут органы опеки и попытаются отправить в детский дом до совершеннолетия. Квартира все еще принадлежала родителям, бабушек и дедушек у меня давно не было. В интернат я не очень-то собирался. Пришлось на два года превратиться в призрака. Я попросту не открывал никому двери (это было несложно, поскольку я понятия не имел, когда кто-то стучал или звонил), не отвечал на телефон, старательно выуживал из почтового ящика повестки и выбрасывал их. Слава бюрократии, всем было все равно, что со мной. А в восемнадцать лет я подал документы на вступление в права и стал полноправным хозяином однушки в панельном доме.
Главной проблемой все эти годы были деньги. Мне не много-то требовалось, плюс ко всему я начал зарабатывать в Интернете, но на жизнь все равно хватало с трудом. Тогда пришлось воспользоваться главным козырем – игрой на гитаре.
По ночам я брал инструмент и отправлялся в интересное путешествие по подземным переходам, железнодорожным станциям и торговым центрам.
Отличный эффект противоречия: табличка «подайте глухонемому» и игра на гитаре. За час можно было собрать денег больше, чем за несколько дней работы копирайтером на каком-нибудь новостном ресурсе. Иногда за ночь я зарабатывал на месяц нормальной жизни. Люди обожают противоречия. Они видят небрежно одетого пацана-калеку, который расставляет пальцы по аккордам и мычит что-то невразумительное под неслышимые ему звуки. Гитара надрывается, фальшивит, струны оставляют на подушечках пальцев вмятины – пацан старается, хочет и может. Как же ему не кинуть мелочи?..
Еще мне нравилось облапошивать волонтеров. Им только позволь тебя накормить и одеть. Разве что не ублажали (среди них были симпатичные девочки, как правило лесбиянки, что меня заводило).
Первой моей жертвой как раз стала девушка из волонтеров. Она же была первой, кого я услышал. То есть по-настоящему услышал, без всяких там фантомных звуков и статистических погрешностей.
Ее звали Мартой, она была длинноногой, беловолосой и очень худой. Лицо ее постоянно покрывали красноватые угри, лоб блестел от жира. Марта была бы симпатичной, если бы ухаживала за собой, но, кажется, ее больше интересовала помощь бездомным, чем собственная личная жизнь.
Марта приходила на угол улиц Камышовой и Яхтенной по субботам, в составе волонтерской бригады, которая раздавала бесплатные горячие обеды нуждающимся. Там же можно было поживиться одеждой. Вы не поверите, как много отличной одежды можно взять просто так, если ты глухонемой и умеешь выглядеть несчастным. Часть шмотья я потом продавал на «Авито».
Марта всегда была ко всем добра. Ничего плохого о ней сказать не могу. Поэтому, когда тяжелый металлический контейнер с едой каким-то образом упал Марте на ногу, я бросился на помощь одним из первых. Контейнер весил килограммов пятьдесят. Он раздробил Марте правую стопу, разодрал джинсы – сквозь рваные ошметки стремительно проступала кровь. Марта закричала. Для меня – просто открывала рот. Я видел ее выпученные глаза, выступающие вены на висках.
И вдруг до моих ушей донесся ее крик. Настоящий. Он был очень слабый и далекий. Но я его слышал.
И мир вокруг Марты будто преобразился. Он стал слышим! От ее крика кругами расходились другие звуки. Шум проезжающих автомобилей, шелест ветра, хлопанье дверей, шарканье ног, хруст стекла под ботинками, чей-то кашель.
Яркие, сладкие, сочные звуки. Они мгновенно впитались в мою нервную систему. Я замер, пытаясь расслышать каждый болезненный крик Марты, лай собак, чей-то разговор по телефону, боясь потерять хотя бы один из них.
Кто-то подбежал к Марте. Кто-то помог стащить бак с ее ноги. Кто-то уложил Марту на землю и принялся обрабатывать рану. Марта перестала кричать, и мой мир снова стал мертвым. Звуки стихли внутри головы.
Вы когда-нибудь падали с эмоциональной лестницы? Это когда человек испытывает эйфорию от чего-либо, а затем внезапно скатывается в депрессию. За какие-то доли секунды. Из одного состояния в другое. Считается, что такое падение способно склонить к самоубийству. Когда Марта перестала кричать, я скатился с лестницы с такой силой, что переломал себе все косточки. Метафорически.
Для понимания: ни одна терапия, ни одна операция, ни один прибор ни позволили мне что-либо услышать. Родители потратили кучу бабок впустую. Мир был беззвучным, а я даже не думал, что смогу когда-нибудь что-нибудь услышать.
Понятное дело, что почти сразу же я захотел повторить. Ну разве может наркоман, впустивший в свое сознание первую дозу героина, отказаться от продолжения?
Мне сразу же захотелось убить Марту. Я решил, что это логично. Когда человек кричит громче всего? Когда ему больно. Когда он не хочет умирать. Когда он отчаялся. Все это сходится в одной точке, в главном центре моего наслаждения.
Кто-то спросит: не слишком ли это безумный шаг?
Я отвечу: в шестнадцать лет гормоны зашкаливают. Подростки не знают середины. Все или ничего. Или король мира, или пьяный бомж на задворках города. Вершина или низ. Космос или гроб. Любовь или смерть.
Я должен был услышать звуки жизни, и выбрал самый легкий способ их добыть. Легкий и интересный. Все так делают, чтобы добиться желаемого, верно? Ищут кратчайшие пути.
У меня появился идиотский план.
Найти Марту в социальных сетях оказалось несложно. Она участвовала почти во всех волонтерских группах и собраниях города. Отследить ее передвижения – тоже плевое дело. Несколько мероприятий заканчивались довольно поздно. Я выбрал одно из них (подальше от моего района) и отправился туда как раз к окончанию.
Проблема волонтеров в том, что они очень беззаботные. Люди, делающие добро, считают, что это самое добро должно к ним вернуться. На самом деле, конечно, они ошибаются. Сосулька с крыши падает на голову человека независимо от того, сколько добра он сделал. Злые люди вообще чаще ездят на машинах и под сосульки не попадают, так я вам скажу.
Марта тоже оказалась беззаботной. После мероприятия, в половину одиннадцатого ночи, она пошла домой пешком. В тихом и безлюдном месте я подошел к ней, показал кухонный нож и телефон, где было написано: «Поехали со мной, или будет плохо».
План ведь действительно был идиотским. Марта могла закричать или ударить меня, могла просто убежать. Но она не сделала этого. Сначала попыталась что-то объяснить – о, этот непонятный язык жестов и непреодолимая вера в добро – потом сдалась и покорно отправилась со мной. Она не была испугана. Видимо, думала, что я не сделаю ничего плохого. Возможно, она даже меня узнала.
Я привел ее домой. Марта запнулась на пороге, и мне показалось, что сейчас она начнет сопротивляться. Но она зашла в коридор и позволила закрыть за собой дверь.
Я видел, что она что-то говорит, но не понимал что. Читать по губам не мой конек.
Марта достала телефон, показала на экран, видимо, давая понять, что не собирается никому звонить. Включила набор текста и написала: «Если нужна помощь, достаточно было прийти к нам. Ни к чему это».
Она не понимала, что происходит. Позже я догадался почему: люди жалеют инвалидов. Считают, что инвалид гораздо слабее их и не может причинить вреда. Люблю заблуждающихся людей. Ими очень легко манипулировать.
Я поднял нож и ударил Марту в живот, сквозь розовую курточку с нашивкой «Люблю котят» на левой груди. Марта закричала. Крик этот разорвал тишину внутри моей головы и наполнил ее звуками жизни.
Милая прыщавая Марта. У нее были слишком худые лодыжки, не в моем вкусе. Помню, как она сучила ногами, когда я сидел на ней сверху и резал лицо. От воплей Марты я обретал слух с особым удовольствием.
Мы провозились около часа. Я впитывал каждый звук в этой квартире, не заботясь о том, что соседи могут услышать и вызвать полицию. В нашем старом панельном доме никто никогда не вызывает полицию… В какой-то момент я взял гитару и сел рядом с истекающей кровью Мартой. Она извивалась у меня под ногами, похожая на дождевого червя. А я принялся наигрывать те самые мелодии, которые выучил только по дрожанию струн и аккордам. Наконец я смог их услышать.
Когда Марта затихала, я совал пальцы в ее раны. Поливал ей лицо водой. Хлопал по щекам и выдавливал из умирающего тела крики. А сам остервенело играл, впитывая прекрасные гитарные мелодии.
На самом деле они не показались мне такими уж прекрасными. Я понял, насколько паршиво играю. Или песни были так себе. Но боже мой, какие же удивительные это были ощущения!
Крики Марты перешли в стоны, затем в хрипы. Мир звуков сузился и наконец исчез. Какое-то время в голове царила невнятная пустота. Я перебирал струны гитары, но уже ничего не слышал. Как же тоскливо было вновь вернуться к привычному состоянию…
Я раздел Марту, заволок в ванную, уложил, размышляя, как поступить дальше. В конце концов придумал. Классика: медленное грязное расчленение.
Угадайте, что я решил оставить на память?
Подсказка: я поместил ее в сосуд, а потом она начала кричать.
Голова Марты – иссохшая, изуродованная, с оттянутым вниз ртом и давно сгнившими глазами – издала первые звуки через семь лет после смерти.
Вопль внутри моей головы: «Спаси!»
Быстрый и звонкий, как лопнувшая струна.
Я сел на кровати, выдернутый из сна, в темноте пустой квартиры, и никак не мог сообразить, что произошло. В моих снах нет звуков.
«Я здесь!»
Мне не спалось много дней, я запивал аспирин водкой и коньяком. Мало ли что могло почудиться?
На полке над рабочим столом стояли сосуды с головами. Звук явно доносился оттуда.
Я помнил голоса всех одиннадцати жертв – мне даже не надо было смотреть на их лица. Помнил бренчание гитары под крики той или иной женщины. Какой аккорд брал на каком вопле. Какие звуки вливались в мои уши.
Вон та девушка, с крупной родинкой на лбу, обладала низким голосом, кричала хрипло, с присвистом. Она умирала долго, я успел разучить «Выхода нет» и потом недели две наигрывал песенку в подземном переходе.
А вот эта женщина, лет тридцати пяти, с седоватыми волосами, кричала как стерва из фильмов. Ну, знаете, которые постоянно пилят своих мужей. Я сидел на табуретке и играл «Прости меня, моя любовь». Земфире бы понравилась эта сцена.
«Я здесь!»
Крик, будто выплывший из снов, исходил от Марты. Это был ее голос. Я подошел. На стеклянной поверхности расплылось пятно от света уличного фонаря. Свет этот сгущал темноту внутри сосуда, окунал во мрак лицо, выпячивая провалы глаз и открытого рта.
Я положил ладонь на стекло. Почувствовал едва заметную вибрацию. Она была внутри моей головы. Она раздражала мозг и, как игла, на пластинке выцарапывала настоящие звуки.
«Спасите!»
И это уже невозможно было списать на галлюцинации.
Другой диагноз из Интернета: шизофрения. Тоже неплохо.
Ре
Глеб обогнул многоэтажные дома вдоль новой дороги, которой два года назад здесь еще не было. Совсем недавно убрали строительные заборы и мусор. Левее, через полкилометра, начинались гаражи. Все закоулки вокруг них Глеб давно обыскал, знал количество канализационных люков и глубоких ям. Но сейчас почему-то решил пойти именно туда.
Подсознательное чувство. Интуиция, если хотите. Шепот в голове.
Знакомые гравийные тропинки сейчас были обильно залиты дождем. По обочине стекали струи воды. Рядом протарахтел грузовик, вдавливая гравий в две широкие колеи. Глеб торопливо дошел до гаражей. Их здесь наставили еще в советское время, создав лабиринт треугольных крыш – ныне ржавых и гнилых – и все никак не могли снести. Зато привезли недавно кабинку для сторожа, установили шлагбаум и пускали автомобилистов по пропускам.
В этом лабиринте Глеб и несколько волонтеров провели почти два дня. Потом Глеб возвращался еще несколько раз. Даже возникала лихая мысль – обойти все гаражи и проверить, что внутри. Но найти всех хозяев было нереально, а полиция в этом деле не помогала.
Так что делать здесь сейчас?
Холодный ветер задувал под ворот куртки, ноги промерзли. Капли дождя оседали на щеках. Глеб прошел мимо шлагбаума, заметив сторожа, направился по дороге прямо. С утра тут было оживленно. Машины толпились на выезд. Кто-то нервно сигналил.
Глеб остановился, разглядывая ровные ряды однотипных низеньких гаражей с двух сторон.
– Ну же, – пробормотал он. – Дай подсказку.
И тут же в голове отозвалось, будто эхом:
«Я здесь!»
Как будто в «горячо-холодно» играл!
Глеб неторопливо двинулся вперед, прислушиваясь, остервенело ожидая, когда же Валя напомнит о себе еще раз. Пахло чем-то горелым.
Совсем свихнулся.
Из-за поворота кто-то вышел. Молодой человек лет двадцати пяти. Он катил перед собой тележку, укрытую брезентом. Тележка грохотала и вихляла. Поравнявшись с Глебом, молодой человек кивнул. Глеб кивнул в ответ, смутно ощущая, что где-то он этого человека видел и почему-то запомнил.
Человек был одет в потертые джинсы, сильно поношенный пиджак. Руки его были в грязи, да и на одежде тоже была мокрая липкая грязь.
Глеб провожал его взглядом, пока человек не исчез за гаражами. Усилился ветер, растворяя грохот тележки.
Отвлекшись на парня, Глеб как будто упустил что-то важное. Будто локаторы, настроенные на прием сигнала от Вали, сбились, и стало понятно, что больше они не заработают.
Отчаяние начало медленно расползаться где-то под ребрами. Глеб рванул по дорожке к повороту, откуда вышел парень. Побежал вдоль вихляющей колеи, оставленной колесами тележки. Земля была влажная, след проглядывался хорошо.
Метров через двести колея вильнула в сторону и оборвалась на куче мусора из гнилых досок, металла, обгоревших балок. Недавно тут случился пожар.
Глеб увидел, что в мусоре кто-то рылся, раскидывал, раскапывал.
Он полез, осматриваясь и не понимая, что хочет тут найти. Может быть, голос жены?
Неизвестный расковырял углубление среди досок. В сырой свалявшейся требухе валялся каблук от женской туфли. Края его обуглились и почернели. Глеб принялся разгребать мусор, уже понимая, что ничего и никого здесь не найдет. Тот самый паренек успел раньше.
Отчаяние не просто разбухло, а вырвалось наружу. Глеб вернулся к шлагбауму, ввалился в кабинку, где сидел сторож.
– Тут парень проходил с тележкой! – сказал Глеб. – Он местный? Гараж есть? Как зовут, знаешь?
Сторож не торопился с ответами, видимо размышляя, что ему делать с незваным гостем. Потом произнес:
– Нет, первый раз видел. Может, сын чей-нибудь. Мало ли их тут шляется.
– Куда пошел?
– Я за ними смотрю, что ли? – пожал плечами сторож. – Украл что-то? Обувь? У нас камеры есть, если что. Вечером приходи, я тебе запись прокручу. Но там ничего особо не разглядеть. Дешевенькие.
– Гараж горел, – сказал Глеб. – Давно дело было?
– Вчера вечером. Вспыхнул как спичка. А ты хозяин, что ли?
Определенно, пора было возвращаться домой. На работу он безнадежно опоздал. Позвонит и отпросится на день. Отлежится. Выспится. Нельзя было давать шанса очередному витку депрессии.
Вернувшись домой, Глеб в первую очередь вымылся. Стоял под струями горячей воды, чувствуя, как унимается дрожь, а к онемевшим от холода ногам возвращается чувствительность. Отлеживаться не хотелось, а хотелось все же броситься на поиски того парня с тележкой, как бы по-идиотски это ни звучало. Перед глазами возникал женский каблук среди обгоревшей требухи.
Что за обувь была тогда на Вале? Глеб не помнил. Кто вообще запоминает, во что обувается жена, уходящая в парикмахерскую?
Он все же уснул, забившись под одеяло. Чувствовал жар, разлившийся по телу и выступивший каплями пота на висках. Проснулся ближе к вечеру, разбитый. Долго рылся на полках, вспоминая, куда поставил банку с кофе, будь она проклята. Вспомнил, что кофе закончился утром, и выбрался из квартиры в вечерний злючий холод, за покупками.
Пересек улицу, мимо киосков с шаурмой и свежими булочками спустился в подземный переход, где сквозь гул машин над головой прорывался нестройный гитарный бой. Что-то из русского рока.
Играли неумело и в чем-то неуловимо фальшиво. Впрочем, чего еще можно было ожидать? Проходя мимо, Глеб бросил взгляд на играющего: глухонемой попрошайка, ошивающийся здесь постоянно. Шапка на затылке, блестящий от пота лоб, драная куртка с пучками меха, лезущего из швов. Пальцы перебирают струны. Рядом на картонке надпись: «Глухой, но играю с душой. Подайте на еду».
Глеб узнал паренька сразу. Того самого, с тележкой. Утром он совершенно не походил на попрошайку.
Увлеченный паренек играл, прикрыв глаза, и не замечал остановившегося перед ним Глеба. Вечер, час пик, кругом сновали люди. Монеты звонко падали в раскрытый тряпичный футляр от гитары. Кто-то бросил полтинник.
Глеб хотел схватить паренька за шиворот, встряхнуть и прямо здесь, на месте, вышибить из него всю информацию. Возможно, вместе с зубами.
– Пустынной улицей вдвоем // С тобой куда-то мы идем… – начал подпевать пьяный мужичок в расстегнутой куртке, и на Глеба обрушилось тяжелое понимание происходящего.
Он сдержался, отошел в сторону, к лотку со специями. Паренек открыл глаза, провел языком по потрескавшимся губам и промычал что-то нечленораздельное, обращаясь к поющему.
Пьяный мужик повеселел, принялся горланить:
– О-о-о, «Восьмиклассница!»
Глеб представил, как глухонемой попрошайка с гитарой бредет пустынной улицей с восьмиклассницей. Вот только восьмиклассница уже мертва, лежит в тележке, укрытая куском брезента, и ее пышные белые банты давно сорваны и выброшены в пекло горящего гаража…
Он отошел еще дальше, чтобы не привлекать внимания. Вышел на улицу, потом вернулся. Жался то к стене, то к лоткам, выходил снова. Прошло часа два, прежде чем паренек стал собираться. Людей стало заметно меньше. Глеб поднялся из перехода, под мокрый снег с дождем. Пробрало холодом, да так, что клацали зубы. Или это гнев не мог удерживаться больше внутри.
Наконец паренек показался на другой стороне дороги. Он больше не изображал попрошайку и походил на студента-музыканта, возвращающегося домой после репетиции. Гитара болталась за спиной.
Глеб направился за ним, стараясь особо не приближаться – он понятия не имел, что будет делать дальше.
В какой-то момент паренек свернул в нутро жилых домов, и Глеб потерял его из виду. Он бросился следом, пару минут плутал под фонарями, затем обнаружил свежие следы на заснеженном тротуаре и увидел паренька у двери подъезда. Паренек был безмятежно рассеян. Он совсем не смотрел по сторонам. Может, действительно глухонемой?
Глеб сделал шаг в его сторону. В голове раздался шепот, стремительно сорвавшийся на крик:
«спасИМЕНЯ!»
Сомнений не осталось.
Паренек открыл дверь подъезда, повернул голову, и его глаза встретились с глазами Глеба.
– А ну стой, с-сучонок! – заорал Глеб, срываясь с места.
Паренек юркнул за дверь. Доводчик не давал ей закрыться слишком быстро. Один прыжок, второй… Глеб ворвался в подъезд, побежал к лестнице, догнал паренька между вторым и третьим этажами, схватил за ворот.
Ноги паренька заплелись, он упал, хватая руками воздух. Хрустнула гитара. Глеб нанес первый удар, угодил в скулу. Потом еще раз – по губам.
В голове истерично шептал женский голос: «помогинайдиспасименяяздесьпомоги».
Ля
Среди хора мертвых девушек я внезапно услышал еще один голос.
Это была она, сбежавшая.
Спустя два года после того, как все произошло.
Конечно, я запомнил ее крики. О, она дала мне насладиться. Жаль, что все закончилось не так, как ожидалось. Не было финала, понимаете? Не было излома, чтобы звуки разорвали мои уши и заставили плакать. Я всегда плачу, когда женщины кричат перед смертью. Меня переполняют эмоции.
И тут – ее голос внутри моей головы. То же самое, заведенное: «Спаси!», «Я здесь!»
Мне кажется, я прослушиваю их последние мысли. Как классический winamp на репите. Женщины, умирая, посылали инстинктивные импульсы, а я сохранил их в буфер и теперь постоянно воспроизвожу. Не хватает только эквалайзера для полной идентификации.
Когда включается эта воображаемая запись криков, я снова могу слышать. Я хватаю гитару и сажусь играть. Это все, что мне надо. Звуки вокруг сначала удивляли меня, но потом сделались привычными. Пока кто-то из мертвых женщин кричит – я играю.
Но эта девушка, с морковным цветом волос, вывела меня из равновесия. Она ведь не должна была кричать. Я не убивал ее…
Тем не менее запись ее криков возникла в голове рано утром, когда я чистил зубы. Я застыл, глядя в зеркало, но видя только пятнышки высохшей зубной пасты. Крик то затихал, то становился похож на шепот, то взмывал ввысь, вызывая короткие головные боли… Тогда-то я решил, что девушка умерла где-то недалеко от моего дома. Иначе как бы я мог уловить ее своим классическим проигрывателем?
Я уже говорил о том, что не успел довести смерть девушки до финала. Это потрясло меня и напугало тогда. Прошло два года, а я все не решался возобновить убийства. Мне не хватало сил, вдохновения, музы – как пожелаете.
И вот появился шанс завершить дело. Найти ее голову и засунуть в стеклянный сосуд.
Вряд ли от густых волос что-то осталось, но они мне ведь были и не нужны, верно?
Я быстро оделся и вышел в серую слякоть утра. Суетливость людей, спешащих на работу, меня раздражала. Я бродил по району, погруженный в абсолютную тишину, прислушиваясь к ней, надеясь услышать крики… и я их услышал. Возле гаражей, что находились в полукилометре от дома. Зашел туда. Услышал еще один крик:
«Спаси!»
Она кого-то звала перед смертью. Любимого человека. Надеялась.
Я ощущал себя лозой, с помощью которой ищут воду. Совсем скоро я начну крутиться, крутиться, крутиться и…
Я увидел сгоревший гараж. Видимо, он согрел недавно, потому что в воздухе стоял отчетливый запах гари и влаги. Недолго думая, я полез в кучу обгоревших обломков и принялся расчищать их. Ощущал теплоту внутри обгоревших головешек.
Упорство было вознаграждено. Под кучей досок я нашел обгоревший труп моей беглянки.
Белели зубы, чернела обгоревшая плоть, желтели жировые пятнышки. Вместо глаз на меня смотрели пустые темные глазницы, заполненные влагой. Но все равно это была она!
Скорее всего, два года назад ослабевшая, заблудившаяся девушка оказалась среди гаражей, обнаружила, что этот гараж не заперт, и забралась внутрь в надежде, что утром ее найдут. А ее не нашли. Никто не заглядывал, никто не проверял и не приходил. Людей пропадает много, поисками долго не занимаются.
План созрел мгновенно. На небольшом стихийном рынке у дома я купил тачку и брезент. Вернулся к гаражам, аккуратно уложил обгоревшие останки на дно тачки и покатил ее домой. Дома на полке ждал пустой сосуд. О, как же долго он ждал!..
…Глеб тащил паренька за шиворот по лестнице, бил, пытаясь выяснить, где же, в какую квартиру надо вломиться, чтобы найти Валю.
Паренек – похоже, действительно глухонемой – мотал головой, улыбался разбитыми губами и мычал. Взгляд у него был безумный, страшный.
На четвертом этаже Глеб догадался обшарить карманы паренька. В заднем кармане джинсов нашлись ключи, а на них номер – восемьдесят четыре. Как просто!
Нужная квартира находилась этажом выше. Глеб потащил паренька. Тот хватался руками за руку Глеба, но не сопротивлялся. Только мычал. Он был худой и костлявый, этот паренек, весил килограммов пятьдесят, не больше. Глеб почувствовал брезгливое раздражение, когда представил, как этими вот тощими руками паренек хватает его Валю и тащит, тащит к гаражам…
От волнения затряслись руки, когда он вставлял ключ в замок. Провернул раз, другой. Толкнул дверь плечом, втащил паренька, уронил его в коридоре, заорал:
– Валя! Валя!
Внутри головы никто больше не шептал.
Глеб захлопнул входную дверь и бросился в комнату. Блеснуло что-то на стене у окна. Ударил кулаком по выключателю и, сощурившись на секунду, сквозь появившиеся слезы разглядел на полках на стене большие стеклянные сосуды с отбитыми горлышками, плотно перемотанные сверху то ли скотчем, то ли изолентой. А внутри сосудов – женские головы.
На Глеба смотрели набухшими и подгнивающими веками, вытекающими глазами. Из открытых ртов с рваными губами, засохшими пятнами крови вырвались голоса, наперебой, оказавшиеся вдруг внутри Глебовой головы:
«Ты пришел!»
«Спаси!»
«Я здесь!»
«Помоги!»
Глеб схватился за голову.
– Валя! – закричал он, шаря взглядом по мертвым лицам.
Среди мертвецов ее не было. Что-то будто оборвалось внутри.
Глеб развернулся и увидел паренька, прыгающего вперед с ножом в руке. Паренек сделал выпад, лезвие разорвало Глебу куртку, вошло в живот слева, зацепив ребро. Не чувствуя боли, Глеб схватил паренька за запястье, дернул вниз. Окровавленное лезвие выскользнуло. Глеб ударил паренька по коленке ногой. Что-то звонко хрустнуло. Паренек скорчился, заваливаясь на бок.
Женские крики в голове сделались невыносимо громкими.
Глеб с размаху опустил подошву ботинка пареньку на лицо. Закричал:
– Валя! Где ты? Где же ты, ну?
На кухне ее не было. На столе у холодильника стоял стеклянный сосуд со сбитым верхом. В миске валялись осколки.
Глеб чувствовал, как кровь толчками выходит из раны, заливается в штаны. Закололо на кончиках пальцев. Он вышел в коридор, держась за стену. Шагнул в ванную комнату и там, в полумраке, разглядел что-то лежащее в ванне. Кажется, обгоревший труп. Его обмыли и очистили. Лужицы воды собрались в провале на месте живота и в углублениях между ребер. Лица было не разобрать, но Глеб понял, что это и есть его любимая, ненаглядная, пропавшая Валя.
Он медленно опустился перед ванной на колени, протянул руку. Вопли в голове становились громче.
– Я же нашел тебя, – пробормотал Глеб. – Я нашел тебя, ну? Ты должна была быть живой! Ты же и есть живая!
Боль скакнула от раны к сердцу. Сперло дыхание. Перед глазами потемнело.
– Мне говорили, что ты зависла между жизнью и смертью. Не можешь умереть, – пробормотал он, едва ворочая языком. – Давай же возвращайся. Я ведь не зря искал…
«Конечно, – сказала Валя чистым и ясным голосом. – Даже не думай о плохом, дурачок».
Она взяла его ладонь в свою – шершавую, обгоревшую. Поднялась и вышла из ванной в коридор.
Глеб, облокотившись о теплый чугун, наблюдал за ней и не смог сдержать улыбку. Валя оставляла на полу влажные следы, покрытые ошметками обгоревшей плоти. Она прошла в комнату. Глеб видел паренька, лежащего на полу без сознания. Из уголка рта его капала на старый ковер кровь.
Валя дотронулась до паренька, и он очнулся. Хотел закричать, но не смог. Из горла вырвалось только сдавленное мычание. Валя подняла валяющийся нож и принялась рисовать на лице паренька узоры. Яркие, красные, сочные. Паренек открывал рот, но был нем, как рыба. Только согнутые пальцы сдирали ногти, впиваясь в пол.
Глеб улыбался, глядя на Валю.
Срезая с лица паренька кожу, Валя напевала «Восьмиклассницу». А хор других женских голосов ей подпевал. Получалось очень даже неплохо.
Ми
Девяносто процентов людей перед смертью видят реалистичные галлюцинации.
Не спрашивайте, откуда статистика. Наверное, были какие-то ученые, которые специально убивали людей и вели наблюдения. Наука вообще страшная вещь.
Галлюцинации бывают разные. Тоннель с белым светом, голоса родственников, самое любимое в жизни место… или голоса женщин, которых убил.
Они ведь не могут петь вечно, да?
А я не могу умереть, хотя прямо сейчас очень этого хотел.
Мне кажется, я нахожусь где-то между жизнью и смертью. В полубессознательном состоянии. Когда мне сломали челюсть ударом ботинка, я впал в кому и теперь вижу галлюцинации.
Я когда-нибудь умру.
Но главный вопрос – когда?
Обгоревшая женщина с впадинками вместо глаз, тщательно мною вымытая и подготовленная к ритуалу, стоит надо мной и срезает кожу с моего лица. Я кричу – беззвучно для всех, но слишком громко для себя самого. Мое внутреннее сознание рвется, как кожа. Я ничего не могу сделать, потому что парализован страхом. Или колдовством. Или галлюцинациями.
Лезвие протыкает щеку, и я чувствую металл на зубах. Он сбивает эмаль.
А в голове поют хором в двенадцать глоток мертвые женщины.
Время тянется безумно медленно. Нож бередит раны, заставляя меня корчиться от боли. Женщина, скалясь безгубым ртом, как будто говорит: «Мы можем продолжать вечно».
Их песни – это безумный репит.
Я видел, как умирает в ванной комнате тот мужик, что сломал мне челюсть. Сначала он наблюдал и улыбался, потом взгляд его сделался бессмысленным и стеклянным. Мужик осунулся, голова упала на грудь.
А женщины продолжали петь.
Я встретил рассвет, корчась в лужах собственной крови. Женщина не отпускала меня. Она сорвала с меня одежду и срезала лоскуты кожи со спины.
Ночь наступила стремительно. А в голове все еще пели. Одну песню за другой.
Кто-то спросил: «Ну как, нравится?»
Они хотели, чтобы я мучился вечно. За все их страдания.
Потом женщина взялась за кожу на моей груди.
Еще один рассвет.
Они пели, а я был все еще жив.
Знаете что? Боль растянулась на вечность, но я все еще думаю о тех девяноста процентах людей, которые видели галлюцинации перед смертью.
Вдруг это все тоже галлюцинация? Вдруг я на самом деле вот-вот умру?
Вдруг эта девушка, с волосами цвета морковного сока, так здорово огрела меня по голове газовым ключом, что проломила череп и отправила в кому, а сама – чья-то любимая Валя – возвращается к мужу, вызывает полицию и, в общем-то, становится той, кто выжил и обезвредил очередного паскудного маньяка?..
А я лежу в коме на полу квартиры, и боль моя будет бесконечной, пока не сдохну.
Я задумываюсь об этом на короткое мгновение, в паузе между прикосновением стали к рваной коже.
Потом я начинаю кричать от боли снова, а классический винамп в голове ставится на репит – женские голоса затягивают «Восьмиклассницу».
Александр Матюхин
Колобок
Пластиковая рукоятка удобно легла в руку. Родион натянул тугую тетиву из толстой трубчатой резинки, закрепленной между стальных рогатин, и упор орудия вдавился в предплечье. Мальчик прицелился в дерево и отпустил кожеток. Резинка схлопнулась с глухим вибрирующим звуком. Камень отскочил от ствола и упал в лужу.
– Крутяяяк, – Родион с восхищением осматривал новенькую охотничью рогатку. – И че, матушка разрешила оставить?
– А ей кто говорил? – ухмыльнулся Артем. – Это типа наш с папкой секрет. Подарил на днюху. Только просил домой не брать. Боится. Мамка увидит, орать будет.
– Ну и на фига ты ее забрал? Че батька подставляешь? – Родион отдал рогатку другу.
– Да пошел он! Раз в жизни сделал нормальный подарок и просит в деревне оставить. А я там по праздникам бываю, и когда стрелять? – мальчик засунул рогатку в рюкзак. – Да он вообще, наверное, себе ее купил. Просто забыл про мой день рождения и решил выкрутиться. Типа вот тебе рогатка охотничья, только пусть у меня лежит. Фиг ему! – Артем закинул рюкзак на плечи, и пятиклассники пошли дальше, размахивая мешками со сменной обувью.
– Больше не таскай ее в школу. Если училки запалят – сразу твоей мамке донесут, и вообще без подарка останешься.
– Не запалят, – отмахнулся Артем. – Пошли в парк по банкам стрелять?
– Не могу, мне еще убраться надо и кота на укол отнести, – вздохнул Родион.
– Да мы недолго, часик всего.
– Часик?
– Ну да, – кивнул Артем. – Ты все успеешь – и убраться, и кота отнести… Пошли, ну пожалуйста. Будет весело.
Родион притих, прикидывая, хватит ли ему времени выполнить все поручения матери.
– Можем на очки стрелять! Ну, типа кто больше банок выбьет. О-о-о! А еще приз победителю… – Глаза у Артема загорелись. – Если я выиграю, то заберу твою радиоуправляемую вертушку, а если ты – отдам, что хочешь. Хочешь последнюю фифу?
– Девятнадцатую фифу?! Тебе же ее только подарили.
– Ты сначала выиграй, мечтатель!
– Да я тебя в два счета сделаю. Ты же лошара-слепошара!
– Это я лошара-слепошара?! Придется тебе ответить за свои слова, Родик-уродик!
– Легко!
Улица Некрасова, забитая панельными пятиэтажками, упиралась в главные ворота городского парка. Через два квартала друзья притормозили на светофоре. Мимо прогромыхала «девятка». Других машин не было, и, не дожидаясь зеленого света, Родион и Артем рванули с места.
– Кто последний, тот дурак! – выпалил Артем, и мальчишки, перепрыгивая лужи, помчались вперед.
– Стоооой! – Родион затормозил.
– Ты чего?!
– Нет, Темыч. Не могу. Не гони.
– Зассал, так и скажи!
– Не зассал! Просто мне на завтра надо еще доклад запилить. Блин, совсем забыл.
– И че? В Инете спишешь!
– Ну да, а если облажаюсь, мамка не отпустит к папе. А мы с ним уже договорились, он меня ждет на новогодние каникулы. Я его последний раз год назад видел. Вот и прыгаю на задних лапках. Ты думаешь, я что на уроках надрываюсь? Руку тяну… В отличники хочу? Нет, к папке хочу, в Красноярск!
– Понятно, – Артем махнул рукой и пошел дальше. Один.
– Темыч, а давай в другой раз?! А?!
– Да иди ты, ботаник долбаный!
Родион огорченно покачал головой и повернул к дому.
Парк в желто-рыжей шапке из дубовых и березовых крон встретил неприятной тишиной. Артем шел по узким дорожкам, громко шурша ворохом опавших листьев. По пути поднимал камни, стрелял по деревьям и комментировал свои успехи.
– Еееес! Три очка! – он прицелился и сбил с ветки листок. – Уууу! Пять очков!
Под лавкой сидели голуби и клевали черствую горбушку, отбирая ее друг у друга.
– Летающие крысы, – вспомнил Артем слова отца, прицеливаясь в птиц. Пущенный им камень ударился об асфальт и спугнул голубей.
В дальнем уголке парка у пруда Артем сбросил вещи на лавку, расставил на ее облезлой спинке пивные жестянки, найденные им в ближайшей урне, начертил веткой линию стрельбы. Потом спустился к берегу, набил карманы брюк камнями и вернулся к самодельному тиру. Он натянул тетиву, затаил дыхание, точно спортсмен, которому предстоит ответственный момент на соревнованиях, и выстрелил. Промахнулся.
Когда Артем выбил все цели, он вприпрыжку обогнул лавку, собрал разбросанные по земле банки и снова стал выставлять их на расстрел.
Пока он возился с мишенями, его взгляд проскользил по другой стороне пруда и зацепился за что-то странное. Артем замер и снова посмотрел через водную гладь с желтыми корабликами листьев. С противоположного берега за ним наблюдала компания мультяшек, она сильно выбивалась из привычного пейзажа, и он был удивлен, почему не заметил их раньше.
Как зачарованный, Артем долго смотрел на мультгероев, потом бросил банки и пошел к ним.
На площадке, где летом стояли надувные батуты и тележки со сладостями, припарковался старый автобус, будто сошедший с кинопленок советских фильмов середины ХХ века. Спущенные колеса ушли в асфальт. Окна были заварены помятыми стальными листами. С боковины улыбались нарисованные Буратино с Мальвиной и Винни-Пух с Пятачком, изуродованные облупившейся краской.
Артем обошел автобус спереди. Над лобовыми стеклами, разделенными тонкой перегородкой и вдавленными внутрь салона, нависала массивная дуга. За стеклом покачивался потрепанный красный вымпел на золотом шнурке. В кабине никого не было.
Между круглых фар на прямоугольной решетке радиатора красовалась серебряная эмблема, похожая на устремленную ввысь ракету с красным флагом и звездой на макушке, а в основании три буквы – ЗИС.
– «32 14 кшш», – шепотом прочитал Артем номерной знак.
На другой стороне мальчика встречали Малыш с Карлсоном и Бременские музыканты. Над их головами висели буквы, украшенные гирляндами, – КИ ОТЕА Р КО ОБОК.
Артем подошел к передним дверям, постоял немного, осматриваясь по сторонам в поисках хозяина, и заглянул в щель между створок. Внутри царил непроницаемый мрак.
– Чунга-Чанга, синий небосвод! – заорал радостный голос над головой Артема. Сердце ухнуло вниз, и он в ужасе отскочил.
– Чунга-Чанга, лето круглый год! – прохрипел помятый рупор на крыше автобуса. На буквах заплясали цветные огоньки.
Артем устыдился своей трусости, и его охватила злость.
– Чунга-Чанга, весело живем… весело живем… весело живем… – в динамике что-то заело.
– Дурацкая песня! – Артем зарядил рогатку и прицелился в синюю лампочку.
Двери автобуса со скрежетом сложились пополам. Артем вздрогнул, выпустил кожеток, и камень проскочил мимо цели.
Из передвижного кинотеатра пролился голубой свет, вместе с ним выплескивался заразительный детский смех. Артем уставился на завораживающее таинственное свечение, и все его страхи, обиды, разочарования, неудачи… быстро растворились, и искрящаяся радость наполнила сознание. Больше всего на свете он хотел влиться в безудержное веселье и смотреть вместе с другими ребятами мультики.
Поглощенный ледяным сиянием Артем тихонько проскользнул в автобус. Двери за ним захлопнулись.
– Весело живем… весело живем… – песня оборвалась, и гирлянды погасли.
– Здравствуйте, – робко ответил Родион на телефонный звонок.
– Скажи Артему, чтобы сейчас же перезвонил и живо собирался домой! – сказал рассерженный женский голос.
– Он не со мной.
– Как не с тобой?! А где он?!
– Я не знаю, – пролепетал Родион. Он боялся властную и строгую мать Артема.
– Как это – не знаю?! Ты сам где?!
– Дома.
– Значит, так… Если вы вздумали меня дурачить…
– Тетя Алла, я вас не дурачу, – перебил мальчик, боясь услышать, чем закончится ее угроза. – Я правда не знаю, где Тема!
В трубке повисло молчание.
– Алло? – тихо позвал Родион.
– Когда ты его последний раз видел? Что он сказал? Куда пошел? – вопросы посыпались градом.
– После школы он пошел в парк, а я домой.
– Почему ты не пошел с ним?
В голосе тети Аллы Родион услышал обвинение.
– Я не мог. Обещал маме помочь, – оправдывался он.
– Зачем он пошел в парк?
«Если узнает про рогатку, сто пудов отберет, и мы точно никогда с Темой не помиримся», – быстро сообразил Родион.
– Хотел погулять, – он скрыл часть правды. – А что, он еще не вернулся?
– Нет, и трубку не берет, – упавшим голосом сказала тетя Алла. Родиону стало жалко ее, и он поспешил успокоить:
– Сейчас Паше и Никите позвоню. Он наверняка с ними!
– Нет, я их во дворе видела. Слушай, если Артем позвонит или напишет, сразу сообщи мне.
– Да, конечно. Все будет хорошо! – сказал он, но тетя Алла уже бросила трубку.
Родион набрал номер друга, включил громкую связь и положил смартфон на письменный стол. Пока гудки вызывали абонента, он зашел с компьютера во «ВКонтакте». Артем был «онлайн».
– Номер не отвечает. Оставьте… – Родион прервал соединение, а затем написал Артему в личку:
«Ты где? Тебя мама ищет. Позвони ей».
Прошло пятнадцать минут. Сообщение висело непрочитанным.
– Баран упрямый! – ругнулся Родион и написал Паше и Никите в общий чат. Друзья ответили, что их звонки и послания Артем тоже игнорирует.
Родион схватил телефон и еще раз набрал номер друга. «Пожалуйста, ответь!» – упрашивал он.
Гудок прервался, из динамика долетели шуршание дождя и… плач тети Аллы.
– Где он, Родион?! Ты должен знать, вы же друзья! Я весь парк обыскала, Темы нигде нет, только рюкзак нашла… Ты же все о нем знаешь! Умоляю, скажи, где он?! Я не буду ругаться, честно, только скажи, прошу тебя, – голос, что прежде вызывал у Родиона мурашки и оцепенение, теперь дрожал от отчаяния и страха. Он слушал тетю Аллу, и ему становилось дурно – дыхание перехватило, будто грудь туго обвязали стальной проволокой. «Лучше бы она ругалась, чем плакала», – промелькнула мысль. Родион очень хотел помочь, но не знал как.
– Скажи, где он? Тема все тебе рассказывает, ты должен знать. Пожалуйста, Роденька… – не успокаивалась тетя Алла.
– Я не знаю! Правда, не знаю! – закричал Родион и сбросил звонок. По щекам потекли слезы. Чувство вины жалило, оставляя пульсирующие раны.
Дверь в комнату отворилась. Родион обтер лицо рукавом, заметая следы своей беспомощности.
Вошла мать – худенькая женщина среднего роста в растянутом флисовом костюме. Усталое лицо с мимическими морщинами; короткие светлые волосы с отросшими темными корнями; и рассадник крупных родинок на шее.
– Родион, пора спать, – буднично бросила Наталья, но, увидев растерянное лицо сына, ощутила беспокойство. – Что-то случилось?
– Тема пропал.
– В смысле?!..
– Тетя Алла звонила. Он не пришел домой.
– Может, к отцу поехал?
– Нет, дядя Игорь позвонил бы. Тетя Алла нашла в парке его рюкзак и телефон, а Темы нигде нет.
– Ты знаешь, куда он мог пойти?
– После школы он звал в парк, а я… – Родион замолчал. – Это я виноват! Пошел бы с ним, он бы сейчас дома был.
– Родик, милый мой! – Наталья обняла сына за плечи. – Ты не виноват. Ну откуда ты мог знать, что Тема потеряется?
Родион молчал, еле сдерживая подступившие слезы.
– Ты правда не знаешь, куда он мог пойти? – прошептала она.
– Нет.
Наталья о чем-то задумалась, потом вздрогнула, будто испугалась.
– Слушай, вот как мы поступим. Сейчас ложись спать, а завтра, если его не найдут, мы вместе подумаем, чем помочь Артему и тете Алле. Хорошо?
Родион кивнул.
– Тогда иди чисти зубы, и спать, – она потрепала вьющиеся волосы сына, поцеловала его в щеку и ушла в свою комнату, ощущая легкую тревогу; ей казалось, что прошлое, от которого она убегала долгие годы, все-таки настигло, протянуло корявую пятерню и схватило за шиворот.
Родион ворочался в кровати, сбрасывал с себя одеяло и снова кутался в него. Жуткие образы, будто стая голодных грифов, кружили над ним, клевали и не давали покоя. Он представлял, как Артема похищают злые люди, как издеваются над ним в темных подвалах, как его друг плачет и просится домой.
К середине ночи он провалился в беспокойный сон с вязкими кошмарами. Родион бегал по вымершему городу, искал Артема. Здесь все было неправильным, как грубо скопированная подделка. Мрачные картонные улицы; тесные дворы с гнилыми домами; неживые, точно пластиковые, деревья; неподвижная вода в лужах. Он метался по городу-суррогату и без конца кричал: «Темыч!»
Над головой пульсировали тучи, они быстро разрастались и опускались все ниже и ниже. Родион бежал к парку, в надежде найти там Артема, до того как небосвод расплющит город. Он был уже у самых ворот, когда небо рухнуло и погребло его под собой. Мальчик физически ощущал давящую тяжесть в груди. Он резко открыл глаза, вскочил с кровати, и только спустя секунды понял, что это был сон.
В кабинете математики стоял гвалт. Родион сидел за партой у окна и смотрел во двор на опаздывающих учеников. Ждал, когда среди них появится Артем.
Утром, перед тем как выйти из дома, он не позвонил другу, чтобы, как обычно, позвать в школу. Боялся, что трубку возьмет тетя Алла и ее заплаканный голос скажет: «Артема не нашли», а пока… Пока есть надежда, что лучший друг вот-вот выйдет из-за угла и побежит к крыльцу.
Прозвенел звонок. Дети расселись по местам, но гул и взрывы смеха не утихли.
Анна Степановна, классная, задерживалась.
– Родик, где Тема? – спросил кто-то из одноклассников.
– Отвали, – огрызнулся он.
– Ты чего? Поссорились?
– Отвали, сказал! – Родион вскочил из-за парты и пошел к двери.
– Псих!
На пороге кабинета появилась тучная женщина и загородила дверной проем. Французская коса цвета выжженной степи лежала на пышной груди. Дородные формы скрывали объемная юбка в пол и блуза с рюшами, отчего классная сильно походила на бабу на чайнике.
Родион развернулся и пошел на свое место.
– Швец, – обратилась Анна Степановна к мальчику, – выйди в коридор.
– За что? Я ничего не сделал.
– Выйди, кому сказала! – с нажимом произнесла она. Родион подчинился.
В коридоре у окна он увидел невысокого мужчину в синей куртке. Рядом стояла завуч Ольга Андреевна.
– Родион, с тобой хотят поговорить, – ласково начала она. – Это Сергей Владимирович Спицын. Из полиции. Ты только не бойся. Он хочет спросить об Артеме Керенском.
– Здравствуй, – сказал Спицын.
– Его не нашли? – глаза мальчика увлажнились, но он не заплакал.
– Пока нет. Но ты бы очень помог, если бы рассказал…
– Давайте не здесь, – прервала Ольга Андреевна. – Идемте.
Завуч отвела Родиона и Сергея Владимировича в кабинет географии. Они сели друг напротив друга через проход между вторым и третьим рядами, а Ольга Андреевна заняла место за учительским столом.
– Родион, когда и где в последний раз ты видел Артема Керенского? – Спицын достал из внутреннего кармана куртки блокнот и карандаш.
Мальчик в деталях пересказал вчерашний день, не упустил ничего, только про рогатку умолчал. Не из страха, что у друга отберут подарок отца, просто ему казалось, что этот маленький секрет, о котором знают только двое, роднит их с Артемом. Какая же настоящая дружба без секрета?
– А что связывает Артема с… – следователь мельком бросил взгляд на записи в блокноте, – Таней Юдиной из 4 «А»?
– Ничего. Я не знаю, кто это.
– Может, тогда знаешь Ваню Сурикова из 5 «Б»?
– Знаю.
– Он дружил с Артемом? – Спицын внимательно следил за реакцией мальчика.
– Нет.
– Хорошо, – кивнул следователь. – Тогда как насчет Игоря Волкова из 6 «А»? Он общался с Артемом?
– Нет.
– Может, они вместе ходили на секции какие-нибудь?
– Мы с Темой ходим на футбол с друзьями со двора. С Пашей Роговым и Никитой Белозеровым.
– А эти мальчики могли быть вчера с Артемом?
– Нет, они его не видели.
– Ты уверен, что Таню Юдину, Ваню Сурикова и Игоря Волкова ничего не связывает с Артемом?
– Уверен! При чем тут они?! – рассердился Родион. – Пропал ведь Тема!
– Эти ребята тоже вчера не пришли домой, и никто не знает, где они, – ответил Спицын и еще раз уточнил: – Так значит, Артем не общался с ними?
– Не пришли? Где же они?
– Выясняем.
– Это я виноват.
– Виноват? – Спицын насторожился.
– Тема звал в парк всего на час. А я не пошел, бросил лучшего друга… – Родион заплакал.
– Нет здесь твоей вины, – следователь похлопал мальчика по плечу. – Возвращайся в класс.
Прошло два дня. Не появилось ни зацепок, ни следов, ни свидетелей, только слухи. Город замер в ожидании.
Родион вышел из дома со спортивной сумкой. У подъезда его ждали Паша Рогов и Никита Белозеров.
– Ты как? – осторожно поинтересовался Паша.
– Пойдет, – Родион посмотрел на мальчика с рыжей челкой и россыпью веснушек.
Дорога к спорткомплексу «Вымпел» никогда не занимала больше пятнадцати минут, но сейчас время будто замедлилось, а путь растянулся. Друзья молча петляли между мутных луж, и никто не рассказывал пошлых историй, никто не предлагал спорить из-за всякой ерунды, никто не придумывал идиотских развлечений – обычно все веселье затевал Артем. В компании друзей он был главным заводилой и выдумщиком. Остальные только принимали или отвергали его дикие и порой опасные идеи. Осторожный Паша всегда противился, боялся, как бы чего не вышло. Немногословный Никита со всем соглашался, ему все равно, во что ввязываться, лишь бы с друзьями. Поэтому последнее слово оставалось за Родионом. Теперь же, без Артема, будто важная часть крепкого слаженного механизма отвалилась и что-то стало пробуксовывать и скрипеть.
– У нас в школе тоже ребята пропали, – заговорил Паша, прервав долгое молчание. – Мишка говорит, их дядя Саша сцапал.
– Кто? – переспросил Родион.
– Мишка Мартынов, одноклассник наш, – напомнил Никита.
– Это я догнал. Кто сцапал?
– Дядя Саша, мертвец, – уточнил Паша. – Короче, Мишка говорит, он кормит детьми «Колобка».
– Кого кормит? – недоумевал Родион.
– Так автобус-кинотеатр называется, – пояснил Никита.
– Бредятина какая-то! Еще скажи, что в Деда Мороза и Бабу-ягу веришь.
– Ничего не бредятина! – возразил Паша. – Короче, дядя Саша разъезжал на автобусе по всяким там городам и крутил детям мультяхи. Ему типа нравилось слушать, как они ржут. А потом взрослым взбрендило, что дядя Саша чокнутый и ваще какой-то мутный тип, и детям запретили таскаться к «Колобку», а киношнику накостыляли так, что тот окочурился, и его бросили прямо в автобусе. И короче, прикинь, к «Колобку» приперлись какие-то беспризорники, и проектор сам запустился. Пацаны, короче, залезли в автобус, стали зырить какую-то хрень и ржать и даже не заметили в углу трупешник. Они, короче, так и не вышли из автобуса, а киношник ожил и теперь заманивает новых зрителей, чтобы «Колобок» жрал, а он не подыхал.
– Ты че несешь?! Ты же не веришь в эту туфту?
– Сам ты туфта! Мишка говорит, он видел автобус.
– Трепло твой Мишка! – взорвался Родион. – Навешал лапши, а ты уши развесил!
– Да зачем ему врать? – не успокаивался Паша. – А то ты не знаешь, какой Темыч. Вечно его жопу на приключения тянет. Наверняка увидел автобус и…
– Заткнись! – в сердце Родиона обрушилась волна гнева. Он остановился, схватил Рогова за рукав куртки и развернул к себе. – Никакой сраный дядя Саша не сцапал Темыча! Слышишь?! Он не дебил, в отличие от тебя! Тема ни за что бы не пошел с незнакомым мужиком смотреть дурацкие мультики! Понятно?!
Когда горячая неконтролируемая эмоция схлынула и сознание Родиона прояснилось, он увидел напуганные глаза Паши: они смотрели на него, как на чужого, совершенно незнакомого человека, словно Рогов впервые увидел друга, которого знал с детского сада. Родион не меньше Паши испугался своего внезапного порыва ярости. Его отравленное гневом и чувством вины сердце пылало от стыда.
– Ты че?! – Никита растерялся, не зная, что делать: разнимать друзей или стоять и смотреть.
– Погнали, опаздываем, – Родион отпустил Пашу и быстро зашагал к спорткомплексу, показавшемуся между пятиэтажек.
После тренировки Паша пошел к бабушке Наде. Его родители уже четыре дня не разговаривали и общались через сына. Вражда отца и матери и отведенная ему роль связующего угнетала мальчика. Он не хотел идти домой и при любой возможности сбегал к бабушке. В ее уютной квартирке пахло свежей выпечкой, и здесь он напрочь забывал о проблемах.
Паша обожал бабулю. Добрая и понимающая, она, в отличие от других взрослых, видела в мальчике личность и всегда спрашивала его мнение по любому вопросу. Еще Паше нравилось, как она удивлялась и радовалась, когда он обучал ее играм на планшете или показывал смешные ролики в Интернете. Эмоции старушки были такими заразительными и живыми, что он сам начинал хохотать до колик в животе.
Бабушка Надя жила в старой части города, в конце улицы Мичурина. Узкую дорогу с разбитыми тротуарами с обеих сторон зажимали ветхие двухэтажки – фасады обвалились, трещины расползлись от фундамента до крыши, балконы осыпались, обнажив ржавую арматуру. Домишки держались из последних сил, и казалось, вот-вот рухнут на головы хозяев, но люди продолжали в них жить, десятилетиями ожидая переезда в новые квартиры.
В хвосте вековой улицы, где разруха пировала на широкую ногу, стояло несколько заброшенных малоэтажек, занимаемых полчищами крыс, стаями бездомных животных и бродягами. В глубине одного из дворов ютился наполовину расселенный дом бабушки Нади.
Паша вошел в квартал одичалых двухэтажек и ускорил шаг, он не был трусом, но как любой нормальный человек не испытывал удовольствия от пребывания среди пустующих домов с выбитыми окнами и покосившимися крышами. Каждый непонятный шорох, вырывающийся из недр брошенок, превращался в голове мальчика в жуткого монстра. Страх длинным языком облизывал сердце ребенка, оставляя на нем ядовитую вязкую слюну, и заставлял идти быстрее.
«…Странной игрушкой безымянной», – донеслось из ниоткуда. Паша вздрогнул и осмотрелся.
«К которой в магазине никто не подойдет», – потрескивающий голос ушастого мультяшки звучал с противоположной стороны улицы.
«Теперь я Чебурашка, и каждая дворняжка…»
Врожденная осторожность подсказывала Паше бежать со всех ног. Но мальчишечье любопытство не хотело мириться с побегом, пока не выяснится, в чем дело.
«При встрече сразу лапу подает…»
Он пересек дорогу и вошел в соседний двор. У дальнего дома стоял автобус. Нарисованные на нем Малыш и Карлсон держались за руки и махали ему, Бременские музыканты играли на инструментах, а из громкоговорителя на крыше хрипела песня Чебурашки.
– Колобок, – прочел он по оставшимся буквам над головами мультперсонажей.
Паша достал из кармана куртки телефон, сделал несколько снимков, попробовал записать видео, но объектив камеры не фокусировался на автобусе.
Он отправил фотографии Никите и набрал номер Родиона.
– Я… я вижу его. Он здесь, – прошептал Паша. Боялся, что нарисованные мультяшки услышат.
– Че? – протянул Родион.
– «Колобок». Ну, автобус мертвяка. Он тут.
– Блин, заколебал! Давай завязывай!
– Родик, зуб даю. Он правда здесь.
– Фотку кинь.
– Уже. У Некита зацени. Камера, короче, ваще его не видит. Все смазывается.
– Погодь.
Родион задумался, рассматривая цветную размазню. Нет, Пашка не обманщик, он вообще не умеет врать. Просто наивный и сам, конечно, верит в глупую страшилку про мертвеца с кинотеатром. Да и признаться честно, ему было интересно посмотреть, что там за автобус увидел Рогов, на котором камера не фокусируется.
– Родик? Алло?
– Ты где?
– На Мичурина, в заброшенных дворах. Короче, где моя бабушка живет, только на другой стороне.
– Стой там! Мы с Некитом сейчас будем. И это… – Родион замялся, подбирая слова. Он слышал, как дрожит голос друга, и ему хотелось успокоить и приободрить впечатлительного Пашу, но он не знал, что сказать. – Короче, Пашок, не подходи, пока мы не придем.
– Блин, давайте быстрее, – умолял Паша, не отводя глаз от автобуса, ему казалось, стоит на мгновение упустить его из виду, и кинотеатр тут же растворится, сбежит, скроется.
Громкоговоритель ненадолго притих, а потом снова затрещал:
Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету, —голосили Бременские музыканты.
«Колобок» затрясло. Мальчик насторожился. Двери с грохотом распахнулись, и из кинотеатра вышел Артем. Он помахал рукой и поспешил к другу.
– Темыч? – Паша пристально вглядывался в мальчика, бегущего к нему. – Темыч! – обрадовался он и бросился навстречу, когда уже никаких сомнений быть не могло – это Артем Керенский.
Артем захохотал. Гортанный смех толчками вываливался из перекошенного рта. Он резко развернулся и побежал назад.
– Стой! Ты куда?!
Их разделял всего шаг, но Рогов никак не мог схватить Артема.
Керенский забежал в автобус и скрылся во мраке, разбавленном голубым светом. Паша затормозил у двери, попятился назад, но умиротворяющее свечение и сверкающий детский смех уже захватили его. Мальчик замер, ему казалось, он стоит на пороге чего-то невероятного и там внутри сокрыты сотни миров, заключенные в километры кинопленки. Они доступны каждому ребенку, стоит только пожелать и войти, но он не входил. Далекий, почти неслышимый, но настойчивый голос запрещал приближаться к загадочному свету. А хрустальные голоса мальчишек и девчонок продолжали дразнить. Паша никогда прежде не хотел так сильно посмотреть мультики; казалось, будто он вообще никогда не видел анимационных историй. Зрители в кинотеатре наслаждались волшебством, он был уверен, что это волшебство, ведь ничто на свете не может вызывать такого кристального, сияющего восторга.
– Смелее, малец, – прошелестел голос за спиной Паши. На плечо мальчика опустилась рука и подтолкнула к распахнутым дверям.
Не оборачиваясь и не замечая ничего вокруг, завороженный дивным подрагивающим светом, Паша покорно поднялся в автобус. Ржавая пасть «Колобка» сомкнулась, клацнув металлом, точно зубами.
– Скажите, как его зовут? Бу-ра-ти-но, – напевал киномеханик, ковыляя к водительской двери.
Первым в заброшенный двор влетел Никита, за ним Родион. Запыхавшиеся мальчишки затормозили у погнутых ржавых столбов для бельевых веревок и стали крутиться на месте, приглядываясь к лишенным жизни домам, прикрывшим грязь и запущенность наползшей синью октябрьского вечера. Ни Паши, ни автобуса здесь не было.
– Па-ша! – позвал Родион.
– Па-ша! – заорал следом Никита. – Ты где?
Мальчишеские голоса пронеслись над разломанными каруселями, над помятым жестяным грибом, над остовами лавок и проржавевшим кузовом «копейки» и утонули в шорохе моросящего дождя.
– Звони ему, – Родион спрятал голову под капюшон.
– Отключен.
– Вот ушлепок! Че за дебильные приколы?
– А если его дядя Саша…
– Блин, Некит! Ты только не начинай?! Нет никакого дяди Саши, и автобуса нет. Понял?
Никита кивнул.
– Погнали, пока не ливануло.
Мальчики вышли со двора и, гонимые усиливающимся дождем, побежали к высоткам на другом конце города.
Впервые за последние две недели Наталье Швец удалось уйти с работы вовремя. Она стояла на остановке, прячась от дождя под козырьком, но мыслями все еще была с пациентами. Слишком много людей этой осенью оказались в инфекционном отделении городской больницы.
Автобус, дребезжа, остановился в луже. Наталья по щиколотку нырнула в грязную воду и вошла в транспорт, ощущая, как намокает носок и сырой холод растекается по стопе. Она заняла кресло рядом с мальчишкой, который болтал с двумя девочками на заднем сиденье. Из окон автобуса на пассажиров смотрели черно-белые лица, среди них Артем Керенский – обаятельная широкая улыбка и большие выразительные глаза с пышными ресницами. Даже на ориентировке, отпечатанной на дешевом принтере, в зрачках Артема горели огоньки озорства.
Фотографии пропавших детей заполонили город. Они были повсюду. Смотрели на прохожих с каждого столба, с каждой остановки, с каждой двери магазина, и почти все жители уже знали потерявшихся ребят в лицо. Наталья старалась не обращать внимания на распечатки с приметами. Она не хотела ничего знать о мальчиках и девочках, не вернувшихся домой. Жуткое происшествие пробуждало детские страхи, возвращая к далеким дням, когда она потеряла близкого человека. Теперь события прошлого будто прорывались через затвердевшие пласты времени, разбивая десятилетия в щепки, и точь-в-точь воспроизводили ужасы осени 1995 года. Наталья много лет убегала от них, переезжая с одного места на другое, но после рождения Родиона осела здесь, в маленьком городе в Поволжье.
– А знаете, что я видел?! – закричал мальчик, чтобы обратить на себя внимание щебечущих подруг. – Автобус-кинотеатр!
Наталья вздрогнула, напугавшись громкоголосого ребенка, и вынырнула из неприятных воспоминаний.
– «Колобок», что ли? – уточнила одна из девочек.
– И ты видела?
– Нет, одноклассник рассказывал.
– А че рассказывал?
– Типа автобус мертвец водит.
– А мертвеца дядей Сашей зовут. Это он похищает детей, – прогнусавила вторая девочка.
– Неправда! – завопил мальчик. – У меня друг ходил в «Колобок» и смотрел мультики.
– Врешь!
– Не вру!
– У мертвеца мультики смотрел? Ну-ну… – засмеялась гнусавая.
– Дура! Мы с ним потом вместе пойдем.
«Откуда они знают про „Колобка“? Может, он все-таки существует… …и ее забрал дядя Саша. В детстве верила. А сейчас? Сейчас верю? Мертвец-киномеханик… Бред, конечно», – Наталья встала и пошла к выходу.
Тусклый свет фонарей, разлинованный каплями дождя, неравномерно стелился по дороге, освещая пузырящиеся лужи. Наталья спряталась под зонт и засеменила от остановки к дому. Она достала из кармана телефон и дрожащими пальцами набрала номер бывшего мужа.
– Алло?
– Ром, это Ната.
– Что-то случилось? – мужчина напрягся. Она никогда не звонила просто так.
– Немедленно забери Родю к себе. Прямо сейчас закажи билет на ближайший рейс…
– Да что происходит? – занервничал он.
– У нас в городе несколько мальчиков и девочек пропали. И я слышала, как дети обсуждали «Колобока» и дядю Сашу.
– Что обсуждали?
– Ну, помнишь в детстве мы рассказывали друг другу страшилку про мертвого киномеханика…
– Ааа, понял, – перебил он. – Ты же не думаешь, что мертвец похищает детей?
Она задумалась.
– Ната? Алло?
– Нет. Конечно, нет.
– Хорошо, – с облегчением выдохнул Рома. – А дети найдутся. У нас этим летом тоже подростки пропали, всех нашли через пару дней на заброшенной даче.
– Нет, это другое… В общем, мне будет спокойней, если Родик поживет у тебя, пока все не выяснится. Приедешь?
В трубке повисло молчание.
– Может, ты сама его привезешь?
– У меня пациенты. Врачей в отделении не хватает, я не могу бросить людей даже на день. А ты сам себе хозяин и вообще…
– Ладно. Завтра вечером буду.
– Спасибо, – сказала она и сбросила звонок.
Наталья зашла под козырек подъезда, сложила зонт и раздраженно стряхнула его. Засидевшийся в городе дождь утомлял, от его запаха тошнило, шорох льющийся с неба воды действовал на нервы, а матово-земляные лужи, чвакающая грязь и сырой воздух выводили из себя.
Она поднялась на седьмой этаж, позвонила в дверь и застыла в ожидании глухого топота Родиона.
Тишина.
Дзынь… Дзыыынь… Дзыыыынь… Дзыыыыыынь… Дзыыынь… – вцепились пальцы в звонок. Сердцебиение ускорялось, грудную клетку сдавливало, а голова шла кругом.
Трясущимися руками Наталья залезла в сумку, долго копошилась, перебирая вещи и скопившийся мусор, выудила связку ключей, открыла замок и, не разуваясь, бросилась в комнату ребенка.
– Родик! Сынок, ты дома?!
В детской никого не было. Наталья исступленно замычала.
– Ты чего, мам?!
Она обернулась. Родион стоял в дверях туалета.
– Слава богу, ты дома! – Наталья кинулась к сыну. – Послушай, завтра в школу не пойдешь, и гулять не пойдешь, и вообще из дома не выйдешь! Понял?
– Почему?!
– Завтра отец приедет.
– Отец? – мальчик захлопал глазами.
– Он заберет тебя в Красноярск.
Родион в недоумении смотрел на нее и не узнавал в дерганой женщине с дрожащими руками и быстрой речью свою мать. Всегда степенная и рассудительная, теперь она выглядела, как поехавшая.
– Это из-за пропавших? – догадался Родион. – Ты боишься, что меня тоже…
– Ты знаешь про автобус с мультиками? – перебила она.
– «Колобок»? Мам, это же тупая страшилка для детсадовцев, – он улыбнулся, удивляясь, что ему приходится объяснять матери такую очевидную глупость. – Ты че, веришь в эту фигню? Ну, ладно Пашок, наивный лопух. Но ты, мам?
– Я верю, что какой-то маньяк может разъезжать на автобусе и похищать детей, – поспешно оправдалась Наталья. – Обещай, если увидишь любой старый автобус, ты не будешь приближаться к нему, что бы ни случилось. – Ее серые глаза так яростно сверлили Родиона, что ему стало не по себе, будто на него смотрела чужая женщина, очень похожая на его мать. – Обещаешь?
– Ладно, – ответил мальчик. – Он правда завтра приедет?
– Правда, – мать улыбнулась, знакомым жестом потрепала его непослушные волосы, и Родион успокоился.
Новость об отце затмила прежние тревоги и переживания. В груди разрасталось счастье, большое и теплое, оно крепко обнимало его и наполняло эйфорией. Но он быстро опомнился и устыдился своей радости. Как можно, когда Артем в беде? Да и вообще, чему он радуется? Если бы его лучший друг не исчез, то отец бы не приехал. Выходит, он счастлив оттого, что Артем пропал?! От этой мысли Родиону стало тошно.
– Я к себе, – он поплелся в комнату.
– Ты поел?
– Да.
– Уроки сделал?
– Да, – ответил Родион и закрыл за собой дверь.
Вечер Наталья провела со старым фотоальбомом. На глянцевом снимке размером десять на пятнадцать, снятом на пленочную мыльницу «кодак», с трудом помещалась большая компания мальчиков и девочек. Наталья не помнила имена и фамилии многих ребят со двора, но Данил Болотов, Варя Шипелевская и Эдик Нуриахметов навсегда остались в ее памяти. Эти трое бесследно исчезли двадцать три года назад.
Она перевернула страницу и вытащила из кармашка фотографию – на крыльце начальной школы стояли две одинаковые девочки. Наталья долго всматривалась в нечеткие лица, и если бы не кособокая игрушка в руках одной из них, то никогда бы в жизни не догадалась, где она, а где ее сестра-близнец Алена, которая всюду таскала за собой мягкого зайца, сшитого ею из старой шубы мамы. Алена тоже пропала двадцать три года назад. В ту дождливую осень в Мирном за неделю бесследно исчезли двенадцать мальчиков и девочек, тогда Наталья впервые услышала о дяде Саше и его передвижном кинотеатре «Колобок».
Она смотрела на фотографию, и нехорошее предчувствие царапало сердце.
Взъерошенный, с припухшими веками и полосами от подушки на щеках, Родион, потягиваясь и зевая, прошаркал в кухню.
На холодильнике висела записка.
«Никуда не ходи! Жди отца. Целую. Мама».
Родион налил в бокал сок, вернулся в комнату и взял телефон. Куча сообщений от Никиты.
– Ого! – удивился он и открыл первое попавшееся.
«Ты где? Че молчишь? Возьми трубку! Пашок пропал!»
Он несколько раз перечитал текст, но никак не мог спросонья уловить смысл. Родион открыл второе, третье, четвертое сообщение, содержание во всех одинаковое – Паша пропал. Перезвони. Ответь. Ты где?
Родион кликнул несколько раз по экрану и приложил телефон к уху.
– Блин, Родик! – шепотом ответил Никита. – Ты оборзел? Че трубку не брал? Я уж думал, тебя тоже сцапали. Ты ваще где? Фигли звонишь среди урока? Еле отпросился. Математичка, коза старая, не хотела отпускать, – излишняя болтливость и торопливость речи выдавали сильное волнение Никиты. Стресс делал его агрессивным и легкомысленным.
– Телефон на беззвучном стоял. Че с Пашкой?
– Короче, он вчера к бабке не пришел. Матушка его звонила, спрашивала, где он. А еще Мишка Мартынов пропал. По ходу, реально какая-то фигня творится, училки говорят, комендантский час введут. Короче, после уроков пойдем пацанов искать.
Родион и слушал, и не слушал Никиту, его охватила необъяснимая отчужденность, будто все это происходило не с ним. Не его друзья пропадали один за другим; не его мать вчера требовала обещание; не его отец приедет сегодня; и не с Никитой он сейчас говорил.
– Родик? Алло?
– Сегодня не срост. Папка приезжает. Обещал матушке ждать его. Она даже в школу меня не пустила.
– Ну, зашибись! У нас друганы пропали, а ты будешь дома отсиживаться, папочку ждать?!
Родион притих. В нем боролось чувство вины перед пропавшими друзьями и обещание, данное матери. Но если есть хоть малейший шанс найти Пашу и Артема – он непременно должен идти. К тому же нельзя оставить Никиту одного, он ведь зарекался, что больше никогда не бросит друга. «К приезду папки я сто пудов вернусь. Мать ничего не узнает. А если узнает – по фигу, че париться, батек уже сегодня вечером будет в городе, можно больше не надрываться быть хорошим мальчиком», – заключил Родион.
– Позвони, как уроки закончатся.
– Ага, давай, – ответил Никита.
Мальчики бродили между заброшенных двухэтажек на улице Мичурина. Из грязных облезлых стен торчала дранка. Окна скалились кривыми клыками недобитых стекол. Балконы частично рухнули. В крышах громадные дыры, затянутые густой тьмой. Кругом завалы мусора: сгнившие доски с ржавыми гвоздями; помятая газовая плита; обугленная подъездная дверь; разорванные книги; тряпье, кишащее мокрицами. И только воздух роднил это место с другими районами города, здесь так же, как и везде, пахло октябрем – дождем, прелой листвой и сырой землей.
– Па-ша! Па-шок! Паш! – звали мальчики, потом замирали в ожидании ответа, и в наступающем безмолвии прорезался голос запустения: протяжный скрип, глухой удар, слабый треск, невнятный щелчок, будто разлагающийся квартал что-то нашептывал незваным гостям, а его тихую речь перебивал шелест листьев, порыв ветра, карканье вороны.
– Па-ша! – надрывался Родион.
– Па-ша! – подхватывал Никита.
Они дважды обошли дворы, заглянули в окна первых этажей, но ничего не нашли.
– Вчера весь вечер Инет шерстил, – Никита пнул пустую бутылку. – Короче, нарыл пост с фотками. Типа в Союзе были автобусы, переделанные под кинотеатры. Думаешь, никакого мертвяка дяди Саши нет?
Родион пожал плечами и задумчиво произнес:
– Может, он не мертвяк.
– Ладно, валим в парк, пока совсем не стемнело.
Мальчики вышли с другой стороны дворов на пустую улицу Уральскую. Графитовые тучи, похожие на всклоченную паклю, ершились и рычали, лениво бросая на асфальт первые капли дождя. Хмурый день медленно угасал, и тьма плавно проявлялась в воздухе.
– Зырь! – Никита дернул Родиона за рукав.
С Полевой улицы, которая вела к массиву дачных участков, вывернул автобус. Скрежет и грохот клокотали под капотом допотопной рухляди со спущенными колесами. На боках уродливые облупившиеся рисунки, на крыше тринадцать букв – КИ ОТЕА Р КО ОБОК.
Передвижной кинотеатр медленно проехал мимо мальчишек.
– За ним! – Никита бросился за автобусом.
Догнать и перегнать самого быстрого и выносливого юниора секции по футболу Родиону никогда не удавалось. Вот и сейчас Белозеров маячил далеко впереди, а Швец с присвистом хватал ртом воздух, ощущая, как сердце пробивает в груди дыру, еще чуть-чуть, и оно выпрыгнет и поскачет по дороге, путаясь у него в ногах. В правом боку прорезалась острая боль. Тело требовало прекратить пытки, но разум не сдавался, и Родион бежал, стиснув зубы, на помощь Артему и Паше.
Автобус свернул направо. Никита остановился на перекрестке и закричал:
– Шевели булками! Он здесь!
«Колобок», будто вернувшийся с того света, припарковался недалеко от светофора у бетонного забора котельной.
– Надо, короче, предков звать! – Родион тяжело пыхтел, упершись руками в колени.
– Да он свалит, пока они припрутся, – сказал Никита и перешел пустую улицу на красный свет.
– Тормозни! Нужно что-то для защиты…
Напротив котельной, через дорогу, тянулся неровный ряд гаражей. В проходах между постройками громоздились горы мусора. Мальчики подобрали ржавую трубу, обломки кирпичей и стальной прут.
Они приблизились к автобусу и остановились в нескольких шагах от призывно распахнутых дверей кинотеатра. «Колобок» ждал новых зрителей.
– Готов?
– А то, – соврал Родион, ощущая, как страх, словно червь в яблоке, выгрызает в сердце тоннели.
Никита вошел первым.
Как только мальчики оказались внутри, дверь-гармошка зарычала механизмами, рявкнула, расправилась и отрезала путь к отступлению.
Иссушающий ужас охватил Родиона. Он стоял за спиной друга и не мог ни говорить, ни кричать. Язык окаменел, голосовые связки склеились. Из руки выпал обломок кирпича. Он вцепился в куртку Никиты и замычал.
– Шшшшш, сеанс идет, – прошипел кто-то в черном углу за старым кинопроектором, на котором крутилось что-то склизкое. Из объектива установки бил белый луч, он упирался в грязное полотно с мелкими дырами, натянутое в задней части автобуса, и, переваренный экраном, отражался вздрагивающим голубым светом.
На промятом полу, укрытом истертой резиновой дорожкой, валялись распотрошенные бобины. Кольца кинопленки шевелились, шелестели, расползались по салону. В трещинах и разломах стен, обшитых вздувшейся фанерой, копошились личинки. Родион слышал их влажную возню даже сквозь звонкий смех мальчиков и девочек. Затхлый заплесневелый воздух с приторно-едким смрадом шкрябал по горлу.
Никита выронил ржавую трубу и пошел в зрительный зал. Родион остался на месте.
Несколько рядов деревянных стульчиков занимали смеющиеся дети. Рядышком, плечом к плечу, сидели Артем и Паша. Перфорированные ленты кинопленки неторопливо обвивали и опутывали юных зрителей, подобно лианам, и прорастали сквозь их одежду и тела, переходя от одного ребенка к другому. Экран ничего не показывал, кроме умиротворяющего холодного свечения, но мальчики и девочки все равно смотрели и хохотали.
Родион чувствовал, как голубой свет вливается в него и наполняет восторгом, словно все самые счастливые минуты жизни слились в один нескончаемый миг. Он смотрел на экран, смеялся и хотел только одного – навсегда остаться в «Колобке» с Темычем, Пашком и Некитом.
Тонкие нити воды тянулись с неба к земле. На улицах кипели холодные мутные потоки. Город захлебывался.
Фонари еще не зажгли, и лишь свет из окон разжижал надвигающуюся темноту.
– Родя! Родя! – вопил женский голос, но через гул ливня крики не прорывались дальше нескольких шагов.
Наталья Швец в промокшей насквозь одежде носилась по улицам. Отчаяние и ужас душили ее. Весь день она собиралась позвонить сыну, но работа не отпускала ни на секунду. Да и к тому же в последнее время Родион ни разу не ослушался, делал все, что она велела, и вроде как причин для волнения быть не должно. «Он дома. Обещал ведь», – говорила она себе, каждый раз откладывая разговор с сыном. А вечером, когда бывший муж дозвонился до нее и спросил: «Где Родик?», она, ополоумев, вылетела из больницы в тапках, медицинском костюме и куртке нараспашку и побежала искать своего мальчика.
– Родя! Родя! – звала охрипшим голосом Наталья.
Сквозь шорох капель послышалось тарахтение. За завесой из воды и сумерек показался автобус, похожий на пассажирский, но что-то в нем настораживало. Фары колымаги не горели, а мотор то ли гремел, то ли скрежетал, издавая странные, не похожие на шум двигателя звуки. Она внимательно следила за ним, всматриваясь в детали, размытые дождем и затушеванные вечерней мглой.
В кармане заиграла мелодия. Наталья достала телефон из куртки и тут же забыла об автобусе. «Господи, хоть бы нашли», – взмолилась она.
– Нашел?! – Ее сердце замерло в ожидании ответа.
– Нет, – сказал Роман. – У полицейских тоже ничего. Послушай, иди домой…
Наталья слушать не стала. Она бросила трубку и побежала дальше по улице.
– Родя! Родя!
Вдоль дороги вспыхивали фонари, прижигая осеннюю тьму. Наталья затормозила на перекрестке и огляделась.
– Родя! Сынок! – Она кинулась через дорогу.
В электрическом свете, за мельтешащей водной пеленой, под забором котельной стояла маленькая фигурка.
– Родя! Господи, – Наталья упала на колени и крепко обняла окостеневшего сына. – Слава Богу! Жив! Роденька, милый, – горячие слезы текли по холодным щекам мальчика. Она прижимала его к груди, но он не реагировал на прикосновения матери.
– Что с тобой, Родя? – она заглянула в глаза сына, заросшие корками ужаса, из-за которых он не видел ни мамы, ни улицы, залитой дождевыми реками.
Сознание Родиона осталось запертым в передвижном кинотеатре «Колобок». Он все еще стоял в автобусе и уже собирался следом за Никитой занять место в зрительном зале. Но из черного угла за кинопроектором на свет выполз киномеханик дядя Саша.
Его лупатые глаза вонзились в мальчика. На желтушных склерах виднелись жирные сгустки запекшейся крови. От орлиного носа сохранились широкая ноздря и оголенный хрящ. Провалившиеся щеки подчеркивали острые скулы, они сильно выпирали, и казалось, вот-вот вспорют сморщенную кожу, похожую на ошметки пересохшего вяленого мяса, заросшего островками черной плесени. Лицо перерезала кривая улыбка. За тонкими губами просматривалось несколько крупных зубов, изъеденных гнилью. На массивном раздвоенном подбородке топорщились жиденькие волосяные пучки. Плешивую голову прикрывала фуражка с козырьком. На высохшем теле красовался мешковатый пиджак и рубашка с расстегнутым воротом, брюки были заправлены в высокие яловые сапоги.
– Извини, сынок, мест нет, – зашепелявил он и протянул к Родиону безобразную костлявую руку, обтянутую растрескавшейся кожей. – Бери, бери. Не бойся. Это тебе подарок от меня, – киномеханик крепко держал на себе взгляд ребенка, хотел, чтобы тот получше разглядел его и навсегда запомнил дядю Сашу.
Мальчик, трепеща от ужаса, принял подарок.
Двери открылись. Родион вышел на улицу под ливень и смотрел вслед удаляющемуся автобусу. А мгновение спустя он опять стоял внутри «Колобка», а из черного угла выбирался хозяин детского кинотеатра и сообщал: «Извини сынок, мест нет». Страшные минуты повторялись снова и снова, и Родион никак не мог разорвать закольцованный кошмар наяву и выбраться в реальный мир.
– Родя, прошу, скажи хоть что-нибудь! – убивалась Наталья. Не в силах докричаться до сына, она взяла его за руки и увидела в зажатом кулаке Родиона грязного самодельного зайца.
Сердце бешено запрыгало от нарастающего ужаса. Наталья хватала ртом воздух и не могла вдохнуть. Она несколько раз ударила себя кулаком в грудь и тяжело захрипела. Потом вырвала у Родиона игрушку, зашвырнула ее в гаражи, взяла сына за руку и повела домой.
– Нет никакого дяди Саши, и никогда не было, – повторяла без конца Наталья, убеждая то ли себя, то ли Родиона. – Не было этого! Понимаешь?! Не было!
Юлия Саймоназари
Фиолетовая тряпка
Каждая вещь в новой квартире Артема имела строго определенное место. Книги и журналы лежали под углом девяносто градусов к телевизору, подушки на диване ни при каких обстоятельствах не должны были касаться друг друга, а продукты в холодильнике располагались сверху вниз – по мере возрастания калорийности. Это был нерушимый и священный порядок, что поддерживал хрупкое равновесие вселенной, и Артем знал – стоит хоть одной вещи лечь не так, пусть даже на сантиметр, как тотчас неминуемо случится что-то ужасное.
Именно поэтому последние пятнадцать минут Артем переворачивал прихожую вверх дном. Ему все отчетливее мерещились старушечьи ладони: заветренные, иссохшие, с выступающими из-под дряблой кожи сосудами. Далекие воспоминания пробивались из детства мутными образами. Уши горели от стыда.
– Да где?! Где эта чертова тряпка?!
На обшарпанном линолеуме валялись кеды, туфли, кроссовки… Все грязные и истрепанные, будто найденные на помойке. Черный кот кувыркался меж ними, играясь со шнурком ботинка.
– Пшел к черту, Барс! Не мешайся!
Артема било мелкой дрожью, совсем как в детстве. Обувь летела с полок, пара за парой, но фиолетовая тряпка словно сквозь землю провалилась. Артем хорошо помнил: он оставлял ее здесь, на второй полочке слева, под обувной ложкой. Теперь там было пусто. И это «пусто» сулило самую настоящую катастрофу.
– Я позавчера чистил ею туфли! Я помню! – голос его не был похож на голос тридцатилетнего мужчины, а скорее напоминал тонкие всхлипы детсадовца. – Куда она делась?!
В голове родилось подозрение. Артем взглянул на кота.
– Барс… Это ты ее утащил, да? Барсик, миленький, покажи, куда ты ее спрятал.
Питомец и думать не хотел о фиолетовой тряпке. Он скакал по коридору и время от времени скрывался за кроссовкой, чтобы напасть из засады на многострадальный шнурок.
– Барс, это ведь ты! Больше некому. Куда ты ее дел?
Кот зашевелил задом и бросился на ботинок. Сцепившись с обувью в неравной схватке, усатый принялся грызть подошву зубами, мявкать и отбиваться лапами от застежек.
Артем взял кота за шкирку. Поднял перед собой.
– Говори быстро, мразь!
Кот извернулся и выскочил, оцарапав Артему запястья.
По руке скатилась капелька крови. Медленно, вниз… Капля чавкнула, упав на линолеум. Артем похолодел. В ванную, немедленно в ванную! Дрожащими ладонями он достал пластмассовый бутылек с хлоргексидином. Вылил на руки половину. Потом взял пластыри и аккуратно залепил ими каждую царапину…
Полегчало.
Но лишь на пару мгновений. Уже через минуту в голове созрела мысль, что раны обработаны недостаточно хорошо. Туда наверняка успела попасть грязь, подумал Артем. Царапины нужно обеззаразить, иначе они воспалятся, загноятся, и гной, попав в кровь, вызовет сепсис. Артем отковырял пластыри и вылил на руки остатки хлоргексидина. Убедившись, что все чисто, прилепил обратно. И тут же сорвал эти кусочки липкой ленты, мысленно проклиная себя за глупость.
Как он мог, господи, как он мог?! Приклеить к открытым ранам использованные лейкопластыри, на которых наверняка собралась целая колония бактерий. Артем достал чистые, залепил ими царапины и снова отлепил, вспомнив, что на этот раз забыл продезинфицировать руки.
Чуть не плача, он взял новую упаковку с пластырями. Достал второй бутылек с хлоргексидином. Обработал. Приклеил… И снова оторвал все от кожи, уже сам не понимая, что именно его не устраивает.
Пол был усеян липкими лепестками. Артем сидел на стиральной машине, нервно дергал ногой и ковырял пластыри грязными ногтями. Он беспокоился, что инфекция все-таки просочилась в сосуды. Наконец Артем глубоко вдохнул. Ему понадобилось немало мужества, чтобы признаться: он просто-напросто боится выйти из ванной. Здесь все лежало на своих местах, а там, за дверью, – там царил хаос. Там не было фиолетовой тряпки.
Артем просидел так минут десять, а может, и целый час, пока в прихожей не зазвонил телефон.
– Алло?
– Мажерин, ты охренел? – женский голос звучал неприятно. – Я уже полчаса мерзну в этом сраном парке, где тебя черти носят?
Взглянув на устроенный беспорядок, Артем почувствовал, как его снова пробирает озноб.
– Лиза, прости… Кажется, мне нездоровится. Я не смогу прийти сегодня.
Пару секунд в телефоне слышалось лишь тяжелое, сбивающееся дыхание, а затем подруга выматерилась, сказала:
– Пошел ты к дьяволу, придурок! – и бросила трубку.
Артем зашел в гостиную. Поправив подушки на диване, он сел точно между ними, на одинаковом расстоянии от каждой. Он сидел так еще с полчаса, уставившись в выключенный телевизор и сжимая в руке телефон. Артем попытался вспомнить, когда это все началось.
Чувство надвигающейся катастрофы. Оно преследовало его день ото дня, возникая из каких-то незначительных мелочей. Глубоко внутри Артем понимал: отсутствие фиолетовой тряпки никак не повлияет на его жизнь. Есть тряпка или нет – какая разница? Все это ерунда, думал Артем, но все равно не мог успокоиться. Тревога изматывала, выжимала, убивала рассудок.
Безусловно, во всем была виновата бабуля. Это она со своей маниакальной заботой превратила Артема черт пойми во что. Пару лет назад она даже не хотела продавать старую квартиру, хотя Артем и объяснял, что, продав двухкомнатную в центре, можно купить две «однушки» в новостройках, пусть и на окраине города. Бабуля боялась, что внук уедет от нее, оставит одну и, если говорить честно, для таких страхов имелись все основания. Именно самостоятельности Артем и добивался. Самостоятельности и отдельной жилплощади. Когда с личной жизнью не ладится, соседство маразматичной бабушки с каждым годом превращается во все более серьезную проблему. «Артем Мажерин. Рост – 170. Брюнет. Цвет глаз – карий. Возраст – 33 года. Живу с бабулей». Не лучшая анкета для сайта знакомств.
На похоронах Артем светился от счастья. Через пару месяцев, когда бумажная волокита с наследованием разрешилась, он продал квартиру вместе с трухлявой бабулиной мебелью, и вырученных денег оказалось так много, что Артем не только купил новую «однушку», но и позволил себе не работать еще целый год.
Сначала ему это нравилось. Обживаться в новой квартире. Он мог покупать ту мебель, которую хотел, мог расставлять ее так, как хотел. Артем каждый месяц передвигал шкафы, диваны и тумбы, перекладывал книги и всячески пытался сделать квартиру еще уютнее, пока со временем это не перестало доставлять ему удовольствие. Артему постоянно казалось, что что-то стоит неправильно или лежит не так, как должно лежать. Развлечение превратилось в ритуал. Артем и часа не мог провести спокойно, чтобы не думать о том, правильно ли расставлены предметы в квартире. Выходя на улицу, он несколько раз возвращался, проверял все вновь и вновь, и бывало, так уставал от этих снований туда-сюда, что в конце концов вообще отказывался куда-то идти.
Еще одной причиной беспокойства были соседи. Эта мысль не казалась Артему странной, хотя он и не мог объяснить, как могут быть в чем-то виноваты люди, которых он в глаза не видел. Он выходил из дома только в те минуты, когда был уверен, что в подъезде ему никто не встретится, и хоть и не пересекался с соседями ни разу, глубоко их ненавидел. Ненавидел, потому что знал: мерзкие, паршивые уродцы устраивают беспорядок в своих квартирах. Раскидывают книги, бросают вещи на пол. Кладут продукты в свои холодильники не так, как нужно.
Однажды ночью, где-то с месяц назад, Артем проснулся от навязчивой мысли. Он понял, что отныне должен отвечать за весь дом. А как иначе? Иначе никак. Правильное расположение вещей, магия углов, соприкосновения предметов – все это касалось не только квартиры, но и целой двадцатиэтажки. И почему он не думал об этом раньше? В ту секунду Артем почувствовал, как в груди что-то неприятно защекотало. Это была паника. Артем ужаснулся: а что если соседи будут все портить? Мерзкие, паскудные людишки станут трогать расставленные им вещи, нарушать установленный им порядок.
Проворочавшись в постели около двух часов, Артем так и не смог уснуть и, не вытерпев, пошел разгуливать по подъезду. Он бродил так до самого утра в одних трусах, останавливаясь на каждом этаже, заглядывая на каждую лестничную площадку. Артем поправлял почтовые ящики, дотрагивался до табличек с объявлениями; ему становилось все хуже, и он наконец понял, что все дело в фиолетовой тряпке, которая лежала на крыльце рядом с домом. Парой дней раньше он заметил ее, когда возвращался из магазина, и уже тогда она показалась ему странной. Пугающей. Артем был уверен – все дело в ней. Конечно же, в ней. Он спустился и вышел на улицу. Тряпка лежала в снегу и представляла собой угрозу. Она напоминала о чем-то кошмарном. Артем осторожно поднял ее и как можно скорее занес в квартиру. Он долго метался от угла к углу, выискивая для тряпки ее настоящее место, и когда нашел, то почувствовал наконец облегчение. Закончив с уборкой, он лег спать и проспал больше суток.
В руке запищал телефон, вырвав Артема из воспоминаний. Звонила Лиза.
– Алло?
– Послушай, Мажерин. Нам нужно поговорить.
Артем с трудом переборол желание тут же положить трубку. Он не любил, когда окружающие разговаривали с ним таким тоном. Да и подобные фразы вызывали тревогу. Мерзкие, гадкие фразы. Сухие и предвещающие неприятности, совсем как квитанции об оплате коммунальных платежей.
– Мажерин, ты слушаешь?
– Да, говори.
– Нам нужно расстаться.
Ну вот, подумал Артем. Началось. Сколько там прошло? Час? Два? Тряпка только пропала, а беды уже постучались в дверь.
Стоило Артему об этом подумать, как в дверь действительно постучались.
– Я не могу так дальше жить, понимаешь? Ты постоянно сидишь дома, а я не могу на тебя ни в чем положиться…
Раз. Два. Три. Артем недоверчиво смотрел в сторону прихожей. Показалось? Нет, вот снова стучат. Раз. Два. Три… Удары глухие, словно кто-то бьет кулаком в стену.
– Ты меня слушаешь?
– Да… говори.
Стараясь не издавать ни единого шороха, он осторожно, на цыпочках, прокрался в прихожую. Перешагнул через разбросанные ботинки.
Раз. Два. Три… Удары с интервалом в секунду. Ритм ровный, как пульс хирурга.
– Я столько раз пыталась понять тебя, Артем. Столько раз! Ты закрылся и сидишь в своем мирке и даже ни разу не пригласил меня к себе? Почему? Я не понимаю!
Через глазок Артем разглядел, что на лестничной площадке никого нет. Удары прекратились. Он прикоснулся к дверной ручке, но тут же одернул ладонь. Потом медленно взялся за щеколду. И снова отпрянул.
На третий раз он все-таки набрался смелости: резко отодвинул щеколду и, зажмурившись, распахнул дверь.
Пусто.
– Я не могу… Ты странный, Артем, очень странный. Это больше не забавно, все эти твои выходки, понимаешь?
На кухне зарычал кот. Кого, интересно, он там увидел?
– Я не могу так жить. Прости, пожалуйста, но я не могу…
Артем опустил взгляд. На коврике перед дверью лежала фиолетовая тряпка.
– Лиза.
Подруга замолчала. Видимо, она оторопела от того, что Мажерин все-таки заговорил.
– Лиза, – повторил Артем.
– Да?
– Я ее нашел.
Молчание. Затем неуверенный голос:
– Кого?
– Тряпку. Она здесь, в подъезде.
Молчание.
– Я ее нашел, Лиза.
– Ты издеваешься?
– Почему? – Артем удивился. – Все хорошо, Лиза. Я ее нашел, слышишь? Она здесь. Теперь ты меня не бросишь.
– Хватит…
– Представляешь, она лежала здесь, в подъезде. Прямо под дверью! – Артем засмеялся. – Наверное, Барс вытащил, когда я ходил в магазин.
– Артем! Хватит!
По ту сторону трубки началась истерика.
– Лиза, не кричи. Не нужно кричать. Все уже хорошо. – Артем оглянулся, взглянул на полку. – Подожди секунду, Лиза. Сейчас я ее верну. Подожди.
Артем отложил телефон в сторону. Потом взял тряпку и перенес ее на законное место – на вторую полочку слева. Придавил обувной ложкой.
– Алло, Лиза? Все готово.
Молчание.
– Алло? Лиза?
Артем посмотрел на экран телефона. Лиза бросила трубку. Он перезвонил несколько раз, но длинные гудки постоянно сменялись короткими. Где-то на кухне вновь зарычал кот. Артем посмотрел на лестничную площадку. И в следующую секунду внезапно все понял.
Соседи. Мерзкие соседи издеваются над ним. Стучат в двери, воруют тряпки! Артем задрожал то ли от гнева, то ли от страха. Он почувствовал, как зачесались царапины на запястьях. Что-то горячее копилось в груди и обжигало ребра. Артем выглянул в подъезд, посмотрел сначала вверх, потом вниз, прислушался и, убедившись, что рядом никого нет, заорал во весь голос:
– Мрази! – И тут же нырнул обратно в квартиру, захлопнув за собой дверь.
Полегчало.
Чтобы закрепить успех, Артем со всего размаха пнул попавшийся под ногу ботинок. Тот пролетел через всю прихожую и ударился о полку, где лежала фиолетовая тряпка, с громким, пожалуй, слишком громким хлопком. Артем замер, прислушиваясь, как в подъезде разрастается эхо. Раз. Два. Три… Через секунду Артем взвизгнул и побежал в комнату, потому что ни в каком доме, пусть даже в самом пустом, эхо не могло так звучать.
Раз. Два. Три. Грохот рождался на верхних этажах и спускался вниз, сотрясая все здание. Размеренные и каменные удары звучали так, словно там по лестнице катился огромный мраморный шар. Вниз, ступенька за ступенькой, шар приближался к квартире Артема.
Раз. Два. Три. На кухне уже не рычал, а жалобно пищал кот. Вскоре его скулеж невозможно было различить. Здание дрожало. От грохота закладывало уши.
Раз. Два. Три… Удары металлобетоном по темечку. Раз. Два. Три… Пауза, чтобы прочувствовать боль. Раз. Два. Три…
Артем спрятался за диваном и зажал голову подушками.
Раз. Два. Три… Уже совсем близко. Почему удары звучат по три?
Раз. Два. Три.
Грохот постучался в дверь.
Артем открыл глаза, осмотрелся.
Он думал, что обнаружит перевернутые шкафы, разбитую люстру или другие последствия землетрясения, но ничего подобного Артем не увидел. Шкафы стояли на месте, люстра целехонькая болталась под потолком, а книги аккуратными стопочками лежали на тумбе под углом девяносто градусов к телевизору.
Барс, как ни в чем не бывало, вылизывал шерсть, усевшись посреди гостиной.
– Что это было? – спросил Артем у кота.
Кот не ответил. Даже не повернул голову.
– Понятно, – кивнул Артем.
Потом глубоко вдохнул, поднялся и зачем-то задернул шторы. Он почувствовал себя неловко. Ему казалось, что кто-то из соседних домов увидел, как он прятался за диваном и закрывался подушками. Он хотел объяснить, что на самом деле не очень-то и испугался, но объяснять было некому, и из-за этого Артем вдруг почувствовал себя посмешищем. Совсем как давным-давно в школе.
За окном что-то зашипело. Артем вздрогнул, но тут же понял, что это всего лишь дождь. По стеклу забарабанили капли – все сильнее и быстрее. Через минуту дождь превратился в ливень.
Давненько уже не капало с неба… Артем подумал было, что дожди в это время года не предвещают ничего хорошего, но потом понял, что даже не знает, какой сейчас месяц. Август? Или сентябрь? Артем взял телефон и открыл календарь. Был ноябрь.
Артем попытался вспомнить, чем занимался последние недели. Кроме ритуальных походов в магазин и редких встреч с Лизой, в голову решительно ничего не шло. В последнее время он так редко выходил из дома, что из-за недостатка физических нагрузок по ночам у него стали вздрагивать ноги. Мышцы сводило судорогой, и иногда ему казалось, что кровь в венах окончательно загустела, превратившись в вязкое желе, как сам Артем.
Подумав об этом, он зашел на кухню и нашел коробку с лекарствами. В ней лежали бесчисленные пачки с аспирином. Когда-то давно Мажерин прочитал, что аспирин разжижает кровь, и теперь пил по восемь таблеток в день. Он был уверен, что если будет пить меньше, то где-нибудь в берцовой вене непременно образуется тромб, который оторвется и убьет его, застряв в одном из сердечных клапанов. Умирать Артем не хотел. Поэтому пил аспирин.
Ливень вовсю разошелся, и где-то вдали над городом заворчало в небе. Артем выглянул в окно. Вид из его квартиры открывался паршивенький. Из бетонных площадок торчали две свечки-двадцатиэтажки, один в один напоминавшие дом Артема, а между ними приютились общая парковка и убогий дворик с обрубленными тополями.
Опускались сумерки. В «свечках» одно за другим начали зажигаться окна. В одном из них Артем увидел рыженькую женщину, лет сорока на вид. Сказать точнее он не мог. Зрение подводило, да и ливень не позволял как следует все разглядеть. Рыженькая что-то готовила и носилась по кухне с кастрюлями, из которых валил пар. На ней был ситцевый халатик, явно на пару размеров меньше, и этот халатик почти не прикрывал обнаженные ноги. Когда женщина наклонилась, Артем увидел ее белье. В животе сладко защекотало, и Артем невольно прикоснулся к себе.
Рыженькая снова наклонилась. Сквозь стекающую по окнам воду Мажерин жадно смотрел на голые ляжки. Он с нетерпением ждал, когда ткань халата приподнимется еще на пару сантиметров. Левой рукой Артем оперся на подоконник, а правой стал помогать себе. Быстрее, быстрее…
Он прикусывал губы и дергал ладонью все торопливее. А потом кто-то мерзко захихикал в подъезде.
Артем закопошился, ссутулился. Он закрыл шторы и суетливо застегнул ширинку. Затем прислушался. Он мог поклясться, что хихикающий человек стоял прямо под дверью – так отчетливо был слышен смех.
Через секунду оно вновь повторилось. Крысиное, старушечье хихиканье, напоминавшее… Нет, нет… Это все проделки мерзких соседей.
Артем схватил нож и в пару широких шагов преодолел коридор. Однако стоило зайти в прихожую, как смелость куда-то испарилась. Артем остановился на почтительном расстоянии от двери. Подходить ближе он не решался.
– Кто там? – громко спросил он. – У меня нож!
В подъезде вновь захихикали. Мгновение спустя раздался мерзкий скрип, словно кто-то царапал металлическую дверь ногтями. А потом постучались.
Раз. Два. Три.
– Теребишь, Артемка? – старушечий голос звучал приглушенно. – В тряпочку тереби. В тряпочку.
Артем заорал. Выронив нож, побежал в гостиную. Запнувшись о рычащего кота, он испугался еще сильнее и даже не заметил, как, потеряв равновесие, растянулся на полу. Падая, он неловко выставил правую руку. Ковер обжигающе шоркнул по запястьям, сдирая пластыри и корки с царапин.
– Бог наказал! – зашипели за дверью. – Артемка-рукоблуд!
По окнам барабанил ливень. Гроза подбиралась ближе, небо вспыхивало с каждой минутой все ярче. От раскатов грома дрожали окна, а бабулин голос продолжал издеваться:
– Сколько раз я тебе говорила? Тряпочку бери и тереби через нее! А то руки сотрешь и штаны измажешь. Весь диван уже перемазал, паршивец!
Кот шипел и утробно рычал. Выгнувшись и прижав уши, он глядел в сторону прихожей.
– Я тебе по жопе надаю, если еще раз увижу, что без тряпочки. Понял меня? – бабуля вновь захихикала.
– Уйди, – захрипел Артем. – Ты умерла!
– Да что ты? А ты посмотри в глазок, паршивец. Я тута. Слышишь?
Ногти вновь заскребли по металлу двери.
– Уйди, уйди, уйди.
Артем захныкал. Он прижал к себе подушку и попытался спрятаться за ней, как когда-то в детстве. Вот только сделать это в тридцать три года оказалось гораздо сложнее. Артем захотел убежать. Но он понимал, что единственный выход отрезан, а прыгать с шестого этажа – верная смерть.
Скрип ногтей по металлу повторился. На этот раз скребли выше – где-то рядом с замком. Артем перестал скулить. На какое-то время он даже забыл, что нужно дышать.
Щеколда… Он ведь задвинул ее?
Артем лихорадочно вспоминал, как полчаса назад закрывал дверь. Он захлопнул ее с размаху, так, что стены затряслись, – это он помнил. А дальше? Задвинул ли он щеколду? Артем чувствовал, что от страха у него коченеют мышцы. Совсем как у мертвеца. Он попробовал пошевелить пальцем, но ничего не вышло. Сухожилия будто задеревенели.
Нет, нет, нет… Наверняка он закрылся. Он всегда закрывался. Артем даже вспомнил, как прикасался пальцами к холодному металлическому шарику на язычке защелки. Или это было раньше? Перед тем, как кто-то постучался в дверь? Или вообще вчера? Господи, ну как он мог не запереть замок? Запер. Конечно же запер…
Или нет?
Артем должен был проверить. Прямо сейчас. Несмотря на страх и паралич. Нужно было встать, пойти и проверить, задвинута ли эта чертова щеколда, потому что от нее сейчас зависела вся жизнь Артема.
Он несколько раз глубоко вдохнул, а потом зажмурился, закричал и вслепую добежал до двери. Он нащупал металлический стержень… Задвинут.
Артем был спасен.
Наконец он выдохнул. Уже совершенно спокойно, без всякого страха, вернулся в гостиную. «Спасен! Спасен!» – подумал он. Но уже через секунду появилась другая тревожная мысль: «Спасен?» Он ведь даже не открыл глаза, проверяя защелку. А что, если ему показалось? Что, если щеколда на самом деле не была задвинута? Помучившись с минуту, Артем все-таки не выдержал и вернулся в прихожую.
Щеколда была закрыта.
Чтобы отбросить последние сомнения, Артем подошел и несколько раз подергал ее за язычок. Все было в порядке. Он вернулся в гостиную. И тут же подумал, что, дергая эту чертову щеколду, мог случайно ее отодвинуть и не обратить на это внимания.
Артем проверил в третий раз.
И только потом понял, что давно уже не слышит никаких звуков из-за двери. Барс не рычал.
Дождь продолжал стучать по окнам, и в небе сверкала гроза.
До самой ночи Артем так и не смог уснуть. Он плакал и грыз подушку зубами, но был не в силах остановить бесконечные походы к двери. Как заведенный, он раз от раза вставал с дивана, плелся в прихожую, дергал щеколду туда-сюда, проверяя, надежно ли она закрыта, потом возвращался в комнату, забирался под одеяло, и… все повторялось заново.
Артем уже не понимал, что делает. В очередной раз проходя по одному и тому же маршруту, он посмотрел в зеркало и ужаснулся. Из отражения на него смотрел мертвец с фиолетовыми кругами под глазами, с желтой, покрытой сальными пупырышками кожей. Грязные волосы слиплись в сосульки. Артем понял, что всерьез заболел. Понял и снова поплелся в прихожую, чтобы проверить щеколду.
Это продолжалось целую вечность, пока усталость наконец не победила тревогу. В тысячный раз упав на диван, Артем осознал, что теперь-то ему точно конец, ведь он оставил защелку незадвинутой. Но оторваться от подушки он так и не смог.
Проваливаясь в сон, Артем услышал, как кто-то скребется в подъезде. Ему снилось, будто в темной прихожей медленно открывается дверь и сквозь щель протискивается старушечья ладонь. На ней всюду жилы, поломанные грязные ногти…
Мертвая старуха, шаркая ногами, заходит в квартиру. Раздается болезненный кашель и шуршание одежды.
Она волочится к комнате.
Она бурчит себе под нос и спотыкается о разбросанную обувь. Она кряхтит и долго-долго шебуршит в прихожей, пытаясь что-то найти. Через секунду на пол с громким звоном валится обувная ложка. Старуха плетется обратно к двери.
Какое-то время не слышно ни единого звука. Царит тишина. Слишком громкая тишина… А потом металлические щелчки. Быстрые, размеренные, чуть приглушенные. Старуха дергает щеколду туда-сюда, держит ее через тряпочку. Туда-сюда, туда-сюда – все быстрее и быстрее. Щелчки превращаются в знакомый ритм. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Защелка бренчит, ударяясь о рамку…
Артем открыл глаза.
Дождь закончился. Гроза стихла. Артем нащупал в темноте телефон и, глянув на экран, понял, что проспал не меньше двух часов. Пришла мысль, что нужно обязательно проверить замки в прихожей, но он вовремя осознал, что если сделает это снова, то уже не уснет до самого утра. Все вновь обернется зацикленными походами до двери.
Собрав последние осколки воли, Артем перевернулся на другой бок. Он удивился, когда понял, что почти не ощущает тревоги. Глаза слипались. Соседи наверху начали передвигать мебель, но Артем не слушал их. Он плавал где-то между сном и бодрствованием.
В этом мягком, текучем мире Артем вновь был маленьким и счастливым. Он гонял по двору мяч, подаренный отцом. Потом ел ириски и запивал их лимонадом. Он радовался солнцу, но солнце, коварное солнце, вдруг отвернулось, и пришли те, кого Артем боялся. Он не успел убежать. У него отобрали конфеты, а лимонад шутки ради вылили ему на голову. Вязкая, липкая жидкость стекала по волосам на футболку, хлюпала в сандалиях… «Крутой мяч, дай погонять»… Они отобрали его. Пнули со всей силы, и новенький мяч полетел в конец двора – туда, где лежали штабеля старых досок. Раз. Два. Три… Мяч поскакал по доскам. Раз. Два. Три… Громкий хлопок.
Артем вздрогнул и проснулся.
Соседи наверху продолжали передвигать мебель.
Казалось, что там раскладывают диван. Звучали приглушенные голоса. Один, мужской, был низким и сильно прокуренным. Второй – женский, немного визгливый. Они обсуждали Артема.
– Говори потише, а то он нас услышит, – прошептала женщина.
– Да и пусть слышит! Задавлю щенка, если хоть слово вякнет.
Голоса звучали так отчетливо, словно между квартирами не было бетонной плиты. Максимум тоненькая фанерка.
– Услышал, сучонок! – вскрикнул мужской голос. – Ну что, нравится тебе, а, паршивец?
– Не пугай его, – прошептала женщина. – Пусть поспит.
– Поспал уже! Утро скоро, а он все спит, сукин сын. Будет знать, как теребить на взрослых.
– Он ведь не специально. У него само.
– И что? Подумаешь, само. Само – не само, а нечего причиндалами трясти на весь город. Над ним уже все смеются. Знакомые, прохожие, даже продавщицы в магазине хихикают, а он все гоняет туда-сюда, туда-сюда. Слышишь, щенок? Рукоблуд несчастный!
Зазвенела посуда. Артем задрожал. Он вдруг понял, что голоса звучат вовсе не из соседней квартиры. Они звучат из кухни.
– Ты меня послушай, сучонок. Еще раз увижу, как ты теребишь, я тебе яйца отрежу, усек?
– Он ведь и правда отрежет, – предупредил женский голос.
– Твоим собственным ножом. Вот этим вот.
Артем услышал, как в кухне что-то упало на пол.
– Мы за тобой наблюдаем, – прохрипел мужской голос. – Мы тебя видим, где бы ты ни был, усек? Не пытайся от нас спрятаться. Попытаешься спрятаться, я в тебя жука засуну, чтобы он за тобой следил. И тряпку не смей трогать, ясно? Тронешь тряпку, я жуку скажу, он тебе в сердце заползет, перегрызет сосудики. А потом я тебя на кладбище закопаю. Рядом с твоей старухой.
– Слушайся его, – поддакивает женщина. – Он ведь кожу с тебя сдерет.
– Сдеру!
Артем заплакал, закрылся одеялом, но голоса и не думали никуда уходить.
– Распустил сопли, сучонок, – рассмеялся мужчина.
– Слышишь? – заметил женский голос. – Он что-то тебе говорит.
– Что? Не разберу ни хрена.
Артем и вправду беззвучно раскрывал рот. Наконец из его груди вырвался почти беззвучный хрип:
– Кто вы?
– Ты посмотри, этот щенок еще что-то вякает. Тебе, паршивец, важно запомнить главное. Мы здесь хозяева. Твои хозяева, ясно? И квартира эта наша!
– Моя… – прошептал Артем.
– Что?!
– Моя…
– Что ты сказал, сучонок? – заорал мужчина.
Лежа под одеялом, Артем услышал, как кто-то громко затопал по коридору. Этот кто-то направлялся в комнату. Долгое время не было слышно ни звука, а потом рядом с кроватью захрипело тяжелое дыхание. Завоняло луком и дешевым табаком.
Голос заорал прямо над ухом:
– Я в тебя жука засуну, мразь! Это моя квартира!
Артем завизжал, как резаная свинья. Он заколотил руками и ногами под одеялом. Он орал на весь дом, задыхался, бил кулаками куда-то по воздуху и одновременно пытался вжаться в диван. Когда шок прошел, Артем понял, что лежит на полу.
На улице занимался рассвет.
До обеда Артем проходил по квартире, словно сонная муха. Он убрал разбросанную обувь в прихожей, протер везде пыль, несколько раз проверил, задвинута ли щеколда. Потом он пошел позавтракать, но, перед тем как залить хлопья молоком, несколько раз вытащил из холодильника все продукты и разложил их каждый раз в одной и той же последовательности.
После обеда он решил немного полежать, подумать, что делать дальше. И не заметил, как провалился в сон.
Ему вновь снилось детство, но в этот раз не было ни ирисок, ни лимонада. Вместо них был журнал. Тонкий, дешевый – пестрые странички скреплялись между собой скобами, мялись и рвались. Еще они почему-то липли друг к другу, словно кто-то капнул на них суперклеем. Артем знал: журнал никто не должен увидеть. Иначе отберут. Он прятал журнал под матрасом и доставал только ночью, когда в родительской спальне стихала бесконечная ругань.
Страница за страницей… Артем листал истрепанную бумагу и жадно рассматривал картинки. Он напрягал ноги, потому что так было приятнее. В животе сладко щекотало, и какая-то неизведанная сила рвалась наружу. Вскоре Артем научился ее выпускать. Оказалось, что это совсем несложно, хоть и немного стыдно. Половину работы творила фантазия. Вторую половину руки. В те минуты, в те сладкие волшебные минуты, главным было то, чтобы никто не вошел в комнату. Не вломился без стука…
Раз. Два. Три.
Артем проснулся.
На улице снова стемнело. Барс недовольно мяукал, сидя перед диваном. Артем вспомнил, что не кормил кота больше суток. Он зашел на кухню, достал из холодильника корм и вывалил желе в миску. В тот момент, когда Артем убирал пакетик из-под кошачьей еды, в ноге вдруг болезненно дернуло мышцу.
Аспирин! Он не принимал его с прошлого вечера!
Артем судорожно вытащил коробку с лекарствами. И с ужасом обнаружил, что таблетки закончились. Он посмотрел на часы. Десятый час. Все окрестные аптеки уже закрыты. Под ребрами задрожали невидимые ниточки – верный признак накатывающего приступа паники.
В глазах потемнело. Артем вскрикнул и почувствовал, как в ноге снова что-то дернуло. Он еще раз перерыл все упаковки с лекарствами, но среди них не было ни одной нужной – той самой, бумажной, с зеленой надписью «Ацетилсалициловая кислота». Артем даже перевернул мусорное ведро, надеясь, что мог случайно выкинуть пару таблеток… Все тщетно.
Артем понятия не имел, что теперь делать. Он зашел в комнату и поступил так, как обычно поступал в безвыходных ситуациях. Сел на диван и уставился в выключенный телевизор.
В квартире звенела тишина. На кухне едва слышно возился Барс, поглощавший липкое, вязкое мясо. Артем сидел недвижимо, проваливаясь в собственные мысли. Он пытался понять, чем заслужил такие страдания. Артем всерьез верил, что был хорошим человеком. В жизни он не делал никому зла, по крайней мере, пытался не делать. Но над ним все равно издевались. Окружающие смеялись и постоянно тыкали в него пальцем, и, даже после того, как Артем вырос и закончил школу, ничего не поменялось. Когда он работал кассиром в фастфудовой забегаловке, он всегда улыбался клиентам, искренне желал им хорошего дня, но они все почему-то кривили лица и снисходительно усмехались, словно знали все его грешки. Словно они видели, чем занимается Артем в своей комнате вечерами, пока бабуля смотрит телевизор.
Раз. Два. Три… Опять закрылся, Артемка? Что там делаешь? Хи-хи-хи… Ну сиди-сиди, не трогаю. Хи-хи-хи… Мерзкое крысиное хихиканье. Хорошо, что щеколда закрыта.
Артем не заметил, в какой момент соседи сверху вновь принялись разбирать свой диван. Глухие удары доносились с потолка, словно там передвигали что-то тяжелое. Время от времени слышалась быстрая дробь – топот маленьких детских ножек.
Артем подскочил с места.
Соседи! Мерзкие соседи! Вчера вечером он не задвинул щеколду, и ночью эти твари прокрались к нему на кухню. Это они украли аспирин. Это они стучались в дверь. Это они хотели отобрать квартиру.
В груди вспыхнул гнев. Артем забежал на кухню, схватил нож и решительно прошагал в прихожую. Прикоснувшись к щеколде, он подергал ее пару раз туда-обратно, а затем открыл дверь.
С ножом в руках Артем вышел в подъезд. Этажом выше кто-то шумел. Он слышал их приглушенные голоса из квартиры – те же, что и минувшей ночью. Мужчина кашлял, а женщина что-то тихо бормотала. Артем почему-то был уверен, что у женщины рыжие волосы. И по дому она непременно ходит в ситцевом халате. Он представил, как воткнет ей нож прямо в живот. Убьет ее, а потом…
Артем оперся свободной рукой о перила. Ему было страшно, очень страшно, но от фантазий так приятно щекотало внизу живота… Позже. Он сделает это позже. Даже не так. Ему не придется больше трогать себя, ведь там, в квартире на седьмом этаже, его ждет рыжеволосая. Правда, сначала придется убить ту наглую и воняющую дешевым табаком мразь, что посмела ему вчера угрожать. А потом он займется его женой.
Тихо, очень тихо Артем поднялся по лестничным пролетам. Площадка здесь была точно такая же, как и этажом ниже, да и квартирные двери – один в один, как дверь Артема. Серые, металлические, и на внутренней стороне у них наверняка имелись щеколды.
Артем подошел к нужной. Постучал. Ровно три раза.
В квартире притихли. Испугались сволочи, подумал Артем. Он покрепче сжал нож и постучался снова.
Раз. Два. Три…
Голоса исчезли, равно как и другие звуки. Артем посмотрел на ручку двери. На ней серебрился нетронутый слой пыли…
Что-то не так.
Артем обернулся, и взгляд его упал на электрощиток. На щитке висел маленький навесной замочек, а в металлическом листе были квадратные прорези – в аккурат напротив счетчиков, чтобы удобнее было списывать показания. Артем подошел ближе. Диск одного из четырех счетчиков не крутился. Цифры показывали нули.
Несколько секунд Артем стоял как истукан, переводя взгляд со щитка на дверь и обратно. Ему понадобилось какое-то время, чтобы переварить информацию. А потом он побежал по этажам. Он останавливался на каждой площадке и смотрел на счетчики. Нули, нули, нули… Везде были нули.
Квартиры стояли пустые.
Двадцать лестничных площадок. Сто пятьдесят восемь дверей. А за ними ни единой души. Никто не заселялся в этот дом, кроме самого Артема. От этой мысли стало сначала радостно, а потом до безумия страшно. Кто же тогда скребся ногтями в дверь? Кто грохотал этажом выше? Кто прошлой ночью сидел у него на кухне?
Артем спустился на свой этаж и замер как вкопанный. Дверь в квартиру была распахнута.
– Что, сучоныш? Порезать нас вздумал? Ну давай иди сюда.
Голос хрипел из кухни. С лестничной площадки Артем не видел ничего, кроме прихожей и куска коридора, но он знал: говоривший сидит там, за столом. Именно туда смотрел испуганный Барс, что стоял рядом с обувной полкой, выгнув спину и прижав уши.
Кот издал утробный звук, больше напоминающий коровье мычанье, чем кошачье мяуканье. Низкий прокуренный голос с кухни рявкнул:
– Если твоя тварь не заткнется, я ему кишки выпущу!
На этот раз Артем не задохнулся от страха. Нож придавал уверенности.
– Кто ты? Проваливай из моей квартиры!
Голос расхохотался, но ненадолго. Смех тут же сменился приступом сухого кашля, будто пришелец на кухне страдал от туберкулеза.
– Ты с первого раза не понимаешь, сучоныш? Это не твоя квартира. Она наша. Бабка нам ее подарила. Помнишь бабулю, паршивец?
Где-то далеко внизу, на самом первом этаже, послышалось мерзкое хихиканье. Артема окружали.
– Что замер, щенок? – спросил голос из кухни. – Иди сюда, я сказал.
Артем шагнул назад. Крепче сжал нож. В тишине раздался металлический щелчок, словно кто-то отодвинул щеколду. Дверь соседней квартиры медленно и со скрипом открылась.
Из пустой прихожей на Артема смотрела женщина. Та самая – в ситцевом халате. Бледная, с синими выступающими венами на голых ногах. У нее не было лица. Ни носа, ни губ, ни глаз – только кусок кожи, на который натянули рыжие волосы. Женщина прижимала палец к тому месту, где у людей обычно располагается рот.
Артем понял ее жест. Женщина просила не издавать ни звука.
– Что ты булки мнешь? – спросил хриплый голос из кухни. – Иди сюда, не бойся.
Женщина поманила Артема к себе – в пустую квартиру. Он не пошел, а, наоборот, сделал шаг назад. Тогда женщина по-кошачьи зарычала. Совсем как Барс. Утробно, словно в животе у нее загудел ветер. Артем не выдержал.
Он зажмурился, закричал и побежал на женщину. Ударил в живот. Раз девять, не меньше. Три раза по три удара ножом.
Раз. Два. Три…
После очередного удара женщина просто растворилась в воздухе. Артем попятился обратно в подъезд. В этот момент обе двери захлопнулись. Голоса исчезли. Было лишь слышно, как все громче и громче кричит Барс. Казалось, будто его там раздирают на части бездомные псы.
Артем задергал ручку двери. Она не поддавалась. Кто-то задвинул щеколду. Артем несколько раз пнул дверь, и металлическое эхо разнеслось по подъезду громовыми раскатами. Барса, судя по всему, утащили на кухню, кошачье визжание доносилось оттуда. Артем что-то закричал и снова задергал ручку. В глазах потемнело…
А потом раздался громкий щелчок, и дверь распахнулась. От неожиданности Артем рухнул на площадку, больно ударившись копчиком, но тут же вскочил и, не обращая внимания на боль, с ножом в руке забежал на кухню.
Он ничего не видел и ничего не слышал. Он размахивал ножом во все стороны и бил кого-то в истеричном припадке, чувствуя, как металл мягко входит в живые, теплые ткани. Кот визжал.
Когда Артем открыл глаза, то увидел, что вся кухня залита кровью. Барс лежал на полу с выпотрошенным брюхом. Рядом валялась фиолетовая тряпка.
Артем упал на колени и заплакал.
Он убрал кота в мусорный пакет. Концы пакета аккуратно перевязал ниткой и положил рядом с ведром. Фиолетовую тряпку вернул на полку в прихожей, придавив ее обувной ложкой. Потом вернулся на кухню.
Кровь была повсюду. Липкая, вязкая… Наверняка такая же сейчас тянулась в жилах Артема. Стоило только об этом подумать, как ногу вновь свело судорогой. Дернуло где-то под икроножной мышцей. Артем взглянул на часы. До открытия аптек оставалось три часа.
Больше медлить было нельзя. Ноги начинали неметь, и Артем ощущал, как в венах у него что-то шевелится. Это был тромб. Он ползал под кожей, словно египетский жук-скарабей.
Артем зачесал ногу. Чертово насекомое убежало куда-то под коленную чашечку и теперь шевелило там усиками, вызывая омерзительную щекотку. Артем стал ковырять ногу кончиком ножа. Выступила кровь.
Нет, так не годится. Нужно обеззаразить. Еле ковыляя, он доплелся до ванной и взял там бутылек с хлоргексидином. Затем вернулся на кухню, уселся посреди лужи кошачьей крови и начал медленно разрезать кожу под коленом.
Где-то за дверью хихикала старуха. Соседи сверху двигали мебель. Топали детские ножки.
Артем надавил сильнее и почувствовал, как сталь проникает под кожу. Он поморщился, вылил на рану антисептик и, ни секунды не медля, продолжил операцию. Жук-тромб, словно почувствовав, что на него объявлена охота, зашевелился сильнее. Стоило Артему на секунду убрать нож, как мерзкое насекомое тут же перебежало по сосудам в стопу. Оттуда его вытащить было даже легче. Артем видел жука. Вот он, сидит напротив безымянного пальца, где едва заметно выступает вена. Артем знал: этот маленький синенький бугорок и есть тромб.
Глубокий вдох.
Артем замахнулся и со всей силы ударил ножом, пригвоздив ступню к линолеуму.
Боль ослепила. Артем завизжал. Он дернулся, и от этого металл только еще сильнее впился в ногу, раздирая ткани, соединявшие хрупкие надтреснувшие косточки. Артем схватился за рукоять и попытался выдернуть нож. Ему удалось это сделать лишь с третьей попытки. В глазах плавали белые мушки, хихиканье за дверью становилось все громче. Грохот передвигаемой мебели превратился в землетрясение, от которого задрожало все здание.
Раз. Два. Три… Мраморный шар покатился по лестнице.
Раз. Два. Три.
В гостиной заговорили знакомые голоса.
– Поздно, щенок. Теперь ты сдохнешь, сколько ни ковыряйся. Сейчас-сейчас, подожди… Жучок заползет, сердечко закупорится. Будешь знать, как немытыми руками себя трогать.
Артем старался не слушать этот туберкулезный голос. Он полностью сосредоточился на ноге и пытался понять, куда делся жук. Сквозь ослепляющую боль щекотка была почти неразличима, но вот в мизинце что-то шевельнулось…
Артем ударил. Не кончиком ножа, как в прошлый раз, а лезвием целиком. Фаланги пальцев отвалились, словно куски морковки. Алые ручейки потекли по изгибам линолеума, смешиваясь с уже почерневшей кошачьей кровью.
Жук все-таки убежал. Забился обратно под колено и снова стал трогать нервные окончания своими усиками. Паршивое насекомое дергало за ниточки в ноге, и эта щекотка разливалась по всему телу неприятной волной. Артему казалось, что жук откладывает в нем яйца, чтобы из них вылупились личинки, которые со временем превратятся в таких же тромбов-скарабеев.
Этого Артем допустить не мог, поэтому прикусил губу и воткнул нож себе под колено.
Ему снилось детство. Новенький футбольный мячик. Ириски и лимонад. Журнал с откровенными картинками. Артему нравилось детство, несмотря на то что конфеты и газировку постоянно отбирали. Несмотря на то что мячик лопнул. Несмотря на то что дома ждал пьяный и ругающийся матом отец.
Несмотря на вечный страх и боль…
Опять себя трогал, щенок? Рукоблуд паршивый, я тебе яйца отрежу, предупреждал же? А ну пошли вон все, истерички сраные, хватит визжать, я с ним как с мужиком говорить буду. Видишь нож, паршивец? Еще раз себя тронешь, я этим ножом с тебя кожу сдеру, усек? Ты живешь в моей квартире, здесь мои правила. Извращенца я растить не буду, ясно? Не вздумай больше за нами с матерью подглядывать. Если услышал, что диван раздвинули, значит, к спальне подходить нельзя! И хватит теребить свои причиндалы руками немытыми, ты вообще знаешь, что на этих руках куча микробов? Хочешь, чтобы какой-нибудь таракан тебе в яйца заполз?
Артем хнычет и прячется за подушкой. От отца воняет луком и дешевыми папиросами.
А бабку эту маразматичную с ее тряпкой слушать не смей. Артемка-Артемка, миленький, не испачкайся, тьфу, паршивость какая. Нельзя себя трогать, ясно? С тряпкой, без тряпки – все равно. Усек? Усек, спрашиваю?! Молодец… Вижу, что усек. А это тебе, чтобы лучше запомнил…
Раз.
Два.
Три.
Твердые, хлесткие, размеренные. Словно маятник с каменным шаром бьет в висок. От ударов звенит в голове. Отец улыбается и уходит.
Артем прячется за подушкой.
Он плачет.
Придя в сознание, Артем подумал, что находится где-то на космической станции. Сквозь темноту пробивался яркий свет, а тело было таким легким, словно в нем не осталось крови. Вскоре зрение вернулось. Артем различил подвешенную под потолком лампочку.
Артем пошевелился. Его чуть не вырвало, потому что голова кружилась так, словно его забыли на вращающейся карусели. Сквозь летающие перед глазами искры он увидел огромную темно-красную лужу.
– Конец близок, паршивец! – прозвучал хриплый голос из спальни. – Слышишь, сучонок? Говорил же, что жук заползет, если будешь себя постоянно руками трогать. Говорил же? Ну вот теперь давай подергай, чтоб сладко стало.
Артем почувствовал щекотку в паху.
Под мошонкой шевелился жук.
Раз. Два. Три.
Мраморный шар ломится в двери.
Раз. Два. Три.
Кровь вытекает из Артема, словно из дырявой грелки.
Раз. Два. Три.
Жук щекочет где-то под сердцем.
Артем дополз до гостиной, оставляя за собой размазанный след. Прежде чем вскарабкаться на диван, он раздвинул подушки в стороны – так, чтобы они не касались друг друга. Артем сел ровно посередине.
В экране выключенного телевизора отражались они. Такими он запомнил их в детстве. Мама в белом ситцевом халате. Непослушные рыжие волосы вились во все стороны. Отец в растянутой тельняшке и трениках. На руках потускневшие наколки, между пальцами папироса.
Они сидели на диване – справа и слева от Артема. У них не было лиц. Артем просто не помнил их.
В коридоре стояла старуха. Она кривила лицо и хихикала – то ли злобно, то ли заботливо.
Кровь лилась на диван, пачкала его. Голова кружилась быстрее и быстрее, сознание сворачивалось по спирали, проваливаясь в темноту. Последнее, что увидел Артем в отражении телевизора, – это старушечьи ладони. Заветренные, иссохшие, с выступающими из-под дряблой кожи сосудами. Старуха протягивала ему что-то. Что-то из детства. Что-то знакомое… Артем не успел разглядеть. Но он знал.
Старуха протягивала ему фиолетовую тряпку.
Михаил Закавряшин
Немного любви
В юго-западной куче что-то шевелилось. Бабка Зоя привстала с лежанки, откинув ватное одеяло, которое достала из помойки на прошлой неделе, – хорошее, крепкое одеяло, всего лишь несколько подпалин от сигарет, пара пятен мочи да застарелые буроватые разводы, еще лет десять послужит! – и, подслеповато щурясь, вгляделась в полумрак.
В тусклом свете уличного фонаря – штор в квартире не было, бабка Зоя давно прикопала их в северном завале, у ванны, – шевеление было отчетливо видно: словно какая-то мягкая, крупная рябь прокатывалась с вершины кучи до самого основания. Куча была плотно зажата между подоконником и платяным шкафом и в основном состояла из тряпок, кип журналов, старых цветочных горшков и цементирующего их мелкого барахла, так что рассыпать ее кошка вряд ли бы смогла. Но бабка Зоя любила порядок.
– Матильда? – угрожающе спросила бабка.
Рябь замерла.
– Матильда, тварь такая, – ласково сказала бабка. – Прекращай, а то утоплю, паскуда шерстяная.
Под боком у нее завозились, и сонная кошка, высунув плешивую голову из вороха драной ветоши, служившей бабке подушкой, недоуменно мяукнула.
Бабка Зоя озадаченно хмыкнула, почесала артритным пальцем костлявый бок и легла обратно.
Уже через минуту она захрапела – заливисто, с руладами и трелями.
По куче снова пробежала рябь.
Всех своих кошек бабка Зоя звала Матильдами – и котов тоже. Ей не хотелось придумывать новые имена и напрягать память, чтобы разобраться, где кто. Когда кошачье поголовье в квартире стало быстро разрастаться и портить заботливо спасенные с помойки вещи – да, периодически в дверь барабанили сумасшедшие соседи, которым мерещились вонь и шум, но бабка Зоя не обращала внимания на агрессивных идиотов, полвека работы нянечкой в детском саду приучили ее к спокойствию, – пришлось принять некоторые меры. Матильды с яйцами были опоены молоком с водкой, разложены на кухонном столе и старательно и вдумчиво лишены обрывком крепкой лески – к слову, тоже принесенным с помойки – лишних деталей. Вечером эти лишние детали были сварены и скормлены им же хозяйственной бабкой Зоей.
Однако весной что-то пошло наперекосяк. Сначала сгнила и вывалилась наружу старая деревянная рама на лоджии (возможно, ее выдавили принесенные в тот день и аккуратно складированные на балконе три старые осыпавшиеся новогодние елки), потом сразу четыре обезъяйцевшие Матильды – Восьмая, Тринадцатая, Пятнадцатая и Двадцать Первая – сиганули вниз и понеслись вдаль по улице, задрав облезлые хвосты. Бабка лениво посмотрела им вслед и смачно плюнула, пожелав попасть на шапку и в беляши. Затем она недосчиталась еще двух кошек – судя по запаху, они сдохли где-то в большой комнате, под восточной кучей, состоявшей из старых табуреток, тумбочек, обломков паркета, осколков плитки и проеденных мышами диванных подушек. Этот запах немного нервировал бабку Зою, но она быстро избавилась от него, в течение недели помаленьку запаливая в комнате старую покрышку, перенесенную из коридора. Сумасшедшие соседи волновались, стучали в двери, прикидывались пожарными – к слову, совершенно ненатурально, – но бабка Зоя только терпеливо усмехалась: чокнутые, что с них взять?
Еще с десяток – бабка не утруждала себя подсчетом хвостов и голов – Матильд как-то рассосались, то ли последовав за беглецами, то ли бесшумно и беззапахно отойдя в мир иной. По поводу последнего у бабки Зои были большие сомнения – она слишком хорошо знала пакостную кошачью натуру. В любом случае она не особо горевала: помойка была под рукой, и в случае тотального обезматильдивания всегда можно было наловить себе новых.
Но пока у бабки Зои оставалась лишь одна кошка. Худая, облезлая, она вяло дремала на подоконнике – а бабка терпеливо ждала, когда Матильда сдохнет. Ждала не от злобы, нет – просто из спортивного интереса. Кажется, кошка ждала того же от бабки. И по той же причине.
– Матильда! – громко позвала бабка Зоя утром, шмякнув в кошачью миску куриный хребет. Целую упаковку их она нашла неделю назад на помойке у супермаркета вместе с несколькими буханками хлеба и вздутым пакетом кефира. Мясо приобрело зеленоватый оттенок, а шкурка осклизла и тянулась, как желе – но кошке и такое сойдет. Вискасы и прочие штуки бабка считала бешенством с жиру и заговором иностранных политиков. – Матильда, тварь такая, ты где?
В юго-западной куче зашуршало.
– Матильда, – повторила бабка, с подозрением поглядывая в сторону шума.
Шуршание усилилось, на поверхности кучи что-то вздулось, будто кто-то пытался оттуда выбраться, путаясь в тряпках и газетах, один из цветочных горшков не удержался на краю и скатился вниз, по пути с треском рассыпавшись.
– Матильда! – зло заорала бабка, топнув ногой.
Старая гнилая бечевка, удерживающая газеты в связке, лопнула, и пожелтевшие листы с шумом разъехались. Из самого эпицентра бардака показалась голова кошки. Животное с усилием пыталось выкарабкаться, но его словно засасывала куча мусора – лапы срывались, голова подергивалась, рот открывался и закрывался, будто в беззвучном крике. Казалось, что кошка давно борется и уже выбилась из сил – настолько ее движения были хаотичны, раскоординированы и в принципе выглядели не по-кошачьи: бабке несколько раз показалось, что Матильда не просто выбрасывает лапу вперед, но и растопыривает ее в попытке совершенно по-человечески схватить и подтянуться.
Наконец Матильде удалось выбраться – разворошив в итоге добрую десятую часть кучи, оставив клочки шерсти на куске сломанной вешалки и чуть было не насадившись на велосипедную спицу; и она начала спуск.
Кошка шла неловко, чуть пошатываясь. Лапы ступали нетвердо, то и дело соскальзывая и подворачиваясь в самых неожиданных местах, словно это было не живое существо, а дурно сделанная мягкая игрушка. Хвост – вымазанный в чем-то темном, так что шерсть слиплась и торчала иглами, – висел мокрой веревкой, глаза при каждом неверном шаге тряслись в орбитах, как стеклянные шарики, челюсть периодически отпадала, обнажая иссиня-черное небо.
– Заболела, что ль? – недовольно спросила бабка.
Матильда наклонила голову набок. Раздутый от перенесенной еще котенком водянки череп перевесил, и когда-то тощее, а теперь какое-то отекшее тельце – странно наполненное, так что казалось, шкура вот-вот лопнет и расползется по швам – стало заваливаться. Лапы неуклюже разъехались, кошка кубарем покатилась вниз и гулко шлепнулась на пол.
В дверь забарабанили. Бабка Зоя давно уже перерезала провод звонка, но избавиться от докучливого стука никак не могла. Можно было, конечно, прикинуться, что ее нет дома, и не отвечать – но с соседей сталось бы вызвать полицию, а это означало долгие и нудные переговоры через дверь, заключающиеся в перебрасывании фразами: «Откройте». – «Не открою». Полдня уйдет псу под хвост, и с помойки все самое ценное разберут. Лучше уж решить все сейчас.
Бросив взгляд на валяющуюся на полу кошку – ее пузо странно вздымалось и опускалось, – бабка Зоя, прихватив лыжную палку, посеменила к двери.
– У вас снова воняет! – прокричали с площадки, явно услышав бабкины передвижения.
– Ась? – прикинулась она глухой.
– Тварь глу… – начал голос, но его тут же перебил другой; эхо гуляло по подъезду, и невозможно было понять, кто говорит, мужчина или женщина:
– Зоя Арнольдовна, от вас очень сильно и очень плохо пахнет. Мы испугались…
– Обрадовались… – прошипел первый. Второй укоризненно кашлянул и продолжил:
– …что с вами что-то случилось…
Бабка покачала головой. Судя по всему, это были Шевнины, снизу. Им все время чудилось что-то нелепое: то бабкины кошки слишком громко мяукали, топали и обоссывали им весь потолок (в доказательство приносились куски желтой и вонючей штукатурки, явно с какой-то дальней, еще не известной бабке Зое помойки), то из ее квартиры им несло гнилью, кошками, тухлым мясом, мочой и дерьмом, то находились еще какие-то причины, чтобы вот так вот прийти и колотить в дверь.
Она пожала плечами и пошлепала обратно в комнату.
– Мы санэпидстанцию вызовем! – проорали из-за двери. Чей это было голос, она уже не разобрала.
Кошка валялась на полу, широко раззявив пасть. Бабка Зоя потыкала ее палкой. Матильды у нее дохли достаточно часто, поэтому старуха была привычна к мертвым тушкам. Некоторое неудобство у нее поначалу вызывала последующая возня – но к пятой Матильде она уже приноровилась, и дело спорилось достаточно быстро. Однако с этой кошкой явно было что-то не то. Пять минут назад натянутый как барабан живот опал – и можно было бы сказать, что обтянул ребра… если бы эти самые ребра были. Кошка лежала тряпкой, будто что-то высосало ее, выжало досуха, оставив лишь пустую оболочку.
Это было странно – но, с другой стороны, значительно облегчало бабкину работу.
Бабка Зоя вздохнула, метким ударом пробила острием лыжной палки кошке таз и, громко шаркая, поплелась на кухню. Тушка тащилась за ней, гулко стукаясь пустым черепом об углы и плинтуса.
Через полтора часа Матильда была как живая – в меру облезлая, тощая и с тупой, ничего не выражающей мордой. Незадача вышла лишь с левым глазом – рука у бабки Зои дрогнула, проткнула его иглой, и он вытек на стол, аккурат на разделочную доску. Пришлось вставить в глазницу раскрашенную фломастером яичную скорлупу.
– Ну вот, – пробормотала бабка Зоя, пристраивая Матильду Тридцать Пятую на полочку в зале, рядом с ее предшественницами. Когда-то, лет тридцать назад, тут стояли фарфоровые слоники – теперь же полку, шкаф и даже пол заняли чучела кошек. Драные, поеденные молью, с выпученными остекленевшими глазами (у первых, еще неудачных, Матильд они были заменены пуговицами), доверху набитые тряпками и газетами, в которых от сырости заводились мокрицы и нет-нет да и вылезали на свет божий из чучельных ртов и ушей – они громоздились плотной толпой. Бабка Зоя называла их «партийным собранием». Иногда ей казалось, что чучела молча и недобро следят за ней из темноты. Тогда она швыряла им подачку в виде тухлой рыбины или позеленевшей колбасы. Чучела молчали.
– Сяйик, Сяйик, – залопотали за спиной, и поджарый вислоухий пес оглянулся. Он полгода обитал в этих дворах и уже усвоил, что вариация слова «Шарик» – особенно произнесенная такими тонкими голосками с особенной, свойственной только им интонацией – означает чесание живота, трепание за ухом, а то и вкусную еду. Пес растянул губы, слегка обнажив нижние зубы, – опытным путем он выяснил, что это почему-то вызывает у людей умиление и дополнительное желание покормить и почесать его.
Мальчик стоял перед ним и протягивал печенье. Пес осторожно, стараясь не прихватить руку, взял лакомство. Он знал этого мальчишку, который чаще других приносил ему что-нибудь вкусное, бесстрашно трепал за ухо и бормотал о доме и диване. Вот и сейчас тот что-то говорил – на этот раз радостно, захлебываясь словами. Пес вслушался.
– Сяйик, мама йазйешила! Она сказала, что вечейом посмотйит на тебя, и если ты не совсем отвйатительный, то она согласна взять тебя домой!
Мальчик подпрыгнул и захлопал в ладоши. Пес тупо посмотрел на него. Он понимал, что происходит что-то хорошее – и это хорошее, кажется, связано с ним, – но в чем именно конкретно было дело, уловить никак не мог. Слишком много незнакомых слов, слишком уж восторженные интонации. На всякий случай он снова растянул губы и завилял хвостом.
– Ты совсем не отвйатительный! – от переизбытка чувств мальчишка шлепнулся на колени, обнял его и громко чмокнул прямо в лоб. Пес изо всех сил удержался, чтобы не отпрянуть, и, снова повинуясь скорее интуиции и расчету, чем порыву души, облизал ребенку лицо.
Тот весело рассмеялся, вскочил на ноги и побежал в подъезд. На пороге он обернулся и выкрикнул:
– Вечейом, Сяйик!
Пес вильнул хвостом и широко, смачно зевнул, клацнув зубами.
Остаток дня прошел без происшествий. Бабка Зоя по привычному маршруту прошерстила помойки, собрав в китайскую клетчатую сумку несколько коробок из-под тортов, вымазанные в краске джинсы и банку из-под этой же краски, а также целую охапку полиэтиленовых пакетов. К сожалению, здесь бесхозных кошек не водилось, придется идти в соседний квартал – тамошняя кошколюбка тетка Вася уже год как померла, так что как раз могли народиться новые. Но это бабка Зоя решила оставить уже на утро – для ловли кошек нужно было освободить две сумки, а также на всякий случай поискать несколько крепких веревок: не все блохастые осознавали, что бабка Зоя пришла принести им счастье.
Веревка находилась где-то в зале, в куче на антресолях. Шторы там были всегда закрыты – в них обосновалась колония тараканов, и после того как при очередной попытке открыть шторы на голову бабке Зое обрушилась рыжая шуршащая масса, к окну она больше не подходила. Из-за этого, а еще и из-за того, что стекла не мылись уже несколько лет – с тех пор, как дорогу к ним преградил небольшой завал из сломанных игрушек, – в комнате царил полумрак.
Бабка Зоя с трудом нащупала выключатель – его кнопка давно уже была утоплена в рассыпавшийся бетон и засаленные лохмотья сгнивших обоев. Пыльная, засиженная мухами лампочка на голом проводе под потолком зашипела, мигнула и, потрескивая, зажглась.
От увиденного у бабки отвисла челюсть.
В самом центре «партийного собрания» копошилось странное существо. Розовое, с мелкими белыми прожилками, как у куска свежего мяса, оно пульсировало, то сжимаясь в ком, то вытягиваясь в струнку, то превращаясь в подобие осьминога с множеством щупалец. Размер его было трудно понять – казалось, что меняя форму, оно одновременно уплотнялось или разряжалось, в какой-то момент даже начиная плескаться наподобие отвратительного желе. В комнате висел едва уловимый запах чего-то пряного и влажного.
Существо растолкало все чучела, повалив их и заляпав собою. Стеклянные глаза и пуговицы чучел таращились в потолок, иссохшие лапы сломались, шерсть висела в воздухе. Только одно осталось стоять – Матильды Тридцать Пятой. Именно около него и возилось существо, облепив морду кошки. Судороги, то и дело сотрясавшие его тело, казались судорогами усилия, словно оно пыталось преодолеть что-то, мешающее ему. Чучело ходило ходуном, и когда существо на миг отстранялось от него, было видно разорванную пасть, вдавленный внутрь глаз и зияющую пустую глазницу на том месте, где была яичная скорлупа.
В старческом, но не потерявшем возможность ясно мыслить бабкином мозгу сложились все события, начиная с прошлой ночи: шуршание в юго-западной куче, странные вид и движения кошки наутро, пустая – без единой косточки или мышцы – шкурка, которую она набивала ветошью… Это существо сегодня уже побывало в ее кошке, выело изнутри, прикинулось той – но потом по какой-то причине покинуло ее и теперь пыталось вернуться обратно в Матильду Тридцать Пятую, но не находило себе места среди тряпок и бумаги.
Бабке Зое почему-то стало жаль бездомную тварь.
– Кыс-кыс, – проворковала она.
Существо вздрогнуло, по его телу пробежала дрожь. Оно вытянулось, напоминая гигантского дождевого червя, потом снова сжалось, приняв веретенообразную форму.
– Кыс-кыс, – повторила бабка. Эта тварь ей почему-то понравилась. В отличие от кошек она могла быть весьма компактной, что в условиях бабкиного образа жизни оказывалось несомненным плюсом.
Существо оторвалось от кошачьей морды и повернулось в сторону бабки. У него не было ни глаз, ни рта, и с таким же успехом этот круглый отросток мог быть как головой, так и задницей. Покачавшись немного, оно вдруг подобралось, напрягшись, как пружина, а затем, резко распрямившись, быстро заскользило к бабке.
– Погодь! – та подняла лыжную палку.
Существо замерло. Слизистая пленка на его теле то и дело подергивалась – казалось, что если бы у него была шерсть, она бы сейчас стояла дыбом.
– Погодь, – повторила бабка. – Сейчас мы решим твою проблему.
– Шарик, Шарик! – услышал он хриплый зов. Пес напрягся: взрослые голоса он недолюбливал, их чаще, чем детские, сопровождала ругань и пинки, но, кажется, сейчас в интонациях не было никакой опасности. Из окна первого этажа – он знал его, оттуда густо несло кошками, тухлятиной и гнилью – выглядывала бабка. Шарик иногда видел ее – шаркая и опираясь на старую лыжную палку, она ковырялась в помойке и тащила оттуда какие-то коробки, диванные подушки, сломанные велосипеды, битую посуду, стопки газет… Но на объедки бабка покушалась нечасто, так что пес не рассматривал ее как конкурентку.
– Шарик, Шарик! – умильно повторила бабка. Пес повел носом в ее сторону – к запаху кошек, тухлятины и гнили примешивалось еще что-то, пряно-мясное. В пасть набежала и закапала на землю голодная слюна, в животе утробно заурчало. Пес поколебался еще немного, потом прикинул в уме тонкие кости бабки, которые в случае опасности можно будет перекусить в пару ударов челюстью, – и потрусил на зов.
– Ша-а-арик, – пропела бабка, оглядываясь куда-то в глубь комнаты.
Пес встал на задние лапы и потянулся к подоконнику. Пряно-мясное было здесь, совсем рядом, буквально под носом, оно манило и дразнило. Голова кружилась от дурманящей смеси запахов – в общую картину теперь вплетались мокрое дерево, старая бумага, болотная глина, засахаренные мухи – пес скорее угадывал, чем понимал.
И тут что-то бросилось к нему.
Забило глотку, разорвало пищевод, лопнуло и растеклось обжигающим в кишках. Мышцы превратились в раскаленные спицы, нервы стянулись шевелящимся комком, лапы онемели, а из ануса вырвалось что-то бурлящее. Пес попытался взвыть в смертной тоске – но голоса уже не было, как через мгновение не стало и обезумевшего в агонии сознания.
Бабка Зоя бесстрастно смотрела, как розовая, с белесыми прожилками масса втянулась в пасть ошалевшего от неожиданности и боли пса. Как захлебнулся визг, как по горлу прокатился упругий ком. Как вспучился живот и заходил ходуном, будто что-то ворочалось в нем. Как ватно подогнулись – и через секунду напряглись и наполнились лапы. И как содрогнулось в разрывающей шкуру судороге тело – а потом опорожнилось липким, пенистым, багрово-красным.
Бывшим хозяином этой шкуры.
Бабка Зоя прикрыла окно, оставив лишь небольшую щелку – и, зевая, пошаркала на кухню.
– Сяйик, Сяйик, – семилетний Лешка прыгал от восторга и хлопал в ладоши. Мама устало улыбалась, с недоверием оглядывая пса. Тот равнодушно смотрел сквозь нее остановившимся взглядом. Лешке стоило больших трудов отыскать его – пес лежал под кустом около помойки и не откликался на зов. В какой-то момент мама даже понадеялась, что он сдох. Однако по то вздымающемуся, то опускающемуся пузу было видно, что ее надеждам не суждено оправдаться.
– Сяйик, мама йазйешила! – подскочил Лешка к псу и начал трепать того за ухом. Движение в пузе прекратилось. – Пйавда, мама!
Мама задумчиво кивнула. В собаках она совершенно не разбиралась, но сын до чертиков надоел ей своим нытьем по поводу этого пса. Тот самый случай, когда проще согласиться, чем объяснить, почему нет.
– А почему он так валяется? – спросила она. – Не болен, случайно?
– Нет! – Лешка заволновался – шансы взять собаку домой таяли на глазах. – Мама, он пйосто устал! Смотри! Сяйик, вставай, мы пойдем домой.
Пес неловко перевернулся на живот.
– Ну встава-а-ай! – взмолился Лешка и дернул его за шерсть.
В псе что-то забурлило, лапы судорожно дернулись – и он начал неуклюже подниматься. Его шатало из стороны в сторону, а изо рта вывалился ком слюны и потянулись липкие нити.
– Ээээ… – мама поморщилась. – Он не бешеный?
– Ты что! – с негодованием воскликнул Лешка. – Он пйосто голодный! А еще сегодня жарко!
– Ну смотри, – вздохнула мама и направилась в подъезд. Вот-вот к ним должны были прийти гости – Слава с Ритой и их десятилетний сын Вовка, – и тратить время на причуды сына она не желала. Хочет пса – пускай получает. Она была готова поспорить, что уже через неделю Лешке надоест его выгуливать и воспитывать, и Шарик отправится туда, откуда пришел. А сын наконец прекратит ее доставать.
Мама оказалась права. С Шариком действительно было что-то не то. Он ничего не ел – даже заботливо поднесенное в кулачке печенье, – а когда ему под нос подсунули миску с водой, погрузил в нее всю морду и так и стоял минут пять, тупо глядя перед собой остекленевшими глазами. Лешка понимал, что достаточно маме заподозрить у собаки болезнь или неаду… неадыва… не-а-ды-ква-ква-тное поведение, как пес в ту же секунду будет выкинут из квартиры и мечта о собаке так и останется несбыточной.
– Ну Ся-я-яйик, – умоляюще прошептал он собаке на ухо. Оттуда почему-то несло тухлым мясом. – Ну пожалуйста, съешь хоть что-то…
Пес вытащил морду из воды и уставился на Лешку. Один глаз косил куда-то влево, зрачки были сужены до размера сахарной крупинки, кожа на сухом носе разошлась крупными трещинами.
– Эх, Сяйик, – пробормотал Лешка, озираясь. Родители с гостями болтали на кухне, гремя посудой и то и дело разражаясь взрывами смеха. В его комнате Вовка хлопал дверцами шкафов – наутро Лешка снова недосчитается нескольких и, как назло, самых любимых машинок. – Подожди, сейчас мы все сделаем…
Под стойкой для обуви валялся полиэтиленовый пакет – мама часто давала их папе в магазин, чтобы тот не покупал на кассе, а папа тайком раздраженно выбрасывал их, бормоча что-то вроде «мы не нищеброды». Лешка аккуратно, стараясь не запачкаться, сгреб в него из миски собачий корм – и глубоко затолкал под шкаф. До завтра не завоняет, а утром он потихоньку перепрячет в своей комнате и выкинет в подходящий момент с балкона.
Пес следил за ним, неуклюже поворачиваясь всем телом. Косящий глаз теперь практически провернулся в глазнице, выставив на обозрение мутный белок; из пасти свесился разбухший язык. Розоватый, с белыми прожилками.
Лешка натянул одеяло до самых глаз, вглядываясь в тени на потолке. Он боялся спать в темноте, но Вовка час назад высмеял его, обозвал трусишкой-ссыкухой и вытащил ночник из розетки. Кривые тени наводнили комнату, они ползали по шторам, скользили по обоям, стекали на пол и сливались с рисунком линолеума.
Вовку, как обычно, положили на Лешкину кровать, а ему расстелили рядом, на полу, матрас. Лешка не возражал – смысла не было, против него выступала слаженная команда из избалованного Вовки и обеих властных мам, с молчаливой поддержкой отсиживающихся в тылу пап.
И вот сейчас Лешка с ужасом следил за движениями теней. Те, что оккупировали шторы и обои, его не очень пугали – слишком далеко, да и людям опасны только тогда, когда к ним подходишь близко. Гораздо больше настораживали его тени на полу – тем более что он сейчас спал там – и приоткрытая дверца шкафа. Видимо, Вовка копался в Лешкиной одежде и не подумал вернуть все как было. Лешка всегда плотно запирал эту дверь – на ключ с тремя оборотами, еще и подергав для верности. Ему казалось, что не может такое большое и темное пространство быть без своего обитателя – и не стоит с этим обитателем знакомиться. Ключа в замке не было видно – наверное, Вовка забросил его куда-то под шкаф, и завтра придется полдня ползать на коленях, чтобы отыскать…
Лешка вздохнул.
Что-то зашуршало в углу около двери.
– Сяйик? – тихонько спросил Лешка. Мама оставила пса спать в коридоре, привязав к дверной ручке, – сказала, что пустит разгуливать по квартире только после завтрашнего похода к ветеринару. Но вдруг тому удалось перегрызть веревку? – Сяйик, это ты?
Шуршание повторилось, но никто не отозвался, не заскулил, не залаял, даже не вздохнул – так, как вздыхает что-то живое.
Лешка осторожно подоткнул одеяло, чтобы не было ни единой щелки, и внимательно вгляделся в темноту в углу. Ах, если бы был включен ночник! Он рассеивал тьму, загоняя ее в самый дальний конец комнаты, что не был виден с кровати. Сейчас же она клоками висела повсюду – под шкафом и креслом, над шторами и книжными полками. В этом углу ее было не больше, чем везде – вот только казалась она какой-то другой. Лешке чудилось, что чернота там не от отсутствия света, а оттого, что кто-то прячется…
«Хватит! – одернул он себя. – Ну что как маленький! Нет там никого. Это только пятилетки боятся бук и домовых».
Храбрясь, он демонстративно откинул одеяло и глянул в тот угол. Все верно, никаких горящих глаз, никаких злобных взглядов. Просто темно, и все. Света нет, что тут странного и страшного?
И тут темнота зашевелилась. Она уплотнилась, пошла волнами и стала выползать из угла, тянуться к Лешке, чуть чавкая и хлюпая. Лунный свет отразился на влажной слизи, по отражению пробежала рябь – существо двигалось медленно и осторожно, то сжимаясь, то вытягиваясь, как гигантский куцый дождевой червяк. От резкого странного запаха засвербило в носу.
– Мама! – истошно завопил Лешка. – Мама!
– Ааааа! – заорал спросонок Вовка.
По коридору послышалась дробь торопливых шагов, дверь стукнула, и вспыхнул свет.
– Что случилось? – недовольно спросила мама.
Вовка свесил с кровати взлохмаченную голову.
– Че? – в тон Лешкиной маме спросил он.
– Там, оно было там! – Лешка тянул дрожащую руку, указывая в угол.
Мама глянула туда. Когда она повернулась обратно, глаза ее были уставшими и злыми.
– Алексей, – строго сказала она. – Мне казалось, что сваливать свои маленькие пакости на выдуманных друзей ты прекратил еще три года назад.
– Но, – начал тот и осекся. В углу ничего не было – только чуть поблескивало влажное пятно на линолеуме.
– Ну хоть не в кровать, – покачала головой мама. – Но в следующий раз изволь все-таки пойти в туалет. Что о нас дядя Слава и тетя Рита подумают?
– Но…
– Все, спать! Ты Вове мешаешь! – мама резко развернулась, хлопнув задниками тапок, и вышла из комнаты.
Лешка чуть не разрыдался от несправедливой обиды.
– Придурок! – зло прошипел Вовка. – Еще раз заорешь – подушкой придушу. И не вздумай ссаться!
Лешка съежился. Свесившись с кровати, Вовка наградил его увесистой затрещиной.
– А я не хотел сюда идти! Родаки заставили: «Вы же друзья с Лешенькой, вы же друзья…» – скривившись, передразнил он. – Вот осенью в школе увидишь, какие мы друзья!
Вовка засопел уже минуты через три. Лешка тихонько встал и, осторожно ступая босыми ногами – разбросанный «Лего» гость убрал небрежно, оставив с десяток деталек на полу, – прокрался к окну. Там было светлее и как-то спокойнее. Он бы с удовольствием провел остаток ночи на подоконнике, но тот был заставлен мамиными цветами, и притулиться никак не получалось. Лешка переминался с ноги на ногу – пол у окна даже летом был холодным, а тапочки валялись где-то под кроватью. Босые пятки шлепали по липкому линолеуму.
Вовка спал, широко раскрыв рот и выводя какую-то странную свистящую руладу. Лет через двадцать она грозилась превратиться в полноценный мужской храп. Лешка вздохнул, приподнялся на цыпочки и выглянул в окно. Луна освещала детскую площадку, песочницу, фигуру из автомобильных покрышек и помойку под окнами. В одном из баков кто-то копался. «Бабка Зоя», – догадался Лешка. Странная нелюдимая старуха жила на первом этаже в соседнем подъезде, выглядела неопрятно, воняла чем-то прогорклым и презрительно кривилась и недовольно бормотала, когда рядом с ней пробегали дети. Лешка всегда побаивался ее: маленьким он думал, что это Баба-яга переехала из леса, получив квартиру в городе, а став старше, избегал, копируя взрослых. Что-то подсказывало ему, что от бабки Зои стоит ждать беды.
Казалось, что старуха услышала его мысли. Она вздрогнула и стала пристально вглядываться в окна, тряся лохматой головой. На минуту Лешке показалось, что у нее нет глаз – лишь глубокие бездонные дыры, подсвечивающиеся белым. Он отшатнулся. И в такт ему так же – только уже вперед, загребая воздух руками с растопыренными скрюченными пальцами, дернулась бабка.
Лешка отвернулся от окна, тяжело дыша. Он не видит старуху – она не видит его. Старое детское поверье, оно же не может обмануть?
Лешка уставился на Вовку. Тот безмятежно посапывал, не подозревая ни о каких бабках и прятках с ними. Рот его все еще был раскрыт, и из уголка губ на подушку стекала длинная ниточка слюны, поблескивающая в лунном свете. Лешка вздохнул: все в порядке, все хорошо и мирно, бояться нечего.
Он сделал шаг к матрасу – и вдруг замер.
В темном углу снова что-то шевельнулось – на сей раз безмолвно.
Лешка затаил дыхание, так и оставшись стоять на цыпочках, не в силах ни двинуться вперед, ни отойти назад.
Тьма в углу снова стала ворочаться, уплотняться – тихо-тихо, без единого шороха или всхлипа. Медленно и плавно высунулся тонкий отросток, напоминающий щупальце, коснулся линолеума, пробежался вправо-влево, словно проверяя, нет ли препятствий, а потом спрятался обратно.
И из темноты выдвинулось оно.
Теперь оно двигалось уверенно, быстро – и абсолютно тихо. Как будто призрачная тень от несуществующих за окном веток – если бы тень была такой… такой плотной, такой блестящей и такой живой. Луна освещала бугрящиеся мышцы, ходившие ходуном, кольца мускулов, помогающие телу сжиматься и снова расправляться – точь-в-точь червяк. Но червяк невообразимо большой, невозможно толстый, червяк, который мог в любую минуту снова выпустить щупальца или растечься по полу тонким слоем – червяк, ползущий к матрасу, на котором только что спал Лешка.
Лешка хотел было крикнуть, но страх сжал его горло, лишь вырвался тоненький сип.
Теперь существо тыкалось в его матрас, аккурат в то место, где когда-то лежала Лешкина голова. Казалось, оно нюхает или лижет – если бы ему было чем нюхать или лизать: на гладкой… коже? шкуре? … не было ни единого выступа, ни одной дырочки, которые можно было бы принять за ноздри или рот. Оно заползло на матрас, втянулось под одеяло и забарахталось там.
Лешка сделал неуверенный шаг вперед. Босая пятка чмокнула, оторвавшись от линолеума.
Барахтанье под одеялом стихло.
Лешка повел глазами вправо-влево. До двери он добежать не успеет, да и матрас лежит совсем рядом, существо преградит ему путь. Выпрыгнуть из окна – даже ценой сбитых маминых горшков – тоже не получится: пятый этаж. Спрятаться? Но где? Он бросил взгляд на платяной шкаф. Шкаф… Шкаф… Нет… Нет!
Одеяло дрогнуло, и из-под него высунулся блестящий отросток.
Лешка рванулся к шкафу, распахнул дверь, быстрым гребущим движением выкинул на пол кучу одежды с полки – и юркнул внутрь, дернув за собой створку. И одновременно с хлопком двери что-то мокро шлепнуло по ней.
Лешка замер. Внутри, конечно, не было ни ручки, ни выступа, за которые можно было бы удержать дверь, – только большая замочная скважина, сейчас зияющая пустотой. Лешка сунул в нее указательный палец – он вошел с трудом, ободрав кожу и зацепив заусеницы, – согнул его и потянул на себя. Дверь прижалась плотнее.
Что-то стало ощупывать ее с той стороны – будто по дереву били мокрым полотенцем. Дверь дергалась в расшатанных петлях и жалобно поскрипывала. Лешка изо всех сил тянул ее на себя.
Что-то липкое и холодное коснулось кончика его пальца, точно лизнуло. Кожу чуть защипало. Потом коснулось еще и еще – на этот раз с силой. Кожу стало жечь. Холодное давило на его палец, проходило по нему с усилием – словно пыталось разжать, вытолкнуть обратно, соскрести. Резкой болью пронзило ноготь, по нему потекло что-то теплое.
Лешка молчал и не шевелился, лишь тянул дверь на себя.
Последний удар – такой силы, что на Лешку сверху упал шуруп из петли, – сотряс шкаф, и все стихло.
Лешка прислушался. Ему казалось, что он может разобрать какое-то шлепанье, или хлюпанье – так звучит мокрая тряпка, которой возят по полу. Звук отдалялся, пока не растворился в тишине.
Лешка чуть-чуть – буквально на волосок – приоткрыл дверь.
Вовка продолжал безмятежно посапывать. И не подозревая, что над ним, извернувшись вопросительным знаком, нависло червеобразное существо. Оно слегка покачивалось вперед-назад, то приближаясь к раскрытому Вовкиному рту, то отстраняясь обратно. Лунный свет играл на наплывах слизи.
Лешка прикусил губу – и промолчал.
Существо качнулось еще раз – и резко, бесшумно метнулось на Вовку.
Вовка сипло охнул. Его тело выгнулось дугой, босые пятки забарабанили по кровати, ссучивая одеяло вниз. Существо медленно втягивалось в его раскрытый рот, разрывая щеки – Лешка видел, как на них словно распустились темные влажные цветы. А потом что-то забурлило, как пенится и вырывается из-под закрытой крышки кипящая вода. Под Вовкой расплылось пятно – и тот обмяк.
Лешка молчал.
А потом закрыл дверь шкафа.
Лифт никак не шел – кто-то держал ногой дверь, и та беспомощно хлопала где-то на десятом этаже. Виктор Геннадьевич перебрал в уме все известные ему ругательства и даже успел придумать кое-какие новые, но громко негодовать пока не рисковал, поздний вечер как-никак, еще прилетит по шее от какого-нибудь разбуженного придурка.
– Падла, – прошипел он и стукнул кулаком по кнопке. Подниматься пешком он не хотел – болела скрюченная застарелым ревматизмом спина, хрустели артритные колени, да и просто из чувства протеста. Торопиться ему было некуда, дома никто не ждал – а вот взглянуть в бесстыжие глаза хулигана и сказать пару ласковых ну очень хотелось.
На лестнице, на площадке у мусоропровода, послышался шорох.
Виктор Геннадьевич сделал шаг в сторону и вгляделся в полумрак.
Там стоял мальчишка. Босоногий, в мятой пижаме с машинками. Штаны его были перепачканы в чем-то темно-буром.
– Эй, парень? – Виктор Геннадьевич удивленно воззрился на него. – Что-то случилось?
Мальчишка, толстый увалень лет десяти, поднял на него мутный взгляд. Лицо его, вымазанное багровой жижей – варенье из банки жрал, поросенок? – ничего не выражало.
– Ты это… – пенсионер пытался подобрать слова, да и вообще сообразить, что он имеет в виду под «это»: опекать пацана, по всей видимости нанюхавшегося клея, ему не хотелось, но сказать что-то требовалось для успокоения совести. Поэтому он бормотал это «что-то», попутно яростно давя на кнопку лифта и надеясь, что тот придет раньше, чем мальчишка, например, разревется и попросит помощи. – Иди домой, а? Поздно уже ж…
Мальчишка наклонил голову набок и неловко дернул рукой.
– Вот-вот, – согласился Виктор Геннадьевич. – Иди-иди.
Мальчишка дернул второй рукой, а потом спустил ногу на ступеньку вниз. Делал он это как-то странно – преувеличенно медленно и мягко, словно вместо костей и мяса пижамные штанишки были набиты ватой.
«Дурачок, что ли?» – мелькнуло в голове у Виктора Геннадьевича. Он не очень хорошо знал всех здешних жильцов – в спальном районе квартиры то и дело шли на съем, так что знакомиться с теми, кто все равно съедет через полгода-год, казалось излишним. Но детей в подъезде было не так уж и много: картавый и шепелявый первоклассник Лешка с пятого этажа, четырнадцатилетняя оторва Лизка, с двумя сережками в левом ухе, с девятого, да еще с полдесятка разнокалиберных карапузов от года до четырех, имена которых он и не собирался запоминать. Хотя, если дурачок… вполне может быть, что родители и прячут его подальше от чужих глаз. А тут вот случайно из квартиры выбрался… Ну где же этот лифт!
Мальчишка стоял, чуть раскачиваясь, словно ему было сложно держать равновесие. Затем – все так же медленно и мягко, как плюшевая игрушка, – он выставил вперед руки и стал приседать.
– Ну вот только насри тут! – угрожающе окликнул его Виктор Геннадьевич. Еще чего не хватало!
Через несколько неудачных – он чуть не скатился кубарем с лестницы – попыток мальчишке удалось встать на четвереньки. Кажется, так он почувствовал себя намного комфортнее. По его спине пробежала какая-то волна, голова затряслась, но на четырех конечностях он держался довольно твердо и даже спустился на несколько ступенек.
Загудел лифт, и перед Виктором Геннадьевичем распахнулись двери. Он облегченно выдохнул и заскочил в него, поспешно нажав кнопку этажа. Старые двери стали натужно, со скрипом закрываться.
– Давай-давай, – заторопил он их. Однако его опасения сбылись: в медленно сужающейся щели показался мальчишка. Он – как и был, на четвереньках – нырнул вперед, пытаясь протиснуться в лифт.
– Э, нет! – на автомате, не успев сообразить, что он делает, Виктор Геннадьевич выставил вперед ботинок. Мальчишка со всего размаху уткнулся в него лицом, не удержался и шлепнулся на зад, нелепо раскинув руки и ноги.
Двери лифта захлопнулись.
– Понарожали придурков, – прошипел сквозь зубы Виктор Геннадьевич и нажал на кнопку своего этажа. – Сдавать в приют таких надо.
Виктор Геннадьевич уже погрузился в сон, когда в квартиру осторожно постучали. Помянув недобрым словом соседей, он лениво влез в тапки, недовольно пошлепал в коридор и заглянул в глазок.
Перед дверью на четвереньках стоял давешний мальчишка. Нелепо выставив зад и подняв вверх лицо, которое в тусклом свете было нездорового белого цвета, как непропеченный блин, толстые щеки обвисли брылями, рот скривился на сторону, по вывернутой нижней губе стекали слюни.
Виктора Геннадьевича передернуло. Мелькнула было мысль открыть дверь и отогнать идиота пинками – но пенсионер опасался его родителей. Если те были готовы прятать выродка дома, а не сдали в больницу, значит, могут и голову свернуть тому, кто их кровиночку обидит. А голова Виктору Геннадьевичу была дорога.
– Пшел вон, – прошипел он и ушел в спальню.
В дверь скреблись еще часа два – может быть, и дольше, но Виктор Геннадьевич включил телевизор погромче и благополучно уснул.
Наутро, выглянув на площадку, он увидел на мягкой обивке двери несколько длинных царапин. В одной из них торчал детский ноготь – удивительно чистый и прозрачный, без капли крови на нем.
Воровато оглядываясь, Виктор Геннадьевич торопливо вытащил ноготь, смыл его в унитаз – и уже час спустя трясся в электричке на дачу.
Пять лет спустя
Олег курил на лестничной площадке, переваривая то, что ему только что за пивом рассказал новый сосед. И ведь риелтор, падла, ни словом не обмолвился, когда втюхивал ему эту квартиру! Комиссию за услуги в размере двух месяцев проживания взять – это всегда пожалуйста, а как рассказать, что в этом доме творилось, так ни-ни!
Он со злостью швырнул окурок на пол и растоптал его. Уберут, не обломятся! Ну как так-то! Ну ладно какие-нибудь убийства по пьяни – это уже привычно, судя по новостям, в каждом доме какая-то бытовуха да совершалась. Но пропажа ребенка? А потом его труп, найденный на площадке у мусоропровода?
– Вып-потрошен-ный! – назидательно подняв палец и заикаясь, сообщил сосед. – Вып-потрошен-ный и выс-сосан-ный! До-су-ха!
По поводу выпотрошенности и высосанности у Олега были большие сомнения, ведь о чем только не повествует народная молва. Тем более после пяти литров пива на двоих. Но мертвый ребенок – это не пырнуть ножом по пьяни. И не наркоманский трупак.
– Ч-черт! – Олег стал растирать окурок ногой, пока не превратил его в черное пятно на бетоне. – Ну как так-то вляпался!
Он не был суеверным, даже религиозным назвать себя не мог. Да, покупал на Пасху куличи и худо-бедно пек на Масленицу блины – но делал это автоматически, потому что так поступали многие вокруг него. Фильмы ужасов смотрел вполглаза, откровенно скучая от глупости героев и искусственности нагоняемого страха. Но жить в квартире, где убили ребенка? Ну уже нет, увольте! А даже если убили и не в квартире, а рядом с ней? Не-не.
Олег вытащил из кармана телефон и набрал номер риелтора. Посчитал долгие гудки, пока не включился автоответчик, вежливо процедил в трубку: «С-сука», – и отключился.
В квартиру возвращаться не хотелось. Он постоял на площадке еще минут пятнадцать, тупо гугля в телефоне новые варианты жилья и понимая, что ему ничего не светит, – пока наверху не хлопнула дверь и не послышались шлепающие шаги: кто-то спускался выбросить мусор. Встречаться с соседями Олег уже не жаждал и, скрипнув зубами, отправился в свой новый дом.
Помялся на пороге, дергая ручку, а потом глубоко вздохнул и сделал шаг.
Теперь он смотрел на квартиру другими глазами. Вот в этом шкафу нашли поседевшего, онемевшего мальчишку – сына хозяев. Вот тут стояла кровать, на которой пузырилась кровавая мясная каша. Вот там, в прихожей, лежала собачья шкура, освежеванная и выпотрошенная без единого разреза, словно через рот… Внезапно захотелось выпить – на этот раз крепко, до забытья. Но расслабляться было нельзя – у него была цель, ради которой он и приехал в город. Приехал, прибежал, прилетел, сломя голову, спасаясь от одиночества, которое словно гналось за ним, пожирая время и расстояние. И вот сейчас наступит момент икс, когда станет ясно: было ли, ради чего приезжать сюда, или он мчался за миражом.
Супермаркет находился в паре кварталов. Олег купил курицу, бутылку вина, пару шоколадок, сигареты, упаковку риса, десяток яиц и еще по мелочи. Ладно, дело прошлое, дело темное, – думал он, стоя в очереди к кассе. Риелтор, конечно, сука – и Олег обязательно еще выскажет ему все, что думает о такой подставе. Но с другой стороны, ничего не поделать. Деньги не вернуть – контакты хозяев у риелтора. Да даже если договор и удастся расторгнуть, на еще одну комиссию у него нет ни шиша. Придется жить здесь.
Придя домой, Олег по старой детской привычке снял с курицы ненавистную склизкую шкурку и швырнул в стоявшее под раковиной мусорное ведро, засунул курицу в духовку, поставил вариться рис и набрал номер Ленки, который узнал из профиля в соцсети.
– Алло… – томно протянула она на том конце. У Олега екнуло сердце – даже через годы он узнал ее голос.
– Енка, – Олег назвал ее детским прозвищем, придуманным им когда-то, когда он еще не выговаривал половину букв. – Енка, я вернулся.
– Олежек? – Ленка, казалось, проснулась. – Ты к нам? Надолго?
– Навсегда, наверное, – пожал он плечами – не для нее, для себя.
– Но как же… Ты же ничего не сказал, хоть бы написал!
– Ну вот, говорю…
Повисла мучительная тишина. Олег знал из того же профиля, что Ленка тоже не замужем и даже «в активном поиске» – но вдруг профиль врет?
– Олежек, а ты где поселился? – наконец раздался тихий голос.
Сердце затрепыхалось, как птичка, гулко заколотилось о ребра. Не врет!
– На улице Гагарина. Там, где рядом когда-то пустырь был, помнишь?
– Конечно…
Конечно, она помнила! Двадцать лет назад, первоклассниками, они играли на этом пустыре в казаки-разбойники, бегали на лыжах, а когда началась стройка, получали тут первые боевые шрамы, прыгая с зонтиком со второго этажа… Потом родители Олега увезли его в другой город, где он окончил школу, поступил в институт, потерял девственность, начал курить и пить, стал работать дизайнером… И вот теперь, спустя годы, вернулся туда, где был так юн, так беззаботен и полон мечтаний и надежд…
– Приезжай, – попросил он.
И услышал:
– Хорошо…
Ленка-Енка приехала через час. Смущаясь, приглаживала рукой короткую, по последней моде, прическу, чуть сутулилась, словно стесняясь полной груди и крутых, обтянутых джинсами-резинкой бедер. А вот глаза – серо-зеленые, улыбающиеся – были все те же, хоть и окруженные намечающейся сеточкой морщин. И, взглянув в эти глаза, Олег понял – он вернулся домой.
Он успел к ее приходу побриться, переодеться во все новое и даже подмел пол в квартире. Крупные комья пыли и каких-то волос чуть было не забили унитаз, бачок работал с трудом, хлюпая и изрыгая ржавую воду, что-то чавкало и плюхало за трубами – Олег с трудом умудрился не изгваздаться, но ему так не хотелось выглядеть неряхой!
И вот теперь, потеряв дар речи, он смотрел на ту, которую вызвал из небытия прошлого.
– Постарела? – спросила она его.
Олег покачал головой.
– Врешь, – рассмеялась она. – Мне уже двадцать семь!
– Мне тоже, – заметил он.
– А ты ведь даже не писал!
– Писал! – делано обиделся Олег, понимая, что она права.
– Первые два года, а потом?
Он развел руками.
– Ты не настаивала.
Они ели курицу с рисом и пряностями, пили вино и болтали обо всем – о детских шалостях, о тех, кто так и остался в прошлом полузабытыми тенями, о том, о чем мечтали – и что так и не довелось исполнить.
– Оставайся? – попросил он, когда за окном сгустились сумерки.
Она посерьезнела.
– Олежек, я тебя, конечно, люблю – но мы ведь не виделись… сколько, пятнадцать лет?
– Семнадцать.
– Тем более. Мы даже не переписывались – не только по почте, но и в Сети! Да, мы дружили в детстве – и спасибо тебе, что помог мне вспомнить о том прекрасном времени, – но это было давно! Я не знаю тебя, ты не знаешь меня, и…
– Ленк, Ленк… – поднял он ладони в предупреждающем жесте. – Я ничего такого не имел в виду. У тебя же нет кота, собаки… мужа?
– Спасибо, что именно в таком порядке перечислил, – рассмеялась она. – Нет.
– Ну и вот… тебя никто не ждет дома.
– И снова спасибо за то, что об этом напомнил.
– Блин, ты всегда была язвой! Тебе ж никого не надо кормить, а цветы переживут один день без полива. Отсюда до твоего Старого Кировска минут сорок ехать, а транспорт уже плохо ходит.
– Я думала, что кавалер вызовет мне такси, – усмехнулась она.
– Ну Ленк… обещаю, не буду приставать!
– Ну ладно, – вздохнула она. – Скажи спасибо, что у нас на работе униформа, а то бы я ни в жисть в несвежей одежде там не показалась.
– Спасибо! – он перегнулся через стол и, прежде чем подруга успела отшатнуться или остановить его, звучно чмокнул ее в нос.
Ленке не спалось. Олег постелил ей на диване в зале, а сам ушел в одну из комнат – и не предпринимал никаких поползновений. Но ее беспокоило не это. Слишком уж внезапно ворвалась старая детская – даже не подростковая! – любовь в ее одинокую и размеренную жизнь. Она успела побывать замужем – неудачно и скоротечно, так и не успела обзавестись детьми, – как бы ни пели на один мотив все тетушки о том, что «часики тикают». Так, может быть, вот она – ее судьба? И тут же обрывала себя – ну что за глупости, право слово? Она же совершенно не знает нынешнего Олега. А уж то, какими они были в детстве… разве это имеет теперь какое-то значение? Все меняются с годами.
Она откинула одеяло и тихонько, на цыпочках, пошла на кухню. Там налила в стакан воды из-под крана и долго, по капле, цедила ее, глядя в окно.
В тусклом свете одинокого фонаря кто-то копался в помойке. Бесформенная, сгорбленная, похожая на груду тряпок фигура переходила от одного бака к другому, выворачивая на землю коробки, мешки, ячейки из-под бутылок. Пластиковые пакеты она разрывала и методично перебирала их содержимое, усеивая все вокруг себя мусором.
Ленке вспомнилось, как когда-то, в детстве, они с девчонками точно так же копались в пыли под перекладинами, на которых соседи выбивали ковры. Если везло, то удавалось найти бусинки или булавки – бесхитростные девчоночьи сокровища. Родители, конечно, ругались, заставляли выкидывать «всякую грязь» – а они прятали свои находки в вырытые в песке и прикрытые цветным бутылочным стеклом «секретики»…
Ей почему-то стало стыдно, и она отвернулась от окна.
Что-то булькало и хлюпало под раковиной, чуть громыхало помойное ведро. Наверное, подтекала труба, надо будет, чтобы Олег с утра посмотрел. Не хватало еще начинать ему новую жизнь с затопления соседей.
Оставив стакан на столе, Ленка прошлепала – пол холодил босые ноги – обратно в залу. Она еще долго крутилась на продавленном (неудивительно, что прежние хозяева оставили его) диване, вдыхала чуть солоноватую пыль, морщилась от врезавшихся под ребра пружин, подтыкала поудобнее одеяло. В голову лезли какие-то мутные, тяжелые мысли – она чувствовала себя бесполезной, ненужной, отжившей свое, медленно разлагающейся где-то на задворках жизни. В углах комнаты шевелились вязкие серые тени, они тянулись к Ленке, что-то бормоча, бормоча, бормоча… Голову распирало от накатывающего, как волна, гула – и Ленка едва успела свеситься с дивана, как ее вырвало.
– Здесь тоскливо, – заметила она утром, когда Олег поставил на стол сковородку со шкворчащей яичницей – точь-в-точь как они любили когда-то в детстве. О ночном происшествии она постеснялась рассказывать, встав рано и успев замыть все следы.
– Это все квартира, – нехотя признался он. – Риелтор, падла, впихнул на долгосрочку, не предупредив.
– Подтекает что-то? Или соседи ханку варят?
– Да нет, ребенка тут убили. Дело мутное какое-то… не нашли никого вроде.
– А, – кивнула она. – Да, точно. Улица Гагарина же, я и забыла. Тут еще один мальчик был, с ума сошел вроде. Во всяком случает, в психиатричку попал, а потом его, кажется, родители в другой город перевезли. У нас местная желтушка об этом много писала – пока автобус с моста не упал. Хочешь, статьи погуглю?
– Да не надо, – отмахнулся Олег. – Только уныние нагонять. Как я понял, квартиру кому-то перепродали, новый хозяин ее на сдачу и выставил. Ну вот, долго никто снимать не хотел, а тут я и подвернулся… Идиот.
– То есть тут вообще после того случая… никто?
– Неа, – покачал Олег головой. – Тут даже ремонт, как я понял, не делали. Какие-то следы сами хозяева замыли, а все остальное оставили. Но она так по цене подходила, что я и подумать не мог…
Ленка подошла к Олегу и взъерошила ему волосы.
– Ах, Олежка, Олежка, – нежно пропела она. – Вечно ты во что-то вляпаешься.
– Угу, – уныло пробормотал он.
Вечером Ленка снова приехала к нему. На этот раз со сменой белья и зубной щеткой.
– Будем обживать твой новый дом, – просто сказала она.
Ей не нравилась эта квартира. Не нравилась категорически – до тошноты, до омерзения, до какой-то болезненной, мучительной безысходности. Самое странное, что она не могла объяснить, что же именно тут не так. Она перебирала все варианты, центральным из которых, разумеется, была трагедия из прошлого, но так и не могла понять, что же именно настолько гнетет ее, втаптывает, вдавливает в какую-то невозможную апатию, вялость, депрессию.
Казалось, что и Олег ощущает нечто подобное. Во всяком случае, на прогулках он расцветал, фонтанировал идеями, жонглировал словами, был готов на любую, даже самую безумную авантюру – так, они снова спрыгнули с зонтиками со второго этажа, только теперь на совершенно другой стройке, наелись до отвала, до тошноты так любимой в детстве сладкой ваты, и договорились, что на год совместного проживания купят щенка. Или котенка. Или котенка и щенка.
Но стоило им вернуться домой, как всю радость и упоение друг другом словно стирало мокрой грязной тряпкой. Точно, переступив порог, они превращались во что-то странное и болезненное, какую-то человеческую жижу, не способную ни на что, кроме молчаливого отчаяния. Будто сам воздух квартиры был отравлен ядом беспомощности – и казалось, что время здесь течет медленнее, металл ржавеет, стекло трескается, а ткани рвутся. Ленке чудилось, что она живет здесь не неделю, а долгие, полные беспросветной тоски и душевной муки годы. Да, были моменты, когда она грешила на Олега, – мол, может быть, все потому, что это не тот человек? Но не тем он становился здесь, в квартире; да и сама Ленка тоже тут была не той, она ощущала это, как ощущают развивающуюся болезнь, зреющий нарыв, растущую опухоль.
Тем утром Ленка отправила Олега на собеседование. Неплохое место, в паре остановок от дома, – крупная полиграфия. Пусть даже место и декретное, но Олег уже нашел в соцсети ту девчонку – она не собиралась возвращаться обратно, так и хотела осесть с ребенком дома, потом второго родить, а потом и третьего… А у Олега высшее профильное образование, опыт работы в Москве – кого и брать, как не его?
Сама она взяла отгул (их накопилось уже много, с полторы недели, куда девать, не солить же, а на следующий год не переносят), вооружилась тряпками, шваброй, ведрами и полным пакетом разных моющих средств и была полна решимости привести эту затхлую жилплощадь в порядок. Им просто не хватает солнца и свежего воздуха – вот от этого и вся депрессия, не так ли?
Риелтор знал свое дело – Олег рассказал, что показывал тот квартиру в солнечный полдень, умело закрывая собой стратегически опасные углы и проемы. Поэтому-то и не разглядел клиент ни треснувшей плитки на стенах в ванной, ни ржавчины на полотенцесушителе, ни вздыбленного у плинтусов линолеума, ни плесени за шкафами. Такая запущенность удивляла Ленку. Словоохотливые соседи, которых она уже успела потеребить, рассказали, что семья была нормальная, не маргиналы какие-то. Мальчишка любознательный, хоть и каша во рту, все местного пса прикармливал, родители общительные, гостей любили – соседи тоже захаживали, потому-то и припомнили, что квартира как квартира была. Не захламленный бабушатник какой-то. Конечно, при отъезде – соседи сказали, что съехали хозяева года четыре назад, плюс еще несколько лет просто стояла закрытая, пока не продали, – было не до уборки. Хотя даже так скорее можно ожидать разбросанные игрушки или потерянную тапочку – но никак не пушистую, приветливо кивающую из-под ванны плесень.
Ленка вздохнула, натянула резиновые перчатки и решительно взяла губку. Одно хорошо: в квартире не завелись ни тараканы, ни рыжие муравьи. Даже самой завалящей паутины с худосочным пауком она не заметила. А это означает, что отдраить будет гораздо проще, чем казалось поначалу.
Олег позвонил через час. Захлебываясь от восторга, рассказал, что его уже взяли на работу и даже предложили первое задание. Ленка же не обидится, если он придет домой попозже? Нет, конечно, не обидится, если по дороге он зайдет в магазин и купит продукты по тому списку, что она скинет ему в эсэмэске.
Она присела на табуретку на кухне, задумчиво помахивая половой тряпкой. Ну вот, кажется, как-то незаметно для себя снова вступила в семейную жизнь. А ведь не прошло и… недели? – как в ее мир ворвался этот призрак детства. Что она делает, зачем? Не лучше ли по старинке, конфетно-букетный период, вздохи на скамейке, места для поцелуев в кинотеатре? Не успела оглянуться, как уже пишет список покупок и моет пол!
Под раковиной снова забулькало. Ленка поморщилась. Ей не хотелось лезть туда, где гарантированно гнила и прорастала какая-то забытая картофелина и покрывалась пылью луковая шелуха. Они и мусорное-то ведро еще так и не вынесли – после того первого совместного ужина не готовили ничего крупного, заказывая на ужин пиццу и пироги в соседней кафешке или варя кашу на завтрак. Конечно, картонные упаковки не гниют так быстро, но…
Ленка заглянула под раковину. Там было темно и сыро. Чуть пахло чем-то пряным – как маринующееся в имбире мясо для шашлыков. Она попыталась на ощупь найти ручку ведра, но перчатка лишь скользила по чему-то влажному и липкому. Ленка покачала ведро за край, потянула – оно оказалось странно тяжелым, словно в нем валялись не десяток картонок да горсть яблочных огрызков, и никак не поддавалось, лишь качалось туда-сюда, как приклеенное. Она рванула ведро на себя, и то оторвалось от пола с глухим чпоком, точно вместо дна у него была присоска. Ленка потянула, потащила, вытаскивая его из-под раковины. «Дедка за репку, бабка за дедку», – мелькнуло у нее в голове. Жучка за внучку, кошка за Жучку – эх! Еще один рывок – и ведро вылетело, сбив Ленку с ног.
А потом покатилось по полу, разбрасывая свое содержимое.
Ленка визжала недолго – пока не сорвала голос, а из глаз не потекли горячие колючие слезы. Только тогда она смогла присесть на корточки – дрожащие ноги уже не держали, а стол, на который она взлетела в долю секунды, ходил ходуном. Ведро валялось на боку, упершись в холодильник. А по всему полу, корчась и извиваясь, шевелились огромные, с локоть длиной, розоватые с белесыми прожилками черви. «Мусор, – мелькнуло в голове у Ленки. – Мы не выкидывали мусор». Ей приходилось видеть и дождевых червей, и опарышей, и даже разных других личинок – дед был заядлым рыболовом и хотел приохотить к этому занятию и любимую внучку, – но о таких она никогда даже и не слышала.
А еще этот писк. Высокий, пронзительный, от которого запульсировало в висках и заломило в затылке – откуда он? Спазм сосудов? Реакция на испуг? Или его издают эти розовые черви, эти кусочки парного мяса, что тыкаются безглазыми и безротыми мордочками в пол в поисках то ли еды – то ли ее, Ленки?
Она осторожно стянула с ноги тапочку и швырнула ее в червей. Их было так много, что не требовалось и целиться – тапочка перебила одного из них аккурат в середине. Червь задергался в судорогах, из него вытекло что-то белое и густое. В воздухе запахло едким и больничным.
– Вот тебе, – просипела Ленка, стягивая с ноги вторую тапку. – Вот…
Что-то мягкое и липкое легло на ее плечо, нежно погладило шею и осторожно, но настойчиво сдавило горло. Ленка дернулась, высвобождаясь.
– Олежк… – начала она и осеклась.
Она сидела на столе лицом к двери. Это никак не мог быть Олег.
Мягкое и липкое снова погладило ее – на этот раз по спине, от затылка до копчика. Потом снова легло на плечи – и сжало, словно… пробуя на вкус. Ленка затаила дыхание, чувствуя, как по спине бегут мурашки, а на руках дыбом встают тонкие волоски. Она боялась пошевельнуться, чтобы не разозлить этого… неизвестного. А ведь это человек, правда ведь, человек? Кто еще здесь может быть? Наверное… ах да, наверное, это тот самый риелтор! Решил пошутить! Ведь ключ может быть только у него! Ах так…
Она резко вывернулась из влажных объятий и обернулась.
Крик замер в горле, застряв удушающим комом.
Над ней нависало нечто. Огромное, пульсирующее, розовато-белое – оно было похоже на оживший кусок мраморной говядины, кусок, который потерял свою форму и теперь тщетно ищет ее. Существо то вытягивалось, превращаясь в подобие червя, то сжималось в плотный ком, то выстреливало в стороны щупальцами. Такое же безглазое и безротое, как и те, что корчились на полу, оно поводило головой, будто нюхая, пробуя воздух.
Ленка тихо пискнула и отодвинулась в сторону. Бежать было некуда: с одной стороны эта тварь, с другой – пол, кишащий червями. Хотя черви – это ведь скорее противно, чем опасно, правда? Во всяком случае, как Ленка уже успела проверить, они смертны… Она отодвинулась еще чуть-чуть, готовая опустить ногу на пол и, зажмурившись, рвануть к выходу, давя эту вязкую и хлюпающую – а она ведь будет хлюпать, правда? – массу…
Чудовище вытянулось, заглядывая ей через плечо, – и дрогнуло, дернулось, взметнулось, издав горестный вопль, который взорвался у Ленки в голове, вывернул ее наизнанку, встряхнул и перемешал все внутренности.
И угасающим сознанием Ленка поняла: «Это был ее ребенок».
Семь лет спустя
– Енка, – шепчет Олег. Он стоит на пороге комнаты, пошатываясь и подергивая головой. Его одежда неряшлива, а ширинка расстегнута – но от грузчика в супермаркете не требуется опрятности. Он не пьет, не прогуливает – а то, что от него иногда несет гнилью и сладковатой тухлятиной, – так на продуктовом складе еще и не так воняет.
Он уже оставил деньги за квартиру в почтовом ящике – риелтор заберет их и отошлет хозяевам. Еще месяц они могут жить здесь.
– Енка, – повторяет он.
Логово из грязной, мятой ветоши, пропахшей потом, гниющей кровью и мочой, оживает. Волна дурного запаха накатывается на Олега – а вместе с ней и величайшая тоска, выжимающая его досуха, как старое мокрое белье.
Ленка широко разевает рот, полный сгнивших, шатающихся зубов, и начинает беззвучно кричать. Во всем доме выбивает пробки, от стен отслаиваются почерневшие, заплесневевшие обои, в углах квартир, площадок и лестниц сгущается непроглядная тьма и начинает извергать из себя призрачных, колеблющихся в вонючем мареве тварей.
Бабка Зоя слышит этот крик – и ухмыляется. Ухмыляются и все семьдесят пять мертвых Матильд. Скалится поросший мхом и источенный водой и червями собачий череп в дальнем скотомогильнике. И далеко-далеко, в тысяче километров, просыпается и бьется в судорогах, грызя казенную больничную подушку, совершенно седой паренек.
Ленка кричит и кричит – а зубы выпадают из лунок и усеивают пол, как рисовые зерна. Олег медленно, на плохо гнущихся ногах подходит к ней, опускается на колени и начинает собирать эти зубы. Потом осторожно вставляет их обратно ей в рот. И долго-долго гладит по голове, что-то бормоча плохо повинующимися губами.
А вокруг них пульсирующим розовым ковром шевелятся черви. Они порождают отчаяние и тоску, боль и безысходность – но именно здесь и сейчас они учатся еще одному.
Настоящей любви.
Елена Щетинина
Стрекот
Перова просматривала данные с цифрового нивелира, когда в ее палатку ворвался Сергей Комарин и взволнованно выпалил:
– Нина Андреевна, вы не поверите, что засек коптер!
Перова глянула на коллегу: растрепанные волосы, заросшее щетиной мальчишеское лицо, лихорадочный блеск глаз – казалось, Комарин совсем не изменился за три года их знакомства. В первой же совместной экспедиции он поразил ее упорством и работоспособностью, и когда месяц назад встал вопрос о формировании геодезической партии в малоисследованные районы саянской тайги, Перова без колебаний предложила кандидатуру молодого специалиста.
Третьим и последним участником их маленькой бригады был Константин Буров. Выскочив из палатки, Перова и Комарин обнаружили его под тентом, сооруженным на расчищенной полянке. Это место они в шутку называли «штаб-столовой»: здесь принимали пищу, обсуждали план работ и результаты полученных измерений, вечерами играли в карты.
Буров, спрятав руки в карманах полевой куртки, стоял у большого раскладного стола, на котором рядом с ноутбуком и тахеометрами растопырил винты их верный квадрокоптер. С помощью дрона отряд Перовой проводил разведку территории с воздуха – так было проще среди густой тайги найти место следующей стоянки. Комарин каждое утро запускал квадрокоптер, а после обеда изучал полученные снимки, скинув их на ноутбук.
Буров, нахмурившись, взглянул на подошедших коллег. На его широком обветренном лице топорщилась борода, и Перова не могла вспомнить, когда в последний раз видела его гладко выбритым. Она знала Бурова со времен учебы в Питере и недавно поймала себя на мысли, что за годы совместных экспедиций общалась с ним чаще, чем со своей родней.
– Что случилось? – спросила она, отгоняя мошек от лица.
Насупив брови, Буров кивнул на квадрокоптер и ноутбук, будто они были виновниками его плохого настроения.
– Ерунда какая-то, – буркнул он.
– Я просматривал снимки, сделанные сегодня утром! – затараторил Комарин, указывая пальцем на дисплей. – И среди лесов и полян обнаружил вот это.
Перова, склонившись к ноутбуку, всмотрелась в изображение на экране. Она увидела кусок буро-зеленой тайги и каменистый берег реки, запечатленные с высоты птичьего полета. На серых камнях у кромки воды чернела огромная надпись, выложенная, судя по всему, из палок или веток: «ПАМАГNТЕ».
Холодок пробежал по спине Перовой. Ей показалось, что птицы, щебетавшие вокруг, замолкли, а воздух сгустился. И только мерное тарахтение бензинового генератора разносилось по округе, словно напоминая об оторванности их лагеря от цивилизации.
Перова отпрянула от ноутбука и удивленно взглянула на коллег.
– Похоже на просьбу о помощи! – возбужденно выпалил Комарин.
Ему явно не терпелось услышать, что думают старшие товарищи, но Буров и Перова лишь обменялись тревожными взглядами.
– Надпись кривая, да к тому же безграмотная, – неуверенно протянул Буров. – Может, это случайное нагромождение палок? Ветер или река постарались.
Перова еще раз взглянула на экран: черные линии на светлых камнях отчетливо складывались в жуткое, ненормальное слово.
– Нет, на случайность не похоже, – твердо сказала она.
– Но кто мог выложить слово в этой глуши? – удивился Буров. – В такие дебри даже охотники не забредают.
Перова не знала, что ответить. Они находились в двух сотнях километров от ближайшего поселения – небольшого городка Вышегорска, затерянного в океане тайги. Казалось странным и непонятным, кому в этой Богом забытой котловине, зажатой среди Саянских гор, могла потребоваться помощь. Перова перевела взгляд на Комарина и спросила:
– Что это за место?
– Квадрат А-двенадцать на нашей карте. Вниз по течению Урчинки на десять километров.
– Часов пять пути… – задумчиво протянула Перова. – Мы можем сходить к реке и выяснить, нужна ли кому-то помощь.
– А почему не вызвать вертолет? – Комарин вскинул светлые брови.
– Он не сядет: деревья слишком высокие, – с хмурым видом пояснил Буров. – К тому же я сомневаюсь, что МЧС захочет гонять вертушку из-за каких-то палок возле речки черт знает где.
– А если вызвать подкрепление из основного лагеря? – не унимался Комарин.
Перова задумалась. Геодезисты проводили разведку малоизученных территорий Урчинской котловины, по которой через несколько месяцев планировалась прокладка опорных конструкций для волоконно-оптического кабеля из Красноярска в Вышегорск. Бригада Перовой ушла на шестьдесят километров южнее главной базы геодезической экспедиции, а это значит, что их коллегам потребуется более суток, чтобы продраться по непролазной тайге до места с загадочной надписью.
– Они слишком далеко. – Перова покачала головой. – Пока доберутся, может быть поздно. Слово на берегу выложили недавно, иначе ветки разметало бы во время бури три дня назад. Человеку, который оставил надпись, требуется помощь как можно скорее.
Буров мрачно хмыкнул:
– К тому же мужики не укладываются в график работ. Если выяснится, что мы их выдернули из-за какой-то ерунды, то на помощь придется звать уже нам.
Перова закусила губу. Ей представилось, как в дикой враждебной тайге кто-то отчаянно взывает о помощи. Кто это был? Заблудившийся охотник или рыбак? Почему же он написал призыв с такими глупыми ошибками? Вопросы множились, и ответы на них можно было получить только одним способом – отправившись на разведку к реке.
Перова вспомнила, как однажды в детстве заблудилась в лесу рядом с деревней, где жила ее бабушка. Она провела ночь за поваленным деревом, дрожа от страха и прислушиваясь к малейшим шорохам. Наутро ее обнаружили взрослые, но тот парализующий ужас, испытанный в дремучем чернолесье, запомнился ей на всю жизнь. Человек, написавший призыв о помощи на берегу реки, мог оказаться в куда более опасной для жизни ситуации, и Перова не смела допустить, чтобы с ним что-то случилось. Взглянув на часы, она сказала:
– Вот как поступим. Мы с Комариным отправимся на разведку к реке, осмотрим район. Костя, ты останешься здесь. – Перова перевела взгляд на Бурова. – Если там действительно кому-то нужна помощь, мы свяжемся с тобой по рации, после чего ты вызовешь по спутниковой связи подкрепление из лагеря или вертолет из Вышегорского МЧС.
Буров недовольно скривился, но промолчал, а Комарин, коротко кивнув, направился к своей палатке собирать рюкзак. Понятливый и исполнительный – за это Перова его и ценила.
Захлопнув ноутбук, она посмотрела в сторону тайги: древний лес напирал на полянку с тремя одинокими палатками, словно угрожая раздавить маленький мир людей, стиснутый в оковах враждебных зарослей, буреломов и камней. Там, за этой стеной, кто-то ждал помощи.
Как и рассчитывала Перова, путь до места назначения занял пять часов. Чтобы сократить дорогу, они решили идти не напрямую через густые заросли, а выйти сначала к Урчинке (ее русло пролегало в трех километрах восточнее лагеря) и уже оттуда по берегу спуститься к загадочной надписи.
Река тонкой нитью змеилась по узкой долине, втиснутой между гор, зубцы которых врезались в ясное синее небо. То и дело оступаясь на крупных камнях, Перова упрямо шла вперед, не обращая внимания на извечных спутников геодезических разведок – мошек и комаров. Она привыкла к ним за двадцать лет, проведенных в постоянных экспедициях по тайге и тундре. Комарин, нахмурив лоб, пыхтел рядом, периодически сверяясь с компасом.
– Думаю, мы уже близко. – Перова сбавила шаг и, заслонив ладонью глаза от клонившегося к закату солнца, всмотрелась вдаль – туда, где серебристая лента воды смыкалась с частоколом деревьев на излучине реки.
Комарин рассеянно кивнул. На его веснушчатом лице читались тоска и досада, и причиной их навряд ли были мысли о загадочной надписи на берегу: они покинули лагерь второпях, и Комарин не успел поговорить по спутниковому телефону с женой и сыном, которые ждали его в Питере. Он по ним сильно скучал.
Перова горько усмехнулась, подумав о том, что тоска по семье и дому давно ей чужда. С мужем она развелась пять лет назад, детей у них не было, родители умерли. Мокрая земля, холодные камни и кучка хмурых бородатых мужиков – вот кто стал ее семьей, и Перова с этим смирилась. Она просто шагала вдоль бурлящего потока реки в отрезанной от мира котловине среди Саянских гор – худенькая женщина в мешковатом полевом костюме, и теплый ветер трепал ее короткие волосы.
– Пришли! – взволнованно воскликнул Комарин.
Остановившись, он указывал рукой на каменистый участок берега, где черные ветви складывались в ненормальное слово – «ПАМАГNТЕ». Перова подошла ближе, не в силах оторвать взгляда от пугающий надписи. Вблизи она казалась еще больше, чем на снимке с квадрокоптера. Перова поморщилась: внутри у нее все похолодело, словно в предчувствии неотвратимой беды. Она подняла одну из веток и поднесла ее к лицу, чтобы рассмотреть получше.
– Это валежник, недавно ободранный от мелких сучьев и листвы. Без всяких сомнений надпись – дело рук человека.
– Но почему она безграмотная? – удивился Комарин. – Как будто ребенок писал. И если кому-то требовалась помощь, то почему он не остался возле надписи?
Перова отбросила ветку и кивнула в сторону подлеска на границе с каменистым берегом. В глубь зарослей убегал тонкий шрам тропинки. Она вела в полную опасностей тайгу, где кому-то отчаянно требовалась помощь.
– Надо связаться с Буровым, – сказала Перова.
Комарин отцепил от ремня рацию и протянул ее Перовой. Настроив частоту, она сказала в микрофон:
– Буров, это Перова. Как слышно? Прием!
– Слышу отлично. Что у вас?
– Мы вышли к надписи на берегу, но здесь никого нет. В глубь леса ведет тропинка, и мы думаем сходить туда на разведку.
Перова кинула вопросительный взгляд на Комарина. В ответ он пожал плечами, словно полностью передавая инициативу в руки начальницы отряда.
– Это не слишком опасно? – донесся из рации голос Бурова, искаженный помехами. – Может, не стоит рисковать?
– Комарин предположил, что надпись мог выложить ребенок – это объяснило бы странные ошибки. – Перова подошла к веткам на камнях, и от вида странного слова у нее похолодело в затылке. – Сам понимаешь, в таком случае медлить нельзя. Мы будем идти по тропе в глубь тайги до захода солнца. Если никого не найдем, вернемся к берегу. К полуночи будем в лагере.
– Принято. – В голосе Бурова слышались нотки недовольства, но спорить с начальником отряда он не рискнул. – Будьте осторожны.
Отключив рацию, Перова передала ее Комарину. Повесив ее на ремень, он с тоской и тревогой взглянул на густые заросли, в которых терялась тонкая тропинка. Перова разделяла его опасения, но другого выбора у них не было: надо выяснить, кто написал слово на берегу.
Переступая через коряги и оскальзываясь на мшистых кочках, они брели по тропе, уводившей их в буро-зеленую бездну тайги. Солнце садилось за кронами деревьев, и его желтые отсветы косыми лучами пробивали листву. Воздух стал свежее, прохладнее, и Перова поежилась от сырости, пропитавшей плотную ткань штанов и куртки. За спиной напряженно сопел Комарин. Он молчал с того момента, как они вступили в дремучее царство лиственниц и пихт: в реликтовом лесу человеческая речь казалась лишней.
Перова сверилась с компасом. Они двигались в северо-западном направлении, удаляясь от реки, и не было сомнений, что тропу среди вековых зарослей проложил человек: дважды ее пересекали ручьи с перекинутыми через них мостиками из старых бревен. Куда вела дорога – оставалось вопросом, и Перова надеялась, что ответ они обнаружат раньше, чем наступят сумерки.
На краю зрения в частоколе пихт что-то мелькнуло. Перова остановилась и всмотрелась в густые заросли. Среди деревьев высилась угловатая конструкция. Молча обменявшись взглядами с Комариным, Перова сошла с тропы и, продираясь сквозь кусты ракитника, направилась к пихтам.
– Это охотничий лабаз, – сказала Перова, когда они остановились у деревянного помоста, покоившегося на четырех бревнах чуть выше человеческого роста.
– Значит, здесь действительно кто-то живет, – задумчиво протянул Комарин. – Но это странно. Я думал, что Урчинская котловина – одна из самых глухих и изолированных в Саянской тайге.
– Так и есть. – Перова рассматривала бурые потеки крови на деревянных столбах: очевидно, недавно на помосте покоилась туша убитого животного. И кто-то ее забрал.
В груди закопошилось неприятное чувство – леденящая смесь тревоги и недоумения. Перова мотнула головой, отгоняя дурные мысли. Чего она так разволновалась? В эти места действительно мог забрести охотник, который попал в беду и теперь призывал на помощь.
Комарин отошел в сторону на несколько метров, напряженно всматриваясь в прорехи между деревьями.
– Что ты там ищешь? – спросила Перова.
– Да показалось, будто что-то мелькнуло, – неуверенно ответил геодезист.
Словно пытаясь удостовериться, что он ничего не пропустил, Комарин сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в заросли пихт, как вдруг земля под ним с громким треском просела. Вскрикнув, он неловко взмахнул руками и провалился в яму.
Перова сорвалась с места и подбежала к вырытому в земле глубокому конусу, на дне которого в ворохе валежника и листьев корчился от боли Комарин.
– Ты как? – выдохнула Перова, упав на колени у края ямы.
– Жив. – Комарин, скривившись, с трудом выпрямился. – Кажется, ногу поранил.
Перова протянула руку, и геодезист, вцепившись в нее, с кряхтением выбрался из ямы. Плюхнувшись на землю, он схватился за правую голень и застонал от боли. Перова присела рядом и, осторожно убрав ладонь Комарина, осмотрела ногу. В штанине чуть ниже колена зияла прореха, в которой сочилась кровью продолговатая рана с разорванными краями.
Перова скинула рюкзак, достала аптечку и, выудив оттуда бинт, обмотала им голень Комарина.
– Он остановит кровотечение, – сказала она как можно спокойнее, чтобы не выдать волнения.
Перова выпрямилась и, подойдя к краю дыры в земле, заглянула внутрь. На дне топорщился короткий заостренный кол, вымазанный кровью, – на него и напоролся Комарин, угодив в ловчую яму. Судя по ране, штырь по касательной разорвал кожу на голени.
– Можешь идти? – спросила она у коллеги, когда тот, постанывая, неловко поднялся с земли.
Комарин сделал два шага, осторожно наступая на раненую ногу, – и снова плюхнулся на землю.
– Боль адская, – с досадой процедил он сквозь сжатые зубы. – Похоже, там не только рана, но и перелом.
Перова, покопавшись в аптечке, протянула Комарину таблетку анальгина.
– Она поможет на некоторое время, – сказала она, наблюдая, как Комарин жадно запивает лекарство водой из фляжки. – Нам нужно вызвать Бурова. Одна я тебя не дотащу.
Комарин, кивнув, потянулся к рации, пристегнутой к ремню. Лицо его вдруг исказилось в удивлении, сменившемся испугом, и он глухо пробормотал:
– Антенна отломалась!
Комарин отцепил от ремня рацию и продемонстрировал Перовой огрызок пластика в том месте, где раньше торчала антенна. Надежда вызвать Бурова на помощь померкла, как и свет умиравшего за деревьями солнца: сумрак просачивался в тайгу незаметно, но быстро, словно затаившийся в засаде хищник.
Комарин растерянно смотрел на старшую коллегу, будто ему было стыдно и неловко за новые проблемы, причиной которых стала его полученная по неосторожности травма. Перова собралась подбодрить его, но тут где-то сзади и сбоку треснула ветка. Она резко обернулась – и увидела немного поодаль, среди раскидистых ветвей пихт, человека, настороженно наблюдавшего за геодезистами.
Это был парень на вид чуть младше Комарина. Точный возраст Перова определить не могла: моложавое лицо пряталось в жидкой черной бородке с усами и нечесаных длинных волосах. Выпученные маслянистые глаза натолкнулись на взгляд Перовой, и в их черной глубине она прочитала любопытство и страх. Тело незнакомца покрывали грязно-серые обноски – штаны в заплатках и широкая, подпоясанная ремнем рубаха. В опущенных руках он сжимал лук с пристроенной к нему стрелой, и его напряженная поза предупреждала о том, что он готов выстрелить при малейшей опасности. Но не это удивило Перову: на ногах паренька она заметила грязные, истоптанные берестяные лапти, будто он вышел к ним на прогалину прямиком из позапрошлого века.
– Здравствуйте, – как можно приветливее проговорила Перова. – Мы геодезисты, и нам нужна помощь. Мой товарищ угодил в ловчую яму и сильно поранил ногу.
Глаза парня, и без того выпученные, расширились еще больше. На его чумазом лице испуг сменился изумлением, как будто он впервые за долгое время услышал человеческую речь. Все так же молча он взирал на Перову и Комарина, не двигаясь с места.
– Как вас зовут? – осторожно спросила Перова.
Незнакомец помедлил, а затем тихо и невнятно промычал:
– Миша.
Перова осторожно шагнула вперед и протянула руку.
– Нина Перова. А это мой коллега – Сергей Комарин.
Миша удивленно вытаращился на простертую ладонь Перовой, словно не понимая, что от него требуется. В опущенных руках он по-прежнему держал лук с приготовленной стрелой, и у Перовой перехватило дыхание, когда она поняла, что ему потребуется меньше секунды, чтобы взметнуть оружие и выстрелить в цель.
Она убрала руку и тихо сказала:
– Миша, моему другу нужна помощь. Наша рация сломалась, и мы не можем связаться с лагерем.
– Сломалась? – В глазах паренька сверкнул интерес.
– Дружище, если ты нам не поможешь, то я рискую окочуриться в этой дыре, – напомнил о себе Комарин, молчавший все это время. – Нога на глазах распухает.
Миша вдруг улыбнулся – в жидких зарослях на лице мелькнул щербатый рот с желтыми зубами – и промямлил:
– Мы поможем.
Комарин, опираясь руками на Перову и Мишу, с перекошенным от боли лицом подволакивал раненую ногу, из-за чего двигались они медленно и с постоянными передышками. Во время вынужденных остановок Перова несколько раз пыталась разговорить Мишу, чтобы выяснить, куда они направляются, но их немногословный спутник лишь бурчал в ответ что-то невнятное. Казалось, Миша едва ли мог связно строить предложения, и Перова задумалась, был ли он тем, кто звал на помощь? Она сомневалась: парень вел себя в тайге уверенно, как будто дикая природа давно стала для него родной и знакомой.
Спустя час, когда солнце покинуло небосвод и сумрак растекся между деревьев, тропинка вывела их к перелеску, за которым открылась поляна, опоясанная покосившимся забором. Перова оторопела, когда увидела за ним бревенчатую избу с приземистыми пристройками в окружении остовов полуразрушенных домов. Каким-то неведомым образом в непролазной глуши саянской тайги скрывалось поселение, и выглядело оно так, будто по нему прошелся сокрушительный ураган.
Миша, отпустив Комарина, прошел вперед и громко позвал:
– Я привел людей!
Перова переглянулась с Комариным. Тот тяжело дышал и с трудом держался на ногах. Лицо его побледнело, осунулось, а на лбу выступила испарина: бинт не смог остановить кровотечение из раны.
– Держись, помощь близко, – шепотом подбодрила она Комарина, и в ответ он вымученно улыбнулся.
На крик Миши из избы показались мужчина и женщина. Замерев на покосившемся крыльце, они в изумлении уставились на Перову и Комарина. Как и у Миши, у незнакомцев были крупные, выпученные из орбит глаза, что делало их похожими на страдающих базедовой болезнью. Перова предположила, что обитатели избы приходились друг другу родственниками.
Мужчина казался старше всех – лет сорока на вид. Его узкое, задубевшее лицо выражало готовность в любой момент дать отпор чужакам, прояви они хоть малейший признак агрессии. Густая спутанная борода опускалась до середины широкой груди, а темные сальные волосы касались могучих плеч. Его одежда, сшитая из грубой ткани, напоминала Мишину: грязные залатанные штаны, безразмерная рубаха в пятнах грязи и стоптанные, почерневшие от влаги и земли берестяные лапти.
Женщина выглядела немного моложе. На бескровном лице, обрамленном смолой из длинных волос, чуть дрожали тонкие губы; маслянистые глаза жадно ловили малейшие движения Перовой и Комарина, будто их появление стало для нее не только сюрпризом, но и чем-то давно желанным. Худое тело скрывало серое обветшалое платье в пол, сшитое из мешковины.
– Нам нужна помощь, – выдохнула Перова, поддерживая едва стоявшего на ногах Комарина.
Мужчина и женщина, коротко переглянувшись, спустились с крыльца и помогли Перовой дотащить Комарина до избы. В сенях они уложили геодезиста на скрипучий топчан, застеленный ветхим тряпьем. Помещение тонуло в полумраке – сумеречный свет со двора, лившийся из распахнутой двери, едва справлялся с тьмой. В нос бил затхлый запах старья с примесью чего-то кислого. Перова поморщилась: кто эти люди и как они оказались в поселении, которого нет на картах?
Размышлять об этом не было времени. Перова скинула с плеч рюкзак и достала аптечку. Включила фонарик и, зажав его во рту, провела быструю ревизию запасов. Бинта хватит еще на две-три перевязки, а вот с анальгином дела обстояли хуже: в упаковке осталось четыре таблетки. Никто ведь не ожидал, что их вылазка к реке может обернуться серьезной травмой.
Перова размотала напитанный кровью бинт, и, разорвав штанину, освободила доступ к ране. В холодном свете фонарика выглядела она скверно: длинная, сочащаяся словно кусок сырого мяса, с разодранными краями – похоже, кол, пройдя по касательной, задел не только кожу, но и мышцы. Голень в области раны распухла, покраснела и, казалось, согнулась под небольшим углом внутрь. Комарин, распластавшись на топчане, держался стойко, хотя по его напряженному, побелевшему лицу со стиснутыми челюстями было ясно, насколько сильна боль.
– Потерпи, Сережа, – ласково сказала Перова, вытащив из аптечки баночку с йодом.
Комарин тихо стонал, когда она обрабатывала рану антисептиком. Закончив с этим, Перова перевязала голень бинтом и обернулась. Миша и его родственники, сгрудившись у дверей, молча наблюдали за ее действиями.
Скрипнула дверь, ведущая внутрь избы, и в сени проскользнула девочка лет двенадцати – худенькая, с распущенными темными волосами, одетая в простое серое платье из мешковины. Как и у взрослых обитателей дома, у нее были черные большие глаза, придававшие ее личику умильное выражение. Девочка, не сводя изумленно-испуганного взгляда с Перовой и Комарина, подошла к женщине и боязливо спряталась за ее юбкой.
Похоже, настало время объяснить ситуацию. Перова выпрямилась и, стараясь смотреть в основном на старшего мужчину, заговорила:
– Меня зовут Нина Перова, а это мой коллега Сергей Комарин. Мы геодезисты. – Она решила обойтись без лишних жестов, помня о странной реакции Миши на вытянутую для рукопожатия ладонь. – Сергей попал в ловчую яму и сильно повредил ногу. У него рваная рана и, скорее всего, перелом или трещина голени. Наша рация сломалась, поэтому мы не можем связаться с лагерем. У вас есть какие-нибудь средства связи?
Она с надеждой посмотрела на странную компанию. Старший мужчина, переглянувшись с женщиной, ответил сухим надтреснутым голосом:
– Мы живем вдали от мира. Не общаемся. Рации нет.
В отличие от Миши, говорил он более внятно, но со странными паузами, будто каждое слово давалось ему с трудом.
– Как вас зовут? – Перова отчаянно пыталась наладить контакт с отшельниками.
– Сивцовы. Петр и Ульяна. – Мужчина указал на себя и женщину, а затем перевел ладонь на девочку. – Зоя.
Мишу он не представил – очевидно, справедливо решив, что они уже познакомились в лесу. Петр не пояснил их родственные связи, поэтому Перовой оставалось только догадываться, кем они приходятся друг другу. Судя по возрасту, скорее всего – братьями и сестрами.
– Очень приятно. – Перова вымученно улыбнулась, совершенно не понимая, как вести себя с чудаковатым семейством. – Мы думали, что эти места необитаемы. На карте не было никаких поселений.
– Старая заимка. – Петр буравил взглядом Нину. – Здесь староверы раньше жили.
– А теперь живете вы? – уточнила Перова.
Петр коротко кивнул:
– Мы ушли из мира.
– И как давно вы здесь живете?
– Давно.
Перова обвела взглядом сени, словно ища подсказки у погруженного в полумрак помещения. Как еще разговорить Сивцовых? На стене она заметила выцветшую фотокарточку в рамке. Со старого снимка смотрела бледная женщина с темными волосами и глазами навыкате, в которых читались печаль и скрытая обреченность. Она была похожа на Сивцовых и, вероятно, приходилась им родственницей.
– И как же вы справляетесь? – спросила Перова после паузы. – Тяжело ведь жить в полном отрыве от мира.
– Справляемся. – Петр напрягся, заметив, как Перова разглядывает фотопортрет на стене. – Ходим на охоту. Ловим рыбу.
Он хотел сказать что-то еще, но его вдруг перебила Ульяна:
– Нам помогает матушка родимая! – неразборчиво промычала она, будто рот ее забился кашей.
Взгляд Ульяны непроизвольно скользнул по фотографии на стене, и Перова догадалась, что женщина, запечатленная на снимке, была той самой матушкой.
– Она живет с вами?
Петр, Ульяна и Миша переглянулись – и промолчали. На их лицах промелькнуло неясное беспокойство, словно вопрос Перовой оказался слишком болезненным и отвечать на него они не хотели. Так и не дождавшись другой реакции, она сменила тему:
– Мы отправились в эту часть котловины из-за сигнала о помощи. На берегу реки мы обнаружили слово «помогите», выложенное из веток. Оно было написано с ошибками, из-за чего мы решили, что в беду попал ребенок.
Перова пристально посмотрела на Петра, а затем перевела многозначительный взгляд на Зою. Девочка, как и прежде, пряталась за юбкой Ульяны, изредка с любопытством поглядывая на чужаков. Перова заметила, как нервно дернулось худое лицо Петра: безусловно, он понял ее намек. Мужчина метнул острый взгляд на Ульяну. Та опустила голову и сжала плечи, словно чувствуя себя виноватой. Наконец Петр ответил, холодно взирая на Перову:
– Зоя не умеет писать. У нас все хорошо. Помощь не нужна.
Он обвел рукой родственников, будто в подтверждение своих слов демонстрируя их благополучие. Ульяна стояла с поникшей головой, Зоя выглядывала из-за ее юбки. Миша, хитро улыбнувшись щербатым ртом, едва слышно промямлил:
– Матушка родимая нас защищает.
Перова вздохнула: разговор с отшельниками не клеился, и она не знала, что делать дальше. Оставить Комарина здесь, а самой вернуться в лагерь к Бурову и вызвать оттуда помощь?
Она глянула на Комарина, который все это время молча наблюдал за ее беседой с Сивцовыми. Его осунувшееся лицо, казавшееся мертвенно-серым в сумрачном свете, исказилось от боли. В потемневших глазах коллеги и друга Перова прочитала тихую мольбу не бросать его одного в этом логове подозрительных отшельников.
– Миша сходит за помощью в ваш лагерь, а вы можете остаться здесь – ухаживать за раненым, – вдруг сказал Петр, словно почувствовав замешательство геодезистов. Это была самая длинная фраза, прозвучавшая из его уст за все время беседы.
– Но как Миша найдет дорогу? – спросила Перова.
– Пройдет по вашим следам. Лагерь расположен вверх по реке?
Перова кивнула, и Петр, мотнув головой в сторону двери, дал безмолвный приказ Мише – отправляйся в путь.
– Он пойдет на ночь глядя? – удивилась Перова, наблюдая, как Миша, поправив лук за спиной, послушно вышел из дома в сгустившийся вечерний сумрак. С улицы тянуло прохладным воздухом с едва ощутимым душком подгнившего мяса.
– Он хорошо знает лес, – сухо пояснил Петр. – Чем быстрее он приведет помощь, тем лучше для вас.
Он кивнул на Комарина, распластавшегося на топчане. Грудь его часто вздымалась, лоб блестел от испарины. Перовой не хотелось этого признавать, но отшельник был прав: оставить Комарина она не могла, и его спасение зависело от того, как быстро Миша доберется до Бурова.
– Переночуете в сарае. – В голосе Петра послышались властные нотки. – Лето теплое, не замерзнете.
Перова переглянулась с Комариным. Беспокойство и сомнение на его лице были столь же отчетливыми, как и капли пота на лбу. Перова сглотнула вязкий ком в горле: им предстояло провести ночь в затерянной посреди глухой тайги заимке в компании одичалых отшельников.
Петр оставил геодезистов в покосившейся пристройке рядом с избой.
– Нужник за домом, – бросил он перед тем, как уйти.
Не попрощавшись, Петр закрыл за собой скрипучую дощатую дверь. Комарин с мучительным стоном осел на земляной пол, вытянув раненую ногу. Когда шаги за стеной стихли, Перова включила фонарик и огляделась. Они находились в узком помещении, сколоченном из досок. Окон не было, и казалось, будто тьма подкрадывалась со всех сторон, угрожая проглотить робкий луч фонарика. У дальней стены громоздились два массивных сундука. Уложив Комарина на один из них, она заметила сваленный в углу хлам: старые веники в паутине, кочергу, сломанные доски с облупившейся краской, мешки с тряпьем, от которых несло плесенью. Перова выудила из груды барахла обломок тонкой доски и примотала его бинтом к ноге Комарина.
– Как думаешь, Миша правда пошел за помощью? – стиснув зубы от боли, спросил Комарин, когда Перова закончила накладывать шину.
– Не знаю, – тихо ответила она, протягивая коллеге две таблетки анальгина и флягу с водой. – Подождем до завтра. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае одного я тебя не брошу.
Перова ободряюще улыбнулась Комарину. Запив лекарство, он откинулся на спину и закрыл глаза. За стеной, из глубины дома, раздавались приглушенные голоса Петра и Ульяны – похоже, они о чем-то спорили, но разобрать и без того невнятную речь не представлялось возможным. Перова устало рухнула на сундук и даже не заметила, как провалилась в черный сон.
Ее разбудил приглушенный звук со стороны дома. Перова приподнялась, поеживаясь от ночной прохлады. Она вгляделась в едкий мрак, но не смогла ничего разглядеть. На соседнем сундуке, тихо постанывая от боли, спал Комарин.
За стеной хлопнула дверь – кто-то вышел из дома. Семейство Сивцовых казалось Перовой странным и пугающим, и, поразмыслив немного, она решила, что нет смысла торчать в сарае, пока снаружи происходит что-то непонятное и потенциально опасное для них с Комариным.
Стараясь не шуметь, Перова спустилась с сундука и подошла к двери. Медленно приоткрыла ее и, высунув голову в образовавшуюся щель, выглянула наружу, разглядывая территорию заимки. В свете луны остовы полуразрушенных изб казались почерневшими от древности руинами, навеки застывшими в серебристой дымке.
Двор был пуст, и невнятное бормотание Сивцовых раздавалось теперь откуда-то сзади, из-за дома. Собравшись с духом, Перова выскользнула из пристройки. Она обогнула избу и, спрятавшись за дровницей, осторожно вытянула голову.
Перед ней открылось широкое пространство позади дома – это была заросшая высокой травой поляна, на краю которой скособочился приземистый домишко. Возле него замерли Петр, Ульяна и Зоя – Перова без труда различила их силуэты в холодном сиянии луны. Отшельники держались за руки, воздев головы к звездному небу. Петр что-то исступленно бубнил, и до Перовой доносились обрывки странных, пугающих фраз:
– …Матушка родимая, нас защити… Силы дай со стрекотом справиться… Мише родному путь покажи… Упаси нас от стрекота, как спасала все годы…
Ульяна и Зоя, не отрывая глаз от сиявшего ртутным светом неба, повторяли за Петром, и речь их – невнятная, лихорадочная, фанатичная – напоминала молитву безумцев. Перова почувствовала, как напряглись ее мышцы, – согнувшись, она вцепилась одной рукой в край дровницы, не в силах отвести взгляд от странного действа на поляне.
Закончив невменяемое бормотание, Сивцовы разомкнули руки, а затем друг за другом – первым пошел Петр, потом Ульяна и Зоя – скрылись в покосившемся доме на краю заимки. Перова шумно вздохнула. Она так долго простояла, задержав дыхание, что от холодного воздуха, наполнившего легкие, закружилась голова.
Увиденное не укладывалось в сознании. Кому молились Сивцовы? От кого просили их защитить? Кто живет во втором доме? Мысли толкались, опережая одна другую, и Перовой не терпелось вернуться к Комарину, чтобы обо всем ему рассказать. Она опасалась подойти поближе к дому, чтобы подслушать или подсмотреть происходящее внутри, и была права: спустя мгновение Сивцовы выбрались на поляну. Понурив головы, они направились к своей избе, и Перова спешно покинула место засады.
Она влетела в сарай к сопящему во сне Комарину и, закрыв дверь, прислушалась сквозь шум дыхания и грохот сердца в груди. Со стороны избы доносились приглушенные голоса Сивцовых: отшельники возвращались к себе домой.
Перова так и не смогла уснуть до самого утра, напряженно прислушиваясь к малейшим шорохам за дверью. В руке она сжимала кочергу, вытащенную из груды хлама в углу, – на тот случай, если Сивцовы вдруг ворвутся в пристройку.
Когда проснулся Комарин, Перова включила фонарик и осмотрела его ногу. Выглядела она скверно: голень еще больше распухла, кожа вокруг раны приобрела пунцовый оттенок и казалась горячей на ощупь.
– Дело дрянь? – скривился от боли Комарин, когда Перова обрабатывала рану йодом.
– Возможно, это еще не самое плохое, – тихо ответила она, перематывая ногу свежим бинтом.
Перова рассказала Комарину о ночном происшествии. Он слушал, не перебивая, – лишь в бледном утреннем свете, лившемся сквозь щели в досках, испуганно блестели его глаза. Когда Перова закончила, Комарин сдавленно проговорил:
– Нам нужно убираться отсюда.
– В таком состоянии ты не пройдешь и шагу, – потерев лоб, устало проговорила Перова. – У тебя лихорадка, и нужно дождаться, когда спадет воспаление.
– Думаете, Миша не приведет Бурова?
– Надеюсь, что приведет, но после увиденного ночью у меня большие сомнения в адекватности Сивцовых.
– Наверное, у них поехала крыша из-за долгой изоляции от мира. – Комарин попытался сесть на сундуке, но тут же замер, скорчившись от боли. – Петр сказал, что в этой заимке раньше жили староверы. Что, если Сивцовы переняли их обряды?
Перова покачала головой:
– Я мало что знаю о староверах, но ночные молитвы Сивцовых скорее напоминали пародию на обряд. Все было как-то слишком вычурно и… немного по-детски, что ли? Они молились матушке родимой, просили у нее помощи.
– Может, это их мать? Судя по возрасту Сивцовых, они могут приходиться друг другу братьями и сестрами, – рассуждал Комарин. – Петр – самый старший. Ульяна лет на пять его моложе. Затем идет Миша – ему около тридцати. И самая мелкая – Зоя.
Перова задумчиво кивнула, размышляя вслух:
– Возможно, мать Сивцовых находится во втором доме, и по какой-то причине ей требуется помощь – слово на берегу могла написать она. Либо же кто-то другой. В любом случае, прежде чем мы отсюда уйдем, нужно выяснить, кто скрывается в доме на краю заимки. Если Миша не приведет сюда Бурова…
Закончить мысль Перова не успела: со двора донеслись звуки – скрип двери, топот ног и приглушенные голоса.
– Они проснулись, – прошептал Комарин.
Перова схватила кочергу, не сводя глаз с двери. Вскоре из глубины дома послышалось громыхание и лязганье кастрюль вперемешку с голосами Ульяны и Зои – должно быть, они возились со стряпней. Спустя мгновение со двора раздался мерный стук топора – похоже, Петр колол дрова. Судя по всему, Сивцовы разбрелись по своим обычным утренним делам, даже не справившись о состоянии гостей.
В животе заурчало, и Перова вспомнила, что они не ели со вчерашнего дня.
– Завтрак в номер ждать не стоит, – усмехнулась она, выудив из рюкзака банку с тушенкой и пачку печенья.
– Я бы все равно к их еде не притронулся, – пробурчал Комарин. – Отравят еще.
Перова протянула коллеге открытую банку тушенки и ложку – сарай наполнился мясным ароматом, от которого в животе заурчало еще сильнее. Наблюдая, как Комарин вталкивает в себя склизкие комки, Перова твердо решила: пока Сивцовы заняты делами, она выяснит, кто скрывается во втором доме.
Перова вышла во двор, вдыхая свежий утренний воздух. Как и вчера вечером, к нему примешивался тошнотворный душок, и теперь Перова увидела, что служило его источником: по двору на жердях висели тонкие полосы сырого мяса. Вчера вечером и ночью она их попросту не заметила. Вероятно, Сивцовы вялили мясо впрок – чем-то же они питались все эти годы.
В сером утреннем свете Перова рассмотрела ухоженные огородные грядки и разрушенные остовы домов, окружавших жилище Сивцовых. Рядом с ними громоздились почерневшие от времени разрубленные бревна, и Перова предположила, что отшельники разбирали ветхие дома староверов на дрова, а сами обитали в избе или же во втором доме на краю поляны – это были единственные целые постройки во всем поселении.
Перова постояла еще немного у входа в сарай, не решаясь двинуться дальше. Из избы Сивцовых доносился приглушенный лязг посуды и взволнованные голоса Ульяны и Зои – они явно возились на кухне. Стук топора раздавался с той стороны дома, где располагалась дровница, и Перова предположила, что если она обогнет избу с противоположной стены, то сможет неприметно проскользнуть на поляну, а оттуда рукой подать до второго дома. Оставалось надеяться, что Петр настолько увлечен рубкой дров, что не заметит ее вылазки.
Обогнув избу, Перова оказалась на просторной поляне. Именно здесь ночью Сивцовы проводили свой дикий обряд, и Перова, подбираясь ближе к домику на краю заимки, заметила возле него круг стоптанной травы с черной подпалиной посередине – пепелище от костра. Рядом находился обрубок толстого бревна со следами ударов от топора – колода, на которой Сивцовы что-то рубили. Деревянный срез темнел багрово-бурым, и Перова содрогнулась, когда поняла, что это была засохшая кровь.
Вблизи дом оказался древней, сложенной из потемневших бревен халупой. Казалось, малейшее дуновение ветерка могло ее разрушить, и было удивительно, как она продержалась столько лет.
Рассохшуюся дверь закрывала палка, продетая в ржавые петли. Перова поднялась на крыльцо и, повозившись с засовом, открыла скрипучую дверь.
В лицо пахнуло затхлым воздухом с примесью гнили, и Перова скривилась от вони. Закрыв дверь, она вступила в сени. В помещении царил полумрак – с ним не справился утренний свет, пробивавшийся сквозь единственное окошко. Перова включила фонарик и направилась в глубь дома, куда из сеней вела массивная дверь. Когда она со скрипом открылась, у Перовой подкосились ноги.
В тусклом свете, лившемся из грязных окон, на лавке возле печи восседала фигура в темном платье. В первые секунды Перовой показалось, что это живой человек, но, всмотревшись, она поняла, что фигура не движется и ее веки, провалившиеся в пустые глазницы, плотно закрыты. Лицо, напоминавшее неотесанный камень, будто целиком состояло из выступов черепа, обтянутых буроватой кожей. Голову покрывали черные волосы, аккуратно убранные в пучок на затылке. Ссохшиеся, потемневшие руки покоились на острых коленях. Платье из грубой ткани заканчивалось у тонких, желтоватых щиколоток, походивших на обглоданные кости. На дощатом полу у ног мумии лежали отрубленные головы – словно подношения к статуе жестокой богини. Сердце Перовой лихорадочно колотилось, и ей потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать увиденное.
Шесть мужских голов. Как и тело женщины, они были частично мумифицированы: кожа ссохлась, потемнела, лоснилась тусклым блеском на бугристых черепах с растрепанными волосами. Веки запали в провалы глазниц. Сомкнутые челюсти скалились сквозь бороды и усы, придавая гримасам зловещее выражение.
Перова шумно сглотнула, не в силах дышать: легкие будто сжались от потрясения. Она отвела взгляд от жуткой картины, пытаясь собраться с мыслями. Осмотрелась: напротив мумии стояли три лавки, у окна – массивный стол, у стены за печкой – старинный сервант, где вместо посуды виднелись корешки книг. В воздухе повис тяжелый запах гнили, пыли и дубленой кожи.
Увиденное больше всего напоминало мавзолей или часовню, где предметом поклонения служила жуткая мумия с жертвенными подношениями в виде отрубленных голов. Перова не сомневалась, что видит перед собой «матушку родимую» – мать Сивцовых. Но кому принадлежали мужские головы? И каким образом отшельникам удалось их мумифицировать? Навряд ли они обладали необходимыми знаниями и оборудованием. Перова вспомнила, как однажды читала о естественной мумификации – обычно она случалась за несколько месяцев в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Летом в доме наверняка было жарко, а вентиляция, скорее всего, осуществлялась через щели между старых бревен.
Осталось выяснить, что за книги лежали в серванте, и Перова, стараясь не смотреть на мумию, быстро подошла к нему, распахнула скрипучую дверцу и пробежалась взглядам по корешкам. К ее удивлению, это оказались научные труды различных авторов по астрофизике и радиоастрономии – неожиданный выбор чтения для отшельников, живущих вдали от мира. Одна из монографий, озаглавленная как «Радиосигналы из космоса. Опыт работы Новосибирского астрофизического центра», принадлежала перу Анны Сивцовой. Перова с изумлением поняла, что женщина, мумия которой сидела на лавке в двух метрах от нее, была ученой из Новосибирска.
Среди книг Перова заметила записную книжку с потрепанной обложкой. Раскрыв ее, она пролистала замусоленные страницы. Глаза выхватывали странные фразы, написанные беглым почерком:
«…радиосигнал, зафиксированный мною в секторе между созвездиями Рыб и Овна, представляет собой шум, напоминающий тихий стрекот…»
«…он не отпускает меня и не дает покоя. Стрекот преследует постоянно: день и ночь, каждую минуту. Буравит мозг. Иногда мне кажется, что он разговаривает со мной…»
«…у меня больше нет сомнений, что он разумен. Стрекот знает все обо мне, а я – о нем…»
«…его начали слышать Петя и Ульяна. Я больше не могу спать: стрекот все время в моей голове. Он угрожает мне. Если я расскажу о нем, он убьет детей…»
«…он знает, что я знаю о нем все. Все, что он хочет. Надо решаться, другого выхода нет: мы покинем Новосибирск как можно скорее. Найдем место, где стрекот нас не достанет…»
Стрекот… Именно его упоминали в своей ночной молитве Петр, Ульяна и Зоя. Перова пролистала блокнот дальше. Она была уверена, что держит в руках дневник Анны Сивцовой – «матушки родимой», мумии которой поклонялись ее дети. Как следовало из записей, датированных тысяча девятьсот девяностым годом, Анна Сивцова, сотрудница Новосибирского астрофизического центра, зафиксировала странный радиосигнал, исходивший из далеких глубин космоса. Стрекот, как описала его женщина, вмешивался в ее мысли и запрещал о себе рассказывать. Но Сивцова, не в силах терпеть его в голове, намеревалась рассказать о сигнале коллегам. И тогда стрекот начал ей угрожать: его услышали муж и дети Анны…
Перова читала дальше, погружаясь в ужас, захвативший семью Сивцовых. Записи, поначалу упорядоченные, к концу блокнота напоминали безудержный поток сознания обезумевшего человека: почерк стал неразборчивым, на полях появились математические формулы и странные рисунки со схематичным изображением созвездий.
Перова с трудом вчитывалась в хаотичные записи, как вдруг на ее плечо легла холодная рука. Резко обернувшись, она увидела перед собою Ульяну. Бледное, скорее даже серого оттенка лицо женщины исказилось от страха, а ее выпученные глаза, казалось, стали еще больше от сквозившего в них отчаяния. Перова удивилась, как бесшумно Сивцова проникла в дом.
– Нельзя! – сдавленно выпалила Ульяна. – Уходите!
Потом она выхватила из рук Перовой дневник и, положив его в сервант, захлопнула дверцу. На ее нервном лице читалось желание в чем-то признаться, но страх женщины был настолько силен, что она в отчаянии закусила губу и отвела взгляд. Перова осторожно дотронулась ладонью до руки Сивцовой – ее била мелкая дрожь – и мягко сказала:
– Ульяна, послушай, мы пришли сюда, чтобы помочь. Мы не причиним вам вреда. Кому-то из вас требуется помощь.
Губы Ульяны затряслись, и по щеке скользнула слеза. Неожиданная догадка поразила Перову:
– Ведь это ты написала послание на берегу, да? – она заглянула в глаза Ульяны, но та пугливо отвела взгляд. – Расскажи мне обо всем. Не бойся.
Они расположились на лавке напротив мумии Анны Сивцовой. Перовой было не по себе при одном только взгляде на высохший труп с отрубленными головами у ног, но Ульяна, теребя в руках платок, смотрела на мертвую мать с тихим умиротворением на лице.
– Мне было семь лет, когда все случилось, – начала рассказ Ульяна, и Перова удивилась, насколько связной, пусть и отрывистой, оказалась ее речь, будто плотина страха и сомнений, что мешала ей говорить, наконец-то прорвалась и слова, копившиеся годами, хлынули мощным потоком. – Мы жили в большом городе. Матушка родимая, папа, я, Петр. Еще была Вера – старшая сестра. Обычная семья. Я плохо помню те времена. Училась в школе. А потом пришел стрекот.
– Его услышала ваша мама? – уточнила Перова.
Ульяна, глядя на мумию, едва заметно кивнула и тихо продолжила:
– Стрекот напал на матушку. Он преследовал ее, не давал покоя. Она разговаривала с ним, ругалась. – Слезы блеснули на глазах Ульяны, и она, опустив голову, промокнула их грязным платком. – А потом его начали слышать мы. Первым от стрекота умер папа. Я плохо его помню. Он был добрым, работал на заводе. Его смерть подкосила матушку родимую. Она носила маленького Мишу. Мы бежали из города. Стрекот преследовал нас. Мы переезжали с места на место. Но стрекот шел по пятам. Он вызывал болезни: головные боли, рвоту, тошноту, бессонницу. Вскоре он убил Веру, старшую сестру. Стрекот уничтожил ее, как и папу.
Ульяна замолчала, тихо всхлипнув. Перова, накрыв рукою ее ледяную ладонь, мягко спросила:
– Как они погибли?
– Страшно. – Ульяна подняла потемневшие глаза, и Перова содрогнулась от плескавшегося в них ужаса. – Мне снится, как они умерли.
– Как вы очутились здесь? – спросила Перова, когда стало понятно, что Ульяне больно вспоминать о смерти родственников.
– После смерти папы и Веры мы переезжали несколько раз. Разные деревни и села. Но стрекот везде находил нас. Однажды матушка родимая узнала про заброшенную заимку в тайге. Здесь мы были в безопасности – стрекот не мог до нас добраться. Матушка родила Мишу. А потом появились люди, и стрекот пришел вместе с ними.
– Что за люди? – спросила Перова, хотя ответ уже знала: взгляд ее невольно упал на отрубленные головы мужчин у ног мумии.
– У них были рации, – словно не услышав вопроса, продолжала Ульяна. – Стрекот перемещался с их помощью.
– С помощью раций? – удивилась Перова.
Ульяна кивнула:
– Матушка родимая раскрыла тайну стрекота. Он пришел с неба и поселился в приборах. Рации, телефоны, радио, телевизоры, провода – вот где он обитает. Все, что излучает волны, служит ему домом. И чем ближе приборы, тем опаснее стрекот.
Перова удивилась: прожив большую часть жизни в отрыве от цивилизации, Ульяна прекрасно помнила предметы обихода современного человека. Должно быть, события детских лет настолько потрясли отшельницу, что она по-прежнему могла без труда назвать вещи, которые в последний раз видела в семилетнем возрасте. Ее слова напоминали бред сумасшедшей, и Перова невольно поежилась, когда поняла масштаб безумия, охватившего семью отшельников. Вероятно, Анна Сивцова страдала серьезным психическим заболеванием, и ее дети, выросшие в изоляции от общества, принимали бредни матери за чистую монету. У них не было другой информации об устройстве мира.
Вопросы роились в голове, и Перова не знала, с какого начать. Кем были мужчины, головы которых лежали у ног мумии? Как они связаны со смертью Анны Сивцовой? Почему ее дети оставили труп матери в доме и теперь ему поклонялись? Чего боялась Ульяна, когда писала слово «помогите» на берегу?
Перова собиралась продолжить разговор, но ее оборвал крик со двора:
– Ульяна, ты где? – донесся громкий голос Петра.
Отшельница мгновенно встрепенулась, услышав брата: мышцы на ее лице свело судорогой, а глаза испуганно забегали по сторонам и, наконец, остановились на Перовой.
– Вам нужно уходить! – взволнованным шепотом выпалила она. – Петр и Миша скоро будут здесь!
– Но Комарин слишком слаб, чтобы идти… – попыталась возразить Перова, однако Ульяна резко перебила ее.
– Забудьте о нем! Он труп! – с лихорадочным блеском в глазах отрезала отшельница, и на ее тонких губах блеснули капли слюны. – Вам нужно уходить с Зоей!
– С Зоей? – изумилась Перова, и в следующий миг чудовищная догадка поразила ее. – Зоя – ваша дочь?
Ульяна стыдливо опустила взгляд, и Перова поняла, что попала точно в цель.
– Кто ее отец? – она приблизилась к отшельнице, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче.
Со двора раздался окрик Петра – он снова звал Ульяну, и та испуганно дернулась, обернувшись в сторону звука. Перова шумно выдохнула, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнотворный комок. Сомнений не оставалось: Петр, родной брат Ульяны, являлся отцом маленькой Зои.
– Во снах мне было видение от матушки родимой, – с жарким шепотом заговорила Ульяна, увидев потрясение на лице Перовой. – Она сказала, что стрекот все ближе. Он подбирается к нам по жилам.
– По жилам? – У Перовой закружилась голова: количество бреда, исторгаемого Ульяной, превышало все допустимые пределы.
– Жилы пройдут по котловине! Опутают ее! Дотянутся до нас! – Ульяна закивала головой, не сводя с Перовой выпученных глаз. – По жилам придет стрекот!
Перова решила, что Ульяна окончательно рехнулась, но внутри вдруг шевельнулось сомнение: что, если под «жилами» отшельница имела в виду волоконно-оптические кабели, которые через несколько месяцев проложат по котловине – как раз недалеко от заимки Сивцовых?
– Стрекот доберется до нас! – возбужденно продолжала Ульяна. – Себя мне не жалко, стрекот все равно меня убьет. Но Зоя… Она еще совсем маленькая. Вы должны ее спасти!
Перова опешила от напора Ульяны: казалось, еще чуть-чуть, и отшельница в исступлении заломит руки и кинется в ноги геодезисту.
– Стрекот не оставит нас в покое! – тараторила Ульяна, и Перова с трудом разбирала ее невнятную речь. – Но я придумала, как его обмануть. Он не знает про Зою! Она родилась здесь, в котловине, когда стрекот нас не слышал. Рано или поздно он доберется до меня, Петра и Миши, но Зою еще можно спасти! Пару дней назад я увидела маленький вертолет. – Ульяна подняла палец вверх, и Перова догадалась, что она имеет в виду квадрокоптер геодезистов. – Он несколько раз летал над лесом. Я поняла, что люди близко.
– Поэтому вы написали призыв о помощи? Чтобы привлечь наше внимание?
– Вы должны увести Зою! – Ульяна, вцепившись холодными руками в ладони Перовой, вперилась в нее взглядом. – Пока стрекот не добрался до нас!
– Ульяна, но почему вы не можете уйти с Зоей сами?
Отшельница сникла и отпустила руки Перовой.
– Петр не даст, – глухо обронила она. – Он хочет провести обряд. Брат считает, что так мы сможем отвратить стрекот. Раньше это помогало.
Дыхание перехватило, и сердце сжалось в ледяной ком. Перова резко поднялась с лавки и пристально посмотрела на отшельницу.
– Что за обряд?
Ульяна перевела взгляд на отрубленные головы у ног мумии, и Перова без слов поняла ее ответ. В голове словно работал отбойный молоток, гремевший одной-единственной мыслью: Сивцовы собираются принести геодезистов в жертву своей матери!
Перова выскочила из дома, не обращая внимания на взволнованный оклик Ульяны. Она стремглав пересекла пустующую поляну, обогнула избу Сивцовых и влетела в сарай.
– Сергей, быстрее вставай! – бросила она Комарину, который с выражением нестерпимой боли на лице распластался на сундуке. – У нас нет времени, надо срочно уходить!
Комарин приподнялся на локте, удивленно моргая.
– Что случилось? – просипел он.
– Объясню по пути!
Перова кинулась в угол с горой хлама. Покопавшись там, выудила старую швабру и протянула ее Комарину.
– Держи! Вместо костыля!
Она помогла Комарину спуститься с сундука, стараясь не обращать внимания на его болезненные стоны и распухшую голень. Одной рукой он оперся на швабру, а вторую положил на плечо Перовой.
– Нам главное добраться до реки, – прошептала она, потянув Комарина к выходу. – Буров наверняка уже вызвал спасателей.
Когда они вышли из сарая, в глаза Перовой ударил яркий свет, а плечо пронзила острая, раздирающая боль – в него с влажным хрустом вошла стрела. Перова покачнулась, сцепившись взглядом с Мишей, который стоял у кромки леса с луком в руках. Что-то закричал Комарин, но его слова исчезли на периферии сознания: в поле зрения возник Петр и, замахнувшись кулаком, резким ударом в голову вырубил Перову.
Тьма отступила, будто с головы сдернули душный мешок. Разлепив веки, сквозь пелену перед глазами Перова увидела перед собой лицо Бурова. На нем плясали янтарные отсветы огня – где-то рядом потрескивал костер.
– Костя… – прошептала она.
Перова лежала на правом боку на стылой земле и не могла пошевелиться – должно быть, мышцы затекли от неподвижности: неизвестно сколько она пробыла без сознания. Левое плечо нестерпимо жгло и ныло, голова пульсировала тупой болью в области лба.
Буров молчал, и Перова снова тихо его позвала. Когда зрение сфокусировалось, она разглядела гримасу чудовищной боли, исказившую лицо старого друга. На его раскрытых в агонии губах запеклась кровь, ее потеки виднелись на бороде. Дыхание перехватило: голова Бурова, лежавшая на боку, заканчивалась пустотой – она была отрублена.
Дрожь сотрясла Перову, слезы брызнули из глаз. Потрясение вернуло тело к жизни, и она смогла немного пошевелиться. Лодыжки и руки, заведенные за спину, были плотно связаны веревками; плечо горело от боли – из него по-прежнему торчала стрела. Ублюдки Сивцовы даже не удосужились ее вынуть и перевязать рану. Впрочем, зачем им это делать, если они все равно собирались убить геодезистов?
Перова осмотрела доступное взгляду пространство, стараясь не останавливаться на голове Бурова, и обнаружила чуть поодаль от себя Комарина: связанный по рукам и ногам, он лежал на земле возле большого костра, вздымавшегося к багровому, словно в потеках крови, небу. Закатное солнце скрылось за лесом, и на поляну между избой Сивцовых и домом, где хранилась мумия их матери, падали длинные тени от деревьев.
– Сережа, – шепотом позвала Перова. – Сережа, ты слышишь меня?
Комарин что-то промычал в ответ. В отсветах костра на его лице темнели бурые ушибы и влажно блестели свежие ссадины; кровь струйками сочилась из разбитого носа и расквашенных губ. Похоже, он сопротивлялся до последнего, но Петр и Миша – Перова не сомневалась, что это были они – жестоко его избили. Она закрыла глаза, стараясь сдержать душившие слезы. Чувство вины жгло сердце сильнее, чем застрявшая в плече стрела: необдуманная вылазка в таежную глушь на сомнительный призыв о помощи привела к страшной смерти Бурова, и совсем скоро подобная участь ждала их с Комариным.
– Сережа, все будет хорошо, – дрожащим голосом проговорила Перова, хотя сама не верила в то, что говорит. – Мы выберемся отсюда. Ты только держись.
Сбоку послышалось шуршание ног по траве, а затем перед лицом возник Петр, который присел возле Перовой. Когда он заговорил, женщину обдало сладковатой вонью изо рта.
– Очнулась? Мы как раз начали.
Он выпрямился и, схватив Перову за плечи – она вскрикнула от боли в ране, – поставил ее на колени перед костром. В глазах поплыло, но Перова различила Ульяну и Зою, с отстраненным видом сидевших на лавке за жарким полотном костра. Миша подошел к Комарину и, не обращая внимания на крики боли, потащил геодезиста к колоде с воткнутым в нее топором. Внутри у Перовой все сжалось, и липкий страх окутал тело.
– Пожалуйста, не надо. – Из глотки вырвался жалобный всхлип, но Сивцовы его будто не услышали.
Миша бросил Комарина возле колоды и отступил в сторону, когда подошедший Петр вытащил топор из толстого обрубка бревна с потеками свежей крови – на нем отрубили голову Бурову, туловище которого с двумя стрелами в спине лежало чуть поодаль от костра. Должно быть, Миша убил его в лагере и притащил на поляну для обряда жертвоприношения.
Перова отвела глаза, не в силах смотреть на обезглавленное тело Бурова, – и наткнулась взглядом на мумию Анны Сивцовой. Труп женщины, украшенный дешевыми бусами и венком на голове, восседал на стуле слева от костра, на самом краю поля зрения – вот почему Перова не сразу его заметила.
Миша подобрал с земли отрубленную голову Бурова и возложил ее у ног матери.
– Матушка родимая, нас защити, – хором проговорили Сивцовы, и Перова содрогнулась от жуткого осознания: подобный обряд они проводили уже не раз.
Словно подтверждая ее мысли, заговорил Петр:
– Когда мы перебрались с матушкой в тайгу, первое время все было хорошо. – С топором в руке он подошел к телу Бурова и оттащил его в сторону. – Стрекот не мог нас найти. Матушка родила Мишу. Мы жили в безопасности. Но потом появились люди. Охотники.
Перова вспомнила отрубленные головы бородатых мужчин. Петр, вернувшись к костру, продолжал:
– Двое охотников. У них была рация. А вместе с рацией пришел стрекот. Он был в ярости, ведь мы его обхитрили. Когда охотники включили рацию, стрекот напал на матушку. Она умерла.
– И в отместку вы убили охотников? – тихо спросила Перова. На нее вдруг навалилось парализующее безразличие: происходящее напоминало чудовищный кошмар, и ей хотелось, чтобы он поскорее закончился.
– Мы принесли их в жертву, – оскалился Петр, будто слова Перовой о мести оскорбили его. – Разбили рацию. И стрекот ушел.
– Но он появился снова! – Ульяна вскочила со скамьи, с вызовом глядя на брата. – Твоего обряда надолго не хватает!
Петр с ухмылкой выдержал взгляд Ульяны, и та, виновато опустив голову, села на место. Зоя, испуганно хлопая глазами, прижалась к ней. Похоже, девочке не впервые приходилось видеть ссору отца и матери.
– Обряд помогал раньше – поможет и сейчас. – Петр, уставившись на Ульяну, хищно облизнулся: алый язык скользнул по узким губам. – Когда я убил охотников, стрекот оставил нас в покое. Но из-за тебя он снова чуть нас не нашел! Зачем ты написала слово на берегу?!
– Я хотела спасти Зою! – с отчаяньем выкрикнула Ульяна, прижав к себе дочь. – Стрекот все равно до нас доберется, матушка сказала об этом во сне! И твои обряды больше не помогут.
Пока Петр и Ульяна выясняли отношения, Перова судорожно соображала, как выбраться из плена сумасшедших фанатиков. Ее руки и ноги связаны, рана на плече кровоточит – далеко ей не убежать, не говоря уже о том, что она просто не сможет бросить Комарина. Оставалось надеяться, что Буров успел вызвать спасателей из Вышегорска, и сейчас их вертолеты и дроны прочесывают лес. Каждая минута имела значение, поэтому Перова решила как можно дольше тянуть время, заваливая Сивцовых вопросами.
– Кем были другие люди, которых вы принесли в жертву матушке? – спросила она, когда Петр с едва скрываемым раздражением отвернулся от Ульяны.
– Еще двое охотников. – Он посмотрел на Перову, и та содрогнулась от холодной решимости в его глазах: ради своих убеждений он был готов убивать. – И двое зэков. Сбежали из колонии, бродили по тайге и нашли наш дом. У них не было рации, но они хотели нас убить. Но матушка родимая нас уберегла. В благодарность мы снова провели обряд.
Перова прикрыла глаза. Она хотела указать Петру на примитивность и нелогичность убеждений Сивцовых, но побоялась спровоцировать его гнев. У нее сложилось представление о безумии, охватившем семейство отшельников. Без матери и отца, оторванные от мира, Петр и Ульяна остались с маленьким Мишей на руках в заброшенной деревне. Они научились охотиться и защищать свой дом от диких зверей и непрошеных гостей. Повзрослев, Петр и Ульяна оказались не в силах противиться зову природы, и на свет появилась Зоя. Одинокие, испуганные и растерянные, Сивцовы придумали собственную веру, чтобы хоть как-то объяснить – и оправдать – сумасшествие матери, из-за которого они оказались изолированными от мира. Ее мумия стала их божеством, и, как любое божество, она требовала жертвоприношений.
– Почему вы не похоронили матушку? – собравшись с мыслями, спросила Перова.
– Мы были потрясены ее смертью. – Петр окинул взглядом родственников: Ульяна и Зоя, притихнув, сидели на лавке, Миша замер возле лежавшего у колоды Комарина. – Оставили ее тело в доме, а когда заглянули в него спустя несколько недель, то обнаружили матушку целой. Она словно говорила нам, что всегда будет с нами. И защитит нас от стрекота.
– Даже если стрекот существует… – начала Перова, но Петр ее резко оборвал:
– Стрекот существует! – гневно выпалил он. – Не смей сомневаться!
– Хорошо. – Перова покорно закивала, лишь бы не выводить Петра из себя. – Но почему он вас преследует? Почему убил вашу маму?
Петр скривился, словно вопрос Перовой показался ему настолько нелепым, что даже не требовал ответа.
– Потому что матушка раскрыла его секрет, – процедил он.
– Какой секрет?
Петр опасливо глянул на мумию матери, словно прося у нее разрешения открыться Перовой. Наконец он пришел к какому-то заключению и ответил:
– Стрекот – это враждебная форма жизни. Он обитает там. – Петр осторожно указал пальцем на темнеющее небо. – Передвигается среди звезд. Ищет пристанище. И если находит его, то рано или поздно уничтожает все живое.
– Об этом вам рассказала мама?
Петр кивнул:
– Она общалась со стрекотом. Он жил у нас дома – в радио и телефоне. И когда матушка поняла его намерения, то решила о них рассказать. Стрекот рассердился. Он хотел уничтожить всех людей, но матушка могла ему помешать. Поэтому стрекот сначала убил отца и сестру, а потом добрался до матушки.
Перова выдохнула, собираясь с духом: она больше не могла держать в себе то, что давно хотела сказать.
– Петр, – мягко начала она, – с того момента, как вы сбежали в тайгу, прошло уже двадцать восемь лет. Но мир по-прежнему живет своей жизнью – там, за лесом и за горами. Никакой стрекот его не уничтожил. Человечество не исчезло, и если ему что-то и угрожает, то явно не сигнал из космоса.
Гневная судорога исказила лицо Петра.
– Мы живы благодаря матушке родимой! – выкрикнул он. – Она нас защищает!
Петр схватил Комарина за волосы, рывком кинул его на колоду и, замахнувшись топором, мощным ударом отрубил голову. Все произошло так быстро, что Перова не успела осознать увиденное: мгновение назад перед ней стоял Петр, бубнивший свой бред, – и вот уже возле колоды лежит голова Комарина, а из его шеи хлещет кровь, заливая смятую траву. На лице Комарина застыло удивленно-испуганное выражение, будто он до самого конца не понимал, что случится дальше.
Миша расплылся в довольной улыбке и что-то тихо забормотал. Ульяна замерла на лавке с обреченным видом, словно происходящее подтверждало все ее опасения. Зоя спрятала лицо у груди матери; тело девочки сотрясала мелкая дрожь. Петр с окровавленным топором в руке приблизился к Перовой.
– Ублюдки! – закричала она и повалилась на землю. – Нет никакого стрекота! Вы просто больные ублюдки! Твари!
Перова трепыхалась, дергая руками и ногами в тщетных попытках освободиться от веревок. Из-за резких движений стрела с хрустом переломилась, и плечо взорвалось жгучей болью. Перова крутилась на земле, обезумев от страха, бессилия и ярости, раздиравших ее на части.
– Угомонись, – неожиданно мягко сказал Петр, подойдя к ней ближе. – Твоя смерть защитит нас от стрекота.
– Стрекота нет! – проорала Перова, захлебываясь в слюнях и слезах. – Очнитесь! Больные психи!
Петр, не обращая внимания на истерику Перовой, склонился над ней, намереваясь вцепиться в волосы или плечо, как вдруг замер и удивленно посмотрел на небо. Миша, Ульяна и Зоя последовали его примеру, и Перова, перестав вертеться на земле, подняла взгляд.
Над поляной, тихо жужжа, завис квадрокоптер – он был гораздо больше размером, чем дрон геодезистов, и под его брюхом чернел глазок видеокамеры. Беспилотник, словно заметив прикованное к нему внимание, опустился чуть ниже, и Перова с облегчением поняла, что где-то неподалеку им управляет оператор, который в режиме реального времени видит все то, что происходит на поляне. Значит, помощь совсем близко.
Миша взревел так громко и истошно, что Перова дернулась от неожиданности. Схватившись руками за голову, он повалился на землю и, хрипя, забился в конвульсиях.
– Стрекот! – в ужасе выкрикнул Петр. – Стрекот нас нашел!
Замахнувшись, он швырнул топор в квадрокоптер – и промазал. Дрон на мгновение взмыл выше, но потом снова опустился, облетая сборище у костра. Похоже, человек, им управлявший, не мог поверить собственным глазам: происходившее на поляне напоминало безумную пляску смерти.
Ульяна, упав на четвереньки, с животными хрипами ползала по земле, сотрясаемая чудовищными конвульсиями. Из ее ушей, носа и рта струйками стекала кровь, а выпученные глаза превратились в два пунцовых шара. Такое же лицо было у Миши: дергаясь в спазмах, он распластался на земле, разбрызгивая во все стороны кровь и слюни. Петр повалился на живот рядом с ним. Его била крупная дрожь, голова моталась в разные стороны, из горла вырывался сдавленный стон. Лишь только Зоя, замерев на лавке, в оцепенении наблюдала за тем, как один за другим умирают ее родственники. На лице девочки читался запредельный ужас, и на мгновение Перова почувствовала к ней жалость.
Ульяна, неловко загребая слабеющими руками, подползла к дочери. Казалось, что глаза отшельницы лопнули: покрасневшие, они сочились кровью, которая стекала по худым щекам; рот пузырился розовой пеной.
– Стрекот… – с трудом, словно горло раздирали осколки стекла, просипела Ульяна, слепо глядя на дочь. – Теперь он знает тебя. – Повернув голову к Перовой, она шепотом прохрипела, разбрызгивая кровь изо рта: – И тебя.
Всхлипнув в последний раз, Ульяна обмякла рядом с застывшими телами братьев. Дрон опустился ниже, облетая трупы Сивцовых и мумию их матери, безразличную к смерти детей. Потом он на несколько секунд завис над Перовой. Слезы вперемешку с грязью жгли глаза, мешали сфокусировать взгляд, но она знала, что спасатели ее видят. Скоро они будут здесь, и этот чудовищный кошмар закончится. Горько зарыдав, Перова нашла силы, чтобы кивнуть квадрокоптеру головой: я здесь, я жива.
Спустя три дня, находясь в палате Вышегорской районной больницы, Перова с трудом могла объяснить, что произошло в тот вечер на поляне позади избы Сивцовых: отшельники – все, кроме маленькой Зои, – умерли в необъяснимых муках, когда из-за леса появился квадрокоптер спасателей МЧС. Возможно, Сивцовы стали жертвой массового психоза или какого-то заболевания.
Именно так Перова сказала следователю, когда тот пришел побеседовать с ней, как только врачи разрешили посещения. Медики извлекли стрелу из плеча, обработали рану и наложили швы – к счастью, крупные сосуды и нервы не пострадали. Перову обещали выписать через несколько дней, и она не могла дождаться момента, когда улетит в родной Питер, – подальше от забытой Богом котловины, в которой она потеряла Бурова и Комарина. При воспоминании о мертвых друзьях у нее сжалось сердце, а на глаза навернулись слезы, но Перова сдержалась и, стараясь быть последовательной, рассказала следователю обо всем, что произошло. Тот внимательно ее слушал, изредка делая пометки в блокноте.
Когда Перова закончила, то на мгновение задумалась – мог ли вымышленный стрекот стать причиной внезапной смерти отшельников? Если верить записям в дневнике Анны Сивцовой и словам Ульяны, мифический сигнал из космоса, будучи пойманным на Земле, обитал в приборах с электромагнитным излучением. Квадрокоптер, подлетевший к поляне за избой Сивцовых, в режиме реального времени передавал видеосигнал по спутниковой связи, а это значит, что стрекот – если предположить, что он существует, – мог таким образом подобраться к отшельникам.
Перова содрогнулась от мысли о том, что сумасшедшие бредни Сивцовых могли оказаться правдой. Она вспомнила скептичную ухмылку следователя, когда передавала ему слова Ульяны и Петра о стрекоте, и устыдилась своих опасений. Сивцовы, Буров и Комарин были мертвы – и ничто теперь не имело значения, кроме одного:
– Как Зоя? – спросила Перова, когда следователь закончил писать в блокнот.
Она знала, что девочку определили в детдом, и собиралась ее повидать перед отъездом в Питер. Перова чувствовала себя навеки связанной с Зоей общей трагедией: девочка потеряла всех родственников, Перова – близких друзей. Они бы не умерли, если бы не отчаянная попытка Ульяны спасти дочь от несуществующей угрозы.
При упоминании Зои следователь вдруг помрачнел. Захлопнув блокнот, он сухо сказал:
– Она умерла. – Следователь поднялся со стула и, направившись к выходу, уже в дверях пояснил обомлевшей от шока Перовой: – Все эти дни она ни с кем не общалась, не подпускала к себе психологов. Сегодня утром ее нашли в комнате под кроватью. Похоже, она забилась туда от страха. Причина смерти выясняется.
Следователь кивнул на прощание и вышел, оставив Перову в ледяном потрясении от услышанного.
Уснуть она не могла, поэтому попросила у медсестры снотворное. За окном палаты горели звезды – далекие и равнодушные, они излучали смертельный свет в бескрайнюю черноту.
Мысли о случившемся не выходили у Перовой из головы. Она перевернулась на бок, зацепившись взглядом за старый радиоприемник, висевший на стене. Интересно, работал ли он?
Снотворное, растворяясь в крови, замедляло ход мыслей, превращая их в вязкую патоку. Засыпая, на краю сознания Перова уловила тихий шум – словно то был голос чего-то древнего, чужеродного и враждебного, доносившийся из темных глубин космоса.
Она услышала стрекот.
Юрий Лантан
Пустоты
Катя выпрыгнула из трамвая прямо в грязную снежную кашу. Следом шумно вывалился народ, кто-то толкнул в плечо, выругался неразборчиво. Хлопнули дверцы за спиной, и трамвай загрохотал дальше.
Очень быстро Катя осталась одна. Словно и не было только что всех этих людей в свете подслеповатого фонаря, померещились. Ночь слизнула.
В лицо ударил ветер, осыпая колючими снежинками. Ноутбук на лямке хлопнул по бедру, мол, не стой, замерзнешь. И Катя двинулась вдоль дороги туда, где к окраине города опухолью прирастал новый район.
Он был пугающе огромен и так же пугающе пуст. Не человеческий муравейник, а стройка до самого горизонта, где только-только начали сдавать в эксплуатацию первые дома. Здесь обещали все необходимое для комфортной жизни, игровые и детские площадки, школы и садики, больницы и супермаркеты, но пока зарождающаяся цивилизация соседствовала с полной разрухой. Мусор, бетонные блоки с торчащей арматурой, деревянные мостки на замерзшей грязи и костры за кривыми заборами. Отличное место для ценителей депрессии.
Высоченные дома подпирали ночное небо, и в их окнах отражался звездный свет. Чудилось, что внутри кипит жизнь, собираются на кухнях семьи, мерцают экраны телевизоров или елочные гирлянды. Но это была иллюзия, всего лишь имитация жизни, как и почти везде тут. Громадное пустое пространство не имело души.
Снять здесь жилье стоило недорого по сравнению с центром города и даже с обустроенными окраинами. Транспорт по району еще не ходил, магазинов было мало, шум, гам, постоянные ремонты вокруг – так себе перспективы для начала новой жизни. Но вопрос денег для Кати стоял остро, нужно было жертвовать комфортом ради банального выживания. Она рискнула и заселилась в квартирку-студию на двадцать квадратов.
Произошло это в конце лета, когда Катя окончательно разругалась с родными. Ей давно пора было покидать отчий дом – а точнее, дурдом, – все-таки на горизонте уже вырисовывалась страшная цифра «30». Но как-то не складывалось. Зато сейчас она в полной мере распробовала все прелести самостоятельного существования. Нелюбимая работа (до которой черт знает сколько добираться и которую теперь так просто не бросишь), второе высшее на вечерке и пустая квартира, где ужин сам себя не приготовит. Ах, да – кошки не было. Это немного утешало. Особенно когда тяжелые мысли преследовали каждый вечер по дороге домой.
Она торопливо прошагала от фонаря к фонарю по оледенелому подобию тротуара и нырнула в тень дворов. Вдалеке, над скелетами строительных кранов, показалась ее шестнадцатиэтажка. Через двести метров возник сетчатый забор – в нем кто-то проделал дыру, и прохожие постоянно ныряли через нее на стройку, чтобы срезать путь и выгадать пять – десять минут. По утрам в компании спешащих на работу людей Катя тоже так делала, но в одиночку не решалась. На стройке в вагончиках постоянно обитала так называемая дешевая рабочая сила в виде гостей из Азии, мало ли что им могло в голову взбрести.
На заборе висело грязное тряпье, и издалека было похоже, что это кто-то живой. Кто-то большой и неправильный: на ветру развевались многочисленные рукава и штанины, разбухало громадное брюхо, поблескивала оранжевая каска вместо лица. То ли смешной надувной человечек из рекламы, то ли идол неведомого строительного божества.
За забором у куч с песком высилась небольшая церковь. Деревянная, неказистая, похожая на избушку на курьих ножках, невесть как оказавшуюся среди каменного леса. Над крыльцом болтался фонарь, брызгая маслянистым светом в разные стороны. Возле церкви кто-то стоял.
Катя прошла мимо, не задерживаясь. Ей было неуютно, зябко и меньше всего хотелось обращать на себя внимание. В последнее время казалось, что кто-то идет следом. Не случайный прохожий или такой же припозднившийся бедолага, нет – эти кашляли, топали громко и своего присутствия не скрывали. Был кто-то еще. Катя чувствовала взгляд из темноты, мельком улавливала движение неподалеку, слышала шаги, которые тут же замолкали, стоило оглядеться.
Конечно, ночью даже самые обычные вещи выглядят по-другому и звуки воспринимаются иначе. Особенно когда тебя некому встретить. Но все же газовый баллончик Катя теперь носила в кармане, а не в сумке.
Пройдя несколько метров, она обернулась. В воздухе кружили снежинки, по земле взад-вперед каталась пластиковая бутылка. Ветер завывал в ушах, и на зов его откликались собаки в глубине стройки.
В тенях никто не прятался. Ну, или очень удачно прятался.
Катя выдохнула и прибавила шаг. Дома ждали плед, крепкий чай и последний кусок запеканки. Ради этого стоило поторапливаться.
Массивная металлическая дверь подъезда закрыла ее от ветра. В доме было тихо, шум создавали только гудящие на потолке лампы. Катя прошла мимо пустой комнатушки консьержа, вдавила кнопку пассажирского лифта. На экранчике пошел обратный отсчет: 10, 9, 8…
В шахте рядом ожил и пополз вниз грузовой лифт, хотя кнопка вызова не горела. Да и наверху не было характерного при посадке звука закрывающихся дверей. 7, 6, 5… Этот лифт словно увязался за младшим собратом, и теперь парочка должна была финишировать одновременно.
Слева послышался шум, и Катя обернулась. По лестнице спускался мужчина в армейском бушлате, а перед ним семенила собака… нет, не собака, а волк! Катя охнула и попятилась. Волк заметил ее, плавно спрыгнул со ступенек и двинулся навстречу.
– Стоять, Лаки, – сказал мужчина, в котором Катя узнала соседа со второго этажа. – Вечер добрый.
Они виделись несколько раз: механические «здравствуйте», «до свидания» на ходу, ничего особенного.
– Добрый, – робко ответила Катя.
За спиной отворились двери лифтов, стало светлее. Лаки насторожился.
– Вы не бойтесь, он не тронет. Если что, это не волк. Чехословацкая волчья собака, порода такая.
Волчья собака, услышав голос хозяина, гордо задрала острый нос. Но глаза ее внимательно изучали что-то за спиной Кати.
– Лаки, а ну пошли. Или ты меня выдернул на ночь глядя, чтобы с девушками красивыми в гляделки играть?
Лаки шагнул вперед, огибая Катю и подходя к грузовому лифту, раззявившему широкую пасть. Катя оглянулась на кабину, из которой на пол мягко падал свет. Внутренности лифта просматривались на две трети, часть оставалась, так сказать, за кадром. И по поведению собаки можно было решить, что кто-то притаился там, вне зоны видимости, ждет удобного момента, чтобы…
– Лаки!
Катя дернулась, а вот пес и ухом не повел. Он дождался, пока лифтовые двери сомкнутся, потом нехотя развернулся и побрел к хозяину, успев обменяться с Катей взглядами. Умные янтарные глазки в одно мгновение внушили ей какое-то потустороннее спокойствие. Лаки будто подал сигнал, мол, все в порядке, я проверил. Обращайся.
– Вы уж простите, если напугали.
– Да ничего.
– На самом деле Лаки хороший. – Сосед присел рядом с псом и потрепал того за холку. – Вредный, но хороший. Просто привыкнуть надо.
– То есть за бочок не ухватит? – спросила Катя, чувствуя, как потихоньку уходит страх. Как дикий лесной зверь превращается в мудрого Акелу из любимого мультика.
– Не должен. Хотя спать на краю я не рискую. Меня, кстати, Андрей зовут.
– Катя.
– Предлагаю сразу на «ты», чего официальщину разводить.
– Я только за.
Андрей был лет на десять старше Кати. Такой классический, чуть помятый русский мужик с большими кулачищами и добрым лицом.
– Ну и отлично. Наконец-то приятное знакомство, да, Лаки? А то ходят тут всякие.
– А Лаки, стало быть, Счастливчик?
– Не совсем. Это сокращение от Волколака.
Катя выгнула брови, и Андрей хохотнул.
– Мне его друзья привезли, они же и называли. Такое вот у них чувство юмора, что поделать.
Под внимательным взором Лаки они перебросились парой фраз, посмеялись над какой-то ерундой и распрощались. Обычный разговор двух малознакомых людей. Но по дороге на свой этаж Катя смотрела в зеркало лифта и улыбалась.
Когда она закрывала за собой входную дверь, в дальнем углу лестничной площадки загудело, прыснуло светом. Грузовой лифт. Катя заперлась на оба замка и прильнула к глазку. Здесь, на двенадцатом этаже, сдавалась только ее квартира. Другие стояли пустыми.
Чертов лифт сломался в первых числах ноября – теперь он был как бы сам по себе, произвольно поднимался и опускался, открывал двери в ожидании случайных пассажиров, а потом продолжал свое странное путешествие. Иногда в шахте грохотало так, будто там не новенький лифт, а доисторическая махина. От этого шума Катя постоянно просыпалась, ей казалось, что на этаж кто-то приехал, топает по коридору, скребется в дверь. Почему-то именно скребется… Лифт откровенно раздражал и не давал выспаться, но ремонтировать его, похоже, никто и не думал.
– Чтоб тебя совсем отключили, – сказала Катя, когда из кабины так никто и не вышел. Сказала негромко, чтобы снаружи не услышали. На всякий случай.
Заниматься делами не хотелось. Вообще ничем заниматься не хотелось, тем более что завтра будильник вновь поднимет в семь утра.
Катя наскоро перекусила, посмотрела очередную серию «Теории большого взрыва» и без сил рухнула на кровать.
Вместе с мокрым снегом к окну липла темнота. Белое крошево гипнотизировало, подталкивало в забытье. Катя медленно проваливалась в сон, уже не различая, что реально, а что нет.
Вдалеке ревела сирена и слышался волчий вой. В лабиринте высоток звонили колокола. В дверь осторожно стучали.
Тук-тук-тук, Пенни.
Под взглядом светящихся лампочек роутера, жутко похожих на умные янтарные глаза, Катя уснула.
Настроение который день было паршивое, потому что погода, работа, учеба – и никуда от этого не деться. Поначалу Катя еще держалась на энтузиазме, окунувшись с головой в занятия и в новую жизнь, но с наступлением зимы соскользнула в состояние, которое нормальные люди называют депрессией, а ненормальные – повседневностью. Каждый новый день казался калькой прошедшего: Катя просыпалась, когда было темно, ехала на работу, потом отправлялась на пары и возвращалась домой, вымотанная до предела, в той же зимней темноте. При таком графике даже выходные не особо радовали, потому что на горизонте всегда маячило серое завтра.
А еще эта церковь…
Из окон Катиной квартиры был виден скос ее деревянной крыши и прямоугольная башенка. Казалось, что в этой башенке постоянно кто-то стоит, будто неведомый служитель церкви осматривает окрестности и подмечает новых прихожан.
Окна не спасали от перезвона колоколов. Катя слышала его по ночам или рано утром, просыпалась раньше будильника и уже не могла заснуть. В Интернете нашлась информация, что церковь в общем-то не должна бить в колокола каждый день. По субботам или по праздникам – другое дело. Но у местных служителей (или как их вообще называть?) было свое мнение.
Впрочем, Катя понимала, что не будь она такая уставшая и раздражительная, ей было бы наплевать и на лифт с церковью, и на другие мелкие неудобства. Этот период нужно просто пережить. Сдать сессию, справиться с новогодней кутерьмой на работе, и тогда можно будет выспаться и побездельничать. Но пока приходилось терпеть, стиснув зубы, и верить в лучшее.
Она выпрыгнула из трамвая в метель, и холодный ветер неприятно облизнул лицо. День сурка, не иначе. Ночь, улица, фонарь, но без аптеки, а с тротуаром, который огибал «хрущевки» и вел Катю к району новостроек.
Редкие прохожие растворились в темноте и завихрениях снега. Звуки сделались глухими и далекими, был слышен только свист ветра. Слева мелькали пятнышки фар проезжающих автомобилей, но дорога вскоре скрылась за домами.
Где-то залаяла собака, а потом вдруг взвился сквозь ветер протяжный животный вой. Катя вздрогнула, отвлекшись от мыслей, завертела головой, осматриваясь. За забором слева поднимался бетонный каркас, облепленный кранами и строительными лесами. Справа рыли котлован, огородившись сеткой-рабицей. Густой снег мельтешил в свете фонарей.
Вой оборвался так же резко, как и начался. Почудилось, что сзади кто-то есть – Катя обернулась, запуская руку в карман и нащупывая газовый баллончик. Видимость была паршивой, снег растворялся в черноте через полтора-два метра. В проволоке на заборе трепыхалась старая спецовка. Катя вглядывалась в ночь несколько секунд, засекла движение – в свет фонаря выбежал бродячий костлявый пес, просеменил мимо, не обратив на Катю внимания, и исчез.
Снова раздался вой, и Катя ускорила шаг. Под ногами намело, в снегу виднелись цепочки собачьих следов. За распахнутыми настежь воротами мелькнула церквушка – Катя бросила на нее взгляд и остановилась от удивления: у церквушки собрались собаки. Штук десять или даже больше. Они сидели вокруг крыльца, задрав морды, и смотрели на дверь. Из окон лился мягкий красноватый свет. Дверь отворилась, и в метель на крыльцо вышел человек с ведром. Темный силуэт явно был мужским – высокий, плечистый. Собаки оживились, принялись вертеть хвостами. Кто-то взвыл, а в следующую секунду взвыли все собаки разом. Кате показалось, что человек на крыльце тоже взвыл, задрав голову к черному беззвездному небу. Это все напоминало какой-то сумасшедший ритуал.
Незнакомец высыпал содержимое ведра в снег. Вой затих, собаки бросились к угощению. Сквозь шум ветра сложно было что-то услышать, но Катино воображение живо подбросило звуки рвущейся плоти, хруст костей, яростное рычание. Она смотрела на кружащих в метели собак, словно завороженная. Сама не заметила, как сделала несколько шагов вглубь, за забор…
Показалось, что мир вокруг стал другим. Исчезли многоэтажки, строительные краны, провода. Ломая асфальт, проросли деревья – разлапистые заснеженные ели, сухие широкие стволы сосен… и церквушка стояла среди них, будто всегда тут и находилась. Катя разглядела разрушенную башню, кресты на двери… и одежду на почерневших стенах. Ее прибили гвоздями – старомодные платья, рубахи, детские костюмчики, военную форму. Вся одежда была в крови. Снег аккуратно ложился сверху и тут же таял. А за открытой дверью церквушки проступали контуры чего-то бесформенного, расплывчатого. Не человека, но и не животного. В темноте, разглядывая Катю, блестели глаза.
В кармане пиликнул телефон, и морок развеялся. Но церковь существовала и в реальности.
Катя попятилась. Человек, который кормил собак, спустился с крыльца и шагнул в ее сторону. Двигался он как-то странно – огибая пятно фонарного света по широкой дуге. Руки его были раскинуты в стороны, длинные рукава болтались на ветру, как у того старого шмотья.
В следующую секунду, ни о чем не думая, Катя бросилась бежать. Если существовал инстинкт самосохранения, то вот именно сейчас он и сработал. Ветер ударил в спину, подталкивая. Снова раздался вой, быстро оборвавшийся. Пробегая под фонарем, Катя увидела тень, стремительно выросшую из-за спины, – нереально длинные руки, растопыренные пальцы, огромная гипертрофированная голова. Показалось, что эти самые пальцы дернули за капюшон, потянули, и Катя завопила. Она развернулась, вытянула вперед руку с баллончиком, выпустила шипящую струю газа.
Рядом никого не было. Темный силуэт стоял на грани видимости, метрах в трех от фонаря, около забора из стальных листов. Лица человека Катя не видела, а видела только, что руки он убрал в карманы куртки, будто никуда не торопился. Выжидал.
Катя, не сводя с него глаз, сделала несколько шагов назад и вдруг услышала из-за спины встревоженное:
– Привет. Ты чего?
Голос был знакомый. Что-то коснулось Катиной ноги. Собачья голова. Лаки. Рядом возник смущенный Андрей.
– Заблудилась или призрака увидела? – спросил он. – Все нормально?
– Я… – Катя запнулась, ощущая, что слова забились в горле. Бросила взгляд на забор и обнаружила, что человека там больше нет. Только снег и ветер. – Кажется, за мной кто-то гнался.
Лаки у ее ноги смотрел в темноту, навострив уши.
– Гнался? – переспросил Андрей. – Черт, опасно одной ходить в такую погоду ночью, не находишь? Тут же бухариков разных, бомжей, как грязи. Я с псом-то осторожничаю, а ты прямо отчаянная.
Катя пожала плечами.
– Привыкла как-то… Ты вой не слышал?
– Что за вой?
– Собачий. Там возле церкви какой-то мужик собак к себе подозвал и стал их кормить. А они выли.
Андрей пожевал губами, сделавшись вдруг серьезным. Он смотрел туда же, куда и пес.
– Вой не слышал, но Лаки давно чует что-то. Неспокойно ему здесь. Пойдем, чего на морозе стоять. Если не против, приглашаю в гости. Выпьем чаю с козинаками и поговорим нормально. Идет?
Катя уже и не помнила, когда была в гостях. Тем более у мужчины. Впрочем, сейчас об этом она думала меньше всего. Ей снова показалось, что издалека доносится вой. Будто из неведомого леса, где обитает что-то…
– Пойдем, – быстро сказала она.
Андрей свистнул, и Лаки неторопливо затрусил сквозь метель в сторону дома, показывая путь.
Кухня Андрея была попросторнее, чем Катин закуток с плитой. По крайней мере пара человек с собакой умещались тут без труда. Около батареи стояли две большие миски, в углу урчал холодильник. Катя разглядела несколько магнитиков: Южно-Сахалинск, Биробиджан, Владивосток. На стене мерно тикали часы, в которых часть цифр заменяли погоны со звездами. В приоткрытую форточку задувал ветер.
Андрей собирал на стол, а Катя потихоньку оттаивала и приходила в себя. По телу все еще разливалась дрожь, и непонятно было, от холода или страха. Всю дорогу до дома Катя сбивчиво рассказывала о своих полуночных злоключениях, об увиденном или причудившемся, вспомнила странный сон и видение – не менее странное и пугающее. Андрей слушал внимательно, изредка переспрашивая и оглядываясь на пустую улицу, где ворочались тени.
Лаки похлебал воды и сел у стола. Пропускать разговор он не собирался. Андрей поставил перед Катей кружку с ароматным чаем, налил и себе.
– Так, вафли, печеньки, конфеты, все такое. – Он неопределенно махнул рукой над столом. – В общем, угощайся.
Катя отломила кусочек козинака и отправила его в рот. Есть хотелось страшно, ведь последний раз она перекусывала еще на работе.
– А мужик тот точно из церкви вышел? Может, просто бродяга какой рядом лазил?
– Из церкви, из церкви. С ведром. Причем собаки его явно ждали.
Андрей сыпанул пару ложек сахара в чай и стал медленно его размешивать.
– Наверное, охранник-чудик какой-нибудь. Думаешь, на тебя глаз положил?
– Ага, именно глаз…
– Ничего больше не заметила необычного?
– А что?
Андрей замолчал и перевел взгляд на окно. Церковь была где-то там, в темноте. В повисшей тишине жующая Катя чувствовала себя немного неловко. Казалось, каждое движение челюстей выходит до невозможности громким, а урчание в животе слышно даже на улице.
– Да был у меня тут один моментик, – сказал наконец Андрей. – Недели полторы назад. Загулялись с Лаки по территории. Ну, знаешь, когда дома никто не ждет, остается две вещи: пить или гулять. А я непьющий, как назло. Стало быть, гуляем. Свернули на тропинку, тут недалеко, пошли вдоль забора. На севере через три километра пустырь, а за ним спуск к речушке. Я все думал туда прогуляться. Природа, все дела. Идем, значит, и тут Лаки встал, уши навострил и давай глухо рычать. Он так на живность разную реагирует. Белки, зайцы. Но какие на стройке зайцы? Я взгляд поднимаю и вижу нескольких собак. Тощие такие, голодные. Стоят на тропинке и не дают пройти. Я к ним шаг делаю – они зубы оскаливают, шерсть дыбом.
– Лаки бы их раскидал? – спросила Катя.
– Не знаю. Зачем рисковать? Мы свернули в проулок. Думал, обогнем. Прошли метров двадцать, а на перекрестке еще собаки. Перегородили дорогу так, что только в одну сторону можно двинуть. И тоже стоят, зубы скалят. Темнеть начинало, снег этот проклятый – в общем, проще было вернуться. Пошли мы по дороге назад, и тут эта церковь за забором. Ворота распахнуты, фонарь над крыльцом болтается, а у ворот люди стоят, человек десять. Смотрят на нас. Причем кое-кого я там знал. Один на шестом этаже живет, бухгалтер-очкарик, как-то просил помочь с машиной.
Катя кивнула. Она тоже его помнила, лысоватый такой.
– Еще та женщина была с десятого, которая уже успела соседей затопить. Лаки с ее мопсом подружился, – продолжал Андрей. – Никто из них как будто меня не узнал. Стояли и смотрели. Лаки начал на них рычать, но не по-боевому, а как-то испуганно. Хотел убраться подальше, как и я. Мы пошли мимо ворот, а женщина эта вдруг сказала: «Ты должен впустить боженьку». И тут мне сильно не по себе стало от всей этой чертовщины. Мы с Лаки рванули с места, как два гоночных болида. Я вообще-то не из пугливых, но пробрало до костей.
Он помолчал, потом взял кусок шоколадки, принялся жевать.
– Секта какая-то, – буркнула Катя. – Их сейчас много. Даже не разберешь, кому поклоняются. Макаронному монстру или саблезубому тигру.
В присутствии Андрея она успокоилась. Даже его рассказ не показался ей страшным. Он был необычным, но вполне себе рациональным.
– Главное, не соваться туда, – продолжила Катя. – И держаться подальше от женщин с мопсами. А то мало ли. Затащит в квартиру, ну и…
– Ага, глаз положит.
Они оба рассмеялись, и страх развеялся окончательно.
– Так а почему вы гуляете? Почему дома никто не ждет?
Андрей обвел кухню рукой:
– Холостяцкая жизнь только лет в двадцать интересна и насыщенна. В сорок она становится тихой и молчаливой. Почти у всех. Что тут делать-то одному?
– А зачем тогда переехал?
– Квартиру дали – вот и переехал. Я пятнадцать лет Родине отдал. Заработал, так сказать, на однушку на окраине. Дома у меня нормальная квартира была, но, знаешь, как это бывает, развод, дети… все лучшее детям и бывшей жене. Она к новому ухажеру, а я, стало быть, сюда.
Видимо, смутившись от столь частых откровений, Андрей отвлекся, заварил еще чаю.
– Ну а ты чего бродишь одна по ночам? Не надоело?
– Надоело, – честно призналась Катя и принялась рассказывать. О работе, учебе, родителях. О том, как собралась вырваться из обыденности жизни, а, получается, увязла еще крепче.
Они обменялись номерами, а потом еще долго-долго болтали. Раз за разом кипятился чайник, исчезали со стола вкусности, Лаки тоже угостили. За окном хозяйничала ночь, ревела вьюга, но здесь, на залитой светом кухне в компании Андрея и его пса, Катя чувствовала себя удивительно хорошо.
О церкви она вспомнила, только когда попала домой. Решила приоткрыть окно перед сном, запустить свежий воздух в квартиру. И тогда увидела огоньки. Они мелькали возле церкви, будто вокруг ходили люди с фонариками. Или со свечами.
Катя быстро разобрала постель, скинула одежду и нырнула под одеяло с головой, как маленькая девочка. Лишь бы не услышать, лишь бы не услышать…
Сон пришел скоро – вязкий, липкий, словно мед. Из такого не выбраться, как ни старайся.
Было холодно. Катя шагала по заснеженному городу, застревая в сугробах, а ее преследовал человек из церкви. Она видела его неправильную тень, видела, как та заполняет тротуары целиком. Впереди был слышен голос Андрея, он приближался. Сквозь метель вырисовывался знакомый силуэт, рядом бежал Лаки. Но откуда-то Катя знала, что на этот раз им не успеть.
Она проснулась от грохота. На лестничном пролете снова закрывались и открывались двери лифта.
Нащупала телефон, проверила время – половина четвертого утра. По зимним меркам – глубокая ночь. До рассвета еще ой как далеко.
БАМ!
Будто лифт ломился во входную дверь. Заболели виски, Катя легла на спину, понимая, что быстро заснуть не получится… если вообще получится.
БАМ!
Минут пять Катя напряженно вслушивалась в темноту, вздрагивая от очередного лязгающего удара. Потом поднялась и направилась к дверям. Что она собиралась сделать? Непонятно. Консьержа в доме никогда не было. Как обращаться с лифтами, Катя не знала. Почему-то подумалось, что должен быть номер телефона технического обслуживания (мы же в цивилизованной стране живем?). Можно будет позвонить, наорать на кого-нибудь, заставить приехать, пусть даже среди ночи.
БАМ!
Катя вышла в коридор, решительно направилась к лифтам, но застыла на месте, не веря своим глазам.
Вместо грузового лифта выпирала искореженная деревянная стенка церквушки. Крыльцо исчезало в бетонном полу. Косая деревянная дверца открывалась и резко захлопывалась, издавая тот самый лязгающий, мерзкий, отвратительный БАМ!
Церквушка как будто проросла здесь, на лестничном пролете, как трава пробивается сквозь бетонные плиты или асфальт.
Дверь распахнулась со скрипом и застыла, предоставляя Кате обзор. Она увидела сени с низким щербатым потолком, а сразу за сенями просторную и ярко освещенную комнату. В центре нее лежало что-то влажное, будто большой кусок глины с человеческий рост. Из куска этого торчали человеческие руки с согнутыми окровавленными пальцами. И ноги торчали тоже. Носы. Губы. Глаза. А еще там стояли люди и пялились на Катю. Ухмылялись. Манили к себе.
С крыльца закапала на пол вязкая темная кровь.
Люди внутри церквушки начали отрывать от бесформенного нечто куски, мять в руках, вылепливать какие-то причудливые фигурки.
Катя закричала так, что боль пронзила легкие.
…Видение ушло. Она поняла, что стоит перед грузовым лифтом в пижаме и тапочках, прижимая к груди ключи. Лифт распахнул дверцы, приглашая войти. Внутри тускло светилась лампочка.
Катя развернулась и побежала к квартире. За спиной раздался лязгающий, негромкий «бам». Лифт загудел, отправившись в неведомое ночное странствие.
– Где Новый год встречать собираешься? – спросил Андрей.
Они шли вдоль забора, огибая новостройки соседними улицами. В последнее время Катя не хотела идти через стройку, даже когда было светло. Никак она не могла забыть страшный сон, приснившийся неделю назад.
Андрей встречал Катю у трамвая и провожал до квартиры, иногда заходя на чашку чая. Лаки тоже всегда был рядом.
– Про Новый год не знаю, – ответила она. – Да и настроение пока ни разу не праздничное.
Катя поежилась. На волосах и ресницах оседали хлопья снега. Погода никак не желала определяться, надо ли запускать режим зимы на полную или можно еще подождать. С утра стоял минус, к обеду вдруг потеплело, и всюду начало капать и подтаивать. При этом мокрый снег валил так, будто решил перевыполнить месячную норму.
– Если планов нет, давай ко мне, – сказал Андрей. – Скромно проводим две тыщи семнадцатый куда подальше. В конце концов, не бросишь же ты меня одного в первый Новый год в чужом городе?
– На жалость давишь?
– Именно. Но вообще-то у меня много приемов.
– У тебя Лаки всегда рядом, какое одиночество?
– Мы с Лаки уже практически единое целое. И у нашего целого очень серьезный страх перед одиночеством, да. Обостряется как раз на праздники. Интересно, есть у него научное название? Типа социофобии, но наоборот.
– Наверняка есть. Психологи давно каждое отклонение как-нибудь обозвали. – Катя нервно хихикнула. Она представила, как приходит в кабинет психолога и сообщает, что у нее боязнь странных церквей, жутких маньяков и грохочущих лифтов. Ее сразу сдадут в дурдом или попробуют вылечить на месте?
Мимо спешили люди. С шумом промчался грузовик, разметав тяжелыми колесами коричневую ледяную жижу. Под козырьком магазина сидел лохматый старый пес и, кажется, провожал взглядом Андрея и Катю.
Ветер усилился, а вместе с ним закружился в бешеном танце снегопад – тяжелый, мокрый, то и дело переходящий в дождь. Лаки потихоньку становился похож на белого медведя.
Катя натянула капюшон едва ли не на глаза, укуталась в шарф, чтобы спрятаться от снега. При очередном порыве ветра непроизвольно схватила Андрея за руку, и он крепко сжал ее ладонь, повел сквозь намечающуюся пургу. Как-то сразу стало безлюдно, снег стер краски и обратил мир в серое. Через сотню метров из-за домов показался забор стройки, а над ним оранжевым прямоугольником высился кран. На открытом участке дороги ветер набросился на путников с особой злобой, взвыл, принялся дергать за одежду, швырять в лицо колючие капли. Погода будто с цепи сорвалась.
Андрей старался идти чуть впереди, чтобы оградить Катю от ветра. Лаки трусил сбоку, низко опустив голову. Вокруг совсем потускнело. Катя подняла взгляд к фонарю и увидела, что лампа обмотана тряпьем. Со следующим было то же самое.
Лаки замер. Зарычал, обнажив клыки, шерсть на загривке встала дыбом. На дороге показалось несколько псов, и Катя сильнее сжала руку Андрея.
– Чтоб тебя, – пробормотала она.
Сзади послышался лай, и Катя вздрогнула, оборачиваясь. Из дворов пятиэтажек выходили собаки. Пять или шесть диких псов, грязных, потрепанных, озлобленных.
Лаки крутанулся на месте, готовый броситься в бой. Собаки медленно окружали. Оскалившиеся, пригнувшие головы.
Андрей попятился к забору, увлекая за собой Катю.
– Что будем делать? – пробормотала Катя, осматриваясь.
– Бежать. Что же еще? Это как в прошлый раз, что я рассказывал, видишь?
Лаки рванул было вперед, звонко клацнув челюстями. Две щуплые на вид собаки бросились на него одновременно. Они как будто выросли в размерах. Одна тяжело ударила Лаки лапой в бок, вырывая клок шерсти, вторая ухватилась зубами за загривок. Лаки взвизгнул, вырвался, отскочил к ногам Андрея и зашелся хриплым лаем.
Псы застыли на расстоянии.
Андрей тихо выругался, скрестил руки таким образом, чтобы можно было использовать их в качестве ступеньки.
– Быстро, забирайся. Уходим через забор.
– Ты серьезно? А Лаки? Он как же?
– Он постоит за себя, не бойся. В крайнем случае драпать умеет не хуже своего хозяина.
Раздался протяжный нестройный вой, от которого по позвоночнику пробежал холодок. Катя больше не раздумывала, оперлась на подставленные руки, подтянулась, повисла на заборе. Перегнулась через него и чуть не упала спиной назад, но успела соскользнуть вниз. Она приземлилась на твердые комья земли, огляделась. Собак тут не было. Справа высились синие строительные вагончики, слева стоял кран. Всюду сверкали подмерзшие лужи.
Наверху показался Андрей, ловко перебрался через забор и спрыгнул. Мокрый снег облепил его волосы, ресницы и брови.
– Мне страшно, – пробормотала Катя очевидное.
– Это правильно. – Андрей потянул Катю за руку и торопливо зашагал по деревянным мосткам в обход строительного крана. – Страх способствует выживанию. Главное орудие эволюции, между прочим.
Снегопад усилился, и уже сложно было разобрать, что находится в паре метров впереди. Из размытой серости показался деревянный, грубо сбитый забор. В центре него трепыхалась на ветру строительная оранжевая куртка, прибитая гвоздями за шиворот. Чуть дальше была распята еще одна.
Андрей дернул Катю в сторону от забора, они побежали по заснеженной тропинке. Из сугробов торчали пучки связанных арматур, высились холмы песка, укрытые брезентом стопки кирпичей. Тропинка заводила в самый центр стройки.
– Если это секта, то надо полицию вызвать, – предположила Катя. – Пусть разбираются. Наплодили собак бездомных…
– Что-то мне подсказывает, что лучше надеяться на себя, а не на полицию, – ответил Андрей.
Он споткнулся и чуть не упал. Посмотрел вниз: на снегу лежал большой резиновый сапог со следами зубов. Катя пнула его в темноту, словно этим можно было избавиться от проблемы.
Ветер снова взвыл – звук этот распался на несколько отдельных. Выли сзади, спереди, вокруг. Андрей остановился. Плечи, голова, руки были густо покрыты снегом. Катя тоже остановилась, разглядев в десяти шагах впереди то самое зданьице – то ли церквушку, то ли домик с башенкой, то ли еще что, непонятное. Ясно было только, что здание это опасное и страшное, выросшее посреди стройки, как гриб-поганка.
– Главное, не заходи внутрь, – проговорил Андрей, увлекая Катю назад, в снежное марево. Подальше от окон, в которых плясали красные огоньки. – Что бы ни случилось.
– Да что это за место? Как… – Голос Кати дрогнул, она прикусила губу, всхлипнула.
Андрей обнял ее за плечи, заглянул прямо в глаза.
– Я тебя в обиду не дам. Поняла? Даже несмотря на то, что пришлось раньше времени раскрыть мои планы насчет Нового года.
Катя издала нервный смешок.
– Дурак.
– Еще какой.
Они побежали дальше. Больше всего Катя боялась, что случайно выпустит руку Андрея и останется одна в этом белесом аду с блуждающими тенями и звуками. Под ногами хрустели льдинки, строительный мусор. Снег заполнял все свободное пространство – Катя с Андреем будто пробивались сквозь рой насекомых. Но в конце концов они нашли дорогу. Ту, которую для них приготовили.
– Не убежать, – пробормотал Андрей.
Казалось, снег огибает церковь, не задевая ее стен с прибитой одеждой, крыши и стоящего на крыльце человека. На нем была куртка с большим капюшоном, который скрывал лицо. Рядом с незнакомцем сидело два пса, еще двое крутились у двери. Самый крупный стоял на земле, расставив лапы и опустив голову. Он не сводил взгляда с Андрея и Кати.
– Устали с дороги, путники. Многие ходят, да не многие находят, – произнес человек громко, чудным образом перекрикивая ветер. – Не хотите зайти, раздеться, погреться?
– Нет, спасибо, – мрачно буркнул Андрей. Катя сжала его ладонь. Ей хотелось бежать без оглядки, в пургу, куда угодно. Но она знала, что все равно вернется сюда. Каким-то невероятным образом.
– Не отказывайтесь. Не положено так. Без подношений пришли, вас все равно приглашают, а вы? – Человек сделал шаг в их сторону, синхронно сдвинулись и псы.
– Вы кто такой? – спросила Катя. – Откуда взялись?
– О, я человек маленький. Поступки мои мелкие. Но, как и все, под боженькой хожу. Да вы не стойте, проходите к жилью.
За его спиной медленно отворилась дверь, и изнутри дыхнуло теплом. Наверное, там действительно было хорошо. Уютно и спокойно. Можно зайти, сбросить одежды, повесить их на большие гвозди с широкими шляпками, что вбиты прямо в деревянные стены…
Катя шагнула к церквушке, к открытой дверце. Человек выдернул руки из карманов куртки, обнажив длинные болтающиеся рукава, в которых не было видно кистей, распахнул объятья. Ветер вытащил из-под капюшона седые, чудовищно длинные волосы, стал трепать их и рвать. Человек походил на чучело из какого-то мультфильма…
– У меня нюх на таких, как вы, – продолжал он. – Мы с моими друзьями давно вас унюхали… Чистых, красивых, здоровых. Как раз для боженьки. Он от своего тела отнимет и вам передаст. Заполнить. А?
Андрей резко дернул Катю, останавливая, и в тот же миг на него прыгнул большой пес. На руке сомкнулись челюсти, затрещала одежда. Андрей завалился на снег и закричал.
– Боженька заполнит ваши пустоты, – сказал человек из церкви. – Или заполнит вашим мясом животы своих прихожан.
На Катю медленно двинулись остальные собаки, но тут что-то выскочило из-за ее спины. Что-то большое и ловкое, рыча, метнулось вперед, прыгнуло и сильнейшим ударом подмяло под себя ближайшего пса.
– Лаки! – завопил Андрей. – Порви этих тварей!
С Кати будто стряхнули оцепенение. В ушах стучало, сердце норовило выскочить из груди. Катя шагнула вперед и врезала каблуком по ребрам псу, который напал на Андрея. К ней поднялась оскаленная пасть, сверкнули яростью глаза, и Катя, вытащив из кармана баллончик, окатила зверюгу струей газа.
Пес заскулил и отбежал в темноту. Андрей отполз на пару метров, встал на колено, но на него налетела еще одна собака. Он успел подставить руку, взвыл от боли, когда в мясо вошли зубы, но смог стянуть куртку и обмотать ее вокруг головы пса. Тут же подоспел Лаки, с остервенением вдавливая соперника в снег. Полетели клочки шерсти, брызнула кровь.
Катя подбежала к Андрею, помогла подняться. Тощие дворняги явно не ждали такого отпора, а потому отступали. Лаки собирался кинуться следом, но Андрей осадил его.
– Хорошая собачка, – напомнил о себе человек из церкви. – Из наших, не чета этим.
Он стал приближаться, быстро вырастая в размерах, хрипя и изламываясь на ходу. Катя увидела нечто нечеловеческое; дикий, страшный, неописуемый облик. Длинные и пустые рукава беспорядочно хлопали на ветру.
Андрей выхватил из рук Кати баллончик. Быстрыми отработанными движениями достал из кармана джинсов зажигалку, вызволил пламя и пустил струю газа, превращая баллончик в огнемет. Вспыхнуло, на куртку твари метнулась волна пламени, занялись седые космы. Объятое огнем существо завыло, шагнуло вперед, растопырило руки… и рассыпалось, прежде чем успело накрыть Катю с Андреем.
Оно прогорело за какие-то секунды, точно сухая солома. В воздухе вместе со снегом кружили хлопья пепла. Белизна под ногами превращалась в черноту. Жар, метнувшийся было к лицу, развеялся, уступив место колючему холоду.
– П-получилось? – сказала Катя, с трудом разлепив губы.
– Не уверен, – ответил Андрей, показывая на башенку, в темном окне которой шевелилось что-то большое, нескладное, словно ищущее форму. – Уходим. Лаки!
Погода больше не играла с ними, все вернулось на круги своя. Они проскочили по тропинке за церковью, миновали детские коляски, стараясь не смотреть, не заглядывать внутрь. Наконец вышли во дворы, к тротуарам, домам и цивилизации.
Тут их и ждали. Люди со свечами. Соседи, знакомые и незнакомые. С пустым взглядом, заполненные боженькой до отказа. Они молчаливо шагали навстречу, отрезая путь и сужая кольцо.
Катя с Андреем ввалились в подъезд, Лаки тут же отряхнулся. Он был сильно ранен, но казалось, что любая передряга ему нипочем.
– Вы куда? – раздалось с лестницы. Там стояла дородная тетка в свитере, Катя встречала ее тут раньше. Но сейчас руки и лицо соседки были в кровавых разводах. – Ходили в церковь? Вам все объяснили?
На ступеньках стали появляться другие люди. В куртках, в домашней одежде, совсем голые. Некоторые были со свечами.
Деваться было некуда. Двери подъезда распахнулись, впуская мутный свет свечей, по стенам запрыгали тени.
– Вызывай лифт, – тихо сказал Андрей, выходя с Лаки чуть вперед, и Катя тут же вдавила обе кнопки.
Люди на лестнице застыли истуканами, таращились вниз, и от этих безумных взглядов Кате было даже страшнее, чем рядом с чудищем у церкви.
Дородная тетка наконец изрекла:
– Они не впустили.
И люди двинулись к ним. Катя нажала на кнопки еще раз, потом еще и еще, будто от этого лифты поедут быстрее. Грузовой натужно спускался с четвертого, третьего, второго… Раздвинулись двери, Катя с Андреем нырнули в кабину. Одновременно нажали на кнопку двенадцатого этажа.
– Лаки, живо!
Пес успел заскочить внутрь за мгновение до того, как лифт закрылся. Снаружи застучали десятки рук.
Андрей, пошатываясь, держал на весу раненую руку, на пол стекала кровь. Он подошел к зеркалу и шутливо изумился своему отражению.
– Месяц назад, – сказал он, – мне было бы наплевать, что будет дальше. Хоть боженька, хоть на корм голодным собакам. Я бы реально в эту церквушку пошел, если бы позвали раньше. Но теперь…
Он смотрел на Катю через отражение печальным взглядом. Катя почувствовала, как к горлу подбирается комок.
Она хотела сказать, что чувствует себя примерно так же. Еще недавно она, запутавшись в обыденности, не могла вырваться, тонула в депрессии и одиночестве. Тогда она бы тоже рванула в церквушку без разговоров, лишь бы заполнить пустоту в душе. Но сейчас – нет. Уже не готова.
Катя хотела все это сказать, но не успела. Лифт остановился, и двери открыли вид на едва освещенную площадку. Лаки выскочил первым, за ним вышла Катя, нашаривая в кармане ключи от квартиры.
Из-за спины послышалось:
– Ты куртку оставил, служивый.
Катя замерла в ужасе, сердце остановилось. Мимо метнулся Лаки. В лифте громыхнуло, взорвались лампы. Хлопнули двери, в шахте забилось жуткое эхо. Взметнулся короткий собачий визг, и все кончилось.
Кто-то рассмеялся глухо и жестоко. Во всем коридоре осталась только одна подмигивающая лампочка. Тени сгущались вокруг, делая мир крохотным и пугливым.
– Уходи, – едва слышно сказали из кабины лифта.
Дверцы раскрылись, Катя шагнула внутрь и упала на колени перед Андреем и Лаки, прямо в лужу крови. Всхлипнула, проведя дрожащей рукой по голове мертвой собаки. Собаки, которую богохульная сила вдавила в хозяина вопреки всем законам природы. Будто ребенок неаккуратно слепил две пластилиновые фигурки в одну и бросил неудавшуюся поделку.
Андрей дышал часто-часто, по-собачьи. Он не мог повернуть голову из-за проткнувшей шею лапы. В темноте мелькал уцелевший глаз.
Катя уже ничего не видела, слезы размыли картинку. Она почувствовала прикосновение к лицу, прижала Андрея к себе, но пальцы ухватили больно, и другие пальцы, и руки сзади, сбоку, сверху. Катя не сопротивлялась, ее выдернули из лифта, потащили по лестнице наверх. Прочь от Андрея и нормальной жизни.
На крыше стояла церковь. Катю бросили к знакомому деревянному крыльцу.
– Он уже был негоден, – сказало существо в капюшоне, пахнущее паленой псиной. – А ты пока еще с нами.
Люди со свечами выстраивались кругом, бухгалтер-очкарик прибивал к церкви куртку Андрея.
Катя заплакала, хватая воздух ртом, выпуская облака пара, чувствуя, как замерзают на лице слезы.
Существо присело рядом и обнюхало Катю. Пустые рукава облапили лицо и шею. Капюшон склонился прямо к ней, обдавая смрадом.
– Впусти счастье. Оно тебе очень нужно. Я же вижу.
Он взял ее за волосы и приподнял, давая увидеть крыши других новостроек, где среди труб и проводов тоже стояли церквушки.
– Видишь, как много нас? – шепнуло существо прямо в ухо. – Видишь, как мы сильны?
Катя кивнула, захлебываясь холодными слезами.
– Я…
– Что-что? – спросил капюшон.
– Я хочу, чтобы все кончилось.
Над крышей разнесся колокольный звон, которому вторили остальные церкви. Звук был оглушительным.
Катю отпустили, и она упала на спину. Из носа потекла кровь, в глазах помутилось, и в самое нутро Кати стало заползать счастье.
Кто-то засовывал внутрь куски холодного, липкого, мягкого, похожего на глину. Просунул между зубов. Катя покорно проглотила и захотела еще.
У счастья был привкус крови и старой, пропахшей дымом куртки.
Александр Матюхин, Александр Подольский
Сделка
Даша еще раз вывернула карманы пальто. В сумме – двадцать семь рублей. Даже двадцать семь пятьдесят, если это имеет значение. Пару монеток она сегодня подобрала у метро: потопталась рядом, подождала, пока народ разойдется, и присела, типа ей надо перевязать шнурок. На гладком сапоге до колена, ага. Уши тогда чуть от стыда не задымились. Хотя стесняться-то теперь чего? Поздно стесняться.
Тридцать рублей нужно было наскрести на жиденький кофеек в пышечной. Не просто нужно – жизненно необходимо. Стакан кофе давал небольшую отсрочку, чтобы собраться с силами: посидеть на пластиковом стуле у окна, попялиться на замерзших промоутеров и еще немного не появляться дома. Даша представила, как заходится в пустой квартире городской телефон, и криво улыбнулась. Подождут. По понедельникам коллекторы особенно мерзкие, включают свой неприятный голос для ненадежных клиентов, давят, с шансами, в этот раз уже начнут угрожать. Мол, Дарья Игоревна, а не боитесь ли вы, что завтра вас в подворотне остановят нехорошие люди и ногами по лицу погладят? Нет, спасибо, ради таких новостей не стоит спешить домой.
Только двух рублей не хватает. Рискнуть попросить в долг? Ну не откажут же ей, это ведь несчастных два рубля, одно название от денег. А она тут каждую неделю появляется и иногда даже набирает целый мешок жирнющих пудровых пышек, ну не звери же они…
Да боже мой. Пошла и спросила.
Даша забралась по обледенелым ступенькам и замерла. «Пышечная закрыта!!!» – вывел кто-то ручкой на листе в клетку. Свет из-под двери все равно лез, жизнь там явно была. Девушка задрала голову, оценила свежую табличку: «ЛОМБАРД» – и ниже, серебристым курсивом, что-то вроде слогана – «Все продается».
Конечно, продается, кто бы сомневался.
Так, часы работы, оценка антиквариата, под охраной каких-то там… Плакал ее спасительный кофе, конечно. Но можно хотя бы зайти погреться. Посидеть в приемной, как будто ждешь кого-то еще для важной сделки по продаже… да не важно, хоть рояля с гнутыми ножками. Или в самом деле выяснить, что они тут принимают? В кладовке вроде валялся старый сервиз в пастушках. Вдруг он такой один на миллион?
Она понадеялась, что ее слегка лоснящееся пальто пока еще не кричит «подайте Христа ради». Максимум степенно делится, мол, «мы чуточку поиздержались, но все под контролем».
– Здрасьте.
– Добрый день. Вы на оценку? Залоговый товар у вас с собой?
Даша огляделась. Бывшую пышечную выкрасили в холодный белый, заставили стеллажами темного дерева и хромом светильников. Даже администратор – худая блондинка в шелке – хорошо попадала в цветовую гамму. Слишком эффектно, а значит и слишком дорого. Вряд ли такие люди польстятся на польский фарфор.
– Нет, в общем-то… Из-звините, я, похоже, дверью ошиблась.
– Вы у нас впервые? Хотите чаю? Может, полистаете пока наши каталоги?
– Каталоги? – переспросила Даша. – Нет, мне сейчас серьезные покупки не по карману.
– Можете взглянуть на товары, которые мы принимаем. Наши клиенты иногда сами не представляют, что стоит нести в ломбард, а что годится только на долгую память, – блондинка коротко вздохнула. – Вот мы и собрали полный список, теперь начинаем переговоры с него. Так какой чай вам принести? Ройбуш, улун, дарджилинг?
Колебания заняли секунды три.
– Любой, но с сахаром.
Каталог оказался толстенным глянцевым кирпичом: сплошные шикарные фотографии и минимум букв. Ювелирка. Шубы. Картины. Часы. Мультиварки. Велотренажеры.
«Как букварь, – подумала девушка. – Но для взрослых и про красивую жизнь. Вот под буквой З, например, – золото и столбик проб, только стишка не хватает. Тоже на З. Зайку бросила хозяйка, отсудила все у зайки…»
От незнакомого чая во рту было терпко, голова приятно плыла. Даша твердо пообещала себе уйти ровно через пять минут, в крайнем случае – через десять, и точка, но отыскала среди фарфора почти точную копию бабкиного наследства. Тоже дюжина страшненьких чашек, блюдца, вычурный молочник, даже пастушок с той же пошленькой флейтой.
Блондинка отвела Дашу в дальний кабинет и невозмутимо села напротив. Нацепила на аккуратный нос очки с ажурными дужками. Даша не удержалась от смешка:
– То есть беседуете тоже вы? И оценщиком выступаете?
– Приходится совмещать. Так вот, Дарья Игоревна…
Даша подумала, что вроде не представлялась. Или все-таки было?
– Мы очень рады, что вы готовы к сотрудничеству, – промурлыкала специалистка. – Давайте обсудим предмет торга.
– У меня сервиз…
– Забудьте про свой сервиз. Выкиньте его в окно, прочих усилий он не стоит.
Даша поморщилась, но промолчала.
– Кое-что из ваших семейных ценностей нас действительно интересует. Кое-что, чем владеет ваша сестра. Вы же понимаете, о чем речь?
«Аферисты! – сообразила Даша. – Гады и мошенники. Специально, значит, за мной следили, даже к Аньке в квартиру влезли. И пышечную выгнали!.. Вот только зачем?»
Ценности, значит. Фамильные, небось. Ну, если в этой семье какие-то реликвии и задерживались дольше пяти минут, то речь точно о жемчуге. При недавней дележке платьев, моли и нафталина старшей сестре отошло прабабкино ожерелье: аж четыре ряда крупных желтоватых бусин по цене подержанной иномарки. Даша, конечно, уговаривала продать жемчуг – все равно тот теперь тупо лежит в комоде, а она бы тогда сразу выплатила кредит и зажила как белый человек – но сестра сделала вид, что не услышала просьбы. Три раза не услышала.
– Вот сами с ней и разбирайтесь.
– Мы бы хотели заключить сделку именно с вами. Не переживайте, вам не придется даже прикасаться к предмету…
– Предлагаете открыть вам дверь, или что? – Даша даже голос повысила. – То есть вы хотите не просто обнести квартиру моей сестры, а еще и меня сделать соучастницей?!
Блондинка засмеялась:
– Что вы! Никаких дверей и соучастников… Порядок такой: вы подписываете договор, получаете деньги, мы самостоятельно изымаем предмет и помещаем на его место точную копию. Мы довольны. Вы довольны. Анна Игоревна ни о чем не подозревает.
– Бред какой-то, – вырвалось у Даши.
Вместо ответа специалистка подвинула к ней бумаги. Кратенький договор, всего на два листа. Даша вцепилась в новую информацию, пытаясь потянуть время. Кое-где в тексте попадались дурные формулировки, словно договор составляли не юристы, а восторженные школьники («сторона клянется и обязуется…», «данное волеизъявление…»). Какой концентрат пафоса. В остальном вырисовывалась все та же картина: с нее требовалась только подпись «кровного родственника», дающая «моральное право на изъятие», с другой стороны – полмиллиона рублей. Жирным черным горел пункт о полной конфиденциальности сделки.
Даша ощутила, как сердце гулко забилось где-то в животе.
Она могла бы влет расплатиться с жадными упырями из микрозаймов. И еще бы осталось. Много.
Но хрень же полная! Так не бывает.
Или бывает… А ей нужно только чиркнуть ручкой.
– Решайтесь, – подбодрила блондинка.
«Да даже если… Да что они смогут доказать с одной-единственной мутной бумажкой?» – решила Даша.
Но вместо своей официальной подписи все-таки нарисовала кривые завитушки.
Выкатившись обратно в март, Даша судорожно перетряхнула сумку – не подбросили ли какой дряни? Проверила паспорт и телефон, затолкала поглубже копию странного договора. Вокруг уже почти стемнело, хищно светились окна обшарпанных ларьков. Девушка выдохнула и побрела вниз по улице – домой, к диким коллекторам и замороженным котлетам из опилок.
На краю сознания висела смутная виноватая мысль: а если все взаправду? Родную сестру разрешила ограбить!
Ей отвечала другая, не менее сомнительная: ну а что она! В этом нелепом «ну» умещалась примерно тонна обиды: и за мать, которая любит сестру до слюнявого идиотизма, и за ее мужа – настолько богатого, что плакать хочется (в то время как Даша сама себе муж, брат и иногда сантехник). И просто за то, что у некоторых ноги длиннее. К тому же, на днях Анька позвала в гости на отбивные (настоящая говядина? правда? так еще бывает?), а в последний момент слилась – ой, ты знаешь, я тут придумала на маникюр сбегать, давай в другой раз?
Ну да, уважительная причина. Не может же взрослая женщина целый день прожить без краски на ногтях. Даша вот тоже вчера ноготь на мизинце отгрызла – чем не маникюр?
Уже перед самым сном девушка все-таки дотянулась до телефона и, почти не глядя, набрала сообщение: «Двери нночь проверь! Слышала, у вас там рядом квартир ограбили!»
Ответ пришел мгновенно: «Почему не спишь так поздно??? Будешь завтра вся опухшая!!»
Нет, ну что за стерва.
Перед обедом выпускающий редактор наехал сразу на всех рисующих девиц – «Что это за выкидыш? Я вижу, что котик, Семенова! Я только не понял, это обзор элитного санатория или сраного приюта?» Совершенно несправедливо, надо сказать, наехал. Одна тут же расплакалась, вторая попыхтела от злости и пошла жаловаться наверх. Даша молчала. Так оно обычно и происходит: сначала ты ищешь справедливости, а потом ищешь новую работу.
На обеденном перерыве она раз в двадцатый проверила счет – нет, пусто и безжизненно. Какие там сроки в договоре?
Она оглянулась и вытянула из сумки бумаги. Вода, вода и ни единого слова про дату перевода. Ждите, когда рак на горе свистнет.
«…Право на изъятие Воронцова Михаила Сергеевича».
Что?
Даша впилась взглядом в строчку.
Зачем сомнительному ломбарду ее племянник? На усыновление? На органы? На сувениры?
«Кое-что, чем владеет ваша сестра», – мысленно пробубнила она, передразнивая вчерашнюю женщину. Кое-что восьми месяцев от роду.
Даша не стала даже задумываться, как эта гнилая контора подменила бумаги прямо в сумке, – и так понятно, что они совсем берега потеряли. Важнее было то, что обещанные деньги, замечательные распрекрасные полмиллиона рублей, все-таки пришли, упали на счет одновременно с холодной каплей со лба. Банк сообщил о пополнении сухой шаблонной эсэмэской, хотя мог бы и удивиться – пятьсот тысяч, блин! И это на счете, где больше пяти отродясь не лежало!
Даша когда-то слышала, как легко отменить совершенный перевод за считаные минуты – где-то за один звонок, где-то за один скандал – и решила не рисковать. Перевела выплату на запасную карточку, поздравила себя с новой безоблачной жизнью. А треклятый договор сложила в два, четыре… шестнадцать раз и запихала упругим квадратиком за надорванную подкладку сумки.
– Дааашечка, – протянула сестра в телефон, – как ты, милая?
Милая скривилась.
– У меня к тебе личный разговор… Не телефонный, очень важный, – продолжила трубка, не дожидаясь ответа. – Давай-ка приезжай, навестишь нас с Мишкой. Мы тут оба по тебе соскучились.
– Вас с ним вдвоем навестить? Или я приеду, а ты опять убежишь на йогу, бросив на меня няню-таджичку и орущего младенца?
– Дашкин, хватит придумывать, а то обижусь! Не было такого никогда…
К пятнице Даша расплатилась с кредитными стервятниками («Вот видите, Дарья Игоревна, как быстро можно найти деньги при достойной мотивации? Это хорошо, что вы взялись за ум и нам не пришлось… прибегать к крайним мерам»), забила холодильник едой и сменила замученное пальто на новую меховую курточку. Жизнь выравнивалась. Жизнь пахла яичницей с беконом по утрам и подмигивала улыбчивым курьером из офиса напротив.
Она даже купила помаду с плаката – стоит как неделя обедов, но ведь вы этого достойны, – обмирая от собственной наглости.
Кто ворует детей? Цыгане? Нет, они, наверное, больше по коням спецы. Извращенцы? Сатанисты? Где это было – обещай нам ребенка, а мы тебе выпишем чек на «долго и счастливо»?
В сказках.
В старых сказках короли, бесстрашные и тупоголовые, вечно обещают морским царям «то, что первым увидят дома», думают откупиться псом или служанкой, а в итоге жертвуют первенцами.
А кое-кто – вроде фей – крадет детей просто так, забавы ради. И взамен оставляет нечеловеческих подменышей. Это она вычитала в Сети, таких сказок в детстве нигде не было.
Наглотавшись жутковатых легенд, Даша была вполне готова увидеть старого сморщенного уродца, игрушечного пупса, да хоть даже говорящее полено! Но Мишка выглядел как обычно – слюнявый ворчливый организм в памперсе. Даша отказывалась понимать, почему родные и друзья до остервенения спорят, на кого же похож наследник – на маму или на папу. По Дашиному скромному мнению, Михаил Сергеевич до сих пор больше всего смахивал на картошку.
Гораздо хуже выглядела сестра – вроде бы и красавица, но из последних сил. Футболка неглаженая, волосы в косе грязные, из-под тональника просвечивают серые круги. Совсем не тянет на собственный профиль в «Инстаграме»: там-то Анька «любимая жена, счастливая мать», о чем должны кричать пережженные фильтрами картинки и тонны всякой ведической муры, типа «сила женщины в ее слабости».
Даша почувствовала теплое колкое злорадство.
– Как дела? – спросила она, невзначай отряхивая меховой воротник.
– Дела, да… Ты проходи, – невпопад отозвалась сестра, придерживая ребенка. – Сейчас чайник поставлю.
Даша отметила тарелки с подсохшей кашей и темные капли на бежевой скатерти. Быт против «лучшей в мире мамочки»: один – ноль.
Сестра вернулась через четверть часа и шепотом похвасталась, что ее сын не по возрасту серьезен и уже засыпает сам, в отличие от всех остальных восьмимесячных младенцев.
– Так что случилось?
Анька поставила на стол радионяню, плотно прикрыла дверь.
– Как сказать… Мишка в последние дни очень странный.
– Дети все странные, – буркнула Даша, хрустя печеньем.
– Сам на себя не похож… Кусаться начал. Никогда такого не было. На днях грудь прокусил аж до крови, едва его оторвала, так вцепился.
– А они разве не как щенки развиваются? Зубы режутся и чешутся, пора ему косточку резиновую купить…
Сестра поглядела с неодобрением, но продолжила:
– Улыбаться совсем перестал. На имя больше не отзывается. И смотрит на меня постоянно, внимательно так. Как будто следит. И еще, когда спит… холодный как камень и почти не дышит. Чуть с ума в первый раз не сошла, думала – задохнулся, разбудила – нет, все в порядке, нормальный теплый ребенок.
У Даши уже вертелась на языке шутка про фамильные черты холоднокровных гадюк, но она промолчала и запила чаем проглоченные слова. Вот как это все понимать? Очередной мамский психоз на почве скуки? Или это и правда не тот пацан, что когда-то вылез из сестры?
– Очень боялась синдрома младенческой смерти. И до сих пор еще боюсь. Но ведь он же потом просыпается, здоровый абсолютно. Температуру меряю – идеальная!
– Давно оно так?
– С понедельника, – уверенно заявила сестра. – В понедельник покусал, и потом началось.
Дорогое песочное печенье показалось Даше настоящим песком на зубах.
– Пошли посмотришь, как он спит.
– Да я верю… – попыталась отмазаться Даша.
– Пойдем. Я сама себе не верю. Проверишь, не рехнулась ли я вконец.
– А почему муж не…
– Я его уже три недели не видела. Иногда помощницу за рубашками присылает, вот и весь муж.
Детская наследника занимала больше места, чем вся Дашина квартира. И зачем неразумному существу полная комната мебели? Он ее если и оценит, то только когда перегрызет половину. Говорят, с появлением буйных щенков и ползающих детей в дом обычно приходит стиль «нижний минимализм» – когда все, что не приколочено, поднимают на полметра вверх.
Михаил Сергеевич спал, раскидав по мультяшным пеленкам свои лапки в перетяжках и оплыв щеками. Нос уточкой едва заметно подрагивал, изо рта тянулась дорожка слюны. Все-таки дети довольно неприятные существа, лишний раз убедилась девушка.
И иногда очень, очень холодные.
Даше показалось, что она погладила по щеке кусок льда. Даже липкое ощущение осталось. «Да что же ты за хрень, – мрачно подумала она, оттирая пальцы. – Из чего тебя слепили?»
Ребенок, конечно, не ответил, но зато открыл глаза и уставился прямо на Дашу.
Та пискнула и отшатнулась, налетела спиной на сестру.
– Видишь, – подытожила Анька вполголоса. – Ледяной, но по всем показателям здоров. Врач приезжал, я ему рассказала, он посмеялся только. Выписал таблетки, но мне. Успокоительные.
Даша дышала и кивала. Ей на секунду почудилось, что у младенца нет ни белков, ни голубой радужки – одна только чернота, словно под веко засунули темный стеклянный шарик.
«Я хочу отменить сделку. Я перечислю обратно всю сумму, а вы… вы вернете то, что взяли, – потребовала девушка после писка автоответчика. – Это Дарья Левко. Перезвоните мне».
Ей прислали сообщение: адрес, время, надеемся на вашу пунктуальность.
Даша поднималась в глухой коробке стального лифта. В зеркале отражались несимпатичные подробности ее бытия: припудренный прыщ на лбу, одинокий петух на голове, в глазах – сдержанная паника. План слабоват… но выбирать не приходится.
Бизнес-центр, где ее приняли, на порядок обскакал ломбард. Даша только и успевала вертеть головой: дымчатое стекло и зеркала, двухметровая плазма с показом мод, строгие кожаные диваны. Сплошной шик и жир.
Ее записали к очередной сухощавой блондинке. Каким-то запасным чувством Даша поняла, что эта, новая, значит побольше и вообще ест ломбардщиц на завтрак.
– Он жив? – выпалила девушка с порога.
– Кто, ваш племянник? Конечно.
Даша подобралась поближе, угнездилась на неуютном металлическом стуле.
– Разорвите договор. Я могу сразу вернуть две трети суммы, остальное отдам постепенно, можно даже с процентами…
– Что же вы такое говорите, Дарья Игоревна? – блондинка покачала головой, словно бы даже расстроилась. – Так дела не делаются. Сделки не переписываются и не расторгаются.
– Но я же верну деньги!
– Вы правда считаете, что мы в них нуждаемся?
Даша и сама понимала, что нет. Ни пушистая шкура вместо ковра, ни окна во весь кабинет не давали повода усомниться: тут никто не бедствует. А у носатой тетки в ушах вообще торчат камни размером с вишню – и это явно не фианиты.
«Очевидно, денег у вас куры не клюют… Вот вы и развлекаетесь, как отбитые мажоры», – промелькнуло у Даши в голове.
– Хорошо, но что-то же вам нужно! Зачем вам он? На перепродажу?
Высокие брови блондинки совсем уползли куда-то на лоб:
– Торговля людьми уголовно наказуема… Дарья Игоревна, пожалуйста, примите как должное: вы уже ничего не сможете сделать.
От жесткого стула ныла задница. Рано еще уходить, надо пытаться.
– А если вы все можете так легко… Раз-два – и подменили человека… То зачем тогда цирк с договорами?
– Новые неудобные законы. Никак не можем избавиться от формальностей, – женщина нажала кнопку на телефоне. – Готово? Заносите.
Даша не успела понять, что происходит, а на стол перед носатой уже водрузили большой поднос с зеленым салатом и толстым серым кроликом. Кроль громко перемалывал лист и косил бешеным глазом непонятно куда.
– Очень милый, – вежливо отреагировала девушка. – Эээ… Это ваш питомец?
– Это мой обед.
– Что? – успела переспросить Даша, прежде чем блондинка ухватила кроля за голову и провернула до влажного хруста.
– Не люблю, когда дергается, – пояснила женщина, приглаживая шерстку на мертвых ушах.
«Мать. Твою. Твою мать. Вали отсюда, быстро», – скомандовала себе Даша и не смогла даже пошевелиться.
– Зачем вы так? Он же живое существо… – прошептала она.
– Если хотите, можете считать, что это такое шоу. Чтобы вас впечатлить. На самом деле я обычно не ем сырых кроликов.
– И на том спасибо, – выдохнула Даша.
– Чаще предпочитаю мышей.
Блондинка сглотнула и вгрызлась в кроличье брюшко. Кровь брызнула на стол, на листья салата, даже слегка задела белоснежный ноутбук, но не осмелилась испортить нежно-кремовую блузку.
Даша не видела, что именно там жует женщина, – ее уже выворачивало прямо в мусорную корзину от «Тиффани».
– Держите салфетку. Сейчас вам воды принесут… Все хорошо. Дышите.
Вокруг Даши прыгала совсем молоденькая девочка, лет семнадцати. Даже через цветные пятна в глазах Даша различала – тоже их породы. Нос острый, волосы выбелены в ноль, передние зубы… нет, это никак не человеческие резцы.
Ее вывели в приемную под руки, можно сказать выволокли. Даша повалилась в кресло и через силу влила в себя бутылку минералки. Спина взмокла, зубы стучали так, что горлышко скакало, и вода лилась прямо на юбку. Все, навоевалась…
Если бы и ее сейчас решили сожрать, как кролика, она бы смогла только расплакаться.
– Вы не переживайте так, – казалось, девочка и правда сочувствует. – Сделки никому не отменяют. Но жизнь-то продолжается.
– А что… этот закон, что нужен договор на человека… он какого года? – Даша и сама бы не поняла своего вопроса, но девчонка сообразила.
– Девятьсот третий год от Рождества Христова. И он еще десять… нет, девять тысяч лет будет действовать. Сами видите: смысла в нем мало, зато сколько лишней возни…
Даша кивнула.
К ночи она успела прочитать кучу новостей о пропавших детях, облазить десятки мамских форумов – «как быть, пониженная температура 36,2», «слишком крепко спит, девочки, это нормально?», «все время кусает за руки, это не мой масик, это монстр какой-то!». Да что вы знаете о монстрах… Сотня с лишним страниц про фей, фэйри, пикси и другие сказочные народцы, под настроение промышлявшие мерзкими розыгрышами. Шекспир Шекспиром, но особые любители до сих пор копались в переводах сказок, строчили по ним плохие стихи, даже придумывали роли и сами играли в фей.
Для себя Даше нужно было найти какое-то определение, и она решила в самом деле считать врага феями. Ну а что, собственно, отпираться? Это еще не самый нелепый вариант.
Версии про подменышей расходились, текст от текста у них вырастали огромные головы, пробивалась чешуя, они то жрали за четверых и орали всю ночь напролет, то без конца болели и теряли дар речи. Девушка не смогла выявить вообще никакой системы. Дети менялись – и все.
В качестве железной проверки свой – не свой предлагалась, например, старая добрая пытка огнем. Даша поморщилась от незваной мысли: сколько же обычных крикливых младенцев сожгла на радостях заботливая родня?..
Она выключила конфорку, перелила в чашку кофе – густой, со специями, из льняного мешочка, из красивого бутика, из далекой Кении, про цену лучше вообще не вспоминать. И за это, кстати, тоже сейчас расплачивается малолетний Михаил Сергеич… Черт вас всех дери.
Коридор в темноте казался длинным, как проспект. Даша переступала медленно, проверяя паркет на громкость.
Попасть в гости ночью оказалось даже легче, чем днем. Охрана комплекса ее знала, консьержка спала и не могла помешать. Запасные ключи – «пусть будут у тебя на крайний случай! мало ли что» – дали войти без проблем и вовремя отключить коробку сигнализации.
Вот он и крайний случай. Кто ж знал, Анька, что он будет такой.
В детской горел слабый ночник, существо ворочалось в своих пеленках, ему не спалось. Даша сначала осторожно вынула батарейки из радионяни и только потом решилась выдохнуть. Подошла к кроватке.
Тот смотрел. Тот молчал. Взгляд у того был неприятно взрослый.
– Даю тебе минуту. Вызови сюда своих или пострадаешь, – отчетливо проговорила Даша. В руке нагревался нож столового серебра. В кармане, тоже по совету сказочников, лежал кусок хлеба – самый странный оберег из всех возможных.
Она понятия не имела, насколько важен ее заложник, козырь это или бесполезная шестерка, может, даже вообще не карта, а этикетка, случайно затесавшаяся в колоду. Спросить было не у кого. Не полицию же звать полюбоваться.
Ничего не произошло.
Она посмотрела на нож… Красивый, кстати, нож, такие тонкие узоры на рукоятке, жаль, что у нее нет полного набора… Мягко уронила прибор на ковер.
Взяла из кроватки подушку и прижала к круглому младенческому лицу.
Она ждала, и все тело сводило от страха, она умирала раз за разом каждую секунду, она уже почти видела, как внезапно отросшие острые зубы вопьются ей в голую руку и на простыню потечет темное и горячее. Как существо зашипит, вывернется и с нечеловеческой прытью кинется ей в лицо. Как завоет и забесится мелкая тварь, выгибаясь в постели колесом, а на крик вбежит разбуженная сестра – и что она здесь увидит, господи боже…
Под подушкой ничего не шевелилось. Зато сзади прозвучало:
– Очень плохая идея.
Она обернулась рывком, бросила:
– Меняй детей обратно, или двойник умрет.
– Он уже умер, – спокойно ответила высокая женщина со светлым каре. Самая первая нечисть, заключившая с ней невозможную сделку.
Ей хватило беглого осмотра тельца, чтобы заключить:
– Врешь. Ты его просто выключила. Я не могла его так просто задушить!
– Какая разница? Ты ведь пыталась. Записи с камер вышли очень удачные.
Даше захотелось кричать. Камеры. Долбаные скрытые камеры в каждой комнате. Сестра ими так хвасталась год назад…
– Значит, и тебя сняли. Я им все выложу, у меня есть договор с вашими реквизитами, доказательства!
– А, договор, – закивала женщина. – Этот?
В ее пальцах на миг промелькнул сложенный белый квадрат, промелькнул, чтобы стать горкой мелких клочков, а потом снова потеряться в ладонях.
Даша не смогла найти в себе силы удивиться.
– И, скорее всего, на записи останется только одна сумасшедшая, которая душит детей и кричит сама на себя.
Даша опустилась прямо на ковер. Стянула жаркую куртку.
Небо за окном потихоньку светлело.
– За убийство ребенка могут дать до двадцати лет… или даже пожизненный срок. Заведомо беспомощное создание, как-никак… А может, заменят на принудительное лечение. Говорят, от уколов галоперидола мышцы так скручивает, что потом без санитаров не разогнуться, – нечисть размышляла вслух, словно бы ни к кому и не обращаясь.
Дашу опять замутило.
– Кошмар, одним словом. Но… Можно кое-что исправить. Изменить, так сказать, ход событий.
Медленно-медленно приоткрыть один глаз.
– Например, можно заключить новый договор. О изъятии некой Дарьи Левко… И своевременной замены на ее точную копию.
– А что – там? – прохрипела Даша. – Куда после изъятия?
– Там, по крайней мере, не тюрьма и не больница. Подпиши – увидишь.
Даша оглянулась на кроватку с застывшим тельцем. Посмотрела на свежеотпечатанные листы в бледных длинных руках. Внутри уже не было ни злости, ни паники. Одна только глухая усталость.
– Мне… мне понадобится ручка.
Мария Анфилофьева
Хулиганка
Если повар уходит на пенсию, он все равно остается поваром. Это примерно то же самое, что и судья в отставке. Образ жизни. Бывших поваров не бывает, как не бывает бывших наркоманов или военных.
Перед отъездом Лена кормит дочь великолепным яблочным штруделем и поит чаем с брусникой. Собирает в дорогу сумку с выпечкой: все-таки до Москвы путь неблизкий. Готовить для нее – одно удовольствие, готовка отвлекает от тяжких дум и боли в руке, которая так и не зажила до конца после перелома. Лена давно на пенсии, в доме она одна-одинешенька, кормить кулинарными шедеврами практически некого, но она печет, варит, жарит, выбрасывает и снова стряпает.
Дочь не раз предлагала ей купить мобильный телефон.
– Очень удобно, – говорила Света. – Можем связываться в любое время.
– Мы и так можем, – отвечала Лена, указывая на аппарат советской эпохи с крутящимся диском. В нынешнее время такой аппарат – диковинка, раритет, однако по-прежнему работает исправно. Проверку временем прошел.
Лене шестьдесят шесть, в современных устройствах она ни черта не смыслит. К тому же телефон просыпается не часто. Раньше она ежедневно созванивалась с Шурой, сестрой, однако прошло полгода с тех пор, как ту забрал Господь. С дочерью же они связываются лишь по воскресеньям.
Оставляя Берильск, дочка дает наставление беречь здоровье и не переживать по пустякам. Через пару дней она сообщает, что на месяц улетает в Европу по работе. Позвонит, как вернется. А на следующий день, когда Лена думает, что телефон впал в долгую спячку, он вдруг оживает.
Какой-то мужчина предлагает купить персидских котят.
– Пятьсот за полкило, – говорит он. Голос похож на черничное варенье – томный, приторно-сладкий тембр с визгливыми нотками, подобными случайно упавшим в варенье красным ягодам клюквы.
Лена удивляется и формулировке, и тому, что с этим предложением обращаются именно к ней. От покупки вежливо отказывается. Затем вновь раздается трещащий сигнал, всегда напоминающий звук будильника, и незнакомый парень спрашивает, имеются ли у нее вещи на выброс.
Нет.
Подойдут даже старые колготки.
– Нет и колготок, – отвечает изумленная Лена.
– Общество «Росинка» собирает хлам для вселенского костра в центре города, – радостно объявляет он, и Лене представляется тесто в формочке для пирога, весело поднимающееся в духовке. – Рваные куртки, дырявые кастрюли, питомцы, бездомные – все отправится в костер. Приходите в понедельник в семь часов!
Хмыкнув, Лена кладет трубку. Какая нелепая беседа.
Во вторник с утра пораньше она уже в городе: вышла по делам.
На двери банка, куда она заглядывает, чтобы опустошить сберкнижку, среди листовок о выгодных вложениях и кредитах с низким процентом висит странное объявление:
«Церковь истинной веры приглашает новобранцев! Обряд посвящения состоится во вторник в здании ДК „Звездочка“. Для вступления необходимы душа и ЛИТРЫ крови».
Что это за церковь такая, требующая кровь, и где находится ДК «Звездочка»? На эти вопросы сотрудники банка лишь пожимают плечами. О вселенском костре в семь часов им тоже ничего не известно. На главной площади Берильска возле здания администрации, где обычно проходят различные мероприятия, никакого хлама нет.
В почтовом ящике ее ждут два письма. Одно от коммунальной службы, а второе от неизвестного адресата – в красивом конверте, окаймленном узорами. Сунув письма под мышку, Лена ковыляет домой, осторожно, чтобы не упасть, ступая по скованной льдом тропинке. Вчера была оттепель, а сегодня ударил мороз, поэтому земля теперь – сплошной каток. Хоть коньки надевай, ей-богу.
Разрисованный конверт пахнет свежей выпечкой, что напоминает детство – времена, когда мать, входившая в хлебобулочную артель, под Новый год всегда приносила домой пакет с мятными пряниками, еще теплыми. Лена с Шурой обожали эти предпраздничные дни. Обычно, пока мать не видела, они брали по прянику, забирались под одеяло, ели и смеялись, глядя друг на друга. У них даже был свой стишок: «В нашем доме ровно в пять День Пряников придет опять…» – и что-то там дальше.
Устроившись за кухонным столом у окна, Лена надевает очки, выуживает из-под бумаг калькулятор, имеющий форму мобильника, – им раньше пользовался внучок, Славик, когда учился в Берильской школе, – и первым делом считает сумму за домовые услуги. Сверяет с квитанцией. Потом же вскрывает хрустящий конверт. Фигурными буквами на плотной белоснежной бумаге напечатано:
«Подтвердите заказ на четыре коробки восхитительных кровяных трюфелей. В каждом третьем сюрприз – очищенное глазное яблоко в воздушной пенке из костного мозга. Обратите внимание на нашу акцию: за покупку пяти коробок счастливчику полагается презент: пакет мятных пряников с кусочками освежеванной плоти!»
Дрожащие руки роняют письмо.
– Что за бредятина?
На вопрос отзываются лишь тикающие настенные часы. Сердце ускоряет ритм, опережая секундную стрелку. Лена бурчит, комкает и отправляет письмо в мусорное ведро.
Она говорит:
– Совсем ошалели.
Когда умирает кто-то из близких, поначалу трудно свыкнуться с мыслью, что дорогой человек уходит навсегда. Кажется, что это ненадолго – типа десятидневной поездки в санаторий. Но дни эти пролетают, и тогда в полной мере осознаешь, что смерть так же реальна, как и вишня, растущая в палисаднике за окном. Узнав о кончине сестры, Лена почувствовала себя кексом, черствым, тронутым тускло-бирюзовой плесенью.
Сестра звонила каждый день в пять часов. Как в том старом стишке: «В нашем доме ровно в пять». Сейчас в это время уже темнеет. Зима-кровопийца высасывает из дней все соки, отчего те укорачиваются и будто истончаются.
По программе уже должна начаться первая серия «Горьких зорей», но телевизор транслирует одну рекламу за другой. Шампуни, сыр «Хохланд», стиральные порошки, сантехника, прокладки – изобилие товаров пробегает по экрану, вытеснив кино и передачи. Лена сидит в кресле и щелкает пультом по каналам, но все они словно сговорились – везде реклама.
Когда стрелки часов замирают на пяти, раздается сигнал телефона.
Лена говорит:
– Господи. Это еще кто?
Кряхтя, она поднимается и, опираясь на трость, бредет в кухню. Взгляд снова цепляется за часы, только на этот раз за те, что висят над столом, на котором целое скопление газет, сканвордов, брошюр с кулинарными рецептами и, конечно же, лекарств, разложенных по поверхности, как по аптечной витрине.
Часы кричат: ПЯТЬ.
В нашем доме ровно в пять День Пряников придет опять.
Едва рука касается аппарата, как Лене представляется, что вот она подносит трубку к уху и голос на том конце провода – такой знакомый голос, точно возвращающий в прошлое вишневый пудинг, который обожала сестра, – с придыханием произносит:
– Алена, это ты? – только Шура с самого детства звала ее Аленой.
Видение настолько яркое, что Лена вздрагивает. Но трубка басит:
– Приглашаем всех желающих на вручение аттестатов выпускникам!
Лена улыбается, расслабляясь.
– Нет, спасибо.
– Торжество состоится на Игнатьевском кладбище в полдень у вырытой могилы.
– Кто говорит? – хмурится она.
Но звонящий будто бы не слышит вопроса.
– Вас ожидают игры и забавы, а также массовое захоронение тех, кто устал.
– Кто это?!
Трубка отзывается короткими гудками. Лена возвращает ее на место. За окном рекой разливается темнота. Ни шороха, ни звука. Как на погосте. Стоя в полумраке перед телефоном, который выдал несусветную чушь, Лена вдруг чувствует, что внутри все холодеет. Вот как постепенно каменеет мокрое белье на морозе, так и у нее душа застывает. В этот момент она остро ощущает одиночество.
Снаружи к окну черной щекой прижимается вечер, дом безмолвствует, точно остывшая сковородка, которая совсем недавно скворчала и шипела. Лена тут одна, в этой тишине, в этой тьме, окружившей дом тесным кольцом. Ей хочется позвонить дочери, узнать, как она долетела, хорошо ли устроилась там, в своей Европе.
Мысли обрывает очередной звонок. Лена чуть ли не подскакивает на месте.
– Слушаю вас.
Мягкий мужской голос, тягучий, словно плавленый сыр:
– В оркестр требуется зрелая женщина с музыкальным слухом и без боязни запачкать руки.
– Откуда у вас мой номер?!
– Чтобы сыграть адофонию, нужно обмакнуть смычок в козлиное дерьмо, – последнее слово он выплевывает с причмокивающим звуком. Неприятным. Будто сыр сбрызгивают соком лимона.
– Стебанутый, что ли?
Она бросает трубку.
– Дурдом!
Глазами находит калькулятор, стилизованный под мобильник. Синий, с широкими кнопками, он глядит на Лену потухшим выпуклым оком. Быть может, стоило согласиться на предложение дочери и обзавестись сотовым, а стационарный телефон отключить к чертям собачьим? На мобильном хотя бы номера определяются.
Снова звонок, но Лена уже не отвечает. Послав дребезжащую штуковину куда подальше, она возвращается к телевизору.
Реклама, к великому удивлению, все еще длится. Сразу после нее экран заполоняет ярко-зеленый квадрат. Фильма, судя по всему, не будет. Раздраженная Лена хлопает шкафчиками, доставая муку, сухие дрожжи, сахар и яйца. Месит тесто на доске, присыпанной мукой. Вымешивает его до гладкости, до эластичности. Важно знать: чтобы пирог был пышным, нужно яичные желтки и белки взбить отдельно до крепкой пены, а затем соединить их вместе и, помешивая, добавлять муку небольшими порциями.
Пока руки мнут тесто, Лена успокаивается. Себе под нос она говорит: «В нашем доме ровно в пять…»
Чтобы бисквит поднимался равномерно, нужно смазать маслом у формочки лишь дно, борта трогать нельзя ни в коем случае.
Лена твердит: «…День Пряников придет опять». Продолжение стишка никак не находится в извилистых коридорах памяти.
Духовка уже разогрета. Это тоже важно, потому что тесто быстро оседает.
Ночью спится плохо – ноет рука. Лена в кровати, на столе – дородный бисквит, накрытый полотенцем. За окном без передышки небо сеет снег. Сквозь шторы Лена видит крупные хлопья, похожие на шматки затвердевшего безе. Под утро, когда ей чудом удается уснуть, слепую тишину разрезает телефонная трель.
– Чтоб вы провалились, – ворчит она и, перевернувшись на другой бок, с головой залезает под одеяло.
Снегу за ночь выпадает много. Двор превращается в поверхность стола, засыпанную толстым слоем муки. Лена кутается в шаль. Погода чудесная! Как охлажденное пирожное со сливочным кремом, обвалянное в ослепительно-белой кокосовой стружке. Однако радостный настрой тут же сменяется негодованием.
Отворив дверь, она замечает две цепочки следов, запорошенных снегом, но все равно видимых глазу. Одна тянется от калитки до крыльца, вторая – обратно. Кто-то не только сумел открыть засов на воротах, но и шлялся по двору, пока она спала.
Что будет дальше? Следующей ночью ворвутся к ней в дом?
На двери – лист бумаги.
«ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В пятницу на пляже пройдет ряд мероприятий, приуроченных к торжественному празднованию Дня Утопленника, таких как заплыв на глубину, соревнования по пляжному волейболу, фрисби, нырянию и многие другие. Праздничные акции начнутся в восемь с олимпийской зарядки и продлятся до темноты. Вечером тела сбросят в воду, и желающие смогут посоревноваться в метании венков. Победитель, попавший в утопленника, получит специальный приз!»
Уставившись на послание, Лена замирает. Воздух застревает в горле.
– Теть Лен, расчистить тропинку?
Она растерянно оглядывается и поначалу никого не видит, лишь спустя мгновение замечает голову над забором. Миша, сосед, машет ей рукой в перчатке.
Он говорит:
– Глядите, какие сугробы.
– А, расчисти, Миш.
Пока сосед подбирается к порогу, ловко работая лопатой, Лена перечитывает объявление. А потом еще раз. И еще. Глупость какая-то. Похоже на затянувшийся розыгрыш, который перекочевал из одного дня в другой и уже потерял шутливую форму. Начал пугать.
Лопата сгребает снег со ступенек. Миша втыкает ее в сугроб и опирается о черенок.
– Фух, упрел, – говорит он, поправляя сползшую на глаза шапку. – Теть Лен, чего случилось?
Лена отрывается от текста.
– А?
– Вид у вас такой, будто призрака увидели. – Щеки его красные, слова сопровождаются паром, облачками вылетающим изо рта. Сосед похож на румяный пирожок, только что вытащенный из печи.
– Гляди, чего мне принесли, – Лена протягивает ему лист бумаги.
Поднявшись на крыльцо, Миша, шевеля губами, читает послание, чешет макушку.
– А, не берите в голову! – он возвращает объявление. – Какой заплыв зимой?
– Дело не в этом! Кто-то ночью залез во двор! А еще звонят мне постоянно, дурость какую-то предлагают. Сил уже нет!
Вкратце она рассказывает соседу о телефонных звонках, донимавших ее вчера весь день. Он понимающе кивает.
– Знаю я, что это такое. – И Миша делится историей о ставшей популярной новой игре, по условиям которой требуется отправлять письма различным адресатам, звонить кому-либо или расклеивать объявления. – Деньги за это платят, теть Лен.
Оказывается, кто-то из его товарищей занимается подобной дребеденью.
– Оплата в этой игре зависит от количества звонков или расклеенных объявлений. Сейчас многие на этом помешаны.
– А я-то тут при чем?
Все же после Мишиного пояснения ей становится легче. Чего только люди не сделают ради денег. Даже готовы издеваться над старым человеком, лишь бы заработать.
К завтраку Лена отрезает кусок пирога, но не ест. От нервного напряжения зудят руки, их необходимо чем-то занять. Она жарит гренки. На тарелке, смазанные клубничным джемом, они напоминают праздничные тапочки с хлебной подошвой. Не успевает Лена сесть за стол, как телефон звонит опять. Долго смотрит она на надрывающийся аппарат, но наконец сдается.
Грубый женский голос:
– Открылся новый медицинский центр «Лодочка». – Лена молча слушает. – Приглашаем на диагностику и оценку стоимости ваших органов. ДЕВИЗ: «С „лодочкой“ в пучину».
Ничего не ответив, она возвращает трубку на рычаг. Тут же вновь звучит навязчивый сигнал. Лена усмехается, хотя ей совсем не весело.
Мелодично растягивая слова, мужчина говорит:
– Вас приветствует «Магазин на стуле». Есть минутка? – Он прямо-таки поет.
– Заводи шарманку, Маня.
– Только у нас вы можете приобрести кольца по специальным ценам сразу с пальцами. Также в наличии имеются браслеты с кистями рук, бусы с шеями и великолепная диадема с головой на выбор – женской или мужской. Все конечности обработаны формальдегидом.
– Я сейчас в полицию позвоню! – Лена прерывает разговор.
Телефон, не переставая, надрывается весь день. Иногда она не отвечает, а порой снимает трубку лишь для того, чтобы прекратить надоедливое бренчание, которое уже выводит из себя. С каждым разом разговоры становятся нелепей, абсурдней.
От мужчины с печальным голосом поступает совершенно вздорное предложение.
– Отдам жену в добрые руки, – молвит он. – Очень ласковая и милая женушка. Хорошо готовит, приучена к туалету, любит тепло и Розембаума.
Маразматичная старуха навязывает ей формочку для пирога, которую можно получить в супермаркете «Огнивомне» за двадцать кошачьих тушек. Голос кажется смутно знакомым.
После звонка из библиотеки Лена решает, что с нее хватит.
– ВНИМАНИЕ! ВСЕМ! ВСЕМ! – ревут в трубку. – Библиотека имени Мухина начинает акцию «Подари». Если у вас дома есть ненужные бабки и дедки, не позднее пятидесятого года выпуска, состояние НЕ-ВА-ЖНО, вы можете пожертвовать их библиотеке, где за ними присмотрят.
Звонки идут без перебоя, но, выкроив промежуток тишины, Лена набирает ноль-два. Выслушав сбивчивый, эмоциональный рассказ, дежурный уточняет:
– Вам угрозы поступали?
Он произносит слова неторопливо, в интонациях даже слышится скука, и Лене представляется медленно осыпающийся рыхлый торт. Она отвечает, что угроз не было.
Полицейский – воплощение спокойствия и трезвого ума – говорит:
– Знаете, что я вам скажу? Это вряд ли телефонное хулиганство.
Лена наматывает провод на палец.
– На преступление не похоже.
Лена сжимает пластик до хруста.
– Обратитесь в а-тэ-эс, если хотите. Там могут зафиксировать номер.
Лена тянется к рычагу, чтобы закончить беседу.
– Но… сами говорите – звонят разные люди.
Внутри Лены будто взрывается бомба.
– Что ж, теперь бабке терпеть издевательства?!
Дежурный делает глубокий вдох.
– Вырубите телефон на время, – говорит он.
Телефон глумливо звонит снова, едва трубка касается рычага. Лена приподнимает ее и гневно швыряет назад. И так еще несколько раз, пока корпус аппарата не лопается. Изогнутая трещина возникает на боку, и звук, усилившийся вдвое, теперь исходит из нее, напоминая писклявый хохот.
Все-таки Лена уступает и, прижав трубку к уху, умоляет отвязаться от нее. Но звонящий проявляет равнодушие и делится секретом:
– Чтобы хрен стоял всю ночь, нужно перед сном всего лишь…
Она выдергивает провод из телефонной розетки. Наконец-то настает благостная тишина, Лена с облегчением вздыхает. Пока она заново привыкает к прежнему покою, возвращаются и поскрипывания дома, такие будничные, родные. На улице ухает ветер – взметает и раскидывает снег по расчищенной дорожке.
Наступает вечер, и затаившиеся тени по-хозяйски вылезают из укрытий. Снежный двор окрашивается синью. Как же хорошо посидеть в тиши, глядя в окно.
«Всего-то следовало…» – мысль обрывает негромкое пиликанье. На столе среди вороха бумаг и упаковок с таблетками зажигается болотный свет.
Звонит мобильник. Точнее калькулятор, выполненный под сотовый телефон.
Ошарашенная, Лена таращится на него.
Нет, глаза ее не подводят. Экран калькулятора то загорается, то гаснет. Отсвечивая зеленым, мигают и кнопки. Из шва, соединяющего крышку с корпусом, доносится писк.
Она трогает калькулятор пальцем, чтобы убедиться, что не сошла с ума. Ничего не меняется, тот продолжает тонкоголосо пищать. Тогда она нажимает на одну из цифр, и устройство замолкает.
А потом из узкого отверстия на стыке крышки с корпусом звучит далекий голос:
– Доброго денечка!
Лена отшатывается, будто из калькулятора вылезает страшное насекомое. Только это гораздо хуже насекомого: невероятно, но калькулятор говорит:
– А вы уже выбрали кружок по интересам? Посвящение в кружковцы состоится завтра в десять!
Дальнейшую речь заглушает порыв ветра, пробежавшего по крыше. Шум подобен топоту ног.
– Кружок себе подбери, – скандирует калькулятор, – вступи или умри!
Лена надавливает на кнопку сброса, экран тут же гаснет. Широко распахнутыми глазами, с гулко бьющимся сердцем она смотрит на калькулятор, не в силах отвести взгляда, боясь, что он вдруг превратится во что-то кошмарное.
Осторожно взяв штуковину, которая из счетного устройства переквалифицировалась в аномальное средство связи, Лена вертит ее в руках.
Самый обычный калькулятор, которым она пользуется вот уже несколько лет, а до нее Славик носил его в школу. Она жмет на клавишу включения, и на экране возникает ноль. Приплюсовывает два к трем. Результат: цифра «пять».
(В нашем доме ровно в пять.)
Все верно. И никакого зеленого света.
Но ей же не померещилось!
Словно в подтверждение экранчик неожиданно вспыхивает. Лена вздрагивает и роняет калькулятор на бумаги. Он пищит громче, чем прежде, свечение более насыщенное, кислотно-зеленое, как перезрелое киви.
Калькулятор дребезжит и вибрирует, ездит по столу, оборачиваясь вокруг себя, а Лена думает, как поступить. Выбросить его в окно? Ударить о стену? Разломать рукоятью клюки?
В конце концов, не отдавая себе отчета, она прижимает ненастоящий телефон к уху.
– Алло?
– Пропал человек, – сообщает какая-то женщина.
Часто вдыхая, Лена внимательно слушает, что ей скажет калькулятор.
– ЗАПИШИТЕ: Сережа, двадцать четыре года. Убежал второго октября и не вернулся. ПРИМЕТЫ? Рост средний, глаза сумрачные, прихрамывает на правую ногу, на лице и руках – множественные ножевые порезы, кричит девчачьим голосом: «Господи, как больно!» Срочно нужна помощь в поисках.
– Что вы ко мне пристали? – не выдерживает Лена.
– Нашедший получит награду, – продолжает женщина, как будто и не к ней вовсе обращаются. – Начните с леса…
– Я старый человек! Сколько можно измываться?
Голос замолкает. Но Лена слышит дыхание, угнездившееся в сердцевине счетного аппарата.
– Зачем вы это делаете, можете объяснить? – Свободной рукой она протирает глаза, на которых выступили слезы.
После этого происходит совсем неожиданное: голос на том конце провода ей отвечает.
– Так нужно, – шепотом говорит женщина.
Лена хватается за нить разговора.
– Кому нужно? Сколько вам платят? Если дело в деньгах, я…
Калькулятор смеется.
– Деньги здесь ни при чем. Тут другое.
– Что? Скажите мне, как это прекратить?
Женщина шумно выдыхает.
– Ты уже в игре. Если сама начнешь звонить, звонки прекратятся.
– Куда звонить? Я не понимаю!
– Набирай любой номер, они сами определят, кого ввести в игру.
– Кто «они»?
– Я не могу говорить, они могут слушать, – шепчет собеседница.
– Погодите…
– В общем, ты меня поняла.
Разговор завершается. Свет тухнет. Лена кричит в калькулятор: «Алло! Алло!»
Ощущение домашнего уюта мигом испаряется. В душу вклинивается тревога, которая подобна жирному таракану, попавшему в восхитительную запеканку. Лена медленно опускает калькулятор на стол, а затем вставляет телефонный провод в розетку. Ожидает нового звонка. Но телефон нем. Он словно наблюдает за ней и, в свою очередь, ждет, какие действия она предпримет дальше.
Лена решительно снимает трубку, пальцы снова набирают номер полиции, и лишь когда в ухо поют длинные гудки, она спрашивает себя: зачем? Что она скажет? Что ей позвонили на калькулятор и ввели в какую-то игру? Едва Лена успевает подумать об абсурдности произошедшего, как в трубке раздается щелчок.
– Дежурный. – Тот же полицейский, с которым она разговаривала ранее.
Лена молчит. Просто не знает, что сказать.
– Алло? Говорите! – По голосу это уже не рыхлый торт, каким она его представляла, а хорошо пропеченный пирог с застывшим твердым кремом.
И Лена говорит. Говорит, как и велела женщина в калькуляторе.
– Вы уже посещали супермаркет «Огнивомне»?
– Что-что?
– Там новая акция. Соберите собачьи лапки, чтобы получить прекрасные новогодние свечи. Запомните: нужно ДЕСЯТЬ штук.
Она надавливает на рычаг, пока полицейский не успел ничего ответить на эту чушь. Прижав трубку к груди, Лена размышляет: если полиция сейчас зафиксирует номер, то узнает, что это звонила та самая полоумная бабка, которая жаловалась на телефонных хулиганов. Вот смеху-то будет.
– Бабка-хулиганка, – произносит Лена вслух и роняет короткий нервный смешок. В висках стучит кровь. Телефон же молчит. Может, это действительно возможность избавиться от звонков? Своего рода лечение от навязчивых разговоров.
Она отпускает рычаг и наугад набирает номер. На вызов долго не откликаются, но затем какой-то старик снимает трубку.
– В пансионат «Последний путь» требуется сиделка-проводница.
Прокашлявшись, старик говорит:
– А?
– Опыт работы необязателен. Главное – желание отправлять немощных на тот свет.
– С ума сошла?
Лена прерывает связь, попутно отмечая, что второй раз нести чепуху как-то легче. У нее начинают созревать идеи предстоящих разговоров. Она даже, покопавшись на столе, выуживает из-под журналов блокнот для записей, куда вносит самые удачные, по ее мнению, варианты не имеющих смысла предложений.
В течение следующих трех часов Лена делает около двадцати звонков. Кому-то рекомендует специальные корыта от фирмы «Спелые вишенки» для варки повидла из внутренностей, а кому-то – вместо сигарет использовать петарды, чтобы поскорее умереть. К полуночи она уже клюет носом, поэтому отправляется в кровать. Ложится, не раздеваясь, а ветер снаружи стучит в окна и поет печальную песнь.
Ей снится Шура. Она недовольна своей могилой, жалуется, что та расположена у самой ограды напротив шоссе. «Дом у дороги, – говорит Шура, закрывая крышку гроба. – Тут всегда так шумно».
Лена просыпается в поту. Сонная, она бредет к холодильнику, достает пакет с куриными крылышками. Прошлый день был слишком накаленным, а во сне ей расслабиться не удалось. Однако способ забыться все-таки существует.
Лена размешивает в глубокой тарелке майонез с яйцом, горчицей и прессованным чесноком, пока соус не принимает светло-русый, соломенный цвет – такого же оттенка волосы Славика. Обваливает крылышки в специях, солит, маринует. Выдавливает в получившееся месиво сок из половинки лимона. Запекает в духовке.
Кухня наполняется ни с чем не сравнимым запахом готовящегося мяса. По окнам ползают тени деревьев – прямо-таки мухи, учуявшие сладостный аромат. Лена спокойна.
Наутро блюдо с крылышками, сервированными листьями салата и маслинами, стоит рядом с пышным пирогом. Лена же обнаруживает сообщение: «Нельзя останавливаться» – и совсем не удивляется тому, что оно пришло на калькулятор. Она знает, кто его прислал.
Бестолковая игра продолжается. Заварив чаю и делая глоток, от которого горло пылает огнем, Лена опять наобум набирает какую-то комбинацию цифр, вертя телефонный диск, а перед глазами стоит хмурое лицо сестры, жалующейся на свой «дом у дороги».
Усталая женщина на том конце провода протягивает: «Да-а». В голосе ясно угадываются безнадега, обреченность. Слова к Лене приходят сами.
– Вы уже заказали памятник? – интересуется она, стараясь не обращать внимания на прерывистое дыхание собеседницы.
Та молчит, и Лена воспринимает это как зеленый свет.
– Памятник стоит недешево, закажите лучше надгробную плиту.
Из трубки доносится сдавленный всхлип.
– Какой у вас рост? – не унимается Лена. – Можно изготовить гроб из осины, чтобы отпугивать нечисть.
Женщина начинает плакать.
– Как же я от вас устала! – хлюпая носом, говорит она. – Что вам от меня нужно?
У Лены голова идет кругом, словно ее ударили мешком картошки, она тотчас вешает трубку и шепчет:
– Господибожемой.
Какая цель всего этого? Довести людей до слез, напугать до чертиков? Она вдруг чувствует себя обессиленной, как и в тот день, когда умерла Шура. Нет желания двигаться, думать или заботиться о завтрашнем дне, хочется просто сидеть за столом с чашкой чая и глядеть в окно на ослепительно сияющий снег. Тропинку вновь занесло. Стекла обрамляют морозные узоры, в которых ей видятся кричащие лица. Лица тех, кто отчаянно кричит в пустоту, но никому нет дела до их воплей.
Желудок урчит, требуя еды, однако к горлу подступает тошнота, едва Лена представляет, как готовит завтрак, а в это время женщина, с которой она только что поговорила, мучается от беспощадных звонков. Как и она сама вчера.
Тем не менее нет никаких поводов для беспокойства, так ведь? Сегодня телефон ни разу не зазвонил. Она сделала все, чтобы звонки прекратились. Рука опять тянется к трубке для новых переговоров, но рассудок возражает.
Лена выпивает остывший чай и разворачивает газету.
К обеду ее состояние улучшилось, она даже смогла похлебать супа. Сообщение приходит, когда Лена подметает кухню. Калькулятор сверкает насыщенным изумрудным светом, который сопровождает короткий писк. На экране отображается телефонный номер. Фамилия абонента не указана. Видимо, это тот, кого «они» решили «ввести в игру». По крайней мере Лена так понимает данное послание.
Следующее сообщение поступает примерно через час и тоже содержит номер, но уже другой. Во второй половине дня приходит, наверное, дюжина подобных весточек, и все это время калькулятор визгливо пищит.
Лена никуда не звонит, она больше не намерена идти на поводу у каких-то психов. Если будет нужно, она отключит телефон, а калькулятор разобьет и бросит его останки в снег.
Вечером снова болит левая рука. В прошлом году Лена поскользнулась на тротуаре и упала на бок, ударившись рукой о бордюрный камень. Перелом был закрытым, но заживал около полугода: кости никак не хотели срастаться. С тех пор перелом периодически дает о себе знать ноющей болью. Лена рисует йодовую сетку, а спустя полчаса, когда боль становится нестерпимой, мажет руку «Фастумгелем», оборачивает в целлофан и держит на коленях, как младенца.
По телевизору – ничего интересного, однако он все равно помогает отвлечься от боли. За окном уже стемнело, зима-кровопийца прикончила еще один день.
В доме звонит телефон. Он заливисто голосит шесть раз. Восемь. Десять. Лена не шевелится. Телефон умолкает. Чуть позже снаружи о стену дома что-то глухо ударяется. В испуге Лена вцепляется в ручки кресла.
– Ветер, – успокаивает она колотящееся сердце, но сама себе не верит: погода-то сегодня тихая.
Телефон оживает снова, и Лена, опираясь о подлокотники, не обращая внимания на пронзившую руку боль, проворно встает. Клюка падает и откатывается, но Лена не тратит времени, чтобы ее поднять.
Запыхавшись, она хватает трубку, целлофан на руке протестующе шелестит. Старуха неприятным, будто холодный прокисший суп, голосом обращается к ней:
– Алена, это ты?
Лене кажется, что это сон.
– Шура? – еле выдавливает она.
– Ровно в пять Шуру гонят к огненному чану раскаленными прутьями, – старуха смеется, а такое чувство, что это хохочет целое полчище демонов.
Лена замирает, рот открывается в немом изумлении. Демоны в трубке говорят:
– Помогите найти черных вдов.
– Я же звонила! – Лена дышит часто, как человек, пробежавший несколько кругов на стадионе. – Сделала все, как просили!
– Особые приметы: черные пауки с красными черепами на брюхе. Самый мелкий достигает метра в длину. При обнаружении затаить дыхание, притвориться мертвым.
Лена хочет бросить трубку. Швырнуть ее на пол, растоптать ногами.
– Шура жрет мятные пряники до посинения. Жрет и даааавится.
Трубка сама вываливается из руки, а Лена нащупывает в темноте телефонный провод и вырывает его из розетки. Берет калькулятор и, зайдя в туалет, без зазрения совести кидает в унитаз. Прежде чем скрыться в сливном отверстии, он зажигается противным, как увядшая трава, зеленым светом.
Во рту у Лены сухо, словно там поселился клочок выжженной солнцем пустыни, зубы – это кактусы, колючие, щетинистые.
Руки знают свое дело. Они глазируют молодую морковь, а потом вырезают кондитерской ложкой шарики безупречной формы. Обвалянные в сахарной пудре, с изюминкой прямо по центру, шарики эти жуть как напоминают глаза.
Ночью Лена просыпается с безотчетной тревогой, сдавившей горло стальным воротником. Она забыла вечером задернуть шторы, как делала всегда, потому через прозрачный тюль теперь пробивается лунный свет и обледенелыми цветами ложится на ковер. Тишина напряженная, даже драматическая, словно пауза в театре, после которой непременно должна последовать смерть главного героя.
И в этом зыбком беззвучии, в этой взрывоопасной тишине Лена слышит скрип калитки. Шаги к дому. Она резко садится в постели, одеяло сползает на пол. Вновь наступает затишье, но лишь на мгновение, потом тишина будто набухает и рвется, расползаясь по двору какофонией звуков. Раздается треск, который кажется Лене оглушительным, а следом – удар о землю. Дребезжание, будто кто-то заводит газонокосилку, и хруст, какой бывает, когда ломаешь толстую ветвь или, например, кости руки – вот только звук этот усилен динамиками.
Лена спускает ноги с кровати и осторожно идет к окну, стараясь не создавать шума. Случилось то, чего она страшилась больше всего: кто-то проник во двор и, судя по тому, что он не боится быть обнаруженным, скоро ворвется в дом.
Интересно, догадаются ли соседи позвонить в полицию? Она надеется на Мишу. Такой переполох невозможно оставить без внимания.
Что-то с низким жужжанием пролетает через двор и врезается во входную дверь. Лена рефлекторно пригибается. Она достигает противоположной стены и прижимается к ней меж окон. Аккуратно отодвигает штору, выглядывает во двор. Сверху безучастно глядят мириады звезд и крупная, точно тазик, наполненный мукой, луна. Чуть ниже – прямо на уровне с Лениным лицом – на нее взирает слюнявая морда. Выпученные, налитые кровью глаза мерцают, точно рубины, нос, прижатый к стеклу и превратившийся в свинячий пятак, выдыхает пар. Огромный рот, обрамленный свалянной шерстью, раскрыт, показывая черный язык.
Разум внезапно проводит параллель и выуживает из анналов памяти воспоминание о том, как отец давным-давно сказал, что если у собаки небо и корень языка темные, то собака злая, если они розовые – то добрая. Так вот у существа, прислонившегося к стеклу, вся глотка черная. А в этой черноте, в этой смоляной дыре белеют зубы.
Вскрикнув, Лена отпрыгивает, совсем как девочка, однако ноги так дрожат, что не могут удержать равновесия, и она падает на пол. Рука тут же отзывается болью. Спустя миг из кухни доносится звон бьющегося стекла, по полу тянется холодный воздух. Лена переворачивается на живот и поднимается, отталкиваясь от пола руками. Едва больная конечность ощущает вес тела, жгучая боль пронзает все предплечье, отчего женщина снова падает. Лена ползет к кровати, как партизан, скрывающийся в окопе. Колени хрустят, изо рта вырываются стоны. В это мгновение она сравнивает себя с древней ржавой телегой, доживающей последние минуты. В прогале между кроватью и шкафом ей кое-как удается сесть, подобрав под себя ноги.
Лена видит: у окна все еще стоит жуткое существо. Четко различается его силуэт. Вероятно, оно заглядывает в комнату, пытаясь отыскать ее своими бешеными краснючими глазами.
Лена видит: оно отходит от стены, и в этот момент тень его, падающая на ковер и имеющая очертания человеческой фигуры, вытягивается. Хорошо различимы широкие плечи и руки, висящие по бокам, настолько длинные, что, похоже, достают до земли.
Она видит: мимо другого окна шествует вторая тварь. Тень ее тоже касается ковра, перед тем как скрыться во мраке, и – господибоже, шепчет Лена – голова тени напоминает собачью. Или воронью? Без света разобрать трудно – не исключено, что эта продолговатая часть морды является клювом.
Лена видит: снег во дворе взрывается фонтаном белой пыли, и в этом молочном тумане мелькает третье чудище. Провал пасти, раскрытой настолько широко, что она способна разом проглотить целого человека. Пасть аллигатора. Пасть анаконды.
Хлопает калитка. Сердце колотится так сильно, что Лене думается, будто ее сейчас хватит приступ. Шум во дворе унимается, существа, ставшие его причиной, больше не попадают в поле зрения, однако покинуть укрытие она все равно не решается. Сквозняк ползет по полу, как питон, узревший добычу. Лена мерзнет.
Неизвестно, сколько она сидит в темном углу, вцепившись в каркас кровати, но все это время прислушивается к каждому шороху, боясь разобрать за привычными поскрипываниями старого дома другие звуки, тихие и такие пугающие – типа звука осторожных шагов где-нибудь в кухне или едва различимое дыхание. Клацанье громадных зубов. Еле слышный утробный рык.
И она дожидается. Когда Лена, собравшись с духом, выглядывает из-за кровати и, прищурившись, всматривается во тьму, в соседней комнате кто-то неожиданно начинает говорить. Она вжимается в стену и плотнее стискивает металлические прутья.
Голос идет не из кухни, он дальше, а значит, непрошеный гость находится в той комнате, где Лена обычно по вечерам сидит в кресле перед телевизором. Болтает он без остановки.
– В доме у дороги, – слышится ей, а потом: – Ровно в пять. – Далее что-то неразборчивое.
Немного погодя обострившийся слух улавливает фразу: «День Пряников придет опять», и этот голос… точно воздушный пудинг, политый вишневым сиропом… никаких сомнений, это голос Шуры!
Лена чувствует, что падает, комната даже словно опрокидывается на нее. Однако падать некуда, ведь она сидит, привалившись к стене. В голове одновременно возникает несколько мыслей, и та мигом тяжелеет, будто бы мысли эти обретают вес. Они выстраиваются в цепочку.
Первая напоминает о том, что пять часов – время ежедневных телефонных переговоров с сестрой – было выбрано не случайно: именно тогда ушел из жизни Шурин супруг. Однажды та заявила, что в пять ощущает его присутствие особенно остро и ей срочно нужно с кем-то поговорить, чтобы отвлечься от мрачных дум. Она считала, что муж каждый день приходил за ней. Приходил и ждал.
«В пять часов как штык», – так она сказала Лене.
«Иногда я слышу его кашель», – вспоминает Лена слова сестры, которые в прошлом показались ей не совсем истинными, а сейчас обрастают смыслом.
Ей представляется, как в день своей смерти Шура набирает на телефоне номер, но замирает с трубкой в руках, потому что слышит шаги во дворе. Со скрипом отворяется входная дверь. Теперь чья-то тяжелая поступь раздается в коридоре. Кто-то входит в дом, но она не ждет гостей: просто некому к ней прийти. Старший сын не объявлялся уже много лет, а младший живет в столице. Ее любимый мальчик, он актер и играет в театре.
Открывается дверь, по полу сквозит, в комнату забирается знакомый запах, резкий, насыщенный. Трудновыводимый. Запах табака, именно так всегда пахло от супруга. И прежде чем гость входит в комнату, Шура уже знает, кто это. И вот он в доме. Такой же худой, сгорбленный, словно держит на плечах груз прожитых лет. Пиджак и брюки испачканы, галстук – синий галстук, в котором он был на свадьбе, а через годы лег в гроб – сбит набок. В седых волосах – комья земли. Он опирается о дверной косяк и смотрит на нее в упор, а затем произносит фразу…
Лена мотает головой и отгоняет страшную картину прочь. Но на смену ей приходит новая: в дверном проеме уже никого нет, в комнате только Шура. Одной рукой она хватается за сердце, а другой удерживает телефонную трубку, будто ищет в ней спасение. Костяшки пальцев белеют. От боли в груди у Шуры перехватывает дыхание, и она словно тонет, но не в воде, а на воздухе. Впивается взглядом в потолок…
Следующая мысль короче, но бьет больнее, чем деревянная скалка: «Она пришла за мной». Подобную фразу и произносил Шурин муж в видениях Лены.
«Вот и пришел я, Шура. За тобой».
– Она пришла с теми, кого я видела в окне, – шепчет, даже хрипит, Лена. – Вылезла из земли и пришла.
Тем временем Шура продолжает говорить, слова звучат громче, однако смерть лишила голос эмоций. Механический голос диктора, голос ночи и кошмарных снов. У Лены получается разобрать часть нескончаемой речи:
– В доме у дороги ровно в пять День Пряников придет опять.
Мамины мятные пряники, отец с вилами у стога сена, маленькая Шура на лошадке-качалке, их крепкий деревянный дом, козы, щиплющие траву на заднем дворе, стайка гусей, резвящихся в луже, отутюженные пионерские галстуки, жгуче-красные, точно кровоточащие раны, – обрывки прошлого, разбуженные детским стишком, проносятся перед взором в хаотичном вихре.
Лена встает.
– В пять мы будем все играть, – говорит мертвая Шура.
Клюка – в изголовье кровати, Лена берет ее. Скорее в качестве средства защиты, а не опоры. Доходит до двери, шарит рукой по стене, нащупывает выключатель и зажигает свет.
– Прятаться и убегать.
Стылый ветерок приносит запах сырой земли. Клюкой Лена толкает дверь, прямоугольник света падает на ковер, захватывает часть кухонного стола, справа от которого вздымается занавеска, гладит спинку стула и опадает, а слева – чуть приоткрытая дверь в другую комнату. Именно там сейчас сестра. Сидит, окоченелая, в Ленином кресле, в темноте, ставшей для нее такой привычной за время, проведенное в гробу. Цветастое платье изъедено червями, из-под платка соломой выбиваются седые волосы, ко лбу все еще приклеена иконка с ликом Девы Марии.
Лена идет на встречу с сестрой.
– Потом пойду тебя искать.
За дверью тускло-зеленые всполохи.
– В доме у дороги ровно в пять.
Стихотворение повторяется снова и снова. Ленин взгляд цепляется за икону в углу. В полумраке кажется, что голова Богоматери увеличена, рот раззявлен, как у той твари, явившей себя в снежном фонтане.
Лена поскуливает от страха, поднимает клюку, держит ее, как копье. Резко распахивает дверь, которая ударяется о стену и, дребезжа, возвращается назад. Комната наполнена мерцающим оливковым светом.
Работает телевизор. Ваза с еловыми ветвями, стоящая на нем, подрагивает от звука. Телевизор транслирует зеленый квадрат, который говорит голосом Шуры.
– Ровно в пять День Пряников придет опять.
Самой покойницы нет.
Лена отводит руку назад и с воинственным кличем запускает трость в экран. Ваза шатается, падает и разбивается, по экрану расползаются трещины, тут же обрастающие желто-синими плавными линиями.
– В пять мы будем все играть.
Она хватает с подлокотника кресла пульт и отключает телевизор. Отключает голос сестры, вещающий с того света. Медлить некогда, Лена действует быстро. Она достает с холодильника телефонный справочник Берильска, открывает страницу с фамилиями, начинающимися на букву «А», и начинает выполнять то, что от нее требуется. Предупреждение она поняла.
Без передышки Лена звонит до самого рассвета, поднимает горожан с постелей, «вводит в игру».
Рассвет невообразимо красив. Такое ощущение, что над головой столкнулись два неба. Царский пурпур, вырастая из темноты на горизонте, рождает золотые кружева, а те, в свою очередь, производят полосы – но не простого желтого оттенка с налетом синевы, а цвета песка, сияющего в слепящих лучах солнца на дне кристально чистого озера. Буйство красок – точно разводы бензина на воде, цвета перетекают один в другой, пока наконец не становятся сапфировым полотнищем, которое движется и съедает второе небо – черный шелк, расшитый блестящим бисером, с жемчужиной, выращенной утробой гигантской ракушки.
Свет делает все таким правильным, естественным. День и ночь – две стороны сознания, считает Лена. Днем мы видим мир в истинном свете, а ночью сознание переходит из первой фазы во вторую – ту, что показывает нам сны. Вторая фаза позволяет лицезреть нереальное. Сегодня же Лена стала невольным свидетелем того, как две фазы слились воедино.
На мгновение она замирает, глядя в разбитое окно на прекрасный рассвет. Ее заминки хватает для того, чтобы телефон успел затрещать.
– Алло? – говорит она, не отрывая взгляда от огненного бриллианта, восстающего над землей, раскинув в стороны яркие лучи.
– Видела их? – спрашивают в трубке.
Женщина. Та, что связывалась с ней по калькулятору.
– Видела.
– Хочешь еще?
– Нет.
– Тогда звони. – После короткого молчания женщина добавляет: – И я видела. – Ее голос дрожит. – И мой сыночек тоже. Его больше нет.
– Как нет?
– Они забрали сына, когда я перестала звонить. Но я сумею его вернуть. – От решимости в ее голосе Лене становится еще страшнее.
Женщина говорит:
– Если вдобавок будешь отправлять письма и расклеивать объявления, перейдешь на новый ранг. Тогда тебя не тронут.
Она говорит:
– Никого не тронут.
– С ними была моя сестра. Она умерла полгода назад, но говорила со мной из телевизора.
– Ага. Моя умершая мать кричала в форточку, что вилами проткнет мне брюхо.
Женщина продолжает:
– Они вытягивают информацию из подсознания. Используют ее, чтобы подчинить нас.
Тот самый момент, когда вторая сторона сознания вплетается в первую.
– Да что же такое творится?
Собеседница понижает голос, словно раскрывает страшную тайну:
– Они захватывают город. Но сперва им нужно сломать нас всех.
Тем же приглушенным тоном она произносит:
– Те, кого ты видела, – всего лишь исполнители. Низший класс. Они – другие. Они выше.
Лена спрашивает:
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. Я же в этом деле дольше тебя.
– Зачем им нужен город?
Трубка молчит.
– Почему они это делают?
Лена вопрошает у разбитого окна:
– Этому когда-нибудь будет конец?!
Женщина долго не отвечает, и Лена произносит:
– Алло?
– Все, что я знаю, – мы не первые. В их власти много городов.
Она говорит:
– Уже давно.
А затем говорит:
– Мы будем жить по их правилам. Как они нам скажут.
Мы будем жить для них.
Лену колотит от холода и ужаса, когда она, завернувшись в шаль, оценивает разгром во дворе. Первое, что бросается в глаза, – вишня, с корнями вытащенная из земли и переломанная надвое. Все кустарники тоже выкорчеваны, бельевые веревки порваны, в заборе видны прорехи, тут и там из снега торчат обломки шифера, снятого с крыши. Лене срочно требуется доза успокоительного.
Скалкой она раскатывает тесто по столу. Снимает пленку с говяжьей печени, удаляет прожилки, перекручивает на мясорубке. Все ингредиенты, включая кинзу, репчатый лук и натертое яйцо, выкладываются в столбики на прямоугольнике теста. Кинза пахнет клопами, однако добавляет блюду пикантности. Лена знает: чтобы перебить резкий запах, нужно замочить листья кинзы в растительном масле.
Телефон молчит: дает ей возможность привести себя в чувство. Само время будто останавливается, когда Лена создает очередной шедевр кулинарии.
Она сворачивает рулет, приминает его со всех сторон, и запекает в духовке до цвета загорелого тела, и украшает, пока яство не становится произведением искусства, которое никто никогда не попробует и не оценит.
Рулет, поданный на широком блюде с кольцами помидоров и тонкими ломтями сыра, становится в один ряд с пирогом, куриными крылышками и морковными шариками. Все кушанье выглядит очень аппетитно, однако Лена не чувствует голода. Заставить себя что-то съесть и даже не прямо сейчас, а вообще – это так же безумно, как полоть огород перед надвигающимся смерчем.
Лена снова принимается обзванивать горожан по справочнику. До многих дозвониться не удается: абоненты заняты. Даже когда она возвращается к ним позже, то все равно натыкается на короткие гудки. Теперь они заняты постоянно.
К вечеру от холода она не чувствует рук и уже не соображает, что говорит.
– Встретим завтра вместе День Пряников? – еле ворочая языком, предлагает она кому-то. – Скажем, в доме у дороги ровно в пять?
– Теть Лен, это вы хулиганите? – удивленно спрашивает сосед Миша.
Она так замерзла, что ее зубы отстукивают чечетку. Она так устала, что иногда во время разговоров засыпает с открытыми глазами.
– Что там у вас стряслось во дворе?
Лена не шевелится. Только грудь слегка приподнимается и опадает: она спит. Чуть погодя ее руки самостоятельно возвращают трубку на место, стаскивают со стула накидку и укрывают плечи. Под гнетом зимы-кровопийцы погибает очередной день.
Сквозь сон она слышит заливистый трезвон. Телефон звонит бесконечно долго, однако она не находит в себе сил, чтобы ответить. Наконец звонки прекращаются, и Лена еще глубже зарывается в рыхлую почву сна.
Под утро она резко вскакивает, как человек, проспавший время подъема на работу, и вновь берется за дело. Хватает трубку, а оттуда доносится голос:
– Мама!
Она ошалело глядит на телефон, когда тот верещит: «Мама! МАМА!» Под спиральками провода видна скопившаяся грязь.
– Света?
– Славик пропал!
Лена не может сдвинуться с места, не может вдохнуть. Легкие сжимает железный обруч. Мозг перестает посылать сигналы рукам и ногам, отчего те превращаются в негнущиеся палки – настолько они напряжены. Боже, что же она натворила?
– Я не могу до него дозвониться всю ночь! – дочь рыдает взахлеб. – Его отец тоже не отвечает! Где он шляется?!
Теперь в голосе Светы слышна вся ярость, весь гнев, который она копила со времен развода. С тех самых пор, когда она перестала произносить имя бывшего мужа и начала называть его исключительно «отцом Славика». Лена стискивает пластик так, что он начинает скрипеть, и ругает себя: «Как ты могла уснуть?!»
– Попробуй тоже дозвониться до его отца. – Слышно, как Света сморкается. – Я сегодня вылетаю в Москву!
Заканчивая разговор, Лена знает, что отец ничем не поможет Славику, исправить ситуацию способна только она. В открытое окно влетает ветер. Часы тикают. Ведут свой отсчет в этой стылой тишине.
Скованными морозом руками, тонкими, точно паучьи лапки, Лена вырывает чистые листы из блокнота для записей и выводит на каждом: «ОБЪЯВЛЕНИЕ».
Следом пишет:
«Пропал мальчик восемнадцати лет. Глаза карие, волосы соломенные, курчавые. Большой мясистый нос. Хорошо развит, эрудирован. Отличник. Походка твердая. Мы страдаем. Носит в основном кроссовки, джинсы, спортивную куртку. Сделаем все, что скажете. Верните внука!»
Правая рука отказывает, и тогда Лена пишет левой. Времени, конечно, уходит больше, да и получаются одни лишь каракули, но это не важно: они поймут.
Подставив руки под струю горячей воды, Лена ощущает, как они размягчаются, вновь обретая способность шевелиться, видит, как вздуваются синие вены. Руки приходят в боевую готовность, теперь они хотят разрядки…
Она варит сахарный сироп, а из оставшегося после рулета теста скатывает шарики величиной с грецкий орех. Кладет шарики на противень, расплющивает их кулаком и ставит в духовку на пару минут. Важно знать: нельзя доводить сироп до золотистого цвета, потому что в этом случае он быстро загустеет и превратится в карамель.
Лена добавляет в варящееся сахарное месиво мятную эссенцию, а потом поливает получившимся раствором выложенную на решетку выпечку. Глазурь застывает на глазах, и вот мятные пряники пополняют строй готовых блюд на кухонной тумбе.
Она чувствует себя разбитым сырым яйцом. Выглядит примерно так же. Надевая пальто на ночную сорочку, краешком глаза замечает одно из чудищ, которое задержалось после ночного визита. Оно каким-то образом забралось в зеркало и теперь взирает на нее оттуда. Лицо существа как луна, морщины – словно кратеры, такие глубокие, что в них можно даже спрятать какие-нибудь предметы. Глаза красные, воспаленные. Кожа половой тряпкой свисает с подбородка и щек, тянется к земле.
Никакое это не чудище, а не кто иной как она сама. Такая утомленная, измотанная.
Лена сует в карман деньги и найденный в тумбочке тюбик клея, молясь, чтобы тот оказался незасохшим, и с кипой объявлений под мышкой выходит из дома. Ей плевать на то, что она забыла дома трость. Плевать на то, что мороз кусает голые ноги. Абсолютно безразлично, что она второпях не додумалась обуться в сапоги и бредет по снегу в домашних тапочках.
К фонарю на краю улицы Лена лепит объявление о пропаже Славика. Сугробы по обеим сторонам дороги огромные, точно горы суфле.
В городе явно происходит что-то ужасное. Все вокруг кажется неправдоподобным, гротескным. Она идет мимо гаражей, которые то вздымаются, то опадают, чем походят на грудь впавшего в спячку великана. Один из них перевернут, на том месте, где должна быть крыша, чернеют каменные блоки фундамента, в дверном проеме видна красная машина с разбитыми стеклами, лежащая вверх тормашками на потолке. Но стоит только Лене взглянуть на гаражи, как они становятся прежними. А когда она отводит глаза, они вновь шевелятся, елозят, оборачиваются вокруг своей оси.
За дни, что Лена провела дома, Берильск как будто исказился. Преобразовался. Улицы вырастают друг из друга в некой телескопической перспективе, как будто смотришь на них через глазок в двери, прислоненный к другому глазку.
Цвета померкли, вылиняли, стерлись. Монохромная серость расползается по кварталам, как грязное пятно на яркой одежде, заглатывая все на своем пути: дома, вывески на магазинах, рекламные плакаты, автомобили и людей. Все, кого встречает Лена, имеют одинаковые серые лица, запавшие глаза, искривленные печалью рты. Люди, как и она, развешивают объявления на зданиях, запихивают под дворники машин, бросают в воздух, давая ветру возможность разнести их по району. Телефонные линии перегружены.
Что-то чужое ощущается в воздухе, враждебное. Какая-то холодная отстраненность. Какое-то звенящее отчаяние.
Уныние. Безнадега. Угнетение. Скрытое под пологом меланхолии беспокойство. Пульсирующая горечью ипохондрия.
В почтовом отделении очередь. Никто не разговаривает, никто не приветствует знакомых и не справляется о здоровье. Кассир за стеклянным окошком молча отпускает клиентов, вручая им вместе с покупками отпечатанные на компьютере предложения о выгодных кредитах или акциях в супермаркетах на приобретение по сниженной цене пыточных орудий. О туристических поездках в Бермудский треугольник с билетом в один конец. О появлении нового сильнодействующего наркотического средства – телефонного аппарата, в таких афишках написано: «Опомнитесь! Телефон отнимает ваши жизни. Телефон убивает».
Когда Лена подходит к кассе, конвертов уже практически нет. Она забирает оставшиеся. За ней – очередь до самых дверей. Зомби, выстроившиеся в ряд. Голодными глазами глядят они на хиленькую пачку конвертов, прижатых к груди. Кто-то идет следом за ней, а кто-то преграждает ей путь.
– Прочь, – шипит она, пряча сокровище под пальто, и что-то в ее взгляде если и не отпугивает, то заставляет их отступить. Как шакалы, они разбредаются по помещению. Как упыри, они следят за каждым ее шагом из темных углов.
Лена вдруг ясно ощущает подъем сил. Мысль о том, что на карту поставлена жизнь внука, наполняет ее странным очарованием. За общественным столом она пишет письма. У нее нет с собой бумаги, поэтому мольбы о возврате Славика она выводит прямо на оборотной стороне конвертов. На лицевой части указывает первые пришедшие в голову адреса.
Внезапно тишина взрывается шелестом голосов.
– Они идут, – шепчутся люди.
Некто говорит: Они – это новое правительство. Кто-то заявляет, что Они – это скопление всех переживаний, провалившихся надежд, сплетение неоправданной боли и дурных эмоций, клубок обид, пустых обещаний и оставленных без ответа вопросов.
Они из чужеродных миров. Они – это новые боги. Люди судачат о постройке новых церквей.
Лена отправляет исписанные конверты в ящик для приемки писем и спешит домой, ей во что бы то ни стало нужно успеть передать послание именно Им. Снег скрипит под ногами неестественно громко.
Улицы пусты, машины брошены прямо посреди дороги, неработающие магазины хлопают открытыми дверями. Серость плесенью покрыла каждый клочок города, который похож на старую потрескавшуюся фотографию, на копию, снятую с копии на еле дышащем ксероксе. Окна многоэтажек заполонили лица. Напряженные и испуганные, они ждут прибытия диктаторской хунты, совершившей переворот в Берильске.
Приближаясь к дому, Лена слышит колокольный звон, непривычный и неправильный, совсем не церковный. Это звон столкнувшихся миров. Звуковая волна идет из долины на горизонте, стены домов резонируют.
Стрелки часов замирают на пяти, и, сбрасывая с себя пальто, Лена бубнит: «В доме у дороги ровно в пять День Пряников придет опять».
Она выкладывает на столе лицо из мятных пряников – продолговатое, с крупным подбородком. А земля сотрясается от шагов исполинов.
Разрезает пирог полукругом, так что получается улыбающийся рот. Свет преломляется, лампочки трещат от напряжения, из розеток вылетают искры. Плита, паникуя, выпускает из конфорок языки пламени.
Место глаз занимают морковные шарики в белой глазури с изюминкой посередине. Посуда в этот миг дребезжит в шкафах.
Нос заменяет мясной рулет. Большой мясистый нос. В окно видны восстающие над крышами домов смоляно-черные тени.
Бровями служат две веточки кинзы, а куриные крылышки, запеченные в духовке, становятся волосами. Воздух подрагивает и, обретая цвет морской синевы, становится видимым, реальность словно выворачивается наизнанку. Как будто глядишь на мир через дверной глазок, скрытый за другим глазком.
Когда Они входят в город, у Лены все готово. На столе – улыбчивый мальчик с удивленными карими глазами, крупным носом и курчавыми соломенного оттенка волосами. Вот он, ее Славик. Созданный с любовью и надеждой на безоблачное будущее.
– Все будет хорошо, – говорит ему Лена.
Это лицо – для них. Чтобы они знали, кого нужно вернуть. Чтобы поняли, что она не намерена отступать. Лена находит в записной книжке нужное имя. Набирает номер, вертя телефонный диск трясущимися пальцами, и, дождавшись ответа, говорит в трубку:
– Мы поклоняемся святыням, но дары волхвов не видели ни разу.
– Мама, это ты?
– Если вы тоже, то приходите к шести утра на службу в Пятизнаменный храм. Будет душевно и весело, особенно когда жертву вздернут под самый купол.
– Мама, что ты несешь? – Света плачет.
Лена тоже плачет. Голос ломается от раздирающих ее чувств.
– Мы вернем его, Света! – кричит она.
Гигантская тень наклоняется к разбитому окну, заглядывает внутрь. Изъеденная космическим мраком морда клубится черным дымом. Существо видит послание, оставленное на столе, однако оно смеется, словно воспринимает Ленино обращение как шутку. Смеется над старой измученной женщиной, сделавшей из аппетитных блюд собственного внука.
Вибрирующая от хохота воздушная волна обдает Лену, взметает ее волосы, достигает стола.
Лена кричит, когда трубка насмехается над ней короткими гудками:
– Слышишь? Мы вернем его!
Исполин движется дальше, Лена провожает огромное нечто вытаращенными глазами. И после его ухода пряничное лицо на столе произносит:
– Бабушка?
Станислав Минин
Благодарности
Спасибо за помощь и поддержку людям, без которых эта книга никогда бы не нашла своих читателей.
Читательская таргет-группа:
Татьяна Иванова
Евгений Чернявский
Татьяна Янушко
Александр Павлов
Дмитрий Прокофьев
Анна Коноплева
Орнелла Такиева
Сергей Никонов
Илья Бессонов
Алан Кодзаев
Марина Кулакова
Илья Окунев
Рустам Искандаров
Анастасия Асмаловская
Жанна Бейсенова
Ирина Парфенова
Илья Старовойтов
Анастасия Гал
Координаторы:
Роман Давыдов
Сергей Королев
Автор идеи, организатор:
М. С. Парфенов
Редакторы («Астрель-СПб»):
Ирина Епифанова
Александр Прокопович
Медиасеть Horror Web:
horrorzone.ru (Зона Ужасов)
darkermagazine.ru (DARKER)
russorosso.ru (RussoRosso)
Уважаемые читатели!
Мы всегда рады отзывам и рецензиям на книги нашей серии.
Пишите о нас на сайтах книжных магазинов, на литературных ресурсах вроде Фантлаба и Лайвлиба. А если будете писать в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и т. д.), используйте хештег #СамаяСтрашнаяКнига – тогда мы сможем отследить и прочитать то, что вы думаете о нас.
Самую свежую и актуальную информацию о новинках и планах ССК вы всегда можете узнать на одном из наших официальных ресурсов:
horrorbook.ru – сайт
vk.com/club70130663 – страница ВКонтакте





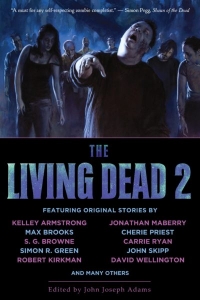
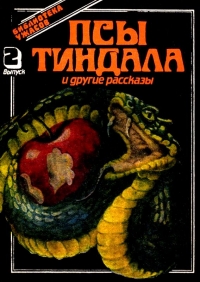
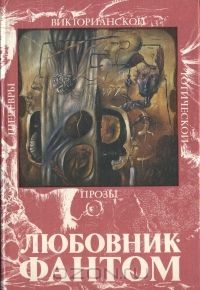
Комментарии к книге «Самая страшная книга 2019», Максим Ахмадович Кабир
Всего 0 комментариев