Кэтрин Валенте Сказки сироты: В ночном саду
Catherynne M. Valente: THE ORPHAN’S TALES: IN THE NIGHT GARDEN
Печатается с разрешения издательства Spectra, an imprint of Random House, a division of Random House LLC и литературного агентства Nova Littera SIA.
В оформлении обложки использована иллюстрация Михаила Емельянова.
Автор внутренних иллюстраций: Майкл Уильям Калута.
© 2006 by Catherynne M. Valente
© Наталия Осояну, перевод, 2015
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2016
© 2006 by Michael Wm. Kaluta, interior illustrations
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Посвящается Саре, которая, будучи совсем юной, мечтала о саде
Степная книга
Начало
Жила-была девочка, чьё лицо напоминало молодую луну, сияющую над кипарисовой рощей, и перья птиц, что живут у воды. Девочку эту переполняли тайны. Зимой по ночам она любила сидеть посреди огромного дворцового Сада, прижав ладони к снегу, и наблюдать, как он тает от тепла. Она носила венок из побегов чеснока и глицинии; утоляла жажду, черпая воду из фонтанов, украшенных лазуритом; дождливыми вечерами ела холодные груши под соснами.
С самого рождения у девочки имелась странная и удивительная отметина: её веки и кожа вокруг глаз были окрашены в густой иссиня-чёрный цвет и походили на чернила в фарфоровых чашечках. Из-за этого она выглядела загадочной и угрюмой, будто сова, сидящая на жердочке из слоновой кости, или енот на берегу игривой реки. Повзрослев, девочка могла бы не подводить глаза тёмным карандашом.
Отметина вызывала страх у людей, поэтому девочку в совсем юном возрасте бросили в Саду, что простирался вокруг многобашенного Дворца, где она с той поры и бродила. Родители смотрели на неё с содроганием и ужасом, гадая, не испортило ли уродство дочери их собственную репутацию. Вельможи были твёрдо уверены, что она – демон, посланный уничтожить блистательный двор. Дети вельмож, носившиеся по Саду стайкой диких гусей, старались держаться от девочки подальше, опасаясь проклятия, наложенного ужасными силами. Султан колебался: окажись она и впрямь демоном, не стоило навлекать на себя гнев её адской родни, небрежно покончив с девочкой, как если бы речь шла о необходимости скосить сорную траву. В конце концов, её молчаливость и уединённый образ жизни оказались весьма кстати – благодаря им можно было делать вид, что всё хорошо.
Так продолжалось много лет, и тринадцать раз расцвело лето, словно большая оранжевая роза, – расцвело, а затем увяло.
Как-то раз к девочке подошло другое дитя – не слишком близко и осторожно, как олень, готовый в любой момент исчезнуть среди теней. Это был мальчик, с лицом, напоминавшим зимнее солнце, и стройный, будто речной тростник. Он остановился перед девочкой, одетой в потрёпанное шелковое платье и поношенный плащ, некогда бывший белым, и провёл по её векам указательным пальцем, источавшим сладкий аромат. К своему удивлению, она не отшатнулась – ведь ей было одиноко, и её, как обычно, переполняла печаль.
– Ты в самом деле дух? Очень-очень злобный? Почему у тебя такие глаза – тёмные, как озеро перед рассветом? – спросил хорошенький мальчик и наклонил голову, словно ибис, замерший посреди реки.
Девочка ничего не сказала.
– Я тебя не боюсь!
Мальчик вёл себя храбро, но его голос дрогнул. Девочка продолжала смотреть на него, а ивы вокруг качались на восточном ветру. Когда она заговорила, её голос вторил тихому шуршанию цикад на далёких холмах, укрытых туманом:
– Почему?
– Я очень смелый. Однажды я стану великим Генералом и буду носить алый плащ.
На бледных губах девочки мелькнула тень улыбки.
– Значит, ты пришел, чтобы убить грозное демоническое отродье, поселившееся в Саду? – прошептала она.
– Нет, я…
Мальчик развёл руками, сообразив, что такое поведение не делало ему чести.
– Никто не говорил мне так много слов с той поры, когда я видела зимние снега сквозь щель между тёплыми меховыми шторами. – Девочка снова уставилась на гостя, неподвижная как изваяние. Потом в её сумеречных глазах сверкнула искорка, и она будто приняла какое-то решение. – Рассказать тебе правду? Поведать мой секрет? Одному тебе из всех детей, что носят кольца с рубинами и пахнут оливковым мылом? – Её голос звучал всё тише, словно ей не хватало дыхания.
– Так ведь я об этом и попросил, верно? Я умею хранить секреты! Моя сестра говорит, у меня это хорошо получается – я как Король воров из няниной сказки.
Они надолго замолчали; солнце спряталось за облаками. Потом девочка заговорила – чуть слышно, будто собственный голос вызывал у неё страх:
– Однажды вечером, когда я была совсем малышкой, к большим серебряным воротам пришла старая женщина и, протянув руки сквозь ветви роз, сказала мне, что я не родилась с этой отметиной. Когда мне исполнилось семь месяцев и семь дней, у колыбели явился призрак, и, пока моя мать спала в белоснежной постели, он коснулся моего лица, покрыл его множеством сказок и заклинаний, как моряки покрывают свое тело татуировками. Стихов и песен было так много, и их записали так плотно, что они превратились в длинные непрерывные полосы цвета чёрного янтаря на моих веках. Это слова рек и болот, озёр и ветров. Вместе они творят великую магию. Когда все сказки будут прочитаны вслух и выслушаны до блистательного завершения каждой, когда отзвучит последний слог – призрак вернётся, чтобы судить меня. Старуха исчезла в синеликой ночи, а я день за днём пряталась в кустах жасмина и олеандра, всматриваясь в бронзовое зеркало, найденное среди мусора, или застывала над своим отражением в водах одного из садовых прудов. Но это оказалось трудной задачей: приходится читать задом наперёд, и только с одного века. – Девочка умолкла, а потом произнесла совсем тихо, не громче шуршания паучьих лапок, плетущих опаловую нить: – И никто меня не слушает.
Мальчик уставился на неё. Приглядевшись, он различил дрожащие строчки в густой черноте век, намёки на алфавит, состоящий из невероятных букв. И чем внимательнее он смотрел, тем отчётливее казались их очертания, словно буквы рвались к нему, хватались за него. От этого становилось не по себе.
Мальчик облизнул пересохшие губы. Теперь они шептались вдвоём, как заговорщики, или злоумышленники. Другие дети ушли, оставив их наедине под косматой гривой сгорбленной ивы.
– Расскажи мне одну из сказок, записанных на твоих веках. Пожалуйста! Всего одну.
Он до смерти боялся, что девочка оттолкнёт его и сбежит, как собака, постоянно терпящая побои. Но она продолжала смотреть на него странными тёмными глазами.
– Ты добр ко мне, другие не осмеливаются даже приблизиться. Отблагодарить за это я могу лишь сказками. Но тебе придётся перейти из открытой части Сада в моё убежище, потому что никто не должен знать, чем мы заняты. Иначе тебя накажут, а у меня заберут зеркало и нож, моё скромное имущество, и запрут куда-нибудь, чтобы демон-дух не опустошил чьи-нибудь прекрасные дома.
И вот они осторожно двинулись прочь от желто-зелёной ивы, вдоль бесконечных клумб, усаженных розами. Нырнули под арку цветущих каштанов и внезапно очутились в беседке из белых цветов, аромат которых можно было чувствовать кожей, как прикосновения невидимых рук. Красные ветви переплелись, образовав подобие низкой крыши, и на мягкой земле, покрытой слоем листьев, хватило места обоим.
– Я расскажу тебе первую сказку, которую смогла прочесть на своём левом веке.
Мальчик замер, точно заяц в лесной чаще, навостривший шелковистые ушки.
– Давным-давно в далёкой стране жил неугомонный Принц, которому было мало богатств отца, красоты придворных дам и веселья пиршественного зала. Принца звали Леандр, в честь рыжевато-коричневого льва, что носится по степи как грозный ветер. Однажды ночью он вырвался, словно ястреб-охотник, из величественного замка с увитыми плющом стенами и отправился искать подвиги, желая успокоить терзавшую его тоску.
Сказка о Принце и Гусыне
Принц крался в ночи. Тени скользили по его телу, будто речные угри, он легко и беззвучно ступал по устилавшим землю сосновым иголкам, углубляясь в лес. Звёздный свет струился как река, прорвавшая плотину. У Принца не было особых планов, не считая желания уйти подальше от дворца до восхода солнца и до того момента, когда гончие отца возьмут его след. Ветви деревьев над головой сплетались в подобие черепичной крыши, сквозь которую местами проглядывали синеватые облака; вокруг пахло сосновой смолой. Впервые за свою не слишком долгую жизнь юный Принц почувствовал, как счастье переполняет его и рвётся наружу, будто солнечный свет.
Когда светило ринулось прочь от горизонта, словно шустрый вор, Принц устроился на отдых, прислонившись к узловатому стволу большого баобаба. Он позавтракал сыром и соленым мясом, взятым на кухне. Мясо оказалось вкуснее всего, что ему доводилось пробовать. Следующие несколько часов Принц проспал под открытым небом, на котором расцветали утренние силуэты глициний и лилий.
Немного позднее, продолжив свой путь, он набрёл на выросшую посреди симпатичной лужайки маленькую хижину с тростниковой крышей и добротной деревянной дверью – круглой и с узором из медных гвоздей. Над трубой весело клубился дымок, пахнувший шалфеем и кедром. Вокруг дома паслась стайка серых гусей, похожих на беспокойное перистое облако, зыбкое и пугливое. Изящные красивые птицы гоготали и чистили пёрышки, устроившись под изогнутым навесом из ветвей камфорного дерева и свежей соломы.
Принц был смышлёным, но его молодости, как водится, не хватало мудрости: кроме скромных припасов, взятых на кухне, у него оказалось с собой лишь несколько яблок из сада. Он полагал, что с лёгкостью добудет пропитание: весь мир должен быть таким же изобильным, как земли его отца; на деревьях должно быть так же много покрытых бриллиантовой росой фруктов; все животные должны обладать такой же покорностью и быть не менее приятны на вкус, а все крестьяне – так же сговорчивы и щедры. Принц начал понимать, что на самом деле всё не так. Его желудок беспокойно ворчал и явно сигнализировал о необходимости пополнить запасы, прежде чем продолжить путь. К тому же гусей около дома было много – добрые и весёлые обитатели милой хижины даже не заметят исчезновения одного из длинношеих созданий.
Принца с раннего детства учили охотиться и подкрадываться. Уверенно ступая на мускулистых полусогнутых ногах, он тихонько выбрался из своего убежища, притаился за большим плугом и замер в высокой летней траве, выжидая подходящий момент, управляя дыханием и замедляя биение сердца. Было позднее утро, и солнце напекло ему шею. Струйки пота текли по коже, проникая за воротник, но Принц не шевелился до тех пор, пока одна милая гусыня наконец не отделилась от стаи и, заглянув за лезвие плуга, не уставилась на чужака. Взгляд её умных чёрных глаз был проницательным и глубоким, как осенняя ночь.
Принц, напоминавший проворного молодого волка, не смотрел гусыне в глаза, а поймал её и одним ловким движением свернул изящную шею, будто сухую ветку. Выйдя из травяных зарослей, он двинулся назад, к роще. Однако гуси заприметили исчезновение товарки и разразились пронзительными испуганными криками.
Дверь хижины распахнулась, и оттуда выкатилась женщина жуткого вида, с развевающимися седыми волосами и блестящим топором в руках. Лицо у неё было широкое и плоское, покрытое зловещими таинственными отметинами: большие чёрные татуировки и шрамы исказили черты до такой степени, что не представлялось возможным сказать, отличалась ли она когда-нибудь красотой. На широком кожаном поясе с серебряными заклёпками висели два длинных блестящих ножа. От страшного крика старухи вздрогнули дубы и кипарисы; он раскатился по округе последним звуком разбитой флейты.
– Что ты наделал? Мерзкий мальчишка! Злодей, демон!
Женщина снова завопила, выше и пронзительнее любой совы. Гуси присоединились к ней, причитая и плача. Их горе рвало на части воздух и плодородную красную землю. Издаваемые ими звуки были одновременно чудовищными и чуждыми, полными нечеловеческой, бездонной скорби. Казалось, чьи-то невидимые когти впились в уши Принца.
Наконец старуха замолчала, продолжая трясти большой головой и плакать. Принц замер, потрясённый и огорчённый скорее собственной неловкостью, чем её гневом. Она ведь была всего лишь женщиной, а птица – птицей. Зачем бояться какой-то карлицы, чья молодость давно миновала?
Держа гусиный трупик за спиной и надеясь, что широкие плечи его скрывают, Принц сказал:
– Я случайно наткнулся на ваш дом, госпожа, и не причиню вам вреда.
Несчастная опять испустила страшный вопль, а её глаза сделались до отвращения большими. До сих пор Принц не замечал в них желтоватого блеска, но сейчас он точно был, дикий и безумный.
– Ты лжешь! Ты убил мою гусыню, мою прекрасную птицу, моё дитя! Она была моей, а ты свернул ей шею! Милая моя, деточка моя!
Старуха горько зарыдала. Принц ничего не понимал. Он вынул из-за спины тушку, чтобы передать ее старой карге. И вдруг увидел, что сжимает в кулаке не птицу, а девушку, ослепительно-красивую и изящную, словно замерший над водой журавль, и что длинные чёрные волосы прекрасной незнакомки по-змеиному обвили его руки, потому что он держал её за шею у основания заплетённой в косу гривы. Девушка была одета в лохмотья, сквозь которые просвечивало мерцающее тело. Её длинная гладкая шея была аккуратно сломана.
Старуха с татуированным лицом ринулась на Принца, замахнувшись на него топором, как серпом на пшеницу, и он выронил тело девушки, с ужасным глухим звуком упавшее на траву. Карга настигла незваного гостя и, на миг замерев, шумно дыхнула ему в лицо гнилыми сливами и загадочными зельями из тёмных мхов. Сверкнуло лезвие – и она отсекла два пальца на левой руке Принца, а потом слизнула с потрескавшихся губ брызнувшие капли крови. Выпад был таким внезапным и безупречным, что он не успел уклониться, лишь заорал и вцепился в искалеченную руку. Принц понял: если пытаться бежать, потеряешь намного больше, чем пальцы. Он наобещал тысячи тысяч королевств и сокровища сотни драконов; сыпал невнятными клятвами, точно ребёнок. Но старухе всё было не нужно, её свободная рука медленно тянулась к одному из длинных ножей.
– Ты убил моё дитя, мою единственную дочь!
Она положила увесистый топор на влажную землю и с долгим судорожным вздохом потянула из ножен отполированное лезвие…
Девочка замолчала и посмотрела своему слушателю в глаза, напоминавшие глубокие болота на закате.
– Не останавливайся! – попросил он, задыхаясь от волнения. – Рассказывай! Она убила его прямо на месте?
– Уже ночь, мальчик. Ты должен идти ужинать, а я должна устроиться на ночлег в ветвях кедра. Каждому своё.
Мальчик разинул рот, отчаянно ища причину, по которой он мог бы остаться и узнать судьбу раненого принца. Он бормотал:
– Погоди-погоди. Я пойду на ужин и украду для нас еды, как это сделал бы отважный принц Леандр. Затем выберусь под покровом темноты, словно ястреб-охотник, и проведу ночь с тобой, здесь, под звёздами, сияющими будто журавлиные перья на солнце. И ты закончишь свою историю.
Он взглянул на неё с надеждой, которая полыхала сильнее факелов, что горели по всему дворцу.
Девочка молчала, опустив голову, как храмовая послушница. Затем кивнула, не поднимая глаз, и сказала:
– Очень хорошо.
В Саду
Когда последние багровые аккорды заката растаяли во тьме на западе, мальчик вернулся, сжимая в руках плотно набитый платок. Он протиснулся в заросли и с гордостью выложил свою добычу. Девочка сидела там же, где он её оставил, неподвижная, как одно из каменных садовых изваяний. Её странное спокойствие тревожило и пугало гостя. Он не мог вынести этот тёмный взгляд и смотреть в большие миндалевидные глаза, окруженные странными знаками, поэтому уставился на тёплую еду. На квадратике из шелка лежала, поблескивая, запечённая голубка, рядом – сочные персики и холодные груши, а ещё половина хлебного ломтя, намазанного маслом и вареньем, варёные репки и картофелины, кусок твёрдого сыра и несколько засахаренных фиалок, недавно украшавших стол и прихваченных с собой. Мальчик вытащил из кармана флягу разведённого водой вина – главный приз его кухонных приключений.
Девочка не шевельнулась, даже не притронулась к голубке и грушам. Тёплый бриз всколыхнул её волосы цвета воронова крыла, несколько прядей упали на лицо; вдруг она задрожала и расплакалась. Мальчик не знал, куда себя деть, не желая ещё больше смущать её тем, что оказался свидетелем внезапных слёз. Он сосредоточился на подрагивающих ветках росшего поодаль кипариса и стал ждать. Вскоре всхлипывания утихли, и мальчик опять повернулся к рассказчице.
Он понимал, что она ни разу в жизни так не пировала, поскольку её никогда не приглашали ужинать во Дворец, – догадывался, что девочка питалась фруктами и орехами из Сада, подбирая их с земли, словно нищенка. Но он не мог понять, зачем плакать при виде изобилия. Его руки были мягкими и пахли розовым маслом, волосы блестели. Мальчик не знал жизни за пределами двора, а при дворе красивые и юные удостаивались особого обожания. Будучи ребёнком из знатной семьи, он привык видеть в сочувствии повод для обиды и не мог обидеть её.
Не сказав ни слова, девочка оторвала крылышко у медной голубки и стала деликатно его жевать. Вытащив из складок простого одеяния узорчатый серебряный нож, разрезала грушу и протянула мальчику бледно-зелёную половину. Он невольно подивился тому, что она где-то раздобыла такой красивый предмет. У него точно не нашлось бы ничего похожего, а ведь её платье, если это одеяние вообще можно было назвать таковым, износилось до дыр, под ногтями виднелась грязь. Струйка ароматного сока потекла по девичьему подбородку, и она впервые улыбнулась. Происходящее напоминало восход луны над горной рекой; свет, запутавшийся среди бледных оленьих рогов; чистую воду, текущую под ночным небом. Когда девочка снова заговорила, мальчик нетерпеливо подался вперёд, отбросил с лица густые тёмные волосы, впился зубами в спелый персик, а потом запихнул в рот кусок сыра – бездумно, не чувствуя вкуса.
Продолжая свой рассказ, она закрыла глаза, и мозаика, покрывавшая её веки, стала подобием чёрных лилий на бледной поверхности пруда.
– Дикарка вытащила длинный нож из ножен, висевших на поясе, и на миг, играючи, приложила его к гладкой шее Принца – так, что лишь лёгкий вздох отделял его от фатальной раны…
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Пощадите меня, госпожа, – прошептал Принц, – умоляю вас. Я останусь здесь и буду вашим слугой; займу место девы-птицы и сохраню верность вам до конца своих дней. Я буду вашим. Я молод и силён. Прошу вас!
Принц сам не знал, что его вынудило сделать такое предложение, и сдержит ли он клятву, которая вернее закона. Слова вырвались изо рта, будто женщина засунула кулак ему в глотку и вытащила их оттуда. Её глаза сверкали, словно тучи, готовые породить тысячу молний. Но теперь в них появился расчётливый блеск – и через миг нож больше не угрожал Принцу.
– Даже если я соглашусь, это тебя не спасёт, – прошипела она, как большая жаба, поющая на закате. – Но я расскажу тебе историю моей дочери и о том, как она стала крылатой. Тогда ты, вероятно, поймёшь, что предложил, и, быть может, предпочтёшь смерть.
Однако рассказ пришлось отложить. Сначала старуха оторвала длинную полосу потрёпанного меха от ворота своего одеяния и замотала руку Принца. Её прикосновение оказалось умелым и более мягким, чем можно было бы ожидать; в нём даже ощущалось подобие нежности. Из мешочка на поясе она достала сушеные листья, среди которых, как ему показалось, были лавр и можжевельник. Старуха прижала эти листья к обрубкам пальцев на руке Принца. Затянув узлы, осмотрела повязку и осталась всем довольна.
– Перво-наперво, я не слепая, вижу, что ты молод и силён. Но нет сомнений, что твою молодость и жизненную силу я могу выпить как воду из колодца. Дело не в этом. Можешь ли ты слушать? Можешь ли ты учиться? Можешь ли ты молчать? Мне это неведомо. Думаю, ты просто избалованный паршивец, у которого и ушей-то нет.
Принц покаянно опустил голову. Его рука прекратила пульсировать, и он не произнёс ни слова, рассудив, что молчание – лучший щит, способный уберечь от старой карги. Она присела на большой камень, теребя в узловатых пальцах несколько листьев, испускавших мускусный запах.
Сказка Ведьмы
Я родом из обитавшего на севере племени степнячек, у которых были косматые лошади и волосы, присыпанные снегом. Уверена, ты слышал истории о нас – мы были чудовищами, противоестественными, и заслужили свою участь.
Среди всех противоестественных чудовищ я была самой чудовищной и противоестественной. Нож – такое имя мне дали. В молодости, когда сила гудела во мне, словно натянутая тетива, я слыла лучшей наездницей из всех юных девушек. У меня было много ожерелий из яшмы и волчьих зубов, три отличных охотничьих ножа, тугой лук, который я могла натянуть так, что он превращался в полную луну, колчан со стрелами, украшенными перьями ястреба, и шкура дикой кошки, моей первой добычи. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простирались дикие степи медового цвета, где племя охотилось на жирных оленей и обитали гнедые лошади, лоснящиеся и пахучие, которых я любила. Их бег был подобен ряби на поверхности горного озера. Я бегала и спала с ними бок о бок, ездила на них верхом. Я была счастлива: солнце стояло в зените, а больше мне ничего не требовалось.
Мои сёстры все были старше, мои братья сражались у границ наших земель, потому я была свободна и дика, а моя улыбка частенько напоминала оскал. Однажды бабушка Согнутый Лук – её все называли бабушкой, хотя она приходилась таковой лишь мне, – чьё лицо напоминало обглоданную кору и было самым уродливым из всех, что мне доводилось видеть, призвала меня к себе в новолуние. Она сказала, что нашла человека, за которого я выйду замуж. Я очень любила свою бабушку, но не желала становиться чьей-то женой. Я была мускулистой кобылицей, и жеребец мог лишь замедлить мой бег. Но слово бабушки считалось ближе всего к тому, что мы могли бы назвать законом. (Видишь ли, чудовища не ценят прелесть заповедей, высеченных на камне.) И потому, хоть я и была очень молода, надела её красивые штаны из оленьей кожи, гордо набросила на плечи свою шкуру дикой кошки и стала женой мужчины, которого она выбрала. Он был смуглым, с очень яркими глазами, и мы охотились вдвоем – сначала лишь вместе резали мясо, но постепенно превратились в одного охотника, который прыгал на крупного оленя, сверкая двумя ножами. Мы улыбались и рычали друг на друга, а потом снова улыбались, и в небе над нами сияли звёзды, точно брызги молока на чёрной шкуре.
Когда мы с ним не охотились, сёстры Ножны и Колчан – дочерей у нас всегда по три – скакали со мной наперегонки, разучивали песни нашего племени и гортанные песни наших луков, а у бабушки мы учились магии. Я заплетала её серебряные волосы, и она учила нас тайным вещам – чудовищным и противоестественным. Под Змеёй-Звездой и Уздой-Звездой и Ножом-Звездой, моей тёзкой, бабушка покрыла моё лицо искусными татуировками и назвала меня своей лучшей девочкой, посвящённой, настоящей лошадницей.
Мы росли, охотились, смеялись. Я была счастлива и не знала, что солнце миновало зенит и двинулось вниз.
Однажды армия твоего отца…
Закрой рот, мальчик. Думаешь, я не узнала тебя в тот самый миг, когда твоя нога ступила на мою землю?
Однажды армия твоего отца пришла с юга, как степной пожар, и возвестила о своём появлении пронзительными воплями. Он хотел заполучить наши жирные стада и сильных лошадей. Он хотел повесить головы чудовищ к себе на стену. Он хотел очистить своё королевство от противоестественных созданий, которые верещали и передвигались на полусогнутых ногах, своим присутствием оскверняли белый свет.
Я и не знала, что бывают такие солдаты. Они носили броню, похожую на рыбью чешую, и высоченные плюмажи, похожие на дым; они сверкали, будто тысяча серебряных облаков верхом на лошадях, чёрных как демоны. Я выпустила в эти «облака» все свои стрелы и все украшенные вороньими перьями стрелы Ножен, лишившейся руки, в которой она держала меч. Из крови и тёмных влажных внутренностей сестры я подняла её клинок и попыталась вогнать его в брюхо одному «облаку». Но от меня с мечом никогда не было особого проку, и имя моё тут ни при чём: не успела я и замахнуться, как меня одолели.
Он был грязный человек. А когда дикое существо, ночующее не под крышей, а втиснувшись между лошадьми, называет кого-то грязным, будь уверен, дело не в обычной вони немытого тела. Потрясая увитой кожаными лентами и пропитанной кровью вшивой бородой, он схватил меня за талию и водрузил на своего боевого коня. Чтобы прервать поток проклятий, лившийся из моего рта, он ударил меня по лицу рукой в латной перчатке. Она мелькнула перед моими глазами, серебряная и до странности красивая, затем мне рассекло лоб и всё вокруг сделалось красным.
Что же я была за чудовище – не выстояла против единственного рыцаря, не сумела вогнать меч в визжащего борова. Я глядела сквозь завесу из слёз, крови и глинистой грязи, как мой муж бежит следом и кричит, словно раненый волк, а за ним скачет твой отец с вороньим плюмажем на шлеме. Этот чёрный всадник вонзил огромное лезвие прямо в грудь моего мужа так небрежно и легко, будто поймал муху двумя пальцами. Я видела, как сгустки крови и частички костей полетели во все стороны; я смотрела, как кровь хлынула изо рта моего мужа на траву, как он упал на колени, будто собираясь помолиться, а потом рухнул лицом вниз, в грязь, перемешанную с кровью.
Я старалась перестать плакать и вжалась лицом в утешительный бок незнакомой лошади – по крайней мере, это была лошадь, её пот и шкура мало чем отличались от моих длинноногих друзей, – выискивая в запахе толстых мощных ног хоть какую-то надежду для моей семьи.
Мы ехали на юг.
Солнце скрылось из вида.
Тот кулак был первым, что отметил моё лицо, и от него у меня на лбу остался шрам, похожий на морской узел. Остальные шрамы – моя работа. Мы ехали долго. Я потеряла счёт дням. Кислый запах грязного мужчины и его изголодавшаяся лошадь мешали мне думать. Провизии для рыцарей и женщин не хватало, что уж говорить о бедных животных, которых стоило бы холить, лелеять и поить только чистой водой.
Через несколько дней Колчан сумела покончить с собой, прыгнув в реку; течение, словно дыхание ночи, унесло её далеко от меня, не позволило поймать и прижать своё лицо к её лицу. Она была самой старшей, но я живая, а её больше нет.
Я знала, чего мне ждать, ещё до прибытия во Дворец. Чудовища ведь не глупы. Мне предстояло стать рабыней, чтобы ублажать твоего отца и его грязных солдат. Меня бы хорошо одевали и холили, как шлюху. Рабство меня не тревожило: сбежать было бы нетрудно. Но я не желала доставлять им удовольствие, не хотела быть красивой для них. Они говорили, что татуировки, которыми меня наделила бабушка, эти красивые тёмные линии, змеящиеся по моему лицу, эк-зо-тич-ны.
Во мне, как в железной печи, горела чёрная и яростная ненависть. И потому однажды ночью, когда мой приятель-грязнуля напился и захрапел, я вытащила кинжал из ножен на его боку. Прекрасное оружие! С прямым чистым лезвием, которое мерцало, точно вода, ставшая могилой Колчан. Я приложила его к одной щеке, затем к другой и провела по ним сверху вниз – дважды, трижды, – рассекая плоть и навеки разрушая единственную красоту, какой было наделено чудовище.
Конечно, мужчины были в ярости, когда наутро выяснилось, что моё лицо покрыто толстым слоем крови, словно я набросила на себя багровую шкуру. Меня вытащили из палатки и бросили к веренице настоящих рабов, бедолаг, которым предстояло отправиться в шахты и каменоломни. Я всерьёз поверила, что туда отправят и меня, рубить скалу и собирать крохи металла, и возликовала. Что проще побега, когда горы вокруг так и зовут в гости? Я чувствовала себя будто нарядилась в лисью шкуру и припасла достаточно трюков, предвкушая победу. Но я ошибалась.
Дворец возник перед нами, словно вставший на дыбы жеребец, крупный и грозный, и, к моему ужасу, меня не отправили дальше, в золотоносные холмы или укрытые известковым покровом лощины, а затащили внутрь. Вниз, вниз, вниз, вниз – я прошла тысячу ступеней и сотню ворот, ведомая грубыми руками, и очутилась в маленьком и сыром подвале. «Ах, – решила я тогда, – вот и кара за испорченный военный трофей».
Я выла. Я кричала и вопила, как стая обезумевших сов, выдирала волосы и царапала каменный пол, пока напрочь не стёрла пальцы. Я лежала на полу, свернувшись калачиком, словно ребёнок, и рыдала: мой побег стал невозможен, мне предстояло провести остаток жизни в этом месте, в тысяче ночей от моих заснеженных, открытых всем ветрам степей. И вот тогда-то в темноте раздался смешок, а потом знакомый грубовато-нежный голос, напоминавший волчью шерсть, о которую трёшься щекой. Он негромко произнёс:
– Ну что, девочка моя, ты наконец-то успокоилась?
Я всмотрелась в густую тьму, обозревая комнату до самых углов. Там, где я ожидала увидеть груду костей да пучки старых волос, скрестив ноги и смеясь, сидела моя бабушка, одетая в лохмотья.
– Тебе нужно было немного побуянить, знаю, но сейчас ты просто потакаешь своей слабости. Разве я плохо тебя учила?
Она развела худые руки, кожа на которых напоминала обглоданную кору, и я упала в её объятия. Не знаю, как долго она меня держала, сколько раз я умирала, воскресала и умирала вновь. Но, когда я подняла глаза и посмотрела ей в лицо, она гладила мои волосы и улыбалась.
– Всё не так плохо, милая, они могли тебя убить.
– Это хуже, – проворчала я. Бабушка тотчас же ударила меня по изуродованному лицу, словно лошадь по крупу шлёпнула.
– Нет! Ты жива, а обе твои сестры мертвы. Что же ты себя жалеешь, маленькая паршивка? Кажется, я тебя избаловала.
Потрясённая, я уставилась на неё, точно глупый зверь.
– Они притащили меня сюда, так как думают, что могут сломать меня или использовать, либо и то и другое, – задумчиво произнесла она. – Я ведь, как-никак, весьма необычная рабыня и принадлежу глупому придворному волшебнику, мастеру фокусов со шляпой и кроликом. Я решила, пока и так сойдёт… Они продержат меня здесь достаточно долго, чтобы я поняла, кто главный, а кто нет, и тогда меня приведут к Королю, чтобы показать, какая я послушная собачка. Я окажусь достаточно близко, чтобы перерезать ему глотку. – Бабушка лучезарно улыбнулась, не скрывая ликования. – А потому у нас с тобой мало времени на разговоры, я должна рассказать историю, которая позволит тебе примириться с собственной судьбой. – Поджав губы, она изучила мои изуродованные щёки. – Хорошо, что ты погубила своё лицо. И не только потому, что это привело тебя ко мне, а ещё и потому, что красавицам редко удаётся сильная магия.
Я смотрела на неё и слушала, слова текли вокруг меня, будто я погрузилась в холодный пруд, и его вода качала меня, охлаждая разгорячённую кожу. Бабушкины глаза блестели, точно совиные, а её лицо было спокойным ликом луны.
– Теперь слушай меня. Прежде чем нас разлучат, я должна рассказать историю своего ученичества, чтобы ты узнала то, что знаю я, то, чему могли бы научиться вы с сёстрами, не свались Король на наши головы, словно камень, брошенный с горы. Раз уж так случилось, тебе придётся взять то, что можно взять с этой дряхлой развалины.
Девочка замолчала, сжав нежные губы и глядя в темноту глазами, окруженными тенями и паутиной из слов.
– Ты так внезапно умолкаешь, – уныло заметил мальчик, – словно упрямая черепаха, которая прячет голову в панцирь именно в тот момент, когда мне хочется услышать, что было дальше. Это сильно раздражает.
Девочка вяло улыбнулась, словно извиняясь, но нужных слов не нашла. Она аккуратно облизнула губы, вкушая последние крупицы запечённой голубки.
– Просто мне надо немного отдохнуть. Мы можем поспать час, а потом я продолжу. – Она покраснела до ушей. – Можешь лечь рядом со мной, если хочешь; по ночам здесь холодно.
Девочка устроилась в высокой траве, мальчик неуклюже улёгся рядом. Они долго не могли заснуть, дрожа от напряжения в присутствии друг друга, будто он не спал каждую ночь рядом с братом или сестрой, а она не проводила каждую ночь то в цветущей беседке, то в древесном дупле. Мальчик следил за тем, как ветер играет её волосами, словно тростником у реки, и, когда она наконец уснула, сам расслабился и задремал.
Но вскоре уже будил её, томимый желанием услышать историю, как бродяга в бескрайней пустыне жаждой.
Сказка Бабушки
Моё ученичество длилось много лет, и, чтобы рассказать тебе всё, не хватит времени, которое мы сможем провести вместе в этом тесном и тёмном подвале. Я поведаю тебе лишь об одной-единственной ночи – последней ночи, когда я ещё считалась ученицей, последней ночи детства. Истории вроде этой живут среди теней, в глубине-на-дне-глубины, куда солнцу нет хода.
Моя мать умерла во время налёта, когда я была совсем малышкой, а её мать умерла при родах. Поэтому меня было некому учить, никто не мог поделиться со мной секретами и указать моё место в племени. Когда я достигла совершеннолетия, меня отослали в соседний посёлок на телеге, груженной шкурами и драгоценностями, которыми тамошней ведьме заплатили за мое обучение и приют. В те времена мои волосы были густыми, рыжими и яркими, как степной пожар. Руки и ноги гладки и крепки, словно копыта, – я почти не замечала, что, пересекая широкую пустошь между деревнями, телега дребезжала и подпрыгивала.
Я прибыла на место. Моя наставница оказалась свирепой, красивой и жуткой. Турайя была очень строга: она не доверяла мне, чужачке, моим рыжим волосам, простому имени и, самое главное, моему упрямству. Целый год я была лишь её служанкой: подметала пол в хижине, полировала ножи, носила ей воду и чесала лошадей. Турайя не разговаривала со мной. Я спала снаружи, под звёздами, постель мне заменяла сухая трава. Только на второй год она позволила мне спать рядом с собой и начала моё обучение. Может, так и надо поступать с девочками? Не знаю. Я не была такой, когда растила тебя, Колчан или Ножны. Наверное, я просто оказалась слабее, чем моя старая наставница.
В первую же ночь второго года я лежала рядом с ней, напряжённая, ощущая запах плесени, который шел от её старой кожи, её острые локти и колени, её жесткие белые волосы, в свете угасающих углей костра казавшиеся почти того же оттенка, что и мои, как вдруг она, не глядя на меня, сказала:
– Слушай, Согнутый Лук, козочка моя. Посмотрим, сможешь ли ты научиться ещё чему-нибудь, кроме дойки яков…
Сказка Лошадницы
Открой уши свои, впусти в них небо.
В самом начале – до того, как вшивый и косматый козёл да одинокий батрак в своих грёзах увидели тебя, – существовало одно лишь небо. Оно было чёрным и огромным, каким и должно быть небо, в котором больше ничего нет. Но небо выглядело небом, только если на него смотреть искоса, а если взглянуть прямо – чего, конечно, никто не мог сделать, так как смотреть было некому, – оно представлялось длинным и гладким боком Кобылы.
Черна и огромна была Кобыла, какой и должна быть лошадь размером с целый мир.
Прошло много времени, и Кобыла прогрызла в себе дыру, по причинам, которыми ни с кем не поделилась. Дыра заполнилась светом тем же образом, каким дыра в тебе или во мне заполнилась бы кровью, а то, что получилось, называли Звездой. Таковы были первые, истинные дети Кобылы, созданные из её собственной плоти. И поскольку ей понравился свет и чьё-то присутствие, она прогрызла другие дыры, по форме напоминавшие Барсуков и Плуги, Оленей и Ножи, Улиток и Лис, Траву и Воду, и так далее, и тому подобное, пока Кобыла не заполыхала множеством дыр, и все они были Звёздами, и небо теперь не было таким уж пустым.
И вот дыры ожили, стали двигаться, как движемся мы с тобой, и одна, по форме напоминавшая Всадника, забралась на Кобылу верхом – и Кобыла сделалась полна и огромна, какой и должна быть лошадь размером с целый мир, и целый мир появился из неё, как жеребёнок, в потоке света и молока и чёрной, чёрной крови из самых тайных глубин неба. И трава, и реки, и камни, и женщины, и лошади, и новые Звёзды, и мужчины, и облака, и птицы, и деревья явились, танцуя, сквозь послед Кобылы и радостно плавали в её молоке, и тайная её кровь перестала течь, и весь мир был создан, и океаны омыли берега, и Кобыла лёгким галопом удалилась в дальние углы самой себя, которые лишь самую малость проглядывали сквозь пылающее поле её Звёзд. Там, на пастбище, которое ни ты, ни я не сможем вообразить, она мирно жуёт любимые Травинки-Звёзды.
А дыры, которые были Звёздами, всё ещё оставались полны света и бродили по небу, неуклюжие, словно трёхлапые собаки. Без Кобылы тьма была просто тьмой, а не боком, не шкурой, не тем, у чего есть запах, и соль, и шерсть. Разумеется, дыры испугались, ведь до той поры их ноздри ощущали запах кобылы, и сами они спиной чуяли её присутствие. Несколько дыр посмотрели вниз, на то, что вышло из Кобылы, прежде чем она их всех покинула, и подумали, что там не так страшно и темно, как в небе… Кроме того, там многое походило на них: барсуки и плуги, олени и ножи, улитки и лисы, трава и вода. И даже лошади, которые походили на Кобылу, какой они её помнили, только намного меньше и самых разных цветов.
Тогда, козочка ты моя чесоточная, стали они жить как мы с тобой, в то время как их не столь смелые братья и сёстры по-прежнему пребывали в небе и освещали им путь. И были они и учителями, и учениками, и матерями, и дочерями, и братьями, и дядьями, и брюзгливыми стариками. И ничего они не могли поделать с собой: их везде сопровождал свет, тот свет, который, как ты помнишь, был на самом деле не светом, но кровью Кобылы, пролитой в первые дни мира.
Стало быть, вначале кровесвет переполнял их до такой степени, что всё, к чему они прикасались, становилось серебряным и белым, – он сочился из них, словно пот, и всё им пропитывалось. Но время шло, света оставалось меньше, и они испугались, что потеряют то единственное, чем их наделила мать Кобыла. Ещё сильнее они боялись огромного тёмного неба, в котором не было матери, и не хотели снова покидать мир. И потому они начали прижиматься друг к другу, как цветы, растущие среди камней, и ушли в пещеры и холмы, реки и долины, как можно дальше от всех, и касались лишь себе подобных, потому что свет, перетекая из одного тела в другое, переливался и мерцал, но не утрачивался навеки.
Но хоть Звёзды скрылись от всех, вещи, к которым они прикасались, остались на прежних местах, полные света, который был кровью, и они излучали серебристо-белое сияние. И были эти вещи особенными, блохастик мой… Камни и растения передавали свет камням, лежавшим глубже, или семенам, а люди передавали свет детям, и он уменьшался в точности так, как когда Звёзды впервые трогали мир, истекая кровью. Вскоре никто уже не мог понять, к чему прикасались в первые дни, а к чему – нет. Свет был погребён под покровом тайны.
Но не исчез. Во многих вещах и людях он ещё мерцает глубоко внутри. И этот свет, моя неряшливая, охочая до молочка детка, и зовётся магией.
Сказка Бабушки (продолжение)
Я слушала её историю и думала о том, что она сладко пахнет кровью, молоком и шкурой, будто сама Кобыла, и я позволила себе по чуть-чуть придвигаться к ней. Той ночью она больше ничего не сказала.
Я росла под её хмурым взглядом много лет, как лоснящийся жеребёнок, училась искать мерцание внутри себя, управлять этим светом, силой, быть для неё уздой и удилами. Мир бежал подо мной, словно поле под янтарными копытами, и я чувствовала, как в моём теле пульсирует кровесвет, будто новая жизнь… А я многим помогла родиться, девочка моя, как под руководством Турайи, так и сама.
Свет собирался в моей душе, и я ликовала. Я училась превращать его в снадобья, заклинания и амулеты, выталкивать его из себя и придавать разные формы. Сколько ночей я провела с ней под открытым небом во время грозы, когда её волосы струились на ветру, как обезумевшие змеи, а руки обращались к разгневанным тучам, извергавшим молнии? Я изучала и то, в чём не было света: дороги животных и степные пути. Я узнала, как спасти жеребёнка, который застрял в утробе матери, как поймать и подоить косматых коров, что жевали траву в прериях. В молодости время летит быстро, я любила свою госпожу, и мне ещё многому предстояло научиться.
Но однажды ночью Турайя пришла ко мне в короне из лунного света и тьмы.
– Согнутый Лук, – прошипела она, – козочка моего сердца. Ты должна сейчас пойти за мной. Раз в жизни постарайся не задавать никаких вопросов.
Я открыла неугомонный рот, потом хорошенько подумала и закрыла его, взяла свой мешок и последовала за худой фигурой через длинный луг, окружавший деревню. Мы шли милю за милей, и её расплывчатый силуэт маячил впереди, так что я погрузилась в полудрёму, а небо и жестокий зимний ветер плавно скользили по моим щекам.
Через некоторое время мы подошли к исполинскому утёсу, который возник перед нами, будто огромный медведь. Ведьма притянула меня к себе и обняла, чего раньше не делала ни разу. Когда она отстранилась, её грубоватое лицо было влажным от слёз.
– Ты была моей лучшей ученицей. Я тобой горжусь. Но сегодня вечером мне нельзя идти с тобой. Я такого никогда не делала… у меня нет на это права. Оно есть только у тебя, и, останься в твоей семье хотя бы одна женщина, мы бы никогда не встретились. Если утром ты вернёшься в деревню, это будет означать конец твоего ученичества. Ты станешь полным колодцем: в нём будет достаточно серебряной воды, чтобы ты могла вернуться к своим людям, напоить их, указать путь и научить. Дальше будешь учиться сама, как все мы, до конца своих дней сами себе учительницы и ученицы, наставницы и подмастерья. Ты вернёшься, отягощённая знанием, и передашь его своему племени, и сила твоя будет расти, точно дитя, и ты проведёшь остаток жизни в труде. Но сначала ты должна пережить эту ночь и родиться заново. Тогда ты будешь готова, моя прекрасная, прекрасная дочь. Моя прекрасная козочка.
Её рот изогнулся в сердечной улыбке, сделавшись похожим на скимитар[1], и она указала на дыру, зиявшую в скале. Я неуклюже поцеловала её в щёку, заглянула в её сияющие глаза. Я решила, что спрячу свой страх, овладею им и войду в него, буду бродить внутри, пока он не исчезнет в моём тихом, спокойном нутре. Я отвернулась от Турайи, моей жизни с ней и юности, и вошла в пасть пещеры.
Вскоре я уже ничего не видела: тьма будто руками закрыла мои глаза. Я расчистила себе место на прохладной твёрдой земле, прислушиваясь к медленному и ленивому шуршанию летучих мышей где-то очень высоко. И стала ждать, скованная чернотой.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Краснеющее солнце освещало лицо Нож, её нос отбрасывал тень на шрамы, а глаза были глубоки и непроницаемы, словно заснеженные горы. Вокруг дома, тут и там, как цветы на лугу, стояли деревянные вёдра с водой из колодца, на её поверхности играли багровые и шафрановые блики, вторя полыхающему небу. Принц покачался на пятках, провёл рукой по густым чёрным волосам, увлажнившимся от пота. Встрепенулся, будто сбросив чары, и внимательно посмотрел на старую Ведьму.
– Ну, – выпалил он, – и что было потом?
Женщина издала сиплый смешок.
– Потом красавчик Принц вошел в хижину, потому что близилась ночь, и замесил тесто, чтобы мерзкая, уродливая Ведьма смогла испечь хлеб.
Принц, до сих пор умудрявшийся вести себя с достоинством, чуть не сорвался. И что же, теперь он должен трудиться на кухне у этого убожества, словно какая-нибудь судомойка? Леандр из Восьми королевств, Двукровный повелитель границ, сын Хелии Блистающей точно не станет печь мерзкий хлеб для тощей крестьянки в дрянном местечке. Да, он пообещал служить ей, но собирался делать это подобающим мужчине способом, сокрушая одних существ и спасая других. Хлеб не нужно было ни сокрушать, ни спасать.
Принц открыл свой благородный рот, чтобы кое-что сказать старухе, но её ледяной взгляд превратился в петлю вокруг его шеи и не дал вымолвить ни слова. Её зубы до жути ярко блестели между потрескавшимися губами и будто удлинялись, превращаясь в наползающие друг на друга ножи цвета слоновой кости. Через миг видение исчезло, но теперь Принц был убежден, что хлебопечение – самое достойное и приятное занятие, а замес теста, возможно, не сильно отличается от сокрушения.
Хотя ему пришлось согнуться, чтобы войти в хижину, там оказалось удобнее и просторнее, чем можно было предположить: в углу пламя лизало кривые поленья боярышника, вдоль стен выстроились книги в переплётах. Нож повернулась, когда он снял свои сапоги из отменной кожи.
– Уж прости за дверь. Мой народ всегда был низкорослым.
Пучки сушеных трав и некогда ярких цветов свисали с крючков на потолке, будто серые, красные и коричневые сталактиты. Он увидел увядшие цветы персика, покрытые пылью люпины, розы и связки грибов, похожих на розы, дягиль, трифоль, бурую водоросль, мать-и-мачеху, руту и просвирняк… на чём его невеликие, как у всех принцев, познания в ботанике закончились. Блестящие чёрные шкуры покрывали пол, точно осенние листья. Границы просторной главной комнаты отмечали развешенные повсюду отрезы необычных тканей ярких цветов, на полу были расставлены большие терракотовые вазы и загадочные сундуки с медными и серебряными замками, а также бесчисленные трости из самых разных материалов; массивный стол из полированного дерева громоздился возле очага. В целом Принц увидел именно то, что ожидал увидеть в жилище Ведьмы.
На столе виднелись куски только что замешанного теста и керамические горшочки с душистыми специями. Старуха взмахом руки указала на них и низкий стул. Сама она повернулась к большой железной плите, и её мускулистая спина закрыла то, что там готовилось, исходя паром. Воцарилась долгая тишина, которую нарушали тихие хлюпающие звуки: Принц одной рукой, медленно и неуклюже, замешивал тесто, не касаясь его раненой кистью, чтобы сочащаяся из неё кровь не запачкала хлеб. Обрубки пальцев почти не болели. Через некоторое время Нож, оторвав взгляд от плиты, потрясла седоволосой головой, как жеребёнок гривой, и произнесла, обращаясь к стене из неотёсанных брёвен:
– Знаешь, у тебя волосы матери, такие же длинные кудри, будто полосы коры. Только цвет другой.
В её грубоватом голосе звучала боль. Повернувшись, она подошла к столу с двумя глиняными чашками, в которых дымился зеленовато-желтый чай.
– Ивовая кора и дикая мята, – проворчала она, касаясь столешницы. Пламя очага чётко высвечивало её профиль. – И глаза у вас похожие, хотя не обошлось без твоего отца – он наделил тебя чернотой, в которой ничего не отражается.
У Принца перехватило дыхание, слова ринулись к его губам и умерли, задохнувшись на языке. Всё его тело будто боролось само с собой, и в какой-то момент он понял, что тихонько плачет, орошая солёными слезами хлеб, а его молодые плечи судорожно вздрагивают.
– Прошу, скажи, – взмолился он, – что ты знаешь о моей матери? Нет… не говори, ничего мне о ней не рассказывай. Никогда не рассказывай. – Принц вытер глаза грязным рукавом. – Говори мне о том, что случилось с твоей бабушкой в пещере, рассказывай старые сказки о Звёздах, в которые больше никто не верит, но не проси, чтобы я вспоминал мою мать.
Ведьма отхлебнула чая.
– Сидя в темнице, бабушка потёрла виски и выпила немного грязной воды из ржавого железного ковшика, который нам оставили. Я ждала терпеливо, как подобает хорошей ученице. Наконец она продолжила…
Сказка Бабушки (продолжение)
Разумеется, было темно. Такие вещи всегда начинаются в темноте. Я прислонилась к скале, чувствуя её влажноватую поверхность, вдохнула тяжелый воздух каменной утробы, что была темнее самой черноты.
Шли века. Или минуты.
Тени вокруг меня были плотными, с конечностями, а их тела имели вес. Временами я была спокойна и внимательна, будто сидела на гигантском лепестке иссиня-чёрной лилии, и её мясистая плоть изгибалась подо мной, настолько совершенная, что никакая часть меня не устояла бы перед желанием стать её частью.
И моё тело менялось, превращаясь в её угольно-сумеречное тело. Порой мне становилось холодно, я чувствовала себя одинокой и очень маленькой. Но я ощущала внутри непокорный огонёк, от которого исходило тепло, как от костра у ног. Его свет прошел сквозь меня, словно я была решетом из шелка, оставил чистой и непорочной в тишине пещеры. Я сидела, повернув руки ладонями кверху, пытаясь удержать изгиб темноты, похожий на свисающее брюхо цвета грозовой тучи, покрытое тёмными символами, живыми, дышащими, кружащимися в фиолетовой мгле, что приходит после заката.
Наверное, я почти уснула, как вдруг моё тело вспыхнуло и вздрогнуло, и в гематитовом воздухе появилось нечто. Сначала я не могла разглядеть ничего, кроме пятна, ещё более черного, чем чернота вокруг. Его края, излучавшие слабый свет, были границами некоей формы, очерченными жаром молнии, мерцающим послеобразом[2]. Я испугалась, внучка, конечно же я испугалась. Протиснулась в углубление, имевшееся в стене, и дрожала как новорожденный оленёнок.
В конце концов я разглядела длинную голову и струящуюся гриву, сияющие глаза, круглые, точно луны. Она казалась частью камня, частью ночи, частью того, с чем мне ещё ни разу не приходилось сталкиваться. Мои глаза закатились, кожа покрылась липким потом. Моё сердце билось так сильно, будто я проглотила колибри.
И вот фигура, обрамлённая белым огнём, сделалась ясной и чёткой.
Я мгновенно узнала изгиб её длинной чёрной шеи, гладкий круп и бархатистую шкуру, толстый хвост из тысячи кос, подметающий пол пещеры, дыхание, облачками вырывающееся из больших ноздрей, словно дымок из трубки: то была лошадь, превосходящая лошадей мечты, предвосхищавшая любые догадки о размере или надежды на красоту. Её уши, напоминавшие жесткие перья, достигали потолка пещеры и, подёргиваясь, вырезали на камне загадочные стихи. Её копыта ступали по беспорядочно разбросанным обугленным челюстям, лопаткам и грудным костям, похожим на скипетры.
Кобыла спокойно глядела на меня, изредка похрапывая и моргая добела раскалёнными глазами. Наступила тишина – такая же, как там, где тысяча зим сходятся у края вечных снегов.
Я по-прежнему не знаю, откуда взялась храбрость, из какого тайника во мне она выскочила, будто весело журчащий родник. Но я приподнялась на слабых ногах и протянула свою маленькую руку к существу, не замечая защитного круга из дребезжащих костей. Я погладила её нос и чело, не знавшее света… Внучка, я даже теперь не могу описать гладкость её плоти и лёгкость, с которой моя рука скользила по густой мерцающей шкуре. Её кожа была точно свежие сливки или тень ворона, летящего высоко в безлунной ночи. Она была красива и ужасна, дика и чиста. Её глаза врощались как солнца, а её огромное сердце громыхало напротив меня. Я припала лицом к её гриве, вдохнула запах дикой земли и горящего неба. Кроме неё, не осталось другого мира.
Внезапно, без предупреждения, громадная голова повернулась, словно распахнулась дверь, – и чёрная Кобыла вонзила в моё плечо полыхающие зубы, разрывая мышцы до костей. Мой беспомощный крик раскатился эхом по пещере, и кровь потекла из раны, словно река по красному каньону, тёплым потоком проливаясь на мои груди и руки. Я забилась, колотя руками по её боку, но зубы лишь глубже входили в мою плоть. Наверное, я потеряла сознание и, падая к её ногам, не ждала ничего, кроме смерти.
Придя в себя, я обнаружила, что снова лежу у скальной стены, вымокшая в собственной крови, как после ливня. Кобыла исчезла. Я залилась горькими слезами… Хотя она вонзила в меня свои зубы, мне их не хватало, я чувствовала себя пустой без их обжигающего света. Кобыла сделала то, что делала всегда, – прогрызла дыру в плоти, и теперь, когда она ушла, края этой дыры по ней тосковали. Её отсутствие заполняло пещеру, точно угасающее эхо.
На месте, где появилась Кобыла, возникло создание поменьше, в котором не было ничего внушительного или ужасного: оно сидело на задних лапах, и его глаза посверкивали в заново сгустившейся тьме. Увидев, что я ожила, существо прошло по земляному полу и остановилось прямо перед моим лицом. Это был красивый рыжий Лис с восхитительным пушистым хвостом. От него пахло жженой травой и медной стружкой, а по его шерсти пробегали зловещие ржавые искры.
К моему удивлению, Лис склонил свою любознательную мордочку и стал слизывать кровь с моей раны. Он закрыл блестящие глаза и трудился, делая грубые долгие и ужасно болезненные движения колючим розовым языком. Я прикусила губу и не всхлипнула, хотя прикосновение его шерсти к моей истерзанной коже вызывало агонию. Алый прилив постепенно отступил. Но маленький Лис не закончил со мной. Он открыл рот и довольно чётко проговорил:
– Прижми к ране немного желтокорня и корня одуванчика из твоего мешка, а сверху положи листья лавра, чтобы примочка держалась. Это поможет. Но важно полностью не останавливать кровотечение. Моя мать подготовила тебя, но кровь твоего тела тебе ещё понадобится.
Я безропотно повиновалась. Когда я закончила, Лис подался вперёд, чтобы понюхать моё плечо и проверить работу. Я внимательно следила за ним и, когда его голова наклонилась, быстро схватила его за поросшую жесткой шерстью шею. Хотя он забился в моих сильных руках и попытался укусить, я зашипела сквозь собственные острые зубы:
– Ты сейчас же расскажешь мне, что здесь происходит, Лис, или я сниму с тебя шкуру и засуну в мешок с лавром и корнем одуванчика быстрее, чем лев смог бы проглотить мышь.
Лис фыркнул и плюнул в меня, словно капризный ребёнок, но, потратив ещё какое-то время на сопение да ворчание и сообразив, что я не выпущу его шею из рук, ответил с уязвлённой гордостью:
– Ты, девчонка, не должна… трогать меня, ты не должна… набрасываться на меня или задавать мне… вопросы. Так нельзя! Но ты притронулась к Кобыле, а это тоже запрещено. Я лишь могу надеяться, что боль от её укуса была неимоверной. Она стерпела прикосновение твоих рук. Мерзость! Они такие грязные, ты такая грязная и тёмная, и ты прикоснулась к ней, прикоснулась ко мне!
Я осторожно отпустила его и отодвинулась, а он, разъярённый, начал тереть нос и шею и отчаянными движениями розового язычка мыть свою шерсть. Я улыбнулась, изображая храбрость, и кивнула, демонстрируя мнимую уверенность в своих силах.
– Лис, думаю, я вела себя хорошо и достаточно настрадалась, чтобы узнать, зачем я здесь.
Лис издевательски ухнул. Этот звук не слишком вязался с его изящной красновато-коричневой мордочкой.
– О, ты думаешь, что была… хорошей? Да? Ты думаешь, что страдала?! Ничего ты не знаешь, глупая коза. – Он встал на задние лапы. – Я Слуга Чёрной Кобылы. Ты мою мать… приласкала, дрянная девчонка. Она сотворила слова, но не говорит; она приносит мечты и видения, но не спит; она поглощает бурю, но ничего не знает о дожде или ветре. Я говорю за неё; я ей… принадлежу. Это не было испытанием, человеческое дитя; оно тебе ещё предстоит. Боль – не испытание. По мне, ты уже всё провалила: посмела тронуть ту, что несёт Луну в своём брюхе, ту, что ожеребилась Звёздами в Начале Мира. Но она стерпела твои нечистые руки на своём теле и благословила тебя своими священными зубами, так что где-то в тебе должно быть то, что родилось в ней.
Лис раздраженно потоптался на месте и уставился на меня с мольбой во взгляде.
– Зачем, ну зачем ты это сделала? Зачем тебе понадобилось гладить её, словно она твоя лошадь, твой домашний зверёк? Ох, мать моя, уж не собиралась ли ты на ней прокатиться?! Даже… даже я не удостоился разрешения прикоснуться к ней за все годы службы, ни разу… Ужасное дитя, почему ты не держала свои руки при себе?
Лис снова придвинулся ко мне. Превратившись в багровую вспышку, он жестоко полоснул меня когтями по левой груди, рассекая плоть, как спелую сливу. Я могла бы поклясться, что слёзы блестели в его чёрных глазках, золотой шерсти и усах.
– Вот тебе, – прорычал он, – это за твоё преступление: моя отметина. Я Слуга! Я иду подле Кобылы; я пил её молоко и охотился с нею! Я жевал маленькие Травинки-Звёзды сотнями и тысячами вместе с нею! И это я не буду исцелять!
Теперь маленький зверь, поднявший шерсть дыбом, по-настоящему меня испугал; в темноте раздалось наше учащённое дыхание. Я прижала руку к новой ране, кровь сочилась сквозь сомкнутые пальцы. Лис будто пришел в себя, его шерсть улеглась.
– Я уже половину отпущенного тебе времени растратил, маленькая идиотка. – Он возвращался к ритуалу, сверкая глазами. – Но ты не пройдёшь испытания, так что вряд ли это важно. Иди вперёд, дитя мерзости, во вторую пещеру, что зовётся Пещерой Волков, а оттуда – в Пещеру Семи Спящих. Там и ждёт тебя испытание. Пройди три пещеры и стань взрослой женщиной. Или умри в одной из них. Помни, боль – не испытание. Знаний недостаточно. Многие были здесь до тебя, малышка, и никто из них никогда не рассказывал о том, через что прошел. Это запрещено. Ты можешь взять с собой только собственное тело, мешок останется здесь. Иди, с тобой благословение Кобылы. И исполни свой долг, если негодница вроде тебя на такое вообще способна.
Лис ещё раз клацнул острыми как иголки зубами в моём направлении и, направившись к дальнему концу пещеры, прошел сквозь каменную стену и исчез, будто его и не было. Из раны ещё шла кровь; хотя немного листьев и порошков из моего мешка помогли, на платье осталось тёмное пятно. Я пригладила волосы, встала, чуть увереннее держась на ногах, и попыталась разглядеть проход во вторую пещеру. Там, где исчез Лис, взмахнув красивым хвостом, у самого пола в скале появилась маленькая дыра цвета свежей крови. Мне с трудом удалось бы протиснуться сквозь неё. Я подошла ближе, внушая себе, что спокойна, как отблеск лунного света на перьях журавля.
Девочка говорила, держа большие глаза закрытыми, так что её веки и покрывавшая их мозаика казались тёмными лилиями на поверхности бледного пруда. К небесам летели изумрудные песни лягушек, и совы пели в мерцающих прибрежных зарослях, сидя на чёрных ветвях, укутанные в фиолетовое дыхание цветов палисандрового дерева. Голос рассказчицы становился то громче, то тише, в такт этим мелодичным звукам. Девочка отпила вина из фляги и провела пальцами по выгравированному на ней узору. Ветер шевельнул её волосы, как лепестки на поверхности воды.
Несмотря на отдых, её голос снова заставил мальчика погрузиться в неглубокий сон. История то и дело вторгалась в его разум, будто игла, за которой тянется шелковая нить. Его голова лежала у девочки на коленях, и она, продолжая рассказ, погладила его мягкие тёмные волосы – сначала робко, а затем с нарастающей нежностью. Звёзды в вышине горели, точно свечи во Дворце. Луна была высоко – полная, как парус на ветру; она спокойно продвигалась сквозь валы синих туч, рассекая их пенистую сапфировую плоть мерцающим плугом. Тени длинными минаретами упали на сады, дворы, лимонные деревья и оливы, акации и ползучие лозы, на бело-желтые, как кость, лилии и спящий Дворец. Голос девочки был словно шелест тростника на тёплом ветру, заблудившегося в лабиринте мощёных дорожек.
Сказка Бабушки (продолжение)
Я опустилась на корточки, втиснулась в дыру, и гладкая скала начала таять на глазах, становясь грязью, как лёд превращается в воду. Я, еле дыша, под гнётом скользкого камня ползла на животе, будто земляной червяк, а сверху на меня капала жидкая грязь. Я говорила себе, что грязь – это всего лишь грязь, что я её не боюсь и что любая дыра где-то заканчивается. Тем временем грязь забила мой рот и нос, залепила глаза. Я чувствовала вкус земли и не видела ничего вокруг.
Но я выбралась – в конце концов мы всегда выбираемся – на другую сторону, ещё в одну пещеру с таким же земляным полом. Было слишком темно, чтобы разглядеть, где она заканчивается, но скальные стены сужались кверху, превращаясь в узкую щель, сквозь которую лился лунный свет, и откуда-то издалека доносились отголоски ласкового дождя.
Я должна была всё понять в тот самый момент, когда мои ноги коснулись пола. Я слышала бурю, разразившуюся ужасно далеко; как с толстых сосновых иголок падают капли, трава пьёт воду, грибы всасывают её и мхи пропитываются ею. Серебристый, слегка мерцающий отблеск дождя на сочных зелёных листьях и липкий запах отсыревших, гниющих цветов звучали в моих ушах, как бубенчики на лошадином седле. Но круп небесной кобылы, видимый через отверстие в потолке пещеры, был чист и полон ярких суровых звёзд.
Дождь не тревожил небо надо мной, потому что шел где-то очень далеко. Но мои уши и нос чуяли его, как лезвие ощущает молот, высекающий искры. Я быстро обежала полутёмное помещение, изучая его и пытаясь вынюхать испытание до того, как оно бросится на меня из засады. Я должна была всё понять… Но тыкать влажным носом в дальние углы пещеры казалось столь же естественным, как и передвигаться лёгким галопом, вздыбливать шерсть и щёлкать челюстями в темноте.
Я искала вторую дверь, но её не оказалось, хотя часть обращенной ко мне скалы была на удивление отполированной и имела глубокий янтарный цвет; в ней отражалось помещение, залитое лунным светом, и я сама. Я увидела нечто серо-белое, когда проходила мимо, и резко остановилась: сердце трепыхнулось в груди, комок подступил к горлу. Это было мое отражение в камне.
С блестящей стены пещеры на меня глядел очень большой и красивый серый волк. Длинные косматые уши подёргивались, язык вывалился между пугающе свирепыми зубами. Мои чёрные глаза поблескивали, а шерсть была цвета теней, отбрасываемых на воду луной, – цвета звёзд, всех оттенков мерцающего бледного серебра, от камня до снега, – от сильных ног до кончика моего необычайно длинного и горделивого хвоста, который с величественной тяжестью опускался на земляной пол.
В общем и целом, внученька, выглядела я прекрасно. Я завыла, чтобы услышать свой голос, который отразился от стен, будто стрела от зелёного дерева. Он был такой громкий, что я подпрыгнула от неожиданности. Но, кроме меня, вокруг по-прежнему никого не было. Я прошлась туда-сюда, словно раньше мне не приходилось передвигаться всего на двух ногах. Казалось, нет ничего более естественного, чем моя новая пружинистая поступь, умение держать равновесие с помощью хвоста, прикосновение цепких когтей к незаметным корням и камням. Быстрый глухой перестук новых лап отправил в небытие смешные воспоминания о том, что я когда-то была девчонкой и спала в мягкой постели. Мои мысли стали волчьими, меня обуяло желание вырваться в ночь, на охоту, припустить на сильных лапах через поля. Мою душу заполнили воспоминания о том, как я со всех ног бегу по пушистому снегу со своей стаей, выкармливаю красивых серых щенков в тёплом логове, выслеживаю зайцев и оленей в зелёных горах, забираюсь на фермы, где полным-полно жирных свиней и беспомощных весенних ягнят. Я была безмолвной и свирепой, знать не знала о бесконечных подметаниях пола в хижине и чистке очага. Вообще, что такое «хижина»? И что такое «очаг»? Я с большим трудом вспоминала собственное имя, а потом – то, что оно у меня когда-то было и что значит «имя». Я будто погрузилась в сон, накрывшись тёплым одеялом, которым стало волчье тело. Ведь я устала, понимаешь, так устала…
Ты должна понять, Нож моего сердца: случившееся со мной изменило не только тело, но и разум; это поглотило меня без остатка, вобрало в себя.
Ночь всё длилась и длилась, но ничего не происходило. Поэтому я, свернувшись в клубок мерцающей шерсти посреди пещеры, уснула, затерялась в черноте бесконечной ночи и снах, где я охотилась и ела, всё время ела.
Вспоминая об этом теперь, я думаю, что вряд ли спала – волкам нет нужны слишком долго дрыхнуть. Я проснулась внезапно, хотя ни один звук меня не потревожил, и увидела три высокие фигуры на почтительном расстоянии.
Первой стояла белая волчица со скошенными ушами и нежными глазами цвета дождя. Её мерцающая шерсть была синеватой, как новая луна среди заснеженных ветвей, хвост медленно колыхался, словно поток льда, рисуя узоры на земляном полу.
Вторым был волк – чёрный как ночь в разгар зимы, с глазами, подобными грозовым тучам, в которых сверкают молнии, с шерстью густой и темной, словно глубины горного озера.
Третья блистала всеми оттенками золота, как я – всеми оттенками серебра, от белизны яростного огня до тёмной бронзы; цвета перетекали, сливаясь друг с другом, точно жидкое пламя. Даже в её глазах искрилось и мерцало золото.
Во рту у меня совсем пересохло, я даже сглотнуть не могла. Понадобилась вся моя новообретённая волчья сущность, чтобы не ринуться прочь от страшных ликов. Я боролась, цепляясь за остатки разума и своё человеческое «я», погребённое под внешностью волка.
Фигуры заговорили в унисон, их удлинённые морды выговаривали слова странно, но красиво, с какой-то рычащей нежностью:
– Добро пожаловать, юная псица. Кого из нас ты выберешь?
Я попыталась заговорить, но не смогла: лишь заикалась, задыхалась и взвизгивала. Моя шелковистая морда с кинжальными зубами не смогла изречь ни слова, а серебристый лоб покрылся морщинами от усилий.
– Дитя, – сказала белая волчица, и голос её был ветром с гор, доброжелательным и сладким, – ты должна выбрать. Если не можешь говорить, подойди к одной из нас и прикоснись к шерсти носом. Мы ведь волки и не слишком высоко ценим слова.
– Она не понимает, сестра, – вмешался чёрный волк, и говорил он так, словно рубил молодые деревца бронзовым топором. Он обратил ко мне раздраженный и горделивый взгляд и произнёс так медленно, словно я была очень тупой и упрямой лошадью: – Проводник, юная псица. Ты должна выбрать одного из нас своим проводником. Ты должна знать, как делать такие вещи.
Чёрный зверь фыркнул – ему явно было скучно продолжать.
Эти двое, белая волчица и чёрный волк, были высокими и страшными. Третья фигура, излучавшая мягкое мерцание золота, молчала. Лишь её хвост лениво покачивался из стороны в сторону, спокойные глаза походили на драгоценные луны. Я подошла к ней и прижала влажный нос к её шее, словно уткнулась в поле нарциссов. Её шерсть пахла хорошо и сладко, больше я ни о чём не могла думать… Она пахла правильно, а в запахе, как ни крути, вся суть. Клянусь, она мне улыбнулась! Когда я отстранилась от её тёплого душистого тела, двое других исчезли. Она посмотрела на меня – её глаза напоминали ячейки медовых сот, – потом её взгляд скользнул мимо, туда, где исчезли собратья по стае.
– Знаешь, мы ведь совсем заблудились, – прошептала она.
Я не понимала – могла ли я догадаться, о чём она говорит? – но ткнулась в неё мордой, желая подбодрить, и закрыла глаза, купаясь в приятном запахе. В горле у неё родилось рычание, но не угрожающее, а то, каким приветствуют щенков, и всё мое тело завибрировало в унисон ему.
– Мы и не думали, что так заблудимся…
Сказка Волчицы
Ступая по первой траве в начале времён, мы сжигали её, даже если пытались идти как можно легче. Она исчезала в череде вспышек белого пламени, и нам делалось страшно от того, что мы могли сотворить с этим местом. Мы старались ступать только по камням – немым и мёртвым, понимаешь? И по немой, мёртвой траве, но не по живым травинкам и камням, которые… Ох, не имеет значения. Наши ноги убивали всё, к чему прикасались, и мы съёживались от страха перед пожарами, которые не могли погасить.
Но то ли трава стала сильнее, то ли мы ослабели, вскоре от нас начали оставаться лишь горелые отпечатки. Да, чёрные и уродливые, но мы уже не вершили всесожжение на своём пути и принялись исследовать мир, который оставила Кобыла, покинув небо.
Я была молода, как и все. Мы дали имена всему и назвали самих себя. Пчела-Звезда, маленькая и яркая, счастливее любого из нас – этой солнечная искорке ни разу не довелось убить траву или камень на своём пути, – назвала меня Лиульфур[3], и, когда она жужжала над моим ухом, я слышала своё имя в шуме её крыльев.
Всё оказалось сложнее, чем можно было бы предположить. Нас было много, а их ещё больше. Настоящие дети Кобылы, явившиеся из её тела в лунной первородной смазке и небесной слюне, куда более необузданные и многочисленные, чем мы. Мы ведь как-никак – просто дыры, наполненные светом, в потаённых глубинах души обеспокоенные тем, что нас породил случай, что мы не более чем лужи, которые встали и дали друг другу имена, а родиться по-настоящему должны были только создания, лишённые света, которым под силу ступать легко, так легко!
И поэтому мы следили за ними: шли следом и пытались им подражать. Некоторые из нас были похожи на них – дыры в форме людей, животных, растений, инструментов и камней, – и естественным образом нас тянуло к тем, с кем имелось нечто общее. Но, кроме всего прочего, мы пытались подражать мужчинам и женщинам, казавшимся самыми преднамеренными из всех вещей, порождённых Кобылой, которые умели говорить и давать имена, возделывать землю и топтать её, точь-в-точь как мы.
Однако они боялись нас, того, как мы горели и сжигали всё хорошее и красивое, называли нас призраками и даже хуже. Но мы не могли их покинуть – ведь они побывали внутри Кобылы, а мы не знали, каково это, и какой она была под рёбрами, под сердцем. Мы хотели узнать, желали в её отсутствие любить то, что являлось её частью.
И да, мы видели, как наш свет уходит к ним, к людям, растениям, инструментам и камням, потому многие из нас покинули их, стали жить в общинах среди себе подобных – Розы-Звёзды с Пчёлами-Звёздами, Черви-Звёзды с Улитками-Звёздами, – намереваясь остаться в целости и сохранности.
Но некоторые из нас плелись за людьми, как побитая собака за жестоким хозяином, и старались походить на них. Ибо мы совершили открытие сродни тому, какое сделали они, когда научились засевать часть поля, а часть оставлять под паром. Мы узнали, что, даже если нас выгрызли в какой-то определённой форме, это не значит, что её следует сохранять. В первый раз стряхивать форму, которую нам придала нам мать, больно, но со временем становится легче. Это было нашим главным умением, и мы продолжали учиться. Мы были детьми и играли с миром, как с кубиками и куклами. Однако наши братья и сёстры не хотели играть. Поэтому Маникарника постигла роковая участь, и мы узнали, что способны на вещь, которая значительнее и ужаснее смены одной шкуры на другую.
Хотела бы я сказать, что знала их. И я знала – в том смысле, в каком троюродные братья и сёстры в большой семье знают друг друга, – совсем чуть-чуть. Они были другими – Камни-Звёзды, – а я была Волчицей-Звездой. И они обратились в женщин, в то время как я после нескольких экспериментов упрямо держалась за лапы и хвост, данные мне матерью.
Среди нас нет того, кто не знал бы эту историю.
Маникарника – это семь сестёр. Когда Кобыла выгрызла их из своей плоти, они были Камнями: Нефрит, Гранит и Опал, Гранат, Сланец и Железняк, а также маленькая Алмаз, бледная, как лапа, окунувшаяся в молоко.
Они пришли в ужас, катясь и грохоча по мёртвым скалами, сожгли их, расплавили, превратили в блестящие реки жидкой лавы. Научившись ходить на двух ногах, сёстры избегали гор, как болезни, отказываясь причинять вред тому, что походило на их первые тела. Я рассказываю тебе это, чтобы ты поняла их нежность, чтобы знала – пламя было не тем, чего хотели мои соплеменники. Но, видишь ли, одни несчастные случаи влекут за собой другие. Мы ничего не могли с этим поделать. И они ничего не могли с этим поделать.
После того как первые из нас начали тускнеть, отправились в ссылку за болота и холмы, Маникарника остались. Они не берегли свой свет и преисполнились решимости показать нам, что можно жить в мире, сотворённом Кобылой, что он предназначен для нас, как и для её истинных детей.
Чтобы это доказать, сёстры отправились в поселения людей и попросили приюта, как нищенки, одетые в лохмотья и без гроша в кармане. Они были уверены, что их примут, и мы увидим, как второе потомство Кобылы назовёт нас сёстрами, братьями и женами, первые породнятся со вторыми. Конечно, сёстры ещё излучали сияние, но кто откажет красивой девушке, у которой только и есть, что ветхое платье, даже если она ярко светится? Кто откажет семерым?
Первый дом, к которому пришли Маникарника, был дворцом Короля – таким, какими были дворцы в те дни: большой глинобитной хижиной на холме, чуть повыше других глинобитных хижин. Король послал своих людей узнать, что за шум у дверей, и они обнаружили там полураздетых Нефрит, Гранит и Опал, чья кожа сияла разными цветами; Гранат, красную, точно залившуюся румянцем; Сланец и Железняк, серебристо мерцавших, как поверхность воды, и малышку Алмаз, бледную и нежную, как тончайшая нить в паутине. Сёстры жались друг к другу, робко просили пустить их за стены из глиняных кирпичей, накормить и одеть, полюбить.
Увидев странный свет, люди Короля содрогнулись и заперли деревянные ворота на засов. Маникарника это не смутило, они направились к скоплению маленьких глинобитных хижин, где постучали в двери бедной вдовы. Конечно – муж умер, дети выросли, она примет их и назовёт дочерями. Старая вдова отперла обитую шкурой дверь и увидела Нефрит, Гранит и Опал с гладкими, отполированными руками; Гранат с острыми локотками; тёмных и блестящих Сланец и Железняк да малышку Алмаз, чистую, словно утро. Сёстры приникли друг к другу, смиренно прося убежища от ночного холода, супа, тёплых рук и ласковых слов.
Увидев странный свет, вдова содрогнулась, начала плакать о тех, кого потеряла, и, не переставая лить слёзы, заперла обитую шкурой дверь, оставив странных гостей за порогом. Но сёстры не сдались. Они покинули посёлок из глинобитных хижин и отправились к людям с волосами цвета глины, которые передвигались с места на место, странствовали по открытым степям в фургонах, запряженных лошадьми, и на санях. Они подошли к одному из шатров, ничем не отличавшемуся от других, и призвали девушку, которая там жила. Прижимая к себе новорожденное дитя, девушка откинула полог шатра и увидела Нефрит, Гранит и Опал, прохладных, как обдуваемый ветром снег; Гранат, жаркую, как раскалившийся на солнце песок; Сланец и Железняк, которые замёрзли так, что пальцы почернели, да малышку Алмаз, светлую и сладкую, как дождь. Маникарника опирались друг на друга, вконец измученные, и просили дать им приют, укутать в шкуры и напоить молоком.
Девушка рассмеялась и сказала, что у неё есть много всего, чем можно поделиться. Улыбки сестёр были подобны семи рассветам, и они, обрадованные, устроились на ночлег рядом с кочевницей, прямо на полу простого шатра. И были они счастливы, и земля под ними лишь самую малость потемнела от того, что на неё давил их свет.
К утру все они оказались мертвы.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Пыль и солома покрывали сырой пол темницы, и ни один косой осколок света не рассёк тьму. Тишину нарушал звук воды, падавшей капля за каплей с влажного потолка на влажный пол. Я не заметила, как под дверь протолкнули ошмётки незнакомого мяса и коричневую болотную воду – я ничего не слышала, кроме бабушкиного голоса. Она положила иссохшую руку мне на голову, поглаживая густые волосы с нежностью, отточенной на десятках детей. Я подняла глаза, высматривая среди густых теней её потрескавшиеся губы и изрезанное морщинами лицо; свернулась клубочком у бабушки на коленях, пытаясь прикрыть своим изношенным платьем, превратившимся в лохмотья, её болезненно худые ноги. Она улыбнулась, глядя на меня сверху вниз, отбросила ткань, словно та ничего для неё не значила, и, хотя губы были рассечены и покрыты пятнами запёкшейся крови, её лицо светилось, как праздничный фонарь. Я мечтала быть такой же храброй, как она, чтобы неведомая сила, полученная ею в пещере, стала и моей силой.
Я принесла помятый ковшик с грязной водой, что стоял у двери, старясь весело ухаживать за бабушкой, как было когда-то. Но она отказалась и руками, покрытыми синяками и ссадинами, оставленными теми, кто притащил её сюда, принялась развязывать кожаные узлы на своём одеянии, пока не смогла стянуть грязную ткань с плеча. На коричневой коже, будто ядовитая змея, извивался длинный шрам – свидетельство того, как нечто пронзило и изувечило её плоть. Я не могла глаз от него оторвать.
– Чтобы ты знала, что я рассказываю правду, – сказала она, хихикнув, и снова завязала платье.
– Я… я и не сомневалась…
Бабушка легонько коснулась моей щеки:
– Нет-нет, конечно, ты не сомневалась. Ты всегда была хорошей девушкой. Вот видишь, я нарушила своё слово, не подчинилась Лису и рассказываю тебе всё, что должна была держать в секрете, как тайну появления зеленоглазого малыша в доме мужчины с карими глазами. Но меня никогда особо не заботило, что думало это старое красное чудище. И знаешь, теперь Кобыла является мне во сне: я езжу на ней верхом, она несёт меня по побелевшим степям, и жаркое солнце золотит наши спины.
Бабушка не договорила, но я почувствовала нутром, что ко мне Кобыла никогда не придёт, и мои бёдра не ощутят прикосновения её шкуры.
Согнутый Лук кашлянула – звук был такой, словно стрела ударилась в дерево.
– Прости, малышка Нож, я могла бы сейчас укачивать тебя в своих объятиях, напевая песни наших матерей. Но ты обязательно должна узнать, что мне пришлось вынести в пещере. Мы обе знаем, что тебе не суждено пройти эти испытания. Никто не подведёт тебя к пасти пещеры, не поцелует и не назовёт своей лучшей, самой красивой козочкой. Никто не заберёт тебя, дрожащую и трясущуюся, домой, когда всё закончится, и не укроет грубым одеялом. У тебя и у ребёнка, которого ты носишь, такого маленького, словно подёнка над стоячей водой, никого нет. Вместо сладкого воссоединения со своей старой бабушкой ты получаешь урок, тебе стоит его усвоить, и как следует.
У меня перехватило дыхание, будто в пересохшее горло попал клок свежей шерсти. Я не знала, что моё чрево приняло дитя из тела моего мужа до того, как он умер. Но я в тот же миг поняла, что она права. Мне с трудом удавалось сохранять спокойствие. Дрожа, я прошептала:
– Я слушаю, бабушка. Я иду за тобой, читая твои следы.
Её морщинистые веки сомкнулись, и, когда она снова начала говорить, они подрагивали, словно маленькие волки прыгали под её кожей.
Сказка Волчицы (продолжение)
Лагерь кочевников проснулся от криков юной девушки. Мужчины вбежали в её шатёр и увидели, что она, всхлипывая, прижимает к себе ребёнка, и её покрывает свет. Свет капал с её волос, струился по переносице, стекал по мочкам ушей. Он каплями затекал ей в рот, пятнал лоб ребёнка, собирался чахлой лужицей между её грудями. Бледный и яркий, как белки девичьих глаз, он намочил подол её платья из шкур… Свет пятнами покрывал стены и превратил земляной пол шатра в мерцающую хлюпающую грязь.
Вокруг девушки лежали семь каменных тел, которые не мерцали, не светились, не сияли.
Нефрит, Гранит и Опал, тёмные и полые, как трухлявые деревья; Гранат, пустая и пересохшая; Сланец и Железняк, бледные, как бумага, да малышка Алмаз – от неё осталась лишь оболочка цикады, хрустальная, чистая и пустая внутри, лишенная даже мёртвых костей.
Заливаясь слезами, девушка рассказала, что под покровом темноты пришли люди Короля. Они знали, какие гостьи постучались к ней днём, сочли это странным и опасным. Пока убивали бедных сестёр, ей заломили руки за спину. Маникарника даже не кричали, когда из них вытекал свет – брызги света, точно кровь, летели во все стороны; на лицо девушки упали тёплые капли, она ощутила их вкус, вкус сладкой воды и клевера. Люди Короля перерезали горло Звёздам и ушли, а девушка пыталась зажимать раны, но их было слишком много, а она была слишком слаба. Разве кто-то мог знать, как исцелить создание, истекающее светом, точно кровью?
Люди племени испугались и не знали, что делать. Они смыли свет с бедной девушки и отнесли семь каменных тел в поле, где росли маки, совершили известные им погребальные обряды.
Так Звёзды узнали, что могут умирать. Это наше самое значительное умение. Последние из нас покинули мир, спрятались в расщелинах и тайных норах, будто испуганные кролики.
Через некоторое время девушка и её черноглазое дитя посмотрели на небо сквозь отверстия во всё ещё мокром потолке шатра и заметили новые звёзды – их было семь, и они прильнули друг к другу, как сёстры.
Сказка Бабушки (продолжение)
Лиульфур Волчица-Звезда не шевельнула ни одним мускулом под золотой шкурой, пока говорила. Её голос не стал ни громче, ни тише. Она просто смотрела куда-то вперёд.
– Мы не знаем, куда они уходят – те, кто умирает. Куда все мы уходим. Тела остаются здесь, и новые звёзды появляются в небе, но где они сами?
Что я могла сказать, чтобы успокоить её?
– Бедная девушка-кочевница чуть не утонула в свете, излившемся из семи тел. Она и ребёнок наглотались света, до них никто не получал его в таком количестве. Свет едва не свёл с ума её детей и внуков, и они один за другим принялись искать нас, хотя в каждом из них сияния Маникарника оставалось всё меньше. Они наступали как упрямый прилив, и вот пришла твоя очередь – ты стоишь в самом конце цепи из внучек, которые словно передают из рук в руки ведро с водой. Всякий раз немного проливается на землю. – Она покачала большой лохматой головой. – Мы больше не избегаем вас. К нам будто возвращаются наши кузины.
Стена из полированного кварца, в которой я впервые увидела свой волчий облик, медленно растворилась, открыв длинный туннель, уходящий в черноту. Волчица вздохнула с усталой покорностью и нежно подтолкнула меня носом, как мать, которая показывает детёнышу дорогу к свежей воде. Наши сияющие тела слились и канули во тьму за стеной.
Лиульфур тихонько шла впереди меня, её лапы ступали уверенно и прямо. Она мерцала, точно медная лампа. Туннель был длиннее предыдущего и такой чёрный, что я едва подавила отчаянный возглас, впервые заглянув в него. В какой-то момент нам пришлось пробираться сквозь скалу на брюхе, чувствуя себя куском хлеба, застрявшим в длинной глотке; наши передние лапы загребали землю, а задние болели от того, что их было невозможно выпрямить.
Наконец скалистая глотка превратилась в комнату с высоким потолком, до самых дальних углов залитую светом – безупречно чистым, ярче дневного, будто кто-то растёр в руках солнце, превратившееся в мыло. Перемена оказалась столь внезапной, что я почти ослепла. В центре свечения находилась звезда, похожая на волка и испускающая нежное сияние.
Пещера оказалась не пустой: семь погребальных носилок были расставлены по кругу, и на каждых лежала женщина, спящая или мёртвая; семь пар тонких рук скрестились на семи бездыханных грудях. Волосы усопших ниспадали с носилок, будто росли тысячу лет; вокруг их тел лежали груды драгоценных камней, точно горы яблок в сезон урожая, превосходящие всё, что мне доводилось видеть ранее. Бесчисленное множество нефритов, гранитных осколков, опалов, ярких как кровь гранатов, кусков сланца и железной руды, а также маленьких алмазов, блестевших как снег.
В Саду
Проснувшись, мальчик начал медленно обкусывать яблочный огрызок, будто зачарованный. Перед его мысленным взором бежали и нюхали ветер грациозные волки. Он потянулся, зевнул и вытащил из мешка роскошное красное одеяло, отделанное золотом и расшитое лилиями; завернулся в него и осторожно придвинулся к девочке, словно к пугливому жеребёнку. Они укрылись в алом шалаше, и девочка опустила ресницы, когда рука мальчика, потянувшись за флягой с водой, чтобы забрать её внутрь, задела девичье колено. Они были очень близко; он вдыхал мускусный аромат её волос, запах кедра и жасмина.
Сквозь тонкий навес из листьев пробились первые лучи рассвета, синеватые и яркие, расцветив кожу детей розовыми и серебряными тенями.
На рассвете мир, укрытый мерцающей сетью тумана, выглядит очень спокойным. Мальчик и девочка, уже почти расставшиеся с детством, прятались в маленькой роще, им было тепло и сухо, а голос девочки сделался тихим, точно поступь кошачьих лап среди сосновых иголок. Юное солнце мерцающей ангельской рукой отбросило волосы со лба мальчика. Он не отодвинулся от девочки. Однако близился восход, и его сестра должна была проснуться – её лицо уподобилось бы буре при виде его пустой постели.
– Мне пора, – проговорил наконец мальчик. – Надо вернуться, пока дома все ещё спят.
Девочка кивнула, и к ней вернулась прежняя робость – она вновь ушла в себя, хотя целую ночь разматывала собственную душу, как кудель, превращая солому в золото.
– Но я вернусь, – заверил он, – как возвращаются на закате стаи речных птиц. Я принесу ужин, и ты расскажешь мне, чем всё закончилось в той пещере.
Мальчик тронул её щёку – прикосновение было мягким, точно заячья лапка. Девочка спрятала улыбку под его ладонью и кивнула. Она обратила на него взгляд блестящих глаз и на миг опустила длинные ресницы, продемонстрировав клубящуюся черноту родимых пятен, покрывающих веки, пугающих и тёмных, словно беззвёздная ночь. Мальчик отметил, что теперь, после короткого знакомства, они не кажутся ему некрасивыми. Он чуть опустил взъерошенную золотую голову, чтобы встретить её взгляд, как только она вновь откроет глаза.
– Я буду приходить каждый вечер, чтобы слушать твои истории. Каждый вечер, – негромко произнес мальчик и убежал туда, где туман полосами стелился по Саду, путаясь в зарослях жасмина и астр, блуждая среди яблонь.
Девочка склонилась к остаткам их вечерней трапезы и собрала хлебные крошки, чтобы покормить ворон и чаек. Потом она выбралась из своей маленькой беседки, стряхнув несколько лепестков, запутавшихся в волосах, и попала под ливень красно-золотых солнечных лучей.
Когда светило отправилось почивать на западе и укрылось длинными синими одеялами, девочка сидела, скрестив ноги, под жасминовыми ветвями цвета серебра и лаванды и смотрела, как нетерпеливая тень мальчика несётся к ней через пышную изумрудную лужайку. Он ворвался в её заросли, деловито разложил ужин. Она была уверена, что он не придёт.
Мальчик принёс тёмный хлеб и бледно-желтый сыр, кусок жареного ягнёнка и горстку ягод, чуть не лопавшихся от сока, несколько маленьких печеных картофелин, холодное зелёное яблоко и кусочек драгоценного, как мирра, шоколада.
– Я подумал, этим вечером обойдёмся без вина, иначе я опять провалюсь в сон, – застенчиво признался он, протягивая ей флягу с водой.
– Нет-нет, всё хорошо. Того, что ты принёс, более чем достаточно, – заверила его девочка с нервным смешком.
Они занялись едой и молчали, хотя мальчик жаждал услышать продолжение сказки, как медведь – выудить лосося из бурливой реки. Пока девочка ела, её лицо светлело, будто она была маленьким солнцем, восходившим в то время, как большое и золотое светило опускалось за горизонт.
– Как ты прожила все эти годы в Саду? – спросил мальчик и откусил большой кусок яблока.
Девочка огляделась.
– У Султана достаточно фруктовых деревьев, чтобы один ребёнок мог прокормиться, а вода в фонтанах прозрачная и чистая. У меня всего вдоволь. Дворец выбрасывает больше, чем я когда-нибудь смогу использовать. Иной раз даже старые платья амир[4] попадают на свалку. А суровыми зимами птицы приносили мне мышей и кроликов. Обо мне заботятся. Сад взрастил меня; он мне мать и отец, а родители всегда придумают, как накормить и одеть ребёнка.
– Птицы?.. – недоверчиво проговорил мальчик.
Она пожала плечами.
– Все существа одиноки. Их тянет ко мне, а меня тянет к ним, и мы согреваем друг друга, когда вокруг снег. Ты знаешь это не хуже меня – ведь тебя тоже тянуло, верно? И я кормлю тебя историями, как кусочками мяса, поджаренными на огне.
Мальчик сильно покраснел и отвёл глаза. Они закончили трапезу в молчании.
Наконец, когда ягнёнка и фрукты съели, сладкую воду выпили и каждый нашел для себя удобное местечко в цветочных зарослях, чтобы было на что опереться и иметь возможность заговорщически наклониться друг к другу, девочка продолжила рассказ. Её голос наполнил мальчика, как сливки наполняют серебряную миску.
Сказка Бабушки (продолжение)
Тишину нарушил шорох среди длинных недвижных теней позади последнего из семи тел – моя безмолвная проводница шевельнула красивым хвостом.
– Мы нашли их на поле, где было много маков и отсыревшей пшеницы, и принесли сюда. Они совсем ничего не весили, как мотыльки. Здесь, где мой тёмный брат, моя бледная сестра и ещё кое-кто нашёл убежище, мы их и храним. Что нам ещё делать? У нас нет ни кладбищ, ни ритуалов, ни песен, ни костров. Нам остались лишь их оболочки, и, как с ними поступить, мы просто не знали. – Лиульфур понюхала искрящееся острыми гранями лицо той, что утопала в алмазах. Её голос был невнятным шепотом, словно доносился сквозь слой мокрой шерсти. – Когда мы умираем, наверху вспыхивают новые звёзды, но это лишь памятные огни – не они. Это не могут быть они. Мы не знаем, куда они ушли. Погляди на небо, девочка: это мавзолей, и все новые яркие огни – просто могилы, их там нет. Однако здесь их тоже нет.
Волчица-Звезда уставилась на меня своими желтыми глазами. Я протрусила через всю комнату и тяжело опустилась рядом с бледной мёртвой девушкой, что когда-то была драгоценным камнем. Я сомневалась, что понимаю, чего от меня ждут. Было очень тепло, свет тёрся о мои ляжки и лениво водил носом по моей шерсти. Стеклянная рана на шее алмазной женщины будто росла под моим взглядом, как второй рот, растянутый в ужасной улыбке ниже первого. Я понюхала её – она была не тёплая и не холодная, но твёрдая – совсем не такая, какой должна быть плоть.
Под моей серебристой шерстью заныла рана, которую нанесла Кобыла, и другая, поменьше, оставленная Лисом; кольнула точно быстрый укус осы. Лиульфур просто глядела на меня, явно не собираясь помогать. Значит, это и есть моё испытание. Я встала и попыталась вскарабкаться на бедную девушку, но мои лапы разъезжались на скользкой горе драгоценных камней. Я приложила морду к своей груди и принялась терзать место между ранами, так что струпья отошли, и они соединились в одну длинную и глубокую рану: дыру, прогрызенную в плоти, укус, с которого начался мир.
Сначала потекла тёмная страшная кровь, меня замутило – в тесной, тёмной комнате стало так жарко! Кровь хлынула в пустой труп, словно чернила, пролитые на зеркало. Но через какое-то время кровь посветлела, а затем и вовсе превратилась в поток нежного света, мягкого и душистого, как засахаренные груши на медном блюде, и очень холодного, цветом напоминавшего луну. Теряя сознание, я с трудом прижала истекающую кровью грудь к перерезанному горлу женщины.
Я думала, она проснётся. Правда так считала. Думала, она внезапно сделает судорожный вдох и закричит, её спина изогнётся, будто натянутый лук, глаза распахнутся, и раздастся кашель. Она будет с хрипом втягивать воздух, и все бриллианты со стуком посыплются на пол, когда женщина наконец вскочит, а её лицо будет сиять, точно утро.
Но она не зашевелилась. Свет каплями сочился из меня, и я видела, как он пузырится внутри неё, точно чашка воды, вылитая в глубокую ванну. Тени окутали комнату, и кровь, бывшая светом, замедлилась и остановилась.
Мёртвая женщина на погребальных носилках коснулась моей лапы.
И всё – она не открыла глаза, не села, не попросила воды. Просто четыре её пальца приподнялись и снова упали, придавив меня всей тяжестью камня. Я не успела даже вздохнуть.
Волчица-Звезда склонилась над нами.
– Мы всё время надеемся получить хоть какой-то ответ. Но они не просыпаются. Думаю, после стольких лет было бы странно и впрямь проснуться. – Лиульфур закрыла глаза и начала вылизывать меня, чистить рану по-волчьи; её длинный язык был жестким, словно болотный песок. С каждым прикосновением моё тело пульсировало и вибрировало, будто на нём играли, как на арфе. Я видела только золотую шерсть, мерцающую пламенем свечи, хотя чувствовала пальцы Камень-Звезды на моей шерсти, холодные и безжизненные. Она вылакала свет, как молоко, высосала его из дыры в Маникарника, ни капли не упустила.
Наконец она приложила свою длинную, шелковистую морду к моей косматой груди, сдавила мою плоть своими челюстями и прижала меня к алмазной девушке так, что зубы проткнули мою истерзанную кожу.
Словно лопнула бочка с вином, и её содержимое хлынуло в меня – свет и кровь полились из челюстей прямиком в мои жилы, вдвое ярче и ужаснее, чем раньше, и необузданной волной прошлись по всему телу, отозвались в костях, величественным неумолимым приливом заполнили меня, как вода заполняет меха. Я утонула в этом свете из волчьей пасти и алмазной сути, побывавшем в моём теле и теле Звезды, старом и невыразимом, как небо. Я поперхнулась, застонала, даже попыталась закричать, а она всё продолжала наполнять меня светом… Менять свет, внучка, дело не из лёгких: всё равно что закатить валун на гору или одну гору на другую. Она вскрывала, наполняла, зашивала и снова вскрывала меня. Не знаю, сколько часов я лежала там, беспомощно дрожа. Тусклый и блёклый свет, что был во мне, они забирали и возвращали его сверкающим сильнее, чем что бы то ни было.
Когда я наконец почувствовала, что челюсти Волчицы отпустили меня, встрепенулась, будто очнувшись от сна, и внутри меня что-то раскрылось, загудело, задрожало. Я почувствовала, что опять стала женщиной: пять пальцев на каждой руке, плоские и толстые зубы, длинные волосы до талии, точно кисть.
Лиульфур коснулась моего лица влажным носом.
– То, что мы тебе дали, твоё, но тебе не принадлежит. Мы не против, и всегда были не против, но у света есть свои границы. Ты должна понимать, что Звезда, которая его отдаёт, тускнеет. – Она закрыла глаза и прижалась к моей щеке. – Я давно встречаю здесь твоих матерей, как встретила тебя; я источник, к которому вы приходите; колодец, из которого вы пьёте.
Впервые Звезда показалась мне не такой яркой, как стены пещеры. Она была просто старой волчицей с проплешинами в шерсти, затуманенным взором и поседевшей мордой. Но потом она улыбнулась, как только может улыбаться волчица, и меня опять окружил её свет и тепло, которые были – или не были? – лишь самую малость слабее, чем раньше.
– Ты изменилась, когда вошла в пещеру. Мы сотворили это с тобой. Это великая магия, почти что… – она помедлила, бросив взгляд на женщину с бесцветными кудрями, – почти что самая великая из всех. Метаморфоз – самый сложный трюк. Получив свет от нас, а не от бабушек, прабабушек и далёких-далёких предков, от той бедной девушки в шатре, что прижимала ребёнка к груди, ты можешь быть хоть немного как мы, а изменять очертания дыры очень просто. – Волчица-Звезда сглотнула комок в горле. – В конце концов, дыра – всего лишь пустое пространство.
Выдержав паузу длиной в вечность, она отодвинулась, выпрямила спину и, глядя на меня сверху вниз, чётко проговорила, выталкивая слова из шелковистой морды:
– Но ты не одна из нас. Ты столкнёшься с необратимостью, превыше которой лишь смерть, изменится не только твоя плоть. Только самые сильные из вас могут устоять перед соблазнами новой формы; разум ленив, он естественным образом подражает телу. Я ни разу не видела, чтобы человек остался собой, надев другую шкуру. Ты, однако, вольна использовать этот дар по-своему, если он тебе понадобится.
Холодная чистая рука алмазной девушки отпустила мою, и жизни в ней было не больше, чем в обрывке бумаги, летающем посреди пустынной улицы. Не сказав ни слова, Волчица с золотой шкурой провела меня назад, через две двери, в величественную первую пещеру. Будто целый век прошел с тех пор, как я побывала там в зубах у Кобылы, которая проделала во мне свою дыру.
– Иди, Дочь Звезды. Тебе предстоит хорошо потрудиться.
Знаю, я не должна была этого делать, но не смогла удержаться. Я опустилась на колени и обхватила руками её мощную лохматую шею, зарылась лицом в её запах, запах кедра и влажной скалы, свежевыпавшего снега.
– Ты ведь не знаешь, – прошептала я. – Может быть, новые Звёзды – не просто могильные камни. Может, они и есть Маникарника. Может, они отправились домой.
Лиульфур покачала головой, и по её шерсти побежали маленькие трескучие молнии. Её голос был тихим и мягким:
– Никто не ушел домой. Дыра – всего лишь пустое место. Мы получились случайно, и никто не сжалится над нами.
Волчица-Звезда подалась назад и легонько лизнула меня в щёку, а потом медленно двинулась прочь и исчезла раньше, чем дошла до дальней стены.
Выкарабкавшись в светлеющий мир, я болезненно зажмурилась от первых лучей рассвета и тяжело опустилась на траву, придавленная усталостью, будто каменной стеной.
В нескольких футах от меня стоял Лис и хладнокровно наблюдал.
– Тот, кто заслужил провала, не удостоился его, – фыркнул он. – Тот, кто не заслужил ничего, получил целый мир. Вот он, женщина, мир. Иди к нему, но никогда не рассказывай о том, что здесь случилось. Это запрещено всем, кто обладает языком и может произносить слова. Мы хотим остаться неизвестными; мы выбрали это место, а подаренную силу можно утратить. Не думай, будто знаешь, на что я способен, или что ты мне ровня. Лиульфур отчаялась и состарилась. Наполненная дыра – не пустое место, и мы все были полны света. Ты – воровка и вампирша, и, будь всё по-моему, ты и твои дочери не получили бы ни капли нашей крови.
Солнце, на львиных лапах карабкавшееся вверх над зелёными холмами, осветило его шерсть, шерстинку за шерстинкой, пока он не сделался таким ярким, что стало больно смотреть. И тогда Лис исчез, а там, где он стоял, светило солнце.
За пределами Сада
Когда полночь укрыла двоих детей, будто синим крылом серафима, мальчик робко положил голову девочке на колени, позволяя её голосу баюкать себя. Он притворился, что не слышит, как у неё перехватывает дыхание, стоит ему пошевелиться, какая лёгкая дрожь появилась в её голосе, точно единственная неверно уложенная нить на вышитом бисером платье.
Но вскоре после того, как его голова коснулась грубой ткани её одеяния, раздался ужасный хруст – звук чьих-то шагов за пределами их маленького укрытия. Девочка издала жуткий высокий крик, точно журавль, в которого угодила серебряная стрела. Мальчик вскочил, выхватил свой жалкий маленький кинжал, намереваясь защищать свою секретную добычу. Но, когда призрачные руки раздвинули сладко пахнущие шипастые ветви, он увидел, что опасность серьёзнее любой Ведьмы или таинственного заклинания.
Перед ним, обрамлённое жасминовыми ветвями, возникло разгневанное лицо сестры, похожее на яростную мандалу[5]. Её глаза были полны обвинений, как свиток в руках судьи.
– Вот ты и попался, мерзкий крысёныш! – торжествующе прокаркала она. – Тебя накажут! Ты с демоницей миловался!
– Она не демон! – выпалил мальчик, не подумав. Динарзад [6] была страшна, как распалённая львица. Девочка дышала сбивчиво и хрипло, не в силах пошевелиться. – Она не такая! Оставь нас в покое!
Что-то от волков и пещеры, должно быть, просочилось в него, как пролитые чернила, потому что раньше ему не хватало смелости так с ней разговаривать. Динарзад ворвалась в заросли, словно обезумевшая гарпия, – мальчик почти увидел, как из её кожи лезут перья, – и, схватив его за волосы, потащила прочь от плачущей девочки, хотя он пинался и сыпал проклятиями.
Мальчику показалось, что девочка прячется, как луна, ускользает за стену из кобальтовых туч. Из его мира утекал свет; он видел только её глаза, огромные и тёмные, как у лесной совы, и эти глаза следили за ним.
Когда они достигли ворот Сада, мальчик по-дикарски укусил сестру за надушенную руку, и она, остановившись, отвесила ему тяжелую пощёчину – такую сильную, что у него треснула губа, как перезрелая слива. Он сплюнул кровь на землю.
– Похоже, братец, ты вообразил себя взрослым, но взрослые люди не приближаются к зловредным демонам вроде неё. Хочешь, чтобы её проклятие перешло на всю семью? Избалованный щенок! Я буду пороть тебя до самого утра!
С дерзким видом, будто петух, кукарекающий на закате, мальчик заорал в ответ:
– Да! Да! Я щенок! Я волк с зубами как пиратские сабли, и я разорву тебя на столько же кусочков, сколько драгоценных камней у Султана в хранилище! Она не демон, я возвращаюсь к ней. Прямо сейчас.
Мальчик скрестил руки на юной груди и почувствовал прилив гордости, точно его омыло кровью Звезды. Но Динарзад вспыхнула. Её глаза потемнели, как две заплесневелые тюремные ямы, и она вцепилась в его руку, постепенно усиливая хватку.
– Нет, братец, ты никуда не пойдёшь.
Мальчик очнулся в тёмной и дурно пахнущей темнице.
Динарзад держала по ребёнку в каждой руке, и близнецы дружно орали во всё горло. Это были королевские ясли, где мучительно вопили десятки младенцев, казавшиеся страшнее рогатых демонов у адских печей.
Динарзад была почти взрослой женщиной, готовой выйти замуж и покинуть дом. Она проводила свои вечера, ухаживая за дворцовыми младенцами, которыми правила рукой, что была крепче любого железа, выкованного смертными. Мстительная богиня! Ничто не могло оказаться выше её воли. Этим вечером Динарзад занималась самыми юными, а мальчик за своё преступление был прикован к её юбкам и этой гадкой комнате. Что, несомненно, хуже любой старой темницы в замке какого-нибудь короля. Не было никакой надежды на побег, пока сестра то и дело впивалась в него взглядом, точно клешнёй скорпиона.
Однако боги не всегда суровы к маленьким мальчикам. В дело вмешалась судьба в лице розовощёкого младенчика-принца, страдающего коликами. Не имея ни малейшего понятия о своих королевских обязанностях, бедный малыш настаивал на том, чтобы попасть на ручки к маме. Потому у Динарзад не было иного выхода, кроме как отнести ревущего ребёнка в соответствующую спальню.
– Если ты хотя бы переступишь с одной каменной плиты на другую, – предупредила она, – я буду держать тебя под замком до тех пор, пока не сгниёшь. Одного брата из десятков никто не хватится.
И Динарзад удалилась, волоча за собой многослойный шлейф из розового шелка.
Разумеется, мальчик выпрыгнул в северное окно уже спустя три удара сердца.
Беседка выглядела как поле битвы, во время которой с укреплений лили смолу, а отряды воинов крушили всё подряд. Белые цветы были изорваны в клочья и свисали со сломанных ветвей, точно крестьянские лохмотья. Их ужин разбросали повсюду, и мальчик увидел, что помял свою флягу для воды о кривой корень, когда Динарзад тащила его прочь. Больше всего его расстроили уничтоженные цветы, лепестки олеандра, втоптанные в грязь. Место, где он услышал сказки, которые ещё горели внутри, точно масло в лампе, было разгромлено, как прекрасный дом, куда ворвались бандиты.
Девочки нигде не было видно.
Мальчик обыскал все тайные углы, какие знал в огромном Саду, проверил изгороди и розовые деревья, пруды с лилиями и завывающими лягушками-быками, оливковые рощицы и границы фруктовых садов. Девочка ушла, исчезла и забрала с собой все истории.
Мальчик тяжело опустился на бордюр бронзового фонтана, чья вода тихонько капала в ночи. Он уронил кудрявую голову на руки, упрекая себя за неосторожность, за то, что позволил обнаружить своё отсутствие и попался. Из него вышел никудышный вор и ещё худший защитник. «Но ведь принц Леандр тоже оказался в ловушке, – подумал он. – Так что, возможно, у меня ещё есть шанс на прощение».
Мальчик в отчаянии поднял глаза и увидел луну, плывшую по небу, как огромный бумажный фонарь. Когда облака её заслонили, дикий гусь пролетел по дуге над широким лунным лицом, оставив изящный след в ночи. Мальчик услышал его крик, одинокий и чуждый, точно голос нефритовой флейты, и глубоко вздохнул.
Гусиный крик повторился, на этот раз очень близко, и мальчик понял, что это не птица зовёт его, а темноглазая девочка, которая пряталась за юным кедром, росшим неподалёку. Его сердце подскочило, как утка, взлетающая с неподвижного пруда. Он подбежал и едва успел остановиться, не заключив её в свои юные объятия. Девочка выглядела робкой и смущённой, её тёмные глаза были опущены к земле.
– Как ты научилась подражать диким водяным птицам? – нетерпеливо спросил мальчик.
– Я тебе говорила, что кормила их и разговаривала с ними с тех пор, как была совсем ребёнком – никого другого рядом не было. Они… Зимними ночами, в лютый холод они раскрывают надо мной свои крылья, и мы вместе отдыхаем под жестокими звёздами.
Мальчик снова едва справился с желанием обнять её и вместо этого похлопал по плечу, как это делал его отец со своими товарищами.
– Ты рассказала, но как я мог поверить? Как-нибудь научишь и меня! – объявил он. – Но сначала история. Продолжи историю! Я должен знать, что случилось с Принцем после того, как Ведьма завершила свой рассказ.
Двое удалились от фонтана, который был не самым подходящим местом, чтобы прятаться. Они нырнули в рощу душистых кедров, и девочка устроилась поудобнее.
Девочка улыбнулась странной, кошачьей, улыбкой.
– Вообще-то ты ошибаешься. Ведьма едва успела начать…
Сказка Ведьмы (продолжение)
Бабушка улыбнулась, потрепала меня по волосам и сложила руки, как старый жук-палочник. Я помню её голос – он витал в тёмном подвале, царапал стены и лизал массивные замки, одновременно смягчая мой страх, как пряха смачивает нить губами.
– Выходит, ты можешь превратиться даже сейчас? Прямо сейчас?
– Да, я могла бы.
– А я?
– Ты не попадёшь в пещеру, дорогая. Свет Лиульфур или свет мёртвой Звезды никогда не коснётся тебя. В лучшем случае, ты станешь ведьмой листвы и травы: будешь делать любовные зелья, лекарства от простуды и средства от подагры для тех, кто сможет тебе заплатить; смотреть в небо и говорить юной девушке о том, что её муж будет светло- или темноволосым; примешь у неё роды и похоронишь её – когда придёт время. Это всё.
Я проглотила сказанное, прожевала, словно кусок жесткой шкуры. Наконец, я мрачно ухмыльнулась: лучше быть слабой ведьмой, чем никакой.
– Ты могла бы превратить кого-то другого? – вдруг спросила я.
Брови Бабушки сошлись, как если бы она пыталась прочитать странную вереницу следов, оставленных чьими-то копытами.
– Не знаю. Думаю, смогла бы… Должен быть способ. Но я бы не хотела пробовать.
– Сделай это сейчас! – закричала я, хватая её худые руки. – Превратись в мышь и выберись через замок или в птицу и улети через оконную решетку. Принеси ключ и выпусти меня, и мы уйдём в степи вместе; будем есть оленину и навсегда забудем об этом месте!
– Бедная малышка Нож! Иногда ты бываешь тупой и грубой, как камень, – сказала бабушка с нежностью. – Если я стану мышью, убегу прочь, волновать меня будет одно – как набить сыром своё серое брюшко. Я забуду тебя, и мы уже никогда не поедим вместе оленины. Кроме того, мне надо кое-кого убить, прежде чем я смогу начать думать о мышах или птицах. А тебе надо кое-кого родить.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Ведьма замолчала. Ночная тьма струилась в окна её домика, точно шелк, и окутывала всё толстым чёрным покрывалом. Принц чувствовал себя неуютно: он замёрз и перепачкался в муке, но не смел жаловаться.
Ведьма совсем притихла. Рука Принца снова начала кровоточить; кровь капала в тесто, но он её не замечал. Потрескивавшее в очаге пламя кувыркнулось, точно лосось, и хижину заполнил ароматный дым, источаемый зелёными ветвями шалфея и зубровки душистой. Глаза Принца увлажнились, и он не знал, виной тому дымный воздух, от которого выступали слёзы, или похороненные некогда воспоминания, пробуждённые небрежными словами о его матери. Воспоминания вышагивали внутри него уже несколько часов, и в дальнем углу памяти вспышкой мелькала грива золотых волос да шумели крылья.
Всё стало таким странным и непонятным – путь через лес, приведший его в этот дом; вытекающий изо рта старой карги поток слов, напоминающий чернила; пульсирующий внутри страх; ожидание того, что после рассказов ему всё равно придётся понести наказание за убийство гусыни, – и память, память, колотившая его по сердцу ужасными серыми крыльями.
По правде говоря, затерявшись в сказке Ведьмы, Принц почти забыл о существе с жемчужными крыльями – о мёртвой птице, той, кому он утром свернул шею. Но, посмотрев на свои испачканные в муке руки, омытые светом очага и тенями, он увидел пятна чёрной крови на белой пыли, увлажнившуюся рану и всё вспомнил. Прошел миг с той поры, как он, словно беглец, оставил Замок отца, намереваясь никогда не возвращаться, не правда ли? И теперь, не дойдя нескольких миль до границы королевства, стал пленником. Приключение закончилось, не успев начаться. Он попал в ловушку, как заяц, – свистящий шепот завёл его в трясину, он затерялся в хижине, среди теней и огня, рядом с трупом девушки-гусыни, что лежал у стены, возле очага, который не давал её плоти остыть.
И вот старуха произнесла имя его матери. Старые запретные слоги вплелись в её историю, у которой не было с ним ничего общего. Но воспоминания о матери превратились в жесткий рычаг, которым Ведьма медленно открывала его нутро, пядь за пядью, кость за костью. Принц едва расслышал последнюю часть длинной истории – так его одолела печаль, подступившая к самому подбородку.
Ведьма склонила набок голову, с лёгким любопытством наблюдая за своим гостем. Она осторожно взяла его руку в свои и прижала ладонь к окровавленным пальцам, останавливая кровотечение. Затем втёрла в обрубки какой-то сладко пахнущий корень, и рану сильно защипало.
– Трава и листва, – проворчала она.
Принц попытался изобразить улыбку, но не вышло. Ведьма обратила к нему хищные прищуренные глаза:
– Что такое, мальчик? Ты мой слуга и не можешь вытерпеть вечер, чтобы выслушать меня? Вместо этого завернулся в собственные печали, как в тяжелый шерстяной плащ, и ждёшь, что я сниму его с твоих плеч?
– Моя мать, – пробормотал Принц. – Ты сказала, что знала мою мать.
– А ты сказал не говорить о ней, – буркнула старуха. – Хорошо, отвлечёмся и послушаем, как убийца будет бить себя в грудь и извергать своё горе на мой пол? Твоя мать мертва, твой отец почти стёр её из памяти всего мира. Неужели тебе хочется знать что-то ещё о бедной женщине?
Под конец её голос опасно надломился, и Принц вздрогнул от этого, изумившись, сколько всего происходило в королевстве без его ведома, – взять хотя бы изгнанную в глубину леса женщину, которая была знакома с покойной Королевой. Имя его матери было аккуратно внесено в генеалогические свитки и звучало в народных песнях, где большей частью превозносились её длинные золотые волосы. То же самое имя находилось под запретом в комнатах, где решались важные дела, и в любых помещениях, куда мог войти его отец. И всё-таки Ведьма была с ней знакома.
Она потёрла длинные костлявые пальцы друг о друга – звук был такой, словно ветер всколыхнул ветки, – и одарила его оскалом из-под завесы седых грязных волос.
– Думаешь, я зловредная, да? Чудище, ошибка природы? Как жестоко я поступаю, удерживая тебя здесь и треща без умолку о своей мёртвой бабушке, до которой тебе нет дела. Отодвигая роковой жребий, приготовленный для тебя, дразня напоминаниями о твоей матери. Всё это я рассказываю не просто так, скудоумный мальчишка. Разве у тебя никогда не было наставника? Я повествую о мёртвом скучном прошлом, чтобы ты понял, почему ноги принесли тебя сюда, а не к хижине какой-нибудь бедной старушки, и чему ты положил конец, убив мою дочь. Не смотри на меня как идиот! Слушай или ничего не узнаешь – о своей матери тоже. Или мне тебя убить прямо сейчас, свершив возмездие? Это стоило бы мне всего один вздох. В моём возрасте все оставшиеся вздохи посчитаны и внесены в список, а я развлекаю тебя, тратя множество вздохов из него, мальчишка! Так что не испытывай моё терпение. – Ведьма помедлила, скривившись, будто и впрямь подсчитывала, насколько ещё хватит силы её лёгких. – И никогда не считай женщину зловредной лишь потому, что она некрасива и не лебезит перед тобой. Это неподобающее поведение для Принца.
Старуха шумно отхлебнула чаю. Когда она снова заговорила, её голос смягчился, превратившись из острого кинжала в деревянную колотушку с рукоятью, согретой ладонями.
– Я вижу, что тебе больно, а чудовища знают толк в боли. Ты тащишь труп матери за собой, и он оставляет в земле глубокую борозду. Это достойный повод, чтобы грубо прервать женщину, у которой имеются два пальца, коих не было утром. Ради того, чтобы раскопать эти старые кости, я, так и быть, выслушаю тебя. Поверь мне, твоя участь не станет легче, если ты ощутишь ко мне тёплые чувства, облегчив душу. У нас впереди все ночи, какие сотворил мир. Говори о мёртвых во тьме, мальчик, и я заберу у тебя её тело, если хочешь от него избавиться.
Принц сидел, ссутулившись, и смотрел на старуху, как выпоротый ребёнок; его рёбра стонали, будто по ним била тысяча маленьких мечей. Он не мог дышать, сердце бешено колотилось в груди, глотка пылала. Хотелось рассказать ей всё, что знал; его душа корчилась от усилий, но он не мог произнести ни слова.
Ведьма смеялась над ним. Но это был не злой смех: скорее, старая карга испытывала жалость и грусть. Она склонилась над ним, как крышка люка.
– Ты скажешь ему, как её звали. Ты скажешь ему это, когда вы снова встретитесь.
Старуха положила мозолистую руку на лоб Принца, другой накрыла его губы и мягко сжала, словно голову любимой куклы. Он хотел презирать её прикосновения, плюнуть в неё, но, едва её сухая кожа соприкоснулась с его, нахлынуло умиротворение, будто струящаяся река, мышцы расслабились и дыхание выровнялось. Её руки напоминали лапы, которыми медведица обнимает детёныша, сильные и нежные. Когда Ведьма отпустила Принца, он смотрел на неё широко открытыми глазами, его спина была прямой, лоб прохладным.
– Трава и листва? – прошептал он.
– Вроде того, – сказала она.
И он смог, не запнувшись, произнести слова, которые давно ржавели внутри.
– Мой отец убил её. – Он покачал головой. – Это теперь я всё понимаю, но никто не говорит о случившемся вслух. Никто! Я был младенцем, когда она умерла, но моя няня рассказывала, как всё произошло, повторяла снова и снова, будто колыбельную. Она хотела, чтобы я хранил это воспоминание как второе сердце – неотъемлемую и постоянную часть тела. Прижимала меня к себе и шептала одну и ту же историю, раз за разом. Я помню её волосы, точно лес прямых белых берёз вокруг меня, и тёмные глаза надо мной…
Нянина сказка
Твоя мать, малыш, была красивее летнего солнца. Тебе скажут, что это неправда, и она была уродлива, как жаба, но это враньё. Я всегда говорю своим мальчикам правду.
Она была вся из золота – волосы, кожа, даже глаза, точно у львицы. Звали её Хелия, и это самое прекрасное имя из всех, что я когда-либо слышала.
Твой отец охранял её как ревнивый шакал и держал в комнате на вершине башни. Но слава о её красоте, достойной книг, гремела повсюду. Ты родился вскоре после свадьбы – так обычно и бывает, когда жена похожа на львицу или на солнце. Когда ты вышел из неё, с необычайной лёгкостью, она ужасно тебя полюбила. Ты был в той же мере тёмным, в какой она светлой, малюсенькой луной рядом с её солнцем. Я была её горничной, и она была полна света. Говорю тебе, утёночек мой милый, иногда глазам становилось больно смотреть, как она стояла рядом с окном, держа тебя у груди, и её волосы пламенели. Я иногда задавалась вопросом, сосал ты молоко из её груди или в твой рот тёк солнечный свет.
Но однажды ночью её не оказалось в башне. Ты к тому времени уже был карапузом с пухлыми щёчками и ковылял по её пустой комнате – твой отец ей даже стула не дал, клянусь! Весь день проводила на ногах, а спала на камнях, и ни разу я не слышала от неё жалоб. Не могу сказать – откуда же мне знать! – чем она занималась той странной ночью (богатеи не говорят нам того, что не касается завязывания лент и заваривания чая, так заведено), но солнечным утром гнев твоего отца затемнил небо и встряхнул кровлю.
Вместе со старым предсказателем они в ярости метались по Замку, точно два урагана, проклиная меня за то, что я её выпустила, будто Королева не может делать то, чего ей хочется. Он схватил меня за руку, словно кандалы надел, и мы понеслись по расшатанной лестнице на башню – там стояла твоя мать, спокойней не бывает, ты спал у неё на руках, и тебя ничто не волновало. Она посмотрела на твоего отца взглядом сытой тигрицы, её золотые глаза сияли от ненависти и счастья.
Я никогда не забуду этот взгляд, чтоб мне больше яблок не есть! Хелия ненавидела Короля – такова истина; спроси его, когда вырастешь, и сам увидишь, назовёт ли он старую Яю вруньей. Отец вырвал тебя из материнских объятий и сунул мне, ты проснулся и заплакал. Потом он сразу же ударил твою мать с такой силой, что она выплюнула на пол зуб – как тебе такое понравится? Но она и глазом не моргнула, её ужасный взгляд не переменился. Король зашипел на неё и изрёк странные тёмные слова:
– Женщина, во второй раз тебе меня не одурачить. Я должен был перерезать твою глотку при нашей первой встрече.
– Видимо, так, – промурлыкала твоя мать.
Король улыбнулся, и я начала бояться, что в моём хозяине кроется что-то тайное и гнилое, но ничего не сказала. Слуга никогда ничего не говорит, если его не спрашивают, а Яю все спрашивают об одном – готов ли ужин.
– Ты поняла? – с яростью бросил Король. – Твоя смерть послужит уроком для твоего сына.
Она жутко оскалилась, глядя в его побагровевшее лицо, и шепот её был сладким, как сметана:
– Урок он усвоит, о, мой супруг. Он всё усвоит.
Твоя мать умерла на следующее утро. Я так и не узнала, почему, за какое преступление её казнили, точно воровку, пойманную с куском масла. Я была во внутреннем дворе, стояла, прижимая тебя к себе, и, как подобает хорошей няне, заставила тебя отвернуться в последний момент.
Это случилось перед рассветом, когда всё вокруг было сонное и серое. Твой отец выволок бедняжку Хелию из Замка в простой белой рубахе. Её волосы струились, как огонь в тумане. Сумасшедший старый заклинатель тоже был там, в своём роскошном синем одеянии. Но он не проронил ни слова – слуга ничего не говорит, если его не спрашивают, – только всё время еле заметно улыбался. Король затащил твою бедную матушку на груду свежих брёвен и привязал там грубыми верёвками. Она не сопротивлялась, даже когда он затянул верёвки настолько туго, что до крови ободрал ей запястья. Но когда она увидела тебя… Ох, не бывает такой сильной матери, которой наплевать, что её ребёнок увидит, как она горит. Тогда она заплакала и закричала, рванулась к тебе, её тонкий жалобный крик взмыл в утреннее небо, но о пощаде она ни разу не попросила.
Мне хотелось ей помочь, но тогда я сгорела бы вместе с ней, и ты остался бы совсем один, было бы некому тебя любить и заслонять от гнили, живущей в твоём отце.
Король вытащил длинный нож и отсёк её великолепные волосы, вручил их тупоумному Волшебнику. Они стояли над ней недолго, лицо Короля было тёмным, словно грязь. Затем он поджег ветви ясеня и дуба большим трескучим факелом. Твоя мать кричала, и это был жуткий плач, как пугающая песня смерти, что исходила из её костей. Ты кричал ещё громче, настолько тебя испугал певучий скрежет. Огонь лизнул её ноги, платье вспыхнуло; и вот загорелась голова, точно голова ангела.
Яя тебе не врёт, что бы ни говорили за ужином! Слушай, когда я говорю об увиденном. Когда огонь окутал её красным плащом, сквозь извивающиеся языки пламени я увидела, как твоя мать… переменилась. Её волосы из золотых стали чёрными, а контуры тела оплывали от жара. Она то была Хелией, какой я её знала, то кем-то совсем другим, уродливым, ужасным и тёмным – темнее не бывает.
Тебе скажут, что Яя не в ладах с головой и пьёт слишком много дурного красного пива, но я думаю, что Волшебник тоже это видел, его глаза сделались сердитые. Он прогнал нас прочь с холода, говоря, что кто-нибудь заберёт её кости и что ребёнок не должен это видеть… Тут я сказала прямо ему в лицо, что, если он не хотел, чтобы ты всё видел, не нужно было тебя вытаскивать из постели. Но старый драный аист, как обычно, не обратил на меня внимания.
Но, пончик мой сладкий, её крик преследовал меня, когтями рвал спину, и за криками, клянусь, я слышала шелест, и хлопанье, и трепетание, и оно становилось всё громче, пока я не зажала уши руками, и мы побежали прочь от твоей матери, которая горела, будто мясо на костре.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– И это всё? – спросила Ведьма скучающим голосом.
Принц кивнул с глупым видом, хотя в глубине его души затрепетала расчётливая жилка, словно он учуял в подлеске запах оленя, которого точно можно поймать, если тихо подкрасться. Нож устроилась поудобнее на стуле, покрытом шкурой, и продолжила свой рассказ.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Время в тюрьме бежало точно восьмилапый леопард – мы не могли его видеть и слышать, а оно подкрадывалось на своих пятнистых лапах и пожирало нас заживо. Я сделалась круглой, словно полная луна, хотя мои руки и ноги были как берёзовые веточки, щёки запали. Голод и тьма ходили за нами по пятам, точно беспокойные нянюшки.
И вот однажды ночью я легла на заплесневелую солому, по которой торопливо бегали пискливые крысы, чтобы произвести на свет дитя. Бабушка прижимала меня к себе, обнимая руками и ногами, пряча от каменных стен, лицом к лицу что-то шептала, пока я скулила, и вытирала слёзы с моего чёрного от грязи лица. Она тёрла мой распухший живот морщинистыми коричневыми руками, рисовала на нём круги, подобные улетающим птичьим стаям.
Боль стала отдельным миром, где всё было нарисовано красным и чёрным да белыми вспышками-всхлипами. Я кричала – но в тюрьме все кричат. Я проклинала всё, о чём могла подумать, – но проклятия в тюрьме так же привычны, как гангрена. Мои волосы прилипли к голове от пота, босые ноги скользили по полу, когда я дёргалась и извивалась, точно больная лягушка-бык. Моё тело пожирало себя, разрывалось на части. Я всё кричала и кричала, цепляясь за бабушку, а она цеплялась за меня, пытаясь успокоить и тычась в меня носом, словно я была волчонком в снегу.
Её я не чувствовала: чувствовала лишь, что вот-вот разобьюсь вдребезги.
Так родилась моя дочь, здоровая и красивая, с копной чёрных волос и спокойными чёрными глазами. Я держала на руках её влажное дрожащее тельце, появившееся во тьме и вдали от нашего дома. Я улыбалась ей и качала её, позабыв свои недавние слова и отчаяние.
А потом голос бабушки вонзился в меня, как игла в полотно:
– Мы не можем её оставить, Нож. Ты должна это понимать.
Я отшатнулась и крепко прижала к себе доченьку. Бабушка успокоила меня и вновь начала гладить, чтобы добиться своего, словно я была девочкой, которая ушибла палец.
– Ей ни за что не выжить. Король прикажет убить кроху, если она сама не умрёт здесь от голода. Она не может остаться с нами. Ты это знаешь, но не хочешь признавать – любая мать на твоём месте не захотела бы.
Мне стыдно за слёзы, пролитые той ночью, горячие и обильные, как воск из свечей, что горели в тысяче храмов. Но остановить их было невозможно.
– Нет-нет, она моя! Я уже её полюбила. Если бы и ты её любила, ни за что не попросила меня отдать дитя. Я её не отдам никогда! – Я беспомощно уставилась на бабушку. – У неё даже имени нет! Как я могу?
Бабушкины глаза окружили морщины, сделавшие их похожими на страницы книги, которую слишком часто листали очень грубые руки. Она пожала плечами, зная, какой упрямой я могу быть, и впервые удалилась от меня во тьму, скорчилась в дальнем углу камеры и прижала колени к груди на куче позеленевших от плесени костей. Через некоторое время я услышала, как она захрапела.
После всех наших разговоров недели в тишине напоминали погружение в холодную воду без возможности набрать полную грудь воздуха. Бабушка не говорила со мной, и я впервые поняла, что значит подлинное тюремное заточение. Мы жались по углам, как изготовившиеся к битве борцы. Я берегла свою малышку, как могла; её жадный маленький рот терзал мою грудь, а яростные пронзительные крики – уши. Она утомляла меня… Ох, как же она меня утомляла! Я могла лишь дремать, словно больная кошка; меня мотало от бодрствования ко сну и обратно. Из каменных плит не сделать ни колыбель, ни постель, и у меня не было ни кобыльего молока, чтобы приучить дочку к его вкусу, ни степной травы, чтобы она могла к ней прикоснуться. Ей не пришлось познать вещи, известные мне.
Её чёрные глаза постоянно глядели во тьму. Её кожа всегда оставалась бледной, холодной и влажной на ощупь, и она так дрожала от сырости. Дочка была тонкая и продрогшая, словно стеклянная. Я плакала, когда кормила её грудью, укачивая возле склизкой стены. Она перестала плакать, просто смотрела на меня чёрными бездонными глазами.
– Гнёздышко, – всхлипнув, прошептала я однажды ночью, обращаясь к теням, за которыми сгорбившись сидела бабушка. – Я назову её Гнёздышко.
– Имя даёт надежду девочке, которая, вероятно, никогда не увидит дневного света, уже не говоря о гнезде высоко в заснеженных горах.
Я погладила мягкую щёку дочери, в которой совсем не было красок – лишь ровная серость под кожей. Она потянулась ртом к моему пальцу, и я в сотый раз расплакалась. Я устала плакать. Молоко и слёзы лились из меня каждый день, и каждый день я думала, что влаги во мне не осталось. Но каждый день я снова плакала и снова кормила грудью.
– Я не могу, бабушка, не могу. Ты хочешь, чтобы я её умертвила, как лошадь с разбитым коленом, но я не могу. Даже если так лучше для неё, я всё равно не смогла бы, не удержалась бы и подошла в тот миг, когда она заплачет. Её крик, словно крючок, застревает в моей глотке.
– Ох, маленькая моя, я никогда не попросила бы тебя о подобном. Как ты могла такое подумать? Я неспроста тарахтела, будто панцирь черепахи, носимый ветром по камням. То, что мы можем ей дать, намного лучше того, о чём говоришь ты, и уж точно лучше нашей собственной участи. Нож, позволь мне её взять и поверь, я не зря рассказала тебе эту историю. Хочешь назвать её Гнёздышком? Очень хорошо. Давай поможем ей отыскать настоящее гнездо.
Бабушке пришлось выдирать дочку из моих рук, как выдирают драгоценный камень из оправы. Она едва заметно и грустно улыбнулась, ощутив вес своей правнучки и коснувшись её впервые с того момента, как она извлекла дитя из моего чрева. Бабушка уложила мою доченьку на все лохмотья, какие мы смогли собрать, чтобы защитить её от холодного пола. Гнёздышко начала плакать, втягивая ледяной воздух, и её всхлипы заполнили камеру до потолка.
Старая женщина готовилась – так я решила – и закрыла глаза, будто занавесила двери, мне велела сделать то же самое. Я не видела в этом смысла, потому что владела лишь силой, достаточной чтобы убить нескольких оленей и ездить верхом, перевязать гноящуюся рану и вправить вывих. Если мы не собирались убить моё дитя, помочь было нечем. Если я и была ведьмой, то лишь той, что знает траву и листву. Моя маленькая девочка продолжала рыдать; от этого забеспокоились черви, тараканы и пауки, беззаботные ползучие обитатели нашей клетки. Я рвалась ей помочь, снова укутать и прижать к груди, хотя в ней, наверное, уже не осталось ни капли молока.
Бабушка положила пальцы на мрачное личико Гнёздышка.
– Я… я не уверена, что всё получится. – Она откашлялась. – Никогда этого не делала. И Волчица не сказала, разрешено ли подобное. Дыра – всего лишь пространство, но заполненная дыра становится Звездой. Я полна, а она пуста. Этого должно хватить.
Раньше я ни разу не слышала, чтобы моя бабушка подвергала сомнению хоть что-то из существующего под красным солнцем. Если бы она сказала, что одним кроликом можно накормить целый мир, я бы кивнула и принялась сдирать с него шкуру.
Бабушка коснулась лбом пола, будто молясь, и начала медленно стучать головой о камни, снова и снова, всё сильнее и сильнее. Я попыталась её остановить, но она оттолкнула меня и опять принялась за своё, разбивая лицо. Под ней возникло тёмное влажное пятно, а звук, с которым её кости ударялись о камни, сделался громким и жутким, прежде чем она остановилась и выпрямилась.
Её лицо было в крови, но среди потёков красного цвета виднелись струйки серебра, как седина в волосах юной женщины. Они покрывали бабушкины щёки и затекали ей в глаза, капали с подбородка. Она коснулась пальцем влажного месива, в которое превратился её лоб, и, увидев свет на пальцах, приложила лоб ко рту моей дочери.
Гнёздышко поначалу ничего не поняла, но серебро и чернота капали ей в рот, а её никогда не приходилось упрашивать сосать. Девочка прижала губы к бабушке и принялась хлопать своими ручками по волосам старой женщины с азартом голодного малыша. Свет тёк в неё вместе с кровью, и во тьме моя дочь засияла.
Бабушка отстранилась и вытерла рот Гнёздышка, как обычному ребёнку. Она положила руки на её бледное тельце и зажмурилась, дыша тяжело и глубоко, сжимая пальцами плоть моей дочери, точно вылепливая её из глины.
Гнёздышко медленно менялась. Её ноги наполнились лунным светом и исказились, будто расплавились; руки сделались плоскими, как листы нетронутой чернилами бумаги. На её теле выросли перья, словно шелковистые пряди волос: сначала кудрявый пух, а потом сильные серые перья для полёта, с чёрными кончиками цвета серебряной нити на хрустальном веретене. Её рот утих и превратился в изящный изогнутый клюв, который потрясённо раскрылся.
Только глаза девочки остались прежними и её внимательный взгляд цвета камней на дне озера.
Моя девочка, ставшая милой юной гусыней, вскочила и ткнулась в мою ладонь своей гладкой головой. Она по-прежнему была очень маленькой. Я наклонилась и поцеловала её перья, чувствуя, как моё сердце превращается в высохший боярышник.
Балансируя на груде костей, мы поднесли Гнёздышко к зарешеченному окну, дотянулись до него и протиснули её тельце между прутьями.
– Поблизости обитают сотни гусиных стай, Нож. Одна примет её, пока она не вырастет. Так будет лучше. Для нас с тобой такой надежды нет. Лети, птичка!
Гнёздышко одарила меня долгим взглядом, её чёрные глаза блестели на морозном ветру. Потом она повернулась и спрыгнула с наполовину погребённого окна в глубокую траву. Было темно, звёзды прожигали дыры в темноте. Я смотрела, как она переходит из одной тьмы в другую.
Через три дня после того, как мы наблюдали за Гнёздышком, ковыляющей по полю, огромные железные двери, отделявшие сырую темницу от двора, который утопал в мерцании свечей, распахнулись с такой силой, что треснуло их каменное основание. Бабушку и меня бесцеремонно схватили и, оставляя синяки и ссадины, потащили вверх по той же спиральной лестнице, по которой я спустилась в ад – так давно, что, казалось, это произошло с другой женщиной. Всё вокруг затопил бело-желтый свет: мы никак не могли к нему привыкнуть.
Оказавшись перед Королём, поначалу мы не могли смотреть прямо на него, так как его золотая корона и расшитый драгоценными камнями камзол слишком ярко сверкали, отражая солнечный свет. Конечно, он именно этого и добивался. Позже я узнала, что регалии во время аудиенций использовались редко. Короля представил высокий мужчина, чьи волосы нечёсаной гривой сланцево-серого цвета опускались до бёдер. Он носил широкий, скрепленный болтами железный ошейник, который тёрся о ткань его сине-коричневого одеяния.
– Вы предстали перед судом его королевского величества, Короля Восьми королевств и Правителя Восточных земель, Автократа Объединённых племён, Владыки Тысячи пещер, Священного сосуда, коему принадлежит мир надземный и подземный. Вот ваш судия.
К тому моменту я различила в сиянии холодный взгляд Короля: он был подобен льду подо льдом. Герольд в ошейнике повернул ко мне свое жестокое лицо с поджатыми толстыми губами и принялся разглядывать мои шрамы. Бабушка застыла около меня, будто вздыбившая шкуру гончая; она узнала в нём своего будущего хозяина – Омира, придворного Волшебника и советника Короля. Я и шагу ступить не успела, как он попытался подчинить волю бабушки и не преуспел, словно женщина была неподатливой ясеневой доской.
– Вы обе… – Его голос был точно масло, текущее по шелку тошнотворными извилистыми струйками. – Вы обе совершили измену, мои весьма смышлёные девочки. Непростой трюк для того, кто заперт под землёй, но вы справились. Вы лишили Короля его законной собственности. Более того, эта собственность была не военной добычей, а родилась прямо здесь, на земле его величества – в этих стенах! – и принадлежит ему по праву.
Волшебник потёр ладони, словно его длинные пальцы болели. Бабушка устремила на него спокойный взгляд, в её голосе было столько же страха, сколько содержимого в выеденном яйце.
– Отчего бы тебе не подойти ближе, Омир Серв, и не рассказать, с чего вдруг моя правнучка сделалась имуществом какого-то неуклюжего борова?
Волшебник слегка вздрогнул, но быстро овладел своим лицом:
– Насколько близко, старая карга? Достаточно близко, чтобы ты сунула мне нож под рёбра? Нет, обойдёмся. Мне не нужны другие доказательства, ты сама признала, что у тебя есть правнучка. – Он бросил на меня горячий взгляд, который прилипал к коже и крепко держал, лишая сил. – Кобылка ожеребилась, но где же приплод?
Я попыталась возразить, но бабушка угомонила меня, крепко сжав руку.
– Так тебе не отдадут то, чего ты желаешь. Оно не для тебя, – прошипела она.
В ответ Волшебник шагнул вперёд:
– Ну и пусть не отдадут, ты, мешок старых пересохших костей. Я сам возьму!
Одного шага было достаточно. С криком медведя, проткнутого копьём, бабушка расхохоталась ему в лицо и вытащила из своего платья, превратившегося в лохмотья, серебряный нож с костяной рукоятью. Нож был острый и легко прочертил на шее Волшебника красную полосу.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Огонь почти погас, и Принц сидел в темноте, уставившись на свои ладони, которых не видел. Ведьма легко прикоснулась к узловатому шраму на своём лбу – линии, что извивалась и петляла как морской змей. Она мрачно улыбнулась; её рот, изогнувшись кверху, превратился в точно такую же линию.
Обвинение лежало между ними на столе, жирное и уродливое, с чёрной спиной и пропахшее дымом. Старуха ничего не говорила, а он старался не смотреть на труп, покрытый сажей и каплями росы, лежавший возле камина как свежесрубленное деревце.
– Я не знал, – прошептал Принц. – Я не мог знать. Откуда? Она была просто птицей. Я не хотел…
Отправившись на подвиги, он сразу уничтожил самое ценное, что встретил на своём пути.
Ведьма накрыла его дрожащую руку своей. Её голос был настолько мягким и добрым, насколько это вообще возможно для ведьмы.
– Если бы ты это сделал нарочно, мой мальчик-красавчик, я бы съела твою печень, причём с улыбкой.
Принц Леандр вскинул глаза на Нож с внезапным волнением.
– Но ведь должен быть способ её вернуть! Он обязан существовать. Ты Ведьма. Я Принц. Во всех книгах, где есть ведьмы и принцы, такой способ имеется. – Он упёрся в край стола и наклонился ближе к старой карге: – Скажи, что делать, и я спасу её. Принцы для этого и предназначены – спасать девушек. Умоляю, пошли меня к самой далёкой ледяной шапке или на самые обширные болота. Я пойду, если это будет означать жизнь для неё.
Ведьма улыбнулась той настоящей и нежной улыбкой, какой взрослая волчица могла бы удостоить волчонка.
– Возможно. Как ты и говоришь, у принцев это получается лучше всего.
Нож притихла. Она собрала со стола тесто из муки, крови, слёз и прочего и поместила в огромную печь.
– Как ты сбежала из Дворца? – вдруг спросил Принц и приготовился слушать.
– Меня изгнали, – коротко ответила старуха, проталкивая бесформенный кусок теста на железной решетке подальше.
Леандр видел остаток истории как груды толстых пергаментных свитков в глазах Нож. Однако он понимал, что ему рассказали всё, что сочли нужным.
– Ты должен знать о зле, которое твоя семья причинила моей. Она была последней из нас, последним потомком той бедной девочки, что пряталась в углу своего шатра, пока воины убивали Звёзд. Теперь её нет, и нас больше не будет. Вот правда, которую ты можешь взять в руку, точно обожженный солнцем кирпич. Её можно взвесить и пощупать. Чтобы спасти мою дочь, ничего другого не потребуется.
– Выходит, способ есть. Что я должен сделать? – Принц устремил на неё тот искренний взгляд, на какой способны все принцы.
Ведьма фыркнула и уставилась на него сквозь полумрак, прищурив глаза.
– Её надо завернуть в шкуру Левкроты[7] в новолуние. Тогда она, возможно, хотя и необязательно, воскреснет. – Ведьма ждала ответа, но он не прозвучал. – Смотрю на тебя и удивляюсь, мальчик. Ты хоть раз бывал за пределами крепостных стен? Левкрота – ужасное чудище, что живёт посреди Зловещих болот. Он цвета запёкшейся крови, отчасти олень, отчасти конь, а по размерам – несравнимо больше того и другого; его пасть тянется от уха до уха, а вместо зубов сплошная кость. Жуткий зверь, уверяю тебя.
– Я не боюсь! – вскинулся Принц, преисполнившись желанием доказать свою смелость перед лицом опасности, стоявшей на пути к спасению прекрасной девы-птицы и восстановлению доброго имени его семьи.
– Погоди, мальчик. Ты не понял. Давай я расскажу тебе сказку о другом принце, который отправился на бой с Левкротой…
Сказка о Другом принце
Жил-был прекрасный принц, который решил вызволить свою невинную сестру из лап свирепого чудища.
Левкрота одним движением челюстей сломал ему хребет, а потом две недели носил на ветвистых рогах его голову и руки в знак своего триумфа.
Ведьма выпрямилась с удовлетворённым видом.
В Саду
Мальчик хихикнул. Он теперь прилежно сидел напротив девочки, не осмеливаясь опять к ней прикоснуться. Она тоже тихо рассмеялась в темноте. Её взгляд взмыл к ветвям кедра в вышине, чёрным ястребом метнулся к нему и снова улетел. Они теперь волновались и пугались каждого звука, боясь услышать громогласные шаги Динарзад, которая, несомненно, находилась поблизости. Не было ужина, чтобы отвлечься, лишь они двое, изнывающие от желания рассказывать и желания слушать, неловкие и неуверенные, испуганные тем, что их могут обнаружить.
В ночи, что лёгким галопом двигалась к рассвету, точно норовистая кобыла, мальчик чуть придвинулся к девочке и настойчиво попросил не останавливаться.
Девочка глубоко вдохнула и продолжила; её голос был подобен колыханию ивовых ветвей над водой тёмного озера.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Когда Леандр в утренних сумерках покидал хижину, Ведьма одарила его многозначительной ухмылкой и поцеловала в щёку жесткими губами. Это был неловкий жест, и он не смотрел ей в глаза. Но рука старухи коснулась его руки и размотала повязку из листьев, скрывавшую обрубки. Принц был не слишком удивлён, когда увидел, что они полностью зажили, затянулись новой розовой и тёплой кожей, аккуратно обтягивавшей костяшки пальцев; не осталось ни крови, ни рубцов.
– Трава и листва, – сказал он с улыбкой.
Ведьма подмигнула.
Принц покинул её, наконец узнав, в чём заключается его Подвиг. Он пустился в путь через высокие горы с вершинами, тронутыми снегом, как бороды мудрецов сединой. И так до самого моря, что раскинулось перед ним, гладкое, будто платье. Его не пугали трудности, ведь он как-никак был воином, хотя Подвиг оказался утомительнее, чем он предполагал.
Например, Принц не догадывался, сколь важную часть Подвига составляет простая ходьба. Он шел, пока не сносил три пары сапог, проклиная отсутствие лошади. Ему пришлось топать через всевозможные ландшафты, от сырых болот до уютных ферм и горных ледников. И нигде, ни в одном посёлке его не встретили с радостью. Никто восторженно не кричал, что Принц почтил деревню своим присутствием – что за честь видеть вас, сир! – никто настойчиво не приглашал его за праздничный стол – только лучшее из нашего урожая для вас, сир! – никто не умолял усладить его слух песней о его приключениях – ой, расскажите же нам об ужасной Ведьме, сир!
Его почти не замечали: трактирщики были угрюмы, трактирщицы молчаливы и немолоды; молочницы не отличались дружелюбием, их бёдра были широченные, а сами они казались прилипшими к бокам своих коров. Через некоторое время Принц и сам не особенно отличался от самого нищего крестьянина – весь в глубоко въевшейся грязи, лицо кислое, как у священника во вторник, и без надежды раздобыть хорошую обувь. В общем и целом происходящее ничуть не походило на то, чего он ожидал.
Однажды вечером, когда солнце на западе подсчитывало дневное золотишко, Леандр нырнул в прибрежную таверну в северной части страны, над дверью которой висела странноватая вывеска – огромный кулак, крепко сжимающий рыбу. Он положил на стойку несколько монет и с наслаждением расположил натёртые ноги на влажном полу. Глотнул горького разбавленного эля, отдававшего кожей и тёплой желчью. Местечко было мерзкое, с десяток тёмных личностей в капюшонах поглядывали на него из куда более чем четырёх углов. Хотя в этом истории были правдивы: Незнакомцы с Сомнительной Репутацией наличествовали в изобилии, как белые барашки на морской глади.
Трактирщик, настоящий громила, выглядел так, словно некий гигант соорудил его из сваленных в кучу частей тела. Он размахивал толстой тряпкой, как мечом, и ржавое железо его глаз бросало вызов любому, кто заказывал выпивку. Его волосы были цвета песчаных отмелей, на которых застревали корпуса кораблей, ладони походили на барабаны. От него несло ламповым маслом и морской водой.
Он бросил на Леандра косой взгляд из-под тяжелых век и ничего не сказал, когда молодой Принц скривился, отведав содержимое кружки. Привередничать по части местной выпивки не хотелось, но пойло было столь мерзкое, что его лицо исказилось само собой. Трактирщик помрачнел и сплюнул. Леандр устал от бесцеремонного приёма, коим его удостаивали в разных унылых городишках, и воззрился на трактирщика.
– Ты знаешь, кто я такой?
Верзила за конторкой принялся разглядывать деревянную столешницу.
– Да, – буркнул он, – но не рассчитывай, что это даёт тебе право на лучший эль.
Принц закатил глаза.
– Я не поэтому спрашиваю, добрый человек. Твой эль, – ему пришлось подбирать подходящие слова, – хорош, как колодезная вода в моём доме. Но все, кого я повстречал, пустившись к Зловещим болотам, были грубы со мной, а у меня осталось очень мало времени, чтобы найти то, что мне нужно. Если бы горожане относились ко мне добрее, улыбались, кланялись и указывали дорогу, как указатели на пыльной обочине… Но они этого не делают. Я догадался, что ты знаешь меня, но ты ничего не сказал и не предложил свою помощь. Почему?
Мужчина пожал плечами, и его тело содрогнулось, будто сдвинулись континенты.
– Я знаю кое-что, чего не знают обычные люди. Они, скорее всего, не отличат тебя от королевской коровы. А если отличат… – Глаза трактирщика сверкнули, как корпус корабля в утреннем свете. – Сказать, что твоего отца здесь не любят, – ничего не сказать. Они бы пожелали вытрясти уплаченные налоги из твоей шкуры, если бы знали, что из этого выйдет толк. Они бы пожелали забрать назад детей, что исчезли в башне волшебника. А если не получится, они бы пожелали убить тебя в качестве расплаты. И я бы не стал им препятствовать. Тебе лучше оставаться неизвестным. Ты ужасно далеко от дома. Что здесь значит твоё имя, кроме указания на чужака-тирана? Не говоря о том, что у нас, крестьян, нет привычки помогать странным путешественникам. Мне бы больше пришлась по нраву собака с родословной вроде твоей, смекаешь? И я сказал тебе больше слов, чем всем посетителям за месяц, так что намотай их на ус и скатертью дорожка.
Сбитый с толку Принц повертел в руках кружку. Он уже начал привыкать к унижениям и к тому, что все делали из него дурака. Разумеется, это тревожило, но демонстрировать свою смелость и хорошие манеры прямо здесь не стоило.
– Но ты хоть скажешь мне, где найти Зловещие болота? Боюсь, я заблудился. И, – Леандр сглотнул, точно пойманная форель, – не знаешь ли ты сапожника, который продаст хорошую пару сапог?
Трактирщик взглянул поверх испачканной элем стойки на принцевы пальцы, выглядывающие из поношенных ботинок, как черви из мешка с наживкой. Он снова фыркнул.
– Когда-то, будучи ещё молодым, я отправился на болота. Я расскажу тебе историю, если ты уберёшься прочь отсюда.
Широкоплечий мужчина выпрямился, словно ребёнок, отвечающий урок. Когда он начал свою историю, его голос сделался глубоким, точно шум прибоя, а слова стали чёткими. Принц замер – к этому моменту он сделался отличным слушателем.
– Звать меня Эйвинд. Ты это имя точно не слыхал…
Сказка Трактирщика
В дни своей юности я был медведем. И нечего глядеть на меня разинув рот! В моих краях, что лежат так далеко к северу, как пустыни – к югу, много медведей. Вся моя земля покрыта снегом и населена гордым племенем медведей с бледной шерстью, которые правят хорошо и мудро. Когда мы шли по льду, напоминали волну, исчезающую прежде, чем пена коснется берега.
Я был одним из белых медведей, и очень счастливым. Я любил медведицу, а она была лучшей из наших рыбачек: могла опустить шелковистую лапу в стремительный поток с тающего ледника и выловить двадцать лососей разом, удерживая их, как букет полевых цветов. Её большие и тёмные глаза танцевали, словно огни, часто расцвечивающие ночное небо. Она была новичком в астрологии, но уже легко читала Звёзды, точно буквы. Когда она вставала на задние лапы, делалась выше, чем я.
В Стране Нетающего Снега наши дни проходили просто, за рыбной ловлей или охотой, рычанием медвежат и наблюдением за Звёздами. Мой народ всегда был народом великих астрологов, хотя вы, люди, редко к нам обращались. Иногда, всего один раз за много лет, собиралась Медвежья Конгрегация.
И вот её созвали в тот день, когда я и ещё несколько молодых медведей хотели объявить, кого мы выбрали себе в пару. Такие вещи зависят от движения Звёзд, нужно получить одобрение Конгрегации. Тюлений жир разложили блестящим ковром вместе с большими ломтями лосося, что розовее лапы медвежонка, которому час от роду. Сотни белых лис забили в честь Звёздных божеств, и я сделал из их шкур плащ для приношения.
Медвежья Конгрегация – то ещё зрелище. Медведи приходят со всех ледников, как ожившие куски льда, их глаза светятся ярче шкуры тюленя в холодной воде. К тому моменту, когда все прибыли, Звёзды уже засияли сквозь прорехи в небесном занавесе. Я поклонился им. Полезно быть вежливым, когда собираешься просить об услуге. Кроме того, я хотел убедиться, что они одобрят мой выбор – как-никак она была гордостью Страны Нетающего Снега.
– Звёзды шепчут на своих небесных плавучих льдинах, – начал один медведь.
– Да будут благословенны небесные охотники, – ответил я.
Всё это ритуалы. Никто не произносит слова, которые не звучали тысячу тысяч раз, даже первое повторение в этом ряду было лишь отзвуком однажды сказанного.
Все заняли свои места и с удовольствием стали пожирать тюленью плоть.
Когда мои соплеменники насытились и принялись кататься в снегу, большой косматый медведь выступил вперёд. Я знал его, это был Гунде, самый свирепый из нас.
– Звёзды шепчут, брат. Великий ужас случился далеко на юге. Красный летний пожар, что зовётся Острогой-Звездой, поведал мне. Одну из его сестёр… убили. Она была Змеёй-Звездой, прекрасной и зелёной, теперь она мертва.
Медведи издали жуткий скорбный вой, пронзительный, как костяная игла. Я содрогнулся.
– Мы рыдаем о нашей небесной тётушке, скорбим о хрупкой плоти. Это недобрый знак. Форма Звёзд искажена – знаки Чёрного Тюленя и Карибу-Окруженного-Волками совместились. Большая Лапа ретроградная. Мы изучили все знамения. В это тёмное время никому не позволено брать себе пару, настала пора скорби для всех, кто любит Звёзды. Нам жаль, братья.
Я завыл протяжно и низко, точно засыпанный снегом рог. Разве справедливо, что чья-то смерть в лесу лишила меня возлюбленной во льдах? Я запустил когти в мерзлоту.
– Возможно, через год, когда Созвездия снимут свои чёрные и серые вуали… – Гунде хотел успокоить меня, но я слышал ложь в его нежном рычании. Ведь Звёзды всё время скорбят. Они отняли у меня невесту раз и навсегда. Ничто не заставит их изменить своё решение. Как нас учили давным-давно, Звёзды не могут сойти с орбит.
– Мне нет дела до мёртвой змеебогини, – Медвежья Конгрегация ахнула от моего богохульства. Никто, кроме разгневанного меня, не смог бы махнуть мозолистой лапой на всю их братию. – Если вы не отдадите мне суженую, я заберу её, и мы отправимся к другому морю, где у Змей и Звёзд нет власти.
Позади меня раздались мягкие шаги. Сначала я услышал льдистый запах её шкуры, а потом увидел её чистые чёрные глаза, которые смотрели на меня с жалостью.
– Нет, – прошептала она, и её голос был как скольжение медвежонка животиком по льду. – Ты думал, что я провожу свои дни глядя на лёд? Я вижу небо, как все медведи, и лучше некоторых. Я видела, что знак Лисы-Которую-Трудно-Поймать опустился за горизонт раньше времени, а Луна потемнела словно китовая кровь на леднике. Потом, когда Нож Охотника взошел на юге, я знала, что тучи полны скорби. Этому не суждено случиться, Эйвинд. И более того – Сброшенный-Рог в Третьем Доме – у тебя не будет пары ни сейчас, ни потом. Ни со мной, ни с кем-то другим. Что написано, то нельзя стереть. Улыбайся, как сможешь, охоться со мной и рыбачь, но не проси идти в твою берлогу. Ты можешь проклинать Звёзды, а я не стану.
– Прекрасная бестия, избранница моего сердца! – Я плакал открыто, на виду у всех воинов, не в силах поверить, что мне отказано в том, что предназначено быть моим. – Нет, – воскликнул я, – я не стану улыбаться. Отправлюсь в южные леса и отомщу за смерть сестры-Звезды, змеебогини. Я исправлю зло, причинённое её священной плоти, и заслужу благосклонность Остроги-Звезды, Пронзающего-Подшерсток-Светом-Своим. Он даст мне мою невесту. Я сражался в тысяче битв с яростными волчьими стаями, эту битву тоже выиграю. Я одержу победу!
Моя любовь лишь покачала большой белой головой и тяжело ушла прочь по снегу.
Я немедленно оставил суетливую толпу на льду, ничего не взял с собой. Я ни разу не взглянул на Звёзды, чтобы получить напутствие; не услышал протесты своих братьев, не увидел слёзы моей яркохвостой подруги, что падали, как первый снег на замёрзшую землю. Я думал, что знаю правильный путь. Он простирался передо мной так уверенно и прямо, что я не удержался и ступил на него. Мои лапы нашли его с лёгкостью, потому что всё это, видимо, было написано давным-давно. Отчего же ещё могла умереть змеебогиня, кроме как ради моей мести за неё?
Как ты уже понял, я был очень глупым медведем.
Я отправился в путешествие на юг, в сторону от ледников, которые никто из моего рода раньше не покидал. Я ел лососей из стремнины, перевязывал свои лапы, когда они кровоточили от неустанной ходьбы, и всё время молчал, потому что было не с кем говорить. Во тьме ночей я смотрел, как Материнское-Молоко мерцает белизной на небе, извиваясь меж Звёзд, будто размотанная нить.
Мир обширнее, чем медведь мог себе представить. Он пожирает расстояния, как голодный медвежонок. После полного цикла луны мне было трудно понять, отчего вокруг не полыхающие джунгли Южных Королевств, почему солнце не налилось краснотой, а Звёзды не сложились в созвездия, о которых ходили легенды: Скорпион, Лев, Змей. Я всё ещё шел сквозь холодные ветра и горы, похожие на сломанные зубы. Если так пойдёт и дальше, моя любовь станет бабушкой с серой шерстью и серыми зубами раньше, чем я смогу назвать её своей.
Когда луна стала полной в третий раз с того времени, как я пустился в путь, и плыла по небу словно огромный кит, раскрывший все плавники и сияющий, земля и впрямь внезапно переменилась. Она стала влажной и полной зелёных штуковин; вода бежала свободно, ленивыми потоками янтарно-травяного цвета. Я был не из этого мира. Моя белая шерсть выделялась, как прореха, в зелёной ткани холмов. Повсюду рос высокий тростник, тонкий и золотистый, длинные ужи шныряли в воде. Я видел большие рощи тамаринда с шишковатыми красными корнями и кипарисы, что касались неба своими ветвями; шиповник и куманику, похожие на длинные женские волосы. Водяные птицы опускали клювы в блестящие ручьи, их перья сверкали, как нетронутый снег.
Я знавал лишь чистую, безупречную белизну моего дома, бледный горизонт, продолжавшийся до бесконечности. Зловещие болота превосходили всё, с чем мне приходилось встречаться ранее. Я уже чуял тяжелый сырой запах тех штук, что росли под землёй, извиваясь; мягкое прикосновение дождя и фрукты на ветвях. От страха и с непривычки моя шкура пошла волнами.
Пока я стоял, утопая лапами в грязи, большая водная птица отделилась от стаи и запрыгала ко мне, то переступая ногами-палочками, то взмахивая крыльями. Она была ярко-зелёной, цвета травы вокруг; некоторые её перья имели до того густой оттенок, что казались почти чёрными. Глаза серые, как внезапный ливень. Клюв загибался книзу, будто скимитар, и был таким же острым. Птица была такой яркой, наряженной в цвета неба, с которого сбежало сияющее солнце, что мне пришлось сощурить глаза, и так уставшие от многоцветья.
Птица резко остановилась поблизости, распахнув большие крылья и топнув ногой. Я чуял её плоть, точно солёную рыбу и плодородную землю.
– Должен признаться, – непринуждённо начала птица, – и впрямь курьёз. Мне придётся послать за Чудищем! Такое не держат в секрете, это грубо. Эй, ты, хватит стоять и таращиться, будто только что вылупившийся птенец! Можешь присоединиться к завтраку, во время которого мы обсудим, как с тобой поступить.
Бессвязно бормоча, я бросился за птицей, подымая тучи брызг – илистая зелёная вода доходила мне до колен. А она уже неслась далеко впереди, пересекая болота своим странным полулетящим шагом.
– Подожди! – позвал я, и мой голос пророкотал над трясиной, испугав цикад и зимородков.
– Ждёшь-пождёшь, воды не наберешь, дождь пройдёт да засуха придёт! – пропела большая цапля, бросив взгляд через плечо, и понеслась ещё быстрее. Мой спутник выглядел зелёно-голубым пятном, я за ним не поспевал.
Когда я остановился, еле дыша, а моя шерсть вся намокла от пота, увидел массивный холл из кривых тамариндов, ветки которых переплелись, создав крышу из листвы; в дверях расслабленно стояла цапля.
– Неужели тебе удаётся поймать хотя бы мышку, Эйвинд? Ну честное слово! – И она нырнула внутрь, оставив меня в растерянности от того, что моё собственное имя прозвучало из уст чудно́го создания.
Маленький обеденный сервиз из рогоза и ивовых корней стоял на столике в комнате, которую любой джентльмен с гордостью назвал бы своей. Тамаринды переплелись так, что вышло три кресла, бесчисленное множество шкафчиков, столов и витых лестниц, которые исчезали в туманной дымке, нависавшей над комнатой в точности там, где должен был располагаться потолок. Я не верил, что помещусь в маленьком холле, но он будто подстроился под меня – я и глазом моргнуть не успел, как красноватые ветви со скрипом зашевелились и соорудили длинный помост, в самый раз для меня.
– Мои тамариндики такие внимательные, – с любовью сказал хозяин дома и, погрузив клюв в маленькую чашечку, начал с удовольствием пить. Я рухнул на ароматное ложе с тяжелым вздохом; мои мышцы горели, точно ламповое масло. Только теперь я заметил, что мы не одни.
Огромное создание цвета запекшейся крови спокойно стояло в углу, уткнув морду в большую миску из дубовых листьев. Дальняя часть холла поднималась вверх и раздавалась вширь, чтобы вместить его. Красные рога этого существа жутким образом переплетались, и, пока оно прихлёбывало чай, я разглядел, что его зубы – и не зубы вовсе, а яркие валики из твёрдой кости.
– Чудище! Он тот, о ком говорил наш брат! Разве не потрясающе, что он пришел прямо на моё Болото?
– Да, ваше величество, – ответил алый монстр мелодичным голосом. В его глазах плясал смех, как осенние листья на воде. – У нас и впрямь редко бывают такие… августейшие гости.
– Величество? – спросил я, не в силах представить себе королевство, которым правила эта птица.
– Разумеется. Я Болотный Король. А это Чудище у меня вроде придворного, если хочешь знать. Печально, когда у короля всего один придворный, но он хорош.
– Вы так добры, ваше высокопреосвященство, – напевно произнёс монстр, и в его тоне чувствовался легчайший намёк на безобидное ёрничество.
– Не благодари, дорогой друг! Итак, нужно заняться делом, поскольку времени мало.
К этому моменту я был так озадачен, что не мог ничего сказать. Но я вынудил свой язык зашевелиться в сухой пещере рта:
– Откуда ты знаешь моё имя? Кто такой Брат, о котором вы говорите? Я не понимаю.
– Никто не ждёт от тебя этого, добрый малый! – заверил меня Болотный Король мягким, заботливым голосом. Чудище подмигнуло мне багровым глазом. Король продолжил: – Вы созываете свои собрания, а у богов есть свои. Мой брат, Острога-Звезда, явился к нам в гости несколько месяцев назад и сообщил о твоём приходе. Сиди тихо, и я расскажу тебе о его визите.
Сказка Остроги-Звезды и Цапли
Там, где ступал Лаакеа Острога-Звезда, болотная трава превращалась в уголь. Запах подгоревшего хлеба и медной стружки возвестил о его прибытии задолго до того, как над одним из холмов показалось зарево. Его свет расходился кругами, и всё вокруг вскипало, покрывалось горелой коркой и шипело. Каждый его шаг по Великому Болоту порождал струйки пепла, и лягушки да ужи разевали рты в безмолвном ужасе, когда срывавшееся с его пяток пламя задевало их слизистые тела. Я сначала услышал песню травы, исходящей паром, а потом увидел своего брата – миновало много лет с той поры, как он в последний раз прерывал свою одинокую охоту, ибо Лаакеа выслеживал луны, как иные охотники – быстрых оленей с серебристой шкурой.
Ты ведь простишь меня за цветистые фразы? Члены нашей семьи и впрямь очень любят, когда превозносят их красоту. Тщеславие – привычка древняя и почтенная.
Он, разумеется, был белым: Звёзды вроде него – маленькие и горячие – всегда белые. Его волосы струились свежевыстиранным полотном, длинные и прямые, до самой талии, а кожа была цвета бледнеющего горизонта, того же оттенка, что бумага, превратившаяся в пепел. За плечом у него висело большое копьё в чехле из кожи белой змеи, золотые глаза трепетали под бесцветными ресницами. Он ходил босым; в общем-то, на нём не было одежды, кроме белой повязки на узких бёдрах, украшенных замысловатыми татуировками, символами языка Звёзд. Чернила этих отметин были странного серебряного цвета и проступали, только когда к ним прикасался стелющийся болотный туман.
Я неловко обнял брата, который вошел в мой холл, превращая каждую щепочку в небольшой пожар. Ра-зумеется, мне не хотелось, чтобы сгорели мои тамариндики, но явившимся в гости родственникам следует оказывать должное внимание. Как заведено, я попытался начать приятную беседу и предложил ему выпить, но он отказался.
– У меня новости, и они не могут ждать. Ты хоть раз позволишь мне сказать всё, что надо, не прерываясь?
Я залился румянцем от смущения, но продолжал вести себя с достоинством и элегантностью. Приготовившись слушать, с удовлетворением подумал о том, что Чудище в тот момент занималось одним из Принцев, что временами навещают наши владения, так что Лаакеа никто не помешает рассказать свою историю. Он не очень-то любил Чудище – Звёзды обращают внимание лишь на себе подобных. В любом случае, они до жути педантичные создания, Чудище заскучало бы.
Лаакеа снял копьё со спины и тяжело вздохнул – кроны деревьев зашелестели от его голоса, точно бегущие мимо луны облака.
– Произошло ужасное – человек убил нашу сестру, Змею-Звезду с юга. – Он явно ждал моей реакции, но чёрный Ибис-Эмир уже побывал в северных землях, чтобы поведать мне о её смерти и пролить большие сапфировые слёзы в мои ладони. Увидев, что я не удивлён, Лаакеа продолжил: – Я поздно понял, что она слишком задержалась в проклятом королевстве, той больной земле с гнилостными ветрами и башнями, что царапают небо железными когтями…
Сказка Звезды
Должен признаться, я был слишком поглощён охотой, ибо преследовал великую редкость – Жар-Птицу, которая должна была стать свадебным подарком для моей бедной, несчастной сестры… Так вот, я выслеживал птицу в холмах и долинах, изрезанных реками. Ты знаешь, как мы любим то, что искрится и сияет. Нам кажется, что оно может вернуть что-то другое, давно утраченное.
Жар-Птицы любят красные фрукты, и я надеялся приманить её багровыми семенами, собранными с иксоры, пустынного факельного древа, – их нелегко добыть, но это любимое лакомство Жар-Птиц, яркое и мягкое, как вишня, с косточкой из кремня и кресала; из-за них и вспыхивает новое дерево. Говорят, некоторые Жар-Птицы даже гнездятся в ветвях этих деревьев и возвращаются к ним, чтобы отложить яйца в пепел, как лососи, плывущие вверх по реке.
Я поджидал добычу в солончаках, что граничат с пустыней, которая называется Пороховая бочка, и иксоры горели в ночи, согревая небо, пока солнце пряталось под землёй. В сумерках их оранжевые ветви мерцали, пощёлкивали и искрились, как походные костры, разведённые тысячами солдат. Жар-Птиц не было видно, однако меня это не тревожило: они скрытные, а факельный лес велик. Я несколько недель выискивал деревья, которые угасали и умирали, чтобы собрать переполненные соком ягоды, остававшиеся после них; просеял мёртвый пепел, но не нашел ни одного пламенеющего яйца.
Наконец, я засеял соль вишнёвыми семенами, яркими, точно капли крови. Определённо, Жар-Птица должна была ринуться вниз, чтобы схватить их своим бронзовым клювом.
Я ждал три ночи, но она не появилась. На третью ночь я и сам о ней забыл: на равнине появилось жуткое видение, которое вытеснило из моего разума мысли о добыче.
Три горничные нашей сестры – ты, разумеется, знаешь их, они были милыми девочками с нефритовыми травяными змейками и изумрудными гадючками в волосах – шли по песку, спотыкаясь и держась друг за друга, чтобы не упасть. Их жреческие одеяния свисали с худых тел, точно разорванные в клочья гигантскими когтями. Я отвернулся, чтобы не смущать молодых женщин – их нагота была едва прикрыта, а кожа цвета молодой листвы сделалась алой, обгорев на солнце пустыни. Они стонали и жалобно кричали, мучительное эхо отзывалось из всех окрестных каньонов. Поначалу я решил, что они кричат от боли, но то была похоронная, поминальная песнь. Они схватили меня и заставили повернуть лицо, взглянуть на их позор.
Брат, они выглядели ужасно – вряд ли я смогу тебе описать, на что были похожи их лица, покрытые ранами, которые переходили друг в друга, точно узоры на гобелене. Но даже этого показалось мало мужчинам, осмелившимся тронуть их священные тела: языки жриц были вырезаны грубыми ножами, остались только воспалённые обрубки, коих недостаточно, чтобы произносить слова. Одна из сестёр взяла у другой некий странный предмет и засунула в свой опалённый солнцем рот.
– Брат-копьеносссец, – прошипела она, – нашшшу госсспожу убили, она мертва, её больше нет. Люди, которые отняли у неё жизнь, сссделали ссс нами это. Они сссвинодемоны, их раздвоенные копыта изувечили наши тела. Мы шли пешком от сссамой её могилы, чтобы отыскать кого-то из её сссемьи. Умоляем, подари нам сссмерть, чтобы мы не ссстрадали дольше, чем необходимо для передачи поссслания.
Я с ужасом глядел, как вторая дева-жрица вытащила предмет изо рта своей сестры и засунула в собственный.
– Мы прошли долгий путь, чтобы найти соплеменника, который ссснимет бремя знания с наших плеч. Мы не можем совершить сссамоубийссство, тебе придётся нам помочь. Но взамен мы поможем тебе. Мы ясссновидящие, знаем, что будет, и видим течение времени – оно точно вода, которую переливают из одной чашки в другую. Ты должен отправиться на север и предотвратить свершение мести руками того, кто помешает воплощению замысла нашей госсспожи, кто сотрёт её священный труд лишь для того, чтобы написать сссверху своё имя. Она умерла и воссстала – в своей неуклюжести он лишит её этого, отнимет у тени последнее.
Она вынула кусок розовой плоти изо рта и передала последней сестре.
– Священные провидицы, что за бесформенную вещь вы передаёте изо рта в рот? – спросил я с содроганием. Работала такая ужасная магия, что я едва осмелился заговорить. Звёзды дают предвидение тем, кто привязан к земле, мы же не вмешиваемся в будущее. С чего вдруг моей сестре понадобилось нарушать традицию?
– Мы украли его у Васссилиссска, – жалобно прошептала третья провидица, – это язык, так что мы можем говорить и передать тебе предупреждение. Следовало ли нам справиться с тремя монссстрами? Мы сссёстры, мы делимссся друг с другом.
Третья сестра, определённо, была старшей и самой лучшей провидицей. Она закрыла свой единственный глаз и, не меняя интонации, произнесла пророчество, ради которого им пришлось пройти такой долгий путь.
– Ты должен отправитьссся к Болотному королю. Существо из ссснега и когтей придёт к нему, умоляя отомстить за нашу госсспожу, чтобы заслужить право на твою услугу. Ему нельзя позволять ссследовать этим путём. Змеи сссами ссспособны за себя постоять: ей не нужна помощь животного. Если он встанет на её место, её смерть будет напрасссной – его дорога должна уйти в сссторону от её дороги, так мы видим. Он лишь сделает её смерть напрасссной. Изгибы её тела ещё шевелятся, и Подвиг этой твари разрушит всссе планы. Ты понимаешь, Брат-Копьеносссец?
Я выразил своё согласие традиционно, прижавшись лбом к её лбу и принимая их груз. После этого все три одновременно рухнули на песок, и их падение было не громче падения змеиной шкуры на дюны. Они сильно потускнели: голод, солнце и горящие леса высосали из них почти весь свет. Язык Василиска выкатился изо рта третьей сестры и упал на горячее золото земли. Их глаза закатились, рты беззвучно воззвали ко мне, и я хорошо понимал их просьбу.
Но я не мог сделать того, что они просили, – это и птице понятно. Смерть – стена, за которую мы не смеем заглядывать, и никогда раньше одна Звезда не убивала другую. Я не стал бы первым, кто лишил жизни соплеменника.
Взамен я собрал с песка вишенки, похожие на капли крови. К чему они были мне теперь? Моя сестра не смогла бы полюбоваться на полыхающее разноцветье Жар-Птицы. Я перенёс женщин и плоды в лес факельных деревьев и уложил под сенью иксор. Отсветы их пламени ложились на лица жриц – наверное, так они сами светились, когда моя сестра взяла их к себе.
Я поочерёдно вонзил своё копьё в ствол каждого факельного дерева. Кора у них была почти чёрная и жесткая, отвердевшая из-за постоянного горения. Но внутри они пустые, там ничего нет, кроме пепла и тонкой жилы с кипящим соком, потому что деревья пожирают самих себя. И, только спалив всё без остатка, дают плод, ценное семя, и умный садовник поймает его в полёте ещё до того, как дерево рассыплется белым пеплом, чтобы оно не взорвалось и не сгорело впустую, упав на жесткую почву пустыни.
У меня был целый мешок этих своенравных маленьких штуковин, незачем ждать, пока умрёт иксора. Я осторожно вытащил из влажной мякоти фруктов косточки-огнива, словно извиняясь перед высоким деревом, – пусть на его месте вырастут целые джунгли. С той же аккуратностью я разрубил пролегавшую под толстым слоем пепла жилу с соком и полил жидкостью, похожей на расплавленный воск, раздавленные красные вишни.
Эту смесь я вложил в рот каждой из трёх провидиц, а потом – прости моё высокомерие, брат Цапля! – рассёк собственную руку и добавил в обжигающее лекарство свет моего тела. Для нас нет более святой жидкости, и я не знал, что ещё могу для них сделать.
Прошло много часов, прежде чем они смогли сесть, а моя рана почти исцелилась. Они не поблагодарили меня, их лица были черны от отчаяния, но змейки в волосах потянулись ко мне и зашипели мелодично и умиротворяюще. Сполна испив чашу скорби, провидицы двинулись прочь в пустыню, мимо деревьев, шатаясь и поддерживая друг друга. Проходя мимо кучки семян, самая молодая пнула её, и семена превратились в череду вспышек и облако густого дыма.
Сказка Остроги-Звезды и Цапли (продолжение)
Он закончил свою историю.
– Ох! – воскликнул я. – Бедный Василиск! Он что же, лишился языка? Какая горестная участь! На прошлое равноденствие я посетил его пещеру, и он так красиво пел.
Лаакеа бросил на меня суровый взгляд, ясно давая понять, что неожиданный поворот в судьбе моего друга Василиска его совершенно не волнует.
– Ты понял, брат Птица. Когда существо явится сюда, останови его.
– Как же я могу остановить того, кто вознамерился совершить Подвиг? Чего ты от меня ждёшь? Нарушения правил гостеприимства?
Лаакеа фыркнул:
– Мне всё равно. Убей его. Запри в стволе дерева. Я верю, тебе хватит мудрости. Нам пора прощаться. Я многим пренебрёг, отправившись на твоё болото, – мне следует посетить погребальную церемонию нашей сестры.
– Негоже кому-то из нас вмешиваться в то, как люди вершат свои Подвиги. Они любят этим заниматься – Подвиги для них столь же ценны, как и собственные сердца.
– А кто сказал, что речь о человеке? – отозвался Лаакеа с видом заскучавшего ребёнка.
На этом облачённый в белое брат покинул мой дом и, вновь опалив траву, отправился на юг – пар стелился за ним как вуаль, но вскоре рассеялся, будто воспоминание, и Звезда исчезла из вида, а отзвуки её шагов затихли.
Сказка Трактирщика (продолжение)
– Юный друг, ты видишь, в чём моя дилемма, – Болотный король забавным образом скрестил ноги-тростинки. – Я ни в коем случае не могу позволить тебе довершить задуманное. Ничего личного, разумеется. Пусть женщины сами вершат своё возмездие. Тех, кто вмешивается, редко благодарят – взять хотя бы историю моего дорогого Остроги в качестве примера! Так вот… Я полагаю, не стоит и надеяться, что тебя можно убедить поскорее отправиться домой и сделаться отныне и вовек хорошим медведем?
Я поёрзал, еле сдерживая рыдания.
– Не могу же я просто сдаться! Я пойду дальше, будь твой рассказ правдой или нет. Если Звезда замыслила возмездие из могилы, быть может, она подарит мне мелочь, о которой я прошу. Неужто боги всё это устроили, чтобы лишить меня подруги? Разве супружество – ужасная вещь?
– В общем-то весьма незначительная вещь, – мягко проговорил Болотный король. – Боги, если ты желаешь их так называть, ничего не устраивают. Просто мир – ворох карт, которые тасует судьба, и мы с тобой мало что можем сделать, когда она разбивает колоду. Нужно научиться принимать поражение с достоинством. Ведь существует и благородное слово «долг».
Я топнул в гневе, и ветви холла взволнованно заколыхались.
– Должен быть выход! Я намерен совершить Подвиг! Его нельзя просто так прекратить! Надо победить или проиграть, он не обрывается внезапно!
– Я верю, что ты, скажем так, начинаешь понимать. Я вижу, что тебе трудно признать свой проигрыш. Дело в том, что Подвиг – не свойственная твоему племени вещь. Моему тоже, если на то пошло. Подвиги для людей, это их изобретение, чудовищное баловство, пристрастие. Они навсегда сделали его своим. Каждый твой шаг, дорогой Эйвинд, обкрадывает людей, лишая их сокровища, доставшегося весьма дорогой ценой. Очень печально, что лишь Подвиги придают их жизни какой-то смысл. Они вообще – печальная раса. Нам стоит поплакать о них, но не сильно. И мы уж точно не должны перенимать их смехотворное пристрастие к самоубийственному поведению. Я придумал способ, позволяющий не дать тебе достичь краёв, где погибла моя сестра, и одновременно дающий маленький шанс на получение желаемого. Я превращу тебя в того, кем должен быть отправившийся на Подвиги, – в человека.
Я разинул рот. От ужаса моя шерсть встала дыбом и пот увлажнил мои большие белые обвислые щёки.
– В человека? За что мне такое наказание?
– Это не наказание, несчастное чудище, – усмехнулся Болотный король. – Ты отправился совершать Подвиги, взялся за вещь, которую делают только люди, – как правило, неимоверно глупые. И потому ты должен стать человеком, если хочешь и дальше следовать по этому проклятому пути. Если вдуматься, всё просто и прелесть как гармонично. И человек – не самая кошмарная форма, в которую можно перевоплотиться.
– Но если я стану человеком, Змея-Звезда не будет меня слушать: Звёзды сторонятся людей, прячутся от их пота и вони. Я больше никогда не увижу свою возлюбленную! Она сама убежит от меня, приняв за охотника. Я не смогу этого вынести…
– Ох, успокойся. Я не говорил, что это навсегда. Знаешь, тебе стоило бы подумать о том, что подруга не так уж обязательна для выживания. Погляди на нас с Чудищем! Мы беззаботные холостяки и вполне счастливы, нас ничуть не беспокоит отсутствие в этом доме больших и важных медведиц.
Тут Чудище отвлеклось от тихой игры с самим собой в триктрак из кусочков коры.
– Ммм? О, да, мы вполне счастливы. Только мухи, знаете ли… Его высочество временами переходит к весьма беспорядочной диете – нужен крепкий желудок, чтобы смотреть на такое.
Он вернулся к партии, которую вёл с азартом, но определённо проигрывал.
– Что ж, – Болотный Король вежливо щёлкнул клювом, – как бы там ни было, ты пробудешь человеком относительно короткий период. Я уже обсудил этот вопрос в деталях с некоторыми малыми Звёздами – белыми карликами и прочими. Я упакую тебя в человечью кожу туго, как в перчатку, пока, – тут он театрально прочистил длинное голубое горло, – девственницу не проглотят целиком, море не станет золотым, а святые не отправятся на запад на крыльях яиц, не знавших наседки.
– Во имя Звёзд, это ещё что такое? – ахнул я.
– Не имею ни малейшего понятия! Великолепно, не так ли? У оракулов всегда получаются лучшие стихи! Я лишь повторил то, что мне сказали, – довольно невежливо с твоей стороны ожидать помимо магии и пророчества ещё и разъяснений. Ты просишь слишком много, пусть даже у Короля. – Он разволновался, от возмущения его перья переливались фиолетовым. – Просто смотри в оба, только и всего. Море превратится в золото. По мне, такое не пропустишь. Скорее всего. Хорошо, что знаки столь очевидные. По-моему, ты должен быть благодарен. Теперь стой смирно, и давай-ка займёмся делом.
– Постой! Я ещё ни на что не согла…
Я хотел протестовать, но обнаружил, что мой язык больше мне не подчиняется: он сделался коротким пеньком и прилип к нёбу. В ужасе я взглянул на свои могучие и красивые лапы и увидел эти несчастные ступни цвета теста, покрытые неопрятным пухом, смехотворным образом торчащие из нижней части худых ног. Одним прикосновением крыла Болотный король превратил меня в урода – и, без сомнения, в человека.
Однако монарх и сам переменился. Он теперь был не высокой царственной птицей с внушающим уважение и трепет размахом крыльев, а согбенным стариком с длинной бородой, которая переливалась всеми цветами трясины – зелёным, коричневым и серым солончаковым. Чем-то он походил на рыбу, с землистой влажной кожей и широким тонкогубым ртом.
– Что это? – пробубнил я, изо всех сил ворочая никчёмным языком.
– О чём ты? Прости, конечно, мне следовало объяснить. Когда ты был животным, я принял сообразный облик благородного животного. Теперь ты человек, и я кажусь тебе лицом преклонного возраста: к подобным мне твои соплеменники испытывают уважение. Я оказываю тебе любезность. Можешь не благодарить.
– А как же Чудище? – беспомощно спросил я. Тварь с алыми копытами была совершенно такой же, как раньше.
– Чудище – оно всегда Чудище, – ответил монарх скучающим голосом, в котором чувствовалась нежность.
Услышав своё имя, придворный задиристо мотнул головой.
– Просто Чудище, – заверил он.
Болотный Король встал и выпроводил меня за дверь с видом хозяина, который внезапно понял, что лишь один гость отделяет его от уютной постели.
– В путь, Эйвинд, мой мальчик, – ха-ха! Ты ведь теперь и вправду мальчик! Восхитительно. Мы ещё увидимся, я не сомневаюсь. Спеши! Счастливого пути и прочей чепухи!
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Тело Эйвинда расслабилось. Он тяжело опустился на стул и вздохнул.
– С той поры я человек. Я старел и толстел, пока опять не стал похож на медведя, с этим брюхом и волосами. От этого никакой пользы. Я не медведь. Пытаюсь им быть, но это не так. Я всё ещё жду, что море превратится, а оно не превращается. Я держусь поближе к Болотам, надеясь, что короли и вправду не лгут. Хотя надежды у меня почти не осталось: ведь твой отец тоже король. Болота отсюда менее чем в неделе пути к северу. Жизнь меня сломала. Наверное, я умру в этой грязной таверне, подавая пиво всяким паршивцам.
Принц глядел на столешницу, покрытую завитками и спиралями древесных узоров, похожими на отпечатки пальцев.
– Мне жаль, что так вышло, – пробормотал он.
Лицо Эйвинда побагровело.
– Мне не нужна твоя жалость, мальчишка, это бестолковый груз. Я дам тебе пару сапог – не обещаю, что они подойдут, – если ты передашь послание и спросишь негодную птицу, когда я верну назад то, что мне принадлежало. Я устал ждать.
– Ты… ты про Болотного Короля, да?
– Парень, ты глуп, как медвежонок, который ещё мамку сосёт. Да, про Болотного Короля. Неделя пути на север – и ты утонешь по колено в грязи и угрях. Теперь бери это и мотай отсюда, пока я не предъявил счёт за стул, который ты портишь.
Он бросил на стойку пару грязных, смазанных ваксой чёрных сапог на несколько размеров больше, чем требовалось молодому Принцу, и исчез в задней комнате, что-то проворчав себе под нос.
Леандр робко взял сапоги и, вспыхнув от взглядов потрёпанных завсегдатаев, выскользнул из таверны.
Он отправился на север, как сказал Эйвинд, и действительно попал на Зловещие болота, чья граница была чёткой линией, за которой начиналось царство влажной зелени, насыщенной запахами гниющей травы и костей. Принц легко учуял запах самого Левкроты, медный и острый, впрямь напоминавший запах крови. Болота были обширны и окутаны дымкой, точно нефритовый узор на полированной древесине, сквозь трясину вели цепи луж, а вокруг шумел камыш, и цапли замирали, стоя на одной ноге. Вода блестела, точно драгоценное ожерелье, а под водой сновали жирные угри и виднелась мерцающая рыбья чешуя.
Вообще-то болота показались Принцу очень красивыми, но с каждым шагом его чрезмерно большие сапоги погружались всё глубже, пока он не замедлился до такой степени, что встревожился – не застрять бы совсем, ведь следовало вернуться к Ведьме до новолуния, чтобы выполнить обещание. Поэтому он тащился через болота, грязь хлюпала вокруг его сапог, доставая до ножен меча в промокшем мешке. С каждым новым шагом гигантские сапоги грозили окончательно увязнуть в трясине, но в последний момент шлёпали о щиколотки.
В центре болот была роща тамариндовых деревьев, их красноватая кора поблескивала, словно под ней прятались тлеющие угли. Привлечённый цветом, Леандр на миг застыл, созерцая их. Но он уже насытился магией и всерьёз опасался, что некто ужасный, обитающий внутри, задержит его. Принц обошел рощу по широкой дуге, хоть из-за этого и пришлось промокнуть по пояс.
Далеко уйти не удалось – у него на пути возникла фигура, словно созданная целиком из воды и травы.
– Как ты смеешь меня оскорблять, проходя через мои земли, не нанеся визит?
Дымчатый силуэт сгустился, обратившись в старика, чьи усы свисали, как у сома, а волосы казались водопадом мха. Глаза у него были в точности того же оттенка, что и болотная вода, – зелёно-коричневые, мерцающие. Рукава мантии сделаны из речного тростника, а плащ – из опавшей листвы, украшенной желудями.
Он преспокойно завис в трёх футах над ближайшей травянистой кочкой, упираясь перепончатыми ступнями в воздух и задумчиво покуривая трубку из ивовой ветки.
– Ну? – многозначительно спросил он.
Принц мог захлебнуться словами или мучительно их подыскивать, как умирающая форель ищет воду, которой нет и не будет. Вместо этого он медленно моргнул – раз, другой – и тяжело опустился на поросший мхом валун.
Болотный дух добросердечно рассмеялся.
– Бедный птенчик. Должен признать, в какой-то момент от такого немудрено и голову потерять. Я Болотный король, – он отвесил короткий вежливый поклон, – а ты явился от Ведьмы из долины, чтобы убить моего друга Чудище. Я, разумеется, не позволю тебе сделать подобное, но с удовольствием побеседую на эту тему – если пожелаешь, можем устроить дискуссию.
– Дискуссию? О том, убью я Левкроту или нет? – спросил Леандр, смущенный.
Болотный король радостно кивнул лохматой головой.
– Он предпочитает обходиться без формальностей – просто Чудище.
– Хорошо – убью я Чудовище или нет?
– Боюсь, мой мальчик, ты не понял. Просто Чудище. Он считает, что Чудовище звучит слишком помпезно. Он славный парень, Чудище.
– Хорошо, Чудище.
– Чудище.
– Убью ли я его?
– Дискуссия – штука тонкая. – Болотный король мечтательно вздохнул. – Припоминаю одну удачную, лет пятьдесят назад. Был другой длинноногий убеждённый птенчик, преследовавший Чудище… Они иной раз как нагрянут. Ну что, устроим и мы такую же, давай?
Глаза Болотного короля сверкнули, точно угорь проплыл на мелководье, весёлый и шаловливый.
Дискуссия Болотного короля
Последний юноша, явившийся к нам, вёл себя довольно нагло, будто алый плащ, украшенный золотыми кистями, давал ему на это право. Он тоже не почтил меня визитом, но, когда я появился перед ним, проявил любезность. А потом расстелил свой плащ на той скале и уселся, скрестив ноги, в равной степени желая подискутировать со мною и отрубить голову бедному Чудищу.
Я начал с самого простого, как ты сам убедишься:
– Итак, почему ты хочешь убить Чудище? Оно не одалживало у тебя меч и не забывало вернуть, не портило твой любимый портшез, вообще тебя не трогало!
– Я Принц, – ответил юноша с глуповатой уверенностью. – Функция Принца (А) – убивать монстров (В), восстанавливать порядок (С) и поддерживать стабильное количество дев (D). Если подставить производное от величины А (Принц) в уравнение y = BC + CD2 и приравнять всё к нулю, учитывая вершину параболы, а именно точку пересечения А (Принц) и B (Монстр), можно определить значение величины E, которая представляет собой стабильность в королевстве. Это сложно, если у вас есть карта под рукой, я лучше всё нарисую.
– Ох, мой мальчик, – сказал я после того, как он почти испортил одну из моих топографических карт, исписав её уравнениями. – Чудище не монстр. Он не глотает девушек, будто сэндвичи с огурцом, а ведёт себя как положено воспитанному Чудищу.
– Но ведь он весьма уродлив? – настаивал Принц.
– По мне, он славный парень, но некоторые могут счесть его невзрачным. Это да.
– И от него исходит смрад?
– Тут спорить с тобой не буду – с подветренной стороны лучше не становиться!
– И у него в самом деле жуткая челюсть из кости и большие высокие рога?
– Да-да, ты верно описал Чудище!
– Так он монстр! – радостно воскликнул Принц. – И я должен немедленно его прикончить. Формула действует!
– Результатом твоей формулы окажется нешуточная битва, – задумчиво проговорил я.
– О да, если применить её верно, случается великая и благородная битва! Разумеется, я всегда побеждаю, ведь значение Принца Икс – константа. Оно не может быть меньше значения Монстра Игрек. Такова гипотеза морального превосходства, получившая широкую известность пятьсот лет назад благодаря моему предку Этельреду, королю-математику. Равный ему так и не родился за все века.
– О да, ничуть не сомневаюсь.
– Если мы закончили, думаю, мне пора заняться доказательством, – сказал Принц, для тренировки размахивая мечом. – Это мы называем смертоубийством, – пояснил он, занеся меч высоко над головой. – Потому что всякий раз, когда погибает монстр, происходит доказывание гипотезы.
– Как мило с твоей стороны дать этому действу столь… благозвучное наименование. Но я не могу допустить подобное.
– Но… но… – Он был так уязвлён, что поперхнулся словами. – Формула!
– Невзирая на формулу. Это моё королевство, и никакого насилия в его пределах не будет до тех пор, пока я здесь правлю. По крайней мере это ты должен понять. Здесь моё слово – закон.
– О да. – Принц кивнул. – Универсальный монархический алгоритм находится в основе теоремы.
– Теоремы?
– Надлежащего поведения.
– А-а.
– Я защитил диссертацию по монархическому алгоритму, – заносчиво предупредил молодой человек. – Если вы не позволите свершиться насилию на вашей земле – один момент, я произведу подсчёты, – он снова принялся калякать что-то на моих красивых картах, – я брошу вызов, и, если Чудище в курсе, как подобает вести себя монстрам, оно не ответит отказом на вызов благородного вельможи.
Я вздохнул, признавая своё бессилие:
– Да, тут ты прав.
– Ну тогда вперёд! – ответил Принц и удалился быстрым шагом, напевая себе под нос мнемоническую мелодию.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Мой милый мальчик, ты только послушай! Тот юноша попытался броситься на Чудище со скалы, нависавшей над местом битвы – как неспортивно! – и его руки-ноги запутались в рогах бедолаги Чудища. Ушла не одна неделя, чтобы их убрать. До чего же неприятная была работёнка! Возможно, ты будешь действовать разумнее. Итак, – Болотный Король уставился на Леандра поверх перламутровых очков, – ты знаешь какие-нибудь формулы или теоремы?
Принц покачал головой.
– Благодарю за это широкополую небесную шляпу! Вероятно, такой стиль правления вышел из моды. Но боюсь, ты всё равно упорствуешь в своём желании побеспокоить Чудище в неподобающий час.
– Мне придётся.
– Но почему? Мы уже установили путем повторения весьма приемлемой вторичной дискуссии, что Чудище не монстр. – Болотный Король озадаченно сморщил свой зеленоватый нос.
– Я знаю. – Леандр вздохнул. – Но это неизбежно. И я должен задать вам вопрос, прежде чем объясню свою цель.
– Мне? – Болотный Король заметно просиял, от удовольствия у него встопорщились усы. – Почти все молодые люди приходят ради Чудища! У меня давным-давно не было посетителей. В чём же дело, мой милый, симпатичный, великолепный юноша?
– Эйвинд хочет знать, как долго ему ещё ждать, пока море превратится в золото.
Болотный Король сморщил высокий лоб и уставился в небо.
– Не уверен, что малый с таким именем мне знаком, – с грустью признался он.
– Он… он был медведем, а вы превратили его в человека. – Принц вдруг расстроился. История казалась достоверной, словно каменная плита, когда трактирщик её рассказывал. Но престарелый монарх фыркал и хмыкал себе под нос. Наконец, его лицо вспыхнуло, точно фестивальный фонарь.
– Ох! – воскликнул он. – Медведь-звездочёт, конечно! Знаешь ли, не так и долго. Вероятно, быстрее, чем ты доберешься домой к своей Ведьме. А возможно, и нет. Я не веду учёт таким вещам. И с чего бы? Я помню всё, что мне требуется. И поскольку я ответил на твой вопрос, скажи, чего тебе вздумалось требовать от моего дорогого друга Чудища?
– Мне… мне нужна его шкура. Чтобы вернуть девушку к жизни. Я убил её и должен всё исправить.
– Ох, – сказал Король с отвращением, – как это гнусно с твоей стороны. До чего омерзительное действо ты предлагаешь. Даже не обсуждается!
– Так-так, – над Болотами разнёсся гулкий голос, похожий на звук, с которым воздух покидает кузнечные мехи, сжатые гигантскими руками. – Друзья мои, не стоит обсуждать меня в моё отсутствие, это невежливо.
Через обширное болото к ним приближалась тёмно-алая туша Левкроты, чьи рога кроваво сверкали на фоне неба. Воздух тотчас наполнился его запахом, как седельный вьюк, – то был запах недвижных озёр крови, мерцающих в лучах солнца, колодезных вёдер и винных фляг, фарфоровых ваз и тростниковых корзин, наполненных ею: горячий, медный, влажный и неумолимый.
Однако шкура Чудища была до странности красива – цвета тьмы, тайных рубинов и гранатов, рассыпанных на снегу. Его рога возвышались как башни, занятые лучниками с сильными руками, и разветвлялись, точно лес, охваченный огнём. Массивная челюсть слегка свисала, открывая потрясающую белую кость. На мощных лапах он двинулся к Принцу; в бесконечной тьме его глаз, лишенных белков, посверкивали искры, словно от удара кремнем по кресалу.
– Мой дорогой монарх, я могу сам разобраться со своими делами? – нараспев произнёс он.
– Разумеется, Чудище, я не хотел тебя обидеть. Прикончи его в своё удовольствие.
– О, я не обиделся, старина. И я бы ни за что не рискнул посягнуть на то, что в твоей юрисдикции. Только после тебя, – спасовало Чудище.
– Ох, нет, после тебя. – Болотный король отвесил ему поясной поклон.
– Я настаиваю.
– Слышать ничего не желаю.
Левкрота одарил Леандра долгим оценивающим взглядом:
– Ты сказал, моя шкура? Не слыхал, чтобы для неё нашлось применение в целительстве, но, если Ведьме она нужна, я, как джентльмен и монстр, должен уважить её просьбу.
Принц и Король застыли, шокированные.
– Но мы должны сразиться! – заупрямился Принц.
– Не смеши меня, мальчик. Я распотрошу тебя за минуту. Просто бери шкуру и бегом назад.
Болотный король, потрясённый, возопил:
– Дорогой мой мальчик, я вынужден возразить! Вы устроите в моём болоте бардак. И шкура – не карманные часы, её нельзя просто взять и отдать. – Он топнул ногой, поросшей мхом, но никакого звука, разумеется, не получилось, так как он парил над водой.
Левкрота пожал плечами:
– Полагаю, новая вырастет в течение месяца.
Он опустил мощную багровую голову к груди и принялся снимать с себя шкуру, как ребёнок кожуру со спелого яблока, одной длинной спиралью.
– Знаете, – задумчиво проговорило Чудище, пока перед ним росла груда его собственной кожи, – во времена Ведьминой молодости мы были почти приятелями. Как я могу отказать такому милому созданию? В своё время она была красавицей: шрамы и татуировки, её лицо божественно изуродовано. Уродливость её черт для меня являлась столь же приятной, как первый летний фрукт, красный и безупречный, свисающий с ветки, покрытой каплями росы. – Чудище мечтательно вздохнуло. – Такая, как бы вы её назвали, «безобразная внешность», собранная в одном человеке, встречается редко. – Он многозначительно взглянул на Болотного короля, который несмотря на старость был наделён величественной красотой. – То, как её татуировки отражали шрамы, великолепная симметрия чёрных чернил и белых рубцов на коже… Будь я трубадуром, какие песни я бы сочинил ради её красоты! А как сверкали её волосы! Словно моя собственная шкура, полыхающая в лучах солнца!
Чудище счищало остатки шкуры с копыт, груда перед ним стала гигантской и тёмно-алой, как кожа в мастерской дубильщика. Само Чудище, судя по виду, не испытывало неудобств, лишь стало ещё краснее, чем прежде; его мышцы блестели от выступивших капель и ручейков крови, что сочилась из него и капала на болотную траву, точно краска. Ветер обдувал обнаженную плоть, но монстр будто наслаждался прикосновениями его призрачных пальцев к своим массивным ляжкам.
– Не бойся, мой оленёночек, – ободрило Чудище Принца, – это совсем не больно. Я даже взбодрился. Посоветовал бы вам обоим попробовать сделать то же самое в качестве укрепляющего средства. Только у вас анатомия… неподходящая, скажем так.
Принц не мог отвести изумлённых глаз от Левкроты, сидевшего перед ним с беззаботным видом, истекая кровью. Он начал собирать шкуру в мешок.
– Ты не задержишься, чтобы послушать, как я познакомился с Ведьмой? – воскликнуло Чудище, и его голос был наполнен болью, как мех вином. – После того как я в точности выполнил твою просьбу? Мама не учила тебя вести себя вежливо с монстрами, которые не соизволили тебя сожрать?
Лицо Леандра залилось краской, и пала тишина, как шерстяное одеяло.
– Похоже, нет, – заключило Чудище. – Сядь-ка рядом со мной и послушай мою историю. Я тебя не трону, вот увидишь.
Солнце пряталось за лохмотьями облаков где-то высоко в небе. Оставалось ещё много времени до того момента, когда бег часовых стрелок обратился бы во вред Леандру. Опасаясь, как бы Болотный король не превратил его во что-нибудь непотребное, Принц тихонько вздохнул и приготовился слушать.
Сказка Левкроты
Она меня спасла, эта маленькая шалунья. Меня угораздило сразиться, как оно нередко бывает, с сыном Герцога Восточных герцогств – типом в узорных доспехах из серебра и слоновой кости. До жути непрактично, разумеется, но сыновья Герцога всегда были щёголями. Я уже продырявил ему левый бок своим рогом, но, увы, не задел ни одного жизненно важного органа, зато в его ударах появилась ярость, которой не постыдились бы двенадцать волков, рождённых от одной матери. Он отчаялся, бедолага. Но в отчаянии сумел воткнуть меч мне под рёбра, почти по самую рукоять.
Высокородный прохвост хорошо подготовился. Моё сердце располагается не возле рёбер, как у людей – оно бы с трудом поместилось! – а глубоко в животе, и жадный клинок к нему даже не приблизился. Тем не менее я оказался в весьма затруднительном положении, так как пародия на меч застряла во мне, а сам сын Герцога собирался отрубить мне голову.
Однако в миг его триумфа, который, должно быть, породил сладость в его молодом рту, стрела вылетела из деревьев со скоростью цапли, заметившей рыбу, и вошла глубоко в плечо моему противнику – удар был такой силы, что парня сбросило с моего корчившегося тела. Из дубовой рощи выскочило блистательное создание, одетое в восхитительные паршивые и завшивленные шкуры, с гривой наподобие яростного терновника. По всей видимости, у неё были сильные и гладкие бёдра, а лицо какой-то неизвестный мне мастер – настоящий художник! – прекраснейшим образом уничтожил, разбил на части, закрасил жирными чёрными мазками. Её запах прикончил бы стаю антилоп, случись им оказаться поблизости… Прогорклый пот, волокнистое мясо – запах голода, металлический и острый. Я вдохнул этот сладкий аромат, как пар от остывающих пирогов.
Чудесное видение вскочило на противного герцогского сынка, прижав его к мшистой земле. Женщина сидела на нем, тяжело дыша и обнюхивая его доспехи, как животное. Я с тоской вообразил себе вонь её дыхания – был уверен, что в ней окажется та особенная комбинация гнилого шпината и варёных яиц с глубокими нотами червивой древесины, о которой я так часто мечтал.
– Что ты творишь? – прохрипела она, оскалив зубы. – Ни одно животное не будет убито в моём лесу. Это мой закон, все люди в королевстве его знают.
Столь правильная речь меня удивила. Вероятно, я размечтался, вообразив себе желтые зубы и то, как она будет изъясняться при помощи фырканья и шипения. Тем не менее получил огромное удовольствие от того, как Принц начал корчиться от страха, будто новорожденный поросёнок.
– Я… я прощу прощения! Извините меня! Я не знал… я… я не из этой страны!
Его протесты не приносили пользы, она лишь сильнее наваливалась, так что симпатичные доспехи стали врезаться в его кожу. Он взвыл, весьма меня порадовав.
– Невежда, – прошептала она, и боль стиснула её горло, точно корсет, – у животного есть душа! Внутри оно вполне может оказаться чем-то иным, нежели чудовищем. Да кто ты такой, чтобы убивать прежде, чем познавать сущность?
– Никто! Я никто! – Тут он принялся нешуточно рыдать, огромные слёзы лились по невыразительному лицу. Странное дело, меня парень совсем не боялся, но под этой женщиной был слаб и лишь верещал так громко, что застыдился бы и обычный свинёнок.
Она закатила глаза.
– Даже ничтожество вроде тебя здесь не убьют. Но поклянись мне, что бросишь Подвиги и посвятишь свою жизнь Принцессе, которую ты, вне всяких сомнений, оставил бездельничать дома.
– Я клянусь! Я клянусь! – После этого признания женщина встала, предоставив сыну Герцога, чья туника начала промокать от травы, возможность безутешно рыдать.
– Не могла бы ты его убить? Ну хотя бы чуточку… – предложил я своим лучшим и самым обходительным голосом. Её глаза повернулись ко мне – две ямы, чью глубину не измерить, бросив камень.
– Таков мой закон, – невыразительно проговорила она. – Я тебя не знаю. Откуда ты взялся в моём лесу?
– Что именно делает этот лес твоим? У тебя есть на него купчая?
– Нет, я просто взяла его себе. Люди не осмеливаются подвергать это сомнению.
Я возбуждённо задёргался от скрипучей шероховатости её голоса.
– Я не человек, как видишь, а Чудище, вид Leucrotta Furialis. Так меня назвал этот щенок. Благодарю тебя за помощь, это было весьма любезно.
– Любой зверь, попавший в беду, получил бы то же самое. – Она закинула за спину лук, явно изготовленный собственноручно из подвернувшегося под руку молодого ясеня. – Я Ведьма из Долины. Всё, что дышит в этом лесу, находится под моей защитой. Не считай, что я оказала услугу лично тебе. Если вы оба меня поняли, я вас покину.
– Стой! – Я подбежал к ней, демонстрируя свой цвет, себя в полный рост и во всей красе. – Я должен отплатить за твой смелый поступок и выполню любую твою просьбу, прекрасная госпожа.
Не обращая внимания на завывания герцогского сына, который не поднялся, а сидел и с жалким видом ощупывал стрелу в плече, она оценивающе взглянула на меня, приподняв одну лохматую бровь.
– Ты убьешь Короля, если я попрошу? – спросила она негромко.
– Разумеется, ягнёночек мой. – Я чуть поклонился, вытянув передние ноги. – Но меня трудно назвать малоприметным, поэтому я не смогу войти в Замок незамеченным. И оружия у меня нет, чтобы причинить ему вред, а не просто, хм, сожрать, что тебя, как я предполагаю, совершенно не устроило бы, поскольку в этом случае не осталось бы совершенно никакого тела. Думаю, для такого задания нужен другой монстр. – Я многозначительно посмотрел на несчастного Принца, успевшего увидеть собственную кровь и, судя по всему, готового потерять сознание.
Улыбка прорезала её лицо, как рапира, вспоровшая бок противника. Это было прекрасное уродство.
– Мальчишка, что ты об этом думаешь? Тебе хотелось бы убить Короля в обмен на собственную жизнь?
– О да, – сказал он тоненьким голосом и всхлипнул. – Если это вас порадует… Только больше не стреляйте в меня! Я до ужаса боюсь острых предметов и отправился на Подвиги лишь потому, что отец назвал меня трусом, послал за знаменитым Левкротой! Он хочет шкуру, понимаете? Для убийств.
Я душевно согласился.
– Мой сладкий персик, с моей шкурой и из неё можно сделать множество гнусных вещей. Я слыхал, на лучших чёрных рынках за неё дают кругленькую сумму.
– Но ты сделаешь это для меня? – Её ничто не могло сбить с курса. – Ты отправишься во Дворец и вонзишь в Короля нож?
– Да-да! – Сын Герцога упал на одно колено перед Ведьмой, как принято делать принося присягу. – Только в какого именно?
– Того самого, мальчик. Кого же ещё? Того, что во Дворце.
Она была нетерпелива, конечно. Для ведьм есть лишь один Король – тот, который их обманул, и один Дворец – дом, в котором он живёт.
Справедливости ради, Короли иной раз такие же тупые, когда называют себя священными сосудами и владыками всего, что над землей и под ней, хотя на самом деле владеют лишь несколькими лоскутками одинокой грязи, на коих расположены ещё более одинокие домишки.
– Ты узнаешь этот Дворец, – прибавил я, решив помочь. – Его окружают две реки: одна белая, другая чёрная.
– Да-да, госпожа, я пойду и выполню ваше задание. Но… меня послали не только убить Левкроту. Ещё есть дева, заточённая в башне…
Тут Ведьма сплюнула и опять закатила свои прекрасные глаза.
– Этих безобразниц вечно кто-то где-то запирает. Если бы они там и оставались, – проворчала она. Сын Герцога густо покраснел, как девушка, застигнутая нагишом.
– Тем не менее её держит в плену ужасный Волшебник, обитающий в этих краях, и мне поручили её спасти. Если я завершу ваш Подвиг, кто завершит мой?
Сердито фыркнув, Ведьма наклонилась, выдернула древко и перевязала рану, так ничего и не сказав. Убедившись, что работа выполнена хорошо, она наконец заговорила, и в её голосе слышалось колючее, сладостное раздражение:
– Привычка менять подвиг на подвиг мне отвратительна. Она бесполезная и убогая, как поношенная корона. Но я готова делать много вещей, которые мне отвратительны, если так добьюсь смерти Короля. Возможно, к упомянутому тобой Волшебнику это относится в большей степени. Я выполню твой Подвиг сама и освобожу паршивку из заточения.
Она что-то пробормотала на ухо лошади и скормила ей кусок яблока, которое прятала в своём мешке.
– Ступай, – приказала она юноше, – и убей только Короля. Вернись в Долину, когда совершишь убийство.
Сын Герцога галопом умчался прочь. Много позже я узнал, что он учинил великий скандал, убив какого-то безобидного монарха совсем в другой части света.
Я же остался с невыплаченным долгом, как нищий перед блистающей украшениями королевой.
– Что касается меня, – мягко проговорил я, – я по-прежнему твоё верное Чудище, с котором можно делать что захочешь.
Она на миг задумалась:
– Твоя шкура и впрямь пригодна для убийства?
– Несомненно, мой лимонный пирожок. Это довольно уникальная часть моего тела: я отращиваю новую каждый месяц, словно фруктовое дерево. Если её порезать на полоски и смазать определённым составом из белладонны и иссопа, она вызовет паралич у мужчин, рождённых под знаком козла. Вымоченная в настойке из тысячелистника и фенхеля с капелькой крови мантикоры, она сделает так, что у женщины, которая понесла в новолуние, случится выкидыш, или же ребёнок, которого она родит, умрёт во сне в возрасте семи лет от остановки сердца. Но тот же ребёнок оживёт, если его завернуть в шкуру, как в одеяло, и будет жить долго, если станет носить её так, чтобы она касалась его собственной кожи. Это особенно интересный трюк, потому что, если ребёнок потеряет шкуру, он тут же упадёт замертво, хотя благодаря ей мог бы прожить сто семь лет. Измельчённая в порошок с добавлением горсти муравьёв из обычного муравейника и меры маринованной печени саламандры, моя шкура вынудит человека, слишком увлечённого публичными речами, проглотить язык на банкете в свою честь… Есть много применений, каждое особым образом связано с мужчиной или женщиной, коим надо навредить. Насколько мне известно, не существует ни одного благородного способа её использования. Но я не изучил этот вопрос как следует, поэтому утверждать не берусь. Все хотят её заполучить именно из-за вредных свойств, а не для того, чтобы согреться или прикрыться.
Я испытывал гордость, рассказывая о своей шкуре, ибо она и превращала меня в уникального зверя. Ведьма сморщила великолепный лоб, цветом напоминавший скисшие сливки.
– Тогда ты заплатишь мне двойную цену. Однажды мне понадобится твоя шкура. Ты должен будешь предоставить её без вопросов и промедления. Согласен?
– Это честь, моя пышечка, моя изюминка! Я буду ждать, когда ты призовёшь меня. А пока воспою твою красоту во всех уголках мира, чтобы все знали то, что знаю я: в Долине обитает сокровище, которое превосходит все рубины, что рождаются в недрах земли.
Ведьма рассмеялась с таким звуком, будто напильник впился в ржавое железо.
– Во-вторых, помоги мне освободить девчонку. Дурацкое задание но, чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Ты пойдёшь со мной?
Я подавил внезапное желание пуститься в пляс от радости.
– С превеликим удовольствием, медовая моя. Вообще-то мы могли бы с этим справиться ещё быстрее, если ты, – я едва сдерживал своё нетерпение, – соблаговолишь меня оседлать.
– Монстры всегда такие дружелюбные? – задумчиво проговорила Ведьма.
– Мы должны беречь друг друга, – ответил я негромко, – потому что нас мало и становится всё меньше. Ты не знала?
– Я не всегда была монстром, – прошептала она.
Она забралась ко мне на спину с лёгкостью ветерка, будто ездила на мне верхом лет десять. На мгновение я услышал, как у неё странным образом перехватило дыхание, словно она увидела свою потерянную любовь или давно умершего ребёнка. Ведьма с великой нежностью погрузила руки в мою гриву и, если не ошибаюсь, прижалась к ней лицом, вдохнула мой запах.
– Прошло много лет с той поры, как я сидела верхом на лошади, – восхитилась она. Я возразил, что не являюсь лошадью, но она будто не услышала. – То место, где девы чаще всего оказываются в заточении, расположено к северо-западу отсюда, в центре безымянного леса, в безымянной башне.
И дня не прошло, как мы прибыли туда, и я сам не ожидал наслаждения, которое испытал от ощущения седока, хоть весила она не больше ветки остролиста и была неприветлива. Приятно быть ручным и слушаться приказов, отданных грубым голосом… Не исключено, я захочу повторить этот опыт!
Башня оказалась монолитом из чёрного камня, вырубленным из одного большущего куска обсидиана; в её стенах отражалась тёмная рябая пародия на зелёную красоту окрестных лесов. Небо над нами было равномерно серым, словно металлическое тело пушки, угрюмые облака тащились на запад. Башня стояла посреди того, что некогда являлось лугом, а теперь превратилось в круг иссохшей травы, мёртвой и белой: душистые сосны и берёзы не росли на этой земле. Верх строения был заострённый, как водится у башен, и напоминал огромный наконечник стрелы, высунувшийся из земли. Её архитектура была противоестественной, она превосходила даже то, что можно построить при помощи магии, и я чуял запах детской крови в нежном колыхании травы у её подножия. От жути этого места мороз шел по коже, но Ведьму будто ничто не волновало. Она спешилась и прямиком направилась к башне. Затем, обратив лицо к её злобной вершине, прокричала:
– Женщина! Выходи оттуда! Я пришла, чтобы… – Ведьма в сердитой растерянности бросила взгляд на безжизненную траву. – Я пришла, чтобы спасти тебя, – наконец проговорила она таким тоном, словно взглянула со стороны на своё лицо, покрытое волдырями. Я на миг отвлёкся, созерцая её прелестный облик и волдыри, но мои грёзы прервали самым грубым образом – из окна на вершине башни выглянула голова.
Она была увенчана отвратительными золотыми локонами, которые длинными косами ниспадали за парапет, и на её гладком болезненно-розовом лице сияли глаза, цветом напоминавшие голубоватую шкуру утонувшего угря. Грудь девицы была приподнята сообразно дурацкой моде, затянута в слишком тугое белое платье, которое не демонстрировало ничего, что могло бы меня заинтересовать. Девица являла собой то ещё зрелище. Истинная мерзость! Возможно, она сама заточила себя в башне, чтобы мир не видел её уродства. Безусловно, по сравнению с моей восхитительной Ведьмой, то была жаба, бородавка, гнойный прыщ.
Существо с любопытством поджало губы и проговорило голосом, сладким как испорченное молоко:
– Разумеется. Подымайтесь.
В теле башни бесшумно появилась чёрная арка, лишенный света занавес, который раздался, чтобы открыть новую, ещё более глубокую тьму. Бросив на меня многозначительный взгляд, Ведьма вошла в эту дыру, и я потрусил за ней.
– Я хорошо знаю темноту, мы с ней быстро сдружились. Если старик пытается так меня напугать, он большой дурак, – прошептала она.
Мы быстро поднимались, жидкий камень мрачной лестницы скользил под нами. Я шел за Ведьмой во мраке по запаху, след её тела освещал мне путь. Долгое время не было других звуков, кроме нашего дыхания и стука наших ног по камню, подобных лесному дождю. В этом было что-то приятное.
Мы покинули утробу теней столь же внезапно, как вошли в неё – ступили в круглую комнату на вершине башни, в центре которой стояла дева, точно драгоценный камень в железном кольце.
– Добро пожаловать, – мелодично произнесла она. – Меня зовут Магадин.
Её голос эхом отразился от сводов комнаты, будто стрела, отскочившая от мишени. Поначалу мы не могли сказать ни слова – так нас поразил облик девушки. Её голова, которую мы видели снизу, была воплощением перламутрового величия, позолоченного и гладкокожего, отвратительного для меня, но красивого, по меркам смертных. Остальное её тело было ужасным и великолепным. Руки покрывала густая красновато-коричневая шерсть, а венчали их лапы с когтями, достойными зависти. Бёдра изгибались на манер нежных оленьих ног. Из-под лопаток прорезались бирюзовые крылья, рассекшие кожу и оставившие широкие кровавые полосы. Ступни переливались зеленью, точно подводные опалы, перепончатые и покрытые слизистой плёнкой, как у жабы; ноги под полупрозрачным платьем были серебристыми, покрытыми гладкой полупрозрачной рыбьей чешуёй, а из щиколоток выглядывали тонкие, словно пёрышки, плавники. Груди девы, снизу казавшиеся молочно-белыми и без единого пятнышка, на самом деле были покрыты белой шерстью с тигриными полосами, и над её нежными ключицами уже начали проступать тёмные хищные полосы. Волчий хвост уныло покачивался за спиной, разорвав украшенную бисером ткань. Кончики её кос слегка трепетали, сквозь кудри поблескивала покрытая жилками поверхность стрекозиных крыльев.
Что ещё хуже – вокруг неё на стенах висели отрубленные головы, некогда принадлежавшие другим девам, и все они находились на разных стадиях преображения: одна была наполовину покрыта змеиной шкурой, её волосы яростно шипели; другая утратила рот, вместо которого красовался клюв; ещё у одной глаза жутким образом усохли, и из-под завесы тёмных волос виднелось лицо, напоминавшее морду летучей мыши. Нас окружал зверинец из бестий-принцесс, и их глаза, наблюдавшие за нами, выглядели не такими уж мёртвыми.
– Теперь вы понимаете, – тихим виноватым голосом произнесла дева, – почему меня до сих пор не спасли. И почему никто не сторожит дверь. Они приходят десятками – симпатичные рыцари, все как на подбор, – и убегают, точно испуганные белки, когда видят, какая я на самом деле.
Я увидел, что на лице Ведьмы появилась жалость. Она заключила деву в нежные объятия, и та заплакала большими красными слезами, капавшими на её платье, как неведомое вино.
– Расскажи мне, что он с тобой сделал, – мягко попросила Ведьма, гладя принцессу по узорчатым волосам.
– Он пытается меня изменить, – пискнула Магадин голосом раненого ястреба, – как пытался изменить их. Он забрал меня из отцовского дома…
Сказка Девы-Бестии
Я родилась далеко отсюда, в ночь зимнего солнцестояния, во время шторма, который срывал черепицу с крыш и заполнил небо тучами, что были чернее сажи из дымоходов. Я сделала первый вдох в высокой башне, оплетенной плющом и лилиями, похожими на нарастающие луны, сделанные из серого камня с прожилками кварца. Ветер бился в окна, небо кипело от грома. Повитуха отдала меня в руки матери; мои глаза были широко распахнуты, а во взгляде читалось удивление. Мать улыбнулась мне – её лицо было уставшим и белым, полным печали, – и умерла, а моя маленькая ручка продолжала сжимать её палец.
Когда дикие альстонии и каштаны зацвели и опали двенадцать раз, мой отец женился снова, на женщине со светящимся лицом и волосами, похожими на реку огня; она была точно живое солнце, которое вошло в наш дом. Звали её Иоланта. Молодая вдова с обширными владениями и двумя собственными дочерьми, Изаурой и Имогеной – немного старше меня, одна красивее и горделивее другой.
Я вижу твою улыбку, Ведьма. Ты думаешь, что знаешь финал моей истории.
Но они были не такими, как их необычная мать, а неимоверно скучными и глупыми. Вся их ценность заключалась в золотых переливах тщательно причёсанных кудрей. Золотые птички, пустоголовые щебетуньи, девушки не отходили друг от друга, всегда держась за розовые ручки. Я же, смышлёная и умная, быстро стала любимицей мачехи. Она была властной женщиной, мой отец подчинялся любому её шепоту, как жеребёнок хозяину.
Я её обожала. И, понятное дело, новые сёстры меня возненавидели.
Всё, что я знала о собственной матери, – истории, рассказанные отцом, о последней улыбке, мягкой и грустной. Всё это растаяло, как парок над чашкой чая при виде Иоланты, что ярко сияла, чей смех зажигал люстры, чьи великолепные тёмные платья величественно подметали наши залы, заполняя дом. Призрак моей матери не мог этого сделать.
Через некоторое время стало ясно, что она предпочитала меня собственным детям, багровевшим от ярости и зависти. Мне же дела не было до жеманных глупышек. Мачеха стала моим миром: совсем меня очаровала. Я переняла её манеры, стала высокомерной и резкой, но притягательной для всех; была чудом Дворца, отцовской гордостью. Я взрослела, становилась красивее и мудрее, с наслаждением поглощая содержимое домашних библиотек. Я была тьмой там, где мачеха – светом; я была бледна, словно зимний ветер, в то время как она розовела, словно летний закат.
На мой шестнадцатый день рождения, когда такие вещи обычно и происходят, герольд объявил у каждой двери в королевстве, что королевский Волшебник ищет юную девушку, достойную стать его ученицей, и что все родовитые семьи обязаны представить своих дочерей в назначенный день и час. Конечно, все мы были возбуждены как ягнята, набившие рты люцерной, – каждая из нас не сомневалась в том, что будет избрана для жизни, преисполненной богатства и власти.
Иоланта услышала эти призывы, и её лицо потемнело. Она тогда была на последних месяцах беременности и в тёмном платье с длинным шлейфом выглядела очень величаво. Баронесса закрыла двери за благонамеренным герольдом и запретила нам, всем троим, проситься в ученицы. Взамен она провела меня по каменной лестнице на вершину высокой башни, укутанной в плющ и лилии, точно растущие луны. Она навалилась на тяжелую дверь, и та со скрежетом открылась, впустив нас в комнату, теперь заполненную ветхими книгами и древними свитками. Тем не менее ложе моего рождения и смерти моей матери стояло на прежнем месте, обращённое к высокому, заострённому кверху окну, гладкое и чисто-белое, будто оно никогда не пробовало нашей крови.
– Дочь моя, – начала Иоланта голосом, напоминавшим журчание воды над речными камнями, – ибо я надеюсь, что могу называть тебя своей родной девочкой, будто я дала тебе жизнь в этой комнате, где умерла твоя настоящая мать. Я бы хотела быть твоей матерью, чтобы спасти тебя от долгих лет одиночества. Моя родная кровь, как ты знаешь, вышла не столь удачной. – Она пожала плечами и раздраженно подняла глаза к потолку. – Они милые девочки, и я растила их, как могла. Возможно, избаловала. Их надо хорошо выдать замуж, чтобы обогатить наши земли. Но, хотя они будут наследницами твоего отца, моими им никогда не стать. Конечно, это не значит, что я позволю отправить их к грязному Волшебнику в железных ошейниках.
Её глаза полыхнули яростью, точно костры на привале зимней ночью. Без напряжения, не вставая с кресла, она коротко взмахнула рукой в направлении одной из полок, и тяжелый том в алом переплёте послушно прилетел в её белую кисть с длинными пальцами. Я ахнула, вытаращила глаза, и её низкий, мелодичный смех заполнил всё вокруг.
– Ты не знала? Все мачехи – ведьмы. Такова награда за то, что мы обречены быть чужачками там, где властвовали другие женщины. Это, дочь моя, столь одинокая участь, что и словами не описать. Даже он, – она с нежностью коснулась своего округлившегося живота, – не подарит мне покой. Сын будет возделывать землю и сражаться с врагами, но твоя мать, как и прежде, останется Хозяйкой Дома, а я буду лишь жиличкой. Тень твоей матери повсюду меня опережает. Я зову тебя своей дочерью, и она замирает от невыносимой ярости. Но что бедняжка может сделать? Она давно мертва, а я живая. Доченька, доченька, доченька, – гортанно пропела она, точно бросая вызов пыльному сквозняку. – В этом по крайней мере ты можешь быть моим настоящим и преданным ребёнком. Если хочешь познать магию, я научу тебя, и учить буду без ошейника. Тебе откроются тайны, что хранятся в этих томах и в моём собственном сердце. Когда ты пленница в доме мужа, это помогает бороться со скукой.
– Но почему ты противишься Волшебнику? Разве магия, которой он учит, хуже твоей?
Иоланта стиснула зубы:
– Я думала, ты умнее, малышка Магадин. Тебе не показалось странным, что ему нужна девочка, в то время как в большинстве случаев в ученики берут детей того же пола, женщины – девочек, мужчины – мальчиков? Или то, что ему вообще нужен ученик. Ведь он раб, серв, и ошейник означает, что сила его продана, как и сила его сына, отца, отца его отца – до самого источника магии, что в его крови. Он ничего не может делать без позволения Короля, они прикованы друг к другу. И я не отправлю ни одну из моих девочек в такое место.
– А ты не рабыня? Не серв?
– Нет, моя девочка, я не такая.
И вот на протяжении недель, остававшихся до назначенного дня, пока яблоки из рощ с неохотой превращались в мускусный сидр, я училась у неё – понемногу, урывками. Большей частью я читала её книги. Редко видела отца и сводных сестёр, уединившись в башне своего рождения. Мои пальцы покрылись чернильными пятнами, точно у клерка, а наряды стали проще и более тусклыми, потому что мне быстро наскучили парча и ленты, очаровывавшие сестёр. Когда родился мой брат, я пребывала в башне, мои нечёсаные волосы покрывала пыль. Его назвали Измаилом, но у меня это не вызвало интереса. Придя в себя, мачеха присоединилась ко мне, и мы проводили часы, стряпая отвары и мастеря приятные, пустячные чары. Я была счастлива и уверена, что вскоре придёт черёд настоящего знания.
Глубокой синеязыкой зимой настал день Волшебника, и мне пришлось расплатиться за это счастье.
Я спряталась под лестницей, как велела Иоланта, а Имогена и Изаура втиснулись в высокий гардероб. Мои сёстры в ужасе вцепились друг в друга и дрожали как два нежных оленёнка, брошенных в зарослях мамой-оленихой. Они не протянули мне руки, но резко захлопнули двери. Я сжалась в комочек под лестницей. У нас не было права пищать и чихать, а мачеха собиралась сказать посланцу, что лихорадка сгубила её дочерей, когда пришли холода. Я наблюдала сквозь трещины в досках, как она собирается лгать ради нас.
Но явился не гонец, а сам Волшебник в струящемся сине-коричневом одеянии, с длинными седыми космами и тяжелым железным кольцом на шее, где знатному человеку полагается носить драгоценности. Ошейник как будто не доставлял ему неудобств, и второе «украшение» того же веса и цвета он держал в своей жилистой руке.
– В этом доме три девочки, верно? – величаво проговорил он, нацелив орлиный нос на мою мачеху.
Она опустила сияющую голову, изображая скорбь.
– Все мои дочери погибли, когда выпал первый снег. Лихорадка пришла в наш дом; хорошо, что я спасла своего сына, очень многие погибли…
– О, хватит. – Он не дал ей договорить: его голос рассёк её голос, как нос корабля рассекает волну. – У меня нет на это времени. В доме трое детей, и, если ты их не предоставишь, я это сделаю сам. Я слышу, как две из них скребутся в большом чулане, точно голодные мышки. Не хотите выйти? Я не причиню вам вреда, а если вы будете хорошими девочками, могу даже угостить вкусным сыром.
Дверца гардероба приоткрылась. Мои золотоволосые сёстры были любопытными и глупыми. Они неуверенно выбрались из своего укрытия и прижались друг к другу, робко уставившись в пол.
На лице Иоланты не дрогнул ни один мускул. Она опустила голову ещё ниже, почти согнулась в поклоне перед высоким мужчиной.
– Я не хотела вас оскорбить, поверьте, – она заплакала, и настоящие слёзы закапали на плиты пола. – То, что я рассказала, правда – мороз забрал мою старшую дочь, которую обожали все в этом доме. Я не рискнула бы позволить двум другим дочерям, при всем их уме, бороться за предложенный вами почёт – я не смогла бы потерять и их тоже! – Моя мать рухнула на пол, жалобно рыдая и хватая его за сапоги, умоляя о милосердии. Я могла бы рассмеяться, будь я такой же глупой, как мои сёстры.
Волшебник будто поверил и, заставив её подняться, вытер слёзы на её лице:
– Ну-ну. Ты очень некрасивая, когда плачешь, лучше так не делай. Давай-ка поглядим на твоих двух ярочек, да? – Он поднял железный ошейник, и Иоланта слегка вздрогнула. – Это простая проверка. Каждая из них примерит мой ошейник, и, если одной повезёт, и он придётся ей впору, девочка пойдёт со мной и выучится разным прекрасным вещам. Жизнь у неё будет такая, что и королевы позавидуют. Это звучит прекрасно, не так ли, девочки?
Мои сёстры кивнули, дрожа от страха, точно листья, влекомые ветром по пустой улице. Он подошел к ним, как мужчина подходит к лошади, которую хочет приручить, и его длинные бледные пальцы сперва коснулись Имогены.
– Пожалуйста, сэр, – прошептала она. – Я не хочу.
– Что ж, маленьким девочкам приходится учиться делать вещи, которые им не нравятся. Так устроен мир, – утешительно проговорил Волшебник и, открыв замок на сером ошейнике, надел его ей на шею.
Ошейник лёг на ключицы, точно увядший венок.
– Видишь? Не так уж страшно. Ты слишком слабая, чтобы от тебя была хоть какая-то польза. Следующая!
Изауру чуть не вырвало на ноги Волшебнику.
– Прошу вас, сэр, – взмолилась она. – Я не хочу.
Он хохотнул и не стал тратить силы на ответ: защёлкнул ошейник на её тонкой шейке, мягкой, точно у лебёдушки. Он был столь тугим, что Изаура едва могла дышать. Тогда я увидела, что ошейник особенный, и выбор делал он, а не Волшебник, потому что железное кольцо сжимало шею моей сестры, как кулак, пока она не закричала и не начала отчаянно его сдирать.
Гость разочарованно вздохнул и быстрым движением снял ошейник.
– Пусть это послужит тебе уроком, женщина. В сеть из лжи ничего не поймаешь, как не выудишь рыбу ложкой.
Он повернулся на каблуках, чтобы уйти, и я увидела, как тело Иоланты облегчённо расслабилось. Но моя сестра – о, Имогена, маленькая гадюка! – крикнула ему вслед:
– Погодите!
Она посмотрела на Изауру, ища поддержки, и запоздало спохватилась.
– Да? Ты что-то хотела сказать, душечка?
Имогена пискнула и не смогла выдавить ни слова. Изаура отпустила руку сестры и сделала шаг вперёд, словно примерная ученица.
– Мать солгала. Магадин не умерла… никто не умер. Она под лестницей, прячется, как крыса.
Я верю, что в этот момент Иоланта могла бы задушить собственное дитя. Но она не протестовала. Да и как она могла протестовать?
Изаура метнулась через всю комнату и радостно распахнула деревянный люк, закрывавший пространство между лестничными пролётами.
– Привет! – ликующе воскликнула она.
– Как ты посмела? – прошипела я.
– Мы устали от твоего гонора, твоих дурацких чёрных пальцев и твоих секретов. Ты маленькое чудовище. Никто не желает тебя здесь видеть.
– Да! – закричала Имогена своим тоненьким голосом. – Мы надеемся, что этот жуткий ошейник тебе и впрямь подойдёт, и ты уйдёшь отсюда, чтобы никогда не возвращаться! Ты это заслужила!
– Почему? – спросила я, всё ещё скорчившись в своём убежище.
– Ты украла её у нас! – отчаянно завопила Имогена, точно птенчик, выпавший из гнезда. – Она наша мать, не твоя, а ты забрала её! Мы были счастливы, пока не переехали в этот ужасный дом! И теперь у неё другой ребёнок – она совсем забудет про нас!
Имогена горько заплакала, Изаура же не пролила ни слезинки. Она схватила моё запястье и вытянула меня из темноты, так что я полетела, спотыкаясь, к ногам Волшебника. Лишь тогда девочки увидели взгляд матери, в котором сквозил холод виселицы. Имогена разрыдалась ещё сильнее и умоляюще тронула мой рукав.
– Прости, попытайся понять… – прошептала она.
Изаура тянула её прочь.
– Примерь его и сдохни, Магадин, – зашипела она.
Я заставила себя встать перед Волшебником, который скалился будто кот из джунглей, только что сожравший очень жирную мышь. Он протянул ошейник, но я чувствовала, как мачеха взглядом сверлит мою спину, и отказалась опускать голову. Волшебник поджал сухие губы, шагнул вперёд и с неимоверной скоростью защёлкнул эту штуковину на моём горле.
Ошейник лёг так хорошо, что я едва почувствовала его вес. В зале не раздавалось ни звука, но я видела, что Изаура прячет улыбку за рукавом. Волшебник проверил петли ошейника и передал меня своим людям, бросив в руку Иоланты три серебряные монеты – в обмен за меня.
Когда меня выталкивали из дома, я услышала за спиной глухой удар: моя мачеха потеряла сознание и рухнула на каменный пол.
Сказка Левкроты (продолжение)
– Теперь вы понимаете, что случилось, – сказала дева-бестия. – Не было никакого ученичества. Мы не ходили во Дворец, Волшебник сразу запер меня здесь, и я сижу в этой башне уже пятьдесят с лишним лет. Каждые две недели он приходит и заставляет меня пить ужасные снадобья, втирает в моё тело мази, от которых по моим венам бегут жгучие молнии. Он сохраняет меня молодой и сильной, потому что я продержалась дольше остальных, у него никогда не было такой подопытной крысы. Он не может допустить, чтобы я превратилась в старуху. Но ничего не получается, и скоро я буду висеть на стене вместе с ними, а он начнёт всё заново с другой девушкой. Мне же придется смотреть, как она умирает, точь-в-точь как сейчас другие девушки смотрят на меня.
Ведьма подняла лицо девушки и вытерла ей слёзы, будто краски с холста. Она подбодрила бедняжку улыбкой, и её лицо вспыхнуло, как костёр в ночь летнего солнцестояния.
– Когда-то Волшебник держал меня в плену, чтобы найти тот же секрет – старик им одержим. Но я сбежала. Сбежишь и ты. Никогда не доверяй Принцам! Если тебе нужно чудо, доверься Ведьме.
– Ты ничего не сможешь сделать, – возразил я. – Всё зашло слишком далеко, даже я это чувствую. Сбрось её с башни, избавь от мучений.
Но Ведьма лишь низко гортанно засмеялась, издав звук, похожий на клокотание сотни горных ручьёв:
– Чудище, я посвятила свою жизнь тому, чтобы срывать магические планы этого человека. Я стала сильнее после нашей последней встречи, а он барахтается в лужах своих немногих грязных умений. – Она замолчала, её взгляд погрустнел. – Но, боюсь, я не смогу стереть то чудовищное, что в тебе уже есть. Я не могу сделать тебя той девушкой, которой ты была когда-то. Подобное нельзя исправить, если всё зашло слишком далеко. В минувшие времена с этим управилась бы – причём легко – любая из матерей, что были до меня. Но с тех пор многое произошло. Я не могу воссоединить тебя с племенем дев. Но я могу помочь тебе стать частью племени монстров. Ты будешь жить, спасёшься.
Глаза девы-бестии расширились от прилива горьких слёз.
– Но кто я без своей красоты? Я не выйду замуж, а мой отец и мачеха точно умерли. Я столь же глупа, как и в тот день, когда рассталась с нею; за пятьдесят лет я не узнала ничего, что позволило бы ей мною гордиться. Я девица в башне, у подобных мне печальная участь, для нас нет иного спасения, кроме Принца, и его портрет носят на шее, как якорь на эполетах. Разве меня ждет нечто иное?
– Ничего, – проворчал кто-то в темноте. Одна из голов ощерилась от ненависти, так что её рот превратился в О. – Ты теперь уродина и никому не нужна!
– Ты останешься с нами, и тебе понравится, сукина дочь! – Клювастая голова разразилась каркающим смехом, чмокая беззубыми дёснами.
– Только для цирка и годишься!
– Станешь женой козла на ферме, будешь лопать капусту в загоне!
– Королева навозных мух!
– Императрица обезьян!
Головы гоготали, плевались и рычали. Некоторые беззвучно плакали. Ведьма нахмурилась.
– Не слушай. Они уже мертвы. Волшебник наделил их голосами, чтобы мучить тебя, – сами они давно спаслись из этого места.
– Мы не мёртвые, Ведьмочка! Свои дешёвые фокусы будешь показывать в другом месте! Она наша! – Головы опять начали хохотать.
– Куда же я пойду? – жалостливо спросила Магадин. – Как я буду жить?
– Чудище у меня в долгу, – ответила Ведьма. – Он отвезёт тебя к морю, где ты сможешь найти работу на одном из кораблей, что стоят на якоре в гавани. Или уплыть в другую страну, где тебя никто не будет искать. Если я не ошибаюсь, сейчас ты кажешься ему очень миленькой. – Она одарила меня широкой понимающей улыбкой.
– Безусловно, голубка моя, – ответил я с достоинством, – шерсть значительно улучшает то, что я видел, стоя у подножия башни. У меня есть друзья в порту Мурин. Если я буду рядом, тебе не откажут. Теперь ты одна из нас. Уверяю тебя, мы обращаемся друг с другом добрее, чем представительницы гнусной расы дев. Я буду беречь тебя.
Женщина будто уступила. Её глаза светились как желтые свечи.
– Итак, – сказала Ведьма, – ты никуда не можешь отправиться, истекающая кровью и сломанная, как птица, упавшая с ветки.
Она взяла голову девушки в свои руки, запустила пальцы в сумеречно-медовые волосы Магадин и нежно прижалась губами ко рту девы-бестии.
Все мышцы в измученном теле Магадин будто расслабились. Раны, причинённые прорезавшимися крыльями, исцелились в мгновение ока, изувеченная плоть покрылась перьями. Её хвост стал здоровым и пышным, а свирепые когти уменьшились до приемлемой длины. Трепещущие крылышки в косах слились с остальной массой волос, и те потемнели до цвета полированной бронзы, превратились в густую львиную гриву. Ноги девушки немного выпрямились, и она вновь обрела способность ходить, хотя форма ног осталась оленьей и рыбья чешуя не исчезла с лодыжек. Её кожа приобрела ровный сияющий тон, а полосы на плоти сделались темнее и ярче, выглядели естественными, а не пятнами на коже. Вся Магадин стала блистательным чудовищем, её трансформация была завершена, хотя навсегда осталась незаконченной. Я всё принял с восторгом.
Головы завыли от отвращения и ужаса, их горькие упрёки превратились в невнятицу, которую они извергали, брызгая слюной. Отстранившись друг от друга, две женщины обменялись торжествующими взглядами и пошли ко мне, рука в руке, не обращая внимания на истерившие головы. Оленья походка девы навсегда должна была остаться странной, как иноземный танец, но она улыбалась. Мы втроём покинули башню, как шустрые лисы, и, когда ступили на снежно-мёртвую траву, башня начала содрогаться от криков, раздававшихся внутри.
Ведьма так и не оглянулась, но небрежно взмахнула левой рукой в сторону чёрного монолита, взбираясь вместе с Магадин мне на спину. Башня тут же затряслась, как зашедшаяся от кашля старуха, и рассыпалась на части.
В Башне
Видения снятых, как одежда, шкур и дев-бестий кружились в голове мальчика, точно хоровод девушек из гарема, когда он оставил кедровую рощу и девочку, изнурённую рассказом и мирно спавшую на постели из сосновых иголок. Он подумал о том, что на ветвях можно разглядеть блестящие светлые глаза диких птиц, точно жемчужины нанизанные на нити тьмы и ждущие его ухода, чтобы позаботиться о ней.
Беззвучно пробираясь назад во Дворец, мальчик был почти уверен, что замёл все следы – даже Принц не мог быть таким скрытным. Но, когда он закрыл дверь в свою спальню, вспыхнула жаровня, заполнив комнату янтарным светом, как фрукт, разбитый о стену.
Динарзад сидела посреди мехов его постели, держа в руках длинную тонкую соломинку. Она подняла её – кончик ещё тлел от прикосновения к светильнику.
– Ну-ну. – Она хихикнула. – Не вини меня. Я тебя по-хорошему предупреждала.
Динарзад метнулась вперёд, будто нацелившийся на муху паук, схватила брата за предплечье и потащила вверх по длинной лестнице. Без единого слова она бросила мальчика в маленькую комнату в башне и повернула ключ в большом замке. Из мебели в комнате была только узкая койка, а по каменному полу гуляли сквозняки. Рассвет, чьи персты были унизаны сапфировыми перстнями, уже заглядывал в окно.
Мальчик завопил от досады и пнул жалкую постель, уронил на холодный пол несколько слезинок – злых как удары кулаком. Теперь всё действительно пропало: на кровати даже не имелось простыней, из которых можно было бы соорудить верёвку. Всё-таки он – глупый ребёнок, раз застрял в этой башне, точно изуродованная дева, когда ему следовало бы странствовать по болотам, как Принцу. Всё неправильно, вверх дном и противоестественно. Мальчик ударил каменную стену в немой ярости и тотчас же об этом пожалел, потирая разбитые костяшки; его глаза наполнились слезами боли.
Снаружи Динарзад закрыла миндалевидные глаза и сделала глубокий хриплый вдох, точно мечом провели по толстой цепи. Она знала, что понесёт ужасную кару за то, что позволила ему выбраться в ночь. Ещё не зажили следы от плетки после предыдущего раза, когда ребёнок сбежал из её детской. Но она была дочерью султана, и ни одна амира её ранга не позволила бы себе демонстрировать кому-то страх или раны. Динарзад прогнала слёзы и отправилась вниз по полированным ступеням, спрятав ключ в одеянии. Забираясь в собственную постель, она начала тихонько плакать под волчьими шкурами; слёзы падали на подушку, как дождь падает на снег. Она хотела, чтобы все её кары оказались сном и можно было проснуться во Дворце, где нет детей, за которыми она должна присматривать, нет плёток со свинцовыми шариками и драгоценных братцев, которые насмехаются над ней и презирают её.
Когда девочка проснулась и большие крылья исчезли с её бледного тела, она увидела, что темноволосый мальчик ушел. Горячие тайные слёзы полились на чёрную землю.
Той ночью многие плакали.
На следующий вечер Динарзад принесла мальчику в башню ужин, как раз в тот момент, когда роза и пламя начали делить небо. Она ничего не сказала, обозначив свой визит медленным поворотом железного ключа в замке. Мальчик ничего не съел, хотя был голоден. Он отложил немного плотного сладкого хлеба и луковицы, приберёг яблоки, точно золотые украшения, в тщетной надежде.
Мальчик прислонился к стене башни, внутри у него всё кипело. Он пытался восстановить историю в памяти, но воспоминания путались, просачивались одно в другое, как акварель. У Гнёздышка были странные глаза девочки-рассказчицы, и не удавалось припомнить даже такую простую вещь, как цвет Чудища.
Привстав на цыпочки, мальчик потянулся к подоконнику и уставился на простиравшийся внизу Сад, чтобы хотя бы поглядеть на верхушки кипарисов, под которыми могла лежать девочка. Деревья были высокими, точно перьевые ручки в чернильницах, ночной ветер медленно их колыхал. И они были красивыми, потому что она, наверное, отдыхала под одним из них.
На самом деле девочка не отдыхала, а стояла на ухоженной траве у подножия высокой серой башни и пристально смотрела на беспомощного мальчика широкими и тёмными, как совиное горло, глазами.
Девочка молча наблюдала за ним. Возможно, она сумеет взобраться на вершину, цепляясь за шероховатые камни и плющ, и спасти мальчика. Хотя ей не доводилось слышать о подобном. На мгновение она позволила заполнить и согреть себя мыслью о том, что он искал её.
Когда совсем стемнело, она сунула ногу в одну из трещин между камнями и полезла вверх.
Мальчик слышал, как она карабкается по плющу и крапиве, которыми обросла башня, и разволновался, чувствуя её приближение: устыдился того, что она снова его выследила. Нужно прыгнуть, точно! Сломанная нога – не такая уж трагедия.
Конечно, это не имело значения. Девочка была здесь, а это значило, что он ей не безразличен. Дело не только в том, что ей хотелось рассказывать свои истории: она должна была по нему скучать. Эта мысль взошла в нём как ослепляющее солнце. Раздосадованный, он отбросил её и подготовил самое благожелательное, но достойное выражение лица человека, знающего себе цену.
Взобравшись на подоконник, мокрая от пота, девочка не вошла внутрь, а устроилась там, словно не до конца прирученный попугай. Видимо, она боялась не только его, но ещё и быть пойманной: до сих пор наказание принимал мальчик, а если бы её поймали во Дворце, скорее всего, убили бы. От внезапного открытия и восхищения её смелостью у него перехватило дыхание. Девочка снова его превзошла.
– Я… я знаю, ты хотел услышать остаток истории… – прошептала она, и он почему-то почувствовал стыд. Впервые, будто забирал у неё что-то ценное и беспокоился лишь о блеске добычи.
Тем не менее девочка снова завела свой рассказ, и её голос заполнил комнату как звуки медного колокола. Мальчик закрыл глаза.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Я сдержал слово, – сказало Чудище. – После того как мы расстались с Ведьмой в её Долине, я отвёз Магадин в посёлок Мурин и устроил так, что её взяли на один из кораблей, чинить паруса. Говорят, она справляется – с учётом всех обстоятельств, конечно. Оставалась вторая часть двойной цены, которую Ведьма назначила за мою жизнь. Ты, должно быть, понял, что я связан словом чести и должен отдать шкуру. Теперь мы в расчёте.
Болотный король плюнул и проворчал что-то вроде кхм-кхм со своего насеста.
– Я нахожу это весьма и весьма неприятным! – Он устремил на Чудище обвиняющий взгляд; его глаза сверкали как угри, хлещущие хвостами. – Эта жуткая женщина тебе понравилась! Ты счёл её красивой! Это противоестественно! Думаю, ты влюбился! Как отвратительно… Ты же знаешь, что другие монстры никогда не поддержали бы тебя. Дева-бестия – одно, но человеческая женщина?! Как бы там ни было, по-моему, она тебе нравится больше меня. Не припоминаю, чтобы ты мне предлагал свою шкуру, даже когда я хотел убить несчастную саламандру, причинившую множество проблем прошлой весной.
Чудище тотчас полезло мириться и легонько боднуло Болотного короля, испачкав густой кровью его жесткую бороду.
– Малыш! Ты же знаешь, что тебя я люблю больше всех. Я решил стать твоим придворным – твоим, а не чьим-нибудь. Она ничто, мимолётное увлечение, – да что там, и не увлечение вовсе! Я восхищался ею в эстетическом смысле, вот и всё! Не злись. И не завидуй ей. Ведь у нас с тобой полным-полно забот.
Болотный король слегка приободрился, хотя продолжал пофыркивать. Вдруг он встрепенулся и кинулся прочь от Принца, бросив напоследок:
– Что ж, парень, тебе пора забрать свою добычу и, выражаясь вежливо, убраться. У нас, видишь ли, дела государственной важности.
Леандра оставили посреди болота, промокшим до пояса и со шкурой, от которой начало исходить то, чего не было поначалу, – зловоние.
Был уже почти вечер, и Принц не без угрызений совести решил, что, раз Эйвинда в скором времени ожидало предназначенное ему приключение, необязательно возвращаться в таверну, чтобы доставить послание. Возможно, всё уже случилось, чем бы оно ни было. Он пообещал себе отправить туда посыльного, когда всё закончится.
Это почти успокоило его совесть.
Итак, Принц отправился домой, открыв вторую истину о Подвигах, которая заключалась в том, что дорога домой непонятным образом оказывается намного короче, чем путь к желанной цели. Солнце легко скользило по небу, как по золотым рельсам, и земля будто быстрее вертелась под ногами. Приключения на обратном пути случаются редко, словно судьба желает, чтобы верный и удачливый Принц как следует отоспался, выполнив обещанное. Возвращаться к Ведьме было почти приятно, за исключением чувства вины и страха, которые грызли его желудок, точно голодные мыши.
Когда Принц вернулся к хижине Ведьмы, он дрожал, но, по крайней мере, на нём были те же самые большущие сапоги, подаренные трактирщиком, и они его не подвели. Видимо, состоявшийся обмен был равноценным. Наступила последняя ночь полнолуния, и тьма накрыла маленькую ферму Ведьмы Нож, как ладонь с толстыми пальцами. Суетливые гуси притихли, плуг стоял в полусвете звёзд и напоминал скелет. Дверь хижины была нараспашку, и Леандр со шкурой Левкроты в мешке, склонив темноволосую голову, ступил через порог.
В просторной кухне старухи не оказалось, хотя очаг сердито светился, несмотря на то что его давно оставили без присмотра. Она лежала за второй дверью, свернувшись клубочком на большой кровати и окруженная серыми гусями, соорудившими волнистое одеяло, укрывшее её скрюченное тело.
Леандр тихонько опустился на колени возле кровати и вложил красный узел в её руку. Она прервала храп, повернула голову и поморщилась.
– Значит, ты вернулся. – Она вздохнула и села в своей странной постели из перьев. Птицы подвинулись, наблюдая за ним десятками глаз-бусинок. – Видимо, это делает тебя Хорошим Принцем, как у вас заведено. Но ты пришел слишком рано. Тёмная луна восходит только за час до рассвета, и пока не время моей девочке рождаться во второй раз. Я должна ещё кое-что тебе рассказать.
Ведьма поёрзала, и гуси тоже зашевелились, вытянули длинные шеи, чтобы положить их ей на голову, дотронуться до неё. Серебряные крылья накрыли грудь старухи, словно скрещенные руки.
– Первую часть истории я рассказала ради себя, чтобы ты знал о прошлом. А эту поведаю ради тебя, чтобы ты узнал о будущем.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Нож резанул сильно, но неглубоко. Волшебник даже не потрудился остановить кровь, текшую из его собственной раны. Это была тонкая алая линия под его подбородком, над железным краем ошейника: лишь одна среди многих на узкой полоске незащищенной плоти. Одним плавным движением, как ветер, перелетающий от одной ивы к другой, он схватил руку моей бабушки, переломил запястье и вонзил её нож ей в живот.
Бабушка замерла, изумлённо глядя на костяную рукоять ножа, которая торчала из её тела, будто новая конечность. Потом она внезапно поперхнулась, и яркая кровь хлынула из побелевших губ. Бабушка рухнула без сил мне на руки, а Волшебник нырнул в маленькую комнату за троном, и слуги последовали за ним, чтобы заняться его пустяковой раной.
За всё это время Король не сказал ни слова и не шевельнулся, но наблюдал с любопытством ястреба. Он не сводил с меня ледяного взгляда. Я держала бабушку в объятиях, как ребёнка. Она слабо улыбалась, кровь всё текла и текла из неё: тёмная кровь из глубин тела, густая и чёрная, а потом серебряная и бледная, струившаяся по моим рукам и коленям, будто ручеёк свежей воды. Я вся вымокла; бабушка протянула ко мне руку, с которой капала эта жидкость, и вложила пальцы в мой рот, так что капли света потекли по моему горлу.
Он был совсем безвкусный.
– Видишь? Я всё-таки могу тебя наполнить. Теперь ты – это мы. Всё, что осталось, вымокло в крови и свете, как наша давно почившая прабабка в ужасном шатре. Ты достаточно сильна, чтобы отомстить за нас. Моя смерть послужит тебе наставлением.
По её лицу пробежала и исчезла легчайшая тень улыбки, в горле раздался шум, точно сухие бобы перекатывались в тыкве-горлянке. В ней ничего не осталось: кровесвет впитался в меня, а она стала раковиной, дырой, пустым пространством.
Я не плакала, не могла позволить им увидеть мои слёзы. Я вынула нож с толстой рукоятью из плоти бабушки и крепко сжала его в окровавленном кулаке. На миг взглянув на Короля в роскошных одеждах, я увидела фигуру прямо за ним – пару чёрных блестящих глаз среди жесткой рыжей шерсти.
То был Лис, и он смеялся.
Я так и не узнала, что они сделали с телом моей бабушки, но его убрали из холла, как убирают кухонные отбросы, яблочную кожуру и свиной жир. Пятна на полу вытерли, когда Волшебник вернулся с перевязанным горлом.
Король по-прежнему не сводил с меня немигающего взгляда. Я стояла перед ним в лохмотьях, некогда мечтавших о белизне, обильно покрытая её кровью. Моё лицо было в кровавых полосах, точно я разукрасила себя для войны или свадьбы. Волшебник откинул седые космы с высокого морщинистого лба и обратился к Королю:
– У нас осталась только девчонка, мой господин. Если позволите, я заберу её в свою башню.
Но Король взмахнул шелково-гладкой рукой, отвергая предложение. Я уставилась на него. Его глаза шарили по моему телу, царапали меня, пытались пробраться внутрь. Ибо он воспылал ко мне ужасной страстью, и я видела, как она растёт в его глазах, точно свирепеющий вепрь.
– У тебя есть своя башня, Омир, а у меня – своя.
Его голос был тих и совершенно холоден, как мерзкий ветер, шелестящий перьями мёртвого ворона. Я увидела, что в тусклых глазах Волшебника зарождается то же понимание, которое снизошло на меня, когда я ощутила взгляд Короля. Воцарилась тишина, будто все мы утратили дар речи, и каждый яростно думал о том, как добиться желаемого.
Наконец Волшебник пробился вперёд и заговорил бесцеремонным тоном, который отбросил меня вернее, чем удар кулака:
– Мой господин, могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз?
Двое удалились в противоположный конец большого зала. Но у моего народа чуткие уши, и я слышала их так же ясно, как фырканье собственной лошади среди поля травы.
– Мой король, у меня есть идея, которая может позволить нам достичь всех целей. Вам нужна Ведьма, мне – сила, которой бабушка могла её обучить. Зачем удовлетворять лишь вашу страсть? Почему бы вам не жениться на этом создании? – Король молчал. Под стропилами эхо вторило его расчётливым мыслям.
– Но она же дикарка, – наконец произнёс он. – Годится на то, чтобы я её использовал, а не обручался.
– Господин, – настаивал Волшебник, – если вы на ней женитесь, покажете покорённым племенам, что вам можно доверять, что вы добрый и справедливый правитель. Заполучить их доверие – единственный способ утихомирить дикие банды. Сделайте её Королевой, и за это они станут вас обожать, будут шепотом передавать друг другу, что новый Король даже с монстрами играет честно. К тому же все знают, что дикарки плодовиты, как коровы. Она будет рожать вам сыновей одного за другим. Я же смиренно прошу: в те ночи, которые она не будет проводить с вами, отдавайте её мне, чтобы я смог извлечь из неё всё, что можно, до её смерти от ваших действий или моих.
Позвольте рассказать одну байку, чтобы моя мысль стала понятнее.
Сказка Волшебника
Однажды в далёком королевстве – разумеется, оно и сравниться не могло с вашим великолепным королевством, мой господин, – жил Раджа по имени Индраджит. Он был прекрасным властителем, сильным и справедливым, как стрела, пронзающая сердце вора. Его покоряющая рука нависла над полями и фермами, точно облако, приносящее благословенный дождь. Никто не противился его власти, ни один голос не звучал против этой святейшей длани.
Он хотел принести свет и славу своего справедливого правления в самые отдалённые посёлки – стремление, о коем вам самому ведомо, мой господин. Раджа смотрел за великую реку, что струилась, как отрез шёлка, через плодородные земли королевства. И вот повёл он свою знаменитую Королевскую Гвардию, которая, если верить легенде, возникла из земли, когда Индраджит убил чудовищного вепря в дальних краях, и зубы твари упали на землю, точно град. Из тех зубов произошли сто и сорок четыре воина, которых с той поры называли Дентас Вараахасинд – Зубы Вепря. Они были сильно привязаны к Индраджиту, который, убив монстра, дал им жизнь. Солдаты-вепри отличались свирепостью, а их преданность была чиста, как снег на трупе. Они несли щиты, сделанные из огромных лопаток диких горных свиней, которые в те времена были такими же большими, как двери в сокровищницу Раджи. Их доспехи покрывала кроваво-красная шкура тех вепрей, и они носили ожерелья из длинных, изогнутых зубов, давших им жизнь. Они мазали лица дёгтем и затачивали зубы напильниками, так что вид у них был такой же, как у орды демонов, восставших под луной. Люди любили Раджу, как подобает подданным, но Вараахасинд вызывали у них хладный ужас.
Однажды летом Индраджит повёл своё преданное войско вдоль берега блистающей реки в маленький монастырь, который он хотел покорить и использовать как форпост для продвижения своей справедливой власти на юг. Любопытное дело: в храме жили одни женщины, и посвящен он был какой-то небесной змеебогине, украшенной драгоценностями. Когда женщины увидели приближающихся Вараахасинд и услышали их страшный боевой клич, похожий на вопль кабана, пронзённого копьём из ясеня, они не бросились бежать, а собрались вместе возле изображения своей богини, заслоняя позеленевшее бронзовое изваяние телами, одетыми в тонкие платья. Несколько женщин всё же показали свой страх и лишились чувств, но их поддержали другие прислужницы.
Тронутый преданностью монахинь, Индраджит не отсёк их неблагодарные груди немедля и не скормил их тела своим мужчинам. Взамен он оттолкнул женщин и просто разбил статую на острые осколки навершием эфеса своего массивного меча, прославленного во всех краях как непобедимое лезвие. И всё же женщины не закричали, как обычно бывает. Вместо этого одна из них, с глазами чёрными, будто лишенная света глотка змеи, посмотрела на великого Раджу и сказала:
– Это было злое дело. Теперь ты будешь ходить под Её проклятием до конца своих дней, которые утекут на землю, словно негодная нить из растрепанного мотка.
Индраджит не был до такой степени тронут их преданностью, чтобы задуматься над непочтительными словами. Он приказал своим людям отвести женщин в лес и там вырезать им языки, чтобы они больше не могли разговаривать с теми, кто выше их по статусу, только странствовали и попрошайничали. Однако он был очарован женщиной, дерзко с ним говорившей; её звали Серпентина. Как и любой другой Король на его месте, Индраджит захотел показать упрямой девке, каково её место в этом мире.
А ещё в его душе возникло страстное влечение к ней. В конце концов, она была очень красива в своих белых полупрозрачных одеяниях; её чёрные глаза казались такими глубокими, будто в них вовсе не было зрачков. Чёрные кудри монашки струились ниже пояса и странно блестели в лучах летнего солнца – как гладкая кожа саламандры. На её собственной коже не было ни пятнышка, а все черты по меньшей мере были безупречны. Она не отвела обезоруживающего взгляда, даже когда Король велел связать ей руки и ноги. Он перекинул её тело через своё изукрашенное медными заклёпками седло и привёз во Дворец, чтобы сделать своей Королевой.
Разумеется, женщина стала одной женой из тысячи, а невольниц у Раджи насчитывалось и того больше. Но, взяв её в жены, он надеялся одновременно насытить свою страсть и привлечь благосклонность её божества, поэтому её ценили намного выше, чем любую из несчастных кобылиц, согнанных с разных краёв принадлежавшей ему земли. Король не мог поместить монашку в надушенный гарем, так как не желал, чтобы она разожгла в бедных тварях бунтарский дух. Посему Серпентину держали в отдельной комнате, куда можно было попасть только из спальни Раджи. Перед тем как войти в сводчатое помещение, она повернулась к Индраджиту и заговорила с ним во второй раз:
– Я соглашусь стать твоей женой по своей воле и принесу клятву не затевать с тобой битву в твоих стенах. Я рожу тебе семь сыновей и семь дочерей, и все они прославятся воинской доблестью и красотой по огромному миру. Я отведу от тебя гнев змеиного божества и защищу твой дом. Но ты должен мне кое-что пообещать.
Индраджит пылал страстью к этой женщине, её странным волосам и гибкому телу. Он без промедлений пообещал бы ей то, что позволит заполучить её без боя.
– На третий день после каждого новолуния мне должно быть позволено делать то, что я желаю, и ты должен поклясться на теле Вепря, чья плоть подарила тебе преданных воинов, что не попытаешься меня увидеть или приблизиться ко мне в эти дни. Не бойся, я не покину Замок, чтобы сбежать от тебя. Таково моё условие, и оно останется неизменным.
Раджа согласился багрово-бархатным голосом. Серпентина больше ничего не говорила.
Годы летели как чёрные дрозды в ночи. Женщина со странными волосами действительно родила Радже семь сыновей и семь дочерей, черноглазых и кудрявых, в точности как их мать. Они совсем не напоминали отца, будто взяли кровь лишь от Серпентины, которая почти не старела и не дурнела. Даже когда дети стали взрослыми, один сильнее и ярче другого, – как она и обещала, все девушки были великими воительницами, а мальчики отличались красотой, – она рядом с ними выглядела солнцем среди свечей.
Король, как полагается, держал своё слово и занялся подчинением континента, делами государственной важности. Но по мере того как дети становились всё меньше на него похожи, росли подозрения, что Серпентина проводит новолуния, предаваясь прелюбодеянию и иным грехам. Ведь она была язычницей, совершенной дикаркой. Ей не следовало доверять. Индраджит багровел, поддаваясь своим опасениям, заболел ими и в конце концов утратил власть над собой – решил на ближайшее новолуние проследить за дикаркой-женой и застигнуть её на месте преступления.
Так всё и случилось. Это было нетрудно, поскольку её комната соединялась с его покоями. Раджа прокрался по коридору так тихо, как умеют лишь тренированные убийцы, и заглянул в щель между досками двери.
Его взгляду открылось то, что могло бы явиться демону во сне. В болезненном свете умирающей луны копошился клубок из четырнадцати змей в странных шкурах, которые мерцали в ночи пурпурным, синим и зелёным. Их тела извивались вдоль каменных стен, они говорили друг с другом на шипящем языке без названия. Они были переливчатые, словно радужные крылья стрекозы, и толстые, как тело человека. Мёртвый свет ночного неба будто питал их, они исполняли ужасный танец среди теней.
В самом центре находилась змея настолько огромная, что остальные рядом с ней выглядели наживкой для детской удочки. В обхвате она была как дворцовая колонна, и её шкура переливалась всеми цветами, как бурливый поток на закате, испуская белое сияние. Её глаза мерцали, чёрные на чёрном, зрачков в них не было. Когда змеиная королева увидела Индраджита, притаившегося за дверью и подглядывающего, её огромное тело затряслось, а крик был подобен скрежету лезвия по гранитным камням.
– Предатель! – закричала она и, расплывшись, будто он глядел на неё сквозь волны жара, превратилась в Серпентину с её летящей гривой, а маленькие змеи обратились в семь сыновей и семь дочерей. Все они кинули на него одинаковые обвиняющие взгляды, в каждом пылала ненависть, словно синее пламя.
– Ты поклялся, – закричала она, распахнув дверь с такой силой, что та разлетелась, ударившись о стену. – Ты поклялся, что это время принадлежит мне! И теперь потерял всё, несчастный Индраджит. Ты пришел в мой храм и уничтожил его, как обжора уничтожает жареного быка. Ты связал меня и приволок в это место с тёмными комнатами. Всё, о чём я просила, – один день без твоего кабаньего вонючего дыхания на моей шее. Я подарила тебе этих детей…
– Демонов! – в ужасе закричал Раджа.
– Детей! Моих детей, моих прекрасных малышей. Они совершенны! Ты не потрудился узнать, в чём суть нашего ордена, прежде чем его уничтожить. Я не поклоняюсь змеиному божеству – я и есть змеиное божество! И пребывала в небесах, когда земля ещё была лишь воздухом. Один раз в месяц я возвращаюсь к своему старому облику, чтобы искупаться в зыбком далёком свете, который могу увидеть; они отправляются со мной, потому что ты постоянно меня трогаешь, забираешь меня у меня самой, и их становится нечем кормить. Я дала тебе потомство из полубогов, Индраджит, они могли бы заполнить тысячу книг своими подвигами. Теперь же они погублены, а ты проклят!
И действительно, дети будто таяли, слёзы струились по их щекам, а тела становились всё прозрачнее, пока не исчезли, словно их сдул беспощадный ветер.
Серпентина смотрела на исчезающих детей с невыразимой скорбью во взгляде.
– Они очень хрупкие в этом возрасте, как паутинки в пиршественном зале. У нас так редко бывают дети, что мы почти ничего не знаем о том, как поддерживать в них жизнь. Дыра – всего лишь пустое пространство, и я не смогла их заполнить. Если прервать кормление и укрыть их от света материнских небес, они тают, будто утренний туман над рекой. Ты убил своих лучших наследников, Раджа, и лишил себя будущего, как ребёнок лишает неба своего жёлтого воздушного змея!
Сказав это, Серпентина бросилась на него, в мгновение ока приняв змеиный облик. Индраджит подал условный знак, и через миг двенадцать Вараахасинд были подле него, и Капитан отрубил массивную голову чудовища одним ударом меча.
По указу Раджи той же ночью для Вараахасинд устроили великое пиршество. Тело огромной змеи освежевали, порубили на части и отправили в кипящие кухонные котлы. Каждый мужчина получил долю сочного мяса, чтобы Серпентина не вернулась, волоча за собой злой рок. Сам Индраджит съел её разбухшее сердце и вобрал в себя силу змеебогини, чтобы распространить власть свою до моря.
Сказка Ведьмы (продолжение)
– Вот видите, – уговаривал Волшебник, – взяв в жены врага, Индраджит в конце концов сумел лишить его силы. Сделайте эту женщину своей Королевой и позвольте мне пользоваться ею всего раз в месяц, как Серпентиной. Мы вдвоём получим всё, что в ней есть.
Воцарилось долгое расчётливое молчание. Наконец все шестерёнки надлежащим образом сцепились, и Король начал склоняться к согласию.
– Но я не могу жениться на той, чьё лицо изуродовано татуировками и шрамами. Непозволительно появляться на людях в сопровождении этого.
– Я понимаю. Меня тоже притягивает не её плоть, а сила. Дикари, по меньшей мере, – Волшебник презрительно фыркнул, – вонючи и тупы. Но это не проблема. Я могу изменить её так, что для всех, включая вас, она будет красива, точно восходящее солнце. Уж это я умею!
Король бросил на меня взгляд через длинный холл цвета слоновой кости.
Уже начался рассвет, когда меня снова переместили, на этот раз в покои Волшебника, где он связал мои руки и ноги верёвками из крапивы и заткнул рот узловатым кляпом. Я лежала на холодном полу, глядя на столы, полные книг и давным-давно сгоревшими свечами, залившими восковой кровью страницы. Он готовил какую-то зловонную жидкость в стеклянном сосуде, чтобы превратить меня в какую-нибудь противоестественную тварь. Я беспомощно размышляла, испугалась ли бабушка, когда с ней случились перемены. Сама я не была уверена, что боюсь: моя кровь пульсировала, но я оставалась спокойной, как подземное озеро.
– Настал мой час, Нож. Слабоумный король пожелал сношаться с тобой. Что ж, пусть будет так, как ему угодно. Сомневаюсь, что тебе это понравится. Но мои пристрастия понравятся тебе ещё меньше. Я выиграл торг.
Волшебник поджал тонкие губы, наблюдая, как в сосуде клубится тёмно-красная жидкость.
– После стольких лет и стольких женщин, портивших мою прекрасную башню, ты падаешь мне прямо на колени, со всеми необходимыми знаниями, чтобы завершить мой труд. Можно поверить в предназначение. Почти что. – Он постучал по стенке флакона, в котором что-то негромко булькало, источая запах сожженного табачного поля. – Природа вселенной, маленькая моя варварка, заключается в переменах. Тот, кто контролирует перемены, по мощи и славе приближается к богам. Метаморфоз – вот главное действие. Без него ничто не растёт, не эволюционирует, не расширяется. Но должен ли я сидеть и ждать, пока прискорбно медлительная природа будет двигаться своим путём, подчиняя меня своей воле? Абсурд! Со времени моего ученичества в Южных королевствах я стремился контролировать собственные перемены, сохранил себя живым и сильным, хотя служил старому Королю до нынешнего хозяина и Радже ещё ранее. Правители сменяли друг друга, а я стремился открыть секрет, позволяющий изменять себя сообразно желаниям. Видишь ли, разум должен править телом. Менять свою форму усилием воли – компетенция богов, а с твоей помощью, мой волчоночек, я стану ярким, как Звезда. Всё дело в контроле: кто-то им обладает, а кто-то – нет.
Волшебник бросил горсть слипшихся листьев в своё тошнотворное зелье и обратил ко мне спокойный взгляд бездонных глаз:
– Разумеется, тот, у кого нет природного дара, обращается к менее изящным способам контроля. – Он схватил крысу, пробегавшую мимо и, несмотря на то что она извивалась, выдрал у неё четыре зуба и бросил их в сосуд, где они с шипением растворились. – Например, Король верит в то, что обладает властью и сам управляет своей судьбой. В общем-то, этого желают все живые существа. Но я руковожу его действиями столь же уверенно, как ребёнок с ангельским личиком управляет куклой. Ты слышала историю, которую я ему поведал? Я рассказал лишь половину – ту, что требовалась ему для того, чтобы позволить оставить тебя себе. Я хотел, чтобы ты оказалась там, где сейчас находишься, и рассказал ровно столько, сколько необходимо для самооправдания. Хочешь услышать остальное?
Я слабо пошевелилась и застонала сквозь грязный кляп.
– Разумеется, хочешь. Ты будешь слушать всё, что я говорю, верно? На чём я остановился? Ах да, Серпентина умерла, и её тело попало в сто сорок пять сытых желудков.
Сказка Волшебника (продолжение)
Дворец Индраджита Ужасного спал той ночью мирно и видел кровавые сны о праведных убийствах. Но, когда стальные зубья гор разбили ночное небо, как оконное стекло, произошла странная вещь: Вараахасинд, носители смерти, начали сходить с ума.
Поначалу никто ничего не заметил. Ведь солдаты всегда вели себя по-варварски, украшая жилища конечностями убитых дев и разрисовывая лица кабаньей кровью. Чтобы заметить в них признаки безумия, оно должно было стать сильным, точно пара волов.
Вышло так, что один из лейтенантов встретил рассвет в бане, спокойно сбривая изукрашенную бороду, которая ложилась ему на ключицы, словно клыки огромного вепря. Он аккуратно срезал её лезвием меча, уничтожая символ своей славной мужественности. Борода была гордостью Вараахасинд, сбривать её было нарушением кодекса, за это ждала смертная казнь путём выставления на солнце. Но этот человек избавился от неё так основательно, что его лицо сделалось детским и гладким, как луна.
На следующей неделе капитана нашли в бежевой лохани, где он пел гимн без слов, из одних безобразных гласных. Хуже того, лохань до позолоченных краёв была полна копошащихся зелёных змей, толстых как женская талия, которые в рептильном экстазе обвивали капитана.
Наконец, на третий день нового года второй командующий беспощадного войска утратил дар речи. Он плевался и шипел непристойным образом, его тело корёжило от усилий, требовавшихся для произнесения хотя бы одного шипящего слога. Когда придворный доктор успокоил бедолагу в достаточной степени, чтобы он открыл рот, выяснилось, что его язык стал раздвоенным – сквозь толстую плоть проходила глубокая щель.
Глядя на всё это, Раджа и глава Вараахасинд начали опасаться за собственный разум и призвали некоего волшебника, чтобы тот определил источник болезни.
Я тогда был молод, едва успел надеть ошейник при Индраджите. Впервые в жизни я был не просто Омир, роющийся на фермерском поле в поисках корней, а Омир Серв. Другие бросали это звание, точно проклятие, я же носил его как корону. Оно означало, что я больше чем картофелина, репа или свёкла, покрытая грязью. Даже раб лучше, которого до самой его смерти передают от хозяина к хозяину. Я носил железный ошейник с той же лёгкостью, с какой носят ожерелье. Он плотно охватывал моё горло от подбородка до грудной клетки. Символ моего рабского служения каждое утро полировали до блеска; он сверкал будто меч, приставленный к моей шее. Мне было запрещено вершить магию, кроме как на службе у Индраджита, и даже тогда за мной наблюдали собратья по ремеслу, словно я был обычным сапожником. Но это было лучше, чем сеять пастернак и лапать потную жену. И вот, когда меня впервые привели к Зубастому Трону, от возбуждения, после долгих месяцев скуки и напрасной траты таланта, во мне забурлила кровь.
– Омир Серв, низший из рабов, ты явился пред нами, чтобы разгадать загадку сомнамбулизма, поразившего моих людей. От скорости, с которой ты справишься с этим заданием, напрямую зависит, как долго ты проживёшь, покинув этот зал, – сурово провозгласил Индраджит, не дожидаясь вступительной речи, которую я усердно готовил.
Корона Клыков мерцала и светилась, отражая свет факелов и искажая моё зрение. Но я подумал, что, возможно, это к лучшему. Поскольку, разумеется, уже знал, что стало причиной болезни. Ведь я был мудрейшим из всех собратьев и сестёр по рабству. У меня имелось лакомство, которое можно подвесить перед этим свиным рылом, и оно позволило бы мне купить то, в чём я больше всего нуждался.
– Благороднейший из королей, – быстро заговорил я, – могу разгадать твою загадку за один миг, не обращаясь к книгам или оракулам, если ты соизволишь заплатить цену, которую я попрошу.
Я увидел, как гнев Раджи вспыхнул от подобной дерзости. Но страх одержал великую победу в битве, развернувшейся в его душе, и он кивнул, выражая согласие, которое нельзя было отменить.
– Разгадка проста. Вы убили и съели Звезду, одну из тех, кого простодушные называют богами. Её присутствие внутри вас и ваших людей пытается утвердиться, вновь приобрести форму Великой Змеи.
– И что ты просишь в обмен на эту простую разгадку?
– Свободу, мой владыка, что же ещё?
Индраджит нахмурил лоб, который стал подобен полю после бури. Когда он ответил, его голос звучал хрипло от ярости:
– Мы дали тебе своё слово, и оно нерушимо. Но за такую награду ты должен дать нам лекарство от этой язвы, чтобы покончить со злодейством, которое наша бывшая жена вершит изнутри.
Меня охватила дрожь, поскольку я не мог признаться, что подобное, вероятно, превосходило мои силы. Глупый Раджа совершил преступление, наказание за которое неизбежно. Если бы он посоветовался со мной до того, как сожрал сожительницу, я бы придумал для неё куда более сладостные пытки, в которых никого нельзя было бы обвинить. Наказания всегда вызывали у меня особый интерес.
Я быстро подсчитал. В тот момент важнее всего было дать ему что-то, некий путеводный указатель. Мой господин Индраджит находился в растерянности, не имел ни чёткого плана, ни приказов на пергаменте, подписанных чернилами, сделанными из масла раздавленных сапфиров. Он не отличался оригинальностью мысли, ему были понятны лишь планы, полные крови, причем никогда – его собственной. Учитывая такие переменные, обрисовался курс, у которого и впрямь имелись небольшие шансы на успех. И, что ещё важнее, он бы проник прямо в душу Раджи, налитую, как всегда, самым чёрным из вин, что родилось из гнилого винограда.
– Мой досточтимый лорд! Серпентина, пребывающая внутри, охвачена слепым желанием наказать мужчин, и части её бывшего тела разделены лишь сеткой из плоти. Но, если вы отправите ваше верное войско на смерть, та её часть, что находится внутри вас, уснёт и больше не проснётся, а ваше справедливое и могучее правление продолжится.
Раджа надолго замолчал и будто осел на своем громадном эмалевом троне, инкрустированном зубами многих тварей и драгоценными камнями – столь тёмными, как кровь из тайных жил покорённых. Его лицо неуловимо двигалось: произошел тектонический сдвиг черт, пока он обдумывал убийство многих людей. Я имел все основания думать, что его беспокоило не количество, а вопрос, примут ли они смиренно массовую казнь. Это были не какие-нибудь крестьяне, и лишь он знал, какая алхимия пробудила их к жизни.
Наконец, Индраджит заговорил, и его голос звучал как закрывающийся мраморный склеп:
– Пошли гонцов, Омир Серв, пусть прикажут воинам собраться в Зале голосов. На закате я обращусь к ним с речью.
Вот так, легко и просто, закончилась моя аудиенция, а моя свобода стала чуть ближе. В последний раз я ждал заката с таким нетерпением, когда был ребёнком на руках у матери и не мог совладать с восторгом, который у меня вызывали зимние фестивали и украшенные золотыми фонариками ветви деревьев.
Ночь пришла в свой черёд. Сто и сорок четыре воина прилежно собрались в похожем на пещеру Зале голосов, где шепоты усиливались до криков, пронзающих до костей. Все они явились в лучшем боевом облачении, возможно предчувствуя, что это вечер исключительной важности. Зубы вепрей болтались на их мускулистых шеях и кожаных нагрудниках, у некоторых даже пронзали ноздри и уши. Каждый был в плаще из шкуры кабана, которую вываривали и дубили до тех пор, пока она не приобретала уродливый оттенок ошпаренной розовости. Они разрисовали лица жиром и дёгтем, пропитали волосы кровью и выстроились перед Индраджитом, стоявшим на помосте. Я сидел позади него и смотрел на их грубые лица безмятежно и благоволительно.
– Преданнейшие из преданных, любимейшие из наших рабов, – начал он, простирая руки отеческим жестом, – великий страх следовал за нами по пятам, как верная гончая. Лекарство от безумия, поразившего вас, найдено, и мы пришли сюда этим вечером, чтобы принять его.
Не знаю, что он хотел с ними сделать, и уже никогда не узнаю. Воины внезапно замерли, будто сквозь них прошла чёрная молния, их мышцы сковало судорогой, лица исказились от внезапного ужаса или экстаза. Как один, сто и сорок четыре человека разинули рты невероятным образом, шире, чем положено людям. Ужасная симфония прозвучала, когда их челюсти сломались и головы откинулись назад. Я смотрел, как сто и сорок четыре мужчины заговорили одним жутким голосом, доносившимся из глубин земли, вызывая шатание гор и раскатываясь эхом под сводами холла, точно выпущенная из лука стрела:
– ТОЛЬКО ЖИВЫХ МОЖНО ИСЦЕЛИТЬ. Я МЕРТВА. ПОГЛЯДИ НА МЕНЯ, СУПРУГ МОЙ. РАЗВЕ Я НЕ КРАСИВА? РАЗВЕ Я НЕ СИЛЬНА?
Сначала Индраджит ничего не понял и, побелев как баба, кубарем скатился с трона.
– Что это за черная магия, Волшебник? Что ты наделал?
– Это был не я, ваша милость, – сказал я, запинаясь, и помог ему встать.
Тем временем беспощадный голос снова вырвался из сломанных ртов:
– ГЛУПЫЙ МАЛЬЧИШКА НА ЖЕСТЯНОМ ТРОНЕ! Я ЕСТЬ ВСЁ СУЩЕЕ. С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛ, ЧТО МЕНЯ УНИЧТОЖИТ ОГОНЬ ИЛИ ЧТО Я СГИНУ В БРЮХАХ ЭТИХ МУЖЧИН? НО ВОТ ТЕБЯ УНИЧТОЖИТЬ НЕТРУДНО.
Внезапно тела воинов жутко затряслись, их кости застучали, точно барабаны. Из раздробленных челюстей вырвался необъяснимый свет, чёрный, бледный и зелёный, как если бы сам воздух загорелся. Великолепные волны дымчатого света сплелись в громадную колонну, и, едва осколок света покидал тело одного из Вараахасинд, это тело корчилось и умирало, превращаясь в зуб, из которого он произошел. Перестук зубов, падавших на мозаичный пол, складывался в мрачное эхо, и колонна росла.
Индраджит затрясся. Теперь ему всё стало понятно, и он беспомощно схватился за живот, зная, что внутри находится последняя часть его жены: сбежать от неё было невозможно. Змея из света нависла над Раджой, безглазая, но зрячая. Он распростёрся перед ней, безмозглый дурень, и молил о пощаде. Она заговорила опять, и на этот раз её голос, уже не исходивший из столь многих глоток, напоминал тихое шипение ветра и угасающего пламени:
– Будь ты не тем, кто ты есть, я дала бы тебе целый мир.
И свет поглотил его, прошел сквозь плоть, и от этого кровь превратились в порошок. А когда свет покинул тело, осталась лишь корона, безмолвно перекатывавшаяся на троне; все её желтые клыки были дочерна обожжены.
Сам свет будто помедлил, глядя на меня; его грозная пустота сосредоточилась на моём сердце, и я на миг испугался, что меня не пощадят, хоть я и не принимал участия в ужасном пиршестве. Я застыл перед этой полуженщиной, и её взгляд длился словно тысячу ночей.
Но вот в Зале голосов появился второй свет, и про меня забыли. Белые завитки просочились сквозь витражные окна, как золотые колонны. Новый свет был таким сильным, что я не мог на него смотреть. Он заполнил зал с ковром из сломанных зубов, точно имел вес воды, которую медленно наливают в стакан. А потом он исчез так же внезапно, как и появился. Из белого дыма перед змеёй возник мужчина в белом, с бледным копьём и развивающимися за спиной бесцветными волосами. Он с нежностью открыл алебастровый рот, и маленькая тайная вспышка света прошла между ними, ласковая как звёзды весной.
Когда он сомкнул бесцветные губы, змея исчезла. Серпентина стояла на её месте, хотя и не совсем целая. Она была жёсткой и прозрачной, будто вырезанной из стекла. Крупные ониксовые браслеты в форме беспокойных змей охватывали её руки от плеч до запястий. Кроме этих массивных украшений, на женщине ничего не было, а её волосы удерживал тонкий обруч в виде единственной змеи с многоцветной шкурой. И все эти цвета казались бледными, приглушенными, словно картина, на которую плеснули водой.
Не сказав мне ни слова, бледный незнакомец подхватил её застывшее тело и унёс прочь из Зала.
Сказка Ведьмы (продолжение)
– Ты понимаешь? Если будешь молчать и ждать, в конце концов сможешь устроить миленькую месть. Меня это не интересует. Король – неотёсанный тупица, и, когда я получу от тебя необходимое, ты окажешь мне любезность, убив его и освободив меня от службы, как когда-то освободила смерть Индраджита. Строй планы в темноте, потому что, кроме неё, у тебя ничего нет.
Волшебник отвернулся от стола, держа в руке чашу с густым зелёно-чёрным напитком, по цвету напоминавшим плесневелую плоть. Он улыбнулся – такая улыбка могла показаться ласковой или горделивой на другом лице, но не на этом. Омир поднял меня за волосы, выдернул кляп изо рта и заставил выпить зелье. У него был вкус желчи и гнилых цветов – роз, видимо. Были ещё какие-то тёмные затхлые нижние ноты вкуса, которые вполне могли оказаться по́том какого-то неназываемого тела.
Когда жидкость попала внутрь меня, и в моём животе забурлило, Волшебник швырнул меня прочь и стал наблюдать с любопытством кота, глядящего на мышь, которую он вот-вот проглотит. Я кричала и царапала саму себя – жуткое золотое облако отняло у меня зрение, а моя кожа рвалась на части, как страницы его непотребных книг. Меня дважды вырвало вперемешку с испускаемыми воплями, терявшимися под каменными сводами. Он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь, стоял и смотрел, как у меня, коленопреклонённой, крадут мою кожу.
Наверное, в конце концов я потеряла сознание. Когда пришла в себя, он держал передо мной большое зеркало, и на его губах играла жестокая улыбка победителя.
В зеркале, украшенном резной рамой, я увидела высокую женщину с волосами цвета молодой пшеницы, которые ниспадали ниже талии мерцающими локонами, с большими серыми глазами, точно озёра чистого дождя, и молочной кожей без единой отметины. Я стала долговязой, груди мои были высоки и полны, не осталось и следа хотя бы от одного узла мышц – я была слабой и мягкой, как новорожденный ягнёнок.
– А теперь, – проникновенно сказал Волшебник, – мы назовём тебя Королевой. – Увидев выражение моего лица, он рассмеялся. – Ты же не думала, что я позволю моему Королю возлечь с дикаркой! Метаморфоз – моё искусство! Теперь ты красива, и он может показать тебя людям, а ты не можешь вернуться к своему народу, потому что он тебя не признает. Ты принадлежишь нам. Мы назовём тебя Хелией в честь великого солнца, которое путешествует по небу и благословляет правление нашего Короля.
– Ты не отнимешь у меня имя, раб, – негромко сказала я, касаясь волос, подобных которым раньше никогда не видела, если не считать златогривых лошадей моей юности.
– Моя Королева, я его уже отнял.
Я проводила ночи по очереди с Королём и его беззвучной жестокостью – ибо он едва ли сказал мне слово после нашей поспешной свадьбы в храме, который я не смогу назвать, когда на моей талии защёлкнули пояс из золота и нефрита вместо кольца. Похоже, Король удивился, что пояс пришёлся мне впору. Другие ночи я была связанной в комнате Омира, где он пускал мне кровь, чтобы извлечь из моих жил силу, дарованную бабушкой. Волшебник вскрывал меня серебряными и золотыми иглами, даже нелепыми шипами размером с мускулистую руку. Но они проникали недостаточно глубоко, и кровь ни разу не стала серебряной. Хотя, возможно, во мне ничего и не было. Вероятно, я была пуста, как дыра в воздухе.
Омир не слушал, когда я говорила, что во мне ничего нет, что я лишь ученица и останусь таковой навсегда; забрал у меня луну и дал только неустанно обжигающее солнце.
Каждый день я проводила в башне, ставшей моей тюрьмой. Даже когда была беременна, мне не давали возможность отдохнуть, кроме как замертво лёжа на каменных плитах и прислушиваясь к звукам моей собственной, капающей сквозь щели в полу крови.
И всё же все Королевства возрадовались, когда я родила сына, названного в честь львов из диких степей. Лишь после того как я произвела на свет наследника, мне был дарован час в день, чтобы держать его на руках и смотреть, как мои слёзы падают на его гладкий лобик.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр глядел в пустоту, его руки дрожали, во рту пересохло. Птицы смотрели на него, как на неимоверно бестолкового ребёнка, который едва научился подбрасывать мячик и ловить его, не роняя.
– Хелия? – прошептал он.
– Я думала, ты догадаешься раньше. Как бы там ни было, все откровения, в конце концов, оказываются разочарованиями. Ты думал, тебя случайно ко мне занесло? Только свернул за угол, а тут я. Ты ведь предполагал, что успеешь пройти куда больше, прежде чем встретишь Ведьму? Все эти годы я ждала у границы, до которой мог дотянуться твой отец; знала, что мой сын не может всю жизнь просидеть в Замке и даже не попытаться вырваться на свободу. Я всю себя посвятила этой мысли, будто мастерила лук, чтобы пускать стрелы в твою сторону. Впрочем, я не думала, что, придя сюда, ты первым делом убьешь свою сестру.
Возможно, лишь в этот миг Леандр понял истинный смысл истории Ведьмы, и преграда на пути его слёз лопнула, как паутинка на ветру. Он не на шутку разрыдался – за сестру, и за мать, и за отца, о чьих преступлениях не догадывался.
– Но я могу её вернуть! Ведь я принёс шкуру…
– Да-да, сын мой, подожди. Ещё не время, и я не всё рассказала. – Она неуклюже потянулась, чтобы прижать Принца к себе: объятия Нож были странными и неумелыми, так тигр мог бы обнимать морского котика. Она прошептала ему на ухо голосом трескучим, словно шелест камышей:
– На твой первый день рождения твой отец устроил великий праздник. Частью пиршества должна была стать чистка тюрем – ещё живых пленников, изголодавшихся точно олени в конце зимы, собирались казнить: всех несчастных, кто остался из моего племени.
Меня, разумеется, ни на пир, ни на казнь не пригласили…
Сказка Ведьмы (продолжение)
Двор сиял как огромный пирог, покрытый глазурью, и тебя передавали сотню раз с плеч на плечи, целовали тысячи ртов, в то время как я лежала в башне, обездвиженная золотыми путами. Но, когда ночь сделалась полна, словно парус, и все выпили вина столько, сколько ненасытные козлята сосут молока из своей бородатой мамочки, я перерезала верёвки острым камнем и, спрятав грубое лезвие в платье, выбралась из башни, вниз по знакомым ступеням, в последний раз спустилась во тьму темницы, где родилась Гнёздышко.
Они в ужасе глядели на меня из своих клеток. Я была для них чужачкой, уродливым вурдалаком всех оттенков золота. Мне пришлось их уговаривать, объяснять, что я вовсе не Королева, а их знакомая Нож, и, как полагается ножу, я отпущу их на свободу. Они не верили. Одетый в лохмотья ребёнок, который жевал сырое мясо и гонялся за воронами, чтобы добыть их перья, не мог быть наряженным в шелка и пахнуть фиалками, выросшими на мягком мху. Они спросили меня, как отличить следы оленихи от следов оленя и сколько диких кошек я убила до замужества, как звали мою бабушку и обеих моих сестёр.
Я ответила на все вопросы и один за другим сломала замки. Соплеменники сели вокруг меня, трясясь мелкой дрожью, точно стая диких птиц. Их осталось около сорока из многих сотен воинов.
– Я не могу допустить, чтобы вы завтра пошли под королевский топор, как скот. И могу выкупить ваши жизни куда по лучшей цене, чем эта. Только вот… я не уверена, что у меня получится. Волшебник резал меня, но ничего не нашел. Я не знаю, но попробую. Сядьте ближе, чтобы я могла дотянуться до любого из вас…
Они сдвинулись со всех сторон: запах их пота и умирания проник в меня, будто медленный яд. Все эти лица с заострившимися скулами, глаза и костлявые пальцы, хватавшиеся за меня! Они не знали, к чему тянутся, но понимали, что тянутся к их Ножу и спасению.
Я закрыла глаза и сердцем своим обратилась к Чёрной кобыле, породившей звёзды в начале мира. Молила её дать мне силу, на которую у меня не было права, и свет, который не был моим. Я медленно подняла острый камень и вонзила его себе в грудь, прорезав кожу и добравшись до живого мяса так глубоко, как только могла вынести. И потекла кровь, красная и тёмная, но не серебряная.
Я резанула ещё глубже, толкая камень внутрь себя, пока он не оцарапал кость. Я закричала, и мой голос эхом отразился во тьме, эхом от эха всех моих криков при рождении дочери и тех, что я испустила, позволив ей уйти.
Что-то бледное закапало из меня: маленькие капли, подобные жемчужинам. Они совсем не походили на сокровища света моей бабушки, и всё же свет был на дне моего тела.
Племя сгрудилось вокруг меня, словно лишь моё тело могло их согреть, я наклонилась и показала им, что надо вкусить эту жидкость, сосать из меня жизнь, как умирающий в пустыне сосёт кровь своей лошади, чтобы не погибнуть.
Каждому досталось по капле, а я становилась всё слабее, потому что сорок мужчин и женщин могут выпить много, особенно если они испуганы. В полуобмороке, с трудом держась на ногах, я присела на корточки среди них, по одному брала их хрупкие тела в руки и переделывала, как когда-то бабушка, словно глиняных кукол на каменном столе.
Они менялись медленнее, чем Гнёздышко, потому что я была очень слаба и потому что у меня не было света из пещеры, от звёзд. Но выросли большие серебряные крылья, губы превратились в клювы, а ноги исчезли под бледными перьями. Один за другим мои родичи вскакивали и протискивались между прутьями оконной решетки, летели в ночь, подсвеченную праздничными огнями, и брали луну под крыло, приветствуя звёзды криком.
А я сидела в сырой темнице, всхлипывая и смеясь; моя кожа горела от света, руки простёрлись к ним, понуждая их лететь всё выше и выше.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр почувствовал жар и вес десятка чёрных взглядов на себе. Дикие гуси, соткавшие из своих тел одеяло для его матери, смотрели на него, лишая самообладания; их глаза были полны секретов. Нож погладила длинные шеи.
– Остальное ты знаешь. Меня наказали: тебя забрали и отдали горничной, а она сбежала и не увидела, что произошло у костра. Когда меня оставили гореть, пришла моя стая и, не убоявшись огня, освободила меня, унесла в Лес. Бедняги – они совсем не помнили себя в пернатых телах; не понимали, зачем ныряют в огонь. Некоторые из них погибли, но сделали это. Они просто знали, что любят и не могут жить без меня. В конце концов мы снова одно племя.
Леандр закрыл глаза, не в силах вынести взгляды длинношеих созданий.
– Мы подошли к сути, сын мой, – сказала она, скрестив руки на широкой груди. – Я предупреждала, что ты можешь предпочесть смерть предложенному мной спасению. Я не смогла отомстить за своих людей, лишь спасла им жизнь. Ты должен добиться большего. Когда нож войдёт в грудь твоего отца, я удовлетворюсь, а ты будешь прощён. Поклянись мне в этом!
Принц почему-то думал, что её цена будет ужаснее, не отразит и без того горячего желания отомстить за птичью хижину. Он не колебался ни секунды и почувствовал облегчение от того, что наконец может что-нибудь для них сделать. Леандр обнял мать, вдыхая её дикий острый запах, ощущая под руками толстые кости. После всего услышанного он не мог принести иной клятвы и пробормотал, что согласен. Нож похлопала его по спине и оттолкнула.
– Что ж, думаю, луна уже взошла, и ты можешь завернуть бедную сестричку в шкуру, чтобы она вновь стала целой. Не забудь, что шкуру надо наложить кожа к коже, иначе всё зря. Вяжи крепко, ибо ей придётся пробиваться наружу собственными усилиями, иначе никак.
– Это магия. Тебе стоит этим заняться, не мне.
Ведьма хрипло закашлялась и сплюнула:
– Я и займусь. Я её мать. Твоё дело – трава и листва, мальчик, а моё – кровь.
В Саду
Мальчик уставился на девочку, чьё лицо обрамляла россыпь белых звёзд, что стелились по небу как небесная пена. Её глаза были закрыты; она была очарована собственным голосом, который двигался вперёд-назад по его коже, будто смычок по струнам скрипки. Если бы она приказала ему отрастить крылья точь-в-точь как у Гнёздышка и вылететь из башни, он бы выпрыгнул из окна, лишь бы она не переставала говорить.
Завороженный закрытыми глазами и водопадом тёмных волос, мальчик вновь осмелился лечь рядом с ней на широком каменном подоконнике и положить голову ей на колени, точно молодой лев, поддавшийся укротителю.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр смотрел на труп своей сестры, который за время его странствий ничуть не изменился и не поддался гниению: кожа была по-прежнему бледной, а серебристо-блестящие волосы остались безупречными и прекрасными. Его руки коснулись её тела, и оказалось, что оно холодное, но не окоченелое.
Принц завернул сестру в алую шкуру, как велела мать. Он позаботился о том, чтобы скрестить ей руки на груди, и свернул волосы, чтобы они не приклеились к шкуре. Согнул её ноги и протянул под ней красную ткань. Когда спрятал последний уголок, вся кожистая штуковина оказалась жесткой и круглой, словно яйцо, и на летней траве она светилась, как зловещая звезда. Леандр рухнул у ствола узловатого дуба, весь мокрый от пота.
Нож опустилась на колени на тёмную траву, положив рядом с собой что-то, завязанное в узел. Её суставы трещали, как окна, открытые зимой. Она погладила яйцо и прижалась к нему, обняла и что-то ласково проговорила. Потом закрыла глаза, и принцу на миг показалось, что старуха плачет, – но, конечно, этого не было.
Она вытащила длинный нож из одного из чехлов на поясе и положила его на колени. Вгляделась в отражение луны на металле.
– Шкура хорошая, мой мальчик, ты отлично справился. Но она её не убила, так что недостаточно лишь завернуть тело и ждать пробуждения. Недостаточно! Раб так и не смог нанести достаточно глубокую рану, а я добралась до нужной глубины лишь однажды. В этот раз я за всё отплачу – заберусь достаточно глубоко, чтобы вернуть её назад; достаточно глубоко, чтобы заполнить её скорлупу звёздным желтком; достаточно глубоко, чтобы моя девочка вернулась домой.
Поначалу Леандр не сообразил, о чём она, – как все принцы, он с неохотой уделял внимание тому, что не лежало перед ним, разборчиво написанное чернилами трёх разных цветов. Но, когда Ведьма подняла лезвие, он всё понял и рванулся вперёд, чтобы остановить её, но она была быстрее и вонзила нож себе в грудь до того, как сын успел схватить её за руку.
– Достаточно! – рявкнула она и одним жутким движением вскрыла свою грудную клетку прямо над алым яйцом. Кровь хлынула на шкуру, тёмная как темница, точно гусиный глаз. А потом он пришел, тот самый свет… Сначала по капле, потом тонкой струйкой, просачиваясь в яйцо, будто сметана в сосуд. Оно побелело от кровесвета и засветилось, будто лампа. Нож рухнула на скользкую поверхность и сползла на траву; её тело было пустым, как дыра в небе.
Вскоре свет полностью впитался в шкуру, и она опять стала тёмной и красной на погруженной в тень траве. Через несколько мгновений из скорлупы послышались жуткие звуки, царапанье и плач, тяжелое, постепенно ослабевавшее дыхание. Леандр хотел разломать яйцо, упасть навзничь и оплакать свою мать. Раздираемый желаниями, он ничего не сделал – лишь стоял как вкопанный и беспомощно наблюдал.
С громким треском, будто сломалась дворцовая колонна, сквозь скорлупу пробилась белая рука и вцепилась в скользкую поверхность. Затем появилась девушка с волосами, унизанными осколками багровой скорлупы, мокрая и блестящая от жидкости, что была внутри яйца. Она выбралась, работая болезненно тонкими руками и ногами. Ступив на траву, девушка заметила свою изящную ступню и застыла. Она вытянула вперёд руки и уставилась на них. Потом заметила стоявшего под деревом Принца.
Гнёздышко открыла свой человечий рот впервые и закричала так громко и страшно, что соловьи замертво попадали с ветвей.
Она всё кричала и кричала, её грудь часто подымалась и опускалась, крики заполнили ночь. Леандр поспешил к ней, и она безвольно повисла в его объятиях, продолжая смотреть на свои руки. Он подумал, что девушка не может говорить – ей ведь не знаком ни один язык! – и принялся ласково шептать, что всё в порядке, она в безопасности, и он её брат. Когда она стала вырываться на свободу, Принц обвязал её тонкую талию остатками шкуры, на манер дамского кушака. Она полоснула его ногтями, что-то невнятно протараторила и снова закричала. Лишь увидев тело Ведьмы, девушка смолкла и потянулась к нему. Продолжая поддерживать хрупкую сестру, он помог ей подползти к неподвижной старухе.
Гнёздышко рвалась к Нож, не умея толком ходить и выкрикивая единственное слово, по которому Принц понял, что она умела говорить. И не только говорить. Заклинание тут было ни при чём: она сохраняла разум в птичьем теле с первого дня жизни.
Гнёздышко упала на грудь Нож, всхлипывая и повторяя хриплым голосом:
– Мама, мама, мама…
Они лежали рядом на сырой земле, Нож не просыпалась.
Гнёздышко тоже не желала двигаться. Она запустила пальцы в волосы матери, а Леандр запустил пальцы в её волосы. Дикие гуси по одному выпрыгивали из дверей старой хижины и, переваливаясь, шли к Нож и остаткам шкуры-яйца. По одному они клали жемчужно-серые головы на её тело, каждый находил себе место на её ещё тёплой коже. По одному гуси закрывали глаза, не желая расставаться со своей хозяйкой в самом конце. Нож будто парила среди моря крыльев, смерть очередной птицы всякий раз забирала у Леандра и Гнёздышка то, что могло бы напоминать им о матери.
Леандр отпустил руку сестры и развернул узел, лежавший рядом с телом, недавно бывшим ведьмой по имени Нож. Внутри он нашел краюшку хлеба, бугорчатую и странной формы, с коркой уродливого красноватого цвета. Она была не свежая и внешне не производила впечатление вкусной, но Леандр понял – это тот самый хлеб, замешанный его изувеченной рукой на его крови и слезах, что никак не могли остановиться. Он с самого начала был создан для этого утра. Разломив краюшку пополам, Принц обхватил дрожащую, ошеломлённую Гнёздышко и начал медленно проталкивать маленькие кусочки хлеба сквозь её трясущиеся губы. Она кривилась, но глотала, словно умирала от голода. Он тоже съел немного. Вкус был странный, на языке осталась горечь.
Через какое-то время они покинули мать и ушли навстречу лунному свету.
Гнёздышко стояла у ручья и мыла свои новые руки – мыла так, что они кровоточили. Брат подошел к ней и осторожно взял её ладони в свои. Они были липкими от крови, бежавшей струйками, а взгляд у неё был безумный.
– Гнёздышко, ты ранишь себя. Нам нужно идти в Замок. Если повезёт, проберёмся внутрь сегодня ночью.
Девушка яростно затрясла головой – на тёмных волосах ещё виднелся серебряный кровесвет, и она казалась старухой с сединой в чёрных кудрях. Голос Гнёздышко был как испорченный камертон, точно арфа, разбитая в щепки на пустом берегу.
– Я. Не. Пойду. Не туда. Не в гнездо.
– Нож просила нас…
– Мать!
– Мать просила нас, взяла с нас слово.
– С тебя.
– Ладно, она взяла слово с меня. Значит, пойду я. Ты бросаешь её теперь, раз она умерла? Это мой отец – не твой. В чём дело?
– Бросаю её? Бросаю? – Она ударила себя кулаком в грудь. – Моя мать! Моя стая!
– Да, но моя стая ведёт себя так. Стая принцев. Нам нужны Подвиги. Мы даём обеты. И иногда убиваем Королей. Это наш долг.
– Не мой. Ты не мой птенчик. Не мой долг. – Она выплюнула последнее слово, выхаркнула его откуда-то из глубины своего тела. Посмотрела на брата, окинула его взглядом с головы до пят. Немного успокоилась, собралась с мыслями. – Ты один, – прошептала она. – Я одна. Мать была одна. Ничего не меняется. Я тебе расскажу почему. Когда я была не я. Когда я летала…
Сказка Гусёнка
Ночь за ночью под луной я умирала от голода, одна, без стаи. Я помнила мать и знала, что я не-птица. И всё-таки очень хотела есть; даже думать не могла, так меня мучил голод. Рядом с гнездом были Соколы. Рабы-охотники. Я полетела за ними, подбирая то, что выпадало из их клювов. Они кричали на меня из-под кожаных масок, кровавили мне крылья, пытались выцарапать глаза. Я была не такая, как они. Не их долг. Я ещё не умела хорошо летать, но училась. Я следила за чайками, скворцами, дятлами-сокоедами и колпицами: от них научилась и пикировать, и делать виражи, и ускоряться, и приземляться.
Никаких слов – только полёт и ветер вместо матери.
К Воронам отправилась я, они не приняли меня.
К Воробьям отправилась я, они не приняли меня.
К Ястребам отправилась я, они не приняли меня.
К Орлам отправилась я, они не приняли меня.
Я была одна. Все гуси улетели на юг; никого не осталось, чтобы взять меня с собой. Нет стаи – нет еды. Я была совсем маленькая, а странствия увели меня далеко от гнезда. Я спала в дуплах, на ветру с восточной луны, мёрзла и боялась, боялась Соколов и теней, что прятались в гнезде. Кричала во сне и тихо плакала.
Однажды утром, когда мне исполнился… год? Два? Время для гусей течёт по-другому. Пернатый великан, размером больше Сокола, нашел меня на дереве, где я прятала голову под крыльями. Он взъерошил мои перья своим тёплым клювом, и я осмелилась посмотреть ему в глаза. Они были красные, оранжевые, белые – цвета огня.
– Почему ты плачешь, малышка? – спросил он, и его голос был подобен солнечному отблеску на крыле.
– Я одна, – ответила я и задрожала, испугавшись больших бронзовых когтей.
– Я тоже, – сказал он. Перья у него были такие же, как глаза, – цвета углей и языков пламени, пожирающих зелёные ветви, а хвост напоминал золотой водопад. – Если хочешь, можешь пойти со мной, тогда мы оба будем не одинокими. Я научу тебя ловить кротов, когда они выбираются на солнце; воровать вишни из сада так, чтобы тебя не подстрелили, и покажу источники с чистой водой, которые не охраняют собаки.
Я вдохнула холодный воздух – но исполин был тёплый, как трескучий огонь в очаге, и мои перья больше не дрожали от холода. Я была голодна и не знала, что такое вишня; перебирая перепончатыми лапами, выбралась из дупла на ветер.
Мне было нечего сказать. Я знала лишь о червях и кусочках мяса, которые роняли Соколы, и о том, что в некоторых дуплах живут другие птицы. Огненнокрылый прочистил горло.
– Ты, наверное, не просто одна, а заблудилась, – вежливо заметил он.
– Да… наверное. Кажется, когда-то у меня была мать, и она отослала меня прочь, но я мало помню. Ищу таких, как я. Соколы клюют меня, вороны обзывают. Я не нашла никого с серыми перьями, перепончатыми лапами и длинными шеями.
– Ну что ж, – с серьёзным видом сказал птица, – тогда вдвойне важно, чтобы ты научилась воровать, иначе умрёшь от голода, прежде чем отыщешь своих серокрылых, перепончатолапых и длинношеих собратьев. Тебе повезло, ты повстречала Жар-Птицу. Они – лучшие из всех птиц, а я – лучший среди них. Ты лишь ребёнок, и за тобой надо приглядывать хотя бы до той поры, пока не наступит лето и не вернутся гуси. Потому что ты, птенчик мой, гусыня. По крайней мере, мне так кажется. Я вообще-то раньше ни одной гусыни не видел. Не переживай, серокрылая малышка, я научу тебя всему, что нужно знать, и расскажу о том, как совершил свою лучшую кражу…
Сказка Жар-Птицы
Зови меня Фонарь – и не смейся! Я всегда был ласковым, и моя мать решила, что лучше назвать меня в честь маленького огонька в стеклянном сосуде, а не в честь пламени, пожирающего деревья, детей и житницы. Обычно Жар-Птицы не склонны общаться с себе подобными, но я любил свою семью и оставался в гнезде намного дольше прочих гордых алых селезней.
Я был ласковым – и при этом лучшим вором в стае: мог схватить мельчайшее горчичное зёрнышко с ладони принцессы, и она бы заметила пропажу, лишь возжелав посадить его в своём саду. Однажды, когда моя кузина высиживала кладку из восьми оранжевых яиц – немаленькую! – в своём гнезде из пепла и жаловалась на то, как ей хочется вишен, чем ярче, тем лучше, меня попросили раздобыть их, пока сёстры не заклевали её до смерти, исстрадавшись по тишине. Вишни! Только особенные, сладкие и блестящие, могли насытить мать восьмерых.
Я любил свою кузину, хоть её карканье и резало слух… Но разве у наседки нет права желать странного, когда она в гнезде и на яйцах? Я полетел разыскивать ягоды.
В одном отдалённом краю, среди пустыни, жила сахиба, которую в те времена звали Равхиджа; её сады были так же знамениты, как и её красота. Она посвящала всё своё время уходу за деревьями, которые рано или поздно начинали плодоносить; плоды были без единого изъяна или пятнышка, один слаще другого, блестящие и тяжелые. Я назвался умелым вором, но ещё никто не сумел забраться к Равхидже, чей ум был не менее знаменит, чем сады. Именно её вишен возжелала моя кузина, и я решил, что стану первым, кто сумеет сделать невозможное.
Ни мой размер, ни цвета не позволяют назвать меня незаметным. В моей профессии это помеха, но я справляюсь, как могу. Как только солнце втянуло свои тёмно-голубые когти и последняя вспышка верного света скрыла моё оперение от любого случайного взгляда, я легко перепрыгнул низкую кирпичную стену. Мой хвост волочился по мягкой красной почве, пока я крался, то перепархивая, то переступая лапами сквозь ряды деревьев, выискивая одно достаточно яркое, чтобы можно было спрятаться. Там росли деревья хурмы, яблони, лаймы и пеканы, гранаты, инжиры, апельсины и танжерины, груши и абрикосы, авокадо, точно жирные изумруды, и сливы, как пурпурные кулаки. Все плоды чуть не лопались от сока, прячась в блестящей зелёной листве, полностью созрели, хотя, безусловно, никак не могли появиться одновременно и рядом друг с другом. Ведь одни растения предпочитали мороз, другие – полыхающее небо. Вишни, вот они – здоровенные, будто гигантские костяшки, и краснее моих собственных перьев! Я сорвал их множество, пока шел, и придержал в своём зобу как аистиха, отбирающая рыбу для птенцов. Потом взлетел и схватил лучшую ягоду, не потревожив потолок из листьев и оставшись необнаруженным. Я был золотой искрой среди зелени, быстрой как мысль. Мне это даётся легко – дело привычки. Обещаю, кулёма, ты тоже этому научишься!
Но я должен был отыскать место, где можно спрятаться до тех пор, пока снова не станет темно и не удастся перепрыгнуть через стену, не привлекая к себе внимание Равхиджи. Для этого подходили лишь некоторые деревья – у Жар-Птицы, увы, необычное оперение. Но судьбе было угодно, чтобы в самом центре сада обнаружилось самое удивительное дерево из всех, что мне доводилось видеть. Оно было создано для меня, подходило по цвету и плодам, будто я вырос среди его ветвей и улетел вместе с ветром однажды осенью – так давно, что всё забыл.
Это было тыквенное дерево. Точнее говоря, я счёл его таковым, хотя все другие известные мне тыквы росли на лозах, стелившихся по земле. Стволом ему служила тёмно-оранжевая горлянка, изогнутая спиралью, с толстым основанием, из-под которого высовывались золотые корни, и тонкой верхушкой; кора была изрезана глубокими бороздами, уходившими до самого верха. Тут и там имелись ветви, желтые с бледно-зелёными кончиками, каждая толщиной с талию. Всё дерево опутали красно-золотые лозы, с которых свешивались массивные тыквы, будто лампы, и каждая светилась, словно там и впрямь жил маленький огонёк. Это был праздник, блиставший посреди сказочного сада, как танцовщица в толпе безвкусно одетых женщин, не способных двигаться под музыку.
Я полетел к нему, как летят навстречу любви. Это дерево спрячет меня, убережет: настолько яркое, что в его кроне я стану маленьким коричневым воробьем. Оно горело почти как полыхающие деревья моей пустыни, но его свет был нежным и мягким, и само дерево не сгорало. Ни один садовник не обнаружил бы меня среди этого золота. Я в благоговении обошел дерево по кругу, а потом взлетел к мясистой вершине. Но вдруг меня пронзила жуткая боль, от которой я кубарем полетел с безупречных ветвей. Я испугался, что настал конец, меня пронзил какой-то жуткий трезубец. И я упал – какой позор для Жар-Птицы! – прямо в переплетение мерцающих корней. Когда перед глазами прояснилось, я увидел перед собой две безупречные ножки, зелёные, точно молодые побеги.
Равхиджа наклонилась ко мне, вертя в изящных пальцах длинное рубиновое перо с каплей тёмной крови на кончике стержня.
– И зачем же тебе понадобились мои вишни, милый попугайчик? – сладким голосом спросила она.
Равхиджа выглядела в точности как тыквенное дерево. Её волосы ниспадали до щиколоток витыми шнурами, мясистыми и оранжевыми, а одежду заменяли широкие припорошенные пылью листья, которые покрывали каждый дюйм тела, обрамляя лицо. Оно было красное и блестящее, точно рассечённая тыква.
– Почему ты пошел на такой риск ради нескольких вишен? Ведь их можно купить где угодно. Зачем ты пришел воровать у меня?
Я покраснел, насколько это возможно для Жар-Птиц, и без того наполовину багровых.
– Моя кузина жаждет этих вишен. Представь себе, она сидит на кладке из восьми яиц, а твои плоды знамениты. Конечно, я мог бы их купить, но тогда был бы лишён возможности похвалиться.
Волшебный лоб нахмурился, и Равхиджа выпрямилась, всё ещё держа моё перо в опущенной руке. Я неуклюже поднялся, а она поглядела сквозь зелёные ресницы на великолепное дерево. Она так стояла долго, будто они с деревом о чём-то тайно беседовали. Наконец заговорила, и её голос был как мёд с перцем или густой сладкий сок:
– Если верить слухам, раз я взяла перо из твоего хвоста, могу отдавать тебе приказы. Это и впрямь так?
Разумеется, она всё знала. Удача была не на моей стороне.
– К несчастью для меня, да.
– Что бы ты сказал, уточка моя, если бы я предложила сделку, а не просто начала тобою распоряжаться?
– Зачем тебе это делать, если ты знаешь, что я не смогу отказать? – спросил я, всё ещё чувствуя дурноту после утраты пера.
Равхиджа улыбнулась – её зубы тоже были бледно-зелёными, цвета грушевой кожицы.
– Это всё манеры, вежливость. Честь! Дело в том, что я – в отличие от некоторых – склонна добывать желаемое путём справедливого обмена, а не с помощью жульничества. Сорняк берёт то, что ему не принадлежит, и производит лишь новые сорняки; яблоня берёт то, что ей дают по своей воле, и возвращает сидр, пироги, пирожные и варенье.
Я хотел возразить, что нет вины сорняка в том, что его семя ветром занесло в яблоневый сад, и вообще существуют растения, чья полезность никоим образом не связана с пирогами. Но передумал.
– Что ж, – сказал я, вычищая грязь из крыльев, – о чём речь?
– Ты получаешь любой из моих фруктов в обмен на тот, которого у меня нет.
Тут я насторожился, мои оставшиеся перья встопорщились от интереса.
– Мне придётся его украсть?
Она засмеялась, её наряд из листьев зашелестел.
– Боюсь, ты можешь оказаться прав. Но по крайней мере ими никто не владеет, так что кража будет таковой лишь по названию – в том смысле, что, собирая фрукты с дерева, ты его обкрадываешь. Мне нужны семена иксоры, которые похожи на вишни, так что я не буду возражать, если ты возьмёшь несколько настоящих вишен для своей кузины. Иксоры растут в пустыне под названием Пороховая бочка, их ветви горят днём и ночью. Но я думаю, что для тебя это не проблема.
– Нет, моя госпожа, – ответил я с усмешкой. – Ещё не зажегся огонь, что сможет мне навредить.
Я не хотел говорить Равхидже, что знал об иксорах всё, так как родился в их обжигающей тени и что именно на пепелище одного из них меня ждала кузина.
– Ты согласен на сделку?
– Да. Ты отдашь мне перо, раз мы теперь стали хорошими друзьями?
Она посмотрела на длинное красное перо, потом снова на дерево.
– Нет, – медленно проговорила она. – Я предпочитаю честный обмен, но не стоит полностью доверять вору. Ты получишь его назад, когда я получу свой фрукт.
Я поскрёб когтистой лапой землю у золотых корней. Попался так попался!
– Тогда мне стоит отправиться в путь, пустыня далеко. Но должен заметить, прежде чем улечу, что никогда не слышал о тыквенном дереве, ни в одном уголке мира. Поскольку всем известно, что тыквы растут на лозах, я подозреваю, что ты сотворила злое колдовство, чтобы превратить одну такую лозу в дерево, – значит, мне тоже не стоит тебе доверять.
Равхиджа снова прислонилась к необычному, хотя и симпатичному на вид, дереву и широко ухмыльнулась. У меня на глазах – я не лгу тебе, маленькая гусыня, – она наклонялась всё сильнее, пока оранжевый ствол не поглотил её целиком, так что лишь зелёные пальцы остались снаружи.
– Я собираю редкие вещи, – раздался её голос, чуть приглушенный мякотью ствола, – потому со мной произошла неприятность.
Голова Равхиджи вновь появилась среди высоких ветвей, и она понемногу выбралась – длинные жгуты её волос натягивались, прежде чем с чпоканьем выскочить на свободу и упасть почти до земли. И вот она удобно устроилась на ветке, между двумя совсем маленькими тыковками.
– Видишь ли, – сказала она, вздыхая, – когда становишься знаменит благодаря разнообразным товарам, к твоим дверям начинают приходить очень разные люди. Они требуют удовлетворить их просьбы, какими бы ужасными те ни были.
Сказка Садовницы
Я дерево.
Впрочем, с той же лёгкостью можно сказать, что это дерево – я. Я родилась, когда дерево, что росло до него, уронило в землю семя; я открыла глаза под землёй и ею питалась, она была моим пирогом и вареньем. Ещё была чудесная вода, сочившаяся сквозь землю, как мёд сквозь сито. Меня всё время мучила жажда.
И вот однажды я проросла зелёным листочком, развернула его, точно открыла дверь, и вышла навстречу солнцу ребёнком, похожим на любого другого ребёнка. Но я по-прежнему спала внутри дерева по ночам, пока оно росло и пока я росла. Мы возлюбили друг друга, как конечность торс, и были счастливы вместе.
Однажды мимо кирпичной стены шел бродячий торговец с мешком, полным чудес на продажу. Я подбежала к нему – раньше никогда не видела людей – и спросила, как его зовут, из какого он города, чем занимается, сколько у него братьев и сестёр и прочие вещи, которые любопытный ребёнок желает узнать о незнакомце. Он был очень добр и предложил мне перебраться через стену, чтобы поглядеть, что он продаёт. А продавал он семена.
Яблони, хурма, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики и вишни – всё, что можно себе представить; а я уж точно и помыслить о таком не могла. Я хотела перейти через стену, как некоторые стремятся отправиться на войну, а кто-то – к женщине. Но у меня не было денег, я ведь росла деревцем и проросла недавно. Торговец пожалел меня, маленькую неряху с оранжевыми волосами и зелёными зубами, нищенку, у которой было лишь несколько акров пустой земли. Он присел, так что наши лица оказались вровень, и сказал, что, если я отправлюсь вместе с ним торговать, чинить, менять и делать прочие вещи, которыми занимаются путешественники, он станет платить мне один грош в месяц, купит настоящее платье и у меня будут все семена, какие только пожелаю.
Я решила, что это прекрасный план, перепрыгнула через стену, точно шустрая галка, и рухнула замертво.
Я не умерла, но это не имеет значения. Когда я пришла в себя, уже была глубокая ночь, и торговец перенёс меня обратно за стену, уложил на чахлую траву и сунул мне в руку мешочек, битком набитый семенами.
Мне не суждено было пересечь стену, как дереву не суждено вытянуть корни из земли и отправиться на телеге в другой лес. Неприятное открытие… Я была любознательна, как любое дитя, но мир за кирпичной стеной оказался для меня недосягаем.
И тогда я его вырастила. Яблони, хурму, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики. И конечно, вишни. Всё, что ты можешь себе представить, и многое из того, что я не могла представить себе. Времени у меня было достаточно – деревья живут долго. Я изучила ирригацию и аэрацию, трехчастное поле и целину, удобрение и обрезку, науку прививания. Всё это время тыквенное дерево росло и плодоносило, и, если я подкармливала его мякотью другие деревья, они начинали плодоносить круглый год. Акры запустевшей земли превратились в лес и самый прекрасный на земле сад, и в самом его сердце стояло дерево, которое суть я, и я, которая суть дерево. Все мы росли вместе и были счастливы.
Потом к нам стали приходить люди. Это были не добрые торговцы с мешками семян для маленькой грязнули. О, некоторые были достаточно добры, выпрашивая корзину груш или бушель фиг для тех или иных целей. Но зачем мне деньги, если я пью дождь и питаюсь землей? Наконец они вынудили меня начать торговлю. Фрукты в обмен на семена – если у них получалось принести мне то, чего в моём саду не было, я давала им всё, чего они хотели. Мой сад сделался ещё пышнее и красивее, появились и новые гости. Они рассказывали мне о мире, а я запоминала каждое слово, как усердная ученица.
И вот трижды две недели тому назад к моей стене пришел человек. Он мне сразу не понравился, но разве может дерево судить о людях по внешнему виду? Дуб может быть кривым, но сердце у него всё равно доброе и полное сока. Его волосы напоминали железо, кожа – кору лещины; одежды были ярко-красными, будто малиновка, что чирикает на яблоневой ветви. А шея бледная, синеватая, словно она не знала солнца с того момента, как он появился на свет из материнской утробы.
– Доброго тебе дня, Равхиджа, – сказал он и поклонился. Я к тому времени давно перестала удивляться, что всякие незнакомцы знают меня по имени. – Я пришел с длинным списком.
Я упёрлась ладонями в бёдра, на которых росло моё собственное красивое платье, хотя, должна признаться, иной раз с тоской вспоминаю муслин, обещанный торговцем.
– Если тебе есть что предложить на обмен, я постараюсь отыскать то, что тебе нужно.
– В этом всё и дело. Видишь ли, я пришел не торговать, а заявить о своих намерениях. Зачем отказываться от того, что тебе принадлежит по праву, если можно просто взять желаемое? – Он щёлкнул пальцами, и над его ладонью появился синеватый огонёк, который потрескивал и шипел. – Думаю, дереву хватит и такого объяснения. Никто из нас не хочет жертвовать собой. Впусти меня.
Разве у меня был выбор? Он бы сжег всё дотла или, если ему была известная моя природа, перетащил бы меня за стену и в любом случае всё разграбил. Я провела его по саду, как если бы он был хозяином, хотя ничья нога, кроме моей, ещё не ступала по этой земле. Я попыталась дать ему всё по списку – очень странному списку, в котором имелось множество трав и фруктов, коры и сока, даже образцов почвы. У меня было почти всё: слава моя родилась не на пустом месте.
Но последний пункт, ох…
– Думаю, понятно, что иксоры у меня нет, – прошептала я, избегая взгляда незнакомца и сторонясь танцующего пламени в его руке. – Ты бы почуял запах дыма, если бы оно у меня росло.
– Но мне сказали, что у тебя есть всё, что растёт под солнцем. Мне нужна иксора, без неё остальное бесполезно.
– Зачем тебе всё это? – жалобно спросила я, стараясь не плакать.
– Дорогая моя госпожа, я Волшебник. Хватит и того, что мне это требуется. Некоторые рождаются с магией, которая бьется внутри них, как муха, пойманная в стакан. Другим так не везёт.
Сказка о Мальчике, который нашел Смерть
Я давным-давно понял, что лучше быть Волшебником, чем не быть им. Лучше запереться в комнате, похожей на кухню, и заварить себе новый мир в стеклянном сосуде, чем ковыряться в грязи ради жалких корнеплодов или таскать молоко, надоенное из костлявых тёлок, и чесать щёки, пока они не станут красными, как свежее мясо.
Видишь ли, я никак не мог перестать чесаться.
С самого рождения кожа всё время слезала с меня бледными чешуйками, будто я вот-вот сброшу её целиком, и это было очень больно. И чесание на самом деле не помогало, но я не мог остановиться и царапал руки, грудь, шею, щёки, даже веки – на мне не было ни единого места, которое не полыхало бы от зуда.
Люди охали, увидев меня, – мальчика, с которого слезала кожа, и её тонкие лохмотья развевались, словно бумажные ленты на суровом ветру. Доктора, ведьмы и даже волшебники приходили один за другим, но никто не смог охладить моё полыхающее тело. Наконец мать завернула меня в пелёнки, привязала руки к доскам, чтобы я не мог чесаться, и прислонила меня к влажной стене погреба. Там я и рос; кормили-поили меня с ложечки морковным пюре и морковным супом; морковкой на пару, печёной, сырой, жареной и сушеной; хлебом с морковной корочкой и чаем из цветов моркови. На наших полях росла только морковь, и дни мои были заполнены оранжевыми корнеплодами, которые испуганная мать ложкой засовывала в мой шелушащийся рот.
Я висел на своих досках, и по моей коже будто ползали мурашки. Дыхание стало неглубоким и быстрым, мне всё время не хватало воздуха. Став юным мальчиком, я по-прежнему висел на стене, как портрет самого себя; моя кожа затвердела, превратившись в подобие чешуи, все волосы выпали, но зуд и жжение не прекратились. Однако я по-прежнему не мог чесаться. Легчайшее дуновение морковного ветерка через окно вызывало страшные муки, лишая воздуха и иссушая кожу сквозь бинты.
– Смерть у окна, – шептал отец матери после трапезы из морковного супа и морковной ботвы. Я глядел, но сквозь закопчённое окно не видел ничего, кроме болезненной луны, похожей на семечко в чёрной борозде.
– Он у дверей Смерти, – шептала мать отцу, когда мои вздохи сделались редкими и свистящими, точно сорняки на грядках. Я глядел – но меня держали в спальне, где была одна дверь – толстая, покорёженная, наша собственная.
А когда я был совсем плох и из моего рта на пол текла оранжевая рвота, родители качали головами и говорили:
– Смерть за его плечом.
Я извивался, чтобы увидеть эту тень за моей спиной, но там никого не было.
Вскоре после того, как мне исполнилось двенадцать, всё наконец прекратилось. Будто странное существо коснулось меня в ночи, и моя чешуйчатая, шелушащаяся кожа смягчилась. Я опять начал дышать полной грудью, со временем у меня даже отросли волосы. Казалось, я никогда не болел. Моя мать, чью радость можно было измерять в бушелях, развернула пелёнки, отвязала мои руки от досок и увидела, что её сын вырос, – раньше она могла видеть меня лишь по частям, когда меняла повязки. Я был темноволосым и темноглазым, кожа моя походила на поле после засухи, но шрамы начинали бледнеть. Однако мой взгляд мать не могла вынести.
Родителям не терпелось отправить меня работать в поле, ведь было пропущено столько лет, но я перестал чесаться не для того, чтобы начать ковыряться в земле.
– Все эти годы вы говорили, что Смерть рядом, но я никого не видел. Прежде чем посвятить свою жизнь морковке и коровам, я разыщу Смерть и спрошу, отчего я не понадобился ей, раз она столько лет жила в моём доме и висела на тех же досках, что и я.
Мои родители обменялись испуганными взглядами, решив, что за время болезни их сын сошел с ума.
– Смерть нельзя искать, – сказали они. – Она сама всех находит. Радуйся, что вы с нею разминулись, и научись выдёргивать корнеплоды из земли так, чтобы они не ломались.
Но у меня был разум ребёнка, и в моём сердце Смерть была высоким человеком в чёрном, который, возможно, ездил верхом на чёрном льве – я никак не мог решить. Раз она была рядом и видела мои страдания, мы точно подружимся. Ведь она успела хорошо меня узнать. Я бы спросил её: раз мы друзья, почему она позволила мне и дальше гореть, а не забрала с собой?
Родители запретили мне думать об этом, и я поступил разумно – выбрался из окна, когда мир погрузился во тьму, и пробрался через поля молодой моркови. Возможно, они скучали по мне, даже плакали. Я не знаю, потому что не вернулся.
Я следовал к своей цели самым логичным образом – искал в тех местах, где Смерть бывала чаще всего. Изнурённые болезнью мужчины и женщины, мертворождённые дети, зачумлённые дома и богадельни, поля битвы, если мне случалось их найти и пробраться вдоль линии фронта в фургоне с провизией, в поисках солдат с самыми тяжкими ранениями. Я даже подружился с отравителями, чтобы быть рядом с их жертвами в последний момент. Я был изобретателен, а моё молодое тело точно навёрстывало упущенное за время, проведенное привязанным к доскам. Я был неутомим и умнел с каждой ложью, произнесённой в присутствии умирающего, в определенном смысле учился. Рассечённая и гниющая плоть уж точно научила меня большему, чем морковь и дождевая вода.
Но Смерть я не нашел.
Я спрашивал каждого доктора и повитуху, солдата и наёмного убийцу. Все говорили одно и то же:
– Не человек ищет Смерть, а Смерть находит человека.
Наконец, сделавшись длинным и упругим, как ивовый прут, я забрёл в королевство, где полыхающее солнце казалось немыслимо красным, в джунглях всё хлюпало от сырости, король был воплощенным ужасом, а дороги выглядели полосами грязи на зелёном фоне. Неподалёку от столицы я промок до пояса, пробираясь через кустарник с широкими листьями, с которых на меня лилась илистая вода. Дорога была ненамного лучше леса, и я пребывал в дурном настроении, когда меня вдруг нагнал незнакомец.
– Здравствуй, мальчик, – сказал этот коротышка, почти гном в цветастом наряде и с волосами, уложенными замысловатым образом, с широким железным ошейником на болтах, закрывавшим всю его шею и часть плеч. Щёки у него были круглые, голос – грубый, как старый столб от забора. Он кивнул, приветствуя меня. – Ты паломник?
– Конечно, нет, с чего вы взяли? – резко бросил я в ответ.
– Только паломники следуют этим путём. Думаю, им кажется, что так они сражаются с трудностями, как душа с телом, – или другая похожая чушь.
– А вы паломник?
– В каком-то смысле.
– Я просто не знал, что есть другая дорога, – мрачно признался я.
– Много и разные. Вероятно, однажды в мире не останется дорог, которые не будут вести к нашим гаваням, башням и церквям. Кто-то на это надеется. Но если ты не паломник, отчего направляешься в Вараахасинд, Город Вепрей, где восседает на престоле Индраджит?
Я со вздохом пустился в объяснения, ставшие к тому времени привычными, как привычен мне собственный язык во рту:
– Я ищу Смерть. Я был у её дверей, она была у моего окна, стояла за моим плечом, но я не смог её увидеть. Я преследую эту цель уже много лет и прошел полмира, разыскивая её. И не говорите, что мне надо ждать, пока она сама меня найдёт, или что такой милый мальчик должен веселиться и играть. Я это слышал. Кое-что похуже тоже.
Человек призадумался; его ошейник поблескивал на солнце, отражая влажную зелёную тропу.
– Нет, я бы ничего подобного тебе не сказал.
Некоторое время мы пробирались сквозь мерзкую грязь. Потом среди толстых деревьев показались первые городские шпили из выкрашенного в белый цвет кирпича.
После долгого молчания человек проговорил:
– Если бы я сказал тебе, что знаю, где живёт Смерть, и с радостью тебя туда провожу?
Я сглотнул.
– Я бы спросил, что вы попросите в обмен на такую услугу.
– Лишь одно: чтобы ты, выслушав Смерть, выслушал и меня – и решил, кто из нас мудрее.
Конечно, были другие, кто говорил, что знает, и меня вели в тёмные переулки с сырыми тенями, где грабили или избивали и оставляли лицом вниз в бесчисленных лужах. Но я не мог себе позволить, следуя к столь необычной цели, отказывать кому бы то ни было. Я пожал плечами и пошел за ним в город, где навесы из свиных шкур затеняли узкие извилистые улочки, а воздух пах ячменным пивом. Я шел за ним по бесконечным террасам из красного кирпича и блестящим рисовым полям, что громоздились друг на друге на склонах холмов, поросших пышной зеленью; полям, разместившимся меж башен и бараков, везде, где можно было устроить пруд.
У вершины одного из холмов стоял дом, вроде муравейника у невероятной стены, которая отгораживала напоминавший тёмную блестящую луковицу дворец от рисовых плантаций и пыльных террас. Дом был большой и мог бы считаться красивым, если бы сильно не напоминал человечью голову, наполовину закопанную в землю. Его тростниковая кровля ниспадала, точно волосы; окна словно следили за нами, а веки-ставни припадочно дёргались на полуденной жаре.
– Вот Дом Смерти, – заявил мой спутник так небрежно, будто оповещал меня о прибытии в дом пекаря или повитухи.
Мы вошли в большую комнату, напоминавшую кухню, где самые разные вещи варились, сушились и плавали в булькающем кипятке. Коротышка словно забыл о моём присутствии и начал проверять всё, что испускало пар или аромат. Я наконец кашлянул, и он встрепенулся, точно испуганный воробей.
– Ох! Смерть, верно? Да-да, сейчас.
Он ненадолго погрузился в поиски чего-то за большим шкафом, а потом жестом фокусника протянул мне покрытый пылью предмет.
Это была большая стеклянная банка, до краёв наполненная землёй.
– Ты зря потратил моё время, старик, – сказал я со вздохом.
– Вовсе нет, мальчик. Ты желал Смерти? Вот она. Грязь и распад, больше ничего. Смерть всех нас превращает в землю. – Он нахмурился, чуть надул щёки. – Разочарован? Желал увидеть человека в чёрном? Кажется, у меня где-то завалялась мантия. Угрюмое худое лицо и костлявые руки? В моём доме больше костей, чем ты можешь сосчитать. Ты уныло обошел полмира в поисках Смерти, будто это слово значит больше, чем хладные трупы и грибы, растущие из глазниц юных девушек. До чего глупое дитя! – Его движения вдруг сделались стремительными, как у черепахи, ловящей паука, – такой перемены не ждёшь от кого-то медлительного и круглого. Он схватил меня за горло и сжал пальцы так, что я не мог дышать, в точности как в те ужасные дни, когда висел на стене и задыхался. Я свистел и хрипел, колотил его руками по груди; перед моими глазами поплыл багровый туман. – Тебе нужна Смерть? – прошипел он. – Я и есть Смерть. Я сломаю тебе шею и похороню в своей банке с грязью. Убивая, ты становишься Смертью, поэтому у Смерти тысяча лиц, тысяча тел, тысяча взглядов. – Он ослабил хватку. – Но ты и сам можешь стать Смертью, обрести её лик и взгляд. Хочешь сделаться Смертью? Хочешь жить в этом доме и учиться её ремеслу?
Тяжело дыша, я потёр шею и просипел:
– Ты такой же, как другие. Заманил меня в свой дом, обещая мудрость, а наделил тумаками.
– О-о, я совсем не такой, как другие. Я Волшебник, слуга Индраджита, и самая подлинная Смерть, какую только можно разыскать. Можешь и дальше бродить, следуя за призраками, если хочешь, – в конце концов кто-нибудь придушит тебя за кусок еды, и ты познаешь смертную природу человека, скажем так, на практике. Или оставайся со мной и учись, и однажды будешь стоять перед кем-то, как я стоял перед тобой, и он узнает в тебе Смерть, черноглазую и в чёрном одеянии. Может, ты и тупой, но не каждый ребёнок так жаждет стать учеником Смерти. Я предлагаю то, что ты ищешь. Хватит ли у тебя мудрости это принять?
Я уставился в пол и после долгого молчания пробубнил:
– Мне что же, и ошейник надеть придётся?
– Это вопрос выбора, – мягко проговорил он. – И свой я сделал сам. Магия – многогранный камень…
– Моя мать говорит, что магия от Звёзд, а во мне света не больше, чем в нашей корове.
– Некоторые в это верят. А те из нас, кому случалось обнаружить магию в вещах, камнях и словах, траве и листве, давно поняли, что неважно, откуда листва получила свою силу, – главное, что эта сила у неё есть. Некоторые из моих соплеменников, мужчин, женщин и монстров, давным-давно решили обменять свою свободу на власть. Они приняли ошейники, позволили властителям запрячь себя в ярмо. Если тебе нужна власть, ты сделаешь то же самое.
– Магия и есть власть, – возразил я.
– Магия – это магия. Если хочешь сварить зелье от кашля для соседских сорванцов или уберечь волосы от седины, магия к твоим услугам, тебе потребуется лишь чугунок. Но власть, возможность управлять своей судьбой и чужими судьбами, настоящая власть и, несомненно, возможность превратиться в Смерть, быть неоспоримой Смертью в глазах заблудших… Монарх с его возможностями может оказаться полезен, ему доступно куда большее, нежели просто трава и листва.
Я посмотрел на банку с землёй и облизнул пересохшие губы. После стольких лет Смерть опять стояла у моего окна и за моим плечом, а я был у её двери, и на этот раз видел всё, что она предлагала.
Сказка Садовницы (продолжение)
Я украдкой бросила взгляд на его бледную шею. Моё горло было сухим, как берёзовая кора.
– Но у тебя нет ошейника.
Он наклонился ко мне: так близко, что я почувствовала его болезненно-сладкое дыхание, словно цветочный покров на трупе.
– Я провёл там много лет, и кожный недуг меня больше не тревожил. Я учился изо всех сил, потому что одарённостью похвастаться не мог. Знания дались ценой нелёгкого труда, и я берегу их со страстью любовника, часто получавшего отказ. Но однажды, – его щёки вдруг порозовели, – я увидел в тёмном и блестящем Дворце необычную вещь, которую не смог забыть, хотя и пытался. Я завоевал свою свободу, древесное дитя, и теперь ни один Король не назовёт меня сервом. Я разматываю нить свободы в поисках возможности повторить ту вещь и близок к цели – мне нужна иксора, чтобы продвинуться в своём исследовании. Но я устал, Равхиджа. Я устал бродить по миру, это мне не к лицу; уже посетил достаточно много презренных садов в поисках мельчайших семян. Если у тебя нет иксоры, ты добудешь её для меня.
– Сир! – воскликнула я. – Если вы знаете, кто я, знаете и то, что я не могу покинуть сад! Как же я доберусь до дерева, растущего в пустыне?
– Это не моя забота. Я был изобретателен, и тебе придётся. Ты добудешь мне семена, или я сожгу твой сад дотла. – Он машинально поскрёб бледную шею. – Я превращу все деревья в пламенеющие иксоры, и тебя вместе с ними, поскольку сомневаюсь, что ты долго проживёшь после того, как твоё золотое древо обратится в пепел. Смерть найдёт тебя, и её взгляд будет чёрен.
Гость ушёл, унося шесть корзин моих редчайших плодов, и пообещал вернуться осенью, вместе со своим танцующим голубым огоньком. Я же беспомощно стояла у стены.
Сказка Жар-Птицы (продолжение)
– Что за чудовище… – выдохнул я.
Равхиджа уныло кивнула и спустилась с ветви:
– Лето почти кончилось, и у меня нет иксоры. Ничего удивительного. Я пыталась выменять семена, но нет такого храброго человека, который проник бы в сердцевину пылающего дерева, чтобы достать для меня одну маленькую ягодку.
– Нет человека, – сказал я, чувствуя, как внутри меня будто откатился камень, загораживающий вход в пещеру, – но есть птица, и нет в мире существа, более приспособленного к факельным деревьям, чем я. Ты не догадываешься, насколько это просто! Иксора – мой дом, собрать несколько искрящихся плодов так же легко, как склевать кукурузные зёрна из корзины. Даже если бы у тебя не было моего пера, прекрасная хозяйка тыкв, я с радостью отправился бы ради тебя в пустыню.
С зелёными слезами на глазах Равхиджа поцеловала меня в пушистую щёку и напомнила, что следует подождать, пока дерево будет почти мертво, и лишь затем ворошить пепел. Ей нужно было, по меньшей мере, три семечка, а мне по возвращении разрешалось взять любые фрукты. Равхиджа суетилась, точно мать, которая отправляет сына в школу; напоминала о том и этом; предупреждала, чтобы я не обжегся, хотя это было излишне. Прощаясь, я клюнул её волосы – это означает симпатию, моя серощёкая девочка.
По вкусу они были точь-в-точь как тыква.
До пустыни лететь далеко. Много стран надо пересечь, и цвета их столь же разнообразны, как шутовское одеяние. Я следил, как они возникают и исчезают подо мной, высыхая, пустея и превращаясь в песок. Преодолев границу, которая отделяет зелёные края от пустыни, нужно лететь дальше, чтобы достичь белых песков и соляных равнин, где растут иксоры.
Я хорошо знаю те места.
Когда последние зелёные земли остались позади, я почувствовал, что за мной следят. Этому я тебя тоже научу, гусёнок! Возникло тихое и едва уловимое ощущение присутствия нежеланной компании. Любая птица должна уметь это чувствовать, как и отличать ветер, поднимающий к облакам, от ветра, влекущего к воде. Но за мной ещё никогда не охотились так целенаправленно, как в тот раз. Шаги охотника были легче вздохов, и хотя иногда мне казалось, что я его вижу – точку на земле подо мной, – гораздо чаще я чувствовал его в воздухе рядом, и это заставляло беспокоиться.
Зная, что за мной охотятся, я не мог отправиться к гнезду кузины и приветственно прижаться к ней, прежде чем заняться сбором ягод. Я не знал, есть ли в лесу другие деревья, готовые плодоносить. Я много дней летал кругами, увлекая за собой странного охотника подальше от гнездовий Жар-Птиц. Пришлось проложить извилистый путь сквозь пылающие рощицы, на это ушло много дней. Наконец, в обход добравшись до соляных равнин, я увидел то, что хотел, разложенное на белой земле, точно приглашение к пиру.
Я птица неглупая. Охотник устроил мне ловушку, которой – даже не будь у меня задания прекрасной тыквенной девушки – было бы трудно избежать. Ведь на свете нет еды вкуснее, чем та, которой кормит мать. Я поглядел с высоты на фрукты, десятки вишен, которые могли бы пробудить целый лес, и едва не разорвался пополам, стараясь от них отвернуться. И всё же отвернулся.
Странное дело, но в лесу я уже не чувствовал слежку. Это чувство исчезло, растворилось, как ветерок во время шторма. Рядом никого не было: мой преследователь потерял след или сдался. Причина не имела значения, главное, что я мог наконец приблизиться к своей кузине и выплюнуть несколько вишен, спрятанных в зобу, около её гнезда, как аист срыгивает рыбу. Она их склевала, но ягоды оказались горькими. Кузина плакала и не могла остановиться; её слёзы, точно горящее масло, оставляли чёрные пятна на песке рядом с гнездом из пепла.
– Фонарь, птенчики, – задыхаясь от рыданий, проговорила она. – Птенчики! Он их всех забрал.
– Что? – воскликнул я. – Кто забрал? О чём ты, кузина? Твои яйца здесь, я вижу, как они переливаются под тобой! Прекрати плакать и расскажи, что случилось!
Всхлипнув, она в ужасе прошептала:
– Кто-то пришел в пустыню: весь белый, пахнущий сгоревшим хлебом и медной стружкой. Он подошел к каждому умирающему дереву, которое могло бы стать гнездом, вытащил жилу с соком и семя. – Я, потрясённый, ахнул. – Но и этого показалось мало: он скормил мясо своим женщинам, а семена сложил горкой, будто мусор. – Гусыня опять разразилась бурными рыданиями; её грудь ходила ходуном, и я испугался, как бы кладка не потрескалась. – Они их опрокинули, – пробормотала она так тихо, что я едва расслышал. – Женщины их опрокинули, как опрокидывают детские шарики для игры, и там не было яиц, чтобы родилась искра. Пройдут годы, прежде чем другая самка совьет гнездо.
Я утешал кузину в её беде, а сам едва стоял на ногах от горя. Конечно, ты не понимаешь, серое сердечко. Это наш великий секрет, и я поведаю его тебе, чтобы ты поняла – я не прячу мудрость, которой стоит поделиться. У яиц, которые снесла моя кузина, не было петуха, их оплодотворило умирающее дерево. Искросемя порождает новое дерево и новую птицу; первые корни новая иксора выпускает из яйца с птенчиком. Кремню семени нужно что-то для появления искры – и перья, и кора. Мы не можем друг без друга! Самец Жар-Птицы лишь охраняет гнездо. Мы как пчёлы – не можем спариваться, по крайней мере, не с нашими самками. Я слыхал, что кое-кому удалось вытащить яйца из дерева и зажечь собственной кожей, но даже их имена стали пеплом. Вся моя семья – матери, братья, сёстры, кузины, тётки и дядья – и ни одного отца. У меня никогда не будет собственных птенчиков. Иксора – наша вторая половина.
Теперь ты понимаешь, отчего я с готовностью согласился на просьбу Равхиджи, хотя три семени, предназначенных для неё, могли бы стать тремя Жар-Птицами. Я бы и без пера выполнил эту просьбу. Я думал, что, если моя кузина может высиживать древесные яйца, быть может, дерево… Впрочем, это уже не имеет значения.
Я ничего не мог сделать, оставалось ждать. И вот выводок появился на свет – нет ничего прекраснее восьми юных огненных пташек, пробивающихся сквозь скорлупу. Но им и мне пришлось ждать ещё, пока другие иксоры рассыплются в пепел, чтобы юные чёрные тельца заполыхали ярким пламенем, другие самочки оплодотворили свои яйца в потоке сока, а я отыскал три семени для Равхиджи.
Прошло пять лет, прежде чем я получил то, в чём она нуждалась. Я полетел назад над странами, что менялись подо мной от золота к зелени, и дурные предчувствия вкупе с леденящим душу страхом переполняли меня, как мёд соты. Я внушал себе, что Равхиджа нашла другой выход: однажды утром к её стене пришёл чужак-охотник, который с радостью отдал маленькие красные семена. «Кто-то точно её спас», – уговаривал я себя. Она радостно помашет мне, стоя возле своего дерева, скажет: «Не глупи! Всё хорошо закончилось». И её оранжевые волосы будут светиться на солнце.
Но я знал, что это ложь. Когда наконец увидел сад, он был чёрен, будто печная сажа, а стена оказалась разрушенной, разбитой на куски. Голые остовы деревьев выделялись на фоне серого унылого неба – ничто не росло и не плодоносило. Некогда пышная зелень превратилась в слой праха, покрывавший землю. Всё погибло, всё! Я облетел руины и едва сумел удержаться в небе – моя вина была тяжела, как привязанный к шее якорь.
Но кое-что осталось. В центре сада, где стояло красивое дерево, породившее во мне тайную надежду, пробился стройный зелёный росток, почти невидимый в лучах заходящего солнца.
Рядом с ним в сожженной земле ковырялась маленькая девочка.
– Ой! – воскликнула она, увидев меня. – Какая красивая птичка!
Я опустился подле неё, мой блестящий хвост взметнул пепел старого дерева.
– Равхиджа? – неуверенно тронув её клювом, спросил я.
– Ох, нет, я Равхи! – воскликнула она, подпрыгивая, чтобы погладить мои перья, как сделал бы любой восхищённый ребёнок. Девочка глядела на меня из-под зелёных ресниц, её волосы были короткими, но уже начали сворачиваться в мясистые оранжевые жгуты.
Конечно, я всё понял. Любое дитя иксоры поняло бы – древо уронило семена в землю, а нет земли щедрее, чем пожарище. Родилось новое древо, а вместе с ним и новая хозяйка.
Я отдал девочке семена. Больше ничего не мог сделать.
Она сочла их весьма милыми.
Сказка Гусёнка (продолжение)
– А как же твоё перо? – прошептала я. Под нами холодный и заснеженный озёрный край трепетал как огромная белая стая.
Фонарь покачал сверкающей головой.
– У Равхи его не было, и не имело смысла спрашивать, куда оно делось, – девочка ничего не знала о старом дереве или о садовнице. Думаю, Волшебник забрал перо, когда изображал Смерть. Я чувствую его, как глаз или ухо, отделённые от меня. Оно не сгорело, находится не близко, и никто не звал меня с его помощью.
Я подлетела чуть ближе к горячему великану, наслаждаясь его теплом. Налипший на моём клюве снег таял.
– Мне жаль, что она не могла бы свить с тобой гнездо, как ты хотел, – застенчиво сказала я.
Фонарь улыбнулся и прищурился, спасаясь от падающего снега.
– Таким, как я, не суждено иметь гнездо. На это было глупо надеяться. А если бы что-то получилось, мы с тобой не встретились бы, перепончатые лапки, и это было бы весьма печально.
Он летал со мной всю зиму и весну, кормил меня травой, мышами и одуванчиками, пока я не выросла, а моя шея не стала длинной. Когда вернулись гуси, я не захотела уходить к ним, а он не стал меня прогонять. Я летала под его крыльями, которые были широки, точно облака на закате, двери часовни или тени кедровых ветвей. Соколы мне больше не грозили. Вместе мы пересекли широкое пурпурное море и вернулись обратно, отдыхали под сенью пальм. Он научил меня многим песням и языку скворцов, аистов, чаек. А ещё воровскому ремеслу – я стала заправским домушником. У меня не было недостатка в вишнях.
Время останавливалось, когда мы летали и пробовали облака на вкус. Я была счастлива. Я была вся его. Нам никто не был нужен. Я не плакала. Но через два лета увидела знакомые деревья, и тень гнезда опять появилась на горизонте. Я вздрогнула от страха.
– Я привёл тебя домой, малышка, – сказал Фонарь, – потому что появилась новая стая, которая взывает к луне и солнцу, чтобы найти тебя.
– Я хочу остаться с тобой, – я заплакала, и он обнял меня крыльями, которые были подобны вечернему небу, сомкнувшемуся над моей головой.
Он с несчастным видом переминался с ноги на ногу.
– Мы разные, серое моё сердечко. Только те, у кого одинаковые перья и клюв, могут оставаться вместе навсегда. Может быть, мне вообще не стоило о тебе заботиться, но ты была такая слабая и милая, а у меня никогда не было птенчика, чтобы его любить. Теперь с тобой всё будет хорошо, я точно знаю. Тебе нужны стая и гнездо. Я же могу дать лишь полыхающее дерево и холодные фрукты. И… что-то манит меня, как палец, зацепивший за грудину. Моё перо зовёт меня к себе, и я не могу сопротивляться.
– Но мне не нужна новая стая! И ты можешь сопротивляться – повернуться и улететь в другую сторону так быстро, как только сумеешь.
Фонарь вздохнул, даже его блестящие краски, оранжевые и золотые перья, что освещали мой мир, показались приглушенными и тусклыми.
– Всё не так, любовь моя. Когда моё перо зовёт, я должен отправиться в путь. Я не могу лететь в другую сторону, как не могу лететь под водой.
Мне было всё труднее сдерживать слёзы. Мы опустились на кривой ствол дуба на краю большого внутреннего двора, и что-то там было, на брусчатке, что-то, пахнувшее воспоминаниями. От него повалили кубы дыма, а за дымом последовало яркое пламя, сверкавшее сквозь утренний туман.
– Мы разные, – повторил Фонарь. – Перед тобой огонь, иди же к нему без страха и родись заново с такими же, как ты, родись в огне, как я. В тебе будет немного того, из чего создан я.
Запах тянул меня – он был мне знаком, так знаком, и над костром откуда-то появились птицы, множество птиц, чьи крылья испускали одуряюще-прекрасный аромат. Я подумала о лошадях, молоке и тёмных сырых подвалах.
Это был запах моей матери. Своей тёплой головой Фонарь толкнул меня в спину прямо к ней. Медленно взмахнув крыльями, я скользнула в туман и полетела, не оглядываясь. Я знала, что не нужна ему… И вот передо мною была моя мать, которую я отчаялась найти. Из меня словно выдирали перья, и с их кончиков капала тёмная кровь.
Когда моя мать горела, я не испугалась: перекусила путы и поцеловала её полыхающие губы. Вокруг меня летали птицы, выглядевшие в точности как я, – с длинными шеями, серыми перьями и перепончатыми лапами. Они были моей стаей, знали, что я такая же; и она была моей стаей, и я любила её. Я не видела огня, только дорогу к ней, и я помогла ей подняться из пепла – должно быть, так поднялся Фонарь, когда был маленьким чёрным птенчиком. Я помогла матери подняться и улететь в ночь.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Я принадлежала им. Не тебе. Только стая заботится о стае.
Гнёздышко устремила на Принца полный скорби и недоверия взгляд больших чёрных глаз.
– Но мы семья, мы одна… кладка, – негромко возразил Леандр.
– Мы разные. Ты своего отца подведёшь под коготь. Мне он не отец.
Кровь бросилась Леандру в лицо. Он увидел отца мысленным взором и не ощутил к нему любви.
– Он причинил вред нашей матери и всем её людям. Он всё губит!
– Почему меня должно заботить то, что случается на земле? Это не моё место. Я принадлежу воздуху, призракам.
– Гнёздышко, ты теперь женщина и стоишь на земле обеими ногами. Ты не можешь забыть об этом потому, что когда-то у тебя были крылья.
– Он не мой отец, не мой долг, – упрямилась она, уставившись в траву, которая отсвечивала лунным блеском.
– Нет. Но она была нашей матерью, подарила тебе ветер и облака, чтобы ты жила. Я сделал столько всего плохого, Гнёздышко. Мне был нужен Подвиг, и ради него пришлось вернуться в Замок, откуда я хотел сбежать. Но если так написано, значит, тому и быть. А написано, что, хоть мы и покинули Замок по отдельности, вернуться должны вместе. Там ещё есть Волшебник, который убил нашу бабушку и надругался над её костями. Это всё наше, в этом гнезде мы родились. Я твой. Ты мой долг. Пошли!
Леандр протянул сестре руку, белевшую в темноте, и она, помедлив, сжала его ладонь своей, испачканной в крови.
– Ради бабушки, – прошептала она, – и стаи, которая раньше была бескрылой.
По пути в Замок Леандр изумлялся умению Гнёздышка двигаться без единого звука. Её ноги ступали по земле бесшумно, пока они бежали из Ведьминой Долины назад, туда, где появились на свет.
Разумеется, стражники впустили Леандра – хоть он и долго отсутствовал, его не изгоняли, а Гнёздышко приняли за забаву, которую Принц привёл домой. Это было просто как детские кубики. Они пробирались сквозь комнаты верхних этажей, одну за другой преодолевая двери, запертые на большие латунные замки. Внезапно Принц замер.
– Жди здесь, – прошептал он и скрылся за одной из массивных дверей. Это была его собственная спальня. Посреди комнаты Леандр остановился, будто видел её впервые. Он уже был не тем человеком, который раньше здесь спал; тому, что он узнал, не было места в этих обитых бархатом стенах. Он покачал головой, напоминая себе о цели.
– Функция Принца, – негромко проговорил он, – убивать монстров. Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет.
Он выпрямил спину и открыл резной тиковый столик возле своей парчовой кровати. Там лежало то, за чем он пришел. Принц вытащил из шкафчика длинный серебряный нож с изогнутой костяной рукоятью. Теперь он светился чистым светом, многозначительно мерцал в памяти Леандра. Ребёнком он выбрал этот нож в качестве игрушки из груды ножей, кинжалов и стилетов в хранилище. Нож позвал его – глядя на лезвие, Леандр с беспокойством понял, что этой ночью у него не осталось выбора, что он всю свою жизнь шёл к этому, и шёл не по своей воле.
– Вперёд, – сказал он сестре, в глазах которой зажёгся охотничий блеск, – сначала мы пойдём к Волшебнику.
Брат и сестра тихонько вошли в покои Волшебника, вскрыв замок. «Всё слишком легко, – подумал Принц. – Убийство должно быть тяжелым и страшным трудом, а не требующим усилий меньше, чем нужно, чтобы достать воды из колодца. Глухие удары, кровь, крики – вот чем оно просто обязано быть». Однако иных звуков, кроме тяжелого дыхания Гнёздышка за спиной, он не слышал. Девушка видела, как поблескивает нож у него за поясом, и решила его украсть. Но ей придётся подождать…
Омир, безобидный как дитя, спокойно спал среди белых мехов. Его рот всё ещё был пухлогубым и жёстким, но остальные черты давно проиграли битву со временем, подобным ножу, вонзённому под рёбра. Прежде Леандр встречал этого человека почти каждый день, но лишь теперь понял, до чего глубокие на этом лице морщины, какие ужасные шрамы оставили на его теле странные тайные эксперименты. Он вспомнил, как следили за ним эти глаза, похожие на два пруда с застоявшейся водой; вспомнил и рассказ матери о том, как Омир убил его прабабку, Согнутый Лук, – небрежно, словно она была наживкой для рыбы. Принц потянулся за ножом, уверенный, что справится с делом.
Но нож пропал.
Гнёздышко запрыгнула на один из высоких столов с узловатыми ножками. Она дышала глубоко и хрипло, а в бледной руке сжимала нож с костяной рукояткой. Должно быть, девушка узнала его в тот же миг, как увидела, – он был её собственный и принадлежал бабушке. Вероятно, нож позвал её, как зовёт перо, и теперь они были вместе, а Леандр не мог встать у них на пути.
С тихим криком, подобным тому, что издаёт молодой гусь при виде стаи в отдалении, Гнёздышко ринулась на спящего Волшебника и вонзила в него нож. Старик открыл покрасневшие глаза как раз вовремя, чтобы увидеть её развевающиеся волосы и щёки, покрасневшие от ярости и триумфа. Она склонилась над ним, будто собираясь поцеловать шершавые губы, и коварно прошептала прямо в сморщенное ухо:
– Смерть нашла тебя.
Омир увидел деву-птицу, что нависла над ним, будто страшный сокол, сверкая глазами.
– Я знал! – прохрипел он и поперхнулся, когда девушка повернула кинжал в ране. – Знал, что она это умела! Ведьма солгала, но я знал!
Гнёздышко коснулась лица Волшебника – медленно и нежно, по-детски. Её ногти легко рассекли кожу, словно та была водой. Она приложила пальцы к губам и жадно слизала его кровь.
– Раб, – прошипела она, – и всегда был рабом, шептал во тьме, воровал чужое добро.
– Может… может, его не стоит винить, – пробормотал Леандр. – Ведь, в конце концов, приказы отдавал мой отец.
Гнёздышко не услышала его слова. Омир закашлялся, на его подбородок хлынула кровь.
– Твой отец – дурак из дураков. А девчонка знает, всё знает! Мать рассказала ей о башне и о том, что я делал многое без приказа. Но она не убьет меня. Я тоже слышал много историй, знаю о Жар-Птице и о том, как они расстались: у меня его перо. Я держал его в этой самой комнате, в клетке из слоновой кости.
Глаза Гнёздышка сузились, превратившись в серебряные щели. Омир попытался сесть, но снова закашлялся и рухнул – нож не дал ему подняться.
– Ох, девочка… Почти попала, надо лишь чуть повернуть…
Она навалилась на костяную рукоятку, и Волшебник впервые закричал от неподдельной муки; его седые брови взметнулись, зубы оскалились.
– Где он? – зарычала девушка.
– У меня… у меня его нет. Я продал его, перо и клетку человеку из Аджанаба. Продал, клянусь! Умоляю… – Руки Волшебника тщетно пытались схватить кинжал. – Послушай меня, послушай! После стольких лет я наконец узнал, в чем секрет, и могу превратить тебя в Жар-Птицу, из любой ивы сделать для тебя иксору, зажечь твои крылья и отправить к нему. Я могу даже изменить тебя так, что он сможет пробудить твоё гнездо, и вам не понадобятся для этого деревья. Но, если ты убьешь меня, останешься несчастной девчонкой и никогда не полетишь, не сможешь разыскать его без моей помощи. Останешься в этом ужасном теле рядом со своим младшим братом. Уверяю тебя, от него никакого толку.
Гнёздышко плакала, её слёзы капали на слабые руки Омира. Плечи девушки были точно голые ветки; она глядела на него с ужасной надеждой, пламенеющей в тёмных глазах. Затем наклонилась очень близко, обняла старика. Несмотря на хриплый кашель и тёмное пятно, расползавшееся по животу, он попытался отечески похлопать её по спине. Но лишь раз сумел поднять руку, и та беспомощно упала на постель. Однако говорить он ещё мог, его голос был тих, как сосущая пиявка:
– Тише-тише, дядюшка всё исправит, вот увидишь. Не надо ничего говорить, я и так знаю, чего ты хочешь, милая. Всё будет хорошо!
Гнёздышко вскинула серебристую голову и прошептала ему на ухо:
– Мама.
А потом она, утратившая руки в первые дни своей жизни, схватила Омира за волосы, отточенным движением выхватила нож из его живота и перерезала ему горло.
Кровь была горячая и густая. Она текла по рукам, точно жидкая грязь, а Гнёздышко всё не выпускала кинжал. Леандр не смог разжать её пальцы. Он оттащил сестру от тела и силой вывел в холл, а её глаза всё сверкали, огромные и дикие.
Ночью в покои Короля их бы ни за что не пропустили, так что они пробирались вдоль каменной стены от подоконника к подоконнику, по лестнице из плюща и выступам, на которые можно было опереться лишь кончиками пальцев. Наконец брат с сестрой притаились под окном Короля, и Леандр многозначительно посмотрел на девушку, прежде чем прыгнуть внутрь. Ей нельзя было следовать за ним. Но, разумеется, именно это она и сделала, бесшумная как пауза между вдохом и выдохом.
Король лежал на своей кровати – один, всё ещё крепкий и сильный. Он не спал.
– Несомненно, я не учил тебя пренебрегать дверьми, – сказал он сыну.
Леандр отнюдь не ожидал такого, но скрыл страх под маской безразличия.
– Мне казалось, так будет лучше.
– И всё ещё кажется? Вижу, ты и бедную птичку с собой привёл. Поговорим начистоту?
Он не моргнул, не удостоил Гнёздышко и взгляда. Девушка была для него ничем, пустым местом.
– Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет, – прошептал Леандр.
– Что за чушь ты несёшь, мальчик? Мерзкая Ведьма наконец тебя разыскала? Сам удивлён, что мне захотелось затащить в постель это ничтожество. Жаль, огонь не может гореть вечно. А казни надо проводить лично – вспомни об этом, мой сын, когда станешь королём.
– Я не буду королём. И убью тебя на месте за то, что ты сделал с народом моей матери; за то, что заставил меня сотворить бесчисленное множество раз с теми, кто приближался к нам под белым флагом.
Король издевательски расхохотался.
– О, мой сын! Как, по-твоему, я сделался королём? Тоже вонзил нож в сердце отца, пока тот спал.
Сказка Короля
До чего жирным казалось его лицо, лежавшее на подушке. Точно кусок мяса на белой скатерти, сплошь в паутине красных сосудов и с опухшим носом. Он не спал в одной постели с матерью уже много лет – впрочем, с ней никто не спал. Думаю, мне понравилось бы, заведи она любовника. Это сделало бы её человечнее. Но она никого не пускала к себе между ног; проводила ночи в убогой постели на вершине убогой башни, а мой отец спал в громадной кровати эбенового дерева с четырьмя столбиками, предназначенной для лорда и его леди.
Ты не знал? Мой отец никогда не был королём.
Деревенский барон, только и всего! Иногда зимой свиньи и коровы ночевали в главном зале, чтобы не передохнуть в мороз. Вонь от них поднималась к стропилам и висела там будто испачканная дерьмом люстра. Моя мать была совсем другой. Я был совсем другим. Я часто наблюдал за ней, любовался её профилем на фоне окна и удивлялся, как она умудрилась выйти замуж за мешок лука и свиных пятачков, которого мне приходилось звать отцом. Слуги говорили, он не всегда был таким бесполезным. До того, как моя мать позволила скорби отнять у неё голос, наш дом был богат, а коровы спали в траве, где им самое место.
Но всё изменилось. Она замолчала, не говорила ни слова. Моя мать сделалась молчаливой точно монахиня – в тот день, когда у неё забрали мою сестру.
Я был младенцем, когда это случилось, и не знал свою сестру. Но её отсутствие мучило дом, как голодный пёс. Дыра, занявшая её место, сидела с нами за обеденным столом, безвольно опустив плечи в затхлом воздухе; она ела, пила и дышала нам в затылок.
Другие мои сёстры вышли замуж до того, как я научился считать. Я рос в тихом доме один, со мной были только вонючие коровы, немая мать и дыра. Даже отец старался не проводить там время: оставался на полях, руководя уборкой сена и дойкой коз до темноты, чтобы проскользнуть к себе, ни с кем не встречаясь. Но дыра всё равно появлялась на звон дверного колокольчика, и он спешил в спальню, опустив голову, чтобы не встретиться с ней взглядом.
Я не думал, что кому-то будет его не хватать. Он стал дураком, хилым, точно стриженная овца, а я как раз стал мужчиной, был готов сделаться бароном и жаждал этого, потому что мне надоело смотреть, как ветшавший дом на глазах разваливается на части, поддерживаемый лишь дырой в воздухе, пустым местом. Однако копающиеся в грязи убожества, вроде моего отца, всегда отличались крепким здоровьем, и я знал, что баронство мне просто так никто не отдаст.
Я не пытался скрыть своё приближение, когда шел по лестнице в его комнату. Наоборот, громко топал – в мёртвом доме никому не было дела до того, что к утру ещё кто-то откинул копыта. Но дыра была там. Я чувствовал, как она тянет меня за рукав, преисполненная сестринского осуждения. Она грустно вздыхала, словно давая понять, что, если бы вдруг вернулась та, кого забрали много лет назад, вокруг не стояла бы гробовая тишина, и мне не пришлось бы слушать, как кричит мой отец, чтобы осознать, что сам я ещё жив… Дыра жалела меня, и я ненавидел её за это.
Впрочем, он не закричал. Всё оказалось легко, как отрезать кусок мяса для жаркого. Я, не задумываясь, вонзил нож в сердце отца, огромное, точно у быка. Всё случилось просто и естественно, как и должно было. «Убийство, – подумал я, – обязано быть сложнее». Его глаза распахнулись, и в горле тихо булькнуло, как у телёнка, забиваемого к летнему празднику. Отец не закричал. Я не почувствовал себя живым. Но стал бароном.
Мать следила, как я спускаюсь по лестнице, вытирая кровь о брюки. Она не мигала, её губы сжались и побледнели, но она ничего не сказала. Как всегда…
С баронством, как и ожидалось, я справился. Поля давали зерно, деревья – сидр, свиньи спали в своих грязных загонах и толстели. Из всех углов большого зала вымели пыль, к очищенным стропилам подвесили длинные белые знамёна. В замке появились люди, а когда лето сменило весну, начались музыка и танцы.
Дыра не вернулась.
Наконец пришло время подыскать себе жену. Мне не слишком этого хотелось, но говорили, что так поступают лорды, а я уже подумывал о том, чтобы надеть корону, как другие планируют переезд в дом побольше и у моря. Королю нужна королева. Барону не обойтись без баронессы. Поэтому я пролистал семейные книги с засаленными страницами. И узнал, почему моя мать вышла замуж за мешок лука и свиных пятачков.
В нашей захолустной семейке пьянчуг жену добывали не ухаживанием, а испытанием. Существует пояс из золота и яшмы, передаваемый от бабушки к внучке, и новой хозяйке дома он должен прийтись впору, иначе она не сможет спать в башне, двадцать лет игнорируя мужа. Суеверия, сверкающие глазами из тьмы, и глупость всегда живут дольше, чем семьи, которые за них ответственны.
Я снял с матери пояс. Она ничего не сказала. Как всегда… Но, когда я разослал гонцов с известием о том, что подходящие молодые женщины могут прийти и примерить пояс, она заперлась в башне и не выходила, сколько миловидные горничные ни уговаривали её открыть засовы. Изнутри не доносилось ни звука.
Недели летели одна за другой. Девушки танцующим шагом шли к моим дверям, одетые в платья всевозможных цветов и фасонов: ветошь и турнюры; блондинки и брюнетки; бархат, муслин и обычный хлопок, подпоясанный бечёвкой. Я набрасывал золото и яшму на десятки талий, застёгивал – и десятки щёк краснели. Пояс падал с их бёдер или сжимал их талии, пока они не начинали задыхаться, – он никому не пришелся впору, ни у одной женщины в стране не было законного права на него.
Я поступил логично: поднялся по длинной витой лестнице на вершину башни, держа в руках пояс, – на его тусклых самоцветах играли хмурые отблески. У толстой дубовой двери на бронзовых петлях я постучался, вежливый, как и подобает поклоннику.
– Матушка, – сказал я, – пояс никому не подошел.
Из комнаты не донеслось ни звука.
– Матушка, – сказал я, – мне надо жениться.
Из комнаты не донеслось ни звука.
– Матушка, – сказал я, – пояс подходит вам.
Только не надо изображать изумление! Мораль уступает дорогу королям, а вонючая добродетель скотоводов меня не интересует.
За дверью что-то зашуршало и зашелестело. Наконец мы покончили с ерундой, её детскими истериками и тем, как она пряталась, точно краб в алой раковине. Я плечом высадил дверь – силы мне тогда уже было не занимать, и бронза согнулась после второго удара, петли заскрипели и поддались. Моя мать сидела на кровати, стоявшей посреди комнаты, утопавшей в пыли; вокруг неё были разбросаны листы бумаги. Фиолетово-чёрное платье порвалось и было ей мало, рыжие волосы тусклой спутанной гривой ниспадали на продавленный матрас.
На коленях у неё была дыра.
Края дыры потрескивали и изгибались, чего я раньше никогда не видел; странный серебристый свет очерчивал ясные контуры длинноволосой девочки, дремавшей на материнских коленях. Выглядело так, будто девочку кто-то вырвал, оставив лишь намёк на то, как она могла выглядеть, какой могла бы быть. До этого утра я воспринимал дыру как пустоту, но теперь видел нечто осязаемое и имевшее вес – её можно было ощутить, потрогать, и она светилась. Странное ничто посверкивало, пока моя мать его гладила.
– Я её сделала, – сказала она скрипучим хриплым голосом, точно кто-то отпер заевшую дверь. – Когда он её забрал, я её сделала. Больше я не творила никакой магии.
– Магия, – пренебрежительно фыркнул я.
– Я сделала так, что она ходит по дому, ест, спит и смеётся, как и могло бы быть. Но она постоянно возвращалась сюда и спускалась лишь для того, чтобы увидеть, как ты растёшь, играешь, хмуришься и спишь.
– Это пустота, матушка. Меньше, чем воздух.
Она с жалким видом пожала плечами.
– Это не она, я знаю. Но, когда я сплю, она обнимает меня прозрачными руками, и я почти чувствую запах её кожи. Я по ней скучаю, страшно скучаю. После того как ты убил своего отца, я позволила ей остаться здесь.
Я пожал плечами.
– Я хотел стать бароном. И не буду за это извиняться. Из-за отца дом чуть не погиб, и ты вместе с ним. Как бы там ни было, ты вышла за него только из-за золотого пояса.
Она пристально посмотрела на меня сквозь завесу спутанных волос.
– Можешь верить во что хочешь, Измаил. Пояса и ошейники – лишь подходящий повод взять женщину, которую ты и так хочешь, не давая ей шанса заговорить.
Я уставился на искореженные от сырости доски пола. Не из-за смущения, имей в виду! А потому, что я решил, что именно так должен был поступить хороший сын в такой ситуации.
– Пояс больше никому не подходит.
Моя мать положила руку на бедро дыры; её лицо будто оплыло, словно она что-то утратила и внутри сделалась пустой, как сухая раковина улитки, катящаяся по песку.
– Если ты не смог удержаться от того, чтобы ворваться в мою комнату с предложением, на которое не осмелился бы и король…
– Было бы лучше, окажись я королём, матушка? – взорвался я и, ринувшись к кровати, сквозь дыру схватил её за обтянутые фиолетовой тканью плечи – как же она исхудала! – Окажись я королём, ты бы сделала реверанс, надела горностаевую мантию и танцевала бы на нашей свадьбе? Ты знаешь семейный закон. Лучше ты будешь принадлежать мне, чем этой отвратительной магической штуке, с которой сидишь тут взаперти день за днём! Я не стал извиняться за то, что сделал с отцом, и за тебя тоже не буду. В этом мире что-то можно получить лишь силой – вот чему меня научила жизнь в доме, где ничего не происходит, потому что здесь живут мертвецы!
Мать начала истерически смеяться и будто распахнулась, как дверь, сорванная с петель.
– Да, если бы ты был королём, это было бы законно; короли творят что хотят, короли и их волшебники – для них нет законов! Они берут и берут, что такого? Никто не ищет тех, кого забрали, о них просто забывают, они исчезают, и всё. – Она подняла на меня глаза, и её взгляд вдруг оказался проницательным, как взгляд лисы, увидевшей мышь. – Я сыграю с тобой, если хочешь, мой Измаил, но тебе придётся продемонстрировать свою доблесть. Если мне не изменяет память, так поступают молодые люди во время ухаживания.
Я осторожно отпустил её. Вот и всё? Принести ей розы или чешую дракона с дальних островов, и она не станет сопротивляться?
– Что мне сделать? Давай побыстрее с этим разберёмся.
– Принеси мне голову и ошейник и, если сочтёшь нужным, ещё какую-нибудь часть Волшебника, который забрал твою сестру.
Что ж, убийство – труд не сложный. Я встал с кровати, и на моём месте тотчас же сгустилась дыра. Я поклонился настолько учтиво, насколько это было в моих силах.
– Леди Иоланта, я к вашим услугам.
Откровенно говоря, мне не очень хотелось жениться на своей матери. Если бы пояс подошел другой женщине, я бы с той же лёгкостью взял в жены её. Но, когда занимаешь высокое положение, надо соблюдать протокол; ведь для неё не так ужасно участвовать в церемониях и танцевать на балах. Со своим последним мужем она постель не делила, если не считать того, что требовалось для появления наследника. Меня не радовала необходимость пойти и убить Волшебника, который навредил мне лишь тем, что оказался представителем омерзительной профессии, чтобы я смог сделать Иоланту дважды баронессой. Но разве есть в мире счастье? Я с этой неведомой зверушкой ни разу не встречался.
Дело не в том, что мы не знали, где живёт Волшебник, отнявший у меня сестру, последний батрак из глубинки был осведомлён, где Омир хранит свой посох и фиал. Но нельзя потребовать чью-то дочь назад у такого человека, особенно если он скован узами с королём вроде того, что правил нами в те времена.
Дворец того короля окружали густые леса, где друг к другу жались деревья, кривые, будто спины старых женщин. Мимо него текли две реки со странной водой: в одной она была чёрной, в другой – белой. Пересекая мосты, я посмотрел вниз: чёрная река, как мерцающий поток на склоне старого вулкана, то гладкий, то покрытый зыбью, отразила лицо достаточно красивого молодого человека, который не был принцем, но мог показаться таковым в особо ясный день. Белая река, гладкая и тусклая, словно молоко, не отразила ничего.
Не зная, как убить, если не обойтись простым визитом в спальню с ножом в руке, я попросил об аудиенции, и, что неудивительно, мне велели подождать. Я занимал себя как мог, познакомился с новой жизнью: в кои-то веки спал в чистых комнатах, ел за чистыми столами, одевался в чистую одежду.
Каждый день я отправлялся поглядеть в воды рек.
Наконец, меня призвали в зал для аудиенций с высоким потолком, представив как Измаила, барона Бакара – до чего странно было слышать, как моё имя произносил скучающий писарь! – и я предстал перед королём и его любимым рабом. Король как раз обедал, мусоля сено в золотом корыте, запихивая в рот полные пригоршни травы.
Чудовищно. Противоестественно. Людьми не должно править животное! Меня чуть не стошнило на вымощенный серебром пол.
Гнедой, король-кентавр Восьми королевств, взглянул на меня снизу вверх. Его передние ноги были согнуты в коленях, чтобы насыщаться с удобством. Каштановый хвост помахивал из стороны в сторону, а в коричневой бороде запутались травинки.
– О, – проворчал он, – это ты.
За его спиной стоял Волшебник в мешковатом сине-коричневом одеянии и железном ошейнике, тяжелом как епитимья. Он одарил меня взглядом, в котором сквозило сомнение.
– Это ведь он, не так ли, Омир? – спросил кентавр, не без труда поднимая своё лошадиное тело. Он отвернулся от корыта и двинулся ко мне, цокая копытами по плитке и держась так, что я видел только его правую сторону, левая оставалась в тени. Его гнедая шкура перетекала в бледную кожу, давно не знавшую солнца, и он был, как ты можешь догадаться, не одет. Трона не было – да и какой трон? Король располагался в груде розовых подушек на помосте; думаю, лошади и такого трона достаточно.
– Да, мой господин. Думаю, это он.
– Прощу прощения, кем вы меня считаете? – смущенно спросил я. Убийства должны совершаться в темноте и тишине, а я был в комнате, освещённой так ярко, словно её фундамент утопал в солнце. Что ещё хуже, меня ждали.
Гнедой почесал чёлку; его широкое, точно лунный диск, лицо поскучнело.
– Омир сказал, что ты близко – тот, кто меня заменит.
Сказка о Восьмикамерном сердце
Ещё до того, как мой дед отправился на пастбище, те, кто намного мудрее меня, решили, что Восемью королевствами, населёнными народами столь же разными, как десять тысяч травинок на лугу, не могут управлять мужчины и женщины. Из них получаются хорошие провинциальные дворяне, которым только и надо, что вести счета и заниматься благотворительностью. Но разве можно позволить им говорить и действовать от нашего народа – народа монстров?
Разумеется, нельзя.
Кентавры представлялись хорошим выбором: существа на середине пути от постели до конюшни, между людьми и чудовищами, дикой природой и упорядоченным миром. Казалось знамением, что наши мощные сердца, необходимые для столь массивных тел, обладали восемью камерами, по одной на каждое королевство. Так всё и было на протяжении многих поколений, кентавры правили – некоторые плохо, точно неумелые жеребцы; некоторые хорошо, будто смирные мерины. Такова судьба правителей – мы подвержены слабостям. Но, изучая человечьих королей, которые были до нас, мы узнали, что передавать корону сыновьям или дочерям так же глупо, как кормить волка морскими водорослями. Мы определяли наших правителей способом, который наилучшим образом соответствовал нашей сильной стороне, – в гонках.
Ясным осенним утром, когда яблони сбросили плоды на траву, я занял своё место у стартовой линии. Моей противницей была Серая-в-яблоках – высокая и красивая серая лошадь с такой широкой грудной клеткой, что я не смог бы её обнять, даже если бы мои руки стали в два раза длиннее. Я немного беспокоился: хоть быстроты мне не занимать, я не был сильнейшим в табуне, и моя грудь казалась хилой по сравнению с этой громадой костей и мышц, созданной для глубокого дыхания.
– Отличный день для гонок, – одобрительно прогудела Серая-в-яблоках, топча землю яркими перламутровыми копытами. – Надеюсь, ты будешь сражаться по-настоящему: мне бы не хотелось стать королевой лишь из-за того, что у тебя насморк.
Она одарила меня лучезарной улыбкой победительницы, обрамлённой пышной серебристой гривой. Несмотря на ситуацию, лошадь мне нравилась. Она хорошо пахла, как берёзовые листья, люцерна и быстрая река.
Правила были таковы: желающие править являлись к стартовой линии, но отваживались на это немногие, потому что кентавры отличаются сдержанностью и самодостаточностью, посмеиваются над приманками власти. Это ещё одна причина, по которой нас сочли достойными её. Каждого претендента запрягали в плуг. Ещё один плуг помещали между соревнующимися, и какой-нибудь местный волшебник или предсказатель, избранный для этой цели, зачаровывал его так, чтобы он двигался сам по себе. Лошадь, способная победить и самоходный плуг, и своих конкурентов, получала корону: тому, кто лучше всех пахал землю, чтобы она цвела, следовало помогать людям, чтобы и они процветали.
Тем осенним утром только мы с Серой-в-яблоках пришли бороться за королевство. На каждых гонках у стартовой линии нас было все меньше. В конечном счёте кентавры предпочли пастбище и игру, брачные ритуалы и катание в траве. Но я не был сдержанным и не насмехался над властью. Я не был умником из умников, поджидавшим удобного случая, – мне тогда было нечего есть. Корона пела и шептала, обольщала меня с высоты, подвешенная к ветви дерева в дальнем конце поля. Она сверкала, блистала и явно желала покоиться на моей голове. Мне она тоже нравилась, её исключительно собственный запах, которого мне вполне хватало.
Мои размышления прервала толпа, начавшая шуметь и раздраженно топать копытами. Призванный на состязание Волшебник приволок на поле свой плуг, который блестел на солнце, точно глаза юного жеребёнка; его длинное красное одеяние бросалось в глаза, трепеща на утреннем ветру.
Однако на нём не было ошейника.
Человек был лишен примет возраста, имел благородный профиль, явно немало посидел за столом, скрипя карандашом, одет и обут как полагается. Но без ошейника! Мы не знали, как на него смотреть, как к нему обращаться, и вообще, как он мог находиться среди нас.
Он спокойно отнёсся к нашим взглядам и принялся натирать блестящий плуг порошками и маслами, что-то ему нашептывая, как любимому псу, гладя его длинными пальцами с толстыми костяшками. Когда дело было сделано, плуг уже не блестел, а покрылся каплями и пятнами зловещего цвета – охры, бычьей крови и оникса. Волшебник предложил мне подойти и проверить его работу, точно это была особенно сложная арифметическая задачка. Я потрусил к нему, намереваясь побыстрее обнюхать ядовитые жидкости и объявить, что всё в порядке. Я оставался простой лошадью и ничего не знал о магии, кроме её дурного запаха.
Но стоило мне склониться над плугом, отгоняя мух хвостом и почёсывая затылок с видом знатока, волшебник тоже наклонился к лемеху, повернул ко мне своё узкое темноглазое лицо и прошептал так тихо, что показалось, будто это пчела жужжит над ухом: так тихо, что, кроме меня, никто не мог его услышать:
– Я могу дать тебе то, что ты хочешь.
– Что? – спросил я слишком громко.
Серая-в-яблоках бросила на меня взгляд поверх толпы дерзких жеребят, пытавшихся измерить её рост и ширину плеч. Её дыхание чуть ускорялось, когда она вставала на дыбы; великолепные обнаженные груди отливали серым. Она фыркнула и вскинула серебристую бровь. Я театрально кашлянул и улыбнулся ей, невзирая на насморк, – лошадь рассмеялась, и её смех вполне соответствовал широкой грудной клетке: от него могли и бочки полопаться.
– Я могу дать тебе то, что ты хочешь: победу в гонках, корону, – проговорил тот же голос, тише мух в хвосте годовалого жеребёнка. – Ты достаточно быстр, чтобы обогнать плуг, – это верно как дождь зимой, но тебе ни за что не обогнать её. Погляди на эти плечи, они же как пятнистые валуны! Она лучший бегун, чем ты, и, возможно, из неё получился бы лучший монарх. Но она не даст мне того, что хочу я; это видно по её холке, копытам и тому, как ниспадает её хвост, а также по линии челюсти. Она из тех, кто считает, что добродетель может легко сидеть на троне. А ты знаешь, кто на самом деле объезжает этот мир, я уверен.
– Чего ты хочешь? – На этот раз я был тих, словно мышь под метлой, и прилежно разглядывал детали плуга.
– О, тебя, мой дорогой Гнедой! Ты стоишь куда больше остальных тварей, и тебе это известно. – Он притворился, что затягивает ремни, и убрал прилипшую к вспотевшему лбу прядь.
– Вообще-то я бы так не сказал, – ответил я.
– Ты наполовину человек, наполовину животное и потому идеально соответствуешь моим стремлениям. Позволь мне заниматься своим делом в мире и спокойствии. Помогай время от времени в разных мелочах, и я выиграю эти гонки для тебя.
Мысли мои неслись со скоростью зайца, которого преследует лиса.
– У тебя нет ошейника.
Он стиснул зубы.
– Нет. Я освободился благодаря удачному стечению обстоятельств и наслаждаюсь его отсутствием. Рабство – грех.
Я продолжал соображать так быстро, как мог. Сделка казалась хорошей, но, если я хоть что-то смыслил, в итоге он потребует больше заявленного сейчас. Я вытер вспотевшие ладони о шкуру.
– Если я стану королём и мне будет прислуживать волшебник, правильнее всего, чтобы он был связан со мной и стал моим сервом. Иначе как я смогу ему доверять? Что помешает ему разорвать меня на части по первому капризу? Ты сказал, добродетели не место на троне? Значит, там как следует отдохнёт грех.
Суровое лицо волшебника скривилось, и я услышал, как скрипят его зубы. Он бросил умоляющий взгляд на небо, затем посмотрел на свои руки – они сжимались в кулаки и разжимались, будто желая спрятать появившиеся на ладонях позорные клейма. На миг мне показалось, что человек вот-вот заплачет. Но этого не случилось. Его плечи дрогнули, багровое одеяние вдруг показалось не таким ярким и весёлым. Он машинально поднял руку к шее и почесал бледную влажную кожу.
– Да, – хрипло проговорил он. – Хорошо, я снова надену ошейник, если ты отдашь себя мне. Оно того стоит, если я получу тебя. Мы будем принадлежать друг другу.
Я топнул по земле копытом.
– Что… что ты сделаешь? Это будет не очень ужасно, верно?
Печаль ушла из его взгляда быстрее, чем муха-подёнка взмахивает крыльями, и её место заняло хищное ликование необъезженного жеребца.
– Не слишком ужасно. Я взорву сердце в её груди – одну камеру за другой.
Я глянул на Серую-в-яблоках – до чего она была красива в мягком сиянии осени, пряча сахарный леденец за румяной щекой. Её длинные волосы искрились, как весенний ливень, а брюхо было покрыто мягчайшей белой шерстью. Мне она нравилась, очень нравилась. Но корона сверкала и пела. Как она пела!
– Да, – я с трудом сглотнул, – это не слишком ужасно.
Серая-в-яблоках игриво ткнулась в меня носом, когда я вернулся к украшенной гирляндами стартовой линии.
– Обещаю, – сказала она, дразня, и её обнаженная кожа сияла точно доспех, – я возьму тебя в супруги. Я слаще яблок, сахара и желудей после дождя, это я тоже обещаю.
Я умудрился изобразить широкую улыбку, которой требовала такая бравада, и приятельски хлопнул её по заду. Мои пальцы были смазаны дурнопахнущей серой мазью, которую дал мне Волшебник. Её не будет видно на коже, сказал он, и никто ничего не поймёт. Она зарделась от удовольствия – а румянец под серебряной кожей выглядит потрясающе.
Запели костяные рога, и мы бросились бежать быстрее любых всадников и любых лошадей, а самоходный плуг вприпрыжку нёсся за нами, рисуя в чернозёме длинную ровную борозду и рассыпая оранжевые хлопья притираний да мазей, которыми был покрыт.
На несколько мгновений я поверил, что могу победить сам, – я очень быстр, быстрее всех моих родственников с гнедой шкурой, и бывает, что изящная лошадь побеждает громадину. Мои ноги резво стучали по гальке, но Серая-в-яблоках просто берегла силы. Она рванула вперёд со смехом, от которого дружно содрогнулись вязы и пихты, и с дружелюбным восторгом хлопнула меня по крупу, обгоняя.
Моё сердце трепыхалось в груди, будто сочувствуя её сердцу – сдержит ли Волшебник слово? Лошадь была уже так далеко впереди, что я видел лишь её серо-белый хвост. А потом она споткнулась.
Я ощутил в собственной груди слабое эхо грома, что раздался внутри неё. Почувствовал, как камеры сердца взрываются одна за другой, будто стиснутые огромным кулаком. Одна, две, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь… Серая-в-яблоках рухнула на беговую дорожку с ужасным глухим стуком, и галька разлетелась во все стороны, точно волна.
Я поспешил вперёд. Плуг отстал на целый корпус. Я не взглянул на неё, пробегая мимо, лишь заметил, что рядом собрались те, кому вскоре предстояло о ней плакать. Я пересёк черту. Корона пела так громко, и я схватил её обеими руками. Её голос был чист как сахар, или яблоки, или жёлуди после дождя.
Когда мы сожгли Серую-в-яблоках, как у кентавров принято поступать с мёртвыми, я произнёс длинную прочувственную речь: я был королём, чей долг – оплакивать павших. Всё вокруг пропиталось запахом её горелой плоти, и я с трудом сдерживал тошноту. После того как мы переворошили её пепел, ко мне подошел Волшебник Омир и, глядя на обугленные кости, сказал:
– Забыл предупредить: ты будешь последним королём-кентавром. После тебя могли бы появиться и другие, если бы ты не оказался существом, которому поёт корона, – Серой-в-яблоках, кстати говоря, она не пела. Но случись такое, я бы тебя не выбрал, и печальное место в качестве завершающего длинную линию – твоё предназначение. Ты покоришь народы, которые помогут мне. После тебя будут править люди, а мне уже известно, в чём их суть. Когда ты начнёшь стареть, появится молодой и алчный мужчина с чудовищным поручением, он пронзит кинжалом твоё восьмикамерное сердце и станет королём.
С неба начали медленно падать крупные капли дождя, и последние угли костра Серой-в-яблоках погасли.
– Не пора ли нам под крышу? – спросил Волшебник, широко улыбаясь.
Сказка Короля (продолжение)
Король-кентавр заплутал в воспоминаниях.
– Я хотел стать хорошим королём, – задумчиво проговорил он. – В самом деле, этого хотел. Но пришлось подавлять бунты, собирать налоги и разбираться с угрозами на границе. Вместе с добродетелью такой груз слишком тяжел. Видишь ли, добродетель занимает слишком много места в седле.
Гнедой поднялся со своих подушек, и я впервые увидел его целиком, в том числе левый бок, который до сих пор прятался в тенях и розовом шелке. Он представлял собой густое переплетение шрамов, рубцов и глубоких ям, порезов всевозможной давности, от очень старых до свежих. Под ними совсем не было видно шкуры – лишь узловатая плоть, и целые лоскуты её отсутствовали, будто их сняли, как сливки. Все рёбра хранили следы переломов. Одно копыто было хрупким и пористым, как соты, а лодыжка покрыта коростой. Он берёг её и оттого ужасно хромал. Кентавр доковылял до меня и приблизил своё лицо к моему, откинув редкие волосы с измученного лба:
– Скажи мне… Измаил, так тебя зовут?.. Не тяжело ли твоей добродетели нести груз такого поручения?
– Оно легче, – прошептал я, – чем противная природе тварь, что позволяет рабу кромсать себя до тех пор, пока не утратит возможность ходить.
Гнедой посмотрел на себя и будто впервые увидел изувеченный бок.
– О да. Так он использует меня. Сомневаюсь, что тебя можно использовать так же – заметь, ему нужна лишь моя лошадиная плоть или, если повезёт, та, что принадлежит одновременно человеку и лошади. Должен признаться, я рад, что ты здесь. Наследники – это важно, как ни крути. Уверен, вы двое сумеете использовать друг друга, а я, честно говоря, устал быть полезным.
Я посмотрел на Омира. Наши взгляды встретились, как камень и сталь. В его глазах не было ни растерянности, ни стыда. В тот момент мы поняли друг друга, и все мысли о моей матери исчезли, как туман над озером с заснеженными берегами. Пусть она сгниёт в своей башне вместе с трижды проклятой дырой. Она была мне не нужна: я нуждался в нём.
Омир вытащил из складок тёмного одеяния длинный нож. Мы втроём смотрели, как он мерцает в лучах, струившихся сквозь изящные окна. Волшебник вручил нож мне. Я и не знал, что убийство может быть таким – открытым, при свете дня, со всеобщего молчаливого согласия. Почти церковная служба, и я волновался как ребёнок, впервые увидевший алтарь.
Я трепетал и будто слышал пение короны. Взял нож и, подойдя к Королю-кентавру, похлопал его по плечу, как всадник хлопает нервного скакуна. Он не отпрянул, и наши взгляды встретились – как древесина и сталь.
– Монстр, – прошипел я и вонзил нож ему в сердце, по самую рукоять, затем вытащил и вонзил снова. Один, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь.
Гнедой улыбнулся и упал на мраморный помост с глухим стуком, будто мешок тяжелых костей.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр глазел на своего отца, лежавшего на огромной пустой кровати, на его седые виски́ и морщины на лице, порождённые явно не смехом. Его глаза мерцали в тусклом свете.
– Омир и я в самом деле нашли применение друг другу. Он не снял ошейник, а я не послал его на костёр. Он хотел заполучить степняков и их Ведьму, я – Волшебника, который будет согласно моей воле вызывать дождь и засуху, травить и уничтожать то, на что я укажу. Мы вершили великие дела: вместе покорили его степняков, которые, несомненно, были столь же противны природе, как и кентавры. Мне никогда не нравилась магия, но его я терпел, и он был мне за это признателен. Достойная сделка, поскольку никто не был заинтересован кромсать меня как кусок говядины. Не менее достойную сделку я заключил с этой страной, покорившейся моим приказам не хуже любой другой. Я не собирался становиться всеобщим любимцем и поборником справедливости – просто хотел быть сильным.
– Король способен на большее, – заупрямился Принц.
– Так поначалу думает каждый из нас, полный решимости превзойти отцовские достижения, зная, что нам под силу изменить природу людей, сделать её лучше и чище. Но потом кинжалы сверкают в ночи, крестьяне бунтуют, и разные зверства становятся привычным делом, как завтрак. Только принцы верят в высшее благо. Короли знают, что существует лишь Власть, во имя которой можно творить что угодно. Итак, ты перережешь мне горло или предпочтёшь более интимный метод – удушение? Кажется, у меня где-то завалялась гаррота.
– Нет, – ответил Леандр, – я не стану тебя убивать как вор в ночи.
Король опять издал тихий добродушный смех, будто читал сыну сказку на ночь.
– Леандр, воры не так уж плохи, а убийства рядятся в разные одежды. Нет смерти и убийства, которое было бы лучше прочих. Если ты можешь меня убить, способ едва ли заслуживает внимания. Ты желаешь прикончить своего отца и думаешь, что будешь спать крепче в ближайшие семьдесят лет, если сделаешь это благородным образом. Но твою честь запятнает отцеубийство, и никакие высоконравственные оправдания не вернут ей белизну. Ты ждёшь признания, чтобы очистить собственную душу? Что ж, ладно. Всё, что она тебе рассказала, – правда, а ещё было много другого. На моих руках больше крови, чем ты смог бы пролить за всю свою жизнь. Я этим горжусь. Это моя корона и мой скипетр! Жаль, что в тебе нет такой целеустремлённости, напора. Но ты поймёшь, как и все мы. – Тут король элегантным жестом отбросил розовое одеяло. Оказалось, что он полностью одет – на нём были потрёпанные кожаные штаны и нагрудник от доспеха, – и с головы до ног коричневый, будто гнедой конь. – Тебе нужно оружие? Ты и впрямь явился настолько неподготовленным? Плохой из меня отец. По крайней мере этим я могу подсобить. – Он вытащил из-под матраса кинжал – отблеск пламени скользнул вдоль лезвия, как шустрый лосось.
Ошеломленный Леандр принял оружие, едва ли чувствуя его рукоять в своих пальцах. «С той давней ночи, – подумал он, – когда я покинул Дворец, всё шло не так, как предполагалось».
Принц сел рядом с отцом – так близко, что почувствовал запах его сухой кожи, запах раскалённого песка.
– Я… прощу прощения.
Измаил, владыка Восьми королевств, закатил глаза и, выхватив собственный кинжал, приставил его к горлу Принца.
– Если ты не можешь справиться с одним пустяковым убийством, какой из тебя король? Вот как всё делается, сын мой.
Но, прежде чем он перерезал глотку Леандру, Гнёздышко, о которой оба забыли, увлечённые разговором, откинула голову, метнув чёрной гривой по полу. Она снова закричала – громче, чем в тот раз, когда явилась на свет, и все окна, стеклянные штучки разлетелись на осколки, а птицы попадали с небес. Вороны, воробьи, зяблики один за другим падали за окном, будто многоцветный дождь. Крик был исполнен гнева, нараставшего точно полноводная река, пока она смотрела, как отец-который-не-был-отцом собирается убить Принца. Когда кинжал коснулся шеи юноши, голос девушки разбил лезвие на части, и один из осколков угодил прямо в королевский глаз.
Леандр колебался лишь мгновение, а потом вонзил свой нож в грудь короля со всей силой, навалившись на рукоять, и клинок вошел как следует, глубоко.
Но король продолжал смеяться, даже когда у него на губах появилась кровавая пена.
– Помни, сын мой, – прохрипел он, умирая, – смертью своей наставляю тебя. Вот что такое власть. В конечном итоге нож всегда оказывается в твоих собственных руках.
Гнёздышко стояла на балконе Замка, одетая в мерцающее белое платье. Она смотрела вдаль, где предгорья превращались в настоящие горы.
– Я всегда желал одного – покинуть это место, – сказал Леандр, приблизившись и положив руку ей на плечо. – Освободиться. А он сумел меня поймать и запереть здесь навсегда. Меня приравняли к нулю навечно.
– Но гнездо выживет, братец, – ответила она.
Её голос с каждым днём становился мелодичнее. Леандр обнял сестру.
– По крайней мере ты со мной, Гнёздышко. Хватит и этого.
Но она выпуталась из объятий и с грустью посмотрела в его усталые глаза.
– Нет. – Она вздохнула. – Я ухожу. Я должна уйти. У меня есть долг, как и у тебя. Ты спас королевство своего отца, а я должна позаботиться о землях своей матери. – Её взгляд опять скользнул к дальним холмам, точно они были тенями, что охотились за ней. – Когда летала, я знала, кто я и что мои крылья… взяты взаймы, но не думала об этом. Не знаю, почему сохранила разум в теле птицы, – заклинание не должно было так подействовать. Но я любила ветер, и луну, и мою мать. Без причины – просто любила. Теперь причин предостаточно, и все они сходятся в пещере где-то в тех холмах, и лишь у меня есть право войти в неё. Ты рождён для престола – тебя назовут Королём-калекой, утратившим благословенные пальцы. Появятся истории, а затем легенды. Тебе от этого не сбежать, как мне не сбежать от воспоминаний о ветре, что ласкал мой живот. Вероятно, ты сможешь что-то изменить и остаться принцем, хотя все, у кого есть голос, будут звать тебя королём. А возможно, и нет. Но я не могу остаться, чтобы учить тебя. Я утратила всё, что имела, и мне нужно отыскать это снова у бедных потерянных Звёзд. Мы оба должны отыскать свой путь к силе и научиться с ней обращаться. Твоё гнездо не может быть моим.
Леандр сдерживал слёзы, грозившие вот-вот упасть на изящное плечо сестры.
– Но ты уйдёшь не сразу, верно? – спросил он сдавленным голосом. – Я этого не вынесу. Здесь так одиноко! Со временем я научусь держать власть, как уголь, и не обжигаться. Но ты должна остаться ещё хоть ненадолго, ради меня. Мы должны быть семьей, хотя бы на некоторое время. Хоть чуть-чуть.
Гнёздышко повернулась к нему с улыбкой ярче десятка полуденных солнц.
– Конечно, я побуду с тобой, мой единственный брат, мой родной.
Утром она исчезла, словно её и не было. Король в одиночестве стоял посреди огромного зала цвета слоновой кости.
На рассвете
Рассвет принялся наряжаться в синее и золотое, украшать волосы красными самоцветами. Он протянул руки к двум детям, почти заснувшим на подоконнике на вершине башни. Голова мальчика лежала у девочки на коленях, её руки гладили его волосы, пока она договаривала последние слова сказки. Ветер прошелся по Саду, подняв вихрь белых лепестков, которые потекли прохладными реками, то и дело сливаясь в водовороты. Дикие птицы вскинули головы и запели с такой страстью, что песня чуть их не убила.
Мальчик взглянул на девочку, чья голова украсилась короной из солнечного света, сияющим венцом из жидкого золота. Её тёмные глаза тепло светились, будто камни, отполированные течением реки.
– Это была удивительная история! – воскликнул он, восторженно обнимая девочку.
Скользнув вниз по плющу и осыпающимся камням, девочка напоследок одарила мальчика робкой улыбкой. Он следил за ней, сияя, и нежные руки солнца касались его лица.
– Завтра я расскажу тебе другую, ещё более странную и удивительную, историю, если ночью ты вернёшься в Сад, ко мне…
Смеясь, она спрыгнула на траву и унеслась прочь от башни, исчезла среди деревьев, и волосы струились за нею, точно обещание.
Морская книга
Во Дворце
– Но как же так, отец! – воскликнула Динарзад, и голос её надломился, как зелёная ветка. Фиолетовые глаза метали молнии, высокие скулы сильно покраснели. – Он был с демоном! Я их видела!
– И я верю тебе, дочь. – Султан, посмеиваясь, тряхнул курчавой бородой, что спускалась на грудь, точно поток ежевичных лоз. – Не стоит, право слово, так беспокоиться из-за малышей, оставленных на твоё попечение. Дети, особенно юные мальчики вроде твоего брата, должны совершать неосторожные поступки. Когда я вижу их маленькие бунты, у меня внутри всё успокаивается. Так лучше, чем если они начнут бунтовать всерьёз.
Динарзад нахмурилась и упёрла руки в бока – этот жест она часто видела в исполнении своих нянечек.
– Отец! Вряд ли это можно назвать маленьким бунтом. Он едва не навлёк на всех нас то же проклятие, что лежит на этом ужасном ребёнке! Я не понимаю, почему вы не изгнали её раз и навсегда. Пусть хоть сгниёт где-нибудь далеко, среди холмов…
– Вижу, дитя, что твоё сердце ожесточилось. Оно прячется в груди, точно свежевыкованное лезвие, и шипит, исходя паром. До тех пор пока она не вошла во Дворец, её демоническая природа нам не угрожает. Поживи на свете столько же, сколько я, и поймёшь, что с демонами нужно обходиться дипломатично. Изгнать её в пустоши означает навлечь на себя гнев созданий, давших ей жизнь. Почему она должна нас волновать? Она ведь не приближается ни к одним из серебряных врат. А мальчишка пообещал больше с ней не видеться. И над всем этим высится один-единственный довод, подобный заснеженной горной вершине: ты не можешь наказывать младших за проказы, запирая их в башне. Это неподобающее поведение, свидетельствующее о прискорбной нехватке изобретательности. Придумай что-нибудь другое, Динарзад. А теперь иди!
Взмахом унизанной золотыми кольцами руки Султан отпустил дочь. Она покрылась тёмно-красным, будто гаремные шелка, румянцем и вышла из тронного зала, держа спину неестественно прямо и вскинув подбородок.
– Эта девочка – маленький деспот. Какая жалость, что она не родилась мужчиной. Из неё получился бы превосходный султан, – задумчиво произнёс монарх и принялся за еду.
Разумеется, Динарзад не могла перечить отцу. Однако, снуя по залам, как быстрый челнок, она то и дело потирала спину – одна из матерей отлупила её, узнав о случившемся под крышей дома предательстве. Жестокость необходима – Султан просто не позаботился узнать, что за неблагоразумные поступки детей гарем наказывал её. Лиловые и желтые синяки расцветали на коже, словно цветы на лугу, и Динарзад с трудом сдерживала слёзы. Подымаясь по ступенькам узкой винтовой лестницы, она придумывала новое наказание, и замысел рос в её воображении, как хрупкий стебелёк пшеницы.
Отперев тяжелый замок, она вошла в комнату на вершине башни, где оставила брата. Внутренне она была полностью готова к тому, что его там не окажется, и комната будет пуста, как пересохший колодец. Она приказала себе быть сильной, так как впереди маячили новые побои, которые следовало перенести стоически.
Но мальчишка дремал на подоконнике, опустив взъерошенную голову на изъеденный ветром камень, и его глаза двигались под веками – сон был глубоким и вязким, как подогретое вино с пряностями. Солнечный свет сделал его волосы подобными углям в железной жаровне, языкам пламени за чёрной решеткой. Динарзад, удовлетворённая зрелищем усмирённой гордыни, позволила себе ласково улыбнуться. Тем не менее, когда она разбудила брата, её голос был суров, точно крокодилья шкура:
– Вставай, негодник! Хватит спать. Будешь работать в кухне. Раз уж ты бродишь по Саду, как бездомный пёс, привыкай питаться отбросами. А поскольку сегодня во Дворце обедает Королевская гвардия, скучать тебе не придётся. К концу дня так устанешь, что и не вспомнишь о своей маленькой демонице.
Мальчик проснулся быстро – ему хватило ума не показывать свою слабость после бессонной ночи или песок в глазах. Он с мрачным весельем последовал за сестрой вниз по лестнице, а потом – в недра Дворца. На кухнях словно бесновался табун быков: в печах гудело пламя, из-под медных крышек вырывался пар, будто в котлах варилось какое-то магическое зелье. Повара и горничные расхаживали с величественным видом и орали друг на друга с одинаковой яростью; их рабочая одежда была испачкана соусами, сиропами и пряностями всевозможных цветов. Динарзад безжалостно ткнула брата в спину, заставляя войти.
– Повариха за тобой присмотрит. Будешь её слушаться, понятно? У меня нет желания возвращаться сегодня в эту преисподнюю. Еда приятнее выглядит на тарелке. Удачного дня, братишка.
Сказав это, она исчезла в вихре белых шелков и тёмных струящихся волос.
Повариха возвышалась над ним – большая дебелая корова с отвисшими щеками, как у гончей, и животом, который внушительной складкой плоти нависал над повязанным на талии фартуком. Глаза у неё были бледно-голубые, рыбьи, и правый немного слезился. Когда она окинула мальчика взглядом, ему показалось, что улитка проползла по коже. Она оценивала его, как генерал оценивает солдата-новобранца.
– Эх, – со вздохом сказала она, колыхнув животом, – неженка вроде тебя и гренки не поджарит, так что ступай мыть полы. Под ноги не лезь и не воруй, ясно?
Взмахом руки она указала на деревянное ведро с серой водой, от которой несло щёлоком, и ринулась к группке старших поваров быстрее, чем это казалось возможным, – будто гиппопотам, погнавшийся за злополучными речными лодками, – на ходу успев наорать на беспомощную горничную.
Мальчик драил полы, пока пальцы не стали красными и морщинистыми, словно древесная кора, но втайне наполнен был ликованием, как мешок вора – золотом. Он устроит девочке настоящий пир, потому что на огромной кухне можно раздобыть всё, что по желаешь. Готовился пышный банкет для Королевской гвардии, которой так редко удавалось разместиться на постой в пределах Дворца, что каждое её появление влекло за собой роскошные пиршества, устраиваемые быстрее, чем расцветают одуванчики на дворцовых клумбах. Утром забили громаднейшего кабана, и теперь он располагался на главном столе, как могущественный лорд, поблескивая жиром. Оставалось лишь дождаться, когда суетливые, точно мускусные крысы, горничные отправятся прислуживать в пиршественный зал, а повара пойдут к дворецким, чтобы сообщить меню. Тогда великий кабан останется без охранников.
И действительно, когда лиф ночи со шнуровкой из тающих солнечных лучей затянул небо, все обитатели кухни покинули её, и мальчик оказался там один. Повариха к этому времени, похоже, забыла о его существовании.
Своим маленьким кинжалом он отхватил несколько ломтей жирного розового кабаньего мяса и заново разложил глянцевитую зелень, чтобы прикрыть дыру на месте украденного, после чего отправился за другими сокровищами. Мальчик спрятал за пазухой посыпанные сахаром булки и кусок сыра, туда же запихнул копчёную рыбину и несколько сонь-полчков[8], вымоченных в перце и мёде, которых обожал Султан. Убегая на свободу, он в последний раз оглядел «тюрьму», куда его заточила сестра, и с ухмылкой цапнул блестящее красное яблоко из пасти кабана. Он прокрался наружу так тихо, как мог, и прошмыгнул в Сад через сверкающие серебряные врата, прижимая добычу к груди. Его сердце билось, как молоточек, ударяющий по колоколу из слоновой кости.
В Саду
Однако той ночью мальчик её не нашел.
Он сидел у подножия одной из громадных мраморных статуй, закинув ноги на каменный хвост танцующей русалки, и в одиночестве поедал холодную свинину, закусывая яблоком. Он не понимал, почему девочка нарушила обещание и не появилась как всегда – словно волшебница, приносящая истории, одетая в шелка и серебро. Жуя медовое мясо в темноте, он смотрел на россыпь звёзд в ночном небе и воображал себе её лицо: тайное, появлявшееся в моменты, когда она глубоко погружалась в свои истории, а её окутанные дымом глаза двигались под чёрными веками. Вдруг ему в голову пришла ужасная и страшная мысль – что, если он ей совсем не нравится, она просто хочет рассказать все истории, чтобы снять с себя проклятие и чтобы странная магия, поселившаяся в запятнанных глазах, освободила её из Сада. Может, он был для неё всего лишь ушами? Мальчик задрожал, почувствовав, как ледяной холод впивается в кости. Она его бросила, и теперь его удел – тяжкий груз тоски и тишины. Её отсутствием нельзя пренебречь, как невозможно не заметить статую в мерцающем лунном свете.
Той ночью ночей он тонул в самообмане до утра и вернулся в свою постель, лишь когда небо окрасилось в льдисто-золотой цвет.
В последнюю ночь полнолуния мальчик забрёл в западную часть Сада, где на холодном свету блестело маленькое озеро, в котором плавали косяками рыбы с золотистыми глазами. Еды при нём не было – он почти утратил надежду разыскать девочку. Срок наказания истёк, и он снова ужинал с братьями, поэтому воровать еду было непросто. Динарзад удваивала сложность задачи, каждый вечер садясь рядом с мрачным видом и не обращая внимания на удивленные взгляды других братьев. Он её ненавидел – эти тонкие пальцы, снимавшие шкурку с жареной перепёлки и державшие нож в точности под тем углом, как их учили, словно в этом не было особого труда и за привычку не пришлось заплатить годами шлепков по рукам.
Мальчик присел на траве у самой воды, мрачно взглянул на редкий туман и начал ковыряться в гальке под ногами. Его рот сделался похожим на серп, маленькую луну, чьи рожки всё время тянулись к чёрной земле. Он принялся бросать камешки в спокойную воду, прислушиваясь к их деловитому плюх-плюх-плюханью, а потом вдруг краем глаза заметил что-то белое среди теней, и его сердце кувыркнулось, словно изголодавшаяся рыба в попытке поймать стрекозу.
Девочка стояла по пояс в воде, её длинные угольно-чёрные волосы были собраны во влажный растрёпанный узел на затылке и заколоты ивовыми прутиками, капли воды блестели на животе, маленьких грудях и руках – руки она раскинула в стороны, будто ребёнок, желающий схватить луну. Глаза девочки были закрыты, она его не видела. И потому он глядел на неё без стыда, не в силах пошевелиться или позвать, будто пустил корни в мшистую землю, увидев, как она восходит в ночи, бледная, точно дыхание звёзд… И эти её закрытые глаза, как две полные секретов тёмные ямы на призрачном лице. У мальчика перехватило дыхание.
Девочка медленно открыла глаза, хотя показалось, что на самом деле она их закрыла, спрятав тёмные пятна на веках за холодным светом глаз. Она посмотрела прямо на него, и он залился краской, ожидая, что она рассердится и стыдливо спрячется от него. Однако девочка спокойно глядела на мальчика, продолжая купаться в воде и лунном свете, даже не попыталась прикрыться. Они ненадолго застыли, пока широколистные деревья продолжали о чём-то шептаться над их головами. Наконец девочка выбралась с мелководья на берег и натянула своё ветхое платье. Он ринулся к густым зарослям травы, где она устроилась, и неожиданно для самого себя схватил её за плечи.
– Где ты была? – сдавленным голосом спросил он. – Я семь ночей тебя искал!
Девочка склонила голову набок, точно воробей при виде горсти зерна.
– Ты… ты сказала, что знаешь другую историю… более странную и чудесную, чем та… я думал… – Он беспомощно уставился на собственные руки. – Я думал, ты хочешь рассказывать мне свои истории. Я думал, ты расскажешь их все, – договорил он сбивчиво.
– Я расскажу тебе новую историю, если ты этого хочешь, – ответила она ровным и холодным голосом.
– Что произошло? Почему ты спряталась от меня? – воскликнул мальчик.
Девочка заправила за ухо шальную прядь.
– Я не пряталась – по крайней мере, не собиралась этого делать. Просто ты меня не нашел. Сад обширен, и мне жаль. Люди приходили и уходили с той поры, как ты в последний раз слышал мой голос, и я не могла показываться на глаза. – Она опять одарила его странным птичьим взглядом, и в глубине её глаз что-то сверкнуло. – Хочешь услышать ещё одну историю, записанную на моих веках, о кораблях и святых, о девах и чудовищах, о грезящем городе?
Мальчик прикусил губу. Он понимал, что из вежливости надо спросить, как у неё дела, не трудно ли было скрываться от внимания знатных лордов, хорошо ли она ела без него… Но он так давно не слышал обещаний поведать об удивительных созданиях, что отголоски её слов звучали теперь внутри него, будто звон церковных колоколов или якорные цепи, падающие в беззвучное море. Мальчик так возжелал их, что не смог быть вежливым.
– Расскажи, прошу! – прошептал он.
Девочка уселась поудобнее в траве, под ароматной сенью коричных деревьев и звёзд, похожих на висячие сады, и заговорила – её голос вновь сделался бархатистым и мягким, как шкура кошки из джунглей.
– Жила-была девочка по имени Седка, и никто в целом мире её не любил.
Сказка о Седой девочке
Вообще-то её не всегда так звали. Когда-то девочка жила в городе под названием Аджанаб – зажиточном и хорошо построенном местечке, пировавшем и процветавшем в дельте широкой реки, полной золотого ила. На улицах Аджанаба горделиво развевались алые флаги, а сами улицы, великолепные и извилистые, тянулись к его драгоценному сердцу. В доме матери девочку все любили и оберегали, и казалось, что так будет всегда, что ветер с запахом корицы всегда будет касаться её кожи, пока она спит.
Но Аджанаб угас, как угасают города, и однажды наступил день, когда рыба ушла из окрестных вод, а торговцы уже не хотели пробираться сквозь густую грязь, чтобы попасть в блистательную гавань. Люди один за другим начали покидать свои выкрашенные извёсткой дома. Они бросали плодородные поля, которые раньше с такой любовью и постоянством затапливали чистые зелёные воды.
Седка, ничем не отличаясь от множества других, кому было не суждено вновь назвать тёплые и ветреные южные края своим домом, стояла с родителями на палубе корабля и смотрела, как вдали исчезает город с перламутровыми куполами, превращаясь в мерцающую чёрточку на фоне моря. Она дни напролёт глядела за борт, её волосы путались на солёном ветру, и, хотя родители просили её спуститься в трюм, она не слушала. Они отправились на ледяной север, в другие гавани – большие и маленькие, где потерянные дети Аджанаба могли вновь разбогатеть благодаря китовому мясу и тюленьему жиру. Их путь лежал в город Мурин, который располагался на берегу залива, у края серых бурливых вод, словно дитя у материнской груди, и служил пристанищем для любого корабля, пересекавшего бриллиантово-блестящие волны.
Но путешествие оказалось сложным для её родителей: в Мурине царила бесконечная зима, холода были жестокими, а люди – холодными и суровыми, как снег на плоской крыше. Неустанная дрожь пробирала их до костей, и, не прожив на солёном ветру у моря и года, родители Седки умерли.
Она росла медленно, как ясеневое деревце, жила на грани нищеты и голодной смерти, занимаясь починкой сетей с рыбачками, когда они разрешали ей делать часть своей работы, выполняя странные поручения в доках. Всё ради нескольких грошей, чтобы купить кусок черствого хлеба и к нему – чуток тюленьего жира.
Седка отличалась находчивостью, но не красотой. Лицо у неё было простецкое, ничем не выделявшееся и не запоминающееся. Глаза – водянисто-зелёные, как неглубокие озёра в зимних сумерках. Узкие губы вечно трескались; кожа не молочной белизны, как у девушек, которые ели апельсины и клубнику с серебряных тарелок на завтрак, и не загорелая, как у дочерей докеров. Она грызла ногти и общипывала шелушащуюся кожу на тыльной стороне ладоней. Хотя Седка была того же возраста, что и любая девушка из числа тех, кто проводил дни, развлекая поклонников в парчовых гостиных, где звучал тихий смех, встретив её на улицах деревни, люди думали, что видят ребёнка. Седка не была такой высокой и стройной, как те прелестницы, – её бы вовсе никто не замечал, если бы не волосы.
На следующий день после похорон отца и матери девочка стала седой, точно старуха. Волосы падали на её костлявую спину водопадом всех оттенков штормовой пены: сланец и серебро, лёд и пасмурное небо, дым и туман, пепел и железо. Это было не больно – она просто проснулась, чувствуя под ногтями могильную грязь, и увидела в зеркале, что цвета её родины, раньше мерцавшие будто пламя лампы в её густых локонах, исчезли без следа. Она была бесцветной, как океанская пена на обломках кораблей, разбившихся о рифы.
Так уж вышло, что девочка стала помощницей рыбачек, которых в доках было множество; с ними она чинила сети и латала паруса. Именно из-за волос они прозвали её Седкой. Муринцы не любили девочку, но терпели и давали работу, чтобы у неё в животе не урчало от голода, хоть он и не бывал полным. Они не замечали, когда она спала в похожих на пещеры складах корабельных плотников, свернувшись клубочком внутри недостроенного клипера. Седка искала утешения среди теней, не поднимала головы и шла по жизни с грузом печали, который уже успела взвалить на свои хрупкие плечи.
Как-то вечером она вместе с круглолицей женщиной натруженными пальцами чинила последнюю сеть, большую и серебристую, и, подняв голову от работы, обнаружила, что рыбачка сунула в складки её желтой юбки апельсин. Седка посмотрела на свою благотворительницу, чьи распущенные каштановые кудряшки обрамляли лицо, которое могло бы принадлежать упитанному гному, – круглое, весёлое и краснощёкое. Тело у неё было крепкое, как у моржа, гладкие мышцы выделялись под слоем жира. Женщина подмигнула Седке, не переставая делать быстрые стежки, её мясистые пальцы так и мелькали среди льняных верёвок.
– Не хочу, чтобы твои хорошенькие зубки выпали, милая. Апельсины тут как рубины, их любят сильнее золота и ценят вдвойне. Старый друг с юга каждую зиму присылает мне ящик. А кто-то вроде тебя заслуживает время от времени получить рубин.
Седка повертела в руках полыхающий фрукт. Когда она заговорила, её голос был тихим и хриплым, потому что ей редко приходилось им пользоваться; он скрипел, как латунные ворота, которые долго не открывали.
– Там, где я родилась, они растут на деревьях – сотнями, будто капельки огня. Моя мать добавляла корочки в пироги.
– Выходит, ты где-то родилась! – Женщина рассмеялась, и её грузное тело содрогнулось, точно рыкнувший медведь. – Ты не вышла из волн уже взрослой, не приплыла к берегу на раковине? Что ж, теперь мне будет спокойнее: не хотелось бы провести половину рабочей смены бок о бок с наядой.
Седка моргнула, коснувшись высоких скул ресницами, бледными, словно покрытые ледяной коркой паруса.
– Так вот что про меня рассказывают?
– Кое-кто любит небылицы. Но про тебя говорят редко – ты незавидная невеста и будешь жить в доках, пока не примёрзнешь к доскам. Такая жизнь редко вдохновляет сплетников на то, чтобы почесать свои длинные язычки.
Седка не нахмурилась, как на её месте поступила бы другая, а просто забралась назад в раковину, из которой чуть выглянула на ласковый голос незнакомки. Та протянула руку с толстыми пальцами, унизанными железными кольцами, и положила её девочке на плечо.
– Я не хотела тебя обидеть, милая, – меня-то точно не назовут Королевой китовых песен ни ближайшим летом, ни потом. Не хнычь, не надо! Просто у Сигриды язык без костей и рот открывается без спроса.
– Не переживай, – резко ответила Седка, стряхивая её руку. – Плакать не стану. Ты сказала правду, я знаю.
Сигрида одарила седоволосого ребёнка долгим взглядом, медленным и оценивающим, – так ювелир изучает потемневший от времени сапфир.
– Это ещё надо поглядеть. Когда я была молода и красива, мне казалось, что я знаю правду. Думала, всегда буду бегать так быстро, как захочу, и моей любимой едой будет тюлений бок да пеликаньи яйца. Потом мир изменился, и я повзрослела. Теперь ничего не знаю. – Сигрида выпрямилась и опять запустила короткопалые руки в сеть. – Я расскажу тебе историю своей юности, если хочешь. Это поможет не скучать за работой.
Седка кивнула, желая услышать что-нибудь, чтобы отвлечься от холода, который превращал пальцы в сталактиты, и от мёрзлой ночи, которую ей предстояло провести скорчившись в пустом и холодном корпусе корабля.
Сказка Плетельщицы сетей
Когда я только-только стала женщиной и кровь ещё кипела в моих жилах, заливая щёки скорым румянцем, я страстно желала покинуть мёрзлые пустоши, где жила моя семья. Там меня ничто не держало. Мои братья и сёстры выросли и посвятили себя храму или фермерству, а моя мать не смотрела в мою сторону, надеясь, что и я покину дом. Но я медлила – в том заснеженном краю оставались вещи, которые я любила, и мне было боязно отправляться в мир.
Однажды весной, когда лишайник отрастил зелёную бахрому и сделался упругим, в нашу деревню прибыли монахи. Чужестранцы для нас священны, поэтому их приняли без лишних вопросов. Моя мать вытянула жребий на то, чтобы дать им приют, и так вышло, что три брата ели, беседовали и спали под нашей крышей, покрытой слежавшимся снегом.
Поначалу они не снимали тёмно-алых капюшонов, бормотали благодарности и неуклюже кланялись, когда мы подавали им ужин из почти сырого лисьего мяса и пластов лишайника. Меня мучило любопытство, свойственное всем девушкам моего возраста, я заглядывала под их капюшоны во время ужина, пытаясь хоть немного разглядеть лица. Наконец средний брат выпрямился, отбросил верхнюю часть рясы с лица и уставился на меня мутно-желтыми глазами.
– Ты это хотела увидеть, малышка? – прорычал он. Действительно прорычал, потому что у монахов были тела крепких мужчин, а на плечах сидели огромные песьи головы с вытянутыми челюстями, меж которыми, как внутри колоколов, виднелись языки. Шерсть у них была густая и длинная; она падала на плечи, грубо подстриженная, как бороды горных мудрецов. У одного брата шкура синевато-белая, у другого – чёрная, местами коричневая, а последний был глубокого красно-золотистого цвета, будто шевелюра юной девушки. Но глаза у всех троих были холодные и суровые, цвета старых мхов, серых и золотых одновременно.
Я разинула рот от изумления, но это лишь заставило гостя рассмеяться, и его смех напоминал скрежет камней.
– Мы не волки-оборотни, милая, если вдруг ты подумала об этом, – сказал рыжий пёс, ухмыльнувшись. – Мы кинокефалы, псоглавцы[9]. Это совсем другое.
– Мяса не едим, кстати говоря, – заметил белый, указывая на свою тарелку, где лежал нетронутый розовый ломоть лисятины.
Моя мать тотчас же рассыпалась в извинениях, до смерти перепугавшись, что заставила их согрешить, – некоторые мои братья и сёстры посвятили себя церковному служению, и матушка была весьма осторожна в деликатных вопросах веры. Средний – явно кто-то вроде вожака стаи – посмотрел на неё своими водянистыми глазами и сказал успокаивающе:
– Нет-нет, мясо нас не оскорбляет, мы просто его избегаем. Удел просветлённых – не питаться едой, что была живой… Я себя едой не считаю, так почему же подобный жребий должен постигнуть иные существа? Впрочем, наш орден довольно строг. Мы уж точно не станем требовать от наших хозяев осведомлённости в Писании – особенно в тех случаях, когда ведём себя невежливо и не предлагаем ничего взамен. Но мы всё же с особой тщательностью соблюдаем духовный… этикет. В этих краях верований немало. Некоторые не допускают, чтобы священный гость говорил о себе или вообще говорил. Другие не позволяют произносить имена, пока трапеза не окончена. Так как мы почти доели то, что нам позволено есть, я начну. Я Варфоломей, а это мои братья. Валтасар, – сказал он, указав на синевато-белого кинокефала, – и Бадмагю[10],– на рыжего. Повернувшись ко мне, он лукаво прибавил: – Но ты можешь звать его Бад. Все его так зовут. Мы принадлежим к Ордену алого капюшона, и под капюшоном мы едины. – Тут все трое изящно сложили руки и шепотом прочитали некую молитву.
Потом Валтасар перехватил нить разговора и, шипя сквозь длинные зубы, сказал:
– Мы направляемся домой, в Аль-а-Нур, Град пресветлый, в Хризантемовую Башню. Мы послы, коим было предписано остановить великий разлад. Теперь, исполнив свой долг, можем вернуться в Башню, где появились на свет.
Наверное, тогда я казалась сущим ребёнком, сидевшим у их ног с глазами-блюдцами и открытым ртом и пробовавшим незнакомое слово на вкус, как пряный пирог: Аль-а-Нур. Мать глядела на меня с подозрением, но я её не замечала. Я умоляла рассказать о городе, который в моём сердце уже стал святейшим из всех, что когда-нибудь пребывали на земле.
– Ты в самом деле никогда не слышала о Городе двенадцати башен, девочка? – Варфоломей погладил свою шерсть, точно бороду, с изумлением глядя на меня. – О Престоле Папессы, Рождённой в порфире, и о Миропомазанном граде, что сияет будто летняя звезда?
– Никогда! – воскликнула я срывающимся голосом.
– Что ж, хорошо. – Он коротко рассмеялся и выпрямился с видом учителя, готового начать урок. – С позволения твоей доброй матушки, я расскажу о Грезящем городе, пребывающем среди ангельских сфер.
Сказка о Городе
Слушай, дитя, и я расскажу тебе про Аль-а-Нур, где стоят Двенадцать башен, Миропомазанный град. Основан он был тысячу лет назад, в семьсот пятьдесят третьем году Второго халифата. Башни покоятся на фундаменте из литого агата и порфира, заострённые окна высечены изящными арками. Чистые зелёные пруды выкопаны в глинистой земле, рядом высажены тамаринды и пальмы, ивы и берёзы с бледной корой. По акведукам бежит свежая вода, она же бурлит в фонтанах из серебра и стекла. Дороги устроены кругообразно, согласно доске для нашей священной игры ло-шэнь, названной в честь речной богини[11], которая оградила своими водами благословенный Град. Они вымощены лазуритом и бирюзой, коих в близлежащих горах обширные залежи – даже сегодня эта брусчатка сияет глубоким синим светом.
Рынки появлялись как грибы после дождя, заполняя тупики и цитадели ароматами шафрана и жареного мяса. Торговцы приходили, чтобы продавать кукол и ларцы, лоснящихся гнедых коней и любовные обереги, и оставались, чтобы созерцать божественность, свойственную обмену золота, в великолепных Башнях, составлявших вместе множество сердец Города.
Башни расположены согласно узору «чанъэ» – идеальной оборонительной позиции фигур ло-шэнь. На внешнем краю высится Башня Солнца-и-Луны, чья крыша увенчана огромным алмазом и топазом, слитыми в немыслимой печи. Превратившись в единый камень, они отражают небесный свет на Город, превращая его в водопад. Там же, на краю, стоит Башня Отцеубийц, яркая от крови, что сочится между её полированных камней тонким, но уверенным потоком и собирается в мерцающем багрянцем рву у подножия, и Башня Льда-и-Железа, чей витой металлический шпиль касается облаков. Во втором круге стоят Коралловая Башня – её щербатые тёмно-розовые стены покрыты анемонами, и старательные послушники постоянно их увлажняют; Башня Гермафродитов, занавешенная покровами и исписанная священными идеограммами, нанесёнными серебряными чернилами на золотые стены; Хризантемовая Башня, яркий камень, украшенный шестнадцатилепестковыми хризантемами, бросающими золотые и алые отблески в лучах полуденного солнца; и Башня Святой Сигриды, ощетинившаяся корабельными носами, штурвалами и мачтами. Во внутреннем круге стоят Башня Соловья, в чьих стенах свистит и нежно поёт, как соловей, ветер, и Башня Девяти стеблей тысячелистника, стены которой представляют собой предсказательную машину, расписанную тысячью красок; игру цветов в лучах солнца и в тени по сей день толкуют тамошние обитатели[12]. Ещё есть Башни Живых и Мёртвых, когда-то стоявшие гордо и прямо: одна – со стенами из перьев ястреба и сокола, с крышей из пучков шерсти и дверьми из змеиной кожи, другая – сплошной чёрный лабиринт из катакомб и щелей. Однако с течением времени они сильно накренились друг к другу и теперь почти соприкасаются. Между их верхними этажами наведён мостик из шелка и эбенового дерева; посвящённые спокойно переходят по нему из одной башни в другую.
Наконец, в центре Аль-а-Нура воздвигли изящную, простую башню из камфорного дерева и корней розовых деревьев, скрепленных серебряными гвоздями, чьи шляпки созвездиями блестели на полированных стенах. Кровля её была из ивовых веток, окна занавешивали мягкие оленьи шкуры – это Башня Папессы, святейшее место в святом Граде.
Ибо Аль-а-Нур – дом двенадцати религий, коими руководит Папесса, чья мудрость вела нас с ранних времён. Каждая Башня – самодостаточная духовная сфера, в каждой свои службы, посты и писания. Божественное познают мириадами способов, но признание Папессы обеспечивает мир. Халифат, управляющий окрестными землями, даёт Аль-а-Нуру полный суверенитет – так было на протяжении веков процветания и спокойствия. С разных сторон света являются юноши и девушки, желающие провести свою жизнь в размышлениях, и там, под светом Солнца-и-Луны, они находят близкий им путь. Аль-а-Нур – резной ларец, в котором хранится мудрость всего мира и знание, потерянное для тех, кому нет хода в наши веретенообразные Башни. Это рай для жаждущих и мудрых.
Конечно, наш мир иногда прерывался. После смерти Гифран Милостивой Халифат выдвинул на папство чужачку Ранхильду Первую и разместил её в Шадукиаме, городе на востоке, пытаясь притянуть к себе богатство Аль-а-Нура и перенести религиозную власть, которая всегда пребывала в Двенадцати Башнях, в этот отступнический город, где – какое совпадение! – находилась и сокровищница Халифа. Фальшивая папесса, называемая также Чёрной, представляла собой великую проблему для Башен, потому что выбирать новую очень сложно – для этого требуется согласие всех сект города, а также папского двора. Гифран умерла внезапно, и наследницу ещё не избрали.
Кандидат объявился в Башне Гермафродитов, и в то время как Чёрная папесса всё больше укреплялась в Шадукиаме и умах людей, Аль-а-Нур был заполнен хаосом, как зимняя буря – молниями. Все соглашались с тем, что пресвитер Цвети обладает познаниями и народной любовью, а также чистотой души, отраженной в каждом произнесённом слове и грациозном жесте. Однако до назначения дело не доходило.
Даже тебе должно быть ясно, дитя моё, что адепты Башни Гермафродитов скрывают свой истинный пол, не желая выступать в качестве мужчин или женщин. В этом нет ничего постыдного, такова их природа и природа космоса, как они его понимают. Хотя каждый родился дочерью или сыном, они носят болезненно тугие покровы, прячут волосы и никому не открывают тайну своего пола. Для них самая божественная из всех вещей – слияние противоположностей, света и тьмы, священного и богохульного, мужского и женского. Они верят, что благословенны соблюдающие равновесие, замершие, будто человечий маятник между двумя состояниями, способные уникальным образом воспринимать мир одновременно как мужчины и женщины, как не те и не другие. Но папство основывается на матриархате, и так было всегда. Поэтому кое-кому Цвети казался – или казалась – кощунством, загрязняющим Святой престол. Если пресвитер был мужчиной, немыслимо требовать для него престол, а если женщиной, ей следовало открыть это всем и соблюсти закон Города. Повсюду шли ожесточённые споры, они распространялись со скоростью лесного пожара.
Разумеется, Башня Цвети, которой ещё ни разу не выпадала честь занять высочайший пост, думала, что отказ принять столь блистательного кандидата будет наглым оскорблением их ордена. Многие – например Башня Отцеубийц, по сути исключительно мужская секта, и Драги Селести из Башни Льда-и-Железа, беззаветно преданные традициям Города священники-воины, которые прячут лица под одинаковыми масками из слоновой кости в виде змеиных морд, – не поддержали бы никаких изменений в законах престолонаследия: отчасти из страха, что в итоге изменятся их собственные внутренние обычаи. Никто не осмеливался создать прецедент.
Цвети любил/а Аль-а-Нур больше всего на свете и, опасаясь, что в поднявшемся хаосе папство будет уничтожено руками Ранхильды и Халифата ещё до того, как примут окончательное решение, отозвал/а свою кандидатуру. Иных, достойных в той же степени, что и он/а, претендентов не нашлось – никто не мог с той же лёгкостью медитировать, никого не любили так сильно во всех Башнях, как Цвети, чей голос был подобен звуку большого колокола. Все соглашались, что в такое страшное время только Цвети по силам вести войска на Шадукиам. Препятствием были форма бёдер и густота ресниц, а не святость пресвитера и не искренность веры. Город оказался в тупике, а Ранхильда в это время укрепляла свой авторитет на востоке и раздувалась, точно сытая паучиха.
И вот однажды утром Цвети появилась в примыкавшем к Папской Башне Нефритовом павильоне, чьи бледно-зелёные стены переливались в скудных лучах зимнего солнца. Она сняла ритуальную одежду своей Башни и надела бархатное платье, которое туго обтягивало её талию и струилось до нефритовых плит, вымостивших внутренний двор, превращаясь в длинный шлейф. Её груди, никогда не видевшие солнца и гладкие, точно новая бумага, виднелись в вырезе украшенного вышивкой лифа. Она распустила традиционные семь узлов в волосах и позволила им, прямым как добродетель, упасть на плечи. Надела кольца и надушилась, накрасила губы и обулась в шелковые туфли. Ей необязательно было этого делать – хватило бы признания истинного пола на словах, – но роскошь демонстрировала глубину её смирения и показывала всем, как далеко она готова зайти, чтобы стать той, в ком нуждался Город.
Цвети стояла перед Башней, как перед виселицей, и по её гордым щекам текли слёзы – но губы не дрогнули, когда она преклонила колени перед Папским двором и отреклась от догматов своей веры, взамен поклявшись служить только Папской башне и никогда больше не скрывать свою природу; что бы ни случилось, она обязалась поступать на благо Города, продолжая линию Папесс, правивших до неё. Папский двор, не удержавшись от слёз потрясения, принял её присягу; Башни с восторгом и смирением утвердили пресвитера Цвети как семнадцатую Папессу Аль-а-Нура. В день своего восшествия на престол она отправилась в пещерный склеп под Башней и с великой нежностью поцеловала гроб своей предшественницы. И там, среди погруженных в тени комнат, объявила, что берёт имя мёртвой Папессы, Гифран, и звать её отныне нужно именно так.
Гифран II повела великую армию Драги Селести в тысяче одинаковых масок на Шадукиам и послала язык и груди Чёрной папессы в Халифат в серебряном ящике. Как отмечали генералы, во время похода, прежде чем отправиться на битву, новая Папесса всегда завязывала волосы семью узлами. То, что осталось от Ранхильды, она предоставила на суд Драги, которые поместили тело отступницы в точности посередине между Аль-а-Нуром и Шадукиамом, приковав его к земле золотыми цепями.
На пятьсот лет Халифат избавился от желания вмешиваться в вопросы престолонаследия.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
Я к тому времени уже дремала, опустив голову на грубо сработанный стол и позволяя голосу Варфоломея омывать меня, как нежные волны омывают камни. Но Аль-а-Нур вырос во мне во всём многоцветии, и я ощущала острую тоску, когда он крутился в моём нутре, теплея. Все мои братья и сёстры ушли, я тоже наконец была готова – отчего бы мне не покинуть убогую хижину, где взгляд матери обжигает спину, куда бы я ни шла?
– Возьмите меня с собой, – прошептала я, вскакивая. Мои глаза вдруг засияли и сделались расчётливыми, как у голодного котёнка в снегу. – Возьмите в Аль-а-Нур, Хризантемовую башню и зелёные пруды под ивами. Там я стану такой же мудрой, как вы, вот увидите!
Я крепко сжала руку рассказчика, но потом увидела в его глазах изумление и позволила его мозолистым пальцам снова опуститься на наш стол.
Бад – так я уже звала этого брата про себя – вгляделся в меня, его глаза превратились в два осколка луны в шерсти кровавого цвета. Он посмотрел на Варфоломея и прошептал:
– И волк с пути её собьет…
– Что? – спросила я, прислушиваясь к их внезапно затихшим голосам. Но Варфоломей широко ухмыльнулся, дружелюбно вывесив большой язык из пасти.
– Ничего, моя дорогая, – вмешался Валтасар, тряхнув шерстью цвета льда, – просто отрывок из Писания: «Книга Падали», глава двадцать восьмая, стих десятый. Если ты отправишься с нами, выучишь его и многое другое. Разумеется, мы тебя возьмём – законы Башни запрещают нам отказывать искателям истины. Но, возможно, решать не только нам…
Широкая спина моей матери чуть подрагивала, но я не знала, плачет она от печали или от облегчения. Однако слёзы высохли быстрее, чем снег падает с сосновых веток на мёрзлую землю. Я подошла и положила свои руки ей на плечи, прижалась лбом к тёплой коже.
– Иди, – хрипло проговорила она. – Просто уходи. Если Звёзды пожелают, чтобы мы снова встретились, они укажут тебе дорогу.
Мать оттолкнула меня и вышла из большой комнаты, ступая тяжело, вперевалку. Я начала собирать еду для себя и моих новых братьев – нам был нужен хлеб для путешествия на юг.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
– Я тебе не наскучила, милая? – Сигрида поёрзала на скамье. Ячейки сети унизывали её пальцы, как серебряные кольца. Уже давно миновал полдень, и болезненный свет северного лета расплескался над неподвижной, точно разбавленное молоко, водой у причала.
– О нет, – выдохнула Седка, и её бесцветные губы сложились в подобие улыбки. – Не останавливайся! Ты увидела Двенадцать башен? Ты встречалась с Папессой? Она была очень красивая?
– Не припомню, чтобы ты произносила так много слов за раз, девочка. Осторожнее, не то они начнут прыгать друг на друга и заводить детей! Тогда мы не сможем заставить тебя молчать.
Седка на миг застыла, а потом спешно отвела взгляд от Сигриды, будто её поймали за разглядыванием витрины, полной пирогов, и начала яростно вязать сеть дрожащими пальцами. Лицо Сигриды смягчилось, словно растаяло, – она на свой грубый лад пыталась подбодрить Седку:
– Милая, мне не довелось стать матерью, и я не знаю, как разговаривать с детьми, маленькими или взрослыми. Но не переставай улыбаться лишь потому, что мой длинный язык иной раз говорит что-нибудь не приукрашенное по краям, вроде кружевной скатерти. Будь со мной пожестче, и мы поладим.
Некоторое время они молчали, слушая, как скрипят и покачиваются корабли в порту, натягивая влажные канаты, которыми они были привязаны к причалу. Чайки орали высокими противными голосами, то и дело падая на мелководье за жирной розовой рыбой. Серебристые волосы Седки отяжелели от сырости; пряди, падавшие ей на спину, завились. Наконец Сигрида опять заговорила, не переставая работать и даже не замедлившись:
– Что касается великого Города, я и впрямь отправилась далеко на юг – прочь из белой пустоши, через поросшую скудной растительностью пустыню, где не было воды, и через долины, где виноградные лозы давали плоды размером со сливу. Псоглавцы будто не знали усталости, красные капюшоны защищали их от бурь и солнечных ожогов, в то время как у меня было лишь платьице и старый драный шерстяной плащ.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
Мы с братьями – как выяснилось, их объединяла не только вера, но и кровное родство – довольно быстро подружились. Они часто говорили о доме и других щенках из помета, которые мирно возделывали поля и знать не знали о теологии. Валтасар лучше всех умел болтать, часто подхватывал и договаривал наши фразы, словно ему не терпелось узнать, чем они заканчиваются. Варфоломей был самым благочестивым и добрым, охранял меня, как пастух любимую овечку, читал наизусть из «Книги Ветви» и «Книги Падали» (хотя так и не объяснил значение странной фразы, обронённой дома за столом). Он предупредил, что я могу выбирать любую Башню, когда мы прибудем, и обещал, что разнообразие религий будет подобно пиршественному столу, который ломится от блюд. Бад был нашим шутом, щекотал меня и учил бороться, игриво захватывая, когда я плохо защищалась. Не понадобилось много времени, чтобы они стали единственными звёздами в моём маленьком небе.
Наша четверка шла по дорогам, куда бы те ни вели, и ела то, что попадалось в изобилии – виноград и яблоки, иногда творог с проезжавшей мимо телеги, но не мясо, разумеется. Кинокефалы заверили меня, что они великолепные охотники, с сильными мускулистыми человечьими ногами и челюстями, способными схватить птицу на лету, так что она и песню допеть не успеет. Но делать ничего подобного они не собирались. Однажды, когда вокруг раскинулась пустыня, точно сброшенное платье, вышитое полынью и пыльной галькой, Бад в ужасной печали принёс мне тощего зайца, умершего от жары. Он не хотел, чтобы мясо пропало, а я сильно изголодалась. Я ведь выросла на лисятине и тюленьем жире, пустыня была жестока к моему юному телу. С желтыми глазами, полными слёз, он положил зайца мне на колени и закрыл ему глаза, словно и это маленькое существо было ему братом.
– Смерть, – прошептал он, и слова лились из его глотки, как кровь из глубокой раны. – В этом паломничестве мы видели столько смертей, что они стали нам привычны, будто плащ на вешалке. Четверо вышли из Хризантемовой башни и четверо возвращаются – но уже не те четверо, что были! Неужели боги смеются над нами с помощью цифр, жонглируя нашими сердцами, как шариками? Ты знаешь, где мы побывали, прежде чем пришли в твою деревню? В чём заключалась наша миссия? Аль-а-Нур – Город света, и луна на его двенадцати башнях словно вода для моего пересохшего горла. Но он так много у нас просит, так много нужно, чтобы он продолжал сиять золотым и голубым светом! – Он схватил свою лохматую голову руками и глухо зарыдал; звуки его фыркающей, рычащей скорби были жуткими на слух. – Я по-прежнему чую на своих руках запах его крови!
Я отложила зайца и попыталась утешить Бада, который всегда был весёлым и позволял себе шутки, за повторение которых мать высекла бы меня. Бада, который стал моим любимцем среди братьев и плакал у меня на коленях, точно осиротевшее дитя.
Я видела, как в нескольких футах от нас мрачными светлячками горят глаза его братьев, но не думала, что они подойдут ближе. «Книга Ветки» учит: «Скорбь – личное таинство. Не давай её другим в подарок». Бад не должен был плакать на моих коленях, братья не хотели усугублять случившееся, свидетельствуя его промах.
Бад посмотрел мне в глаза и проглотил слёзы.
– Всё, что мы сделали, – ради Города и его будущего, сестра. Но я вонзил челюсти в живое горло и теперь не знаю, если согрешить во благо, будет ли это грехом? Прости, девочка, ты не одна из нас, тебя не запятнает и не испортит моя печаль. Давай я отдам тебе свою скорбь – тебе, невинной и не знающей о том, что иной раз приходится делать, не знакомой с тьмой. Давай я расскажу тебе, что мы с братьями сделали ради Аль-а-Нура, Миропомазанного Города, расскажу о четвёртом, чьё место ты заняла.
Сказка Убийцы
Варфоломей рассказал тебе правду о Ранхильде Чёрной, которая назвала себя Папессой пять веков назад и была убита Гифран Самоотверженной. Мы знаем эту историю лучше других, потому что сами её продолжили, когда вышли из Врат Лосося – врат, звавших домой тех, кто уходит в дикие земли, и напоминавших о реке, что дала нам жизнь и куда мы должны вернуться с полысевшими от старости мордами.
Халифат – ныне четвёртый по счёту – всегда завидовал нашей самостоятельности и ненавидел клочок пергамента с отпечатком копыта Первого Халифа, чётко различимым среди трещин, дарующим нам свободу до конца времён. Наш Город превосходит богатством мечты королевских казначеев, а мы не платим дань, не посылаем солдат на войну, не подчиняемся ни одному земному закону. После смерти Ранхильды мы надеялись, что с их вмешательством покончено, урок пошел впрок и дети наших детей никогда не будут бояться нового вероотступничества.
Но, как выяснилось, урока хватило на пятьсот лет и ни годом больше.
После смерти Гифран XII – имя Гифран стало популярным у папесс, хотя волк в моей душе скорбит по не родившейся цепи ясноглазых священнослужительниц, которых бы звали Цвети, – правящую Благословенную Папессу Яшну Мудрую избрали без особых возражений и соблюдя нужные церемонии. Папская башня, как обычно, переливалась всеми цветами, её серебро сверкало, как и в тот день, когда гвозди впервые узнали вкус дерева. Проблем с престолонаследием не возникло. Она была из Башни мёртвых, давшей нам многих серьёзных и спокойных папесс. Так у них заведено: нет лучшего способа думать о будущем, чем помня о смерти. Но Халифат использовал едва заметный период междуцарствия, чтобы во второй раз вмешаться, и под Розовым куполом Шадукиама, как черный телёнок, вновь родилась отступница.
Хуже того, она взяла имя своей предшественницы – это была Ранхильда с диадемой на челе. Она послала людей забрать золотые кандалы, которыми первую фальшивую Папессу приковали к земле между городами, оставленные в качестве напоминания Халифату о том, что Аль-а-Нур никогда не уступит своё место городу грязных торгашей. Говорили, что новая Ранхильда днём и ночью носила эти сломанные цепи, изысканно смотревшиеся на её тонких запястьях, и что древнее золото мерцало на коже. Говорили, её волосы такого же золотого оттенка, а глаза черны и в них не различишь зрачков. Говорили, она даже не называла себя Ранхильдой II, но верила, что она – возродившаяся папесса, и всё время носила тёмно-фиолетовое платье, в котором ранее погребли несчастные кости. Ветхая ткань открывала её призрачно-бледную кожу во многих местах – такого бесстыдства ни одна истинная Папесса себе не позволила бы.
Прошлым летом, однажды поздно вечером, когда небесная синева была глубже любого моря, нас призвали из поющих цветов Хризантемовой башни на аудиенцию к Яшне. Мы пошли, я и трое моих братьев – Варнава был четвёртым из тех, кто стоял перед Яшной и слушал её воронью песню. Его шкура была совершенно чёрной, без коричневых пятен, унаследованных Варфоломеем от нашей матери с крутыми бёдрами. Он считался самым сильным и был самым молодым среди нас.
Присутствие Папессы в простом сером одеянии и безыскусной диадеме позволило нам перестать тревожиться о призрачной правительнице. Мать Яшна уже немолода, её тёмно-коричневая кожа покрыта складками и морщинами, как переплёт зачитанной книги. Когда она протянула руки, чтобы коснуться наших почтительно склонённых голов, её ладони были тёплыми и сухими, будто камни пустыни после наступления сумерек.
– Сыновья мои, слушайте меня внимательно: наш Город вновь осаждён, а я не Гифран. – Тут она улыбнулась, и уголки её рта приподнялись, словно рожки луны. – Я даже не Цвети. Моё тело ничего не может дать Аль-а-Нуру. Я старуха и смирилась с этим. Не могу повести армию против Шадукиама, но даже если бы и могла, мы так долго жили в мире, что, боюсь, Драги уже не те, что раньше. Они упражняются и молятся, но о настоящей войне не знают ничего. На этот раз не удастся просто сокрушить Чёрную Папессу весом наших Башен. Пришло время уловок и хитрости, а этого у меня предостаточно. Я выбрала вас, потому что вас не заподозрят: Алые Капюшоны всегда запрещали любое насилие, никто не поставит под сомнение вашу внутреннюю умиротворённость. Тем не менее я должна просить вас нарушить обеты, как однажды это сделала безупречная Цвети ради служения источнику жизненной силы Двенадцати башен. Покиньте реку и знакомые воды, покиньте шестнадцатилепестковую хризантему. Вы должны отправиться на восток и убить Чёрную Папессу.
О, сестра, хотел бы я тебе сказать, что мы были потрясены и согласились лишь из чувства долга. Но правда заключается в том, что слово «убийство» мало значило дня нас, выросших среди цветов, никогда не пробовавших мяса и даже во гневе не причинявших вреда другим существам. Мы согласились, потому что нас попросила Яшна; она сказала, что мы будем прощены, а нам хотелось, чтобы священное, тайное имя Цвети жило в наших сердцах, хотелось стать спасителями Города, который являлся сердцем наших сердец. Мы не подумали о Ранхильде и нашем задании, охотно принесли клятву и поцеловали старую руку, сладко пахнувшую сандаловым деревом и шуршащими свитками. Не было и тени вины, когда мы отправились в дорогу под низкий гул закрывшихся Врат Лосося за спиной.
От Аль-а-Нура до Шадукиама путь оказался ближе, чем мы думали, – похоже, когда отдыхаешь в объятиях Грезящего города, за его стенами чудится другая вселенная, куда не добраться просто переставляя ноги.
Земли, что лежат между двумя городами, красивы.
Как мы шутили и вприпрыжку бежали среди возделанных полей! Как поедали землянику и апельсины, сверкавшие в утреннем тумане будто огоньки! Варнава получил особое удовольствие на открытых местах, обгоняя нас на своих быстрых ровных ногах. «Вперёд! – кричал он. – Нет причин не наслаждаться дорогой, даже если нас ждёт дело, вызывающее страх и ужас. «Ветвь» гласит: «Не обращай внимания на тьму перед тобой, позади тебя и возле тебя; пребывай всегда во свете открытой души». А черника на обочине так сладка поутру!» Варфоломей пребывал в обычном настроении – раздраженно косился на ночные звёзды. Валтасар позволил Варнаве подбодрить его, и они вдвоём стали прыгать и игриво бороться подле наших ночных костров.
Как сердечно нас приняли среди покрытых солнечными бликами стен Шадукиама! Как блистали его бриллиантовые башенки на фоне огромного плетёного Купола, накрывшего весь город, – он соткан из живых роз, которые вьются по гладкому каркасу, а в красных пятнах, что выделяются на бело-розовом фоне, есть что-то непристойное. Стражники разрешили нам войти, не задавая вопросов. Нашу встречу с Папессой (было очень трудно «откусить» всё, что мы обычно добавляли к её имени, не назвать её Чёрной, Фальшивой или Отступницей; но мы расположили стада своих слов в гениальном порядке) организовали гладко и провели весьма вежливо. Конечно, они сияли! «Папесса благоволит всем сыновьям и дочерям, желающим припасть к её груди, – заверили нас. – Она жаждет собрать свою семью под Розовым куполом и положить конец распрям. Её заботят лишь их души». Нам кланялись и перед нами расшаркивались.
Как же было легко её ненавидеть, сестричка!
Нам не потребовалось тайком проносить оружие в сводчатый зал: мы шли со своими кинжалами у всех на виду – с острыми зубами, доставшимися нам от предков-охотников, не знавших иной плоти, кроме яблок и персиков. Казалось, всего мгновение назад мы радостно скакали через сады, а теперь стоим в её личной приёмной, опускаемся на колени перед странным троном, будто сделанным из тех же роз, что покрывают Купол города. Да, они были живыми и извивались вокруг её тела с распутной близостью.
Преклонив колени, мы не увидели лица Папессы, скрытого под волосами, бело-золотым потоком, похожим на длинную вуаль монашки. Она не поприветствовала нас и не попросила встать. На её запястьях были золотые кандалы, а цепи лениво покачивались, касаясь обнаженных коленей. Знаменитое фиолетовое платье демонстрировало изрядную долю бледного тела: была видна нижняя часть её правой груди, сквозь прорехи в древней ткани пагубно белели части бёдер и живота.
Я всё время думаю, сестра, было ли всё так легко из-за того, что она выглядела призраком, коего нам велели остерегаться? Появись она без прославленных молвой внешних атрибутов, тронула бы нас её красота? Могли ли мы усомниться в своей правоте? Однако Папесса была собственным отражением в зеркале, безошибочным и точным подобием.
– Добро пожаловать домой, блудные сыны, – сказала она голосом глубоким и сладким, как многослойные соты. Голову при этом не подняла. – Дом становится сильнее, когда все дети возвращаются к очагу. Меня воодушевляет то, что вы здесь.
– Это честь для нас, мать. – Варнава прорычал почётный титул, и его вкус был горьким, будто листья лайма на языке. – Яшна послала нас с миссией мира…
Она вдруг вскинула голову, и чёрные глаза сверкнули, как искры, летящие из древней наковальни.
– Яшна послала вас убить меня. Избавить зачумлённый Город от неудобной женщины. Если мои помощники так глупы, что смеют надеяться, будто Аль-а-Нур примет нас, не думайте, что я совершу ту же ошибку. Я Ранхильда и знаю, насколько тяжела длань Аль-а-Нура на самом деле.
Мы взволнованно переглянулись, Варфоломей облизнул чёрные губы. Если она и впрямь настолько сошла с ума, что верит, будто является возрождённой Отступницей, вероятно, убить её будет милостью. Я попытался измерить глубины безумия, прошептав:
– Я знаю, что исход войны для твоей предшественницы был мучительным…
– Нет, сын мой. Не для неё – для меня. Я лежала на камнях, и солнце пожирало мою плоть. Я ворочала бесполезным обрубком языка, умоляя о пощаде. Я видела, как ваша бесценная Цвети закрывала ящик, в котором лежали мои отсечённые груди. И я слышала, как солдаты выкрикивают её фальшивое имя – Гифран! Гифран! Шлюха, предавшая своего бога ради власти. Это новое тело, но я Ранхильда, первая из носивших это имя, и я чума, которая дойдёт до мозга костей Миропомазанного города. Народы обратятся на восток, к Шадукиаму, в поисках божественных ликов; они будут с восторгом и почтением поклоняться Розовому куполу. Руины ваших порочных Башен превратятся в диковинки, которые будут показывать детям, рассказывая истории об упадке бестолковой шайки близоруких монахов и о том, как моё очистительное возмездие покончило с ними. Я не замедлю шага, даже ступая по вашим сваленным в кучу бесформенным телам и хрустящим костям… Яшна – слабоумная истекающая слюной шлюха, и я не боюсь её ручных псов.
– Тебе следует знать, – медленно проговорил Варфоломей, – что очистительное возмездие вершишь не ты, но Халиф. Он использует тебя, чтобы присвоить богатства нашего города. Отчего, по-твоему, он разместил тебя так близко к сокровищнице, амбарам и человечкам, пересчитывающим бриллианты в тёмных комнатах? Разве Шадукиам когда-нибудь был чем-то ещё, кроме банковского сейфа или тарелки, с которой ест Халиф? Коли ты и впрямь Ранхильда и обладаешь такой силой, должна знать, что винить следует Халифат и его жадность – почему бы тебе не обратить свою ярость на того, кто повёл тебя, словно маленького телёнка, прямиком к широколицему мяснику? Чем провинился Аль-а-Нур кроме того, что жил в мире и процветании, ревностно чтил своих богов, создавал в пустынном мире красоту? Но Халиф использовал тебя, точно разрисованную шлюху, нарядил в саван и твоими руками тянется к нурийскому золоту.
– Халиф – пёс на оловянном троне, который только и может, что лизать самого себя, – прошипела она. – В первый раз я была дурой, а он шептал мне на ухо, что я могу стать святой и буду купаться в сапфирах, целовал мою шею и обещал сделать Королевой небес. Теперь он полз впереди меня, когда я шла в Шадукиам, ведя его на шелковом поводке.
Сказка Черной Папессы
Я стала любовницей Халифа в шестнадцать лет – в тот первый раз, когда была Ранхильдой, и того первого Халифа, которого любила. Я пошла к нему с радостью: он был темноглазый и смуглый, от него пахло пряностями, чьи названия я не пыталась угадать. Ему нравилось, что синяки на моей коже выглядят красиво и что мои волосы имеют цвет богатства. Однажды вечером, когда его война с Южными королевствами вызвала в пустыне какофонию металлической смерти, он поцеловал родинку на моём бедре и спросил, хочу ли я стать богиней.
Я была дурочкой, и всё, что давал мой Халиф, брала с благодарным трепетом и обожанием. Он погладил мои губы и сказал, что для продолжения войны ему необходимо золото Аль-а-Нура, и что у них наметился перерыв в престолонаследии. Он набросил бы на мои плечи плащ из меха и сияющей бронзы, водрузил диадему на мою голову. Он обещал мне город – мне, проведшей детство на козьем пастбище среди унылых кустов! – и бриллиантовые башни Шадукиама, если я назову себя Папессой и присвою святость Грезящего города.
Я ничего не смыслила в политике, но ценила роскошные блюда и мягкие платья. Меня в паланкине привезли в новый дом, и моё имя пела сотня кастратов, когда я вошла под Розовый купол, сквозь листья которого солнечный свет казался розовым и огненно-красным. Разве мог Аль-а-Нур предложить что-нибудь, по красоте сравнимое с увиденным мною в тот первый день? Меня разместили в доме, что был величественнее Дворца, и я приняла свои обеты, опьянев от сладкого чёрного вина. Я ставила свою подпись на письмах с требованиями к Аль-а-Нуру, которые потом должны были написать люди Халифа, на приказах о наборе в армию и о налогах – по вечерам у меня болели руки. Я ничего не знала о городе, чьими богатствами распоряжалась, и даже о том, выполнялись ли мои приказы; лишь проводила дни среди шуршания бумаги, а ночи – с Халифом, когда он возвращался из столицы и прижимал своё лицо к моей шее.
Это продолжалось до того дня, когда я узнала, что существует другая Папесса, которая принесла некую великую жертву ради Двенадцати башен, – мне было невдомёк, что она погубила себя ради шапки и меча. Говорили, что она звала меня Отступницей, Чёрной папессой и даже отправилась вместе с войском в поход против моего нового дома. Я плакала и умоляла о встрече со своим возлюбленным, чтобы он спрятал меня от этого мстительного демона. Я ничего не знала о Папстве – просто была ребёнком, рисовавшим каракули на листах бумаги. Что со мной могло сделать чудовище, нашедшее своё предназначение и сражавшееся за обладание титулом, который я носила беззаботно, как блестящую брошку в праздничный день?
Но Халиф исчез, его хитрая игра закончилась провалом. Не в силах сражаться с армией новой Гифран и одновременно держать оборону в пустыне, он бросил меня в моём изысканном Дворце, где вместо охранников находились только кипы никому не нужных воззваний. Я уже не верю, что он всерьёз рассчитывал получить Папство, – просто был несерьёзным человеком. Я же была его игрушкой, разменной монетой. Случись мне удержать трон, тем лучше, а если бы я его потеряла, стоимость затеи не превышала затраты на скромное пиршество.
Обезумев от ужаса, я сбежала в свою приёмную, упала на колени и принялась раскачиваться из стороны в сторону, рвать на себе волосы. От каждого скрипа половицы моё сердце будто сжимал огромный кулак, и с моих губ срывались тоскливые вопли. Я не ела, а спала, сжимая в руке нож. Каждое утро на рассвете мне мерещились звуки костяных труб нурийской орды; с наступлением ночи перед моим внутренним взором вставали неизменные картины похотливых лиц – всем было известно, какие странные твари жили в Миропомазанном городе, и их уродство заполняло мои сны, рождая морщины на коже.
Когда сообщили, что армия Драги Селести – я и выговорить это могла с трудом – разместилась в дне пути от городских врат, ко мне явился мальчик. Обнаружив меня забившейся в угол за троном, он стал гладить мои волосы, словно я была его потерянной дочерью, хотя сам казался лишь ребёнком, румяным и рыжеволосым.
– Что бы ты подумала, – ласково проговорил он, – услышав, что можешь всё это пережить?
Я уставилась на его розовощёкое личико, как раненая лань.
– Ты ведь не собираешься стать моим защитником, верно? Ты безобиднее котёнка! Папесса убьет меня и искупается в моей крови. Ей ведь только это и нужно.
Мальчик нахмурился.
– Возможно, «пережить» – некоторое преувеличение. Но я не тот, кем выгляжу. Видишь ли, тела столь же дёшевы, как нарциссы на весеннем базаре. Этот мальчик умер от лихорадки меньше недели назад, а мне нравится быть ребёнком. Меня зовут Марсили. Я путешествую по мертвецам, пустым сосудам из плоти. Не в моих силах спасти твоё красивое тело от участи, уготованной ему продажной Папессой, но я могу сохранить твой дух до той поры, пока мировое колесо не повернётся ещё раз и у тебя не появится шанс отомстить. Или прожить безымянную жизнь среди коз, если ты этого пожелаешь. Итак, твой ответ «да» или «нет»?
Его зелёные глаза, словно две змеи, ползли ко мне – целеустремлённо, как к прохладному телу матери.
– И ты сделаешь это для меня? – сдавленным голосом проговорила я.
– Не бесплатно, разумеется! Это Шадукиам, обитель дельцов, приукрашенная цветочками! Чего здесь нельзя купить, чего нельзя продать за пригоршню меди и серебра, за горсть голубых самоцветов? Чего нельзя заполучить, если оно имеет цену? На наших рынках божественное и извращённое висит на кожаных ремешках, точно гусиные тушки зимой, и мириады жаждущих пальчиков тянутся к небесам под отчаянные звуки торга! Это место всегда было моим домом и способно удовлетворить любое моё желание – каждый день прекраснолицый юноша умирает из-за любви к богатой девушке или от голода, проиграв последние гроши на состязании. А когда они уходят, их красивые тела достаются мне, точно свежевыглаженные рубашки. То, что потребуется от тебя, мелочь в сравнении с магией, на которую я способен. Не родился ещё адепт мёртвых искусств, способный меня превзойти.
Любопытство боролось во мне со страхом.
– Как ты получил такую силу? Даже священники Мертвецов из Аль-а-Нура не знают подобного заклинания.
Он бросил на меня странный взгляд, поглаживая тонкой рукой несуществующую бороду. Затем начал говорить, а в это время город вокруг нас горел.
Сказка Некроманта
Я родился маленьким, как отсечённый плугом палец земледельца.
Мать моя испытала горькое разочарование – они с отцом так долго ждали сына, а родился какой-то уродец. Мои благородные родители пытались продать меня любому проезжавшему мимо цирку, но слоны впадали в ярость, а львов охватывала дрожь, едва моя миниатюрная колыбель оказывалась поблизости. Цыганки делали жесты, отгоняющие злых духов, и по ночам оставляли на нашем пороге маленькие обереги, спасающие от демонов. Ни башням, ни храмам я был не нужен – что за священник получится из того, кто даже пера поднять не в силах? Я не мог ни возделывать землю, ни торговать.
Отец начал верить, что я не просто урод, а ещё и демон.
Каждый день родители отправлялись на рынок и предлагали меня любому, у кого нашлась бы монетка, чтобы заплатить за моё несчастное тельце. Мать не ухаживала за мной, а кормила кусочками жеваного мяса и овсяной кашей, пищей бедняков. Обращаясь к прохожим, она твердила, что меня можно использовать для дрессировки змей, подглядывания за возлюбленными или в качестве экзотической наживки. Однако в моём усохшем и бесформенном тельце таился острый и яростный ум, похожий на клещи кузнеца; когда мне было три дня от роду, я уже умел хорошо говорить. За неделю освоил цыганский диалект. В неполный месяц выучил все слова до единого, из тех, что звучали на базаре. Но я держал язык за зубами – знай моя мать, что я умею, она бы удвоила цену, а я не хотел, чтобы она получила выгоду.
И вот, когда мне исполнилось двадцать недель, а я всё ещё оставался маленьким, появился покупатель. Он был очень худой и тонкий, словно бумага. Его кожа и наряд по цвету напоминали луну – не романтическую планету влюблённых, а истинную, о которой говорили нурийцы из ордена Солнца-и-Луны, когда приходили покупать стекло для странных штук, при помощи коих следили за небом: серую и испещрённую оспинами, полную тайных кратеров, замёрзших пиков и разорённых временем пустошей. Глаза его были бесцветны, если не считать зрачков, похожих на раны от уколов веретеном, – остальное пространство заполняла молочная белизна. Он вложил в ладонь моей матери три золотые монеты, и она вздрогнула от отвращения, когда их руки соприкоснулись. Потом она с охотой отдала меня и стала изучать добычу, как толстая свинья, обнюхивающая налитую на ужин бурду. С того момента я принадлежал Лунному человеку, а моя мать, вне всяких сомнений, получила с этой сделки хорошую корову мышастой масти или пару волов.
Лунный человек аккуратно держал меня в ладони, лавируя между столами на рынке и пробираясь к своему дому. От его прохладных и сухих пальцев пахло выделанной кожей и гардениями. Когда мы достигли порога нового дома, я обратил внимание на то, что он похож на хозяина: серый и выщербленный, словно в его фасад угодил залп небесной картечи. Дверь оказалась не более чем пробитой в стене дырой, занавешенной промасленной тканью; из-за неё доносились другие запахи, будто шепоты, – запах льда и ветхой плоти.
Лунный человек усадил меня на пустой стол в своём кабинете и уставился в мои маленькие глаза.
– Итак, юноша, – сказал он голосом, напоминавшим перекатывающиеся по склону лунного холма валуны, – я знаю, что ты можешь говорить, потому давай покончим с притворством. Я не буду делать вид, что мне неизвестна твоя истинная стоимость, а ты перестанешь изображать, что не рад избавлению от своей семейки.
Я благодушно пожал плечами.
– Гомункул мне в доме без надобности – я сам поддерживаю здесь чистоту, следить за кем бы то ни было тоже не имею необходимости, если речь не о ворах. Но ты ценен именно своим ростом – это что-то новенькое, я такое вижу впервые. Тела – моя профессия. Как бы ты хотел освободиться от своего?
Я посмотрел на свои руки размером не больше желудей, изящные фейские ножки и тельце, коему было не суждено пройтись по улице, не рискуя оказаться проглоченным воробьём.
– Это невозможно, господин, как бы я ни желал подобного.
Лунный человек впервые улыбнулся, и его лицо раскрылось, как треснувший гранат.
– Совсем наоборот, мой крохотный друг. Можешь звать меня Отцом. С учётом обстоятельств, так будет правильно, не находишь?
Он снова посадил меня на свою прохладную бесцветную ладонь, и мы вместе прошли через толстую дверь, ступили на длинную винтовую лестницу, которая изгибалась в обратном направлении таким образом, что мы будто подымались и спускались одновременно. Я не понимал, где мы, видел лишь, как стены превратились во влажный камень, и ощущал, что нахожусь глубоко под землёй. Наконец мы вошли в комнату, заполненную людьми всех форм, полов и описаний. Они стояли у стен, как свёрнутые ковры, светловолосые девы рядом с седыми стариками и милыми детишками. То и дело среди человечьих красот попадались странные создания – василиски, левкроты и одноноги, чьи ступни будто свело судорогой от холода, так как комната была студёная, точно ведьмино сердце: на потолке сверкал иней. Глаза у всех были сомкнуты, на лицах застыло спокойствие.
Лунный человек широким жестом обвёл свою коллекцию:
– Выбирай! Здесь есть любые возможные сочетания внешних черт – тебе хотелось бы иметь груди или бороду? Тёмную кожу восточного принца? Нежные детские ручки? Придётся отказаться от этого несчастного тельца, но я наряжу тебя в новое, которое будет сидеть плотно, как корсет невесты! Для меня это не сложнее, чем перенести лампу с одного стола на другой. Просто надо тебя убить, остановить сердечко, и всё будет хорошо. Давай я расскажу тебе, как это делается.
Сказка Лунного человека
У моего народа всегда была власть над телами людей. Мы родились, когда первые лучи Матери-Луны коснулись волн первого океана. Из воды изначальной вышли И[13] – Луна приложила нас к своей груди, которая в те времена касалась моря, вынуждая солёные воды бурлить.
Луна научила нас умирать. Пришлось учиться, повторяя снова и снова, – это было нелегко. Другие, дети солнца, умирают естественно и красиво, а для нас это то же самое, как решить сложное уравнение не имея ни пера, ни бумаги.
Луна научила нас, что мы вправе брать тела мёртвых, – мы принадлежали ей, и, поскольку ночь была её вотчиной, хладные и мёртвые были нашими. Таков её дар, чтобы мы попробовали каждую из возможных жизней, от самых простых до возвышенных. В первые дни мира она показала нам все секреты бескровной плоти, позволяющие плыть сквозь тела, как рыбы плывут сквозь кораллы; смерть расчищает для нас место. Но плыть сквозь живое море нельзя: пловец и вода должны быть в равной степени омертвевшими. Итак, чтобы научиться переходить из одной плоти в другую, мы должны были освоить искусство умирания.
Первым из нас не повезло. Они погружались под воду и дышали легко, инстинктивно; входили в огонь и начинали сиять; прыгали с утёсов, и из-под их лопаток вырывались крылья, будто распахивались бумажные веера. Они вскрывали вены костяными ножами, но лишь становились лёгкими и прозрачными, как бриллианты, утратив всю кровь. Нас охватило отчаяние. А солнечные дети были чудом: они умирали на наших глазах легко, как маргаритки зимой.
Мне выпало совершить открытие. Я сидел под луной, касаясь ртом её ледяных пальцев, и думал о проблеме. Мы, раса самоубийц, истязали собственные тела, снимая кожу, точно одежду. Если бы мы взамен помогли друг другу в смерти, превратили это в таинство, вероятно, удалось бы освоить трюк.
Я пошел к одной из моих сестёр и упал перед ней на колени, умоляя задушить меня, выдавить глаза и спалить моё сердце в печи для обжига глины. Моя идея рвалась из меня с усердием горного ручья – так страстно я желал стать первым среди соплеменников, освоившим искусство смерти. Она тоже загорелась от любопытства и, обхватив тонкими сине-белыми пальцами моё горло, сжимала его до тех пор, пока я не рухнул к её ногам, точно сброшенное одеяло.
Так случилось первое убийство среди И. Празднество длилось семь дней и ночей; покачивались серебряные фонари, а халцедоновые флейты играли милые вальсы. Наш мир, испещрённый брызгами звёздного света, вдруг превратился в какофонию смертей, когда мы начали перепрыгивать из наших тел в яркие тела детей солнца. Конечно, умерев в первый раз, мы теряли неуязвимую лунную плоть, что принадлежала нам от рождения. Но мы обнаружили, что, чем дольше оставались в новых телах, тем сильнее они напоминали наши прежние: цвет покидал глаза, кожа становилась бледной, как лишенные теней кратеры. Через несколько лет в теле доярки любой из нас выглядел самим собой.
Разумеется, дети солнца, как люди, так и монстры, испугались нашей силы. Я так и не понял почему, – ведь, когда они покидают тела, теряют всякое право на них, и Луна даровала их нам совершенно законным образом. Но они в ужасе отворачивались от нас и вынудили носить серые рябые плащи, чтобы мы отличались от их дорогих усопших, пока чужая плоть не превратилась в нашу собственную. Однажды они поймали недавно умершего мальчика, пока И в нём был ещё слаб и не научился управлять новыми мышцами, чтобы сопротивляться. Они держали его в тёмном колодце, куда не могла заглянуть Мать-Луна, и пытали кипящим маслом, тисками для больших пальцев и коварными ядами, пока он не открыл им часть наших секретов – к коим, разумеется, не относился способ путешествия между хладными телами. Истязатели отправились в Аль-а-Нур и залили цемент в основание Башни мёртвых, где с той поры практикуют искаженную форму нашего искусства.
Посреди нашего экстатического танца между телами Луна спустилась к нам, пока мы спали, и шептала на ухо каждому И одно и то же. Она пообещала, что, когда один из нас – только один! – испробует каждую жизнь из солнечного сада, который суть мир, мы сможем к ней вернуться и погрузиться в море света, и она станет баюкать нас на своих опаловых руках.
Поэтому мы прыгаем всё выше, наши звёздные пальцы едва касаются каждой формы, человечьей или монстрической, и мы выискиваем каждую разновидность лап и каждый оттенок глаз, чтобы вернуться в ночь к изначальной бледности Луны.
Сказка Некроманта (продолжение)
Лунный человек посмотрел на меня своими выбеленными глазами и улыбнулся, редкие волоски на его подбородке дрогнули.
– Видишь ли, я великий коллекционер, держу здесь все эти тела, а братья и сёстры доверяют мне. Они знают, что всегда могут воспользоваться моим запасом, если нынешние наряды наскучат. Поток И, приходящих ко мне, не иссякает, как река, что мчит свои воды под луной: приходит старуха – уходит юнец, приходит северянин с волосами цвета льда – уходит южанин с кожей цвета корицы. Что до сброшенных тел, всем нужна пища, и здесь проходят пиры каждые две недели. Но ты! Таких мы ещё не видели! И должны прибавить твоё тело к нашей сокровищнице – в обмен можешь взять любое, какое захочешь.
Наверное, я был потрясён, но в тот момент мог думать лишь о теле с длинными стройными ногами, которое было бы ростом выше моего отца. Я согласился с лёгкостью, как если бы мне предложили обменять деревянное колесо на пару цыплят.
Он любезно пронёс меня мимо целой вереницы тел, и я осмотрел их по очереди. Наконец остановил свой взгляд на юноше с кожей цвета старого бренди, чьи брови круто изгибались над глазами с пушистыми ресницами, придавая благородному лицу изумлённое выражение. Он был очень высокого роста.
– Великолепный выбор, сын мой! Это Марсили – давным-давно он был сыном Султана, обручённым с девой неземной красоты, у которой были жёлтые глаза волчицы. Но он разозлил своего отца – скорее всего, увлёкся азартными играми или шлюхами, молодые люди так подвержены этим порокам! – и Султан в великой мудрости продал мальчишку мне, а на девушке женился сам. Говорят, на востоке есть целая династия волкоглазых султанов. И он нам не нужен: дешевый шик балованных принцев нам давно наскучил. – Он засучил серые рукава. – Начнём?
Я дважды моргнул; сердце глухо колотилось в моей груди, как изнурённые работой кузнечные меха.
– Но я… я не могу задушить тебя, Отец, у меня и близко нет требуемой силы.
Он добродушно усмехнулся:
– О, мне не надо умирать, я не присвою это тело. У народа И всё общее. Пусть любой мой соплеменник воспользуется им. С помощью холода легко сохранить тела нетронутыми, пока они не понадобятся. Умереть придётся лишь тебе. Это будет лёгкая смерть, обещаю! Покажется, что ты проглотил большой кусок хлеба, и он застрял в горле, где-то между ртом и животом. Конечно, простой глоток воды протолкнул бы хлеб в нужном направлении, но ты почувствуешь удивительную растянутость, переполненность. Такова она, маленькая смерть.
Это звучало не слишком страшно. Я выпрямился во весь свой невеликий рост – не выше кузнечика – и сложил руки на груди, чтобы казаться похожим на храброго солдата.
– Я готов, Отец. Можешь убить меня прямо сейчас.
– Мы не должны повредить тело! – радостно прочирикал он и обхватил своей липкой ручищей мой нос и рот. Он так и держал её, источающую запах гардений, пока я боролся, пытаясь вдохнуть. Наконец я ослаб и безвольно повис на изгибе его большого пальца.
Он был прав – я словно подавился хлебом. Сначала были тревога и паника, потом странное растягивание, затем «хлеб» скользнул в мой живот. Я не парил над своим телом, как иной раз рассказывают, – просто стоял рядом с ним, очень спокойный, как будто происходящее меня вовсе не касалось. Я смотрел, как Лунный человек помещает моё тело в странную вязкую жидкость цвета дорогих чернил. Потом, вытащив безвольное тело Марсили из хранилища, он смазал его лоб маслом с мускусным запахом. Наконец, поместил продолговатый белый камень в рот трупа и прошептал несколько слов, которые я не расслышал.
Я будто моргнул – и открыл уже не свои глаза, а Марсили. Когда я шевельнул пальцами, это были пальцы Марсили. Когда я заговорил, услышал медовый голос Марсили, поставленный учителями за годы тренировок. Камня в моём рту не было.
– Я же… я это он! – вскричал я и посмотрел Лунному человеку прямо в глаза. Глупо было так говорить, но я чуть не заплакал от счастья, когда коснулся холодного потолка пальцами.
С того дня я умолял, чтобы он взял меня в ученики и обучил своей магии, чтобы мне никогда не пришлось испытать большую смерть. Он не видел в этом смысла, потому что Луна не являлась моей матерью. Я мог стоять лишь у подножия длинной лестницы, по которой к ней взбирались И. Но через некоторое время Отец смягчился – ему было одиноко, или его одолело любопытство, либо то и другое сразу. Так я начал своё долгое обучение. «Даже неверующие могут совершать священные таинства», – любил он повторять. Как по мне, вся суть этих таинств – еда да питьё. Я так и не смог познать вкус Луны. Однако можно пить вино и просто так, не ударяясь в религию. Я стал для него таким вином.
Я сохранил имя своего первого тела. Оно веселило меня, потому что казалось одновременно мужским и женским, к тому же существовало множество форм обоих типов, которые можно было испробовать. Я не И – тела не разрушаются, когда я внутри. Просто перехожу из одного плотского наряда в другой, когда они мне надоедают. Я так и не понял, что именно в сущности И разрушает тела, которые они надевают, но мне такое растворение ни разу не довелось испытать. Я был хорошим учеником; в конце концов даже помог Лунному человеку перейти в следующее тело: я почтительно опустился на колени и вспорол ему живот, затем приготовил следующее тело для перехода – поместил белый камень на новый язык и был первым, чьё лицо он увидел новыми глазами, большими и фиолетовыми, как поле сирени. Это были глаза милой вдовушки, умершей от лихорадки.
Именно в этом теле Лунный человек стал моей возлюбленной. По сути своей И бесполы, но они следуют желаниям тела, в котором пребывают. И не родилась ещё вдова, которая не желала бы молодого принца в качестве любовника. Мы провели так много лет; даже когда плоть вдовы посерела и покрылась кратерами, я не возражал: целовал шелушащиеся рябые руки и ноги, и они были сладкими, как сушеные гардении. Это продолжалось, пока мы не надоели друг другу, – потому что не родилась ещё вдова, которой бы в конечном итоге не наскучил бы безбородый партнёр. Так я отправился повидать мир.
Я учился и применял полученные знания. Когда я покинул дом Отца, ни один нурийский ловец трупов не мог сравниться со мной, ему оставалось лишь пылать завистью, как пылает очаг зимой. Когда мои родители умерли, я забрал их тела – о, в каких дебошах участвовали эти куски плоти! Я наказал их в их собственной шкуре.
Но я не И, беру тела не для того, чтобы достичь мистического единения с мистической Луной. Я всё делаю ради удовольствия и выгоды, такой образ жизни весьма привлекателен. Меня не связывают их законы, я не обязан носить обросший ракушками плащ и поэтому перемещаюсь среди жителей Шадукиама неузнанный и неотмеченный. Всего дважды я был нетерпелив до такой степени, что не стал ждать, пока хозяин моего будущего тела покинет его.
Потому что я не И – могу брать тела, когда они ещё дышат. И буду так жить вечно, беря любое тело по своему желанию. Луна не заберёт меня.
Сказка Черной Папессы (продолжение)
– Итак, поставь свою изящную подпись на одном из этих замечательных пергаментов. Как известно с давних времён, единственная сила марионетки заключается в золотой печати – никому нет дела до твоих слов, но всех заботит, что ты подписываешь. Дай мне доступ к золоту Халифа, усыпанному розовыми лепестками, подпиши приказ об открытии великого сейфа, и я сохраню твой дух до того дня, когда ты сможешь вернуться в теле настолько восхитительном или уродливом, насколько пожелаешь; когда твоё имя забудут все, кроме самых упёртых библиотекарей Грезящего города, и никто не поведёт против тебя новую армию.
– Так ты не хочешь… – Я отвела взгляд, краснея.
– Чего? Твоего первого ребёнка? Этого гладкого тела? Я не монстр из детской сказки. Мне не нужны живые тела, а дети дороже и причиняют больше хлопот, чем чудовища, вдвойне превосходящие их размерами. Думаешь, существует плоть, удовольствия которой я не вкусил? Мне не нужны объедки Халифа. Я маг – это профессия не хуже других, и я требую вознаграждения за свои услуги, как любой торговец сделал бы на моём месте. Ты заплатила бы за зерно нерождёнными детьми? Думаю, нет. Не оскорбляй меня – я в той же степени знаток своего дела, что и мельник, перемалывающий семена.
Я робко кивнула, и тогда некромант поцеловал мои дрожащие губы, лоб, волосы, подбородок. Его губы касались моего лица не с похотью, а будто ставили печати на договоре, и я охотно записала его требования на использованном и помятом листе бумаги: с одной стороны, он требовал, чтобы торговцы-монахи Коралловой башни открыли свои хранилища Халифу, с другой – чтобы хранилища Халифа открыли для Марсили.
– И что теперь? Как я узнаю, что ты сдержал слово? – спросила я, обхватив себя руками.
– Ты узнаешь, потому что я поклялся, а ты веришь клятвам. Тебе придётся поработать над этим, когда ты в следующий раз увидишь этот город изнутри. Это ведь, как-никак, Шадукиам. Здесь доверчивых находят каждое утро то в одной сточной канаве, то в другой. Тебе уже ничего не надо делать, милая Ранхильда, несчастная маленькая девочка, которую все бросили. – Он протянул руку и намотал прядь моих волос на палец, а потом одним резким движением кисти выдрал её. – Жди смерти.
Сказав это, он удалился из приёмной, напоследок одарив меня поклоном.
И я умерла. Нурийская Папесса стащила меня с трона за ухо, словно я была нашкодившим ребёнком, и вынудила опуститься на колени перед собственным алтарём. Странно изогнутым серебряным ножом она вырезала мой язык, и мясной, металлический вкус моей собственной крови заполнил мой рот. Я кричала, кричала… думала, что никогда не перестану кричать. Она задумчиво повела ножом; я до смешного внимательно следила за ним, отмечая его серповидные очертания, рукоять и изысканную гравировку. Я вся трещала от боли, точно орех, и не видела ничего, кроме ножа. Я думала, что дальше – нос или глаза? Я не понимала, насколько глубок её фанатизм.
Гифран, спасительница Аль-а-Нура, разорвала моё платье от ворота до талии и отрезала мои груди, словно разделывая птицу себе на ужин. А когда они влажно шлёпнулись на пол, она наклонилась ко мне и прошептала на ухо:
– Я спасла тебя, несчастная пешка. Теперь можешь отправляться во тьму, как священный Андрогин, и двери из алебастра или бриллиантов не закроются перед тобой.
Вот она, ваша геройская жрица, лживая шлюха, которая отказалась от своего бога, чтобы убить невинную, – а потом отказалась от своего долга, чтобы и дальше исповедовать свою безумную веру. Что есть Аль-а-Нур, как не спальня, где можно наслаждаться ложью и богохульством, убеждая себя, что они суть добродетели?
Они привязали меня к тому зелёному сырому холму, который давил мне в спину, словно кости луны, и солдаты издевательски позвенели цепями над моим лицом – лишь это золото я получу от Аль-а-Нура.
А дальше всё было просто, рассказывать не о чём. Солнце разорвало мою плоть, луна выбелила мои кости и превратила их в пыль. Я провалилась в какой-то глубокий колодец сна – не помню ничего между последним вздохом и пробуждением посреди моря тусклого света. Некромант Марсили поместил мою бесплотную сущность в причудливый стеклянный сосуд, и я оттуда следила за ним, пока годы летели, как стая чёрных дроздов. Иногда он был женщиной, иногда – мужчиной, иногда – ребёнком, как в тот раз, когда мы впервые встретились. Но я научилась узнавать его в каждом новом теле, его взгляд исподлобья, жестокую кривую улыбку, жесты. Я научилась не только этому. Некромант творил много ужасных вещей в своём кабинете, и я запоминала всё, чему он учился у мёртвых тел. В конце концов, ничего другого за все эти годы я не видела. Мне пришлось стать его ученицей, внимать каждому вздоху и жесту.
А он всё ждал. Я думала, он забыл меня, и я навсегда останусь в бутылке, как чьё-то последнее письмо. Но однажды в полночь, когда я почти забыла, каково это – иметь собственную плоть, он взял мой сосуд и перенёс его на длинный стол, где лежало неподвижное, окоченелое золотоволосое тело.
– Теперь ты стала легендой, Ранхильда, можешь вернуться в мир и жить, ничего не опасаясь. Мир помнит тебя призраком в чулане, духом на поросшем травой холме. – Взмахом руки он указал на тело с застывшим взглядом, лежавшее на столе из узловатого вяза. – Я держу слово, как любой торговец. Она любила парнишку, которого не приняли её родители, и уморила себя голодом, страдая по нему. Ужасно романтично! Ты готова, она тебе нравится?
Он как-то по-своему ощутил моё согласие, и, когда я опять проснулась, мои веки были опушены ресницами цвета неокрашенного льна, вес тела снова давил на мои кости, и последние частицы белого камня растворялись на моём языке.
Сказка убийцы (продолжение)
Ранхильда посмотрела на нас свысока, гнев струился из неё, как из умирающей звезды.
– На этот раз я не отправилась ни в чью постель. У меня было время – прорва времени, – чтобы подумать о том, как использовать моё новое тело. Я решила на самом деле стать той, кого изображала в прошлый раз. Я буду вашей Чёрной папессой и заберу Аль-а-Нур себе. Я купила согласие Халифа на своё возвышение, заплатив золотом Марсили, и прибыла в Шадукиам – не в паланкине, словно балованный ребёнок, а пешком по каменистой земле, и не опустила глаза, снова увидев Розовый купол.
Я сглотнул.
– А Марсили? Он отдал своё состояние, чтобы ты вернулась в эту комнатку?
Её губы сложились в удовлетворённую улыбку. Чёрная папесса встала со своего цветочного кресла; её фиолетовое платье, шурша, непристойным образом скользнуло по её коже. Она медленно и бесстрашно прошла мимо нас и отвела в сторону плотную кремовую занавеску, прикрывавшую нишу у нас за спиной.
На тёмно-зелёной подушке с серебряной бахромой лежала голова молодой темноволосой красавицы, чьи нос и губы выдавали благородство и немыслимую утончённость. Смерть испортила её кожу, окрасив в синеватый цвет, и кровь запеклась на обрубке шеи. Ранхильда аккуратно повернула голову, как бы оценивая мастерство художника или скульптора.
– Сидя в стеклянной бутылке, как муха в янтаре, я наблюдала за ним пятьсот лет. И ненавидела. Это была первая истинная ненависть из тех, что я познала, – первая из многих. Я составила перечень ненавистей, и эта значится в нём под первым номером: ненависть к тюремщику. Он ждал так долго. Думаю, он оставил бы меня там, если бы не был связан привычкой, свойственной этому городу, – выполнять услуги, на которые подрядился. Такова душа Шадукиама. С ним я расправилась в первую очередь, отняла его голову и золото одним ударом. Не жалейте его! Что он за человек, если обманом погрузил ребёнка в смерть-не-смерть ради нескольких рубинов со стола Халифа? Дурак и жадина.
Она так же медленно вернула занавеску на прежнее место и повернулась к нам, сияя:
– Вы убьете меня сейчас или подождёте, пока рядом будет меньше охранников? Признаюсь, мне интересно, окажется ли неизбежная попытка убийства достаточно смелой, чтобы случиться пока я с удобством располагаюсь в приёмной, а мои слуги в соседней комнате, или новые клятвопреступники дождутся, когда я усну. Вы ведь клятвопреступники, не так ли? Ваш орден запрещает насилие, но вы здесь. Как это по-нурийски – воля богов превыше всего, пока папский престол не дёргает марионетку за ниточку.
Варфоломей очень медленно подошел к ней, склонив голову в неподдельном уважении, и заговорил настолько утешительно, насколько это позволяли наши вытянутые морды и длинные языки. Мы затаили дыхание, готовые броситься на помощь, если она шевельнётся.
– Мне жаль тебя. Жаль, что когда-то ты была молода и невинна, а Халиф использовал тебя в своих целях. Жаль, что тебе пришлось пройти такой долгий путь, вынести так много мучений и мерзкой магии. Я хотел бы, чтобы тебе позволили ухаживать за выносливыми козами в сладостно пахнущей горной долине, чтобы мы не слышали твоей истории. Но Аль-а-Нур нельзя познать, лишь приняв от его руки смерть. То, что ты не можешь понять самоотверженности Цвети-ставшей-Гифран, её жалости и любви, которые она должна была ощущать к тебе, удостоившейся последнего таинства её веры, будучи неверующей, убеждает меня в том, что ты не достойна быть даже послушницей в нашем духовном зверинце, не говоря о папском престоле. Ты никогда не поймёшь, на что нам приходится идти ради этих красивых божественных садов, ради чего мы готовы запятнать свои души, чтобы другие могли жить без греха. Мне жать, ужасно жаль, что ты так много поставила на месть, когда все, обидевшие тебя, мертвы, и теперь тебе придётся проиграть, прежде чем ты увидишь, как шпили Двенадцати башен на рассвете рождают хрустальный водопад. Прежде чем ты начнёшь то, что планировала столько лет, сидя в стеклянном пузырьке. Но мы поклялись – а мы, как бы там ни было, верные псы.
Пока он говорил, мы с Валтасаром пядь за пядью приближались к ней, и, когда наш брат шагнул в сторону, я со слезами на глазах прыгнул и сомкнул зубы на её глотке… Но мои челюсти схватили воздух. Ранхильда вдруг оказалась позади Валтасара, на её губах играла улыбка – сладкая как у девочки с карамелькой во рту.
Каждый из нас увидел перед собой её лицо во всём ледяном великолепии. Показалось, что она коснулась губами наших тяжело дышащих морд, и её дыхание пахло фиалками, которые прижимают к груди мёртвые девы, кисейными покровами на благородных лицах и монетами, прикрывающими глазницы. Показалось, что она нас поцеловала, и наши глаза заволокло красно-чёрной мглой, а в животах что-то задрожало и вскипело. Мы обезумели, неистовство лизнуло наши разумы, и мы не могли дышать, потому что шум крови в ушах уподобился звуку, с которым точат ножи.
Ранхильда стояла неподвижно, бледная колонна у стены, а мы рычали и брызгали слюной, угрожая друг другу. Она еле заметно кивнула в сторону Варнавы.
Как я могу рассказать тебе об этом, сестричка? Какие подобрать слова, чтобы описать сделанное нами? Мы, готовые отказаться от самой неуклюжей лисы или зайца! Мы, любившие друг друга, как конечности одного тела! Как мне признаться? Как говорить об этом как о проступке, а не как о величайшем грехе моего сердца, языка и зубов?
Стоило ей кивнуть, и мы бросились на самого маленького из нас, на Варнаву, нашего милого брата, и разорвали его на части. Кровь брызгала во все стороны, и мы вдыхали кровавые брызги; выли над его выпотрошенным животом не от скорби, а с голоду и от наслаждения. Мы щёлкали челюстями друг на друга, дрались из-за самых вкусных кусочков. Были всего лишь псами, хотя хватали его человечьими руками и били человечьими кулаками. Разум покинул нас, и мы с восторгом встретили смерть брата.
А Ранхильда удалилась из комнаты, где развернулась бойня, так беззвучно, словно её ноги не касались хрустального пола.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
Бад с жалким видом покачал головой.
– Я по-прежнему чувствую его вкус, – прошептал он еле слышно. – Чувствую его плоть, как пепел и щёлок. Нам никогда от этого не очиститься. Чёрная папесса позволила нам беспрепятственно покинуть город. Что ещё она могла с нами сотворить? И так зачаровала, вынудив предать нашу веру и нашего брата, сделала все наши обеты и святое призвание бесполезными с помощью одного поцелуя. Мы потеряны и не можем сказать, что это к лучшему, – она жива, а город по-прежнему в опасности, как мышь, за которой следит притаившаяся в траве кошка.
Он беспомощно протянул ко мне руки.
– Она грядёт и сведёт нас всех с ума. Бедный Варнава – он лежит в моём брюхе, точно камень, и мне больше никогда не услышать, как он восхваляет сладость черники…
– Она грядёт, да, – рявкнул Валтасар позади нас, испугав меня и Бада. – И ей не надо уничтожить Аль-а-Нур, она хочет его превзойти, доказать всему миру, что мы лжецы и еретики, сборище неверных уродцев. Она святая, а мы демоны. Вот почему нас отпустили: мы – её первая победа.
Варфоломей робко приблизился к брату и прибавил низким голосом:
– Кем бы ни была раньше эта несчастная, она по собственной воле приняла решение продолжать преступления против нас, когда начала новую жизнь. Легко прощать красивых женщин, особенно когда они преподносят тебе печальную историю, как присыпанное сахаром кушанье. Это не значит, что они заслуживают прощения. Мы должны рассказать Яшне о своей неудаче и принять наказание. И запереть ворота перед Отступницей, ибо я не сомневаюсь, что она, как вы сказали, грядёт.
Бад сглотнул слёзы и отвернулся от брата. Его сутулая спина излучала стыд. Когда утром мы снимались с лагеря, он наклонился к моему уху и прошептал:
– Я перед тобой в долгу. Коли есть на душе твоей тяжелая скорбь, я заберу её.
Я улыбнулась так сердечно, как могла, и солгала:
– Мне слишком мало лет, чтобы нести страдание на спине, как мешок нищего.
Он отрешенно кивнул:
– Тогда я верну долг, когда ты вырастешь.
Через два дня мы увидели вдалеке мерцание Аль-а-Нура, похожее на рождение дюжины звёзд. Я затаила дыхание, пойманная в чудесную сеть, и наконец передо мной возникли Врата Лосося – серебро и кварц, прыгающие резные рыбы с глазами из оникса, металлические волны соприкасаются с изящными плавниками. Я пришла домой, в истинный дом, куда стремилась моя душа.
На кольцевых улицах Города было не протолкнуться от монахов и священников разного вида, в нарядах, которые для них самих что-то значили, а мне казались яркими вспышками цвета и узоров, струившихся по прекрасным тканям, как юркие змейки. Многие сидели небольшими группами у круглых досок с какой-то игрой, где каждый ход игроков сопровождался громкими возгласами.
– Это ло-шэнь, милая, – сказал Варфоломей, – наша священная Игра, в одинаковой степени являющаяся молитвой. Её цель – победить «бога» противника, окружая главную фигуру сообразными узорами из фигур меньшего значения. Весь Город, так или иначе, в неё играет. Она очень сложная, но ты научишься.
Хоть задание братьев и было срочным, они еле тащились по сверкающим улицам, явно не желая оказаться в центре города. Чтобы оттянуть этот момент, они провели меня кружным путём, но главная Башня всё равно становилась всё ближе с каждым шагом. Они как всегда прятали свою печаль в курганах волчьих сердец и вели себя так же весело, как и остальные жители Миропомазанного Города.
На рынках всем заправляли мужчины и женщины в ярко-желтых нарядах, скреплённых на плечах изумительным гербом: золотой петух, сражающийся с павлином, инкрустированный блестящими синими камнями. После каждой сделки, которая заключалась только в результате длительных и увлечённых торгов, они низко кланялись и сбрызгивали голову покупателя водой – я узнала: это торговцы-монахи из Коралловой башни. Валтасар объяснил, что для них обмен товарами – ритуал, чтящий их главную богиню, Ге-Сай, Звезду Златую, в изначальные дни родившую все драгоценные вещи в мире. Каждая заработанная монета сближает детей Ге-Сай с их матерью. Петух и павлин представляют роскошь ради роскоши, сражающуюся с роскошью во благо мира: гордость павлина – бессмысленная красота, а петух каждый день встречает солнце своим криком, и его перья отражают цвета предназначения птицы.
По улицам, чьи запахи и хриплые звуки сливались в бесконечный карнавал, маршировали Драги Селести в змеиных масках из слоновой кости, жрецы и жрицы Башни Льда-и-Железа, хранители города. Их мундиры были серебряно-голубыми, верхние туники украшены орнаментом в виде извивающейся крылатой змеи, простёршейся от плеча до лодыжек. Они не были воинственными, казались такими же весёлыми, как любые игроки в ло-шэнь, повсюду шутившие и состязавшиеся друг с другом. Они о чём-то поговорили с довольно пышными женщинами из Башни Девяти стеблей тысячелистника, которые все до единой были весьма умелыми оракулами. Бад, хихикнув, сообщил, что эти толстушки – мастерицы иеромантии, гадания на внутренностях, и, поскольку после каждого ритуала остаётся много мяса, а вера запрещает его выбрасывать, женщины вынуждены часто устраивать пиршества.
Когда мы продвинулись достаточно далеко, я увидела дом моих товарищей, Хризантемовую башню, которая росла из земли, будто живая. Она была полностью спрятана под огромным покровом из хризантем – желтых, красных и оранжевых, росших плотно, как пламя, пожирающее свежую ветку. Но у двери, охраняемой двумя безупречно причёсанными кинокефалами, вооруженными садовыми ножницами, – приходилось подрезать цветы на дверях каждый час, чтобы они не поглотили камень целиком, – Варфоломей, Бад и Валтасар остановились и с торжественным видом повернулись ко мне. Бад присел и одарил меня своей зубастой улыбкой:
– Тем, кто не посвятил свою жизнь Башне, нельзя входить, это против правил. Если ты хочешь жить в Аль-а-Нуре, тебе надо выбрать Башню. Естественно, мы надеемся, что ты выберешь нас, но не будем подталкивать тебя к такому решению.
– Меня радует, – весело прибавил Варфоломей, – что ты в какой-то степени ограничена в выборе. У тебя нет навыков, чтобы стать оракулом или драги. Они принимают в послушники совсем маленьких детей – ты и первой проверки не пройдёшь. Не можешь войти и в Башню отцеубийц…
– Это почему же? – возмутилась я.
– Ты не мужчина. Отцеубийцы делятся на диады отец-сын. Отец воспитывает сына в традициях Башни, и тот, достигнув Возраста Просветления, убивает отца, который, как правило, достаточно стар к моменту, когда сын готов совершить ритуал. Потом сын взрослеет, заводит собственных детей с женщинами, не входящими в орден, и цикл продолжается.
– Это варварство! – с отвращением воскликнула я.
Мой собственный отец умер, когда я была младенцем, и моя ярость вспыхнула быстро как вспорхнувший из травы фазан.
– Это делается заботливо и с великой любовью, – осторожно пояснил Валтасар, – и торжественность момента весьма трогательна. Для них убить отца означает освободить сына от тени великого человека, а умереть от рук любимого сына – самый благородный из всех способов уйти. Мы никого не осуждаем. Как бы там ни было, у тебя отсутствуют и мужской пол, и отец, поэтому в Башню ты не войдёшь. И поскольку нам всем ясно, что ты женщина, Башня гермафродитов тоже для тебя закрыта – секрет должен быть абсолютным, а мы уже знаем, какого ты пола.
– Остаётся Башня Солнца-и-Луны, – продолжил Варфоломей, – где вечно смотрят вверх и рисуют карты небесных сфер, а также вниз, выискивая блеск Звёзд в пыли. Там изучают ритуалы… Одни говорят, что Звёзды возникли из дыр, которые прогрызла Чёрная кобыла, другие – что из тела женщины, бывшего небом, а ещё говорят, что это следы от шила, которым проткнули небесный пояс, или что их выели в киле бесконечного корабля небесные мыши. Все верования занесены в журналы Башни. Но Звёзды – не боги, как говорят они, а просто потерянные дети вроде нас. Это самый древний орден. А также самый бедный, потому что образованные и богатые обычно наделены утончённым вкусом и тянутся к более сложным и ярким верованиям.
Башня соловья также может тебя взять. Их способ поклонения связан с музыкой и заполнением небес песнями, потому что они служат Звёздам-близнецам Чандре и Аншу, которые своими светоносными голосами сотворили первую в мире музыку. Ещё есть Башни Живых-и-Мёртвых. У Живых тебя свяжут с каким-то созданием – соколом, дикой кошкой, змеёй или зелёным богомолом. Там верят, что божественность свойственна даже самым маленьким созданиям, и все они – голоса небес. Ваш союз с этим существом будет абсолютным, вы станете охотиться вместе, жить вместе и умрёте неразлучными.
В Башне мёртвых ты будешь изучать тела всех, кто умирает в Городе, – это магия крови и лимфы, тайная наука ригор мортис[14]. Там верят, что эта жизнь – лишь инициация, а смерть – начало просветления. Тело есть сосуд знаний, душа же отравляется в иные сферы, оставляя тело, переполненное секретами этого мира. Они поклоняются давно умершим Маникарника, чьи тела утеряны, и возводят алтари во имя этих призраков.
– Но которая из них правильная? Где истинные боги и правда? – спросила я.
Валтасар нежно улыбнулся, словно беседуя с глупым ребёнком:
– Об этом судить не нам. Каждый верит в то, что ему кажется достаточно правильным, и позволяет остальным пользоваться тем же благом. Кто знает, что случилось в предрассветных сумерках мира? Редко удаётся избежать теологических дебатов, когда мы выбираем, что есть на завтрак… Разногласия должны быть вежливыми – таков нурийский закон. Мы стараемся наилучшим образом толковать то, что видим вокруг.
Бад фыркнул и почесал за мохнатым ухом.
– Кажется, брат, ты пропустил одну.
– Ах да, – небрежно проговорил Варфоломей. – Башня Святой Сигриды, которую мы, без сомнения, не осуждаем, едва ли может считаться религией. Её последователи следуют примеру философа и мореплавательницы Святой Сигриды из Кипящего моря: она не была ни Звездой, ни богиней, её подвиги меняются всякий раз, когда кто-то из сигрид отвечает на вопрос о Госпоже. Говорят, в древние времена она считалась великой мореплавательницей и морской богиней, хотя была обычным гребцом. При этом имела три груди и носила бороду. Кто разберёт сигрид? Они скрытные, странствуют по реке на кораблях из кипарисового дерева и никому не рассказывают о своих ритуалах.
– Ещё есть наша собственная Башня, – с любовью сказал Бад. – Хризантема. О нас ты уже знаешь: «Книга Ветви» и «Книга Падали», святость растений и всех существ, которые делятся с нами собственными жизнями, чтобы мы могли жить. – Он взъерошил мои волосы, как у ребёнка. – Разумеется, все Башни представляют необычные и утончённые верования; кому-то хватает деревенской веры в Звёзды, кому-то нет. Религия – блюдо, отдающее крахмалом, мы добавляем в него экзотические пряности.
Я тяжело вздохнула, одурманенная разнообразием Башен и людей, – в моей деревне было всего несколько сотен душ и один храм, выглядевший как ледяная пещера в склоне горы. У меня не было особой привязанности к птицам или кошкам, если не считать того, что они шли на прокорм. Я не умела петь и играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. К тому же половина моей жизни прошла в поклонении небу – я отдала ему более чем достаточно. И, хоть стыдно об этом думать, мне не хотелось поклоняться цветам и забыть про дичь, обильно приправленную специями. Я не видела в этом греха, такова моя природа. В итоге осталась всего одна Башня.
– Не могу сказать, что решила… я так мало знаю! Но отведите меня в Башню Святой Сигриды.
В Саду
На чёрных-пречёрных веках девочки появились серебряные блики, будто её кожа отражала лунный свет. Она вдруг замолчала, оборвав историю, как рыбак обрывает леску. Посмотрела вдаль, на колышущиеся сливовые деревья, чьи листья блестели в темноте, когда ветер лениво их касался. По шелковистой поверхности пруда бежали волны, ударяясь о заросли камыша и изогнутые корни склонённых ив. Мальчик поёрзал, чувствуя, что его не замечают, что девочка рассказывает свою историю ночи и даже не видит его, сидящего перед ней. Неужели сейчас она осмелилась бы полезть на вершину башни, чтобы посидеть рядом с ним? Он боялся её покинуть – боялся, что никогда больше не найдёт её в огромном Саду, в лабиринте гибискуса и жасмина, среди стай ручных птиц, чьи хвосты блестят ярче сокровищниц, а высокие кипарисы обращены к небу точно руки паломников.
Мальчик боялся лишний раз вздохнуть, внимая голосу рассказчицы. Несмотря на замешательство, город Аль-а-Нур обосновался где-то в его животе, и Башни проросли сквозь маленькое тело. Девочка с лёгкостью погрузила слушателя в транс – теперь он лениво бродил по тёмно-голубым улицам и дымным переулкам, грызя карамельное яблоко, купленное у монаха в желтом одеянии, и страстно желая исчезнуть в недрах одной из Башен.
Внезапно девочка посмотрела на него, и его сердце при звуке её голоса кувыркнулось, словно лягушка, решившая прыгнуть на луну.
– Прости, что я так надолго тебя бросила. Не хотела причинить боль.
Девочка спрятала лицо среди теней, и мальчик слегка задрожал, но сумел скрыть свою дрожь. Она улыбнулась – улыбка была несмелая, как заяц посреди поля, – и продолжила.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
Пальцы Седки отекли от сырости, она едва чувствовала неподатливые верёвки, из которых была сплетена сеть. Она отвернулась от Сигриды, пристыженная. Вдруг почувствовала себя собственным призраком – вот женщина, которая тоже была молода и одинока, но сумела найти дорогу в город богов и завести друзей с волчьими головами, а Седка отыскала лишь стылый порт и раздражающую кличку, которую ей бросали вслед так часто, что она забыла своё настоящее имя. Девушка медленно становилась такой же бесцветной, как этот мёрзлый бессердечный город и море, всё вокруг покрывавшее солью. Осталась ли в её жилах кровь, или по ним течёт холодная вода?
– Я бы хотела, – прошептала она, – быть такой же храброй и красивой, как ты, чтобы побывать в таком же городе, встретить таких же людей и узнать много разных вещей.
Сигрида нахмурилась; от сырости её кучерявые волосы прилипли ко лбу, и причёска стала похожа на монашескую.
– Знаешь, это забавно. Большую часть времени в Аль-а-Нуре я мечтала стать такой же храброй и красивой, как Святая Сигрида. Каждый из нас думает, что есть кто-то, сияющий намного ярче, а я или ты по сравнению с ним даже не луна против солнца, а мёртвый камешек, парящий в пустоте рядом с ослепительным золотым шаром.
Седка подышала на пальцы: кончики ничуть не согрелись. Она искоса взглянула на Сигриду, чьи щёки ветер исхлестал так, что они сделались алыми.
– В те дни я была уверена, что всё в мире сияет ярче меня, и в первую очередь Бад. Так было до тех пор, пока я не встретила кого-то более яркого, а потом ещё ярче.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
Бад согласился отвести меня в башню Святой Сигриды, прежде чем их тройка отчитается в Папской Башне о неудачном завершении путешествия. Все согласились, что мне не надо отправляться туда с ними (не связанной обетами юной девушке не стоит рассчитывать на аудиенцию Папессы). Я попрощалась с Валтасаром и Варфоломеем, не очень сильно расстроившись из-за расставания. Ведь со мной остался Бад, а они казались суровыми и серьёзными. Бад был дорог мне, словно мы были щенками из одного помета, а его братья иной раз пугали меня своими мрачными желтыми глазами и мордами, которые словно переставали улыбаться, когда я отворачивалась.
Шкура Бада цвета ржавчины поймала свет вечернего солнца и превратилась в уютное весёлое пламя. Тьма Чёрной Папессы будто соскользнула с него, как старая одежда: стоило переступить порог Аль-а-Нура, как на его волчьем лице заиграла улыбка – он словно дышал городом, пока мы шли.
– Знаешь, нет ничего страшного в том, что ты не пойдёшь с нами. Тебе было бы там… неуютно. Большинство обитателей Хризантемовой башни такие же, как я. А если не кинокефалы, то какие-нибудь полукровки. Сигриды милые, чтобы ни говорил Варфоломей. У нас нет бога в строгом смысле слова, как у других Башен. Мы не очень-то много внимания уделяем Звёздам. Божественное присутствует в земле, во всем, что растёт, в жизни и смерти. Ветка ведёт нас сквозь жизнь, Падаль – сквозь смерть. Мне этого достаточно. Варфоломей глядит свысока на тех, кто вообще никого не чтит, как Отцеубийцы, или творит себе кумира из обычного человека. И я никогда не встречал сигриду, которая не направила бы свою лодку к зовущему на помощь. Такова истина.
Бад хихикнул, прикрыв рот коричневой ладонью с растопыренными пальцами.
– Конечно, они ужасно играют в ло-шэнь. Постоянно бросают «триремы» в атаку… – Он вдруг застыл, и по его лицу пробежала тень, как от крыла большого баклана. – Интересно, мне позволят опять войти в нашу Башню? Сомневаюсь, что в смерти, которую мы причинили, можно найти божественное. – С той же быстротой, как ушел в себя, Бад вспомнил о моём присутствии. – Вот мы и пришли!
Башня Святой Сигриды оказалась исполинским шпилем, целиком построенным из разбитых кораблей. Носы торчали из неё под всевозможными углами; длинные кили и высокие мачты были частями стен; такелаж и паруса, как лозы и занавески, беспорядочно свисали с каждого окна. У входа имелся штурвал громадного размера, потёртый и выщербленный за долгие годы использования, отбрасывавший длинную тень на дверь, запертую на засов. На часах стояла мускулистая женщина, бритая наголо, с широкими, стёртыми и очень белыми зубами. При виде неё глаза Бада вспыхнули, как лампы в ночь зимнего солнцестояния. Она приветствовала моего собакоголового друга немыслимыми объятиями, от которых и овцебык упал бы замертво.
– Дружище Бад! Ах ты, щенок! Совсем про меня забыл! Боишься, что я собью спесь с твоего «бога»?
– Ничуть, потому что ты швыряешься «триремами», словно у тебя их пучок за пятачок! – Он хлопнул её по обширной спине и радостно потрепал бритую голову. – Я привёл тебе новенькую, Сигрида, – мы подобрали её на поросших лишайником северных равнинах. Она пылкая и милая малышка, пока не решившая, какую Башню выбрать. К нам не пойдёт – слишком любит свой утренний бекончик. – Он подмигнул мне, и я густо покраснела, пристыженная его догадливостью.
Женщина оценивающе взглянула на меня, будто снимая мерки для причудливого доспеха.
– Она тощая, и волосы придётся сбрить, – был её вердикт.
Бад закатил глаза.
– Ей надо узнать про вашу треклятую Святую Сигриду, чтобы принять решение, солёная ты волчица. А я должен вас покинуть – нельзя заставлять Папессу ждать.
Грубое лицо женщины смягчилось, и она положила ручищу на моё плечо.
– Да поняла я, поняла. Иди… Я так понимаю, всё хорошо, иначе вы не вернулись бы. Мы все… ценим то, что вы сделали, малыш Бад. Я расскажу этой тощей малявке всё, что она должна знать.
Глаза Бада наполнились слезами, но он хорошо их спрятал, как вор прячет кольцо в карман. Он обнял меня крепко, словно медведь, стряхивающий с дерева плоды, прижался мохнатым лицом к моей шее, прошептал мне на ухо: «Спасибо!» – и повернулся уходить. Я протянула руку ему вслед:
– Погоди, Бад! Когда я попросилась с вами в моей деревне, ты сказал остальным что-то странное, из «Книги Падали». Что это было? Скажи мне!
Бад улыбнулся, сделавшись немыслимо похожим на кота, и приложил палец к носу.
– «И волк с пути её собьет, заведёт на край моря, где она найдёт Город Потерянных, где кожа с неё слезет, где Чудище проглотит её целиком». Пророчество, милая. Очень надеюсь, что это не о тебе.
Когда Бад ушел, бритоголовая женщина тяжело опустилась на заснеженную землю и взмахом татуированной руки велела мне сесть рядом.
– Он просто дразнит тебя. Их «Книга Падали» написана на собачьем языке и полна бессмыслиц. Не обращай внимания – это значит меньше, чем полоскание паруса на сильном ветру. Я расскажу тебе, что к чему. Меня зовут Сигрида – мы все зовёмся в честь великой Госпожи. Мне нет дела до того, какое имя ты носишь сейчас, потому что всё равно будешь Сигридой, если решишь плыть с нами. Слушай, что тебе расскажет старый палубный матрос, и узнаешь историю Великой Мореплавательницы.
Сказка о Святой Сигриде
Во имя Матери, Монстра и Мачты, аминь.
В пятнадцатом году Второго Халифата в благословенном городе Аджанабе, в семье путешествующих торговцев пряностями, чьи пальцы вечно пахли корицей и кориандром, родился ребёнок. Их баржа стояла в порту много лет, но сами они были не местными в городе, где родилась Святая. Откуда они пришли, мы не знаем. Аджанаб поначалу не признал Благословения Небес, много раз пытаясь избавиться от торговых барж, коих было множество, как воробьёв, собирающихся в стаи в осеннем небе, – прогнать их из Великой Гавани, заявляя, что все эти семьи принесли болезни и праздность из земель с дурной славой.
Девочку нарекли Сигридой. Уже в раннем детстве она была красавицей – с густо-коричневой кожей и пышными волосами цвета всех пряных запасов семьи, размолотых до тёмно-коричневого порошка, с проблесками золотого и красного, и с глазами цвета львиной лапы. Но она родилась со странным уродством, от которого её родители втайне страдали: отец плакал и обвинял мать в любовной связи с демоном; мать подозревала, что семейные боги отвернулись от них и послали дочь, в чьих жилах текла кровь гарпии.
Сигрида была трёхгрудой, и, по мере того, как она взрослела, прятать эту странность было всё сложней. Поэтому каждое утро, прежде чем отправиться с дочерью на рынок пряностей, мать стягивала ей грудь грубой тканью в несколько слоёв. Каждое утро она похлопывала Сигриду по щеке и глотала слёзы, заматывая её в полотно.
Став женщиной, Сигрида исполняла этот мучительный ритуал сама, сдавливая свою маленькую, но чудовищную грудь кожаными ремнями со свинцовыми пряжками.
Через некоторое время она перестала плакать, застёгивая их.
Когда Сигриде исполнилось шестнадцать – всем известно, что именно в этом возрасте чаще всего происходят невероятные совпадения, – шайка пиратов напала на плавучий город из барж, обосновавшихся в гавани. Такое случалось в Аджанабе, который в те дни являл собой паутину шумных улиц, где часто встречались злодеи; аджанцу не приходилось касаться золотой монеты, которую не украли по меньшей мере трижды со дня чеканки. Но баржи пользовались неприкосновенностью, так как их владельцы состояли с пиратами в отдалённом родстве. Потому, когда «Непорочность» вошла в Великую Гавань, и её красные паруса раздувались на ночном ветру, как мёртвые луны, торговцы перевернулись с одного бока на другой и продолжили спать, думая, что корабль пройдёт мимо и разграбит город, как обычно и происходило при появлении таких чудищ с мачтами.
Однако пираты подожгли ялики и шаланды торговцев пряностями и жестянщиков, сапожников, оружейников и горшечников.
Сигрида, как её братья и родители, спала в своей койке, свернувшись будто улитка в раковине, и груди её не были перевязаны. Она проснулась, когда кто-то зажал ей рот ладонью и сквозь стиснутые зубы прошипел на ухо:
– Тсс, лапочка. Мы не хотим разбудить маму.
Говоривший подхватил её на руки с лёгкостью кошки, хватающей котёнка за загривок. В вихре дыма и огня Сигриду поволокло прочь от родной баржи, и так она покинула историю, которая, несомненно, включала бы жизнь, полную насмешек и презрения, в финале коей пропахшее корицей и кориандром бездыханное тело швырнули бы за борт, в воды Аджанского залива. Взамен похититель поместил Сигриду на палубу окутанного тенями корабля, и она стала героиней совершенно другой истории.
Вообще-то семья не сильно расстроилась, обнаружив пропажу. Они бы никогда не нашли ей мужа, даже если бы предложили в обмен несколько мешков душистого шафрана. Им казалось, что правильнее растить других, красиво сложенных, детей и предоставить уродливую дочь участи, которую ей уготовили Звёзды.
Обладатель странного голоса перенёс Сигриду на борт «Непорочности». Как только команде наскучило грабить, воровать и брать людей в заложники, корабль развернул алые паруса, ловя солёное дыхание открытого моря, и покинул гавань с изяществом лорда, вкладывающего меч в ножны.
Нет ничего похожего на момент, когда парус ловит ветер и открывается под ним, будто ноги весёлой рыбачки. Звук, с которым поток воздуха надувает ткань, рывок вперёд и брызги в лицо возвещают начало новых миров, рождение новых выводков тюленей, исполняющих желания, в сотне тайных гротов и усердный путь новых рек сквозь горы, которые хихикали, когда первый потоп намочил им ноги.
Он заполнил сердце Сигриды, как вино заполняет дубовую бочку. Прислушиваясь, она перегнулась через борт и с широкой улыбкой принялась разглядывать корабль, чьи пушки имели вид звериных голов с разинутыми пастями. С одного борта безмолвно кричали мантикоры, с другого распахнули челюсти крокодилы. Сам корабль полыхал тёмно-алым – она ещё не видела такой древесины. Мачта была массивная и высокая, почти задевавшая звёзды, а из её полированной поверхности вырастали блестящие зелёные листья и ветки толщиной с детскую руку. Это было живое дерево, питающееся морем и небом, миролюбиво несущее паруса и лини. Оно словно не замечало соли и жестокого ветра, распускало листья, будто с радостью протягивало руки. На месте «вороньего гнезда» красовалось переплетение ветвей, усеянных листвой и оранжевыми плодами, – достаточно густое, чтобы там мог разместиться вперёдсмотрящий. Паруса были тёмно-алого цвета, и Сигрида спросила себя: «Может, репутация этого корабля не такая и сомнительная, раз он нарушает священную традицию плавания под чёрными парусами?» Изогнутый фальшборт украшали замысловатые резные узоры – девушка не видела ничего подобного в Аджанабе и догадывалась, что не увидит нигде в бескрайнем море.
На палубе, как и должно быть в открытом море, царила рабочая суматоха; моряки по обыкновению почти не обращали внимания на новую пассажирку. Но команда собралась необычная. Дело не в том, что не все её члены были людьми, кое-кто передвигался галопом – Сигрида точно видела сатира и вроде бы узкоплечего кентавра – или ползком – женщина, тащившая раздутый мешок желтых пряностей, несомненно, была ламией, – а в том, что на борту, похоже, не было ни одного мужчины.
– Тебе здесь нравится, моя аджанская находка? – раздался позади неё тот же странный голос, одновременно мягкий и жесткий, как золотой молот, завёрнутый в меха. Сигрида повернулась и оказалась лицом к лицу со значительной частью своей судьбы – Длинноухой Томомо, капитаном славной «Непорочности». Томомо выглядела непривычно для этой части мира, но её нельзя было назвать некрасивой: глаза тёмные, с рассеянным взглядом, волосы длинные и чёрные, прямее вороньей лапы; кожа – точно потемневшая от времени слоновая кость, утратившая изначальную белизну из-за прикосновений множества пальцев. Её наряд не поражал ослепительной роскошью, которую частенько предпочитают пираты, но состоял из простого жилета и брюк оленьей кожи, а волосы были заплетены в длинную косу, достигавшую бёдер. Позже Сигрида нередко слышала, как Томомо отказывается от капитанской шляпы с хвастливыми павлиньими перьями и золотыми пряжками, замечая, что если ей случится умереть – а в такой шляпе она точно привлечёт внимание желающих убивать, – и они не сумеют снять с неё эту уродливую штуку, боги будут хохотать, когда она попадёт в ад.
– Вы о корабле, мэм? – Сигрида помедлила, сомневаясь. – Сэр?
– Девочки называют меня Томми, и ты зови так же. Да, я о «Непорочности». – Томми хлопнула по фальшборту, а затем погладила его с явной любовью. – Она мой приз – подарок птицы, дерева и Ведьмы. В ней нет ни единого гвоздя – всё держится на дыхании, крови и звёздном свете.
Сигрида сглотнула комок в горле.
– И вам нужна моя кровь, чтобы заплатить Ведьме?
Брови Томми изогнулись, как два туго натянутых лука.
– Думаю, нет. Грязи будет много, а толку почти никакого.
– Тогда зачем я вам, если вы не собираетесь меня убивать? Я слышала, пираты лишь этим и занимаются. Наверное, вы самые худшие пираты, раз напали на аджанские баржи.
Капитанша улыбнулась и наклонилась к Сигриде – выражение её лица отчасти было материнским.
– Мы не очень следуем традициям. Услышали, что на одной из барж живёт девочка-монстр. Тебе предстоит узнать, почему те, кто живёт в море, доверяют одним слухам и смеются над другими. Так вот, этот был из тех, к которым стоит прислушаться: когда Звёзды говорят, надо ловить каждое слово. Оглянись вокруг – мы любим монстров. Нелегко собрать команду из одних женщин, в наши дни девочек не учат морскому делу. Услышав о вызывающем ужас чудище, мы хватаем её как можно скорее.
– Так пожары и налёт были из-за меня?
– Разумеется, нет! Мы много всего украли – просто не взяли других девушек. Теперь ты – часть нашей команды, тебя завербовали на морскую службу, моя пороховая обезьянка[15].
Сигрида перегнулась через борт и уставилась на воду, текущую мимо красного корпуса с быстротой выдры, удирающей от голодной акулы. Она подумала о семье, которую потеряла, но не ощутила великой скорби, и о своём новом месте – монстра среди монстров. Хотя некоторые морячки казались по виду людьми, она начала понимать, что ни об одной из них этого сказать нельзя. Томми перегнулась через борт рядом с нею. Она отражалась в воде как женщина с человеческим телом, но вместо ухмыляющегося лица обнаружилась ясноглазая лисья морда, чью шерсть огненного цвета трепал ветер.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
Седка посмотрела на широкое лицо Сигриды — осторожно, как лань, принюхивающаяся к кусту ежевики.
– Знаешь, а я ведь родилась в Аджанабе, – тихонько проговорила она.
Сигрида кивнула, но не в знак того, что знала об этом.
– Тогда ты благословенна, как весеннее дитя… Впрочем, мне говорили, что этот город превратился в тень самого себя. Все города нынче лишь тени былого; Мурин тоже когда-то был крупным, с башнями из льда и серебра, с королевами, сидевшими на грудах китовых шкур и пившими аджанское орхидеевое вино из кубков тюленьей кости. Тысячу лет назад здесь была столица севера, а теперь это отдалённая деревня на краю враждебного моря. Только Звёзды помнят прошлое.
Полдень сделался толстым и краснолицым, первые завитки сумерек притаились под его отвисшими щеками. Сигрида и Седка теперь работали в унисон, как две скрипачки со смычками в руках.
– Ты, конечно, осталась с сигридами, – заметила Седка, глядя на массивные локти своей подруги, – иначе то, что тебя зовут Сигридой, было бы удивительным совпадением.
– Конечно.
– И всё же… – тут Седка покраснела, её бесцветное лицо порозовело, – ты клянёшься не именем Святой Сигриды, а поминаешь Звёзды. Наверное, твой путь оттуда сюда был очень странным.
Улыбка Сигриды тихонько исчезла, как исчезает кот, увидев распахнутую настежь дверь. Она закрыла глаза, и на миг Седке показалось, что эта громадина сейчас заплачет.
– Я недостойна поминать её имя всуе, – прохрипела она, скорбно заголосила, как сотня лягушек. – Я слишком часто совершала грубые ошибки. Я должна была кое-что сделать – таково моё, как я когда-то считала, единственное предназначение. Я забыла о нём, когда волки сбили меня с пути и привели в Город света. Там я упустила из рук свою вторую судьбу, она будто обожгла. Теперь у меня нет судьбы – лишь эти сети и верёвки, напоминающие пуповины; я всё вяжу, вяжу… – Сигрида вытерла нос и тряхнула головой как лошадь, отгоняющая мух. – Я вероотступница – отказалась от веры, которую чтила в юности, и теперь клянусь Звёздами, потому что их сложно обидеть. А у тебя есть какой-нибудь аджанский бог, которому ты шепчешь по ночам?
– Я не помню… Родители умерли раньше, чем успели научить меня молитвам. Я слышала, что теперь аджанцы поклоняются Звёздам, потому что город умер и все монахи с их сложными новыми верованиями покинули его. А ещё говорят, что аджанцы едят пироги из гусениц, летают на крыльях из конского волоса и розовых лепестков. Я перестала верить тому, что люди рассказывают про мой дом. В любом случае, ни разу не слышала о святой, которая родилась на барже.
– Это потому, что она не была святой, когда покинула Аджанаб. Небеса коснулись её головы гораздо позже. Очень редко случается, что нас ценят там, где мы родились. И даже там, – Сигрида криво улыбнулась, – где нас приняли в семью. Но ты можешь шептать молитвы Святой Сигриде, если хочешь, когда одна и Звёзды молчат. Она не будет возражать.
Она взяла беловолосую голову девочки в свои большие мозолистые ладони.
– Я ведь добралась до Томомо, верно?
– Да, – выдохнула Седка. – Продолжай.
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
Сигрида, несомненно, встревожилась, увидев Томомо с вытянутой мордой и ушами, украшенными кисточками кремово-желтой шерсти. Однако капитанша казалась достаточно милым чудовищем, её грациозные руки лежали на фальшборте, как аккуратно разложенные цветы. И когда Сигрида перевела взгляд с отражения на капитаншу, та оказалась в точности такой, как была, – с гладко зачёсанными волосами и потрескавшимися, как у любого мореплавателя, губами, на которых играла весёлая улыбка. Лисью голову показывала только вода.
– Да, я тоже монстр. Разумеется, меня трудно раскрыть, о прекраснейшая из девушек, что родились на баржах… Лишь отражение в воде показывает это лицо, я с рождения замаскирована. В то время как ты, – Томомо многозначительно посмотрела на грудь Сигриды, – вынуждена для этого трудиться. Моя мать, как и твоя, избегала на меня смотреть. Мы не встречались с ней взглядами, даже когда я была младенцем; она говорила, что видит внутри моих глаз что-то нечестивое, и оно наблюдает за ней – это не её дочь. Они любят говорить о нашей нечестивости, Сигрида. Им кажется, что мы не можем им навредить, потому что они святы в той же степени, в какой мы порочны и мерзки. Но, конечно, мы можем. Давай я расскажу тебе, как узнала о том, что я монстр.
Сказка про хитрый трюк
Моя мать проявляла особое усердие в бинтовании моих ног, хотя ко времени моего рождения обычай считался в нашей стране таким же древним и не модным, как каменный топор. Думаю, она хотела приковать меня к носилкам на всю оставшуюся усыпанную цветами жизнь, чтобы я не причиняла вред своими шалостями.
Каждую ночь я разматывала бинты и тайком выбиралась из постели, чтобы голой плескаться в садовой грязи. Уверена, она знала об этом – поутру мои волосы всегда были влажными и пахли травой, – но ничего не говорила, заматывая пальцы в шелк-сырец, с упрёком поглядывая на грязные пятки.
Однажды, когда мне было лет десять, гадалка Маджо вернулась в столицу. Это было великое событие, поскольку товары не принятой в высшем обществе женщины пользовались большим спросом у благородных дам: любовные зелья, заклинания для благополучных родов и рождения мальчика, талисманы на удачу и богатство, даже чары для перемены погоды от засухи на дожди. Её телега была удивительной вещью, сделанной в виде маленького передвижного дома, задрапированного пурпурными и красными кусками ткани, с зелёными занавесками и позвякивающими серебряными цепями, кожаными амулетами, бахромой свисавшими с миниатюрного карниза, перьями журавля и кошачьей шерстью, а также мазями в глиняных горшках, хранившимися за тёмной дверью. Всё это Маджо носила на спине из города в город, хотя высохшая и костлявая фигура старой ведьмы едва ли казалась способной на подобное. Когда она останавливалась, из нижней части хитроумного устройства выдвигались ходули, и Маджо, распустив ремни, принималась за работу.
После заката моя мать и другие дамы в надушенных париках и с накрашенными губами собирались в беседке, словно птицы у фонтана, щебеча от удовольствия и с замиранием сердца прислушиваясь, не раздастся ли многозначительный скрип тележки Маджо. Меня приносили в паланкине, на розовых подушках, а мои стянутые бинтами ноги были приподняты так, чтобы к ним не приливала кровь.
Вскоре раздавалась тихая песня гальки, хрустящей под ногами, и магии, привычной как кулинария. Женщины толпились вокруг Маджо, совали монеты в её пальцы, похожие на веточки орешника; и хватали амулеты, талисманы, полоски бумаги, которые надо было спрятать под подушкой; напитки, которые надо было залпом выпить в следующее новолуние.
Каким-то образом сквозь громкий шелест одежд и жадные руки Маджо заметила меня своим чёрным глазом. Он у неё был единственный – другой она потеряла во время своих путешествий. Одни говорили, что в схватке с тигром, другие – в битве с чародеем; а кое-кто утверждал, что выцарапал его собственноручно, наказав гадалку за неправильное заклинание. Этот взгляд был как рука, схватившая меня; губы Маджо, на которых виднелись ниточки слюны, разошлись в самодовольной ухмылке.
– Как зовут твою дочь? – хрипло спросила она у моей матери, безошибочно определив её среди напудренных дам.
– Моё дитя зовут Томомо, – ответила мать дрогнувшим голосом.
Маджо дважды щёлкнула языком и, вытащив из складок юбки жёлтый кисет, протянула его ей.
– Отдай девочку мне, и я дам тебе кисет – держи его всегда при себе, и в нём будет появляться золотая монета каждый раз, когда споёт петух.
Все женщины затаили дыхание, словно рыбаки, поймавшие на крючок жирного лосося, а потом стали завистливо шептаться – кому нужна бесполезная дочь, если речь идёт о золоте?
Взгляд моей матери воровато метнулся от меня к старой ведьме. Наконец, она согласилась и, схватив желтый кисет, поспешила во внутренние покои с остальными дамами, захваченными новым чудом. Мать поцеловала меня напоследок в щёку и впопыхах попросила быть осторожнее. Спустя мгновение мы с Маджо остались во внутреннем дворе одни, не считая восхитительной тележки.
Она ничего мне не сказала, но вытащила большой медный котелок и наполнила его водой из такого большого кувшина, что я едва поверила в возможность спрятать его в складках юбки. Когда рябь на поверхности воды улеглась и луна засияла в котелке, как картофелина в супе, Маджо знаком велела мне посмотреться в него.
Я увидела моё истинное лицо – тонкую заострённую мордочку, влажный чёрный нос и уши, с любопытством подрагивавшие на ночном ветру. Наверное, мне стоило испугаться – моя шерсть была такой красной, а зубы сияли так ярко. Но, по правде говоря, я испытала облегчение – вот что мать видела на дне моих глаз. Я не была проклята – просто оказалась монстром.
– Вот так-то, Томомо, моя девочка, – Маджо похлопала меня по спине, и это до странности походило на поздравление.
– Откуда вы узнали? – спросила я.
– Мы узнаём себе подобных по запаху, чуем этот аромат шерсти под кожей, как сахар, растворённый в чае.
Она заглянула мне через плечо, и её лицо появилось в воде рядом с моим – морщинистая морда с проплешинами, без одного глаза, с покрытой шрамами нижней губой и отвисшими, будто седельные сумки, щеками. Мы обе ухмыльнулись, и наши отражения оскалили зубы: её были желтыми и затупившимися, мои – белыми и острыми.
– Теперь ты принадлежишь мне, малютка-лиса. Если бы я узнала о тебе раньше, украла бы и нашла подходящее логово в горах. Теперь всё сложнее. Ты слишком взрослая, чтобы присоединиться к своим кузенам и кузинам. Хотя на самом-то деле это неважно – если будешь хорошо учиться, найдёшь себе место в мире, как нашла я. Однако не забывай остерегаться воды – она нас выдаёт.
Маджо опрокинула котелок на гальку и сунула обратно в тележку, накинула на плечи широкие кожаные лямки и водрузила миниатюрный дом на спину. Деревянные «ноги» со щелчком сложились, спрятались под полом. Гадалка понюхала ветер.
– Лиса всегда должна быть начеку и оставаться бодрой, – сурово проговорила она. – Теперь, когда ты знаешь, что ты одна из нас, оправдывать лень нечем. У меня и так тяжелый груз, ещё не хватало трижды проклятых носилок. И снимай эти нелепые штуки со своих ног!
Я с радостью содрала бинты, зубами помогая распутывать тугие узлы. И запрыгала рядом с Маджо, так светясь от радости, что моя одежда должна была вот-вот вспыхнуть.
– Куда мы пойдём? – спросила я.
– Туда, где ты сможешь многому научиться. Ты спала на простынях, мягких, словно укутанные в шелк облака, и вкушала жирную оленину. Но за пределами Дворца олени умны, и поймать их сложно, а мягкая постель слишком тяжела. Есть другая жизнь, и, в общем и целом, она по силам лучшим женщинам. Жаль, что твоей матери не доводилось спать в пещере, где вместо одеял – ворох листьев… Надеюсь, награда ей понравится. К утру все петухи в столице упадут замертво – они будут мёртвыми, как золото и нежеланные дочери.
Я вытаращила глаза, не в силах вообразить столько мёртвых петухов и то, как эта согбенная старуха передушила много птиц. Но не успела я и рта раскрыть, как она уже потрусила вперёд.
Я за ней едва поспевала. Для своего возраста Маджо была на удивление прыткой, и я начала понимать, как ей удаётся с лёгкостью путешествовать из города в город. Вскоре мы углубились в лес, где рос бамбук толщиной с женскую талию. Ещё через некоторое время я почувствовала лёгкий запах моря, и мои волосы начали тяжелеть от сырости. Когда ночь сделалась холодной и чистой, как лёд на поверхности пруда, мы достигли длинного песчаного берега, который был под ногами мягче, чем сладкие пироги. Гадалка снова заговорила. Её голос больше не казался грубым и болезненно-хриплым, он звучал высоко и чисто. Не было ничего удивительного в том, что он напоминал лай лисы, призывающей своих детёнышей.
– Вот мы и пришли.
– И куда мы пришли?
Я видела только бескрайнее море, белые буруны и изящный причал, тянувшийся над водой, как палец скелета.
Маджо закатила глаза.
– Лиса должна быть умной и самостоятельной. Ты у нас учёная, вот и разберись во всём сама. Я привела тебя сюда – моя роль сыграна. Я не книга, ты не можешь подсмотреть ответы в содержании. – Маджо повела плечами под тяжестью своего домика.
Я стояла на песке, смущённая, стараясь не выглядеть дурочкой. Она снова закатила глаза.
– Видишь причал? Больше вокруг ничегошеньки не видать. Почему бы тебе не пойти и не проверить, вдруг под ним кто-то живёт? Или мне всё делать за тебя, уподобившись твоей безмозглой матери?
Маджо расстегнула ремни на плечах и позволила деревянным ногам развернуться. Покопавшись в своей хибарке, она вытащила толстую подушку, устроилась на ней, выудила из юбок рисовый шарик и принялась с удовольствием его уплетать, свободной рукой указывая на причал и намекая мне поторопиться. Мои щёки словно обожгло ударом хлыста. Я не собиралась выглядеть избалованной девчонкой и побежала к шаткому причалу; от моих пяток во все стороны летели маленькие осколки морских раковин.
Под гнилыми досками воняло. Всё вокруг обросло водорослями, мидиями и морскими желудями; старые сети для охоты на крабов запутались в проржавевших вёдрах для сбора моллюсков. Я прижала ладонь ко рту, сдерживая позыв рвоты, – почти во всех сетях и ведрах имелись останки несчастных жертв. Я не видела ничего такого, ради чего меня могла бы послать сюда Маджо, – там и оголодавшая чайка не нашла бы ничего интересного. Но она не могла ошибиться, в этом я не сомневалась… И действительно, за обгрызенной колонной обнаружилась чья-то тёмная фигура. Я потащилась к ней, мои босые ноги хлюпали по приливным озёрцам и сырому песку. Вскоре, оказавшись по колено в солёной воде, я с шумным плеском спешила вперёд за шустрой тёмной фигурой в лунном свете.
– Подожди!
К моему изумлению, существо остановилось и повернуло ко мне гладкую голову. Это оказалась большая упитанная выдра. Она перевернулась в воде, где глубина была по пояс, и легко поплыла на спине, демонстрируя влажный золотистый живот, выделявшийся на фоне её гладкой тёмно-коричневой шкуры. Мордочка выдры выглядела вполне дружелюбной, даже доброжелательной. У неё были очень густые усы, настоящая щётка. В лапах она держала большое морское ухо, от которого успела отколоть несколько кусочков раковины, и теперь возилась с остальным, поглядывая на меня поверх неподатливой добычи.
– Что? – спросила выдра. Её голос был хриплым, как сухие водоросли, пересыпанные песком.
Я стояла, промокшая до костей и замёрзшая, не зная, что сказать. Мои пальцы утопали в липком иле. Эта грязь вынудила меня вспомнить о бинтах с некоторой тоской. Под причалом, среди колышущейся воды, я чувствовала себя ребёнком, пытающимся рассказать стихотворение, которое даже не пробовал выучить.
– Меня послала Маджо. – Я пожала плечами, стараясь вести себя так, будто каждый день беседую с выдрами. – Ну вроде того. Я поняла, что она меня сюда послала: сказала залезть под причал, хотя тут очень грязно, и мне кажется, много разных существ умерло.
– Несомненно, – сказала выдра и, наконец-то расколов раковину, вытащила из её мерцающих недр большой кусок плоти моллюска. – И каждое было вкуснее предыдущего.
Она довольно долго с усердием жевала жесткое мясо, прежде чем заговорить опять.
– Что ж, если Маджо послала тебя, полагаю, придётся справиться с помощью неряшливой тощей лисички, верно? Бывало и похуже. Я Ракко, Король выдр. Если ты не принесла мне креветку или каких-нибудь моллюсков в качестве подношения, останешься должна, так и запишем.
– Ох, – сказала я, пытаясь изобразить поклон в солёной воде. – Не знала, что вы Король. Я бы точно что-то принесла.
– Вообще-то, – сказал он и, прошлёпав мимо меня к одному из ржавых вёдер, выудил оттуда что-то мерзкое и зелёное, от нетерпения чуть не перевернув танцующий на волнах сосуд, – я Король в большей степени потому, что сам себя таковым назвал, и никто не стал возражать. Но этот причал ничуть не хуже любого тронного зала, здесь в каждой клетке и кастрюле сокровища. Вот откуда берутся короли, моя пушистохвостая девочка, – они выбирают место, вбивают в землю кол, называют себя Королями и ждут, не разозлится ли кто-нибудь из-за этого. Пока никто не разозлился, а это значит, что выдрами правлю я.
– Понимаю. – Я кивнула и подумала, не так ли сделался королём тот, кто первым стал управлять моей страной. – Я не очень поняла, чего от меня хочет Маджо…
– А что у лис получается лучше всего? Она хочет, чтобы ты кое-что для меня украла. Это будет нелегко. Надеюсь, ты годишься для такого дела – она иногда посылает ко мне девочек, но обычно они слишком хрупки для воровства.
Я чуть покраснела, думая о своих маленьких ступнях, скрытых под водой.
– Что я должна раздобыть?
Ракко отвлёкся от вёдер и затих, его мохнатая мордочка вдруг приобрела печальное выражение, а вода закапала с длинных усов, как дождь со стеблей пшеницы. Он потёр свои круглые коричневые глаза, будто не спал с той поры, когда море было лужей и сухую землю освещала луна.
– Это не для меня, – со вздохом признался он. – Совсем не для меня, но мне нужно, чтобы ты украла Звезду.
Сказка о Гагаре, Выдре и Звезде
Лучше всего я помню всплеск.
Мы ныряли с Секкой, Королевой гагар. Она научила меня, как стать венценосной особой. Но если я всего лишь Король-под-причалом и маленькие негодницы не приносят мне даже ёжика в качестве дани, то Секка один раз сказала, что она королева, и остальные гагары сразу увидели, какая у неё чёрная голова, размашистые крылья – бедная Секка появилась на свет более крупной, чем полагается гагарам, и настрадалась из-за этого, когда была птенчиком, – какое у неё белое брюшко, до чего пронзительно она кричит, и тотчас согласились с тем, что она должна сделаться королевой прямо сейчас. Увы и ах, ей пришлось убедиться в том, что это один из худших способов стать правителем, так как обычно к условиям сделки нужно добавить обязанности, а не только великое множество вёдер с вкусной подгнившей рыбой. Её гнездо самое большое и мастерски сделанное из всех гнёзд морских птиц, но приходится навещать всех наседок во время брачной поры. Секка старается, но гагары не очень быстро летают, поэтому редко удается побывать у всех.
Когда случился всплеск, пора была не брачная. Гагары, как и выдры, любят нырять: мы выдыхаем весь воздух, делаем свои животы почти плоскими и устремляемся к глубоким холодным течениям, где парят жирные рыбы. Секка и я – лучшие ныряльщики из всех, кого ты могла бы вообразить, если бы вознамерилась понять, насколько одарёнными могут быть ныряльщики. Мы ныряли наперегонки, играли, охотились. Была ночь, и вдруг тонкий голубой луч прорезал воду, словно рыболов забросил крючок. Над нашими головами мелькнула тень проходившего мимо корабля.
Когда я пронёсся, чтобы перехватить прилипшего к глубокой скале моллюска, море озарилось светом, будто в воду целиком рухнула луна. Течения полыхнули мертвенно-белым, и я увидел на их фоне пурпурный силуэт Секки, мой собственный хвост коснулся этого потока, и глаза обожгло. Я начал яростно их тереть. Когда убрал лапы, свет потускнел, а в сине-чёрные глубины с ужасающей скоростью опускался тонущий мальчишка.
Мы нырнули за ним в едином порыве, страдая от нехватки воздуха и падая как два камня вслед за опускавшимся по спирали телом. Вспоминая об этом сейчас, я не могу взять в толк, почему мы решили, что важно поймать полумёртвого незнакомца раньше, чем он достигнет океанского дна? Тогда мы ни о чём не думали и утонули бы, зная, что это может остановить его падение. В конечном итоге Секка его поймала, схватив прядь волос своим чёрным клювом. Я сильным гребком преодолел последние несколько дюймов и схватил мальчишку за талию; мы поволокли его к поверхности, словно сеть, полную лосося. Знаешь, он был такой тяжелый, будто его заполняли серебряные гири!
Когда три наших головы показались над волнами, я затащил парня к себе на брюхо, точно раковину гребешка. Он лежал без сил, сжимая голову руками; ночь отбрасывала тени на его кожу. Наконец после долгого молчания – мы с Секкой пререкались над ним, как молодые родители, – он закашлялся, и его вырвало водой мне на шерсть. Застонав, мальчик поднял голову, продолжая сжимать её руками. Я тут же заметил две вещи: во-первых, по всей его голове бежала тонкая линия, сочившаяся чем-то вроде жидкой тьмы; во-вторых, у него было два лица в тех местах, где полагалось находиться ушам, и гладкая кожа там, где я рассчитывал увидеть глаза. Здесь кожу прорезала чёрная линия.
Мальчик держался за голову, ладонями прикрывая носы и лбы, но не влажные губы и запустив пальцы в жесткие волосы. Когда он заговорил, открылись оба рта, и два голоса зазвучали в унисон: один – высокий и тонкий, детский, другой – низкий и глубокий, мужской.
– Я живой, – прохрипел он.
– Спорный вопрос, мой милый утопленник, – прокудахтала Секка, уже успевшая попробовать чёрную жидкость с его безликого лица и объявить её ужасной. Это была не совсем кровь, но и не кровью её тоже нельзя было назвать.
– Секка, – тихонько проговорил я, – что нам делать? Отвезти его на берег?
Она распростёрла над мальчиком свои огромные чёрные крылья: белые пятна на них мерцали как звёзды.
– Маленький потеряшка, ты плавать умеешь? Может, если перестанешь держаться за свою бедную голову…
– Нет! – воскликнул мальчик, отпрянув от неё и чуть не упав в воду. Оба его лица выглядели беспомощными, когда он прижался ко мне локтями. – Нет, прости, я не могу. Не могу отпустить.
– Что с тобой случилось? – с намёком спросила Секка, тыкаясь клювом в его рёбра, словно он был птенчиком со сломанным крылом.
– Я упал, – ответил он с тяжелым вздохом.
Сказка про корабль, каноэ и плот
Я не такой, как все.
Я хотел увидеть мир. Даже после того как все ушли в холмы, землю и во тьму; после того как люди открыли внутри себя глубокие каменные колодцы забвения и все Звёзды нырнули туда, я остался. Ничего не изменилось с того момента, когда я сделал первый шаг, длинный шаг из темноты, – мне были нужны трава, соль и сырные головы, дома с черепичными крышами и пляжи с бесчисленными песчинками. Я был счастлив здесь, не хотел прятаться в кустах ежевики и притворяться, будто ничего не знаю о происходящем вокруг.
Поэтому я касался всего, до чего мог дотянуться, чтобы свет вытек из меня, чтобы истечь им в достаточной степени и уподобиться существу, которое никогда не было дырой в пустоте. Я касался мужчин, женщин и детей, спавших в кроватках из лиственницы; чашек, тарелок и сосудов с розовыми лепестками. Я касался телег с сеном и стогов, толстых тюремных дверей; травы, соли и сырных голов; домов с черепичными крышами. Я просеивал песок до тех пор, пока моя кожа не перестала светиться.
Но мои лица! Разумеется, никто не принял бы меня за человека.
Я говорю, что все мы выбираем, на что быть похожими, однако сам не мог решиться. Я смотрел на траву и соль – они были не такими, как я. Я смотрел на сырные головы, дома с черепичной крышей, бесчисленные песчинки на берегу. Ничто не подходило мне, как туфли в одной паре подходят друг другу.
Потом я увидел детей с одинаковыми лицами, которые шли по двое, – это были близнецы. Я знал, что тоже являюсь парой, хотя у меня одно тело. Я разделил своё лицо и стал Двойной Звездой. Вылив свой свет на сухую землю, чтобы войти в города людей, я не изменил свою природу. Зачем мне её менять? В этих городах всегда было много монстров, меня легко было принять за одного из них. Я назвался Итто и исчез в шумном переплетении улиц.
Я жил, ел, работал, был парой самому себе.
Я следил, как мир забывает о нашем облике, а потом собирает на наших алтарях груды цветов. И лишь качал головой…
Я жил, ел, работал. Меня считали монстром и не любили.
Прошло много времени, и мне взбрело в головы почувствовать на коже океанские брызги. Я решил построить себе корабль и купил в прибрежном городе большую партию древесины – это было красивое дерево, раньше я никогда таких не видел; с тёмно-красными и блестящими волокнами, похожими на жилы, полные крови. Я нашел место подальше от других кораблестроителей, которые смеялись, завидев уродца, взявшегося за инструменты и трудившегося над каркасом корабля с помощью молота и собственных мозолистых рук.
Вскоре корабельные плотники пришли ко мне и сказали: «Итто, эта древесина слишком красивая для такого, как ты. По правилам мы должны строить из неё корабли, но у тебя получится корыто, такое же бесформенное и уродливое, как ты сам; испортишь древесину, и всё».
Я не хотел, чтобы её забрали, но одни меня держали, а другие взяли столько красного дерева, сколько захотели. Что я мог поделать? Мы не творим чудеса, у нас нет силы десятерых. Когда наш свет заканчивается, мы становимся слабее даже корабельного плотника с морщинистым лицом и солёными руками.
Когда они ушли, я поглядел на то, что осталось, и сказал себе: «Ладно! Я не могу построить корабль, но построю каноэ».
Вскоре плотники пришли опять и сказали: «Итто, эта древесина слишком красивая для такого, как ты. По правилам мы должны строить из неё корабли, а у тебя получится перекошенное каноэ, такое же бесформенное и уродливое, как ты сам; испортишь древесину, и всё».
Я не хотел, чтобы её забрали, но одни меня держали, а другие взяли столько красного дерева, сколько захотели. Что я мог поделать? Растратив себя на траву и соль, я не мог остановить человека взглядом.
Когда они ушли, я посмотрел на то, что осталось, и сказал: «Ладно! Я не могу построить каноэ, но построю плот».
Древесины едва хватило даже на плот, но я крепко примотал планку к планке, колышек к колышку, щепку к щепке. Вскоре у меня был красный плот, маленький и крепкий; я его любил. Он был моей собственной вещью, которую я сотворил, как небо сотворило меня, и я дорожил им, как мог бы дорожить ребёнком.
Он нёс меня по пурпурным волнам так же уверенно, как отшельник несёт свой мешок. Я хорошо рыбачил, сидя на краю, а моя рубашка была парусом бедняка: она наполнялась ветром, а сети наполнялись рыбой. Я лежал на грубой поверхности красного дерева и вдыхал запах его волокон, запах крови и корицы, щипавший ноздри. Я говорил с плотом и, пребывая в одиночестве, думал, что он отвечает; его голос был тихим и тёмным, как небо. Я ощущал его спиной по ночам, темнота обмывала оба моих лица нежными руками.
Вернувшись в город, я положил плот на хранение, завернув в длинные отрезы промасленной ткани, – да, испачканные рыбьей чешуёй, но самые мягкие из всех, что я мог себе позволить. Поставил его у стены в самом тёмном уголке самого маленького лодочного сарая в доках. Однажды, когда я пришел за своим плотом, чтобы развернуть его и пустить на мелководье, в тёмном уголке не оказалось ничего, кроме грязных запятнанных лохмотьев и единственной сломанной планки красного дерева.
Пока я стоял там, стараясь не расплакаться, позади раздался чей-то голос. Я обернулся и увидел неряшливого тощего сына одного из корабельных плотников. Он отбросил сальные волосы со лба; его глаза, как у виноватого пса, метались между мною и тем, что осталось от плота. «Итто, – прошептал он, облизнув губы, – эта древесина слишком хороша для тебя».
Он убежал из лодочного сарая, бросив меня наедине с остатками плота.
Я унёс сломанную дощечку прочь от бесчисленных песчинок на берегу и домов с черепичными крышами, прочь от сыроделов, создававших сырные головы, покрытых травой лугов и тех мест, где солили мясо. Наконец, я достиг леса, обильного ветвями и корнями, и в его центре нашел клочок земли, где выкопал глубокую яму и похоронил в ней кусок блестящего красного дерева, как похоронил бы собственное дитя. Я горько плакал над могилой, изливая всю горечь, что собралась во мне с того момента, как я сошел с небес.
Я не знал, что делать; вернулся в город, в свою убогую, крытую гонтом лачугу. Меня поджидал тощий мальчик. Будто извиняясь, переступая с ноги на ногу и ковыряя прыщи, он предложил мне место на корабле отца. «Если хочешь выйти в море, лучше служить на чужом корабле, чем строить свой, знаешь ли», – сказал он, словно знал всё, что можно об этом знать.
Моего плота не было. Один набор планок не отличался от другого. Я отправился на борт того корабля и неделями мыл некрасивые коричневые доски да штопал толстые паруса, как мне велели, а ещё размешивал смолу в больших бочках.
Потом однажды ночью сын корабельного плотника разбил мне голову веслом.
Сказка о Гагаре, Выдре и Звезде (продолжение)
– Наверное, он хотел, чтобы отец им гордился, – простонал мальчик и тяжело опустился на мой напряженный живот. По правде говоря, спина уже начинала болеть от того, что я удерживал его над водой, но Королю надлежит быть терпеливым. – Я инстинктивно схватился руками за голову, и боль носилась внутри меня, как плот по волнам в шторм. Когда он вытащил весло, я сумел удержать себя в целости. Мальчик это видел, как и то, что я ещё говорил и шатался; как и то, что вышедшее из меня было не совсем кровью. Своими тощими руками он толкнул меня за борт, пока я ладонями стискивал голову, как разрезанный пополам персик. Оставшийся во мне свет окрасил море в белое. – Итто неуклюже повернулся, чтобы взглянуть на Секку левыми глазами. – Видите ли, если я опущу руки, точно погибну: мне страшно. Мало кому из нас приходилось умирать. Мне страшно…
Я не знал, что сказать. Мы болтались на волнах как остатки кораблекрушения; луна плыла на своей хрупкой спине.
– Куда тебя отвезти? Боюсь, мой причал тебе не понравится.
Секка хранила молчание. Её огромные чёрные глаза уставились на промокшего до нитки мальчишку.
– Ты хочешь вернуться наверх?
– Не знаю, – ответил он, и его голос сорвался в подобие всхлипа. – Я не могу вернуться, даже если захочу; выпустил весь свой свет, или почти весь, и так ослаб, что с трудом сойду с живота выдры. Мне страшно! Я не знаю, что там, наверху. Если туда отправляются мёртвые, могу ли я вернуться не умирая? Я ничего не знаю. Но это не имеет значения. Я не могу вернуться туда, как мышь не может подняться на гору.
Секка чуть встопорщила перья, сделавшись ещё больше, чем обычно.
– Тебе нужна гора?
Она повернула голову, как петух на рассвете.
Итто ответил не сразу. Я чувствовал его дыхание, лёгкое и быстрое, словно крыло, касавшееся моей шерсти.
– Возможно, – проговорил он. – Возможно, да.
Сказка про хитрый трюк (продолжение)
Ракко задумчиво провёл по животу толстыми лапами.
– И что же случилось? – нетерпеливо воскликнула я.
– Секка отнесла его на гору. Это было много лет назад, и с той поры она не может заставить его вернуться. Он не хочет возвращаться. Бедная Секка летает вокруг горы и протяжно кричит, а он не слышит. Я хочу, чтоб ты, как хорошая лисичка, вернула его, ради меня и ради неё. Укради его у него самого, приволоки его сюда, перекинь через плечо. – Король выдр нахмурился. – Ему нельзя быть одному. Я поделюсь с ним своими вёдрами и сетями. Секка будет укрывать его крыльями до конца своих дней, а прочие гнёзда пусть пропадут пропадом. Он не должен оставаться один.
– И как я доберусь до вершины горы? Я не орлица, а лиса, и даже об этом узнала совсем недавно.
Из-за одной из колонн, покрытых облезлой краской, показалась огромная птица с ясными чёрными глазами и белыми пятнами на крыльях. Мне показалось, что она была достаточно большой, чтобы нести ребёнка на спине.
– Он, знаешь ли, рассказал Секке, где похоронен плот. Если ты спустишь его с горы, она расскажет и тебе.
– Зачем мне знать, куда он засунул старый кусок дерева?
Королева гагар подплыла ко мне.
– Слишком много вопросов, – вздохнув, сказала она. Её голос был низким и печальным, мягче, чем крики гагар, которые я слышала, когда чёрно-белые птицы собирались над прудом моей матери. Я взглянула через плечо на длинную бледную полосу пляжа, тёмную фигуру Маджо и её дом-на-горбе, окруженный высокой травой. Она казалась спящей.
Не задавая больше никаких вопросов, я забралась на широкую спину Секки и обхватила руками изящную шею. Её перья пахли моллюсками-гребешками, водорослями и яичной скорлупой. Она взмыла в ночь, и я вместе с ней.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
– Есть хочешь? – вдруг спросила Сигрида, будто ей только что пришло в голову, что людям иногда полагается кушать.
– Я немного проголодалась.
Здоровячка встала и исчезла в корабельной башне. Я осталась наблюдать за последними лучами солнца и вдыхать ароматы расположенного поблизости рынка – шафран, жареное мясо, кислая вонь краски для шелка, пот, бочонки отстоявшегося масла, расплавленный металл, заливаемый в формы. Аль-а-Нур был тёплый и живой, нигде не виднелись ни снега, ни лишайники, ни лёд.
Сигрида вернулась с деревянным подносом, который без особых церемоний поставила у моих ног. На подносе было несколько коричневых квадратиков, одна полоска сушеного мяса, жестяная фляжка и апельсин.
– Галета, вяленая мышатина, ром и фрукт, чтобы зубы не распрощались с твоими челюстями. Коли станешь частью святого сестринства, только это и будешь есть первый год, так что привыкай. – На её морщинистом загорелом лице появилась кривая улыбка, словно перевернулась бледная страница в потрёпанной книге. – По мне, эта еда такая же вкусная, как вино в хрустальных бокалах и голубки с черникой. Лучшая еда на свете!
Я поела из вежливости. Галета была твёрдая, крошилась и по вкусу напоминала кровельную дранку. Мясо казалось затвердевшей полосой сплошной соли, а ром оказался горьким, как лисья желчь. Только апельсин был сладким и золотым.
– Так вы верите в Звёзды? – осторожно спросила я.
Сигрида пожала плечами – и будто по склону горы скатились валуны.
– Звёзды тут и там, веришь ты в них или нет. Я могла бы поверить в тебя или твердить каждому встречному-поперечному, что ты сплошная ложь и глупость, но это не изменило бы того, что ты сидишь здесь, примяв траву, и ешь мою еду, занимаешь место. Звёзды не действуют и не дают нам образец для подражания. Они ничему не учат. А первые сигриды искали чего-то большего. Но не будем закладывать корму́ раньше носа. Мы едва начали историю Святой Сигриды, история же Томомо близка к концу.
Сказка про хитрый трюк (продолжение)
Тело Королевы гагар подо мной было тёплым. Надо мной – ночь, холодная словно руки мертвеца, и эти руки хватали меня, их прикосновение ощущалось сквозь тонкую ночную сорочку и босые незабинтованные ноги. Я зарылась лицом в перья Секки.
– Он уже не разговаривает, – низким голосом сказала она, разрезая клювом облака. – Просто сидит на морозе и смотрит. Не думаю, что ты сможешь что-то изменить, но надеюсь на это. Он тяжелый: если придётся его нести, тебе будет трудно.
– А поначалу он много говорил?
Секка опустила тёмную голову. Её перепончатые лапы сжимались и разжимались.
– Мы много говорили, пока летели к вершине горы, о милых вещах и нежных вещах, вздыхали и шептались, рассказывали друг другу истории о тьме в начале мира, истории яиц в начале сезона. Ракко не очень хороший слушатель – тот случай, когда я учила его быть Королём, исключение, – а Итто слушал, мне не пришлось прибегать к хитрости, чтобы заставить его не перебивать меня, как одного шерстолобого дурака. Оставив мальчишку на морозной крыше мира, я стала возвращаться, когда самцы прекращали призывать самок; мы опять тихонько вздыхали и шептались, рассказывали истории о темноте и яйцах. Но спустя несколько сезонов говорила уже только я, и в нём не было ничего милого и мягкого. Теперь он сидит на камнях и держит голову руками, смотрит в темноту. Я не возвращалась с той поры, как там побывала последняя из девочек Маджо, которая сдалась всего через час.
– Я не сдамся, – прошептала я тихо и мелодично.
Не могу сказать, как много времени понадобилось, чтобы добраться до вершины горы, хотя казалось, что солнце не один раз успело пройти по небу, пока мою кожу хлестал ветер. На вершине была вечная ночь, такая же тёмная, как брюшко чёрного дрозда. Секка ссадила меня в этой бесконечной темноте на скалистой вершине. Вершина горы оказалась меньше, чем можно было бы ожидать, и для нас с Итто – а он был там, сидел, прижав колени к груди и обхватив руками два лица, – едва хватало места, чтобы сидеть рядом. Секка устроилась на скале пониже и стала ждать, когда я потерплю неудачу.
– Привет, – сказала я, не в силах подобрать лучшее слово.
Звезда ничего не ответила.
– Я пришла, чтобы забрать тебя отсюда и спустить вниз. Здесь холодно как в могиле, и Секка по тебе скучает.
Звезда ничего не сказала.
Что ж, меня предупреждали… Я потянула Итто за руки и попыталась взвалить его себе за спину – я была тощая, но он и сам не выглядел намного больше меня. Я была уверена, что смогу его поднять. Лиса носит детёнышей в зубах, верно? Однако Итто оказался намного тяжелее, чем можно было представить, как мешок железных чушек. Я его тянула, толкала, но не смогла даже сдвинуть с места.
Итто молчал.
Тогда и я замолчала. Села и посмотрела туда, куда смотрел он, – на обширный лоскут темноты, отмеченный семью звёздами, которые словно прижимались друг к другу. Это было очень скучно.
– Я знаю один трюк. Хочешь, покажу?
Звезда ничего не сказала, но глаза на правом лице чуть заметно дёрнулись в мою сторону. Я собрала пригоршню снега с серых камней на вершине и согрела его в руках, пока он не превратился в воду. Держа её в ладонях между нами, я наклонилась и показала Итто отражение – моё лисье лицо с кремовыми кисточками на ушах и умным чёрным носом.
Он тихо рассмеялся. Звук был такой, будто вода капала с высоких камней.
– Хитрый трюк, – сказала Звезда голосом, охрипшим от холода и тишины, точнее, как и рассказывала выдра, двумя голосами в унисон, высоким и низким.
– Я недавно его выучила, – призналась я. – И теперь, раз уж ты заговорил, почему бы нам не спуститься с горы?
– Ни один трюкач, даже лучший из лучших, не заставит меня это сделать. – Итто вздохнул. – Я на посту, а пост нельзя покинуть, лишь потому что пальцы посинели от холода.
– И кого ты стережешь на своём посту?
– Видишь те семь звёзд? – спросил он. Разумеется, я видела; кроме этих семи блестящих искорок, особо не на что было смотреть. – Их можно назвать моими кузинами. Или нельзя. – Он вздохнул и потёр четыре своих виска пальцами. – Я пришел сюда, потому что мне было страшно. Я боялся отпустить голову и умереть, хотя мне положено быть мёртвым. Я пришел сюда, чтобы понять: если те семь звёзд на небе – в самом деле мои кузины, умершие так давно, что я почти не помню, как они выглядели, вернулись ли они домой? Не страшна ли им смерть? Если да, и они там в безопасности, как крольчата в клетке, тогда я справился бы со своим страхом, отпустил бы голову и взмыл вверх. Это Крыша мира, отсюда можно дотронуться до черепицы. Мой путь был бы недолгим…
Итто посмотрел на мои влажные руки, которые начали покрываться коркой льда, и я поняла, что, если бы он мог, взял бы их в свои. Я приподнялась на носочки – знала, что он хотел именно этого, – и попыталась коснуться неба… У меня получилось! Мои пальцы коснулись черноты, и она была живая! Словно шкура, прикрывающая мягкую блестящую плоть ноги или живота и алмазную кость под ней. Я понятия не имела, чья это могла быть шкура, но мои заледеневшие пальцы ощутили живое тепло. И когда я коснулась её, увидела семь звёзд такими, как он должен был их увидеть. Они совсем не походили на звёзды, скорее, на семь выемок в небе, бледных, как выбеленные морем кости.
– Это могилы, – прошептал он, – просто могилы. Светят не они, а надгробия. Их там нет, небо – просто гробница, а я не могу умереть, потому что мне по-прежнему очень страшно. Куда мы уходим, если не туда? Мне так страшно и одиноко, за всю свою жизнь я любил только жалкий сломанный плот, и лишь он один любил меня.
Итто расплакался: из четырёх его глаз полились горячие слёзы, которые замерзали на щеках, не успевая упасть.
Я опустилась перед Звездой на колени и взяла его огромную, неправильной формы голову в свои ладони. Я гладила его жесткие, покрытые льдом и снегом волосы, прижимала своё лицо к его лицам. Я ничего не говорила, лишь ворковала как птица – мне казалось, что так они воркуют, – и продолжалось это очень долго. Я не знала, как заставить Итто спуститься, но предположила, что наконец поняла, как можно украсть его у него самого.
Окоченевшими пальцами я обхватила его запястья и начала разводить руки в стороны, прочь от лиц. Он замер, затем отпрянул и сдавленным голосом произнёс:
– Нет! Я не могу!
– Всё будет хорошо, – сказала я, как говорила уже много раз. – Всё будет хорошо. Ты причиняешь боль Секке, которая любит тебя, как любил плот, и скорее готова увидеть, как ты отдыхаешь под слоем лесной плодородной земли, где уже и смерти не стоит бояться, чем то, как ты сидишь в одиночестве на скале и жалеешь себя. Всё будет хорошо! Я здесь и знаю, что тебе страшно. Я тебе помогу.
Я тянула его руки в стороны, кожей ощущая прикосновение сухих губ.
– Разве я не могу остаться здесь, в холоде, навсегда? – спросил Итто неуверенным жалобным голосом, каким ребёнок умоляет дать ему конфету, а взрослый – полюбить его всем сердцем… Потом он сам же ответил на свой вопрос: – Нет, я устал, так устал! Мои руки ноют от того, что я долго удерживал себя при себе.
– Я знаю хитрый трюк, Итто, – прошептала я, – очень хитрый трюк.
Он обратил ко мне одно из своих лиц, его тёмные глаза смотрели нежно и ласково. Я поцеловала его – очень легко поцеловала каждое лицо: губы были потрескавшимися и неровными, словно старая бумага. Это был мой первый и второй поцелуй, оба со вкусом снега.
Итто обмяк и позволил мне убрать свои руки от головы. Я сложила их у него на коленях. Мгновение он был целым, а затем его голова распалась на две части, дыра в ней раскрылась, как раскрывается зрачок на ярком свету. Из него полилась чёрная жидкость, холодная и мерзкая, которая залила мои руки и платье, – тяжелое мёртвое вещество без запаха. Тело Звезды рухнуло на меня, и в конце концов, когда я вымокла в её крови, которая была не совсем кровью, из самой сути выкатились две серебряные капельки и упали на мою ладонь, будто слёзы. Я сжала их в кулаке.
Секка отвернулась, увидев моё испачканное чёрным платье. Она издала долгий низкий крик – странный крик гагары, заставляющий плакать луну. Секка снова посадила меня к себе на спину, и, хотя она пела свою погребальную песнь каждому облаку, что попадалось нам на пути все дни и ночи, пока мы спускались с черепичной Крыши мира, где-то в самых нижних нотах этой песни прятался тихий и мелодичный намёк на радость, облегчение.
Наверное, я всё сделала правильно, потому что Секка сказала мне, где погребён плот, прямо перед приземлением около спящей Маджо, чей переносной домик поскрипывал в такт её храпу. Она резко проснулась и, увидев моё вымокшее и прилипшее к ногам платье, кивнула, будто именно этого и ждала. А Секка покинула нас, вперевалку направившись по песчаному берегу к длинному одинокому причалу.
Я не отправилась в лес ни наутро, ни через день – осталась с Маджо и почти забыла про дощечку, похороненную в земле. Я взрослела медленно, на все мои вопросы гадалка лишь пожимала плечами и говорила, что каждому существу отведён свой срок. Я многому научилась, хотя магию так и не освоила. Сотворить какой-нибудь амулет мне было не проще, чем лошади связать для себя потник. Мои таланты включали охоту, погоню и убийства. Этому Маджо учила меня с удовольствием, и моё мастерство росло. Во мне слишком много лисьего, говорила она с печалью, когда мы сидели у бесчисленных ночных костров. Я справлялась только с лисьей магией – той, что позволяла следовать за жертвой, оставаясь невидимой в тени, и хватать её на лету. На самом деле есть много разных видов магии; та, которую освоила она – магия должным образом измельчённых трав и амулетов, созданных в правильную фазу луны, – относилась к человечьей половине, а не к животной. Разве лисьи лапы могут связать оберег из семи узлов? Им доступна лишь магия горячей крови и быстрой шерсти, но они так сильны, что не нуждаются в мешочках трав для усиления. Лисы не очень-то любят возиться с инструментами.
– Можно не сомневаться, – хихикала Маджо, – что человечья женщина из тебя получилась бы тупая и скучная. Лиса бережет тебя от превращения в полную идиотку.
Было ясно, что Маджо – не хранительница моей судьбы. Я хотела, чтобы она была ею, хотела стать хорошей ведьмой и носить её тележку по серебряным полям и хлюпающим болотам, в свете раннего утра. Но увы – настойка или припарка для рассечённого уха были всем, что мне удавалось сотворить. В её глазах я видела правду: вскоре нам предстояло расстаться. Она должна была найти лучшую ученицу, я – жизнь, в которой не было ни телег, ни женщин, отчаянно выпрашивающих приворотное зелье.
В день, когда наши пути разошлись, Маджо выказала не больше чувств, чем в день встречи; она была смущена, горда собой и что-то замыслила. Взяла меня на прогулку, как случалось нередко. Солнце припекало мою спину, точно она была яблоком в печи. Вскоре мы достигли края леса, того самого, где – я передала гадалке рассказ Секки – была похоронена дощечка. Я забыла про это, как лето забывает про снег.
Маджо ухмыльнулась:
– Ты всегда была рассеянной девочкой. Попытайся это исправить.
Она постучала по моему правому кулаку полусогнутым пальцем, и я раскрыла ладонь – на ней лежали две капли серебряного света, блестящие как слёзы, давным-давно впитавшиеся в мою кожу и исчезнувшие. Я посмотрела на неё, изумление на моём лице было отчётливым, как татуировка. Маджо схватила мою кисть в свои иссушенные лапы и перевернула ладонь так, что слёзы упали на землю, а затем обняла меня – я поняла, что это в последний раз, как лисёнок понимает, что пришло время ему самому ловить мышей, не беспокоя лисицу.
Две слезы упали на ржаво-красную землю впереди меня, как дождинки падают в водосточный желоб. Но они не впитались в почву как когда-то в мою кожу – они побежали прочь, двигаясь всё быстрее и быстрее. Я крепко прижала к себе Маджо всего на миг, и её лицо растворилось в моих слезах, будто ствол огромного дерева, а потом, просушив глаза, я погналась за ними с восторженным воплем.
Я лишь раз оглянулась на бегу – вскоре мне пришлось нестись со всех ног – и увидела, как Маджо уходит с домиком на спине, будто нелепая черепаха. На этот раз мне показалось, что её пятки серебрятся, словно волосы старой женщины.
Сдвоенный след солёных слёз быстро исчезал вдали, или, быть может, это солнце морочило мне голову. Я бежала по следу почти час, ныряя под ветви и прыгая через корни. Это была восхитительная охота! Наконец они остановились и разделились, обогнув с двух сторон необычное дерево.
Поначалу я даже не поняла, что это дерево. Капли света Итто росли, огибая его, пока не превратились в ров глубиной по колено, наполненный водой, которая тихонько волновалась в сумерках. Над этой водой-не-водой высилось дерево, походившее на скопление корабельных обломков, из которых сложили ствол, ветви и корни, утопавшие в заполненном слезами рву. Из ствола сердито торчали бушприты; мачты и кили переплетались; тут и там виднелись рули и буны из яркой древесины, рыжей и золотой. С одной стороны дерева красовался громадный дубовый полубак, а по всей длине ствола попадались гладкие штурвалы, вращавшиеся на ветру. На ветвях имелось совсем мало тусклых зелёных листьев – взамен они были увешаны линями, такелажем и парусами, которые путались в «вороньих гнёздах» на самом верху. Ленивый бриз то надувал их, то позволял безвольно обвиснуть. Лес наполнили шелест парусов и скрип древесины. В центре ствола была носовая фигура, с которой из-за солнца и соли слезла краска: морская коза с закрученным хвостом и поросшими шерстью грудями, завитком бородки под нижней челюстью и руками, упиравшимися в помесь дерева и корабля, а также с большими глазами, чей взгляд был обращён к небу, и раскрытым ртом.
Древесина оказалась тёмно-красной и блестящей, её волокна напоминали кровеносные жилы.
Пока я стояла и таращила глаза на Древокорабль, носовая фигура медленно перевела взгляд с неба на меня – её глазные яблоки перекатывались в глазницах, словно камни на склоне горы, – и заговорила.
– Это ты? – тихо спросила она голосом, подобным шелесту листвы или парусов.
– Нет, – сказала я. – Думаю, нет.
– Ох. – Носовая фигура тяжко вздохнула. – Опять. Я уже привыкла. Когда я была ростком, считала, что он может прийти в любой день. А теперь… – Она осеклась и от изумления затрепетала всеми тимберсами: – Это что, морская вода?! Настоящая? Из порта, полного пьяниц, воров и сыновей корабельных плотников? Набранная у причала, где видимо-невидимо краболовов с сетями, похожими на браслеты великана? Это и впрямь она?
– Нет, – ответила я. – Это всё, что осталось после смерти Звезды: кровь-не-кровь, свет-не-свет, вода-не-вода.
Лицо носовой фигуры обмякло, насколько вообще может обмякнуть дерево, и по её щекам полился древесный сок. Она заговорила, обращаясь ко рву, огибавшему Древокорабль:
– Итто? Итто? Видишь, какой большой и высокой я стала? Настоящий корабль, а не дурацкий сломанный плот. Ты ведь гордишься мною?
Я решила, что сделала всё, что должна была сделать, и никто из знавших Звезду не смог бы просить меня о большем. Повернулась, чтобы уйти, оставив Древокорабль наедине со слезами.
– О, подожди, прошу тебя!
Носовая фигура потянулась ко мне, словно вот-вот должна была оторваться от дерева и упасть в мои руки. Но Древокорабль двинулся следом за нею, и скрип сделался громче, сопровождаемый скрежетом ржавых блоков бегучего такелажа. Я забралась на выдававшийся из земли киль-корень.
– Я тут.
Она зарделась – красный цвет древесины сделался ещё гуще и кровавее.
– Спасибо тебе за воду, – сказала она. – Мне бы хотелось тебя отблагодарить, хотя ты никогда не вела меня по тёмному морю… Я бы сделала это для него, но могу сделать и для тебя – подарить плод, как это делают другие деревья.
Я растерялась.
– И какие у тебя плоды, Корабль?
Она улыбнулась; её яркие щёки ещё дрожали от еле сдерживаемых слёз.
– Это мой тебе подарок: лучший из снов, что приснились одинокому плоту; всё, чем я желала стать, когда спала, завёрнутая в промасленную кожу.
Древокорабль будто увеличился в размерах, и от его стонов затрясся весь лес. Паруса переплелись друг с другом, снасти связались в узлы внахлёст и беседочные узлы, кили и носы загрохотали в унисон, точно ветви, стучащие в окно. Носовая фигура расхохоталась, её смех становился громче и выше, пока мне не пришлось зажать уши руками, чтобы не оглохнуть. Скрип и треск стоял такой, будто в лесу начался шторм, и всё это время ров из слёз продолжал делаться шире и глубже, пока я не оказалась в воде по самый подбородок и не начала беспомощно барахтаться. Дерево стало таким большим, что я больше опасалась угодить в его нутро, чем утонуть.
Но ни того ни другого не произошло. На верхушке Древокорабля появилось нечто и обрело форму. Нос, мачта, кливер, затем корпус и киль. Блистающий штурвал развернулся, как цветок подсолнуха. Настоящий корабль рухнул с ветвей, будто падающее яблоко, и вольготно разместился на водах быстротечного потока слёз. Носовая фигура угомонилась и, протянув огромное копыто, выудила меня из реки, становившейся всё глубже, ухватив за загривок.
– Не разбей её слишком быстро, – сказала носовая фигура обеспокоенно и опустила меня прямо рядом со штурвалом.
Когда мои ноги коснулись досок новорожденной палубы, я почувствовала себя дома. Я точно знала, какую снасть надо подтянуть, какой парус убрать; изящная шхуна была мне знакома как собственные руки и ноги. Этот корабль был мой, мы казались с ним одной плотью, словно я его родила.
И река слёз, чьего дна теперь не достигал киль корабля-плода, тихонько уносила нас прочь от дерева, которое раньше было плотом. Она всё текла и текла сквозь лес в полной тишине, если не считать мягкого шелеста за бортом, где волны касались корпуса так же мягко, как ребёнок целует щёку матери.
Медленно, очень-очень медленно мы вышли из леса, пересекли поля спелой пшеницы, луга, соляные пустоши и хижины сыроделов, дома с черепичными крышами и песчаный пляж; оставили позади одинокий длинный причал и ушли в открытое море.
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
Томомо облизнула губы, её лисье отражение провело розовым язычком по морде.
– Так на свет появилась «Непорочность». Я назвала её в память о том, что давным-давно утратила, и мы вместе бороздим океан. Кто бы мог подумать, что лиса сумеет стать настоящим моряком? Освоившись, я повела корабль в ближайший порт и набрала команду. Поначалу я не искала женщин или монстров. Но мужчины не хотели служить под началом капитанши, а женщины без наших… особенностей сидели по домам, как светляки в стеклянных банках, и по понятным причинам ничего не смыслили в морском деле. Потому «Непорочность», и без того странная, сделалась ещё страннее и прекраснее. Мы счастливы, свободны, и ты можешь стать такой же.
Сигрида кивнула, её глаза засияли от радости, точно маяки на высоких холмах. Она и не мечтала, что её жизнь может наполниться чем-то ещё, кроме коричной пыли и учётных книг отца. В тот момент её сердце принадлежало черноволосой Томомо, и не было вещи, которую она отказалась бы сделать, попроси об этом капитанша.
Это не являлось секретом для Томми: ей был хорошо знаком свет в глазах Сигриды, она знала эту готовность в любой момент сорваться с места. Многие девушки пали жертвами тех же чар, и Томомо уже не в первый раз подумала, что магия охоты не ограничивается погоней за мышами в поле, влажном после дождя.
– Поскольку ты дочь барж и ничего не знаешь о парусниках, тебе придётся послужить иначе – до тех пор пока ты всему не научишься. Ступай вниз и найди сатирицу с зелёными кольцами на пальцах – она представит тебя нашим пассажирам, а ты позаботишься о них сегодня вечером.
– Да, Томомо… то есть Томми!
Сигрида впервые в жизни улыбнулась – это была широкая улыбка, которая начинается где-то в животе и светится собственным мерцающим светом. Она повернулась, инстинктивно определила дверь, ведущую в недра алого корабля, и позволила этой двери с весёлым стуком захлопнуться за собой.
В Саду
– Я должен идти, – прошептал мальчик. Вокруг умирала ночь; синевато-золотой рассвет, отвоёвывавший небо по частям, уже озарил его руки.
Девочка промолчала в ответ. Она разглядывала свои ладони, будто пытаясь вычитать некий таинственный способ, позволяющий заморозить солнце, не дать ему взойти.
– Ты будешь здесь, когда я вернусь?
Мальчик не сомневался в обратном, чего бы она ни пообещала. Она ускользала от него, будто кисея, утекающая сквозь пальцы. Когда девочка сидела на подоконнике, рассказывая о смерти злобного Короля и о том, как дева-птица полетела искать свою пещеру, он мог её коснуться, положить голову ей на колени и ощутить её тепло, как воробей чувствует крылом свет солнца. Теперь она казалась тонкой и прозрачной, и мальчик боялся протянуть к ней руку, чтобы та не прошла сквозь её тело, как сквозь водопад. Думать он мог лишь о том, как украсть для неё любое пиршественное блюдо, плащ из перьев или меха, флягу вина или даже кольца с пальцев Динарзад. Только бы она снова ему улыбнулась, как той ночью, улыбкой, подобной рассвету над первым во всём мире морем.
Он смотрел на неё, хмурясь, и ухоженными пальцами ковырял ком грязи.
– Мы встретимся на кипарисовой тропе, где камни выкрашены в красный цвет. Я буду там, обещаю.
И она действительно улыбнулась, нежно и широко, словно река, пробирающаяся сквозь тайный лес.
Миновав арочные ворота, мальчик не успел сделать и двух шагов, как голос Динарзад безжалостно вонзился в него, будто горячий нож в желудок.
– Почему ты продолжаешь причинять мне боль?
В её голосе звучали обида и печаль, и он чувствовал приближение беды.
– Сестра, – начал мальчик, – она не такая, как ты думаешь…
– Мне нет дела до того, какая она! Она не нарушала правила своего дома – у неё нет дома, которому можно было бы противиться! Это ты идёшь поперёк моей воли и воли Султана, из-за тебя жёны в постоянной панике, словно птицы, которым бросили горсть зерна!
Конечно, ничего подобного не произошло. Гарем был огромен до такой степени, что за появлением и исчезновением множества детей почти никто не следил. Каким образом он мог оказаться настолько особенным, чтобы о нём беспокоился ещё кто-то, кроме ненавидящей Динарзад? Жены вечно бездельничали и с умным видом отдыхали в залах, как львицы, изредка шлепая разыгравшихся детёнышей. Армия воспитателей, стражников и старших сестёр на выданье держала потомство под контролем, и именно они, должно быть, заметили ночное отсутствие мальчика.
– Чем вы с ней там занимались? Пора бы знать, что в твоём возрасте более чем неприлично оставаться на всю ночь наедине с незамужней девушкой. Почему ты не можешь вести себя как полагается сыну благородного человека? Разве посиделки под звёздами могут стоить больше того, чем ты владеешь?
Мальчику показалось, вот он – шанс её переубедить. Но, когда он попытался рассказать историю девочки так, чтобы она поняла, отчего его сердце тянется к Саду, как лошадь тянется к дому, когда чувствует близость дома, его речь стала путаной. Он не смог, как ни пытался, рассказать всё красиво, передать ту же самую историю, что девочка выплетала из черноты своих век, будто странную нить.
– Динарзад, давай я расскажу тебе одну историю. Жила-была девочка, которую никто не любил, и звали её Седка. Она жила в городе у моря, и однажды другая женщина – мне кажется, она была очень толстая, – подружилась с ней и подарила апельсин, потому что они обе чинили сети. Седка была с юга, где растёт множество апельсинов. Или… Да, кажется, так правильно. Женщина, которую звали Сигрида – это важно, запомни, – рассказала Седке историю о том, как трое мужчин с песьими головами увели её в священный город, и там псоглавцы рассказали ей историю об ужасной госпоже, которую называли Чёрной Папессой, – она сводила мужчин с ума поцелуями. Папесса поцеловала псоглавцев, и они, покорные её воле, сожрали собственного брата…
– Ты сошел с ума, дитя? Она тебя зачаровала, и твоя голова сделалась мягкой, как яблоко после града? Я не желаю об этом слышать!
Мальчик протестовал, но Динарзад не слушала. Она схватила его за волосы и потащила через двор, залитый солнцем нового дня, чистым и ярким, как свежевыстиранные простыни. Он не плакал – по крайней мере так считал, хотя слёзы тихонько лились по его щекам. Пальцы сестры были тонкими и скрюченными, как когти изголодавшегося ястреба. Она приволокла мальчика в конюшни, где воняло конским потом и навозом, и кинула к ногам старика с сальными волосами и огромными ручищами. Мальчик не мог оторвать взгляд от громадных кистей с костяшками, похожими на корни вяза, с пальцами, сплетёнными в один большой кулак на уровне его глаз.
– Обращайся с ним не лучше, чем с одним из немых рабов. И знай: если он ночью сбежит, вас обоих выпорют, – коротко объявила Динарзад. Плавно развернувшись на каблуках, сестра вылетела из конюшен, точно вихрь фиолетового шелка и чёрных кос.
Мальчик встал и стряхнул прилипшие к рубашке соломинки на пол. Он старался выглядеть раскаявшимся, хотя на самом деле планировал ускользнуть, как только старик вечером захочет пропустить стаканчик. Теперь он видел лицо мужчины – оно было грубое и уродливое, однако не очень страшное: в нём было больше от гнома, чем от огра.
– Она прямо драконица, это точно, – проворчал кузнец и размял огромные кулаки с таким звуком, словно полопались глиняные горшки. – С первенцами всегда тяжело. Коли спросишь меня, я скажу – первых негодниц надо держать подальше от султанских женщин, так безопаснее. Если бы у неё между ног было кое-что другое, она бы уже сама стала Султаном – потому, видать, ты её так беспокоишь.
– Но я не буду Султаном! – возразил мальчик. – Впереди меня должна быть добрая дюжина сыновей! Если бы я был наследником, мне бы уже об этом сказали! И точно не разрешили бы бегать по Саду… И в конюшни не засунули бы!
– Кто тут у нас такой грамотный? – фыркнув, поинтересовался старик. – Слуги всегда знают в десять раз больше, чем кажется хозяевам. Помяни моё слово, мальчик, – сегодня ты подкуёшь коня, которого завтра оседлаешь.
Мальчик умолк, смутившись. Он мог бы и дальше объяснять, почему у него не было шанса оказаться кем-то иным, нежели младшим придворным, но старик начал собирать инструменты: железную скребницу, разновеликие молотки, подковы, новые гвозди и крючки, названия которых мальчик не знал.
– Начнём с вороного, что в дальнем стойле, ага? Он сегодня не слишком злой, а вот кое-кто другой очень любит поспать.
Мальчик послушно двинулся следом, стараясь удержать инструменты в своих маленьких руках. Вдруг кузнец обернулся и устремил на мальчика взгляд мутных глаз.
– Когда солнце сядет, выберешься в Сад через стойло гнедого. Там есть свободная доска, можно пролезть через щель. Если сумеешь вернуться до рассвета, сестра, возможно, тебя не поймает. Захвати девчонке что-нибудь из моего ужина – я мало ем в последнее время, а она растёт.
Ошеломленный мальчик кивнул и шмыгнул в стойло огромного чёрного мерина, выронив несколько гвоздей.
К собственному удивлению мальчик обнаружил, что ему нравится работать с лошадьми. Большинство из них вели себя смирно, как прихожане в церкви, поднимали копыта со скучающим видом и обнюхивали его в поисках яблок. Он полюбил их запах и рёбра, похожие на обручи на бочках, покатые головы и мягкие горла, неистовые носы и молчаливое общество. Он почувствовал себя так, будто стал одним из племени Ведьмы Нож, и ухаживал за своими лошадьми в степи, готовил их к набегу на враждебный посёлок. Эта сказка казалась такой далёкой, но он опять в неё погрузился, много часов с радостью промечтал.
Когда солнечные лучи вытянулись и покраснели, как рубиновые языки, мальчик завернул еду, оставленную кузнецом, и выскочил через дверцу в дальнем углу стойла черноглазого гнедого. Он ощущал себя немного глупо – разумеется, все слуги должны были знать о девочке. Разве случалось, чтобы под многими крышами Дворца произошёл скандал, о котором один слуга не рассказал бы другому? Наверное, они её жалели и хотели бы удочерить, чтобы она росла, пекла хлеб и шила платья, но опасались гнева Султана или родителей девочки, какими бы усыпанными бриллиантами вельможами те не были. В то же время, мальчик начал думать о ней как о своей тайне и подруге, которая не могла принадлежать никому другому. Он почти сожалел о том, что у неё нашлись друзья среди поваров и кузнецов.
Проклиная столь неблагородные мысли, мальчик разыскал кипарисовую тропу, где большие зелёные деревья смотрели в небо, словно минареты, тянущиеся к первым мерцающим звёздам. Тропа представляла собой замысловатую мозаику, выложенную когда он был ещё младенцем: галька всевозможных цветов изображала сцену одной из величайших побед Султана. Он нашел место, где камни были красными на протяжении нескольких шагов – кровь неудачливого варвара, – и увидел, что девочка стоит там, прислонившись к кипарису, будто ждёт уже много часов.
– Я хотел принести что-нибудь получше, но сестра отдала меня кузнецу, и я не смог добраться до кухонь.
Он протянул ей взятые у конюшего толстый сухарь, желтый сыр и сочный персик.
– Ты же знаешь, что не обязан мне что-то приносить. Тебе не нужно платить ужином за песню.
Она рассмеялась собственной неуклюжей шутке – смех был высокий и резкий, как пугливая лошадь.
Мальчик пожал плечами и разложил скромный ужин на куске ткани среди алых камней.
– Конечно, ты можешь оказаться выше меня по положению, и в этом случае я обязан тебе прислуживать – таков был бы мой долг. Понятия не имею, кто из придворных твой отец, – никто в этом не признаётся. О тебе говорят так, словно ты родилась из воздуха, как джинния! Ты можешь оказаться даже моей сестрой! Ведь у Султана много жён…
Девочка снова рассмеялась. Смех был невесёлый, будто тарелка, катящаяся на ребре по каменному полу.
– Я тебе не сестра.
Мальчик слегка сконфузился.
– Мне просто нравится приносить тебе что-нибудь.
– Ты любишь слушать мои истории и платишь за них ужином. Благородный мальчик не может думать о чём-то другом, кроме цены.
Мальчик уставился на неё, будто она его ударила.
– Ты так злишься, что хочешь меня уязвить, потому что твои глаза темны, а мои нет, потому что я сплю в доме, а ты – в беседке?
Взгляд девочки тотчас смягчился и стал печальным, тёмные тени на её веках будто налились серебром и чернотой, как силуэты рыб под водой. Она протянула к нему руки и впервые обняла. У мальчика перехватило дыхание. На миг они неловко застыли посреди моря красной гальки.
– Я совсем не злюсь. Извини… Давай я расскажу тебе, что Сигрида обнаружила в трюме пиратского корабля.
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
Сигрида пригнулась и осторожно ступила на первую ступеньку лестницы, ведущей в трюм «Непорочности». Внутри было темно, как в брюхе, и пыльно, оттуда доносились странные шумы – постукивание и поскрипывание, – которые ещё не стали так же хорошо знакомы Сигриде, как её сердцебиение. Внезапно из темноты, где кружились пылинки, возникло лицо – широкое и открытое, с крупными раздувающимися ноздрями и большими глазами, зелёными, словно листва деревьев в густом лесу. Улыбающееся лицо окружали тугие тёмно-коричневые кудри, почти такие же тугие, как кудряшки овцы или шерсть дикой собаки. Косматая грива опускалась намного ниже подбородка. Сигрида пригляделась, чтобы рассмотреть, к какому телу прилагается лицо, плавающее перед нею, будто фонарь.
– Приве-е-ет! – закричала незнакомка и, схватив Сигриду за руку, потащила её в недра корабля.
Теперь она видела, что лицо принадлежит той, кого ей велели найти, – кудрявые волосы сбивались в пучки и узлы до самой талии, где незнакомка переставала быть женщиной и становилась удивительным созданием, похожим на козу. Её ноги поросли густой коричнево-красной шерстью и сужались до изящных копыт, которые были отполированы до бронзового сияния. Она, знай себе, топала ими по палубным доскам.
– Я сатирица! Из Тисовой рощи, если точнее… Но тебе это ничего не скажет. Добро пожаловать, малышка! Теперь тебе нечего бояться. Ты под боком у Эшколь, а Томми у руля. Ты в безопасности, как в сокровищнице! Осталось доказать свою полезность и отработать содержание. Поскольку сейчас ты бесполезна для чего-то хотя бы в малой степени морского, мы с тобой будем играть роль нянек при наших тупоумных пассажирах.
Сигрида радостно последовала за Эшколь, любуясь её копытами. Они и в самом деле блестели как зеркальные, имели цвета меди и явно были в состоянии лягнуть с силой мула.
– Должна признаться, я полирую их до блеска каждое утро, – сказала Эшколь, хохотнув. – Но в море так легко обзаводишься маленькими тщеславными привычками. Кроме того, я по-прежнему могу сделать вмятину в слитке серебра этими благословенными штуками! Итак, вот что тебе надо знать о пассажирах, которые платят деньгами или как-то ещё: эти ребята думают, что корабль принадлежит им. Им не нравится то и это, они язвят из-за такелажа, или материала парусов, либо вида древесины, из которой сделана мачта. Лучше им подыграть, если они платят, и показать доску для прогулок[16], если нет. – Косматая женщина остановилась и быстро развернулась к подопечной. – Ты не подумай, что у нас такая есть! Доску мы держим внизу, хорошую и толстую, и говорим кое-кому, что она для прогулок, если надо припугнуть, чтобы оставили нас в покое. Захоти мы кого-то убить, поступим надлежащим образом – сунем кинжал в брюхо, как уважающие себя пираты, и всё.
Эшколь провела Сигриду через потрясающий лабиринт комнат и лестниц – такой запутанный, что Сигриде с трудом верилось, что они по-прежнему на борту «Непорочности». Наконец, они прибыли к тяжелой деревянной двери, из-за которой раздавались явственные звуки весёлого застолья в разгаре.
– Часть веселья, знаешь ли, – объяснила Эшколь. – Наша девочка изнутри немного больше, чем снаружи. Я об этом не задаю вопросов – я же не корабельный плотник. Итак, вот те, кто направляют наш нос в путешествии, – аримаспы[17]. На вид они страшноватые, и Всевышний знает, сколько раз я говорила Томми, что мужик на борту – плохая примета. Но они платят золотом и в чужие дела не лезут, а это лучшее, чего можно ждать от человека. Теперь бери это пиво и займись их нуждами, увидимся вечером – ночевать будешь со мной в кормовом кубрике.
Эшколь исчезла так же внезапно, как появилась, а Сигрида осталась перед толстой дверью, держа в руках глиняный кувшин чёрного пива с шапкой пены. Ей не очень-то понравилась мысль прислуживать сидевшим по ту сторону монстрам, но она надеялась, что это лишь на один вечер: утром Томми поручит ей шить паруса или делать что-то другое, более подходящее для моряка. Она прошмыгнула в комнату и застыла, не сделав и шага, при виде её обитателей.
Когда она вошла, примерно шестеро из них поспешно спрятались за спиной седьмого, без сомнения главного в компании. Он был огромен, как слон, на его руках и груди бугрились мышцы. Ещё он был чёрным – не рыжевато-коричневым, как соплеменники Сигриды, а по-настоящему чёрным, цвета полуночи и тёмных комнат, будто статуя, высеченная из цельного куска оникса. Его волосы были заплетены в сложные узоры из кос с вплетенными золотыми нитями; они ниспадали вдоль спины, точно у женщины. Его глаз впился в неё – такой же чёрный, как и тело, но всего один. Вместо второго глаза сиял золотой, вставленный в глазницу, как бриллиант в оправу. Глаз был совсем как настоящий: казалось, он вот-вот моргнёт. Сигрида увидела, что его компаньоны тоже одноглазые, хотя их искусственные глаза были не золотые, а серебряные, бронзовые, медные и хрустальные. Почти не сомневаясь в справедливости своей догадки, Сигрида присела перед человеком-горой, как перед королём.
– Я Олуваким, Король Аримаспийского Окулюса. Что за насекомое подаёт мне выпивку, вообразив, будто оно достойно мне прислуживать?
– Я… я Сигрида, мой господин. Из Аджанаба.
Король с сомнением оглядел девушку. Его единственный глаз окинул взглядом её худощавую фигурку, как ястреб оценивает выпуклости и впадины мышиной ляжки.
– Ты человек? Выглядишь как человек, девчонка. Я не выношу слуг-людей.
Сигрида смотрела себе под ноги.
– Я в этом не уверена, сир. Я вижу то же, что и вы, когда смотрюсь в зеркало, но у меня есть изъян…
– Длинноухая Томомо приставила ко мне увечную служанку-человека?!
– Нет, я не увечная, просто родилась с тремя грудями вместо двух. Родители стыдились меня, и Томомо… Томми… забрала меня с барж Аджанаба.
Огромный глаз Олувакима мигнул – раз, другой.
– Это ещё не делает тебя пригодной. Полагаю, провинциальная скромность помешает тебе показать свои удивительные груди, так что придётся поверить на слово. Но кто бы отважился лгать в присутствии Окуляра? Ладно, я принимаю тебя как достаточно подходящего монстра: можешь наливать эль.
Он устроился во главе стола – показалось, что валун скатился по склону горы в долину. Его компаньоны пришли в себя и занялись каждый своим делом, не обращая внимания на Сигриду. Она налила Королю эля и тихонько отошла в сторону, ожидая, пока его кружка опустеет. Он осушил три, прежде чем снова заговорить:
– Подойди сюда, Сигрида. Сядь.
Она послушно села на порядочном расстоянии от иссиня-чёрного монарха.
– Мы зафрахтовали «Непорочность» для Охоты. Ты знаешь, на кого охотятся аримаспы, верно?
– Нет, сир.
– Невежественная Сигрида! Твоё образование не подобает служанке Короля. Мы охотимся на Грифона, Белое чудовище Сокрытого острова.
Сказка про Грифона и Короля
Грифоны и аримаспы были врагами с той поры, как в центре небес родилось Всемирное Око. Для Грифонов Око мигнуло три раза: они получили силу орла и льва и размеры слона. Для нас Всемирное Око мигнула четырежды: мы получили силу быка, красоту дикой кошки, проворство паука и секрет изготовления Великого Окуляра, который и есть золотой глаз в моей глазнице, знак Короля и клана Олува; магическое око, дарующее силу, о которой маленькая уродливая девочка не посмела бы и мечтать. Все прочие глаза из бронзы и серебра – пустышки, подражание великолепию. Только Окуляр наделяет силой, он – душа нашего народа, ибо мы приходим в этот мир одноглазыми, по образу Всемирного Ока, нашего возлюбленного родителя.
Грифоны всегда завидовали нам из-за Четвёртого Моргания.
С течением веков мы научились воевать с ними цивилизованно: весной они воровали наших лошадей и поедали их на ужин; зимой мы воровали их золото, чтобы украсить волосы и изготовить Окуляр, – потому что Грифоны любят золото, как своих птенчиков с львиными ляжками. Их гнёзда свиты из золота, клювы и когти золотые, они купаются в подземных озёрах жидкого света. Но, хотя они любят вид золота, питаться им невозможно. Их любимое блюдо – конина, они её обожают, как дети обожают шоколад и мяту. Хватают животных за брюхо и пожирают на лету. Грифоний налёт – то ещё зрелище! Небо словно оживает, когда налетает вихрь красных и фиолетовых крыльев, а тёмно-желтые лапы, испачканные в лошадиной крови, так и сверкают.
Наши лошади отличались широчайшими грудными клетками и сильнейшими ногами, настоящие исполины лошадиного племени. Каждый из нас владел тем, в чём нуждался другой. И так всё продолжалось – как и должно было продолжаться – век за веком. Грифоны были достаточно внимательны, чтобы оставить нужное количество лошадей для появления жеребят следующей весной, мы брали только золото, требуемое для ритуалов, ибо всем известно, что, лишившийся своего золота, Грифон умирает от тоски.
Но отцы наших отцов стали жадными, будто псы, заглянувшие в свиное корыто. Они брали из гнёзд Грифонов всё больше золота, охотились на них в неправильное время, когда солнце сияло в небесах, а не прятало лицо от копий снежных бурь. Грифоны отомстили – стали пожирать наши стада, кобылиц и жеребцов. Они высасывали костный мозг и выпивали глаза у прекраснейших животных. Когда не осталось лошадей, Грифоны принялись воровать красивых девушек из нашего племени, чьи тёмные плечи блестели словно кошачьи шкуры, а голоса были сладкими, как осенние урожаи.
Я родился, когда из племени Грифонов осталось лишь несколько особей – они прятались в горах и заброшенных шахтах, в долинах, укрытых стенами льда, и в пустынях, где дует обжигающий ветер. А в Окулюсе осталось всего несколько дев и ни одной лошади. Когда пришло время для Ритуала Оба, во время которого я должен был стать мужчиной и занять место отца, Олуватоби Всевидящего, Короля аримаспов, Грифонов было всего два: самка обитала на Сокрытом острове в Кипящем море, где вода всё время пузырится и исходит паром, а самец прятался в гнезде на вершине великой горы Нуру, что целиком состоит из рубинов, ослепляющих того, кто посмеет приблизиться.
Олуватоби позволил мне выбрать одну из двух опасностей, потому что Окуляр должен быть выкован из грифоньего золота, согласно древнему ритуалу, иначе он будет просто куском шлака, вставленным в человечий череп. Конечно, нам пришлось нелегко из-за жажды золота, обуявшей отцов наших отцов, но нельзя предавать традиции своего народа. Нам требовалось заполучить золото любой ценой – это наше право, ты ведь понимаешь? Окуляр превыше всего, без него мы как леопард без головы. Я не мог отказаться от Ритуала Оба, как не мог отказаться от собственных конечностей. В конце концов, у нас не осталось лошадей, и равновесие должно было наступить, когда у грифонов не останется золота. В итоге я выбрал рубиновые скалы, потому что наш народ не знает моря. Получив благословение отца, я завернулся в пятнистые шкуры диких кошек и надел отполированный до зеркального блеска нагрудник сынов Олува, изготовленный из золота первой грифоньей орды. Я покинул аримаспийский вельд и отправился на поиски Красной горы Нуру.
В те дни я носил в глазнице берилловое око, знак наследника, потому что яйца грифонов из берилла, а золото их желтков – чистейшее из возможных. Я был силён и путешествовал без забот, питаясь мясом молодых оленей у ночных костров. Красная гора находилась недалеко от границ Окулюса – её алые отблески были заметны даже из хижины моего отца: когда зимой солнце опускалось низко к горизонту, они сияли сквозь его свет, как стрелы, обагрённые кровью. Я шел на свет Нуру, но сердце моё было полно страха, потому что я не знал, как защитить свой единственный зрячий глаз от обжигающих лучей, которые испускают гранёные склоны.
Но Всемирное Око неустанно следит за любимыми детьми, и на девятый день пути я заметил другого путника, который вприпрыжку двигался сквозь пахнущие дымом кусты. Приблизившись, разглядел его и понял, что за тварь. Это был одноног[18], один из расы существ, которые живут ещё дальше к востоку, чем мой народ, и чьи тела в нижней части превращаются в единственную ногу с единственной же ступнёй – такой огромной, что легенды гласят, будто в минувшие века одноноги бороздили океаны на своих громадных изогнутых подошвах. Повстречавшийся мне путешественник выглядел именно так, но, поскольку передвигался он не по волнам, его походку была сложно назвать грациозной. Одноног весело прыгал, шаркая единственной ногой, одетый в красивую многоцветную жилетку и странную юбку, сшитую сообразно толщине ноги, которая вздымала тучи пыли и трухи.
– Приветствую тебя, одноног! – закричал я, подымая обе руки в жесте дружбы.
– Приветствую тебя, одноглаз! – крикнул он в ответ, поворачиваясь ко мне с широкой улыбкой. У него не хватало несколько зубов, а копна непослушных кучерявых волос потемнела от дорожной грязи.
– Ошибаешься, Культяпка, – ответил я с некоторым раздражением. – Одноглазы – островитяне, и к тому же пьяницы. Эти дурни-овцепасы нам даже не кузены, они позорят всё одноглазое племя[19]. Я наследник Аримаспийского Окулюса, имя моё Олуваким.
Одноног бросил на меня проницательный взгляд; его голубые глаза блестели как драгоценные камни в сундуке, полном сокровищ.
– Тогда, как я понимаю, ты направляешься к Красной горе? К гнезду Джина. Я и не думал, что старый Олува впрямь одряхлел.
– Он ещё вполне крепкий, но поколения растут под взглядом Ока, и пришло время Оба. Моя цель – красная вершина Нуру и Грифон… Не знал, что у него есть имя.
Одноног будто задумался о чём-то своём и принял решение, о котором я понятия не имел.
– Ну что ж! Тогда я предлагаю себя достопочтенному сыну Олувы в качестве спутника и проводника. Звать меня Хаим, и я сам направляюсь к гнезду, а это значит, что пойти с тобой мне будет легче лёгкого. С твоим единственным глазом и моей единственной ногой мы составляем почти целого человека! И вместе точно получим желаемое.
Он хлопнул меня по спине рукой с растопыренными пальцами и покачался вперёд-назад на своей огромной ступне. Я согласился – признаюсь, я был рад компании.
– Зачем ты ищешь Грифона? – спросил я, пока мы шли. Точнее, пока я шёл, а он прыгал.
– О, это интересная история, мой юный принц.
Сказка Однонога
Я родился далеко отсюда, в городе Шадукиаме, что утопает в серебре, в год, когда возвели Розовый Купол и завершили строительство безупречных бриллиантовых башен. Всё, что строится за счёт налогов, следует считать красивым, иначе легко сойти с ума. Моя семья вела скромную жизнь – как все шадукиамские одноноги, мы обитали в гетто Мха и корня1, на обширной равнине к северу от Купола. Нам позволили там жить, как жили наши предки, без болезненных ограничений человечьих домов – в них мы всё рушим из-за своей неловкости и раним ноги об острые углы и выступы. В Корне мы проводили дни под открытым небом, на мхах, в свете луны, напоминающей белый ободок ногтя. Когда ночь натягивает свои тёмные носки, мы лежим на спинах, и наши изогнутые ступни вздымаются над нашими головами, защищая от холода и дождя[20]. Днём мы работаем бок о бок, создаём знаменитое розовое вино высочайшего качества из нежных лоз Шадукиама, чьи миниатюрные белые грозди только мы умеем давить как положено.
Шадукиамцы не любят одноногов. Хотя монстры и ангелы всех мастей гуляют по улицам города, а Розовый купол над крышами и шпилями возвели Сянь[21], у которых размах крыльев больше, чем у Грифонов, и в которых человеческого не больше, чем в нас, одноноги волнуют жителей сильнее кого бы то ни было. Они считают нас уродливыми и увечными, тупыми и медлительными. Их послушать, так мы вечно что-то замышляем и косим глазом. Хотя вино из винограда, который мы давим своими многочисленными пальцами, приносит много мешков серебра в городские сокровищницы, какое бы ни случилось несчастье, в нём винят нас. Если змеящийся Варил не затопляет берега или наоборот слишком их затопляет, значит, наше уродство оскорбило какого-нибудь бога. Ведь, в конце концов, из всех товаров, что продаёт Шадукиам, красота ценится выше остальных. Красота и звон монет – две опоры, на которых держится город в небесах, а не какая-то пара алмазных палочек.
Мы стараемся принимать всё с достоинством, мирно живём в Гетто Мха и корня и не просим большего. Мы спим, укрываясь собственными ногами, знаем, что правда на нашей стороне и что однажды мы заберём свои винные бочки и уплывём на юг на наших кораблях-подошвах, в обетованный Край антиподов, где появился наш народ и где, если верить легендам, ещё существуют целые государства одноногов.
Нас не любят, поэтому не от кого было ждать помощи, когда появились И. Никто не воспылал праведным гневом. Шадукиамцы пожали плечами и обрадовались, что И переместились на неважную часть горожан. «Избавьтесь от крыс, – сказали они, – а с сыром мы сами разберёмся».
За год до того как я отправился к Красной горе, умерла моя Това. Она попала под случайную шадукиамскую телегу, и копыта лошадей рассекли сухожилие на её ноге. Это сухожилие для нас всё равно, что артерия для большинства существ, – если оно повреждено, надежды нет. Моя Това прожила достаточно долго, чтобы на своей постели из пионов и росички прошептать мне, что она хотела, чтобы мы поженились, как собирались сделать после следующего сбора винограда. Было жутко видеть её, не могущую поднять ногу, с безвольно свесившейся ступнёй, похожей на сломанный шарнир. Мы похоронили её той ночью и попросили Пути Корня, что соединяют нас всех, проводить её душу к антиподам – пусть там она отдохнёт.
Проснувшись на следующее утро, я увидел Тову – она с любопытством глядела на меня, её знакомые рыжие косы были аккуратно заплетены, а щёки выглядели пухлыми и розовыми, как обычно. Но глаза оказались чужими. Глазами Товы на меня смотрело что-то странное и холодное, к тому же зубастое. Оно жестоко рассмеялось – будто ложками заскребли по камню – и ускакало прочь с моей лужайки фиалок и ламинарии, не оглядываясь.
Конечно, мы всё поняли. Мы знали о И, но до той поры эта чума посещала лишь шадукиамцев. Только им приходилось жестоко страдать, видя своих милых усопших поднятыми из могил; смотреть, как их детей превращают в одежду. Мы и не догадывались, что когда-нибудь нас постигнет та же участь. А следовало бы – ведь наши странные тела могли предоставить И новые… ощущения.
Старейшины не желали видеть Подобие Товы. Они игнорировали существо, как если бы оно не бродило по Корню; не говорили о нём, будто оно, не получив имени, покинуло наш дом. Но Подобию Товы понравилось в гетто. Мы не смогли заставить его надеть лунный балахон, обязательный в самом Шадукиаме. Оно скакало, где хотело, любопытное и бессловесное, и ужасно смеялось. Я умолял старейшин о разрешении упокоить мою Тову и убить тварь, что надела её, но они не соглашались – не хотели осквернять Корень кровью чужака. Наконец моё терпение лопнуло… Я больше не мог каждое утро видеть смеющееся лицо моей любимой, словно тварь внутри неё знала, что она любила меня, и наслаждалась видом моего лица, искажённого от боли. Я пошел в центр города, чтобы узнать способ, позволяющий Тове уйти с миром.
Говорили, что у одного И был ученик из людей, но я не мог рисковать, встречаясь со столь порочным существом. И разве какой-нибудь И открыл бы человеку тайную слабость их народа? Он бы скорее задушил меня и отдал моё тело своему хозяину. Нет, нужно было найти того, кто обладал такими же древними знаниями, как сами И.
Те, кого не принимают с распростёртыми объятиями и не прижимают к груди города, часто знают больше о происходящем в его тёмных углах, чем те, кто сидит на холме и ужинает, постукивая сапфировой вилкой по золотым тарелкам. Потому я и знал про анахоретку.
На центральной площади Шадукиама стоит базилика Розы и Серебра, чьи шпили известны на весь мир своими замысловатыми резными узорами; горгульи так гримасничают, что женщины падают в обморок; двери вырезаны из цельного живого кедра, корни которого уходят в землю под Базиликой, а ветви венчают башни. Это видят красивые и богатые шадукиамцы.
За Базиликой, укрытая кирпичной стеной, заросшей белладонной и другими ядовитыми лозами, что змеятся и переплетаются, к стене церкви прикована цепями женщина. Её наряд – платье, сотканное из собственных волос, которые продолжают расти; чем длиннее чёрные пряди, тем длиннее одеяние. Её глаза, яркие и безумные, вращаются в глазницах, как пекарские скалки. У неё нет рта – там, где ему полагалось бы находиться, лицо чистое и гладкое. Говорят, она царапает буквы на земле, когда хочет говорить, и не существует того, о чём бы ей было неизвестно. По этой причине она спрятана и в цепях, чтобы никто не смог выведать у неё секреты Шадукиама. Это видим мы – те, кого ненавидят.
Я отправился к анахоретке рано утром, до того как в Базилике началась Монетная месса, и до момента пробуждения Подобия Товы. Я прошмыгнул за стену, держась подальше от зелёной поросли, что жадно цеплялась за кирпичи, и присел на корточки возле создания, лишенного рта. Анахоретка скорчилась у церковной стены, прижав колени к груди, и смотрела на меня пустыми безумными глазами. Она не издавала ни звука – на большее, видимо, я и не мог рассчитывать.
– Помоги мне, анахоретка. Один из И забрал тело моей Товы, и мне невыносимо видеть, что её используют, будто любовь моего сердца – лишь модная шляпа. Помоги мне убить в ней И, чтобы упокоить её тело. Умоляю тебя, святая анахоретка, поведай мне секрет, как убить бессмертного?
Она вытянула худые ноги – в самом деле кожа да кости – и коснулась моей ноги костлявой рукой, погладила бугры мышц, словно пытаясь прочитать будущее по их узорам. Наконец она отпрянула; её цепи звякали, ударяясь друг о друга, словно стаканы за обедом. Она одёрнула своё платье из волос, разделяя переплетённые пряди на животе, и потянула косы в разные стороны, будто расстегнула пуговицы.
Под густыми чёрными волосами скрывалась кожа живота, а посреди него имелся совершенный рот с двумя рядами зубов. Он был похож на любой другой рот, только открывался в середине тела, и голос, исходивший из него, был ниже обычного женского голоса:
– Анахоретке надо знать, хочешь ли ты извлечь тварь из тела или убить её насовсем? Это две большие разницы: всё зависит от того, что тебе нужно.
Изо рта высунулся тёмно-розовый язык и облизнул губы.
Я в смятении посмотрел на свою ногу – росшие там некогда густые волосы поредели от скорби.
– Я хочу убить это существо, уничтожить его.
– Что ж, хорошо. Я не стану задавать вопросы о силе твоей любви и прочей чуши – не мне об этом судить. В конце концов, я – всего лишь голая женщина, прикованная к стене, и не мне подвергать сомнению то, как живут виноделы или кто бы то ни было ещё.
– Вы избрали эту тюрьму, моя госпожа?
– Не называй меня «госпожой», хромоножка. – Она хихикнула и устроилась поудобнее возле стены, так, что её закованные в цепи руки обнимали говорящий живот, почти как будущая мать баюкает свою утробу. – Разумеется, выбрала! Думаешь, святые отцы из Базилики сумели бы меня удержать, не захоти я этого сама?
Анахоретка вытащила кисти рук из оков так легко, как ребёнок снимает платье, прежде чем принять ванну. Она насмешливо потрясла руками перед моим лицом и сунула их обратно в кандалы.
– Я здесь не ради них. Я ничего им не говорю и не даю. Шадукиам – город мертвецов, просто его улицы ещё не поняли, что умирают. Это медленный яд, которому нужны века, чтобы убить. Любовь к серебру, красоте, притворству. Олигархам дела нет до правосудия, их заботит то, что выглядит правильным. Им не до милосердия, они знают лишь о том, что кажется милосердным. И потому правосудие и милосердие для них недоступны. Я – язва, рана на теле этой умирающей свиньи. Я здесь для тебя и для других – тех, кто обитает в пределах Шадукиама и кого можно спасти от его гибели. Тем, с кем обращаются не с добротой, но с видимостью доброты, я даю знание, какое могу. Когда ко мне приходит одноног, я развожу свои волосы и показываю ему свой истинный рот. Когда приходят сянь, я позволяю им укрыть меня своими крыльями и в облаке перьев делюсь тайнами. Когда же приходит священник или банкир, я закатываю глаза и писаю им на туфли, а они думают, что я безумна.
Я опустился на колено – для нас это нелегко – и ненадолго прижал свои губы к тайному рту, в знак благоговения и благодарности. Когда я отпрянул, в глазах анахоретки стояли слёзы.
– Мне не хватит слов, чтобы тебя отблагодарить, и, нравится или нет, я буду звать тебя госпожой. Поведай мне, как убить И!
Рот улыбнулся: эта улыбка была полна жалости, как русло ручья – воды после дождя.
– Единственная вещь, которая может уничтожить дух И, отправить в преисподнюю, которая свяжет его и не позволит опять захватить тело какого-нибудь мёртвого бедолаги, – золотой коготь Грифона, который надо вонзить И прямо в глаз.
– Значит, я отправлюсь на поиски грифона.
– Увы, мой мальчик! Мне жаль, но в мире осталось всего два Грифона. Орды аримаспов, обуянные жаждой золота, перебили остальных. Самка, которую зовут Квири, обитает в Кипящем море, а самец по имени Джин живёт на вершине Красной горы Нуру, чьи склоны ослепят тебя прежде, чем ты успеешь добраться хотя бы до самого малого пика. И ни один из них не захочет пожертвовать когтем ради скорбящего влюблённого.
– Как бы там ни было, я разыщу Грифона. Я сделаю это ради Товы, не могу бездействовать, пока её используют, рассчитывая в будущем бросить, когда лицо уже не будет таким, какое я хорошо помню.
– Тогда ищи самца, – сказала она, вздохнув. – Самка пообедает твоей печенью, не успеешь сделать и трёх прыжков на её пляже. Иди, если решился, но иди сейчас. Появляются прихожане, а И в этот момент превращает плоть твоей женщины в холмы и кратеры.
Волосяное платье анахоретки сошлось над её ртом, и она опять скорчилась у стены, раскачиваясь вперёд-назад, с впечатляющей точностью изображая безумие. В тот самый день я покинул Розовый купол и обратил свою ступню к Нуру и её красным утёсам.
Сказка про Грифона и Короля (продолжение)
Я шел рядом с Хаимом, который, поведав свою историю, стал прыгать медленнее.
– Жаль, что мой народ всё так усложнил для тебя. Мы действительно взяли у Грифонов больше положенного. Нам стыдно за это.
– Но вы по-прежнему охотитесь на бедных тварей. И вообще, как можно «взять положенное» из того, что тебе не принадлежит?
– Ты не понимаешь, потому что не из Окулюса. Наша ошибка не в том, что мы охотились на Грифонов, а в том, что расшатали равновесие войны между нами. Золото Грифонов наше по праву и по силе, нас благословило Четвёртое моргание Всемирного ока. Однако нам следовало удовлетвориться тем, что мы должны были взять, и не искать золота сверх необходимого. Без Окуляра мы ничто! Золотой глаз делает нас аримаспами. Как можно отказаться от того, в чём заключается наша суть? Как смеют Грифоны отказывать нам в этом, даже если они последние в роду?
Хаим почесал грязную голову.
– А что именно делает Окуляр?
– Выкованный согласно ритуалу Оба и вставленный в глазницу Короля, он наделяет его силой десятерых и сроком жизни в три раза дольше обычного. Окуляр может заглянуть далеко за пределы нашего королевства, в города и дикие земли на другой стороне мира. Он позволяет править народом, воздействовать на него и передавать своё видение племени. Он видит куда больше одного племени и одной жизни, потому что его собственная жизнь трижды встречает смерть тех, кого он любит. Окуляр притягивает к себе взгляд Всемирного Ока, благодаря ему выживает наш народ. Без него Око отвернётся от нас, и мы исчезнем с лица земли.
Мой голос звенел от пыла – я излагал догматы веры отцов моего отца.
– И несмотря на такую прозорливость, ни один из ваших Королей не увидел, что род Грифонов прервётся и для вашего Окуляра не останется золота?
Я пожал плечами.
– Око что-то даст нам взамен. Они бездумно сотнями поедали наших лошадей, пока не сожрали все стада. Почему мы должны потерять больше, чем они?
Хаим покачал головой – как большинство чужаков, он не мог смириться с превосходством наших нужд и очевидностью того, что Грифоны должны нам покориться. Я был слегка разочарован. В конце концов, я понял, что ему необходимо упокоить свою женщину.
– Я надеялся попросить об одном когте, но после стольких потерь Джин точно не захочет с ним расстаться. Мне придётся его украсть.
Я успокаивающе обнял своего соратника.
– У Грифонов всегда приходится воровать. Их не уговорить, взывая к разуму. С тем же успехом можно умолять о подарке дикого кабана – Грифон ничем от него не отличается.
Некоторое время мы шли молча. Красный силуэт Нуру рос впереди как живое пламя. Он начал резать мой глаз и царапать веки, вызывая слёзы. Я тёр его и тёр, пытаясь прояснить зрение, и смахивал слёзы, когда те появлялись. Я видел, что Хаим тоже плачет – поначалу слегка, а затем по его и моему лицу потекли солёные реки слёз. Мы не могли смотреть на зазубренные пики и солнечный свет, который выстреливал из них толстыми красно-фиолетовыми копьями. Я упал на колени; Хаим рухнул на бок, тяжело дыша, не в силах поднять голову и взглянуть на сверкающую гору.
– Настоящая загадка, – прохрипел он, шевеля волосатыми пальцами. – Как человеку с одной ногой и человеку с одним глазом взобраться на гору, не взглянув на неё?
Моя грудная клетка превратилась в барабан с туго натянутой кожей. Я ослабил ремни нагрудника, пытаясь перевести дух; мой взор заволокли слезы. Сняв нагрудник, я увидел отражение горы на полированной поверхности и обнаружил, что смотреть на него не больно. Я повернулся к одноногу и улыбнулся.
– Нагрудник, Хаим, поведёт нас. Я буду нести тебя на плечах, и твоя ступня – прекрасная громадная ступня – заслонит нас обоих от рубиновых склонов. Держи кирасу перед собой, как зеркало, и направляй меня. Хоть и медленно, но мы достигнем грифоньего гнезда.
Неловкое чудище принялось взбираться на вершину Нуру. Искривлённое тело Хаима было не таким тяжелым, как я предполагал, его большое колено лишь немного давило на мою незащищённую грудь. Гранёные скалы вздымались вокруг, но я ничего не видел, кроме плоти его стопы, покрытой волосами, похожими на мох на стволе древнего дерева. Я изучал узоры на его пожелтевших ногтях и считал поры на коже, потрескавшейся от жара. Только одноногу повезло любоваться красотой склонов, лишь он видел то, что ни одному человеку не доводилось видеть, не заплатив за это зрением.
Я всё ещё ему завидую из-за этого.
Мы поднимались на гору весь день и ночь, а потом Хаим сказал мне, что пики уже не слепят глаза красным, потемнели до фиолетового, и их свет можно безболезненно переносить – они словно втягивали свет небес и отрогов, оставшихся позади; отблески нагрудника гасли из-за них. Мы могли смотреть – не забывая, что внизу полыхает каменный ад, – не опасаясь за свои глаза.
Я опустил Хаима, и мы перебрались через последние валуны – странные и чужеродные камни, покрытые оспинами, как пурпурные луны. Вокруг ничего не росло – гора на этой высоте была мёртвой громадиной в шрамах и выбоинах, – а прямо перед нами виднелся острый край открытого всем ветрам кратера.
За краем треклятой ямы, в каменной нише и опасной близости от пропасти, располагалось гнездо Грифона.
Я удивился: оно не сияло и даже не мерцало, как следовало золотой соломе. Оно было тускло-желтым, пёстрым и неярким; несомненно, золотым, но покрытым пухом и потемневшим. Сам Грифон, разумеется, был великолепен. Его задние лапы восполняли все оттенки золота, которых не оказалось в гнезде; хвост мотался туда-сюда, как змея, увенчанная кисточкой оранжевой шерсти; перья являли собой ослепительное сочетание бирюзового и зелёного, а из-под крыльев цвета моря проглядывал тёмно-красный пух. У него было широкое лицо с ухмыляющейся клювастой пастью. Вокруг ревел ветер, но его голос соперничал с оглушительным шумом.
– Уходи, аримасп! У меня ничего для тебя нет! Твои деды-обезьяны убивали нас и обкрадывали, разбивали наши яйца о колено… Думаешь, я отвешу тебе золота, как лавочник? Пусть весь твой род сгниёт от болезней!
Я был готов к оскорблениям. Те, кого не любит Всемирное Око, всегда пестуют в себе ненависть к тем, кому выпал другой жребий. Но одноног запаниковал – до него дошло, что такое неразумное создание нельзя убедить расстаться с какой-нибудь частью себя. Так оно и было, поэтому я не собирался совершать глупость, прося желаемое. Я вытащил свой изогнутый серебряный нож и двинулся на Грифона, который опустился на задние лапы и своими голубыми крыльями вызвал сильнейший порыв ветра.
– Джин, Джин! – закричал Хаим, падая на колено в отчаянии и ужасе. – Послушай меня, и я не позволю ему причинить тебе вред!
Мы с Грифоном одновременно рассмеялись, изумлённые мыслью, что бедолага-одноног в силах удержать мою руку или как-то иначе защитить чудище. Хаим уставился на меня с мольбой, его потрескавшиеся губы безмолвно произнесли одно слово: «Това». Я опустил нож, но не вложил его в ножны.
– Откуда ты знаешь моё имя, одноногий? Грифоны берегут свои имена, как и своё золото!
– Мне его сказала анахоретка из Шадукиама, о благородный Джин. Уверен, она не хотела причинить тебе вред… Она знает, что я в великой нужде.
Грифон проворно сложил крылья и наклонился вперёд, его лицо смягчилось и стало любопытным, как у цыплёнка:
– Тебя послала ко мне Джиота?
Про меня забыли. Два существа взглянули друг на друга по-новому, и на горе будто появился призрак третьего. Я мог бы вонзить нож в изумрудный бок Грифона и выбрать золото его тела или гнезда, чтобы сделать себе глаз. Но я так не поступил, проявил милосердие. К тому же вынужден признать, что меня обуяло любопытство.
– Да-да, она меня послала: сказала, ты поможешь. Прошу тебя… Мне нужен твой коготь, чтобы я смог убить одну тварь и спасти любимую.
Но Грифон не слушал. Он кивком подозвал Хаима и позволил одноногу неуклюже забраться в своё гнездо, чтобы тот мог услышать возбуждённый и пронзительный голос чудовищной полуптицы, в котором теперь зазвучали мягкие нотки изумления. Я напрягал слух, а Хаим устроился на переливчатых крыльях, точно дитя в колыбели.
– Узнай же, смешной человечек, как Джиота помогла родиться моей сестре.
Сказка про Грифоницу и Анахоретку
Она была самой маленькой в нашем выводке — самое маленькое яйцо, отложенное последним, белый берилл с полосками кобальта и кварцевой жилой, что пронзала округлый бок, словно потёк молока. Моя мать боялась, что из этого яйца никто не вылупится, и она напрасно нянчит мёртвый камень. Однако всё равно высиживала, даря тепло своих задних ног ему и ещё трем яйцам, более крупным и внушительным. На них она и надеялась – на фиолетовое, огненно-красное и тёмно-голубое.
Когда жадным Олува понадобился ещё один бочонок золота, явилась орда аримаспов. Они пришли в восторг, увидев, что мать моя снесла яйца: желтки наших агатовых яиц – чистейший драгоценный металл. Хоть она кричала и полосовала врагов передними лапами, они разбили моих братьев и сестёр о камни и собрали желанное вещество. Грифон цвета индиго пискнул и умер, сформировавшийся наполовину, в луже золотого желтка, а пламеннокрылый брат, который мог быть у меня, не успел сделать и этого – вместе со скорлупой лопнул и его череп. Выжил только я, потому что моё яйцо было первым. Ведь мы не птицы и откладываем яйца по одному, согласно циклам луны, на протяжении осеннего сезона спаривания. Я оказался достаточно большим комком пищащих перьев и шерсти в потёках золота. Аримаспам грифоньи малыши не нужны – наши клювы, хоть и золотые, слишком малы. Они бежали с переполненными корзинами, хотя кое-кому довелось повстречаться с когтями моей матери.
Яйцо сестры было таким маленьким, что его даже не заметили.
Моя скорбящая мать отказалась смириться с тем, что выжил лишь один из детей; посадив меня на спину и сжав в когтях яйцо, из которого никто не вылуплялся, она полетела с вершин Нуру в Шадукиам – сокровищницу секретов. Говорят, в Аль-а-Нуре хранится вся мудрость небес, а если нужна тёмная и сырая зловонная магия преисподней, хочешь истинной силы, отправляйся в Шадукиам. Моя мать была мудра: она полетела прямо под Розовый купол и устроилась на крыше Базилики, среди колышущихся ветвей Дверного древа, где стала издавать тоскливые крики, словно колокол, отбивающий час за часом. Так продолжалось две недели, город не мог спать из-за шума.
Джиота тогда была молода, и лишь ей хватило смелости ответить на плач моей матери. Она забралась по стенам Базилики, точно обезьянка, размахивая короткими косичками. В те дни она не носила платья из волос, одевалась как все люди, а волосы стригла и стягивала туго, словно кающаяся грешница. Она пробралась по сводчатой крыше, разрисованной серебряными звёздами, и опустилась на колени возле моей матери, тяжело дыша. Разумеется, её лицо было гладким там, где полагалось находиться рту, но она расстегнула свою аккуратную чёрную жилетку, чтобы показать рот на животе, и воскликнула:
– Матушка грифоница, не плачь! Джиота здесь, и она поможет твоему яйцу.
– Откуда ты знаешь, что я страдаю из-за яйца? – Моя мать впечатляюще взмахнула розово-золотыми крыльями, чтобы внушить страх существу, не способному летать. Я чирикнул возле неё, готовый прийти на помощь.
– Джиота много знает. Она слышит твои причитания… и никогда не перепутает скорбь матери с другой скорбью. Дай мне яйцо, я вдохну в него жизнь.
Мать моя отчаялась: она знала, что никто другой не заберётся по стенам собора.
– Это последние, малышка Джиота. Мой ярко-голубой сын и это чахлое белое яйцо. Последние Грифоны в целом мире! Одноглазые перебили остальных, и, когда в следующий раз их принц захочет себе глаз, они убьют меня. Спаси моё яйцо и получишь золота больше, чем можешь желать!
Джиота с сочувствием покачала головой.
– Это в другом Шадукиаме помогают тем, кто приносит драгоценности или серебро. Я помогаю, потому что хочу. Если меня ждёт награда, я получу её в нужное время и нужным способом. Джиота не торгует жизнями. Только молись, чтобы в яйце была самочка.
Мать моя вытянула массивную лапу и передала снежно-белое яйцо в руки женщины со странным ртом, чьё спокойное лицо ничего не выражало. Та подержала его в руках, словно взвешивая берилловый шар, а потом без предупреждения открыла рот в животе и проглотила мою сестру целиком.
Мы, синий детёныш и алая мать, гневно взвыли от предательства и бросились на маленькую женщину. Но Джиота вскинула руки, и её глаза сверкнули – такое предупреждение не смог бы выговорить ни один рот. Голос был сдавленным из-за яйца, и пришлось постараться, чтобы говорить держа его внутри.
– Джиота не повредила яйцо! Как, по-твоему, женщина может дать жизнь яйцу, если не в собственном животе? Я буду носить его до тех пор, пока оно не вылупится… только один или одна из Грифонов родится от женщины, а не от птицы или львицы. Понимаешь? Оно уже начало расти! О, мои челюсти! Не бойся, Джиота – хорошее вместилище для твоего ребёнка.
В самом деле её живот начал увеличиваться в размерах, рот теперь казался растянутым на небольшом пузе. Твёрдая выпуклость, как растущая луна, прибывала у нас на глазах, мы смотрели на неё со смесью ужаса и надежды. Женщина удовлетворённо похлопала себя по животу:
– Джиота проголодалась. Ты должна кормить нас, пока яйцо не созреет.
Моя мать каждый день спускалась с башен Базилики, чтобы охотиться для той, кто её заменила, приносила полосы безымянного мяса и ветви, усыпанные плодами. Я заталкивал мясо мимо яйца в глотку женщины; по капле вливал воду мимо скорлупы в пересохший живот. Джиота ела ужасающе много – мать никак не могла её насытить. От рассвета до вечерних огней она ела, росла и снова ела. Всего через день она уже не могла говорить, через неделю – ходить. Пока моя мать прочёсывала город в поисках засахаренных фруктов, мы с Джиотой играли в странной детской, в которую превратилась многобашенная разветвлённая крыша церкви, – она ласкала мою шерсть и гладила мои перья, устало привалившись к одному из шпилей. Я клювом выискивал блох в её волосах. Мне было жаль, что она не может побороться со мной: живот её утомлял, а я не хотел навредить птенцу внутри. Маленький грифон на самом деле не так и мал – я был размером с жеребёнка, а живот Джиоты вскоре так раздулся, что она вообще перестала двигаться; её рот растянулся в вечной гримасе из-за того, что росло внутри. Однако женщина ни разу не вскрикнула от боли и всегда была готова погладить мой хвост. Было жаль, что она больше не может играть, но я лежал рядом, позволяя ей облокачиваться на мой бок там, где перья встречают шерсть, – такого почти никогда не бывает между Грифонами и людьми, даже если люди мало похожи на людей, как Джиота. Тогда я не ведал о правилах приличия, просто знал, что люблю Джиоту, что внутри неё моя сестра, и хотел, чтобы ей было удобно.
Наконец пришел день, когда Джиота сделалась такой большой, что остальное её тело казалось карликовым по сравнению с животом, будто она стала улиткой с раковиной из кожи. Она издала тяжкий вздох и разинула рот, венчавший её чудовищно раздутую утробу, шире, чем это казалось возможным. Вынужден признаться, я отвернулся – ребёнку легко испытать отвращение. Но я подглядывал сквозь свои перья и увидел, как из Джиоты вышло огромное белое яйцо, круглое и совершенное, не желтоватое и матовое, как раньше, а блестящее, как жемчужина, пронизанное изящными жилами кобальта и аметиста.
Мать моя шумно радовалась и нежно тыкала носом яйцо, тёрлась о него, чтобы придать драгоценности свой запах. Она ворковала и прихорашивалась от восторга, а когда прикрыла яйцо своими большими розовыми крыльями, на открытой всем ветрам крыше раздался громкий треск: верхняя часть сферы разделилась, как разделился живот Джиоты, и появилась моя сестра Квири, совершенно белая, щуря чёрные глаза от внезапно яркого солнечного света.
Она выбралась из скорлупы с почти грациозной брезгливостью. Увидев, что произвела на свет дочь и раса Грифонов выживет, моя мать начала плакать от облегчения. Капая на купол Базилики, её золотые слёзы смешивались с нарисованными серебряными звёздами. Моя сестра развернула свои бледные крылья и, споткнувшись об остатки яйца, кинулась навстречу крыльям матери. Я запел и очистил её перья от последних пятен желтка своим клювом. Мы были семьей, счастливой и целой.
В наше гнездо пришла Джиота, которая протянула руку и нежно погладила шерсть своего приёмного ребёнка. Блаженствуя, мы совсем о ней забыли. Она тоже была целой, ничто не напоминало о странных родах – кроме растянутого и повисшего живота, как у женщины, которая только что произвела на свет дитя. Её рот устало улыбнулся.
– Джиота справилась, – хрипло проговорила она. – Грифоны выживут и сохранят своё золото. По крайней мере на этот раз.
Моя мать повернулась к маленькой ведьме и обняла её своими крыльями – я не видел подобного до той ночи, когда она умерла, держа меня и сестру таким же образом. Когда объятия кончились, обе матери заплакали.
Много позже Джиота стала анахореткой Шадукиама и сплела платье из волос. Моя сестра была с ней в тот день, когда выковали цепь, – Джиота сама помогала прикрепить её к стене Базилики. С той поры, как нашу мать убил принц аримаспов – Джиота знала, что так случится, – она оставалась нашей любимой подругой, хотя с Квири они всегда были ближе. Связь между ними возникла ещё в утробе, и я не посягаю на неё, потому что родился, как все Грифоны, кроме одного, – из яйца, но не из плоти.
Из всех нелетающих Грифоны любят только Джиоту. Мы скучаем по ней, мы оба. Так скучаем…
Сказка про Грифона и Короля (продолжение)
Меня не впечатлили чувства, проявленные Грифоном. Но в глазах Хаима стояли слёзы, и эти двое точно сблизились, как король и его глаз, вспоминая о городской ведьме.
– Джин, анахоретка должна была знать, что ты о ней вспомнишь, – значит, она считает, что ты должен мне помочь. Дай мне твой коготь, чтобы я мог убить И, овладевшего телом моей возлюбленной, и упокоить её. Умоляю… возьми его с задней лапы, чтобы ты по-прежнему мог сражаться! Дай мне коготь!
Джин склонил голову набок и на миг сделался до смешного похож на цыплёнка, который размышляет над зерном, рассыпанным во дворе.
– Отчего я должен отсечь часть своего тела, чтобы одолжить её тебе? Если из моей лапы вырвать когти, заново они не отрастают. Разве не проще отнести тебя на своей спине в Шадукиам? Я сам убью И – попасть когтем в глаз нетрудно. И я снова увижу Джиоту – моё сердце жаждет узнать, насколько длинным стало её платье.
Одноног вскочил на свою ступню и сквозь завывания ветра прокричал, что согласен. Они были готовы отправиться в путь в любой момент, не вспомнив про того, кто донёс себялюбивого калеку до самой вершины! Я громко откашлялся, и оба дурня, повернувшись, уставились на меня, будто я появился внезапно в облаке магического дыма. На мгновение все трое застыли, моргая, с глупым видом.
Наконец Джин – ибо, раз уж мне известно имя паршивой птицы, следует его использовать, – выпрямился во весь рост и стряхнул с перьев золотые соломинки из гнезда. Он был больше, чем я предполагал: слоны, которых я убивал вместе с товарищами по охоте, рядом с ним казались бы карликами, а перья были такими голубыми, словно выпили цвет из самого неба.
– Возьми из гнезда то, что тебе нужно, аримаспийский пёс. Возьми, я не буду тебя останавливать. Но поклянись, что никогда не вернёшься к Красной горе и что твои люди больше не потревожат меня из-за золота. Поклянись Окуляром, своим слезливым и вонючим Всемирным Оком, и я позволю тебе хозяйничать в своём гнезде!
Я одарил его красивой улыбкой, мои зубы блеснули на солнце.
– Клянусь Окуляром и Всемирным Оком, что ни я, ни мои соплеменники никогда к тебе не приблизимся.
Джин резко кивнул и, схватив Хаима за грязный воротник жилета, зашвырнул бедолагу на свою широкую бирюзовую спину. Насмешливо фыркнув, он взмыл в воздух, а я остался один. Сквозь завывания ветра слышались только прощальные слова взбудораженного Хаима.
Я опустился на колени и стал собирать блестящую солому, из которой было свито грифонье гнездо. А мысли мои были о Белом Чудовище, Квири, и о моих сыновьях, украшенных её золотом.
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
Олуваким уставился на Сигриду с голодной ухмылкой.
– Вот куда мы направляемся на вашем корабле – к Белому Чудищу в центре Кипящего моря, Обжигающего моря, к последнему Грифону. Мы возьмём столько золота, сколько хотим, я изготовлю новый Окуляр для моего наследника, и мы наконец победим тех, кого не благословило Всемирное Око.
Сигрида сидела, как громом поражённая, и взволнованно дёргала растрёпанные кончики своих кос.
– Что случилось с Хаимом? Они с Джином убили И? Я слышала, И – ужасные твари… Их не было в Аджанабе, слава всем Звёздам в небесах!
Король аримаспов нетерпеливо пожал плечами.
– Изготовив свой Окуляр в пламени Оба, я посмотрел в сторону Шадукиама – из любопытства, только и всего, – и увидел, что тело его Товы гниёт в земле. Думаю, они всё сделали, как хотели. Мне безразлично, чего добились цыплёнок и калека. Джин мёртв – это я тоже увидел и испытал некоторое удовлетворение. Поисками Хаима не утруждался. Только Белое Чудовище имеет значение. Только золото!
Очень осторожно, не поднимая глаз от пола и молясь, чтобы он опять не разозлился, Сигрида спросила:
– Вы ведь понимаете, что, если уничтожите последнего Грифона, больше не будет Окуляров для ваших сыновей? Почему бы не позволить ей родить детёнышей, чтобы и будущим поколениям хватило золота?
– Ага! Она уже снесла яйца, умная Сигрида! Поэтому мы и должны найти её сейчас, до того, как они вылупятся, и собрать драгоценный желток! Что касается расы Грифонов, они лишили нас лошадей! Мы больше не тот клан, который мог расширять границы своих владений, шустро пересекая степи на четырёх ногах вместо двух. Нам приходится клянчить и воровать жеребят у соседей, а жеребята слабые и болезненные, не растут. Грифоны заслужили уничтожение. Мы распределим добычу так, чтобы Окуляр сохранился, но я не позволю Белому Чудовищу остаться в живых!
– Погоди-ка… благородный вождь Олува, почему же ты сам отправился за грифоньим золотом? Если новый Окуляр нужен твоему сыну, почему не он зафрахтовал «Непорочность» и отправился на охоту за Квири?
Король одновременно нахмурился и покраснел – Сигрида не поняла, от гнева или от стыда, и мысленно затрепетала от страха перед этим громадным человеком. Но, когда он заговорил, его голос звучал тихо и печально, почти как шепот:
– У меня нет сына, юная Сигрида. Это позор моего дома. Поначалу мы решили, что это благословение. С той поры, как Грифоны выместили свою ярость на наших женщинах, у нас осталось мало девушек. Но с того дня, как я поклялся не трогать проклятое гнездо Джина, ни один мужчина из Олува не зачал мальчика – у нас рождаются только девочки, мы наплодили целое поле девочек, одна красивее другой, и ни одной из них нельзя владеть Окуляром. Теперь мы поняли, что это проклятие, и с удвоенной силой взялись истреблять Грифонов. Позволить женщине править – это противоречит нашим законам, догматам Ока. Мы ждали, сколько могли, молились и приносили в жертву быков, чтобы Око позволило хоть кому-то из самых скромных Олува зачать со своей женщиной сына. Но теперь у Олува нет сыновей – мужчины, которых ты видишь, родом из других семей. Хотя они ёжатся от страха в моём присутствии, если не появится наследник Олува, наделённый Окуляром, они захватят власть и передадут кому-то из своих. Чтобы соблюсти установленную небесами священную истину, согласно которой лишь мой род может править, я постановил, что моя старшая дочь получит золотой глаз этой зимой.
Сказав это, король выпрямил свою блестящую спину и заговорил громко – сильный голос раскатился по всей каюте:
– Но не пристало девочке отправляться на подвиг и убивать – честь Последней Охоты на Грифона должна принадлежать мужчине! Поэтому я принял на себя этот груз ради прекрасной Олувафанмики, которая станет королевой. От её имени я убью Белое Чудовище и изготовлю золотой глаз… Я один из всех королей одолею пламя Оба дважды!
Его спутники с разноцветными глазами поклонились и, собрав по крупицам свою преданность, вознесли хвалу Олувафанмике. Сигрида скрыла своё отвращение и решила помочь бедной грифонице, когда они прибудут на место, если это будет в её силах; даже если Томми и остальные обязаны позволять пассажирам делать все что вздумается.
– Сигрида, слушай меня. Для женщины ты красивая, даже если у тебя груди точно вымя у коровы и кожа бледная, нездоровая. Тебе выпала честь прислуживать мне, пока мы не достигнем Кипящего моря. Если справишься, я сделаю тебе какую-нибудь милую безделушку из добытого на охоте золота. Возрадуйся – мало кому не из Окулюса удаётся быть в такой близости со мной!
Сигриде хватило ума не возражать. Хотя от возмущения у неё свело желудок, она низко поклонилась. В душе девушка сочинила маленькую молитву о том, чтобы Олувафанмика оказалась мудрее и добрее своего отца и послала её к Звёздам, потому что не знала, к кому ещё можно обратиться с такой просьбой.
– Теперь иди и выспись, девочка, чтобы завтра быть полной сил. Я хороший хозяин и не жду от своих слуг героической выносливости. Иди и разыщи сатирицу, она уложит тебя спать.
Благодарная Сигрида, не переставая кланяться, вышла из королевской каюты и закрыла за собой тяжелую дверь.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
Седка закончила сети, которые нужно было сплести за день. Рядом с ней выросла аккуратная горка влажных серых верёвок, и старший рыбак сунул ей в руку две монеты – их едва хватило бы на то, чтобы насытить желудок вечером. Сигрида ещё не доплела большую сеть, и верёвки свешивались из её рук, точно серебряные пуповины, узлы на них были умелыми и маленькими, на тугом переплетении играли последние отблески заката. Когда Сигрида наконец закончила работу, ей заплатили больше монет, чем девочке-альбиноске, и они были большего достоинства. Седка собрала всю свою смелость и посмотрела на морщинистое лицо Сигриды.
– Я не вынесу, если не узнаю, чем закончилась твоя история! – воскликнула она. – Давай я куплю тебе хлебную корку или кружку пива, и ты расскажешь мне остальное.
Сигрида рассмеялась, её крупное тело затряслось, как у моржа, взгромоздившегося на плавучую льдину.
– Деточка, денег в твоей ладони не хватит и на то, чтобы накормить воробья! В горле пересохло от долгого рассказа – когда меня не прерывают, я могу говорить и говорить. Но твои гроши не возьму. Я всё куплю и сама выберу таверну. Устраивает?
Седка охотно кивнула, и, когда они вдвоём шли вдоль набережной, мимо мерцающих факелов и окон трактиров, откуда лился тёплый свет и доносился грубый смех, она сунула тонкие пальцы в тёплую руку Сигриды; надеялась, что женщина, которая теперь казалась ей довольно красивой, не станет возражать. В ответ Сигрида с нежностью сжала её пальцы.
Они дошли до конца муринской пристани. Покорёженные доски с разводами соли сменились плотно сбитой грунтовой дорогой, шум и гам портовой жизни затих. Сигрида остановилась перед выцветшей вывеской, которая вертелась точно флюгер, над входом в таверну без окон. На вывеске красовалось грубое изображение мускулистой руки, державшей за хвост жирную скользкую рыбу. Под странной эмблемой было написано:
«РУКА И ФОРЕЛЬ»
– Вот мы и пришли, девочка моя! Лучшая в городе, поверь мне.
Она толкнула тяжелую дубовую дверь, и они вошли в таверну, где было намного тише, чем в других подобных заведениях, где бывала Седка. А ещё ужасно темно и дымно из-за многочисленных курительных трубок. Столы располагались беспорядочно; в самом помещении было явно больше четырёх углов, и его заполняли тёмные фигуры, которые Седка не смогла хорошенько рассмотреть, – они будто спрятались, когда открылась дверь. Ветхая барная стойка казалась сделанной из вишнёвого дерева, окаменевшего за много лет. Она была слегка неровной, посетители крепко держали свои кружки, чтобы те не соскользнули на пол. За стойку умудрился втиснуться здоровенный громила, выглядевший так, будто его слепили как попало из сваленных в кучу частей тела. Он размахивал толстой тряпкой, будто мечом, и ржавое железо его глаз бросало вызов любому, кто заказывал выпивку. Волосы громилы были цвета песчаных отмелей, на которых застревают корпуса кораблей, а ладони походили на барабаны; от него несло ламповым маслом и морской водой.
Сигрида прошагала прямо к ветхой стойке и со стуком положила монеты на покрытую пятнами столешницу.
– Вечер добрый, Эйвинд! Мне пива, малышке пряного вина.
Эйвинд одобрительно буркнул и занялся напитками, повернувшись к вошедшим спиной. Седка заметила, что Сигрида не сводила глаз с его широкой спины, пока он работал: её будто притягивала необъятная фигура, она пыталась запомнить мельчайшие подробности. Когда громила снова повернулся, Сигрида отвела взгляд с видом воровки, которую застали с охапками карманных часов в обеих руках.
Она забрала напитки и уселась за столик, который позволял обозревать всю таверну, подвинула к Седке вино и удовлетворённо хмыкнула, когда девочка осушила чашку до дна, – напиток согрел её от корней бесцветных волос до кончиков дрожащих пальцев ног.
– Такое готовят только в этой таверне. Это «Рука» – здесь собираются те из нас, кому, скажем так, нет места на карте Мурина. Оглянись вокруг, милая. Тут водятся чудовища[22].
Седка вдруг поняла, что фигуры, сбившиеся в кучу за столами, не такие бесформенные, как ей показалось: один прятал под фиолетовым капюшоном пеликаний клюв, другой убрал под стул перепончатые ступни. Каждый напиток, подаваемый в «Руке», предназначался некоему поразительному созданию – кое-кто у дальней стены пил даже из корыта, стоя на четвереньках. В тусклом свете ржавой люстры Седка рассмотрела существ, которые были по меньшей мере наполовину животными, а были и четвероногие, и все они пили вместе с собратьями-монстрами. Она даже заметила – хотя и не была уверена, – что возле задней двери на подушке из дыма сидит джинн. Некоторые лица казались человеческими, но глаза изобличали их суть. Даже Эйвинд изменился, что-то нечеловеческое появилось в его повадках. Седка не в первый раз спросила себя, не является ли её новая подруга на самом деле кем-то другим?
– Только здесь нас привечают, и мы чувствуем себя дома. Всем заправляет и всех принимает Эйвинд… он такой добрый. Муринцы нас не трогают, пока мы не высовываемся. Есть два Шадукиама и два Мурина. Вероятно, Аль-а-Нур – единственный город, который не раздваивается. Может, ему это не по силам. Но мы ведь ещё не вернулись в мой город, верно? Мы на борту «Непорочности», в трюме со Святой Сигридой, которая лежит под одним одеялом с сатирицей.
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
Несмотря на кажущееся бесконечным пространство в трюме, матросы «Непорочности» спали в койках по двое. В каютах сквозило, и вдвоём удавалось быстрее согреться. Кроме того, было принято соединять опытных женщин с новенькими девочками, так чтобы одна научила другую всему, что той следовало знать о морском быте и пиратском житье.
Эшколь и Сигрида закутались в одеяла, спасаясь от сырости и холода, присущих любой постели в море. Хотя сатирица, покрытая шерстью, как будто ничего не чувствовала. Сигрида дрожала, и ей было не по себе: качка и скрип на борту корабля оказались сильнее, чем на барже, и она никак не могла успокоиться, ощущая, как всё вокруг неустанно качается из стороны в сторону.
– Ты привыкнешь, – сказала Эшколь с тихим смехом. – Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться засыпать, не чувствуя под собой твёрдую землю. А некоторым девочкам это нравится, как пчёлам в улье. У всех по-разному.
Сигрида выглянула из-под серого одеяла, как из палатки, и всмотрелась в лицо своей напарницы – оно было мягким и дружелюбным; вся женщина выглядела сотворённой из разных оттенков коричневого, будто ствол дерева. Её волосы и шерсть были тёмными, как земля, кожа – смуглой, глаза – почти чёрными.
– Как долго до Кипящего моря? Наверное, там будет ещё хуже. «Непорочность» выдержит те воды?
– О, наша девочка насквозь пропитана магией. Её не строили – она родилась, ты ведь знаешь, да? И ещё были слёзы Звезды. Не переживай – от какого-то солёного кипятка даже краска не облезет. Мы достигнем его границ к утру.
Сигрида вздохнула и попыталась устроиться поудобнее на деревянной койке.
– Как ты сюда попала, Эшколь? Тебя тоже похитили? Вряд ли капитан украла всю команду, это заняло бы слишком много времени.
Эшколь опять издала тихий смех – словно влажные листья упали на поверхность быстрого горного ручья.
– Нет-нет, я пришла сама. Я доброволец. – Она приподнялась на локте. – Вообще-то я тоже не устала. Могу рассказать тебе свою историю. Так мы скоротаем время до рассвета.
Сказка о сатирице и селки
Я была любимой дочерью своей рощи – никто из моих сестёр и братьев с косматыми бородами не удостоился такой родительской любви. Тис был большой и процветающей семьей; нам хватало еды и вина, чтобы веселиться. Мы славились немыслимым числом детей, которых каждый Тис умудрялся произвести на свет, – дочери и сыновья сыпались из нас, как шишки с сосны. Рощи Ивы и Лиственницы нам завидовали, а бедолаги Пихты, у которых в лучшем случае рождался один ребёнок в сто лет, просто боготворили нас.
Лес укрывал нас всех в зелёной тени, и раса сатиров жила как всегда: мы гонялись за симпатичными соплеменниками и напивались до приступов хохота под звёздами, сыпавшимися из рога изобилия. Всё было просто. Если умирал сатир, что порой случалось, он уходил в землю, но не насовсем: там, где он пускал корни, вырастало дерево, которое мы могли любить и окружать заботой, словно дядя или кузина ещё с нами. Отсюда и пошли названия наших рощ – в начале мира, когда Лес был молод, первые из нас превратились в деревья несравненной красоты и размеров, чьи ветви простирались, как раскрытые для объятий руки, над лугами и долинами. Их потомки взяли имена древесных богов, поэтому я зовусь Тис, моя подруга – Берёза, а её подруга – Сосна.
Однажды, когда я сидела под сенью колючих ветвей великого Тиса, в Лесу объявился человек в шкуре стервятника. Я тогда была слишком молода, чтобы искать себе пару, но оставалось чуть-чуть – фавны уже собирались возле наших дверей, как улитки после дождя. Как все девушки из Тисовой рощи, я была миленькой, словно весенний побег. Щёки мои пылали точно два ярких георгина, а голос был высоким и чистым, как травяной свисток. Отец держал меня при себе, потому что сатиры в присутствии симпатичной девушки теряют самообладание. Именно в тот день я ускользнула от него, пока он молился над дровами, которые нарубил для вечернего костра, и свернулась клубочком у тёмного узловатого ствола дедушки Тиса.
«Прошлой зимой шли хорошие дожди, – прогудел он. – Белок развелось много, но что поделать?»
Я швырнула несколько шишек в трескучих зверьков и прогнала их.
«Солнышко этой весной просто отменное, – продолжил он с ворчливым удовлетворением. – Вкусное как печенье».
Я ласково почесала кору за бугорком, полным сока.
– Шкуру купить не желаете? – спросил кто-то позади Тиса, и на миг два голоса в моей голове слились в один, переплелись, будто сорняк и роза. Но потом разделились, и из-за моего дедушки показалось очень странное существо.
На голове у него была львиная шкура – потёртая, погрызенная крысами, с колтунами в шерсти и гривой, которая свешивалась на глаза, будто нечёсаные волосы. Худые лапы безвольно висели у него на плечах, а жалкий хвост болтался на уровне чешуйчатых и чёрных лодыжек, переходивших в когтистые лапы стервятника; под львиной шкурой я заметила кончики крыльев. В руках он держал туго набитый кожаный мешок, походивший на переполненный винный мех.
– Так что, милая козочка?
Он улыбнулся. У него было широкое молодое лицо с острым подбородком и кустистыми бровями.
– Шкуру, господин? – переспросила я, заинтригованная как любое юное существо.
– О да, моя дорогая! Я Гасан, торговец шкурами. Какими пожелаешь! Шкуры за грош, шкуры за еду, шкуры на обмен и в долг, на любой случай. Помимо благородной львиной шкуры, которую я накинул на свои скромные плечи, у меня есть множество изысканных образцов: шкуры стриг[23] и мантикор, русалочьи хвосты, плащи из перьев гарпий и капюшоны из шкуры катоблепасов[24], несколько миленьких красных шкур левкроты – очень модно! – блестящие саламандровые плащи и даже редкие призрачные шкуры, человечьи шкуры, шкуры йейлов[25] и вообще любые, какие только придут на ум.
– Что, ради всего святого, мне делать со шкурой? У меня уже есть одна, и хорошая.
Но моя рука уже тянулась к мешку.
– Как что? Носить, деточка! Сделать красивое платье для заманчивых бёдер или накинуть на привлекательные плечи, когда зиме вздумается тебя ущипнуть… У шкур есть тысяча и одно применение. Одни волшебные, другие обычные; одни меняют тебя, другие меняются в твоих руках. Шкура, как дверь, – шагни за порог и увидишь, что там, с другой стороны. Я сам люблю девичьи шкуры… Только не надо смотреть на меня с таким испугом: я торгую вразнос, а не добываю. Не моя забота, как их владелицы с ними расстаются.
– Странно любить чужую шкуру больше собственной.
– Не странней придворной моды, из-за которой дамы носят синие пояса или туфли из нефрита и хрусталя. И вообще, на мне сейчас шесть или семь шкур – товар полезно показывать лицом.
Я пялилась на его ноги, крылья, длинную серебристую гриву, но не могла найти ни единого шва.
– И как же ты… выглядишь под шкурами?
Гасан наклонился ко мне.
– Это секрет, – заговорщически проговорил он. – Но хватит про меня! Ты хочешь приобрести какую-нибудь шкуру? Уверяю тебя, они лучше синего пояса.
Я покраснела, как дамасская роза.
– У меня нет денег, господин. Мой отец считает, что молодёжи достаточно желудей и листьев – пока на голове не выросли достойные рога.
– Жалость-то какая. Но человеку надо что-то кушать, какую бы шкуру он ни носил.
Торговец шкурами повернулся, чтобы уйти, отправиться на поиски нового покупателя, у которого будут горы опалов и изумрудов на каминной решетке, и он купит много, в то время как мне предстояло мыкаться без шкуры и без единой монеты за душой. Я застыла от тоски и, возможно, тихо вскрикнула или заблеяла, потому что на полпути он снова обернулся.
– Думаю, эту я могу отдать тебе задёшево, – пробормотал торговец и вытащил из мешка очень странную шкуру, сложенную во много раз. Она была резиновая и серая, тусклая и поношенная, совсем не напоминала изящный пояс.
Мне было всё равно – я желала её как белка желает орех с самой высокой ветви.
– Что мне сделать ради неё? – спросила я, постукивая копытцами.
– Я не думаю, что ты обменяешь на неё собственную шкуру… К тому же прямо сейчас у меня нет нужды в ещё одном сатире. Но я бы взял одну или две полоски коры с вашего милого дерева. Древесные дедушки – большая редкость.
«Даже не думай», – проворчал Тис. Конечно, Гасан ничего не услышал – кровь говорит с кровью, сок с соком, а для остальных Лес молчит.
– Дедушка, ты даже не заметишь, – заверила я его, – и это будет совсем не больно. Обещаю отгонять от тебя белок весь год.
Поспешно, не давая ему снова возразить, я срезала две длинные полосы чёрной коры и передала торговцу.
Я сделала вид, что не слышала, как дедушка всхлипнул, когда кора оторвалась от ствола.
Гасан передал мне резиновую шкуру с ухмылкой на лице, покрытом редкими вибриссами.
– С удовольствием, о милейшая из всех юных побегов. Прощай – я сомневаюсь, что мы ещё встретимся.
Он сунул кору в мешок и пустился в путь по влажной траве.
Я прижала шкуру к груди и спрятала под кроватью, когда вернулась домой к ужину, – десятки раз вдохнула её солёный водяной запах, пока дошла до двери. Как же я была горда! Перед сном опять вытащила шкуру и приложила к груди, ощутив её холодную тяжесть.
Если подумать, звук был очень тихий: стук в стекло, шорох за окном. Я встрепенулась, точно воробей, и по ту сторону подоконника увидела два больших серых глаза, смотревших на меня. Они принадлежали молодому человеку примерно того же возраста, что и я, темноволосому и такому бледному, словно в его жилах не было крови.
– Пожалуйста, – сказал он, – впусти меня.
– Вот ещё, – прошептала я, чтобы не разбудить отца, который и так подозревал всякое, стоило очередному ухажеру постучаться в дверь. Но я отперла окно и приоткрыла его самую малость. Юноша глядел на шкуру, которую я сжимала в руках.
– Госпожа, боюсь, у вас есть то, что принадлежит мне.
– И что же это?
– Шкура. Она моя.
– На твоих костях есть шкура, как я погляжу. А эта – моя. Я её купила по всем правилам, хоть на золотых весах проверяй.
Юноша с тоской покачал головой.
– Ты купила её у чудовища и ворюги, обокравшего меня, когда я принимал солнечную ванну на скалистом уступе. Я селки[26], и эта шкура – моя.
Я крепче сжала маленький узелок.
– Но ради неё я порезала своего дедушку. Зарастёт, конечно, но мне не следовало этого делать, и, если я потеряю шкуру, получится, что всё зря. Это единственная вещь, которая принадлежит мне, а не моему отцу или матери, моим сёстрам или братьям.
– Она не твоего отца или матери, не твоих сестёр или братьев, а моя. Пожалуйста, отдай её мне, милая сатирица. Я хочу домой, но не смогу туда попасть, пока ты её не отдашь.
Я не хотела плакать, но всё равно мои глаза наполнились слезами, однако я была умной девочкой и знала разные истории.
– Погоди. Как твоё имя?
– Меня зовут Покров.
– А я Эшколь. Если ты селки, и у меня твоя шкура, значит, ты должен остаться со мной и быть моим возлюбленным до тех пор, пока не получишь её обратно, – так?
Плечи Покрова опустились.
– Да, так заведено, хотя я никогда не был похож на других тюленей.
Сказка про шкуру
Я всегда был осторожен со своей шкурой. Другие бросали их как и где попало, уж такова наша природа… Кто бы мог их взять? В чей дом мы войдём, чьи сардины и чёрный хлеб будем есть, кого станем любить? Для селки нет ничего важнее, чем кража их шкуры.
Но я был осторожен. Я любил море, волны и буруны, клубы белой пены. Мне нравился переменчивый характер моря – то, каким оно бывало зыбким и серым либо гладким, как стекло или лоб красавицы. Я обожал вкус воды и боялся оказаться запертым в доме, где не дует сильный ветер и не слышно криков чаек.
Я не думал, что усну: грел свой серебристый живот на одинокой скале на мелководье; купался в тепле, отражавшемся от фиолетовых волн; вдыхал воздух с ароматом водорослей. Я закрыл глаза всего на миг, и тут появился он – тихий, как рыбак с острогой, – и взрезал кожу на моей спине легко, будто порвал бумагу.
Раньше такого не случалось – он снимал с меня кожу, сдирал её насильно, вытаскивал мои пальцы из плавников, ноги из хвоста и лицо из морды… Я кричал, но мои сёстры издалека увидели только, что кто-то забирает мою шкуру, и решили, что самое время. Они не видели нож, не слышали моих криков и стали подбодрять меня со своих отдалённых каменных выступов.
Закончив, он с лёгкостью поплыл к берегу, где начал упаковывать шкуру в туго набитый кожаный мешок. Я последовал за ним, неуклюже плывя в теле человека, в котором до сих пор не жил. Когда мы выбрались на песок, я рухнул, задыхаясь: воздух обжигал мои новые лёгкие.
– Куда мы идём? – промычал я.
Человек, которого, как я позже узнал, звали Гасан, остановился и посмотрел на меня. Он был, как с ним нередко случается, в шкуре женщины – старухи с длинными спутанными волосами.
– О чём это ты, юный бедолага? – спросила старуха.
– У тебя моя шкура.
– О да, несомненно.
– Значит, я твой. В какой дом ты меня приведёшь? Какую рыбу и какие хлеба мы будем есть? Кого я буду любить?
– Мне дела нет до того, что ты ешь или кого любишь, тюлень. Мне нужна только шкура, чтобы её продать. Ты лишь дополнение, как косточка в персике.
Я впервые в жизни встал на ноги: они тряслись.
– Но ведь это моя суть. Мою шкуру украли, и теперь я должен кому-то принадлежать.
– Мне ты не принадлежишь, и я в тебе не нуждаюсь, – фыркнула старуха, которая была Гасаном.
– Тогда отдай шкуру, если я тебе не нужен.
– Не после того, как я с большим трудом её срезал… У тебя на редкость неподатливое тело.
Я был потрясён: Гасан не собирался вести меня в дом, кормить и любить. Лишившись тюленьего тела, я перестал этого бояться, я нуждался в этом так же отчаянно, как когда-то в море. Я запаниковал; синевато-серое небо испугало меня, тёмное море привело в ужас. Я не знал, куда идти, моё тело будто всего боялось. Я быстро замерзал и всё время страдал от голода. И следовал за старой каргой, потому что у неё была моя шкура. Так поступают селки.
– Пожалуйста, – говорил я. – Люби меня или отдай мою шкуру. Ты меня ранишь.
– Ты мне не нужен, – раздавалось в ответ.
– Пожалуйста, я могу быть полезным, готовить рагу и чай. Я тебе понравлюсь, если ты хотя бы попытаешься узнать меня. Или отдай обратно шкуру. Ты причиняешь мне боль.
– Ты мне не нравишься. Ты мне не нужен.
– Пожалуйста, – продолжал я, – я буду красить стены дома и чинить заборы. Я могу мастерить колыбели и выбивать ковры. Позволь мне стать селки или отдай шкуру обратно. Ты меня убиваешь.
– Наплевать, – неслось в ответ.
Это длилось и длилось. Я понял, что он никакая не карга, и дом, который ему принадлежал, находится на далёком острове, туда он меня точно не поведёт. Но я не мог остановиться. Шкура прикреплена к моему животу чем-то вроде морского каната, и чем сильнее Гасан его натягивал, тем туже становился узел, и тем яростнее я его преследовал.
Моей шкуры нет, но я никому не принадлежу. Я не тюлень и не человек. Шкура зовёт меня, а я не могу ответить. «Пожалуйста, – сказал бы я. – Ты меня убиваешь».
Сказка о сатирице и селки (продолжение)
– Он продал её тебе, чтобы избавиться от меня. Я преследовал его три года, и он не позволил мне даже прикоснуться к ней, а тебе отдал за два куска коры. Для тебя, возможно, они ценные, но для него ничего не значат. Куски шкуры, а не целая шкура. Он просто хотел показать, что моя шкура очень дешевая. Я так устал, Эшколь. Пожалуйста…
Я посмотрела на него, пряча улыбку в кудрявых волосах. Мой голос был мягким, как сосновые иголки под ногами.
– Я очень хорошо умею прятать вещи, селки. Ты можешь принадлежать мне. Я могу запереть тебя в доме, кормить сардинами и чёрным хлебом, любить тебя под сенью деревьев. Ты ведь знаешь, у нас, сатиров, заслуженная репутация. Мой отец говорит, я слишком молода, чтобы завести возлюбленного, но ты очень красивый, а я совсем не устала.
Я очень быстро наклонилась и поцеловала парнишку-селки прямо в бледные губы – не знаю, зачем я это сделала, но луна светила так ярко, и он вдруг показался мне намного красивее шкуры. Наши губы встретились над подоконником, и его рот был такой холодный, солёный и сладкий, как море. Мои губы согрели его, как солнце согревает прилив. Целуя, я не перестала улыбаться, и он нежно коснулся моего лица своими серебряными руками, в точности как фавн. Я спрятала шкуру за спиной.
– Ох, Эшколь, – застенчиво выдохнул он, когда мы отстранились друг от друга, – возможно, я смогу остаться.
Покров остался со мной на семь лет и семь дней. У отца случился приступ ярости, и он чуть не наломал дубовых ветвей, когда утром обнаружил нас – свою дочь и мальчишку с глазами цвета моря, обнимавшего её за пушистую шею. Но всё прошло. Покров был нежнее и тише отлива, и ему, как приливу, никто не мог противостоять. Мы не могли нацеловаться – вода любит зелёную землю, а зелёная земля любит воду, и вот мы переплелись, как лозы над рекой, и он сказал, что я пахну красными ягодами и высокой травой, согретой солнцем, а я – что он пахнет раковинами, водорослями и влажным ветром. Я научила его сажать виноград, а он меня – рыбачить голыми руками. Я взрослела, становилась серьёзнее, хотя осталась порывистой и добросердечной. Ни одна из моих сделок с той поры не завершалась так же блистательно, как та, благодаря которой я получила серую потрёпанную шкуру.
Золотые годы омрачались для меня лишь одним: дедушка Тис не разговаривал со мной с того дня, как я взяла его кору; даже когда раны затянулись, он продолжал молчать.
Однажды вечером Покров, сидя рядом со мной в нашем собственном доме, взял меня за руку.
– Эшколь, сердце моего сердца, – сказал он, – пожалуйста, отдай мою шкуру.
Я рассмеялась. Мы играли в эту игру много раз.
– Эта шкура моя, любимый, и она мне очень нравится.
– Нет, – сказал он очень осторожно и медленно. – Я тебя не дразню, не играю. Отдай её мне, если любишь меня.
– Но почему, Покров? Разве мы не были счастливы? Я всё ещё пахну красными ягодами и высокой травой, согретой солнцем?
– Теплее и слаще, чем я когда-нибудь мог себе представить. Но я селки. Как ни желай, сатиром я не стану. Таков уж я есть. Селки остаются до тех пор, пока не уйдут, и инстинкт уйти в нас силён, намного сильнее инстинкта моря. Теперь я это понимаю. Вовсе не море зовёт нас назад, а то, что сильнее и неумолимее любого течения. Я тоскую по морю, моя кожа всё время сухая, и постоянно хочется пить; я скучаю по падающим и накатывающим чёрным волнам, но ещё больше скучаю по уходу. Я не могу найти себе места, я готов, и по ночам уход шепчет мне. Он говорит, что мне будет легче дышать, когда воздух заполнится туманом и криками чаек, когда я окажусь в начале истории, а не в конце.
Слёзы защекотали мой подбородок. Я прошептала:
– Нет-нет, я тебе её не отдам…
– Эшколь, я семь лет не пытался разыскать мою шкуру. Не ободрал кровлю и не вскрыл полы. Даже не думал об этом. Я не искал серый лоскут среди развешенного белья. Но уход не оставит меня в покое, я должен ему ответить, хотя и не хочу. – Покров сжал кулаки, и впервые его бледное лицо залилось краской, на нём отразилась боль. – Я хочу остаться с тобой и есть каштаны, запускать пальцы в твою шерсть. Но тюлень сильнее человека, а уход сильнее тюленя. – Он беспомощно развёл руками. – В этом моя суть.
– Если не хочешь, и не надо! Я сатирица, но совершенно не умею играть на дудочке… Мы больше, чем наши тела.
– Так не пойдёт, о дражайшее из всех тел. Если ты мне её не отдашь, я сам найду. Однажды ты проснёшься, а меня рядом не будет. Я искал её семь дней и не нашел, но ты не настолько хорошо умеешь прятать вещи, и в конце концов я обязательно её разыщу. Пожалуйста! Ты причиняешь мне боль…
Я медленно расстегнула жилетку с поясом и запустила руку за пазуху. Вытащила серую шкуру, которая хранила тепло моего тела.
– Я всё время носила её с собой, мой милый тюленёнок. Я носила твою шкуру каждый день.
Покров протянул руки через стол и взял её у меня – я сопротивлялась лишь самую малость. Он коснулся её с восторгом, словно она была соткана из света и украшена звёздами.
– Я больше не устал, Эшколь, – сказал он голосом, тихим будто течение реки.
– О, – ответила я, вздохнув, – тогда я за тебя рада. Но я устала, как старая осина, согнувшаяся пополам.
Утром он исчез, а я отправилась сквозь туманные сумерки к дедушке Тису. Я лежала у его корней и гладила их, прогнала нескольких белок. Я не плакала: мне было невыносимо прикосновение воды к собственной коже.
«Он мне нравился, – прогудел Тис. – И я тут подумал… Да ну её, эту кору».
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
– Некоторое время я странствовала, держась подальше от Леса и всего остального. Я не искала море специально, просто однажды земля превратилась в песок, воздух заполнился туманом и чайками, и появилось оно. Портовый бродяга рассказал мне о корабле, на который нанимали только женщин, – волшебный корабль с красным корпусом и капитаншей-лисицей. Я записалась в команду быстрее, чем леопард хватает кролика челюстями, – Томми мне обрадовалась. Я не понимала, что Покров говорил про инстинкт ухода, пока не увидела этот корабль, а когда увидела, всё стало понятно без слов.
Уход заполучил меня, и я отдалась ему, в точности как мой селки. Я уже не скучаю по нему, как раньше, – сатиры не созданы для скорби. Но иной раз, когда на море штиль, мне снятся бесконечные шкуры, точно слои луковой шелухи. Однако вот она я – хозяйка трюма «Непорочности» и всего, что в нём происходит. Это не такая уж плохая история, в которой можно поучаствовать.
Корабль вдруг накренился на борт, и раздался странный шипящий звук. Эшколь вскочила с койки, её копыта тяжело стукнули по доскам палубы.
– Кипящее море! – воскликнула она. – Сигрида, ты должна на это посмотреть! Вид, за который любая другая команда заплатила бы жизнью!
Выбравшись на верхнюю палубу, парочка обнаружила какофонию звуков и вихрь действия. Обуреваемые нетерпением аримаспы заняли нос корабля, не замечая, что мешают такелажницам управляться с парусами. Один младший придворный бросил косой взгляд на молодую джиннию, которая отвесила ему оплеуху и огненными пальцами подожгла бороду. Его компаньоны возмущённо взревели и принялись тушить пламя.
За штурвалом стояла спокойная Томомо собственной персоной, ведя корабль по водам Кипящего моря, боровшегося с изящным судном уже не волнами, а неистовыми пузырями и шипением пара. Океан был полон сил и злости, обжигал борта корабля, вздымая крутящиеся колонны кипятка, от которых во все стороны летели брызги, попадая многим женщинам в лицо и оставляя волдыри. Поначалу многие остолбенели, наблюдая за взбесившимся морем, но одна за другой поняли, что надо держаться подальше от борта и всё внимание удалять снастям и парусам. Стоял оглушительный шум – будто вой ветра, ворвавшегося в детский бумажный домик, в один миг смявшего стены и стропила.
Сигрида повисла на ограждении у кормы, вдыхая морской пар. Она смотрела на горизонт, от ветра её тёмные волосы прилипали к щекам, и на миг, на краткий миг она увидела на границе, где штиль встречался с кипятком, серую тюленью голову, которая качалась вверх-вниз на волнах, и услышала тихий скорбный лай того, кто не мог следовать за кораблём.
– Сигрида! Ко мне! – рявкнул Олуваким со своего места на носу.
Она неохотно повернулась и, подбежав, остановилась поодаль от его свиты в надежде, что ему не понадобятся её услуги. Король протянул ей громадный чёрный кулак, в котором, словно меч, была зажата длинная латунная подзорная труба.
– Смотри! Тайный остров! Не очень-то он тайный, разумеется, но ни одна глупая грифоница не сумела бы спрятаться от Окуляра!
Он протянул подзорную трубу Сигриде с выражением на лице, которое свидетельствовало о том, что он чувствует себя неимоверно щедрым. Девушка приложила трубу к глазу и увидела вдали мерцающую полосу земли, которая становилась больше с каждым мгновением. «Непорочность» резала бурливые волны с невероятной скоростью, ничто не могло замедлить её бег. Сигрида тщетно надеялась, что стихнет ветер, и они не смогут добраться до острова и убить бедную Квири. Но не успела она опомниться, как корабль встал на якорь недалеко от берега, и один из баркасов заполнился нетерпеливыми аримаспами, среди которых нашлось место для Длинноухой Томомо и самой расстроенной Сигриды.
Тайный остров оказался песчаной полосой среди сердитого моря. Прилив пузырился на белом песке; принесённые волнами и ветром куски дерева, разбросанные по берегу, были красными, как обожженная плоть. Похоже, когда-то в центре этого клочка земли стояла башня, но от неё осталась лишь гора разбитых камней. Некоторые ещё стояли друг на друге, так что можно было разглядеть часть стены и арку бывшего окна – но не более. Отряд ступил на твёрдую землю, и почти сразу аримаспы ринулись через дюны, издавая жуткие вопли, к приметному гнезду Белого Чудовища, расположенному в северной части песчаной косы. Сигрида осталась рядом с капитаншей.
– Ты удивляешься, зачем я взяла на борт мужчин, которые собрались извести целую расу, – мягко проговорила Томомо. – Думаешь, это сурово и жестоко… Но такова суть пиратства. Мы свободные женщины и потому не соблюдаем правила, которым все подчиняются, целиком или частично. Если золото, которое они дают нам, позволяет чинить паруса и покупать вина на ужин, мы берём их на борт. Если у тебя от этого сжимается желудок, я оставлю тебя на острове – выбирайся как хочешь.
Сигрида промолчала.
Когда они приблизились к гнезду, Белая грифоница кричала, словно раненая медведица, и крыльями отбивалась от волны аримаспов, которые бросались на неё с мечами и копьями. Она отчаянно сражалась, защищая гнездо: схватив одного из мужчин, разорвала ему живот, а другого бросила на острые камни. Под её задними лапами две женщины разглядели три больших яйца, бело-голубых, точно кусочки неба.
– Очень неумелая атака, Олува. Я думала, ты и твоё племя – мастера охоты! Меня обманули, – прокричала Томми.
Грифоница зашипела на неё, встопорщив сияющие перья. Она была белой от кончика хвоста до макушки, даже шерсть на её львиных задних лапах имела цвет ледника. Только когти и клюв были золотыми, всё остальное тело казалось бесцветным и чистым, как песок на берегу. В её глазах метались искры паники и отчаяния. Олуваким на мгновение замер, словно задумавшись, а потом небрежным жестом подал сигнал своим людям. Они тотчас повиновались и отступили от неистовой твари.
– А что ты предлагаешь, морская крыса? – язвительно спросил он. – Воспользоваться твоими чудовищными пушками? Один залп обеспечил бы нам ужин из грифоньего мяса всего за миг… А ты бы получила плату.
Улучив момент, Сигрида метнулась мимо разнаряженных охотников в гнездо, вынудив грифоницу издать протестующий рык. Она раскинула худые руки так широко, как только могла, жалким образом пытаясь заслонить драгоценные яйца от летящих копий. Конечно, закрыть собой громадную грифоницу она не могла.
– Я не позволю вам её убить! – крикнула девушка.
Обе монаршие особы, морская и сухопутная, взглянули на неё со смесью изумления и раздражения.
– Из тебя вышла очень плохая служанка, девочка, – заметил Олуваким. Он казался спокойным – его явно не тревожила мысль о том, что вместе с чудовищем придётся убить и ребёнка.
– Ты действительно думаешь, что тварь такого размера нуждается в твоей защите? – спросила Томми с озорной улыбкой.
– Разумеется, не нуждаюсь, – взревела грифоница, и её голос заметался над пустынным пляжем, как одинокая чёрная птица. – Но важен сам поступок. – Она ткнулась клювом в Сигриду, грубовато благодаря за проявленную смелость. – Итак, ты пришел за мной, Олува? Брат говорил мне, что однажды это случится.
– Он сказал это до того, как оплодотворил твои яйца, или после, ты, дикарка-полукровка? Даже у собак братья и сёстры не спариваются, – прошипел в ответ король.
– Не пытайся меня пристыдить, обезьяна. Я знаю, что в твоём гнезде не осталось петухов, – какое право ты имеешь насмехаться над моим, где они есть? У нас нет закона, который бы запрещал такое… И разве где-то живёт другой самец, способный подарить мне птенчиков? Благодаря вам мой брат оказался последним.
– Я его не трогал, – огрызнулся аримасп. – Его разорвали на части, он превратился в мясо, вот и всё. – Грифоница дёрнулась и устремила на короля взгляд, полный такой ненависти, что его компаньоны подались назад, ожидая яростной атаки. – Я это видел, Квири, – издевательски продолжил он, постучав по золотому глазу кончиком тёмного пальца. – Я видел, как они сожрали твоего синего братца. Они пировали, облизываясь, и бросали его кости своим псам. Почему бы тебе не рассказать нам всю историю? Время есть – я могу убить тебя и после, мне всё равно. Я слушал, как самец болтает, словно заведённая игрушка; могу оказать ту же любезность и самке. Здесь все обожают слушать сказки. Расскажи им, как твой брат умер в тот же день, когда наделил своим цветом твои яйца.
Квири скорбно опустила голову, уставившись на переливчатую скорлупу своих нерождённых детёнышей. Когда она вновь заговорила, её голос звучал хрипло от гнева:
– Не ради твоего удовольствия, королёк с холма, но ради ребёнка, который заслонил мои яйца от тебя своим телом.
Сказка Белой Грифоницы
Я родилась под Розовым Куполом Шадукиама. Из всех Грифонов лишь меня выносила женщина, как человеческое дитя: из неё вышло моё яйцо, так я родилась. Это известная история – не стану её повторять.
Мать-грифоница просила меня не возвращаться в Шадукиам, мой родной город. Говорила, что это дурное место, похожее на человека, который прячет нож, когда все остальные не скрывают оружия. Я хотела ей подчиниться, быть счастливой на вершинах Нуру, счастливой, как Джин, под защитой крыльев нашей матери, под луной на его лазурных крыльях.
Но я не могла. Меня тянуло к странному сладкому аромату гниющих роз и покрытым каплями туманной росы стенам, что перерастали в алмазные башни; к тёмным канавам, переполненным дождевой водой. Меня тянуло назад, к Джиоте, её запаху, который больше напоминал мне о матери, чем мягкая золотая солома гнезда. Я следовала этому запаху, запаху крови и фиалок, гибнущих под ногами, запаху рта Джиоты. Я почти ничего не помнила о том, как была внутри неё, но моё сердце знало, что когда-то билось рядом с другим сердцем. Я шла вслед за памятью моего сердца по серебряным улицам Шадукиама, сквозь кружевные тени алмазных башен, и в конце концов нашла её, женщину, родившую меня, спящей на куче мусора поблизости от таверны-развалюхи. У меня перехватило дыхание, и я легла рядом с нею, укрыв её тело своими крыльями, оросив её волосы золотыми слезами.
Я много раз летала над равнинами между Нуру и городом. Джиота всегда была рада встрече, хотя мы редко разговаривали. Мы прижимались головами в тени раскидистых деревьев, обнюхивали друг друга и собирали листья: я – из её удлинявшихся волос, она – из моей шерсти. Мы почти не нуждались в словах – просто хотели быть вместе, тайком, мать и дочь, которые никогда не смогли бы называться таковыми.
Джин этого не понимал – конечно, не понимал. Ведь он вырос не в утробе женщины. Однако он никогда бы не выдал меня; моя истинная мать считала меня своей, и только своей до того дня, когда её убили и отсекли клюв, чтобы украсить им голову какого-то аримаспа. Мы спрятались среди ослепляющих скал, потому что были ещё молоды и не смогли бы защититься от множества врагов. Джин укрывал меня своими крыльями, а эхо предсмертных криков нашей матери металось в хрустальном кратере.
В тот день я покинула его и гнездо, которое ему принадлежало, и отправилась в Шадукиам искать утешения на груди Джиоты. Я не могла остаться под Розовым куполом – я была слишком большой, чтобы спокойно жить в городе, – но соорудила себе гнездо из кедра и камфары за пределами цветущей арки. Каждый день одна из нас навещала другую, чтобы продолжить тихое общение. Мы были счастливы вместе – какое-то время.
Я плакала, когда она выковала свою цепь и вбила клинья в стену великой Базилики. Я не понимала. Мне было невыносимо думать, что в моём гнезде из красного дерева я больше никогда не буду чувствовать во сне, как её сердечко бьется рядом с моим. Она пыталась объяснить, что ничего не изменится, и я по-прежнему смогу приходить к ней в странный церковный двор, такой близкий к месту, где она выносила меня. Но я знала – это уже не то, что на моих глазах что-то заканчивалось и не в моих силах это остановить. Я смотрела в её тёмные глаза сквозь слёзы.
– Разве меня тебе недостаточно? – сипло прошептала я. – Разве я не могу сделать тебя счастливой?
– О, моя дорогая, – раздался невнятный голос из-под помятого мокрого платья. Джиота положила руки на мои перья, как я того и желала. – Ты всегда делала меня счастливой. Но я не грифоница, и у меня есть долг, который не связан с золотом или яйцами. Я должна его исполнить.
– У меня нет золота, которое надо стеречь. У меня есть только ты.
Я попыталась прижаться головой к её голове, но она отвернулась и открыла потайной разрез в чёрной рясе, чтобы рот в её животе, выносивший меня, мог свободно говорить.
– Всё будет, Квири. Однажды у тебя будет кладка яиц и гнездо из золота, как у всех Грифонов. Мы обе должны позаботиться о талисманах своего народа: ты – о золоте, а Джиота – о стене.
– Ты никогда не рассказывала мне о своём народе. Я ничего не знаю о тебе, твоих обычаях и крови. Ты бросаешь меня ради стены и цепи, так хотя бы расскажи, в чём дело, какой долг перед своим племенем заставляет тебя так поступить. Расскажи мне, кто ты такая!
Джиота тяжело вздохнула и, облокотившись на осыпающуюся, поросшую мхом стену, обхватила живот руками, как делала в те немногие дни, когда говорила со мной долго, не ограничиваясь несколькими ласковыми словами, – дни, которые я теперь вспоминаю как пиршества, праздники, фестивали её голоса. Она обратила своё безгубое лицо к небесам и закрыла тёмные глаза, а язык в её животе принялся рассказывать свою историю.
Сказка Анахоретки
Знаю, о чём ты думаешь. Что где-то в мире есть раса людей, у которых рты на животе, и среди этого племени я бы ничем не выделялась.
Всё не так.
Я всего лишь женщина, рождённая от женщины, сестра других женщин. Увы, женщины были редкостью в дикой пустоши медового цвета, которую я звала домом, – на тех просторах, поросших травой, где редко встречались деревья и лошади. Поэтому наш караван всегда был маленьким. Сыновья рождались легко, братья следовали за братьями, и мужей для немногих жен оказывалось слишком много. У каждой женщины их было несколько – мужчины сражались за честь оказаться с нею в одной постели. Женщины всегда рождались наделёнными силой, каждая была если не ведьмой, то воительницей. Появление на свет дочери праздновали три ночи, поедая яства из мяса худых ястребов и синепузых ящериц. Рождение дочерей-близнецов считалось чудом, ниспосланным благословенными Звёздами.
Тройни рождались один раз в поколение, когда Змея-Звезда сближалась с Острогой-Звездой, и свет Пронзённой Змеи падал на желтую траву. Эти звезднорождённые близнецы стали символом каравана – благодаря им о нас знали, их ценили, без священных младенцев мы были не более чем разношерстная банда торговцев лошадьми, что тут и там подсовывали горожанам цыплячьи лапки под видом любовных амулетов.
Тройняшек называли Сореллой, и я была младшей, так как родилась через целую минуту после сестёр. Мы особенные, священные: старшая в каждой триаде наделена глазами на животе, средняя – ушами, а младшая – ртом. Со своих положенных мест органы были точно стёрты – не вырваны. Будто некий бог провёл рукой над нашими лицами и смыл глаза, уши, рты. Мы были Провидицей, Слушательницей и Сказительницей.
Нас звали Леджиота, Маджиота и Панджиота. Три сестры управляли движением каравана с помощью единого разума: Леджиота видела путь, Маджиота слышала, что велят Звёзды, а я говорила, куда идти. Мы не могли лгать и направить свой народ по ложному пути. Если кто-то обращался к Сорелле за советом, лишь я могла ответить, произнести только истинные слова, передавая то, что видели и слышали мои сёстры. Мы были не просто оракулом: наши лица являлись тропинками, по которым бродили Божественные Звёзды. Мы сплетали из своих волос священные одеяния, потому что наши тела были сосудами Звёздного света; ни одна тканая одежда не считалась более святой. Люди шептали, что Сорелла – одни и те же женщины в каждом поколении, души одних сестёр переходят в тела следующих. Я об этом ничего не знаю – я Панджиота, и всегда ею была. Больше мне сказать нечего.
Я часто завидовала сёстрам. В конце концов, я лишь пересказывала то, что они мне говорили, что видела Леджиота и слышала Маджиота. Я тоже хотела обратить к небесам тайное ухо и почувствовать, как раскалённые добела слова Звёзд льются в меня, будто кипящий мёд. Я тоже хотела увидеть тропу истины, простирающуюся от моих ресниц, как золотая лента. Но я могла лишь раздвигать свои волосы, точно занавес, и открывать свой тайный рот. Боги коснулись моих сестёр, но не меня. Я иной раз молилась, чтобы мы обменялись силами и чтобы я – хотя бы один раз – стала женщиной, которая ложится под Звёздами и позволяет их свету пролиться на свой живот.
Дети молятся так бездумно, громоздят молитвы друг на друга, словно песчаные замки… И их всегда удивляет момент, когда замок вдруг становится настоящим, а железные ворота захлопываются с ужасным скрежетом.
В один день, похожий на все прочие дни в степях, когда медовые пироги жарились на сковородках, а мужчины лениво стреляли в енотов и полёвок, которые были всего лишь мешочками сухих костей, Леджиота и Маджиота призвали меня в своё секретное место. Мы забрались в пещеру из чёрного камня, скрытую в теле оранжево-белых утёсов, ограждающих травянистые равнины, наши родные земли. Среди теней звук воды, капающей с потолка, успокаивал нас и клонил в сон. Но в тот день мои сёстры были бодры и взволнованны, как лисы, учуявшие запах охотника. Они полностью расплели косы и сидели в пещере, обнаженные, демонстрируя свои животы, будто драгоценности.
– Я увидела новую тропу, – прошептала Леджиота.
– Я услышала, как Звёзды свернули с обычных путей, – прибавила Маджиота, сжимая мои руки в своих.
Я вдруг поняла, что сёстры испуганы.
– У нас больше не будет Сореллы, караван умирает. Вскоре дочерей станет рождаться больше обычного, и матери перестанут молиться о них. Больше не будет тройняшек. Острога-Звезда отказывается изымать глаза, уши и рты других дочерей, а Змея-Звезда – помещать их в другие утробы. В обмен они дадут нам поколения дочерей, но все они будут обычными, лишенными врождённой силы. Им придётся добывать её в этой пещере, которая уходит в землю глубже, чем мы могли бы себе вообразить. Нас забудут, и, когда последняя седоволосая бабушка, которая будет нас помнить, прольёт свою чёрную кровь на землю, караван умрёт от голода и жажды.
Леджиота говорила ровным голосом, будто речь шла о том, когда на равнинах пойдёт дождь.
– Родился человек, чей праправнук убьет Змею-Звезду, и все пути, куда Небесная Змея могла бы свернуть, ведут к её смерти. Она мне это сказала, ибо уже оплакивает себя под чёрной вуалью небес. Сорелла были её служанками, пока она жила: мы не можем служить умершей… Она сказала мне, что возьмёт с собой других Звёзд, маленьких, чтобы они несли её траурный покров, и удалится в храм, расположенный очень далеко от проклятого города, чтобы там ждать, пока раздастся тяжелая поступь рока.
Глаза Маджиоты наполнились слезами; они закапали на уши в её животе, похожие на раковины.
– Панджиота, сестра моя, я боюсь смерти, – хрипло проговорила Леджиота.
– Но почему ты так боишься умереть? – спросила я. – Если это не произойдёт, пока не родится его потомок, мы не увидим, как Змея исчезнет с небес и новые служанки займут наше место. Мы в безопасности, хоть и лишились благословения.
Сёстры переглянулись; Леджиота провела ладонью по гладкому месту, где могли бы находиться её глаза.
– Ты не понимаешь. Мы две – её служанки и отправимся вместе с ней в уединённый храм, отдадим свою силу, зрение и слух змейкам. И через пять поколений её свет будет сиять так же ярко, она сможет восстать после того, как будет убита.
Я опустила глаза, мои плечи дрогнули. Я коснулась животов своих сестёр с нежностью и печалью.
– А мне с вами нельзя.
– Панджиота, – лицо Леджиоты смягчилось, в уголках глаз появились морщинки. Она старалась говорить как можно ласковее, – ты самая малая из нас. Ты только говоришь, а ей нет дела до человечьей речи. Сорелле ты необходима, а для Змеи не существуешь. Звёзды уже решили разрушить Сореллу.
Эти слова ударили меня, как порыв горячего ветра, но я знала, что они правдивы. Я была ничем – лишь рупором, немой дудкой, которую оживляло дыхание моих сестёр. Я склонила голову и кивнула, зная, насколько мала в их присутствии. Маджиота обняла меня за талию и прижала свои трепещущие уши к моим губам. Это была близость, которую мы втроём редко себе позволяли, – прикосновение ресниц, губ и ушных мочек.
– Мы уйдём, любя свою богиню, как любим и тебя. Но мы вдвоём решили, что не можем допустить, чтобы Сорелла покинула этот мир. Мы сидели в пещере без сна, ища путь, который позволит нам остаться с тобой, быть Сореллой и родить другую тройку, которая спасёт нашу память от смерти Звезды. Ни один караван нельзя оставлять слепым, немым и беспомощным. И мы отыскали путь.
Маджиота улыбнулась и вытащила из складок своего одеяния изогнутый серебряный ножик с костяной рукоятью.
– Что от рождения было нашим, станет твоим, Панджиота. Мы вырежем свои глаза и уши, а ты их проглотишь, и сила перейдёт к тебе. Ты станешь Сореллой в одном теле, покинешь караван и лошадей, чей запах привычен, как собственный, и пойдёшь в город, укрытый Куполом из роз. Там ты будешь ждать, пока тебя не позовёт на помощь чудовище. Я всё уже видела, видела, как ты идёшь под дождём из белых лепестков.
Глаза Леджиоты мерцали над её пупком, будто зелёные факелы во тьме.
– Ты проглотишь дитя чудовища, как проглотишь нашу плоть, и выносишь его внутри себя, как собственную дочь. И тогда две расы окажутся спасены, а мы втроём всегда будем вместе, даже после смерти Звезды. Мы уйдём в тайный храм, ты – в грешный город, и ты родишь нас опять.
Маджиота тихонько погладила свои уши.
– Я не понимаю! – воскликнула я, не желая поедать плоть своих сестёр, в ужасе от их странных слов.
– Конечно, нет, но ты поймёшь. Пророчество – сложная вещь, однако нет другого способа сохранить Сореллу, и мы не ответим отказом на зов Змеи.
О, как я плакала, пока смотрела на них! Обнажённые, как звери, они всё сделали у меня на глазах: Маджиота схватила нож и вонзила его себе в живот – он вошел с болезненным скользким звуком, словно палец опустили в бегущую воду, – и медленно вырезала священные уши над желудком, истекая потом и не переставая тихо стонать до самого конца. Она пыталась улыбаться, чтобы не пугать меня, но смотреть на неё было невыносимо; меня вырвало в углу пещеры, пока всхлипы звучали в моих собственных ушах. Следом за ней Леджиота вырезала свои глаза и не издала ни единого звука, но её дыхание срывалось как ветхая ткань, а её руки, когда я к ней повернулась, блестели от покрывавшей их крови.
Сёстры положили жалкие ошмётки плоти передо мной – так служанки кладут перед госпожой изысканный пирог. Обе истекали кровью, но не переставали улыбаться и принялись расплетать мои волосы, как делали в те времена, когда мы втроём были девочками. Разведя длинные локоны, они обхватили меня своими руками, прижались ко мне, утешая, и гладили моё лицо руками в клейкой крови, умоляя проглотить органы, закрыть глаза и сделать это, прежде чем они остынут и умрут. Я кричала и билась в их руках, мой голос отдавался эхом под скалистыми сводами пещеры. В какой-то момент показалось, что нас окружает хор вопящих призраков. Они утешили меня и прижали к себе. Наконец я перестала кричать и, схватив кровоточащие куски плоти моих сестёр, запихнула их в рот – меня начало рвать, я снова попыталась их проглотить, и меня опять вырвало. Я насильно пропихнула их в свой рот-на-животе, и мои слёзы смешались с кровью сестёр; вскоре я чувствовала только соль.
Потом стало тихо.
Я лежала на холодном камне, а они лежали на мне; кровь высыхала на нашей коже, словно краска. Мы были словно любовники, сплетённые болью и печалью. Леджиота отвела спутанные волосы от моего уха и сказала:
– Теперь мы никогда тебя не покинем, ты одна из нас и будешь жить. Мы оставим этот мир, а ты погрузишься в его бурливое сердце. Но помни, что ты навсегда Сорелла. Твой долг – вести караван, вереницу повозок с родными людьми, что ползёт по лицу земли, по крупицам собирая пропитание в грязи и откровения в небесах. Когда чудовище покинет город и твой долг перед ним будет исполнен, ты должна стать Сореллой для всех караванов и сделать для них то, что делали мы. Они будут приходить к тебе, и ты должна заботиться о них, слушать и говорить. Остриги волосы, когда пойдёшь в город, и носи не свою одежду, а городскую, но, когда с материнством будет покончено, опять сплети священное платье. Мы будем с тобой, внутри тебя, и мы будем любить тебя, пока будет жить это тело.
Когда слова отзвучали, Леджиота и Маджиота положили головы мне на грудь, как дочери, и умерли. Их души и свет поднялись будто пар, чтобы присоединиться к Змее в её уединении.
Я плакала одна в темноте.
Сказка Белой Грифоницы (продолжение)
Глаза Джиоты были сухими и тусклыми.
– Когда я достигла алмазных башен Шадукиама, голоса сестёр уже звучали во мне; я слышала, как Звёзды поют свои хоралы, и видела, как тропа разворачивается передо мною, словно золотая лента. Я перестала быть Панджиотой, стала просто Джиотой, которая являлась всеми нами и ни одной из нас. В этом трудно разобраться – иной раз я говорю с ними, иной раз – с собой, а то и с безжизненной пустотой. Я выполнила свой долг перед чудовищем, грифоницей, и теперь я должна выполнить долг перед сёстрами. Я должна стать Сореллой Шадукиама, анахореткой, оракулом.
Я потрясённо глядела на неё, пытаясь осознать то, о чём даже не догадывалась.
– Но зачем тебе приковывать себя к стене? Ты можешь быть оракулом где угодно – их здесь целые башни! Ты можешь остаться в моём гнезде, а люди из города станут приходить к тебе.
Джиота уставилась на меня безумными глазами, хрупкая как ягнёнок перед волчьей пастью. Хотя я знала, что её рот на животе и его ничто не прикрывает, гладкая кожа там, где он должен был бы располагаться, вдруг показалась мне подобием жуткого кляпа, который не давал ей сказать ни слова.
– Я так боюсь, Квири. Если я не сделаю этого сейчас, то не останусь. Отправлюсь с тобой и брошу сестёр. Всю свою жизнь я молилась об их силе, а теперь она меня пугает. Не держи на меня зла: такова моя суть. Как ты однажды начнёшь заботиться о своём золоте и яйцах, так я должна заботиться о них. – Она подняла руку, чтобы погладить моё лицо – такую маленькую руку! – а потом опустила, чтобы снять своё платье. – Помоги мне, дочь моя. Помоги снова заплести мои волосы.
Я опустила голову к длинным жестким прядям, чей знакомый запах кружил мне голову, и начала поднимать один локон за другим своим клювом – медленно, неуклюже; мы сплели её платье до лодыжек. Мои слёзы капали на странную ткань и оставляли на косах золотые пятна.
– Мама… – это слово будто разрушило плотину в моей душе, – неужели у меня и впрямь будет своё золото и яйца, чтобы о них заботиться? Я в это не верю, не верю, что раса Грифонов будет жить. Если ты теперь оракул, анахоретка, скажи мне правду и не утешай ложью.
– Квири, твой брат жив, и, пока он жив, у вас есть долг, который вы, как и я, должны исполнить. Он даст жизнь твоим яйцам, и у тебя появятся три детёныша, которых ты будешь греть своими задними лапами. Иди снова к Красной горе и найди его там!
Джиота защёлкнула кандалы на запястьях и заняла место у стены. Я оставила её, хотя скорбели даже мои кости, и вернулась на равнины Нуру, чтобы найти там синий хохолок брата и выполнить наказ матери, как поступают хорошие дети.
В Саду
Было ещё темно. Небо тяжело нависало, будто шатёр кочевника, освещённый звёздами и обдуваемый тихими ветрами. Голова мальчика лежала на коленях у девочки – поначалу он решил, что проявил храбрость, когда прилёг так, но она не стала возражать и робко взъерошила его волосы.
– Этой ночью я буду умнее, – прошептал он, – и меня не поймают.
Девочка рассмеялась – и словно дождь зашелестел в листве пальм.
– Я не шучу! Я не позволю тебе удерживать меня до той поры, когда свет разобьет небо, точно кувшин! Уйду сейчас, когда звёзды горят ярко, и вернусь к кузнецу. Динарзад ничего не узнает, и завтра я смогу прийти раньше.
Счастливый мальчик побежал мимо величественных рядов кипарисов – обратно к минаретам дворца, что тянулись к тёмному небу, как вторая древесная роща.
Но на следующий вечер мальчик не бродил свободно в Саду, а свернулся в углу стойла, очень расстроенный. Он хмурился, подтянув колени к подбородку. Долго так лежал, а потом увидел, что кто-то пробирается через тайную дверь и тянется к нему. Это была девочка – соломинки украсили её чёрные волосы, будто золотая корона. Он вздрогнул от радости и нетерпеливо помог ей выбраться из тайного хода в стойло.
– Не такой я умный, как мне казалось, – признался он. – Динарзад ничего не обнаружила, но толстая повариха заметила, как я возвращаюсь, и поклялась, что всё расскажет, если хоть раз застигнет меня снаружи. Я не мог решиться – идти или нет… Я пытался думать, пытался быть храбрым, как Сигрида на пиратском корабле, отправиться к Грифону во что бы то ни стало. Но я не смог.
Мальчик покраснел, хотя ненавидел краснеть.
– Неважно. Тебя легко разыскать, – прошептала девочка, улыбаясь краешками рта. Двое устроились в углу стойла, где гнедой фыркал и переступал с ноги на ногу, обнюхивая лизунец.
– Итак, белая Грифоница долго была в унынии после того, как Джиота избрала стену, – начала она. Её голос звучал ритмично, как череда порывов ветра во время летнего шторма. – Она не могла утешиться и летала кругами вокруг Базилики, скорбно крича, словно альбатрос. Эти звуки, хоть и не такие пронзительные, как крики его матери когда-то, лёгким ветром доносило до красных пиков Нуру, где Джин Синий Грифон слышал год за годом эхо тоски своей сестры. Поэтому, когда одноног забрался на его спину, чтобы отправиться назад, в Шадукиам, Джин был рад, потому что под Куполом роз его ждали два существа, которых он любил больше всех на свете.
Сказка Белой Грифоницы (продолжение)
Я не знала, что вскоре увижу брата, но что-то в моём львином сердце проснулось и заметалось на мягких лапах. Что-то в моём орлином сердце встрепенулось и попыталось взлететь. За много дней до того, как его бирюзовые крылья возникли смазанным пятном в небе, я ждала, хотя и сама не понимала чего.
И вот он пришел, неся на спине уродливое создание. Мы стояли вместе перед Базиликой, перед изогнутыми корнями дверной арки, возвышавшейся над прихожанами, которые были так хорошо воспитаны, что, входя и выходя из святого места, притворялись, будто не замечают двух монстров. Монстры были частью другого Шадукиама, города теней, чьё святилище находилось за церковью, в теле странного создания, лишенного рта. Благочестивые шадукиамцы отлично умели игнорировать другой город.
Существо, которое я разглядела, выбралось из перьев моего брата и оказалось одноногом с невпечатляющей ступней; он робко стоял поодаль, пока Джин прижимал свою голову к моей, и мы в тишине обнюхивали друг друга, гладили шеи клювами и закрывали глаза, ощущая знакомый запах. Непрошеные, низкие и неразборчивые крики вырвались из наших глоток, что так долго были в разлуке. Уродливый одноног демонстративно кашлянул. Не глядя на него, Джин рявкнул:
– Иди, одноног. Приведи женщину И ко мне в полночь, и я всё сделаю.
Он не отрывал глаз от меня. А маленький человек запрыгал прочь.
– Джиота мне больше не мать, – хрипло проговорила я: печаль из-за случившегося по-прежнему наполовину лишала меня голоса. Джин пожал лазурными плечами.
– Она никогда не была ею на самом деле, сестра моя. Не проси у неё слишком многого.
– Ты не видел, что она с собой сделала! Иди и посмотри, как она сидит в грязи и отбросах, будто нищенка! Иди и попроси предсказать тебе будущее… Это всё, чем она сейчас занимается, как глупая цыганка, смотрящая на Звёзды в поисках знамений!
Мы пошли к ней вместе. О воссоединениях рассказывать утомительно, они что-то значат лишь для воссоединившихся. Сложное объятие двух гигантов и худенького создания, одетого в собственные волосы, – вещь слишком деликатная и хрупкая, чтобы её описывать. Мы любили её и всё ещё любим. Мы держали её между нами, как цыплёнка. Глядя на нас снизу вверх, Джиота разделила волосы на животе, чтобы заговорить.
– Знаю, вы не хотите это слышать, но время пришло… Яйца надо высидеть, а мой милый синий мальчик не переживёт эту ночь.
Джин не вздрогнул, а нежно провёл по щеке Джиоты длинным чернильно-синим маховым пером. Я же застыла от ужаса.
– Я бы хотел прийти сюда, просто чтобы повидаться с тобой, Квири, – прошептал он, – но я здесь ради Культяпки и должен этой ночью совершить убийство. А за убийство надо платить. Мы платим за Грифонов, которые убивали лошадей и аримаспов, они – за Грифонов, которых убили сами.
– Летите в небо, – торопливо проговорила Джиота хриплым голосом. – Называйте их моими внуками, пусть так… Но они должны родиться. Никто другой не может её оплодотворить.
Она выбралась из наших объятий и, вновь прижавшись к стене, отвернулась, прижимая пальцы к губам и что-то негромко бормоча. Джин устремил на меня спокойный взгляд – не знаю, был в нём стыд, радость или отчаяние. Но он поднялся в небо, лишь раз взмахнув крыльями, и я последовала за ним.
Разве я могу рассказать, как спариваются Грифоны? Мы не птицы и не кошки, но взмываем по спирали к брюхам облаков, как птицы, а кусаем друг друга за горло и плечи, будто кошки. Никто не говорил нам, что делать, и никто не запрещал. Наши глаза сверкали золотом и тьмой, шерсть вставала дыбом, перья топорщились. Мы рявкали друг на друга, и рычание рождалось глубоко в нашей груди. Мы боролись в воздухе, как ангелы, кружились ослепляющим вихрем небесной синевы и белизны. Он вонзил свои зубы мне в загривок, и мой крик был подобен звуку разбитого колокола. И мы плакали, когда под солнцем и тысячами роз Шадукиама свершилось наше соитие.
Когда мы спустились, звёзды прорвались сквозь небесную шкуру, а наши тела были покрыты потёками крови и синяками. Одноног ждал нас у громадных церковных дверей, рядом с ним был ещё один – женщина. Её кожа в оспинах казалась желтоватой, почти прозрачной, как увядающий лепесток. Она злобно уставилась на нас, оскалив мелкие зубы, неровные и острые. Я судорожно втянула воздух – было ясно, что под этой шкурой обитает И.
– Я получу самца или эту породистую кошку? – прошипело оно, не отводя жуткого взгляда.
– По-другому не вышло, – виновато сказал первый одноног. – Оно не хотело идти, пока я не пообещал ему тело.
Существо облизнуло покрытые кратерами губы.
– Мы так и не познали Грифона. Ваш народ горазд умирать на каких-нибудь дурацких пляжах, вылив кровь на раскалённый песок. Нам любопытно, каково это – летать на таких крыльях?
Джин бросил на меня взгляд и хрипло прошептал:
– Это похоже на смерть.
Потом его тёмные плечи неуловимо сместились. Он двигался так быстро, что я увидела только синюю вспышку, и его коготь вонзился в глаз гниющего И. Существо закричало так яростно, что у меня заболели уши, – ужасный звук напоминал металлический скрежет, вопли свиней и крыс. Глазное яблоко вокруг когтя моего брата размякло и закапало на полированные плиты двора, будто скисшее молоко. Вскоре от И осталась лишь кучка полурастворившихся костей, которые одноног собрал и с любовью прижал к груди с благодарными слезами.
– Я похороню их как положено, скажу слова Высокого Мха над её могилой и буду повторять их каждый год в этот день. Спасибо тебе, Джин-с-Красной-вершины, спасибо! Ты не догадываешься, как много для меня сделал.
Он всё кланялся, подпрыгивая как смешная игрушка. Я вздохнула с облегчением – с ужасной сделкой покончено.
И вдруг двор заполнился белыми фигурами, которые тяжело дышали, будто свора псов, и скалили зубы, визжали и рявкали. Я никогда не видела настоящих И, только слышала о них, и уж точно мне не доводилось видеть их в таком количестве. Все они были в телах, которыми владели давно, и эти тела отражали поверхность луны – зеленовато-белые, покрытые оспинами, с туго натянутой кожей и блестящие, как маски из кости. Они утратили последние крохи воспитанности, которые обычно берегли, и стояли вокруг нас, завывая и истекая слюной, будто изголодавшиеся волки. Хлопали трупными руками, изображая что-то среднее между угрозой и восторгом, и у них отваливались по частям пальцы – костяшки падали на мостовую, словно тесто с пекарской ложки.
Речь их была ужасным хором шипения и пощёлкивания языками: они не говорили ни вместе, ни по отдельности, но их фразы метались от твари к твари, будто ни один не мог довершить мысль без помощи братьев или сестёр.
– Как посмел…
– …ты тронуть нас? Ты…
– …ненавистен Луне, а мы её…
– …любимые дети! Мы обглодаем твои крылья…
– …мы обсосём плоть…
– …с твоих лап! Грязный полукровка…
– …ты не имел…
– …права!
Джин медленно отступил от них, его задние лапы постукивали по камням двора. Они ещё сильнее начали истекать слюнями, а несколько – с такими странными телами, что и не догадаться, кем они были, – замкнули круг позади него. Одноног потянул меня за шерсть, в его больших чёрных глазах стояла мольба.
– Уходи! Они его не отпустят. Если убежишь, тебя не заметят.
– Но его тело! Я не могу позволить, чтобы они захватили его тело… Всё из-за твоей жалкой возлюбленной! И ты позволишь, чтобы то же самое произошло с моим братом?
– Они пришли не овладеть им, – мрачно пробормотал одноног. – Они пришли ради расправы. Им не нужно тело – его разорвут на части. Для них потерять собрата всё равно, что потерять ногу до самого колена. Это месть, и, когда они её свершат, останется всего несколько капель крови, которые завтрашние прихожане сотрут с подошв. Прости, я знал, что такое может случиться, но должен был помочь моей Тове, освободить её. Поверь, ты ничего не можешь сделать, хоть ты и сильна. Если убьешь их всех, с последним вздохом они призовут других – и те придут, из самых глубоких щелей и переулков города. Их бесчисленные множества. Если хочешь жить и родить своих детёнышей… – он чуть покраснел и отвернулся, вспомнив, как я догадалась, о правилах приличия относительно спаривания с женщинами его народа, – то лишь в небе ты будешь в безопасности. Иди, разыщи какой-нибудь забытый берег и спрячь своих малышей. Пока в воздухе витает запах моей Товы, они в ярости и не помнят о тебе. Когда он рассеется, твари успокоятся и не удостоят тебя милосердным расчленением. Они заберут твоё тело, и твои детки родятся серыми и мёртвыми, их первым криком будет издевательский смех.
Я уставилась на ненавистного коротышку, продавшего нас жутким падальщикам. Хотела его убить, вонзить когти в глаза, как он умолял Джина сделать с той тварью. Я воображала себе, как это приятно и какой горячей будет его кровь.
Но Джиоте было бы стыдно за меня. Она отвернулась бы от меня и забыла моё имя, и мои дети никогда не узнали бы её. Ей было ведомо, что Джин скоро умрёт… Это должно что-то значить и быть важнее простого уравновешивания весов после убийства.
Я наклонилась к лицу однонога, и он даже не моргнул. Быстрым движением портного, который вспарывает шов, я двинула головой и оторвала левое ухо, сплюнула его на землю. Кровь капала с моего клюва. Сквозь кровавый туман я зашипела на того, кто нас предал, потом взмахнула широкими крыльями – раз, два, три – и поднялась в ночь.
Оказавшись на безопасной высоте над стаей покрытых шрамами И, которые трепетали от возбуждения и страсти, я развернулась. У моего брата не было ни одного шанса проследить за моим полётом и узнать перед смертью, что я в безопасности, – истории вроде нашей обычно даруют такое утешение. Но нам его не досталось.
Я видела, как они бросились на моего Джина и вонзили в его тело двадцать пар челюстей с алмазными зубами. Он закричал, будто ветер ворвался в разбитое окно, и продолжал кричать, пока одна из бледных костлявых тварей не сжала в зубах его безупречное синее горло и пока он не умер, издав последний влажный задыхающийся всхлип.
Я видела, как И сожрали его в тусклом свете своей Луны.
Сказка о Святой Сигриде (продолжение)
Квири провела по песку блестящей лапой.
– Всю свою жизнь я не задумывалась о проблеме аримаспов. Да и могла ли я, занятая обожанием человечьей женщины и вынашиванием бедных яиц? Я видела, как умер Джин, как он стал пищей для призраков и духов с лунным светом вместо крови. Я не думала о глупцах, которые так сильно любят золото, что готовы ради него уничтожить целую расу. Я пришла сюда; пока длилась осень, снесла три яйца и грела их шерстью своего тела. Прошли годы… яйца Грифонов созревают медленно. Постепенно волны начали приносить золото – песчинки, крупицы, осколки. Оно сверкало на песке и смешивалось с ним. Этот остров наполовину из золота. Конечно, я и помыслить об этом не могла, когда пришла сюда, мне просто требовалось место для отдыха, где никто и никогда меня не найдёт. Кипяток должен был защитить меня. Откуда мне было знать, что посреди кипящих вод поднимется золотой остров, как плавник кита? Постепенно я начала считать его красивым и перетащила куски побольше, чтобы сложить из них настоящее гнездо для моих птенчиков. Стала понимать, что до меня в нём видели другие Грифоны, – цвет солнца, глянцевый блеск и полыхание, свет, жизнь и пламя, горящее в нем так яростно, что рождается слабое тепло, которое можем чувствовать только мы. Я полюбила его. Но по-прежнему не думала об аримаспах – тварях, убивших мою мать, и причине, из-за которой мы больше не могли собирать так много ценного металла, как хотели, потому что оно привлекло бы убийц, как летний мёд привлекает пчёл. Пока не увидела на бурлящем горизонте мачту корабля, которой там не должно было быть, я о них не думала. Потом вспомнила и устыдилась своей наивности. Я лишь хотела помочь своим птенчикам разбить скорлупу яиц и научить их летать; привести к Джиоте под покровом ночи трёх совершенных детёнышей, которые обнюхивали бы её шею и прижимали свои тёплые лбы к её лбу. Я забыла, что я не Грифон, а лишь добыча – последняя добыча.
Глаза Сигриды наполнились слезами, но она не заплакала: вытерла их кулаком и поборола страстное желание погладить прекрасную шерсть грифоницы, которая холодно мерцала, как снег на серебряной статуе. Девушка просто смотрела, не отрываясь, на легендарное чудовище, чей орлиный профиль резко выделялся на фоне солнца, спрятавшегося за облаками. Её золотой клюв сверкал. И Сигрида видела, как песок сверкает в ответ. Тут и там среди песчинок попадались крупицы золота.
Ход её мыслей нарушил низкий грохочущий голос Олувакима, будто летящая стрела:
– Ну что ж. Она выродок и к тому же трусиха. Я-то думал, мы обнаружим здесь настоящее чудовище, а перед нами всего лишь несчастная куча мусора, последний зачуханный голубь из расы голубей.
Он пожал плечами, его массивные чёрные мышцы передвинулись, как континенты, дрейфующие в ночи. Его люди не двигались – замерли, точно куски дерева. В этой неподвижности было легко не заметить внезапное движение сквозь толпу, но Сигрида его увидела: Олуваким выхватил свой тонкий, изящный кинжал и, сжав его в кулаке на миг, бросил почти небрежно между рукой Сигриды и её рёбрами – прямо в сердце Белой грифоницы.
Как только нож покинул его руку, второй нож вошел ему в спину по самую рукоять; предсмертный крик Короля прозвучал в унисон с последним воплем Белого Чудовища. Оба тела рухнули лицом вниз, и чёрная кровь их сердец пролилась на золотой песок.
Сигрида закричала и, невзирая на скорбь, огляделась в поисках источника второго ножа. Её взгляд метнулся над проклятым пляжем, прочёсывая его в поисках убийцы. Наконец он остановился на черноволосой Томомо, которая небрежно опиралась о тощую низкорослую пальму, скрестив мускулистые ноги.
Рядом с ней стояла женщина, которая могла бы быть двойником погибшего Короля. У неё были такие же длинные волосы с вплетёнными в них золотыми украшениями. Её кожа была такой же глянцево-чёрной, цвета теней среди теней. Вместо золотого королевского глаза у неё был глаз из берилла, зелено-голубой, с белыми прожилками. На её талии оказалась дюжина ножей, все из золота, и висели они спокойно, как колокольчики без язычков.
Пока Сигрида глядела, изумлённая, Томомо взяла руку чёрной женщины в свою и изысканным образом поцеловала. Обе женщины улыбнулись друг другу, и незнакомка, вытянув руку из ладони капитанши, прошагала к трупу Олувакима – её лицо сделалось мрачным, а губы сжались так плотно, что между ними не прошла бы и тончайшая нить. Мгновение она стояла над телом, дыша тяжело и хрипло. Потом одним яростным движением упёрлась ногой в сандалии в массивное плечо короля и вырвала золотой глаз из его глазницы. Аримаспы взвыли от гнева, но стоило женщине бросить на них взгляд, как всё стихло. С мрачной торжественностью она вытащила берилловый глаз из своей глазницы и заменила его золотым. Кровь короля капала с ока, точно слёзы.
– Томми! – воскликнула Сигрида, застывшая от шока и скорби так, что было невозможно даже выбраться из гнезда. – Что происходит? Что ты натворила?
Капитанша покинула своё дерево и присоединилась к женщине, стоявшей над телом короля. Она присела и обследовала труп, забрав несколько крупных золотых украшений из его волос.
– Такова суть пиратства, Сигрида, – проговорила она с сочувствием, продолжая внимательно обыскивать тело. – Олуваким заплатил нам кругленькую сумму, чтобы выследить бедную грифоницу. Олувафанмика заплатила больше. Мы спрятали её в трюме – это было нетрудно. «Непорочность» столь же необыкновенна внутри, как и снаружи, ты сама видела. Думаю, она надеялась, что отец лишь возьмёт одно яйцо, не станет убивать грифоницу. Жаль, что вера в родителей часто не оправдывается. Но не нам выбирать стороны в династических спорах, даже если… – Она подняла голову и устремила на Олувафанмику взгляд, полный влечения. – Даже если одной стороне явно досталась львиная доля добродетели.
Принцесса сердито посмотрела на труп отца и вытащила свой нож.
– Нашему народу более непозволительно возвышаться за счёт убийства Грифонов. Я забираю Окуляр и начинаю новую династию. Этот глаз, последний из всех, будет передаваться от наследника к наследнику, и мы никогда больше не будем выдирать золото из груди невинных зверей. Завершение этого грустного цирка заслуживало того, что я заплатила Томомо… и того, что мне пришлось побыть какое-то время среди пиратов.
Она приятельски ткнула капитаншу в плечо большим кулаком.
– Но в этом наша суть, дочь Олувы, – возразил один из аримаспов. – Без охоты на Грифонов мы лишь странники степного моря. Ты уничтожишь нашу душу! Глаз благословил нас!
– Разве ты не видишь? Все Грифоны мертвы. Охоты не будет, что бы я сейчас ни сказала. Но, если ты осмелишься спорить со мной или посягнешь на мой Окуляр, станешь таким же мёртвым, как гниющий труп моего отца. Если я не устрашилась погрузить свой нож ему в спину, будь уверен, проделать то же самое с твоей спиной мне не составит труда. – Мужчина сердито замолчал, а Олувафанмика с грустью покачала головой. – Они все мертвы, сын Офиры. Мертвы и холодны, как великая пустыня зимой. Око и впрямь благословило нас, но мы были недостойны его Взгляда.
Словно в ответ на её слова, над пляжем вдруг раздалась череда звуков. Всё началось с короткого шороха, который быстро перерос в громкий беспорядочный треск, словно дерево разлеталось в щепки под серебряным топором. Томомо и принцесса вздрогнули, как фазаны на осеннем поле, пытаясь определить источник звука. Аримаспы побелели от страха, будто ожидая, что вот-вот появится призрак их короля и накажет за то, что они покорились его дочери. Но Сигрида всё поняла: яйца у её ног, по-прежнему укрытые золотой соломой, треснули все сразу, чего никак не могло случиться. Их мраморная бело-голубая поверхность покрылась узором трещин, как сапфировая кость, а остатки блестящего золотого желтка выплеснулись наружу.
Из лазурных руин яичной скорлупы неуверенно выбрались три грифончика – два тёмно-синих, почти чёрных, и один с перьями белее первого снега в первую зиму всего мира. Они были размером с диких кошек, и сила уже играла под их цветными шкурами. Малыши отряхнулись, как голуби, забрызгав лицо Сигриды каплями блестящего желтка. На обдуваемом ветром пляже не раздавалось ни звука, только шумел ветер, ударяясь в спины дюжины людей, ни один из которых не осмеливался пошевелиться или заговорить. Тишина была цельная и нетронутая, как глыба обсидиана.
Потом раздался плач. Новорожденные Грифоны обратили изящные головы к нависшему над ними небу и завопили – из их глоток вырвался ужасный крик, точно скрежет когтей по разбитому зеркалу. Никто не мог вынести этот звук: банда аримаспов попадала на колени с плачем, прижимая ладони к ушам, мучимым болью. Только Сигрида не испугалась: звук, который для остальных – даже для Томомо и её принцессы – был ужасным, ей казался простым и красивым, как пение птиц на рассвете. Она подползла к воющим птенцам и осторожно обняла их. Они тотчас же замолчали и свернулись в её маленьких коричневых руках, нюхая её, чтобы уловить запах, и продолжая тихонько плакать.
Вдруг Сигрида кое-что увидела; от смятения и удивления её рот приоткрылся, как сломанная дверь.
Грифоны были уродливыми, неправильными. У синей львиноптицы, что была побольше, не оказалось глаз там, где они должны были сиять, – взамен они моргали на её пушистой груди. У создания поменьше на груди имелись два маленьких отверстия – орлиные уши. А у белого Грифона не хватало клюва. Сигрида с нежностью коснулась груди бледной птицы, на которой безвольно открывался и закрывался человечий рот, чьи розовые губы блестели от золотых слёз.
– Что с ними? – спросила Олувафанмика, подбираясь ближе, чтобы изучить причудливое расположение черт.
Томомо осторожно последовала за своей подругой.
Сигрида медленно покачала головой. На миг она показалась почти аримаспийкой – так много было в её длинных волосах золотого желтка. Она проговорила очень тихо, с почти молитвенной интонацией:
– Они Сорелла. Это новая Сорелла. Разве не видите? Когда Джиота выносила грифоницу внутри себя, она, должно быть, передала Белому Чудовищу своих сестёр и часть самой себя. Последние Грифоны связаны с последней Сореллой… Грифоны связаны с людьми.
Беспомощно хныча, птицы забрались Сигриде на колени. Синяя парочка начала дёргать её за жилетку, распарывая грубые швы клювами. Они рвали ткань с яростным упорством, и вскоре Сигрида осталась в гнезде мёртвой грифоницы почти нагой, если не считать кожаного корсета, которым она прикрывала свои груди. Девушка заплакала от стыда, слёзы потекли по лицу, испачканному песком, а она всё пыталась прикрыть своё уродство руками. Но Грифонам и этого было мало. Белый младенец просунул голову под её руки – терпеливо, не применяя силу, – и распорол кожаные ремни одним движением блестящего когтя.
Сигрида содрогнулась от рыданий: три её груди вдруг оказались обнажены, и все незадачливые гости грифоньего пляжа могли любоваться уродливым телом. Она не знала, куда смотреть, чтобы не встретиться взглядом с почти незнакомым человеком, глазевшим на её голое тело. Она попыталась прикрыться бесполезными лохмотьями. Но даже в тот момент она не боялась птиц, прижимавшихся к ней. Они старались быть к ней как можно ближе и влюблённо ворковали, чуть ли не мурлыкали от удовольствия. Её груди вдруг потяжелели, и она почувствовала, что кожа, которая никогда не знала солнца, странным образом натянулась.
Белая грифоночка приникла к ней и понюхала её ухо, издавая нежное квохтанье и щебет. Она положила свою длинную шею на шею Сигриды, её человечий рот открылся и с бесконечной нежностью начал сосать правую грудь. Голодные синие братья последовали примеру сестры и вцепились клювами во вторую и третью груди. Поначалу они были очень грубы, непривычные к человечьим женщинам, даже прокусили нежную кожу девушки своими жадными клювами.
Сигрида, потрясённая, обняла трёх младенцев; слёзы лились по её щекам, как реки с тайных гор, смешивались с кровью от ран, причинённых голодными чудовищами, и с молоком, что наконец потекло из её тела, чтобы напоить последних Грифонов.
Святая Сигрида из Гнезда тихонько засмеялась, как часы, начинающие отбивать время.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
– Это было первое из Чудес Святой Сигриды, – сказала бритоголовая здоровячка, когда последние красные лучи солнца исчезли за горизонтом, точно высыхающая кровь. Свет будто скользил по её татуировкам и собирался на широком лице. – Об остальных ты узнаешь, когда будешь восходить к вершине Башни – о Чуде Бороды, о Чуде Безводного моря, о Чуде Ограбления Янтарь-Абада.
– Что? – воскликнула я. – Разве можно рассказать только часть истории? Сигрида осталась, чтобы нянчить грифончиков, или вернулась на корабль с Длинноухой Томомо, чтобы стать пираткой? Олувафанмике удалось сохранить Окуляр? Не началась ли война? А Грифоны выжили? Я слышала, они вымерли, это неправда? Они прячутся в каком-нибудь гнезде, куда ни одному человеку не добраться?
– Истории, – невозмутимо сказала зеленоглазая Сигрида, – похожи на молитвы. Неважно, когда они начинаются и заканчиваются, важно, что ты преклоняешь колени и говоришь нужные слова. Когда мы рассказываем историю Святой Сигриды, открываемся ей… мы не можем закрыться, даже если историю придётся продолжить в другой день. Каждое чудо Святой охраняют женщины на разных этажах Башни. Если решишь учиться вместе с нами, будешь одновременно возноситься в физическом смысле и стремиться к просветлению по примеру Сигриды.
Здоровячка встала и погасила фонарь у входа в Башню.
– Хотя бы расскажи, как она умерла. Это была героическая смерть? Она погибла, спасая Грифона или своих товарищей? Ведь смерть такой женщины не могла остаться незамеченной.
Сигрида рассмеялась.
– Смерть женщины – самое ценное, чем она владеет. Но я тебе расскажу, если ты решишь, что наша Башня станет твоим домом и матерью до конца дней.
– Я решила, – ответила я с замиранием сердца. Женщины, в чьём распоряжении такие истории, точно были сильнейшими и мудрейшими из всех женщин.
– Святая Сигрида из Гнезда исчезла на пятидесятом году жизни. Томомо, хоть и была великолепной капитаншей, в конце концов устала от пиратской жизни. Она удалилась на покой и передала штурвал Сигриде, своему любимому монстру. Через несколько лет «Непорочность» исчезла в море – её поглотил Эхиней[27], морское чудовище, чей размер не объять разумом. Говорят, в его брюхе поместились бы целые города и что шкура у него – как панцирь черепахи, её не пронзить ни одним копьём. Он цвета самого моря, так что корабль может оказаться проглоченным до того, как его капитан догадается о присутствии чудовища; Грифон по сравнению с ним – карлик. Вот что за тварь проглотила Святую Кипящего моря. Никто не выжил.
Я стояла в синих сумерках, потрясённая. Как могло случиться, что женщина вроде Сигриды погибла не в битве на мечах, защищая невинных?
Я была так молода…
Сигрида задумчиво потёрла бритую голову и хмуро посмотрела на меня, будто размышляя, стоит ли выдавать секрет.
– Кое-кто в Башне верит в пророчество, которое мы называем Ересью заблудших. Эти женщины говорят, что Сигрида не умерла, а лишь потерялась, заблудилась в похожем на пещеру брюхе Эхинея-кита, и что она жива. – Женщина кашлянула, явно намекая, что это чушь, не предназначенная для ушей новообращённых. – Они черпают надежду из фрагмента древней песни, передаваемой от матери к ребёнку на севере мира, где пропала «Непорочность».
Сигрида закрыла глаза и негромко запела:
О, воспой же корабль с парусами из листьев, И ту деву, чьи руки держали штурвал! Захлебнулась она, утонула она, В бездне алый корабль пропал! Но не стоит искать кости девы на дне, Ведьмы знают – волна её ждёт. Сиротка разыщет, медведик обнимет, А волк с пути их собьёт. Сиротка, медведик и дева домой Поплывут беззаботно – вперёд и вперёд, Заскользит над волной Алый парус шальной, А волк с пути их собьёт, С пути он корабль собьёт.Голос Сигриды был хриплым и низким, как весло, рассекающее тёмную воду. Когда она открыла глаза, в них появился странный блеск, нежный и печальный. Тогда я поняла, что эта Сигрида была тайной еретичкой, и спрятала улыбку. Я тоже поверила в ересь и, хуже того, вообразила, что мне предназначено разыскать Святую. Разве в «Книге Падали» записаны не те же слова, и разве псоглавцы шептали их, не подразумевая меня?
Ничто в моей жизни не породило боли сильнее, чем вера, которую я обрела тогда.
Стало совсем темно, Сигриду молча сменила другая женщина, худощавая и мускулистая, но тоже бритая наголо. Передав свой пост, охранница с кожей цвета специй взяла мою руку в свою громадную ладонь, и я впервые вошла в Башню Святой Сигриды.
Я не покидала её стены семь лет.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
– Вот и всё, что я могу рассказать тебе про свой первый год в Аль-а-Нуре, – проговорила Сигрида, ведя пальцем по тёмным узорам на столешнице, которую десятки лет украшали пятна от донышек пивных кружек. – Остальное – секрет, ведомство сигрид, больше я не могу поведать непосвящённой душе о радостях, которые испытала, и ужасах, перед которыми преклонялась в тех стенах. Это все равно, что пытаться объяснить глухой женщине, как звучит море перед штормом. Меня приняли в Святое се́стринство – я получила имя. Мы все Сигриды, но у каждой есть звание. Святая, ставшая всем нам матерью, была Святой Сигридой из Гнезда. Женщина, рассказавшая мне её историю на ступенях Башни, была Святой Сигридой Неглубокого киля. Я Святая Сигрида Путей.
– Постой-ка! – воскликнула Седка. – Это не может быть концом истории! А как же Чёрная папесса? Почему ты покинула город? Ты и впрямь не встречалась с Бадмагю семь лет? Как можно прекратить рассказ, если ещё столько всего осталось? Это как съесть половину еды на блюде.
Седка, впервые получив в своё распоряжение много слов, уложенных штабелями, чуть не подпрыгивала от возбуждения. Сигрида издала невесёлый грубоватый смешок.
– Ну да, ты права. С моей стороны это невежливо – ещё кое-что надо рассказать. Но, когда я говорю о Матери и Мачте, начинаю тонуть в её истории и забываю про остальные. Так устроена религия. Эйвинд должен заново наполнить наши кружки и дать нам тарелку свежего хлеба с черничным джемом, чтобы поддержать историю. Я женщина немаленьких размеров, а нанизывание историй точно жемчужин на леску – задание не для пустых желудков.
Эйвинд появился, двигаясь довольно грациозно и почти бесшумно, чего Седка никак не ожидала от человека его комплекции, предоставил им свежую еду и напитки. К её удивлению, затем он подтащил к столу тяжёлый стул и уселся, намереваясь послушать Сигриду и устремив на неё взгляд усталых глаз с нависшими веками. Та вдруг смутилась, как медведица, застигнутая за вычерпыванием мёда из улья. Но всё же сделала большой глоток, умяла несколько кусков хлеба и заговорила опять – взгляд её при этом прыгал с Эйвинда на Седку и обратно, словно кузнечик.
– Так принято – новички, которым только обрили головы, не выходят из Башни целых семь лет. Ступив за её порог впервые, они попадают не на мягкую траву, а на палубу маленькой лодки, и каждому аколиту надлежит провести цикл времён года, курсируя по реке на своём судёнышке, не ступая на твёрдую землю. Лишь после этого позволяют вернуться в Грезящий город. Но, когда минуло несколько месяцев моего уединения, Бад вымолил для меня исключение из правила. Мне не разрешили пересекать границу Башни, но он пришел к воротам, а я сидела за ними, сверкая свежевыбритым черепом, и мы говорили как старые друзья, давно нуждавшиеся в поддержке. Ибо Чёрная папесса вошла во Врата Аль-а-Нура.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
– Полагаю, ты теперь Сигрида, верно? – спросил Бад и почесал себя за большим лохматым ухом.
Я сидела, умиротворённо скрестив ноги, и старательно изображала ревностную послушницу.
– Разумеется, – нараспев ответила я настолько глубокомысленно, насколько могла.
Шелковистая зубастая морда Бада дружелюбно оскалилась. Он наклонился над забором и хрипло прошептал:
– Всегда считал, что это красивое имя.
Я хихикнула и протянула руки, чтобы мы смогли обняться, невзирая на закон, воздвигший неуклюжую преграду в виде двери, в которую он не мог войти, а я – выйти. Он похлопал меня по спине и с нежностью потёр мою стриженую голову, где когда-то росли красивые волосы.
– А тебе идёт быть морским волчонком!
– Ох, Бад, я по тебе скучала!
– Не ты одна, милая, – мы все по тебе скучали. Мы бы присматривали за тобой в нашей Башне, но хорошо, что ты здесь, – иной раз женщине надо быть с себе подобными. Но я пришел не для того, чтобы сказать, как ты хорошо выглядишь, или чтобы трястись над тобой от обожания, как старый волк, который нюхает одного из своих любимых детёнышей! Великие вещи происходят в Городе – вещи, о которых ты не можешь узнать, запертая в увешанной парусами Башне. Я пришёл рассказать, чем всё закончилось с Папессой!
– Закончилось?! Я пропустила битву?
Разумеется, я была в ярости.
– В каком-то смысле, – кивнул Бад, сдерживая смешок. – Но не переживай, щеночек мой, я пришел рассказать тебе о прекрасном состязании, великой дуэли Яшны и Ранхильды в центре Города.
Тут я опомнилась и отступила в знакомые тени Башни.
– Но почему я должна узнать об этом, Бад, когда другие девочки погружены в учёбу и не бегают к воротам, как принцессы к ухажёрам? Если мне суждено это узнать, разве не стоит подождать, пока Святые всё расскажут нужным образом и в нужное время? – Я понизила голос до шепота. – Я хорошая девочка: не хочу, чтобы обо мне думали обратное.
Карие глаза Бада блеснули.
– Ты хорошая девочка, моя юная Сигрида. Я никогда в этом не сомневался. Я говорил с Сигридой Неглубокого киля, ты моя до самого вечера. Что касается права знать, которого нет у других девочек… Будь ты не такой прилежной ученицей, уже всё узнала бы сама, потому что история распространялась по Башням как пожар в деревне, где у всех домов соломенные крыши. Но ты заслужила это услышать, прежде всего, потому, что пришла в Город вместе с нами, на крыльях нашей ужасной миссии. Ты стала частью начала этой истории и вскоре станешь частью её завершения.
Бад устроился возле дверного косяка и взял мою руку в свои. Он чуть обнюхал моё лицо своей узкой мордой и тихонько зарычал от удовольствия, как отец при виде щенков, которые растут быстрыми и сильными охотниками.
– Послушай, любовь моя, и я расскажу историю, которую будут повторять в переулках Аль-а-Нура до тех пор, пока будут стоять Башни, отбрасывая тени на улицы.
Сказка об Игре
Конечно, мы знали, что рано или поздно она придёт, нагрянет, ведя за собой все орды Шадукиама и ужасы, которые Розовый купол мог произвести на свет. Она нас не разочаровала и явилась верхом на огромной чёрной антилопе с изящными ногами и пламенеющими копытами, с мрачными глазами, которые будто смотрели сразу во всех направлениях. За ней шли её легионы. Джинны с бородами из дыма и чарами в седельных сумках. Одноноги, выбравшиеся из гетто, в латах с железными шипами на ногах. Кентавры и лучники с десятком рук; даже несколько мантикор, выведенных в невесть каких зловонных клетках. И все эти люди со сверкающими мечами, извергавшие боевые крики, точно обезумевшие вороны, были опьянены ненавистью к Золотому городу и обожали бледноволосую Папессу.
Однако во Врата Лосося она вошла без своей проклятой армии, велев всем оставаться на зелёных полях снаружи кольца Башен. Её послушались. Они перестали кричать и улеглись на клевер, будто пришли на пикник в сельской местности – так безоговорочно ей подчинялись.
Ранхильда Первая-и-Вторая, Чёрная папесса Шадукиама, вошла в Святой город одна, даже без ножа на поясе. Она вошла, словно послушница, и при ней не было ничего, кроме рваного платья, трепетавшего на ветру; её бледные волосы струились за ней, как боевое знамя.
В полном одиночестве она прошла в центр Города, к Башне папессы, и никто не осмелился её остановить. Но все, кто мог отложить свои занятия, последовали за ней, точно живая волна. Медленно и беззвучно скользила она по вымощенным синими камнями улицам к простой Башне с окнами, занавешенными оленьими шкурами, и ступила в неё уверенно, как если бы никто не мог оспорить её право на это – будто это был её собственный дом.
Яшна совещалась с нами за закрытыми дверьми, как нередко случалось в последнее время. Мы с братьями тотчас зарычали и вздыбили шерсть, готовые защищать нашу Папессу от любой мерзкой и грязной магии, которую Ранхильда могла принести с собой в это священное место. Но Отступница с лицом столь же прекрасным и ужасным, каким оно осталось в глубине наших сердец, подняла руки в дружелюбном жесте.
– Мир, дети мои! Я пришла не сражаться с вами и не досаждать вашей бедной Яшне. Пригладьте свои благородные шкуры, и пусть кровь в ваших жилах остынет. Я пришла с дружественной миссией. К тому же мы уже знаем, мои храбрые псы, что вам меня не одолеть. Поэтому говорю ещё раз: успокойтесь.
Яшна ничего не сказала, но по её лицу скользнула неуловимая улыбка, как лист, шуршащий на лёгком осеннем ветру. Варфоломей, стоявший рядом с ней, прорычал:
– Миссия дружбы? С такой бандой тварей за спиной?
Ранхильда спокойно улыбнулась:
– Я привела их для самозащиты. Вы ведь не ждёте, что я пересеку врата Аль-а-Нура, не имея с собой никакого оружия против Драги, кроме собственной шкуры? Я слишком хорошо знаю, какая судьба ждёт невинных дев, навлекших на себя гнев Башен.
Папесса подняла изящные руки и потрясла золотыми оковами, которые висели на них, как браслеты танцовщицы. Высокий тонкий звук разнёсся по комнате.
Яростные глаза Валтасара превратились в щели.
– Ей нельзя доверять, Мать. Ты должна призвать Драги, пока она не дала волю магии, что у неё наготове.
Смех Ранхильды был подобен звону стекла или звуку, с которым ломается лёд на поверхности бурливой реки.
– Ты понимаешь, милый волк, что я могла бы мало спрятать на себе, – сказала она, жестом указывая на большие прорехи в своём фиолетовом платье. – Но довольно – я пришла не для разговоров с теми, кого уже принимала в собственном зале. Я пришла договориться со своей сестрой и покончить с недопониманием между нами.
Яшна заёрзала в кресле и уставилась на Чёрную Папессу, чья улыбка, казалось, излучала прощение и дружелюбие.
– Очень хорошо, дитя моё. Говори со мной, – сказала Яшна ровным и глубоким голосом.
– Халиф провозгласил меня Папессой по праву, и не один раз, а два. Он объявил Аль-а-Нур территорией Халифата и требует дань. Ты не можешь отвергнуть подобные требования – даже Небесный Город должен подчиняться Земным Законам. Кроме того, я была помазана задолго до тебя, милая госпожа, в те дни, когда Цвети совершила своё вероотступничество. Город по праву мой. Я заберу его силой, если придётся, но мне бы не хотелось этого делать. Отрекись в мою пользу, и я позволю тебе отправиться в изгнание в Башню Мёртвых, твой дом. Всё пройдёт мирно, Город будет жить как всегда. Ты должна понимать, что Аль-а-Нур поступил со мной несправедливо, и тебе должно быть ясно, что я не злая женщина… Прошу то, что принадлежит мне по велению Халифа и по воле Небес.
Яшна поднялась из кресла, шурша шлейфом желтых одежд, и, протянув руки к Ранхильде, взяла её тонкие белые запястья в свои иссушенные коричневые ладони.
– Никто не будет отрицать, что с тобой, юной и невинной, жестоко обошлись, – и дело не только в Гифран, но и в самом Халифе. Мы знаем твою печальную историю и скорбим по нежной и пылкой девочке, которой ты когда-то была. Если бы мы могли вернуть тебе ту жизнь, поверь, мы бы сделали это немедля. Но сие не в нашей власти… Мы бы даже не смогли избавить от скверны тело, в котором ты начала странную и чуждую жизнь. – Яшна помедлила, её глаза были полны жалости, как колодец после бури наполняется водой. – Но ты не можешь думать, что я просто передам тебе Город. Ты знаешь – твоё странное сердце знает, – что твоя просьба несправедлива. Дитя, что пришло в Шадукиам, будучи в неведении об интригах, творившихся вокруг, по-прежнему внутри тебя, и оно знает, что тебе не получить желаемое.
На лице Ранхильды продолжала играть лучезарная, но холодная улыбка; её руки сжали руки Яшны.
– Тогда я сожгу его дотла, и мои кентавры будут ссать на твои алтари, обливать вином каждый священный текст, какой найдут в этом скопище лачуг. А когда я закончу, Халиф пришлёт своих мужчин, чтобы те изнасиловали твоих монахинь и по камешку перенесли этот город падали в его Сокровищницу.
Её улыбка сделалась шире и ласковее. Выражение лица Яшны не изменилось.
– Халиф не может и не станет нас трогать. Отчего, по-твоему, он устроил представление с маленькой девочкой в своём Хранилище, а не напал на нас открыто? Почему он ни разу не привёл войско к нашим границам? Ему известно, что очаровательные и любезные, но растерявшие былую славу Драги – лишь десятая часть той силы, которой мы владеем на самом деле. Сами небеса расколются и с головой зальют цементом любого солдата, который осмелится коснуться тела жрицы из этого Города. Ты это узнаешь, если твои монстры ринутся к Вратам. Поверь, это правда – я принадлежу мёртвым, а Мёртвые не нуждаются в вымысле. Ты думаешь, что мы в тупике, и во избежание кровопролития я сдамся твоей улыбке или поцелую. – Яшна отпустила руку Отступницы; её тёмные глаза сверкнули, как кремень, ударивший о кресало. – Мы не в тупике, и Мёртвых не заботит кровь, пролитая живыми. Заведи свою армию во Врата Лосося, и, клянусь Семью Небесными трупами, ещё до восхода луны от них не останется и лоскута кожи.
Улыбка Ранхильды чуть померкла, её веки словно дрогнули, и на мгновение – всего лишь на мгновение – я увидел её такой, какой она была, наверное, до того, как попала к Халифу, и – да согнётся Ветвь прощающая – мне стало жаль её. Мгновение мелькнуло и прошло, ангельская улыбка вернулась, став жестче и ярче прежнего.
– Ты не испугаешь меня клятвами мертвецов, старуха. Я мертва – призрак, ступающий по земле. Я пересекла тени, пока ты и твои жрецы баловались с игрушечными надгробиями в своей Башне. Не говори о том, чего не знаешь.
Нежность вернулась во взгляд Яшны, как весна возвращается в гущу сосновых ветвей.
– Остановись, дочь моя. Не стоит хвалиться передо мною своим разложением – я тебе верю. Но у меня есть предложение, если хочешь, выслушай. В знак признания того, что Гифран изувечила твоё первое тело, я дам тебе единственный шанс заполучить папство по-настоящему.
Ранхильда азартно подалась вперёд, чуя победу.
– Ты желаешь править Грезящим городом и должна преуспеть во всём, что ему свойственно. Сыграй со мной партию в ло-шэнь. Если победишь, я отправлюсь в уединение, как ты и просила, а ты взойдёшь на Башню без малейших препятствий и битв. Никто не оспорит твою власть, ты будешь править так хорошо, как сможешь. Но, если проиграешь, – распустишь свою армию и примешь обеты в одной из наших Башен, войдёшь в неё как послушница и посвятишь себя Городу на весь остаток своих дней. В Миропомазанном граде так решаются споры. Если хочешь править нами, веди себя как мы. Покажи мне, что ты истинная Папесса и превосходишь нас во всём.
Ранхильда хотела рассмеяться, но из её розового рта не вырвалось ни звука. Её глаза блестели как снежинки на солнце.
– Ты шутишь! Одна игра против спора, который длится пятьсот лет?
– Если бы одна из моих предшественниц не причинила тебе вред, я убила бы тебя на месте.
Ранхильда надолго замолчала, изучая свою противницу. В Башне не было иных звуков, кроме дыхания, – все мы дышали быстро и неровно в ожидании последней битвы в новорожденной войне. Наконец Ранхильда вроде приняла решение и подалась вперёд; её мерцающие волосы скользнули по запястью Яшны. Она приложила ладонь к лицу старой женщины почти как сестра, успокаивающая другую сестру прикосновением; наклонила голову и прижала губы к сухому рту Яшны, крепко её поцеловала, передавая свою мерзкую магию через губы в тело древней Папессы.
Когда поцелуй завершился, Яшна не изменилась – быть может, лишь её улыбка сделалась чуть грустнее и печальнее, чем раньше.
– Нас обеих сотворили Мёртвые, дорогая. Давай не будем и пытаться одурманить друг друга дешевыми чарами. Нам это не к лицу. Сыграй в мою игру, как я сейчас сыграла в твою, или возвращайся к своему войску и убедись, есть ли у нас оружие пострашнее хвастливых Драги, чтобы не пустить язычницу в свой дом.
На мгновение мне показалось, что Ранхильда вот-вот заплачет. Даже не знаю, с чего я взял, что это высокомерное лицо может разрыдаться, но так вышло.
– Я сыграю, – сказала Ранхильда негромко и с достоинством, можно сказать, свойственным Папессе. Яшна взяла её за руку жестом бабушки и повела во двор позади Башни. Мы с братьями вынесли громадные церемониальные доски на солнечный свет, где монахини и монахи, жрицы и оракулы, братья и сёстры собрались, чтобы наблюдать за величайшей игрой в истории Аль-а-Нура.
Разве я могу описать, как вьётся нить единственной игры в ло-шэнь, не говоря уже о величайшей игре из всех, что попали в анналы Сфер? Должен ли я сказать, что толпа была тихой, как трава на лугу в тихий летний день? Поведать, как Торговцы, Оракулы и Отцеубийцы старались подойти поближе, а живые и мёртвые заглядывали им через плечо, чтобы увидеть, как Отступница занимает своё место у доски? Что в волосах Ранхильды будто застревал свет, а вокруг её головы засиял ореол? Что Яшна оставалась прежней Яшной, спокойной и тихой, как отражение звезды, и голова её была седой и торжественной, но не пылала? Что всё это выглядело картиной, а не событием, которое разворачивалось прямо на наших глазах? Или мне стоит произнести речь о природе игры, её совершенной сложности, скольжении каменных фигур по круглой каменной доске? Что возникло первым, Город или Игра? Разумеется, Игра – как иначе могли Башни и дороги расположиться в соответствии с тысячами комбинаций ло-шэнь? Однако в Игре есть фигуры, называемые «пагоды-башни», и «драги», и «папессы», и «боги»…
Если Город был первым, возможно, Игра – лишь тусклая имитация Аль-а-Нура во всём великолепии его сапфировых мостовых. Но если Игра существовала в сумрачные годы до рождения света Грезящих Башен, возможно, есть в её ходах какой-то секрет, пророчество, которое могло бы сообщить нам, если бы мы сумели его прочесть, судьбу всех крыш и дверей. Возможно, «папессам» в игре надлежит сразиться друг с другом лишь потому, что однажды две Папессы должны сразиться в самом Городе. Вероятно, все жизни, потраченные на изучение Игры, должны были завершиться на самой высокой ноте в то утро, тонкое, как пронзённый лучами солнца костяной фарфор.
Не знаю, маленькая Сигрида, начали ли они учить тебя многочисленным боевым построениям ло-шэнь. Если нет, скоро начнут. Мы проводим половину жизни изучая эту Игру; все междоусобные споры решаются с её помощью, ибо целью Игры является сбросить «бога» противника – единственную фигуру, что располагается в центре доски, внутри тринадцати концентрических сфер, и не может двигаться, если не считать движение, необходимое для того, чтобы повергнуть собрата. Такова поэзия и политика.
Так вышло, что две женщины сидели тихие, будто монахини, за большой синей доской размером со щит великана. Их руки мелькали над фигурами как взмахи вороньих крыльев; светлые «триремы» и тёмные «пагоды» подымались и падали; ряды «драги» валились с одного удара. Сложные комбинации росли точно стеклянные паутины, и «папессы» были похожи друг на друга, словно сёстры: чанъэ[28], тянь-фэй[29], па-на и пань-нян. Долгое время не было очевидного преимущества, фигуры просто кружились по доске, как осенние листья, захваченные вихрем. Грива Ранхильды обвивала её бёдра, как кошачий хвост обвивает задние лапы; полуулыбка Отступницы не угасла, даже когда Яшна искусно выполнила комбинацию «ман-цзинь-и»[30] и смела с доски её третью «папессу».
Я смотрел, как солнце движется над их опущенными головами, торя свой путь сквозь небеса. Битва за город происходила без единого слова, между бабушкой и внучкой. Ни я, ни мои братья, ни ряды Драги с их блестящими серебряными шлемами не могли повлиять хотя бы на единственное движение какой-нибудь «пагоды» от сферы к сфере.
Конечно, мы сходили с ума от необходимости неподвижно стоять вокруг. В тишине моя шерсть потрескивала, будто её подожгли. Но мы все, хоть и происходим из разных Башен, привыкли ждать, пока наши госпожи творят магию.
Наконец Яшна повела свою «трирему» вперёд, по быстрой и резкой диагонали – в точности как корабль скользит между потоками ветра, чтобы остаться на курсе. Собравшиеся один за другим затаили дыхание. Блестящая, вырезанная из тёмно-синего камня фигура в виде корабля с наполненными ветром парусами, завершила манёвр «шунь-и фу-жэнь»[31]. Все её четыре «папессы» стояли вокруг центральной Сферы, а «пагода-башня», гладкая и блестящая, – в следующем кольце. От такой атаки не уйти, и синие как море глаза Ранхильды сверкнули от гнева, увидев то же самое, что видели мы: её «бог» был пойман, не осталось ни одного хода для его спасения.
– Шэн-му[32], дочь моя. Я убила твоего бога.
Яшна улыбнулась своей особой улыбкой – то была улыбка матери, которая одновременно сияет от гордости за успехи своего ребёнка и смягчается от печали из-за его неудач. Потом она протянула руку над доской, на которой шла битва, и схватила «бога» Отступницы с центральной Сферы. Держа гладкую синюю и прозрачную, точно вода на свету, колонну за концы обеими руками, она совершила ритуальный поклон и сломала фигуру пополам. Нужна великая сила, чтобы закончить Игру старым способом, способом первых нурийцев, чьи честь и позор измерялись числом сломанных «богов» на алтарях.
Ранхильда, стоит отдать ей должное, взяла обломки и в свой черёд поклонилась. Лицо её застыло, но щёки горели – от гнева или унижения. Я так и не понял, от чего. Она сжимала фигурку своего «бога» в кулаке до тех пор, пока из её ладони не закапала густая вязкая кровь.
Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
Бад замолчал и потянулся на солнце, поглаживая шелковистую морду сильными руками. Снег моей Башни лениво кружился вокруг него, не замечая тепла солнечных лучей.
– Войско ещё у Врат? – спросила я чуть дыша.
Он лишь оскалился.
– Не могу сказать, что понимаю её, видишь ли. Мы с братьями в сопровождении Драги повели её к Вратам. Там была великая армия, чёрные с красным флаги полоскались на ветру. Я думал, она прикажет им сровнять Город с землёй или попытается снова поцеловать нас и свести с ума, чтобы мы присоединились к ней. Думал, она призовёт какого-нибудь ужасного духа и пронесётся по синим улицам Аль-а-Нура, точно яростный ветер. Разве женщину вроде неё удержит клятва? Но она не сделала ничего подобного, лишь смотрела на свою орду без единой слезинки в серых глазах. Потом медленно сняла золотые кандалы со своих запястий и бросила их на сухую землю. Её кожа была красной и воспалённой там, где они ей натирали. Она на мгновение подняла белую ладонь, и воздух над нею затрещал серебряным и белым, будто там горела снежинка. Папесса повернула ладонь, и искрящийся воздух метнулся к кандалам: они исчезли, не оставив даже пыли.
Кинокефал покачал головой, будто не веря собственным словам.
– Когда цепи исчезли, вся армия замерцала и исчезла вместе с ними. На её месте остались несколько тощих ящериц, дикие кошки и одна лошадь – такая старая и забитая, что её рёбра можно было пересчитать как обручи на бочке с вином. Это было представление, чары и миражи. Ранхильда стиснула зубы. «Одно дело, – прошептала она, едва справляясь с гневом, – вызывать их любовь и верность под Розовым куполом, где золото и красота могут купить любое сердце. Другое – повести их через равнины и бросить на город, который, по их убеждению, полон ведьм и мессий… И совсем другое – вести их в теле мёртвой девушки, знающих, что я украла его, и считающих меня И, которого надо бояться, но ради которого ни один не рискнёт своей жизнью. Они бы даже не захотели умереть в моём присутствии, страшась, что я захвачу их тела. Они и не собирались идти. – Она упала на колени, терзая свои лохмотья. – Что мне было делать? Пятьсот лет, а они не хотели идти! Я ведь должна была попытаться, верно? Ради ребёнка, которым когда-то была».
Я потрясённо подалась назад. Всё случилось, когда я укрылась среди молитв и учёбы, не зная ничего, кроме икон Святой Сигриды и морских фонарей. Я не в первый раз возжелала совершать такие великие дела – Игра, армия, падение Чёрной папессы – и быть их свидетельницей.
Я никогда не была по-настоящему хорошей ученицей.
Но пока я в сердце бунтовала против моей Башни, в отдалении послышался громкий шум. К Башне Святой Сигриды двигалась толпа, вздымая тучи пыли, как корабль, оставляющий позади белый след на воде.
В центре скопища людей шла женщина с волосами цвета бледного золота, что украшали её чело как корона; на ней было надето тёмно-фиолетовое платье.
Я встала, чтобы их поприветствовать, но у меня пропал голос, и мои колени дрожали. Чёрная папесса, переставшая быть Папессой, шла в новых оковах из обычного железа, тусклых и серых. Её голова была опущена – от гнева или от стыда, я не поняла.
– Ей дали возможность выбрать, как тебе когда-то, и она выбрала сигрид, – сказал Бад и протянул руку через решетку, чтобы легко коснуться моей головы. – Что ни говори, она с достоинством принимает наказание, назначенное ей землёй, в которую упали семена. Ты должна её принять.
– Нет! Я… я не могу! Я всего лишь послушница и не могу принять новую сигриду!
– Даже послушница знает, что та, которая сторожит дверь, должна провести посвящение любой новенькой, которая объявится за время её вахты. Теперь это твой долг.
Ранхильда подняла голову и посмотрела на меня, и мне не стыдно признаться, что я никогда не видела ничего красивее её серебристого взгляда, той глубины чувств, печали и подавленной ярости, что была в её холодных глазах. Они оглядели меня со странной тоской. Когда она заговорила, в её словах не чувствовалось жизни, они казались мёртвыми и пустыми, потому что она повторяла то, чему её научили тюремщики и что они вынудили её сказать. Голос был грубым, точно шелк, который рвётся на острых гранях бриллиантов. Я поверила, на самом деле поверила, что она хотела одного – исчезнуть в Башне и никогда больше не появляться.
– Прошу, Святая Сигрида, укрой меня от шторма и научи править сквозь тьму, ибо я заблудилась и не вижу берега.
Я ненадолго застыла. Потом медленно протянула ей руку и прошептала:
– Идёмте, госпожа, я остригу вам волосы.
Её ладонь, жесткая и холодная, скользнула в мою.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
Сигрида с нарочитой сосредоточенностью принялась вычищать из-под ногтей грязь и волокна пеньки. Она внимательно их разглядывала, избегая смотреть в бледные глаза Седки.
– Тут, малышка, я перестаю быть героиней своей истории. Семь лет пролетели, а за ними и год во власти течения реки. Я проводила время почти так же, как прочие святые, – читала, молилась, изучала карты небес и морей; маленькие золотые Грифоны и их младенчики освещали мне бесчисленные манускрипты. Мои волосы отросли, и я не стригла их, как многие другие, желавшие показать смирение перед Звёздами и служившей им Святой Сигриде. Я же верила, что благословенна, избрана. Я верила… – здоровячка помедлила и скривилась, закрыв глаза, будто её рот заполнился желчью, – верила, что я и есть сиротка из пророчества. Ведь я одна в целом мире, разве нет? Моя мать была жива, когда я покинула отчий дом, но, возможно, она умерла, и её холодное тело лежало на куске льда в храме, и мои сёстры хлопотали над ним. Таковы были мои глупые размышления. Я охотнее поверила бы в то, что моя родная мать мертва, чем в то, что в старой балладе говорилось не обо мне. Я отращивала волосы, потому что знала: волки сбили меня с пути, и моя судьба – разыскать потерянную «Непорочность» и её капитаншу.
Эйвинд одним глотком осушил содержимое кружки и фыркнул – тихонько, насмешливо. Сигрида печально улыбнулась.
– При первой возможности я покинула Башню и Грезящий город и отправилась в море на своём кораблике: последнее задание сигриды заключается в том, чтобы собственноручно построить корабль, довести его корпус и паруса до совершенства и доказать, что на нём можно выйти в море. В день испытания моё судно повело себя прекрасно, однако, вместо того чтобы вернуться и узнать, как меня оценили, я уплыла прочь, стремясь к горизонту. Год за годом я искала любые следы Эхинея и истории о его появлении. Один за одним я прочёсывала матросские притоны и зловонные таверны в поисках кого-нибудь, кто мог бы рассказать мне, где обитает эта тварь. Как нечто столь громадное могло спрятаться от меня? Я ничего не нашла. Ни одного слушка о чудовище. Многие вообще слышали о нём впервые. Наконец я была вынуждена признать, что, вероятно, ошиблась, моя мать жива, а я – не женщина из пророчества. Когда эта истина снизошла на меня, как камень опускается на дно колодца, я умерла. Умерла для мира. Я была безутешна и в скорби своей поплыла навстречу шторму, которого мой бедный кораблик не перенёс. Его разнесло на части, а меня выловил из моря муринский рыбак – мой рот был забит водорослями, а губы посинели, точно сапфиры. Рыбак растёр мои конечности, вернув их к жизни, очистил рот от похожих на верёвки листьев и кормил меня пустым супом, пока я вновь не встала на ноги. Мурин находится далеко на севере, это последняя часть мира, которую почтил визитом корабль Святой Сигриды вместе с её командой. Неплохое место, чтобы перетерпеть остаток отпущенных мне дней.
Сигрида посмотрела на Эйвинда, и странная туча пробежала по её широкому лицу.
– Были и другие причины остаться. То, что прячется в тайных углах этого города, я считала давно мёртвым. Но не мне, опозоренной спесивице, искать встречи с ним. Взамен я вяжу сети для рыбаков в доках и напиваюсь, чтобы хоть во сне забыть, как я вообразила себя вершительницей судеб и героиней, предназначенной для величайшего задания, о котором могла помыслить любая сигрида.
Седке показалось, что в усталых глазах Сигриды блестят слёзы, но она не была уверена. Девочка робко положила руку на пальцы старшей женщины – те были тёплыми и коричневыми под её ледяной ладонью.
– Когда мои родители умерли, – тихонько проговорила Седка, – и волосы за одну ночь превратились в серебро, я решила – это знак. Знак от Звёзд, что я их особенная дочь, они заменят отца и мать. Я думала, мне уготовано нечто большее, но не получила даже сетей, чтобы чинить их каждый день. Я побираюсь на улицах ради кусочка рыбы и хлебной корки, умираю от голода в брюхе недостроенного корабля почти каждую ночь. Незавидная участь, но моя. Без неё я бы не встретила настоящую, живую, Святую.
Седка коснулась своих длинных мерцающих волос, которые всегда вызывали у неё трепет и стыд.
– Боюсь, я плохая Святая для тебя, моя девочка. Может, худшая из всех…
Слова Сигриды прервал грохот – дверь «Руки» распахнулась, и в общий зал ворвалась шумная компания из трёх существ, которые безудержно смеялись, точно стая енотов, затеявшая свару над кучей отбросов. Двое громадных мужчин с узлами мышц под татуированной кожей – каждый её дюйм покрывали многоцветные изображения морских битв и русалок, за которыми струились шлейфы из водорослей, рычащих тигров, светящихся маяков, – несли массивную лохань, до краёв наполненную водой. Она проливалась на пол при каждом их шаге, и, когда они добрались до барной стойки, половина зала плавала.
В лохани сидела женщина с зелёными жаберными щелями на горле, буйной копной зелёных волос на голове и болезненно-бледной кожей, точно рыбье брюхо. Между её пухлыми пальцами виднелись перепонки, как у лягушки, а уши – длинные и тонкие, словно небольшие плавники. Она была обнажена: тяжёлые груди венчали синие соски. Вниз от талии её ноги срастались в длинный мощный хвост серебристо-фиолетового цвета и с полупрозрачными усиками, колыхавшимися там, где могли бы находиться ступни. Женщина с огромным удовольствием мотала хвостом из стороны в сторону, обдавая посетителей веером брызг.
Седка уставилась на неё с восхищением.
– Это русалка? – выдохнула девочка.
Эйвинд с громким скрипом дерева по дереву отодвинул свой стул.
– Если бы! Русалки хорошенькие, как маргаритки, день напролёт поют милые рифмованные песенки и пахнут лучше этой кучи дохлых устриц. Это магира[33], и она за час может выпить столько, что я окажусь на улице.
Он поспешил к неистовой троице, сохраняя на лице выражение ледяной суровости. Через миг Сигрида и Седка последовали за ним, точно два любопытных котёнка.
– Э! Эйвинд! – заорала магира. Её голос был подобен звуку, с которым вода выходит из шлюза, полностью заросшего створчатыми мидиями. – Наполни мою глотку элем, а животы моих мальчиков – дурацким хлебом, который ты печёшь в задней комнате! У меня для тебя такая история! Ни за что в неё не поверишь, даже если с тобой целый месяц будут случаться чудеса!
– Я не верю в твои истории, Грог. И ты не получишь ни капли, пока я не услышу звон монет.
Женщина пробежалась рукой трупного цвета по изумрудным волосам, продемонстрировав пригоршню покрытых слизью золотых монет – таких старых, что Седке не доводилось видеть ничего подобного. На них было отчеканено изображение единственного глаза – нечёткое, стёршееся в бесчисленных руках и карманах. Грог с удовольствием прикусила одну из монет. Сигрида остолбенела.
– Да уж, лишь великой корове ведомо, что это такое! Монеты аримаспийского Окулюса. Его уже две сотни лет как нет, а у меня таких кругляшей больше, чем у любого коллекционера из Аджанаба. Спроси меня, откуда я их взяла! Валяй спрашивай!
Грог хвасталась, от восторга поглаживая свои блестящие жабры.
– Откуда ты это взяла? – спросила Сигрида ледяным голосом и очень тихо.
Грог в предвкушении лизнула синеватые губы и стиснула в руке высокую пивную кружку – тонкие перепонки между её пальцами мокро шлёпнули по металлу.
– Мои мальчики – звать их, чтоб вы знали, Колышка[34] и Дурья Башка[35], и неважно, кто есть кто, – купили нам места для путешествия на милой маленькой шхуне, которой управляла такая страхолюдина, что даже мать какого-нибудь визгливого паршивца не стала бы пугать его, упоминая о ней.
Сказка Магиры
Ещё дюйм – и в ней было бы семь футов роста, клянусь пятой титькой моей матери! От шеи вверх – вся такая миленькая и сладенькая, обычная принцесса, с волосами цвета топлёного масла и глазами, полными звёздного блеска… Но что за ноги! Оленьи, прямо до самых копыт. Точнее говоря, копыт-то у неё не было. Вместо них – перепончатые лягушачьи лапы, а ещё прижатые к спине бирюзовые крылья, перья и всё такое. Кожа в тигровых полосках, а лапы волчьи – в шерсти и со здоровенными когтями. Мало того, из разрезов в юбках выглядывал пушистый серый хвост.
Она была истинным чудовищем. Но нищим не приходится выбирать! Я, разумеется, плаваю ничуть не хуже молодой акулы, но бедный Колышка и одного гребка не сделает, даже ради спасения своей шкуры, а Дурья Башка до смерти боится моря. В любом случае, я предпочитаю путешествовать с шиком, чтобы моя лохань была полна тёплой воды, а в каждой руке – по кружке рома. Океан, как известно, холоден, как ведьмина утроба, и у меня облезает хвост, когда приходится барахтаться в нём неделю за неделей. Корабль для меня приятнее, несмотря на то что каждый раз, когда палубу окатывает ледяной водой, Дурью Башку тошнит, словно какую-нибудь беременную дуру.
Так вот, две недели назад моей сестре случилось метать икру. А я же заботливая, материнские чувства переполняют так, что прям жабры дыбом. Мне захотелось поглядеть на своих малюсеньких племянниц и племянников, пока они – вертлявые головастики… и заодно съесть побольше пирогов с треской и кальмарами, которые готовит сестра. Но море разбросало мою семью по таким далёким местам, куда и четыре ветра не залетали, а грот Тэк находится в месяце пути сквозь ледяные горы. Муринцы не любят, когда морской народец шляется в порту вблизи их кораблей. Поэтому Колышка и Дурья Башка искали в доках самого безрассудного капитана, который не станет привередливо вертеть носом при виде платы за проезд.
Так мы повстречали Магадин.
Колышка и Дурья Башка отнесли мою лохань к узкому причалу. Я хлопнула по борту старой лодки – судя по цвету, это была старая добрая робиния[36], хотя её древесина сильно износилась и потускнела. Я глянула на корпус, где кто-то неумело, пляшущими буквами, вырезал название корабля – «Поцелуй ведьмы». Тут как раз её голова и высунулась из-за грот-мачты.
– Ищете, кто бы отвёз вас на север? Старик Глиндур сказал мне, что вы можете пришлёпать.
Голос этой женщины напоминал горячее вино в студёную ночь. Я жестом приказала мальчикам опустить меня.
– Ты сбежала из Городского зверинца, женщина?
Колышка издал лающий смех в ответ на мою шутку, но дама лишь улыбнулась.
– Едва ли. Несколько лет назад был один волшебник, и он устроил мне смену наряда. – Она лениво почесала когтём верхушку синего крыла.
– Вечно эти волшебники во всё вмешиваются, да? Очуметь, как опасно, если спросишь меня. Всем плевать на нас, уродов, но наша вонючая шайка не причинила столько вреда, сколько может устроить один волшебник в одной башне, будь она навеки проклята.
Я дружелюбно помахала хвостом, но Дурья Башка злобно уставился на неё и оскалил зубы. Я погладила его по лысой голове, чтобы успокоить, – он прямо как щенок, не переносит чужого запаха. Я поводила пальцем по кругам на его разрисованной макушке, и он застонал от удовольствия.
– Итак, госпожа Зверинец, умоляю – расскажи, откуда у тебя такой большой корабль? Ты сама себе капитанша, и никто не вонзил нож в твоё сердце однажды ночью, чтобы украсть его?
Дева-бестия чуть свесилась с верхней палубы и устремила на меня пристальный взгляд янтарных глаз. На своих нелепых конечностях она двигалась куда быстрее, чем можно было предположить.
– Если я расскажу тебе эту историю, ты оплатишь проезд на моём корабле и не станешь искать другой? Я голодна, как щенок без кормящей суки, и деньги меня бы порадовали.
Мы с ней тотчас пожали друг другу руки, плавники скрыли когти – всё равно никто другой не согласился бы нас взять.
– Замётано!
– Что ж, хорошо. Всегда есть не только волшебники, но и герои, готовые спасти красивую девушку, – а кое-кто считает меня красивой, хоть это и странно. Но неважно. На самом-то деле моя жизнь и не начиналась до того дня, как я попала в Мурин.
Сказка о команде
Видишь ли, быть девой не всегда означает быть живой.
Это, скорее, как быть статуей. Главное умение девы – неподвижно стоять и красиво выглядеть. Даже будучи пленницей, я почти всё время сидела на деревянной табуретке и пыталась не плакать. Я была ничем и ничего не делала. Лишь преодолев верхом на красном Чудище ветхие ворота Мурина, я попыталась сделать шаг или произнести слово, не предписанное мне чудаками в чёрных одеяниях – были это одеяния родителей или волшебников, особого значения не имеет.
Но Чудище, при всей своей доброте, могло лишь оставить меня на причале и сообщить горожанам, что я, возможно, смогу чинить паруса или драить палубу, если кто-то из них возьмёт меня к себе. Толпа муринцев застыла от ужаса при виде алого демона, который меня привёз; несколько человек молча закивали, молясь, чтобы он ушел, и его можно было бы скорее забыть. Чудище куснуло меня за ухо в знак дружеского расположения и поскакало обратно, на болото, к своему королю.
Когда оно ушло, толпа начала плевать в меня, сбила с ног. Они порезали перепонки между моими пальцами и чуть не оторвали хвост. Сломали бы и крылья, если бы сумели, но я не какой-нибудь птенец синешейки в детских руках. Мои кости крепки, и они выдержали. Люди бросили меня в доках, избитую и истекающую кровью, а сами отправились ужинать на свои корабли, смеясь. Приближалась ночь. Что было делать? За все годы в башне я научилась лишь замирать, чтобы меня можно было хорошенько рассмотреть.
Я лежала, не шевелясь, под звёздами, напоминавшими кусочки льда, пока не пришли они. Наверное, я уснула на холодных камнях, потому что проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот, и кто-то сквозь зубы прошипел на ухо:
– Тише, прелестница. Не шуми. – Говоривший взял меня на руки, как кошка берёт котёнка за шиворот. В вихре шарканья ног, зловонного дыхания и зловредного шепота меня перенесли на скрипучий корабль и привязали к бизань-мачте.
– Ну что, моя помесь всего со всем! Ты хотела служить на корабле – обещаю, ты будешь служить.
Голос, шипевший мне на ухо в доках, принадлежал капитану с высокими скулами и в шляпе, украшенной потёртыми синими перьями, а также в поношенном бархатном камзоле. Он был красив как герцог. Только, когда улыбался, было видно, что его рот полон гнилых зубов, желтых, как у дряхлого волка.
– Итак, – сказал он, – мы продадим тебя в каком-нибудь южном порту – если тебя не возьмут шуты или работорговцы, возьмут торговцы шерстью, а если и они не польстятся, отправимся на мясные рынки. А пока драй своими несочетаемыми конечностями каждую дощечку на корабле. – Он улыбнулся и слегка коснулся шляпы. – Честно говоря, путь на юг будет долгим. Через несколько недель ты начнёшь казаться неимоверно привлекательной, а выше подбородка и сейчас ничего.
Я посмотрела на него снизу вверх, и мой рот, заткнутый кляпом, наполнился слюной. Я деликатно кашлянула, желая дать ему понять, что хочу говорить, и он любезно вытащил грязную тряпку. Я заговорила сладкозвучным голосом, напоминающим пение флейты, как умеют говорить принцессы:
– Вам не надо меня продавать. Я могу быть полезной и не стану бунтовать против вас или ваших людей.
Капитан пожал плечами и встал, отряхивая штаны.
– В этом суть пиратства. Если ты пошла с нами добровольно, что мы за пираты? Можешь быть со мной мягкой и податливой, как пена на свежем молоке, но постарайся хорошенько вопить, когда будешь с моими ребятами. Это поддерживает боевой дух.
Я не могла драить палубу. Мои оленьи ноги не сгибались, а лягушачьи ступни скользили. Я спотыкалась и падала, лёгкий пинок в бок демонстрировал всю мою неуклюжесть. По мере того как дни шли за днями, я забыла о том, что я дева, а потом и значение этого слова. Каждое утро капитан приказывал мне вечером явиться в его каюту; вечером он говорил, что на его вкус я слишком отвратительна, но «не такая уродливая, как вчера, и уродливее, чем завтра».
Однажды ночью, когда команда выхлебала последние остатки рома, меня затащили в кубрик. Я вспомнила, что надо кричать. Они глумились, будто шакалы, швыряли меня и лупили, а потом кому-то пришло в голову, что было бы здорово отрезать мои волосы.
«Сделаем из неё настоящего матроса, – сказал матрос, сипло рассмеявшись. – Никто не выходит в море с гривой желтых кудрей! Отрезать их!»
Он подошел ко мне сзади и собрал волосы – на концах прядей в панике затрепетали стрекозиные крылышки. Вытащив короткий нож, он отсёк желтые локоны и слюняво поцеловал меня в обнаженную шею.
Я не знала, что произойдёт, клянусь! Да, он отрезал мои волосы, но вместо того, чтобы просто упасть на пол, шелковистые локоны на отсечённых кончиках стали исходить кровью, словно нож вонзили в сердце. А крылья мои загудели настолько громко, что я едва могла расслышать, как мужчины кричали от ужаса и отвращения. Они отпрянули от меня, глядя, как кровь пропитывает мою рубаху и поношенные штаны, которые они нашли в рундуке умершего матроса.
Я с трудом поднялась на ноги; мои глаза застилал красный туман. Я чувствовала себя очень странно, будто существа, из которых состояло моё уродливое тело, посыпались, когтями цепляясь за мою душу. Волк и олень, тигр и медведь, лягушка и стрекоза, рыба – их голоса на разные лады зазвучали внутри меня, хотя раньше доносился лишь шепот. Моё тело наполнилось воем и лаем, кваканьем и плачем, рычанием и воплями, целым хором воплей маленьких флейт, разбитых о каменный пол.
Кажется, первым прыгнул волк, за ним – тигр. Я разодрала глотки троим матросам и оторвала ухо четвёртому, а потом полоснула его по глазам. Олень разбивал черепа, медведь рвал обнаженные животы. Лягушка и стрекоза помнили, что надо кричать.
Когда всё закончилось, комната была пуста, словно тюремная камера. Я хотела, чтобы мне стало плохо и меня изящно стошнило в углу; хотела упасть в обморок, рухнуть под грузом вины. Но мне не было плохо, я не лишилась чувств, и твари во мне ликовали. Девы стоят смирно, они красивые статуи, и все ими восхищаются. С ведьмами всё иначе. Я же не была ни тем ни другим, но лучше сбиться с пути в сторону ведьмовства, которое отпирает башни и опустошает корабли.
После того как я приняла решение, было нетрудно проскользнуть в капитанскую каюту и забраться в мягкую постель. Моя щека коснулась прохладной подушки, кровь на волосах высохла и казалась чёрной на фоне ткани. Я не ждала, пока он проснётся, и мне не понадобился нож. Медведь вскрыл его, как пчелиный улей.
Обратно в муринский порт я привела корабль-призрак.
Сказка Магиры (продолжение)
Дева-бестия с нежностью погладила фальшборт своего корабля.
– Никому этот корабль не нужен, как и я никому не была нужна. Говорят, у меня нет парусов, вместо них к мачтам привязаны призраки матросов, которых луна наполняет светом вместо ветра. Этот корабль принадлежит мне. Я знаю его, как собственное тело, и не стыжусь сделанного. Наверное, в этом и заключается суть пиратства. Я уже не дева, и рада, что с этой жалкой ролью покончено. Смыла её с себя в крови и океане. Никто меня не беспокоит, и я никого не беспокою.
– Вот это байка так байка, без сомнений, – я загоготала. Мои мальчики насмешливо фыркнули, вторя хозяйке, и хлопнули друг друга по спине. – У нас тут злодейка с обагрёнными кровью руками, ребята! Сто человек одним ударом!
Магадин терпеливо улыбнулась.
– Не злодейка. Не ведьма. И не дева. Капитанша! А это значит, что во мне понемногу от всех троих. Думайте что хотите. Когда русалка высмеивает монстра из-за истории, которая выглядит слишком фантастичной, чтобы её проглотить, как узнать, кто смешнее выглядит?
Я побагровела, налившись яростью, как переспелая слива.
– Никакая я не русалка! Русалки – тощие щеголихи, которые раковинами прикрывают маленькие титьки! Они ничего не делают, только сидят на скалах, пялятся в зеркала и заманивают корабли на верную смерть. Отличные корабли! Даже галеоны! Одни неприятности от этих баб; собери хоть всё их племя, не сложишь и половины умной головы. Я магира, могу раздавить твой череп в ладонях, а потом споить этот крысиный город так, что его жители будут валяться под столами. А если бы я захотела перебить какую-нибудь матросскую шайку, сгодилась бы пушка, сабля или кулак в зубы – я не стала бы хлопать треклятыми ресницами. Лучше запомни это, Магги, любовь моя! Если мы увидим русалку во время нашей прогулки в открытом море, пусть мой Колышка всадит стрелу прямо в её хихикающий рот.
Я вильнула хвостом, окатив её водой, и велела мальчикам заносить себя на борт.
Прошла неделя на волнах. Дурья Башка каждое утро блевал у борта, точно рыбак, разбрасывающий приманки для китов. Я не видела вокруг ничего необычного: океан такой же синий – что ему день, что прилив, – и если бы я любила эту большую солёную лужу в достаточной степени, чтобы описать, с удовольствием путешествовала бы вплавь, смекаешь?
Магги же творила с кораблём такое, что просто держись. Мои мальчики не какие-то бездельники, а отличные матросы – я с выгодой для себя купила их у моряков-аджанабцев, когда те обнищали так, что и щепки не могли себе позволить. Но она и слышать ничего не хотела, знай носилась вверх-вниз, как дервиш. Сложно поверить, что один человек может управлять кораблём такого размера, но Магадин это делала, я не вру.
Вот почему Дурья Башка увидел чудовище первым, когда выбрасывал за борт свою «приманку» на рассвете двенадцатого дня. Он примчался к моей лохани, что-то бессвязно бормоча, словно ребёнок, обнаруживший свои большие пальцы, и со скрипом потащил старую посудину через всю палубу, разливая повсюду солёную водицу, чтобы я могла поглядеть через фальшборт и с ужасом увидеть, как над водой вздымается панцирь – такой огромный, что я поначалу решила, что впереди земля.
Его трудно было окинуть взглядом, этот панцирь всплывающей черепахи цвета самого моря, – он казался не то волной, не то рифом, но слишком громадным, чтобы быть живым. Дурья Башка расплакался, лепеча, что нас вот-вот сожрут, но я не видела, где у твари голова. Перед нами был просто панцирь, который подымался и подымался; вода стекала по его гладким блестящим чешуйкам синего, чёрного и зелёного цвета, из которых складывался повторяющийся узор, похожий на головоломку. Волна, поднятая всплывающим чудищем, понеслась в нашу сторону, и корабль завертелся, пойманный буйным водоворотом.
– Левиафан… – прошептал Колышка и начал бормотать молитву, думая, что я не слышу, – мальчики знают, что мне не нравятся их трижды проклятые Звёзды.
Магадин закричала нам, прыгая от паруса к парусу и пытаясь удержать корабль:
– Это Эхиней! Вы что, книг не читали? Мы ещё и половины его туши не видели! Он может нас проглотить и не почувствует, как мачта уколет глотку. Хватай снасти, Колышка, или мы станем пищей монстра!
Мальчики обрадовались возможности что-то сделать и понеслись со всех ног к заполоскавшему кливеру. Я просто смотрела, застыв будто кусок тюленьего мяса. Тварь всё ещё подымалась, так высоко, что отбрасывала на нас тень. Я задрожала от внезапного холода, на моих руках появились зелёные и синие пупырышки. Вскоре море исчезло, осталась лишь уродливая чёрная громадина, которая росла и росла, точно мёртвое солнце. Я выискивала голову, как рыба, шныряющая в коралловых зарослях в поисках еды, хоть мельчайшую щель в гигантском панцире.
Колышка закричал – я ни разу не слышала, чтобы мой мальчик кричал, защищаю его от всех напастей, – и это был жуткий пронзительный вопль, будто скрежет железа по железу. Внезапно волны расступились над головой кита с бесконечной пастью. Она растягивалась, как в улыбке, всё длилась и длилась, пока не стало казаться, что голова чудища расколется пополам; в ней болезненно мерцал занавес из длинных желто-белых пластин китового уса. Глаз его был цвета старого трупа. Повеяло вонью, будто от тухлого мяса и сгнившей капусты. Как только оно показалось над поверхностью солёной воды, Дурья Башка отвязал один из гарпунов с толстыми рукоятями, что были принайтовлены к бортам судна, и швырнул его со всей немалой силой в пасть Эхинея.
Гарпун отскочил, как носовой платок, брошенный на железную дверь.
Магадин тяжело вздохнула, словно этого и ждала. Её маленький кораблик проигрывал битву с ветром, его несло всё ближе к чёрному пятну чудовища. Её лицо, такое красивое, несмотря ни на что, скривилось, и, хотя чешуйчатые руки по-прежнему крепко держали штурвал, я видела её отчаяние.
Эхиней ничего не видел. Он только начал открывать свой непомерно огромный рот. Серая вода затекала в него, и звук падающей волны создавал ужасный шум, будто рушились дворцы. Темнота глотки ширилась, затягивая нас. Как ни старалась Магги повернуть штурвал, чтобы изменить курс, как ни блистали мои мальчики, управляя парусами, мы двигались по дуге, приближаясь к хлюпающему желудку морского чудовища.
– Колышка, милый! – закричала я. – Твоя хозяйка глупа, как стадо коров. Принеси мне гарпуны!
Как всегда послушный, мой Колышка схватил охапку копий и сунул в мою лохань.
– Клянусь, если бы мои титьки не были приделаны к телу, я бы их ещё десять лет назад пропила в каком-нибудь баре, – я лукаво улыбнулась, глядя в его татуированное лицо. – Я когда-нибудь показывала тебе свою железу, лапусик? Обычно не подсовываю её кому попало, но раз мы оказались здесь…
Я подняла одну из своих тяжелых грудей и провела острым концом гарпуна под ней. Кожа разошлась, и мне на живот закапала зелёная слизь. В отличие от кретинок-русалок, магиры – не беззащитные куклы, у нас в груди есть мешочки с ядом, как у кальмаров с чернилами. Я сунула руки в пузырящуюся слизь, приказала мальчикам и девочке-монстру сделать то же самое. Вчетвером мы быстро смазали ею наконечники гарпунов и нагрузили отравленным оружием Дурью Башку. Он побежал на нос корабля, белый от дурноты, и бросил первое копьё прямо в челюсть Эхинею.
Оно исчезло, бесполезное как моряк-калека.
Вторая попытка – и снаряд опять канул во тьму: чудовище будто не замечало, что проглотило яд магиры в количестве, которого хватило бы на лошадиный табун.
Колышка рухнул на палубу и начал плакать.
Но Маг… Ох, Магадин, лучшая из капитанш! Она схватила связку гарпунов и поцеловала меня прямо в лоб.
– Убедись, что мой корабль вернётся домой, – сказала она и подмигнула. – Он заслуживает гавани, что бы ни случилось с его командой.
– Постой! Если кому-то надо прыгнуть за борт, это должна быть дама с хвостом, разве нет?
Вы понимаете, мне не слишком хотелось прыгать в пустоту. Но я решила, что стоит хотя бы предложить.
Магадин рассмеялась, её волчий хвост стукнул по фальшборту.
– Разумеется! – закричала она и прыгнула в воду. В мутной воде сверкнули ярко-зелёные лягушачьи лапы. Её затащило в пасть чудища быстрей, чем кусок подтаявшего масла падает с ножа. Пройдя преграду китового уса, она развернулась, оседлала волну и метнула копья прямо в нёбо твари.
Эхиней гневно зарычал; вопль пронзил мои уши, как ржавые ножи, царапающие барабан. Он затрясся и накренился, его панцирь раздулся, будто переполненный мочевой пузырь, и внезапно отвратительную тварь стошнило – она блеванула прямо на корабль золотыми монетами, которые пробивали дерево не хуже картечи. Чудище всё рвало и рвало, оно обдавало океан фонтанами золота. Я видела, как над водой мелькнул мокрый хвост Магадин – раз, другой, – а потом она исчезла во тьме.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
– Разумеется, к тому моменту треклятое судно было полно дыр. Но и золота тоже! Пока чудище снова погружалось, мы сменили курс. И хорошо, что так сделали! Когда верхушка панциря наконец скрылась из вида, море ринулось туда, где она находилась, будто произошёл потоп; нас чуть не поймало. Но моя лохань стояла у штурвала, мальчики изо всех сил конопатили дыры, и мы притащились обратно в муринский порт с полными кошельками. Не только с золотом, но и со всякими древними штучками. Они стоят в пять раз дороже обычных золотых монет! Я жалею лишь о том, что не увидела молодняк Тэк… и её пироги. – Грог на мгновение опечалилась, но затем осушила свою высокую кружку и опять расплылась в улыбке, демонстрируя ослепительный блеск желтых зубов. – Ну что, Эйви, угостишь нас за эту историю, а?
Лицо Сигриды сделалось одновременно чёрным и белым, по нему, словно тучи, прошли страсть, надежда и отчаяние.
– Вы видели Эхинея? Ваша капитанша погибла, сражаясь с ним?
– Она глухая или слабоумная, Эйв? Не слышала мой рассказ? Разве у неё в руках не монеты мертвецов?
– Помнишь, где это произошло, пьяная скотина? – Глаза Сигриды полыхали, будто костры в ночь зимнего солнцестояния. – Ты найдёшь дорогу назад?
Грог посмотрела на женщину с жалостью. Она провела руками по изумрудным волосам, приглаживая предательское безобразие на голове.
– Знаю, ты не из этих мест, душечка, но хвост заметен, да? И ты понимаешь, в чём его суть? Он для того, чтобы плавать, и всё такое. Быть может, я не люблю опускать в море свои нежные части, но никто не знает море лучше магир. Конечно, я могу найти дорогу, но не собираюсь этого делать – считаю подарком судьбы, что мне удалось сбежать с набитыми карманами, и не буду прыгать тут и там в поисках симпатичной большой пасти, в которую можно сигануть. Теперь наполни мою кружку, Эйвинд, и пусть твоя женщина ведёт себя тихо и прилично, пока кто-то пьёт.
Седка, никем не замеченная, подкралась к большой лохани с морской водой и схватила нож с барной стойки. Она прыгнула на край лохани, точно дикая кошка, и схватила Грог за копну бутылочно-зелёных волос.
– Отведи нас туда, – прошипела она. – Отведи нас к монстру, или я перережу тебе горло.
– Седка! – ахнула Сигрида. – Что на тебя нашло? Если кто и должен угрожать морской корове, то это я.
– Сигрида, – взмолилась Седка, – ты же знаешь, что там! Ты рассказывала мне о Святой Сигриде и думаешь, я упущу шанс попасть в эту историю, сделаться её частью, просто пройду мимо? Разве ты не отдала Башне целых восемь лет, потому что женщина рассказала историю, которая тебе понравилась? Мне нужно лишь несколько дней в море! Ты знаешь, что песня о тебе… Но не может ли быть так, что она и обо мне? «Сиротка разыщет». Если тебе нужна сирота, вот я! Ты столько лет искала Эхинея и теперь позволишь этой жирной старухе остановить нас? Позволь мне пойти с тобой, помочь тебе найти её… И позволь прикончить эту зловонную рыбу, если она нам не поможет!
Седка прижала нож к слоям жира на шее Грог, и магира беспомощно взвизгнула.
– Фанатики! – завопила она. – Я вам говорю, в целом мире нет ничего опаснее фанатиков! Колышка! Дурья Башка! Разорвите её пополам ради вашей хозяйки!
Громилы рванулись к бледному ребёнку, размахивая кулаками, но Эйвинд остановил их взглядом.
– Троньте её – и я разобью вашей хозяйке физиономию бутылкой рома, – прорычал он.
Сигрида посмотрела на него с благодарностью.
– Хорошо! Я отвезу вас туда, сволочи вонючие. Раньше у тебя был приличный бар, Эйвинд, но глянь, во что он превратился! Лебезишь перед какой-то жирной дрянью и её отродьем!
Седка отпустила голову магиры и проворно спрыгнула с края лохани. Грог уставилась на неё и выплюнула сгусток зелёной слизи, угодив Седке в спину. Сигрида грустно улыбнулась и стёрла его.
– Спасибо, – сказала Седка, ощущая неловкость.
– Хозяйка, – тихонько проговорил кто-то тонким голосом. Дурья Башка подобрался к лохани и, перегнувшись через край, трогал магиру рукой, словно щенок лапой. – Не надо опять в море. Не надо лодки. Пожалуйста! Мой желудок…
– Не надо опять в море, – согласился Колышка. – Хватит с нас. Оно там, ждёт. Мы подождём вас здесь – мы вас любим, – но опять встречаться с чудищем не хотим.
Грог закатила глаза.
– И кто тогда понесёт мою лохань? Эта дрянная девчонка и кружки рома не поднимет!
Эйвинд откашлялся, сплюнул и нежно провёл тряпкой по барной стойке.
– Я пойду с тобой и понесу твою кастрюлю с супом, старая ты белуга.
– До чего это мило с твоей стороны, дорогой!
– Но я делаю это ради Сигриды. Не ради тебя, – проворчал он и из-под нависших век посмотрел на пожилую женщину.
– Отлично! Чтоб мне провалиться с вашей вонючей верностью. От фанатиков у меня изжога. Корабль Магги пришвартован в порту. Держи меня крепко – не хочу валяться на улице, как выпавший из ведра солнечник.
Сигрида, Седка и Эйвинд надели тёплую одежду и приготовились к отплытию. Колышке и Дурьей Башке предоставили заднюю комнату, чтобы они там спали, а остальных посетителей аккуратно выпроводили за дверь.
– Бочонок рома прихватите! – визгливо приказала зеленоволосая магира. – Он нам понадобится, помяните мои слова!
В Саду
– Если ты умная девочка, сейчас же уберёшься отсюда, – раздался голос кузнеца, вспоров ночь, как горячее железо вспарывает шёлк.
Девочка, привычная спасаться бегством, вскочила и метнулась прочь от тени кузнеца. Она даже не успела взглянуть на мальчика, лавируя между ногами лошадей и жестяными вёдрами, проворно выскочив из дверей конюшни одновременно с первыми лучами восхода.
Динарзад, хоть и обнаружила брата одного и спящего там, где ему полагалось быть, весь день держала его при себе – эта пытка была хуже всех, которые она успела на нём опробовать, потому что приходилось повторять любое её движение. Сначала пальцы мальчика покраснели и опухли от булавочных уколов, затем покрылись черными чернильными пятнами, а потом сделались синими от дорогих красок. Он ничего не мог делать как надо и горел от стыда под неодобрительными взглядами множества женщин. К вечеру, несмотря на сильное желание отправиться в сад, он был измотан, как олень, из последних сил спасавшийся от гончих. Динарзад настояла, чтобы брат лёг спать в её комнате, и он впервые не стал возражать: упал на кровать, разбитый и охваченный стыдом.
За полночь мальчик проснулся от того, что пара тёмных глаз смотрела на него из каменной арки, занавешенной фиолетовой газовой занавеской, тонкой, как секрет. Динарзад неподвижно лежала в своей кровати, укрытая белыми мехами, и мальчик не впервые подумал, что она красива, когда не говорит и не двигается. Дымчато-чёрные волосы раскинулись по постели точно река теней, и, как на поверхности реки, на её коже отражался лунный свет. Тонкие, изящные руки сжимали бронзовые ключи, которые открывали дверь в спальню, а её дыхание было тихим и мелодичным, как флейта.
Мальчик лежал на запасной кровати меньшего размера. Его тёмные волосы были взъерошены, будто он взлохматил их от ярости собственными руками. Его глаза были широко распахнуты и глядели на низкое окно и девочку, застывшую там, словно лань. Он тихонько, как паук в колодце, подобрался к подоконнику и отвёл лавандовую занавеску. Дыхание Динарзад не нарушилось, оставалось медленным и ритмичным, будто танец.
– Ты пришла! – прошептал он. – Как у тебя получается меня находить?
Девочка улыбнулась.
– Магия, – прошептала она. – Я ведь, в конце концов, демон.
– Ты всегда приходишь к моему окну, находишь меня и уносишь… Это полагается делать не девочкам, а принцам. Как в твоих историях.
– У нас совсем другая история.
Мальчик старался скрыть свою радость – так кролик, зная, что его поймают, всё-таки доедает морковку. Он вдруг ощутил страстное желание отыскать девочку и унести куда-нибудь, как и полагается принцу. Но она была словно воздух, струящийся сквозь шелк, и он даже не мог к ней прикоснуться. На миг они оба застыли, разделённые низким каменным подоконником.
– Я буду говорить очень тихо, – прошептала она, – чтобы не разбудить твою сестру.
Она устроилась снаружи окна, на высокой росистой траве, и закрыла глаза.
– На третий день путешествия, во время которого корабль девы-бестии мчался по волнам, как львица сквозь траву, а Грог стояла за штурвалом, потому что никто не собирался отодвигать её лохань, Эйвинд и Сигрида сели в трюме за скромный ужин из тюленьего жира и чёрствого хлеба. Они не заметили, что Седка подкралась к ним, желая подслушать разговор, как ребёнок подслушивает своих родителей.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
– Теперь у нас целый воз времени, Сигрида, – сказал Эйвинд, усаживаясь на стул, и тяжело вздохнул. Отрезал себе обе горбушки и намазал подсоленным жиром. – А ты уже почти десять лет строишь мне глазки и пьёшь моё пиво в «Руке», почти десять лет я вижу, что ты хочешь мне что-то сказать… И десять лет ты молчишь. – Он подался вперёд: прядь волос песочного цвета, напоминающих шерсть, упала ему на лоб. – Думаю, давно пора выпустить на волю слова, которые ты удерживаешь за сжатыми зубами.
Сигрида вздохнула и уставилась на грубую столешницу, не в силах взглянуть трактирщику в глаза.
– Эйвинд, – начала она голосом трескучим, как метла на морозе. – Я не уверена, что должна это делать. Наверное, было время, когда я попала в Мурин и могла тебе всё рассказать, это было бы правильно. А теперь… Прошло так много времени, и так много всего случилось, что, мне кажется, пусть лучше это умрёт, запертое в нашем общем сундуке, на который мы навесили замки.
– О чём ты говоришь, женщина? Ради тебя я бросил свою таверну, так что пора перестать строить из себя робкую девицу… Уж я-то знаю, что ты не просто чинишь сети. С девчонкой-альбиноской ты разговариваешь как с исповедником, а мне не скажешь, почему смотришь на меня так, будто ждёшь, что у меня вырастет хвост и я начну выть на луну?
Лицо Сигриды отяжелело: на трактирщика смотрели тусклые глаза, полные жалости. Она выглядела в точности как мать, которая приветствует ребёнка, блуждавшего так долго, что он успел стать чужим.
– Пожалуйста, пойми, я никогда не хотела причинить тебе боль.
Вторая сказка Плетельщицы сетей
Когда я только-только стала женщиной, поначалу тело было мне таким же чуждым, как первый глоток вина. Ведь всю жизнь до того дня я была медведицей.
Я любила мать, Звёзды и молодого темноглазого медведя даже после того, как он меня покинул. Никогда не была странной и не отличалась от своих сестёр.
Медведь, которого я любила, исчез; снег падал и замерзал, ледники ломались и двигались без него. Мы не знали, куда он отправился. Миновал круговорот времён года без его следов на нашем льду, были избраны пары, и появились медвежата. Жизнь продолжалась.
Но однажды вечером, когда синий свет небес струился сквозь призмы Храма, отбрасывая кобальтовые и аквамариновые тени на мою густую шерсть, у меня было видение – мерцавшее на ледяном алтаре, будто полновесная, осязаемая плоть. Лаакеа, Острога-Звезда, стоял передо мной с алмазным копьём на плече. Его кожа была белее света, а волосы ниспадали на алтарь точно замёрзший водопад. Я трепетала в его присутствии, возбуждённая и охваченная ужасом. Я была скромной медведицей, моё детство закончилось совсем недавно, а золотые глаза Охотника, Летящего Вдаль, пристально глядели на меня. Я не заслуживала такой чести.
Он рассказал мне, Эйвинд, что тебя превратили в человека, что ты хотел отомстить за Змею-Звезду и был изменён, чтобы не допустить этого – возмездие надлежало совершить не тебе. Ещё он сказал, что ты никогда снова не станешь медведем… Или это случится очень не скоро и такой ценой, что толку от превращения будет не больше, чем от горстки пепла. Своим снежным голосом он вещал, что я тебя больше не увижу, ты никогда не вернёшься.
Я плакала у его ног, любовь моя, как младенец, и не могла поднять глаза, чтобы взглянуть на его красоту.
Лаакеа положил мне руки на плечи – о, какой исступлённый восторг охватил меня! – и заставил подняться. Он сказал, что, если я захочу, могу сама стать женщиной и отыскать тебя, найти своё счастье. Конечно, я захотела! Он нарисовал для меня карту на льду – путь через плавучие льдины к великому лесу на дальнем севере мира, где, по его словам, обитает существо, сведущее в торговле шкурами.
И больше ни слова: ни как найти тебя, ни как вытерпеть, пока кто-то будет снимать с меня шкуру и пришивать взамен кожу.
Я любила тебя и верила, что ты хочешь видеть меня рядом. Сама мысль о том, что ты в отчаянии, отделён от себе подобных, была невыносима. И я отправилась в далёкие и дикие северные края; переплывала моря, такие синие, что мороз пробирал до костей; плыла мимо деревьев, закованных в ледяные латы. И я пришла в лес, который был обширнее всего, о чём мне доводилось слышать, темнее и глубже любой пещеры, белый от снега и ужасно холодный.
Я бродила по нему и заблудилась. Возможно, я пробыла там час, возможно, год. Возможно, десять. Когда вокруг белым-бело, время теряет значение; для меня не существовало ничего, кроме зимы и её запаха, который надо было проследить до самого источника. Я шла по ледяному следу мимо сосен, падубов и слышала, как где-то снегоступы шлёпают по сугробам, – пока не напоролась на сгорбленную серебристую фигуру в обледенелом плаще из шкуры стервятника, чьи перья от холода превратились в хрусталь. Я неуклюже двинулась к этой фигуре.
– Ты ищешь Гасана, – сказал горбун. – Но я не он. Я дочь Гасана, Умайма.
Я нахмурилась, как только может нахмуриться медведь.
– Ты не похожа на девочку.
Она в самом деле казалась волчонком, диковатым парнишкой в капюшоне из головы стервятника, с кожистыми чёрными ногами и когтями, как у ворона. Она впечатывала их в снег и скрипела жемчужными зубами.
– Чудесное свойство шкур состоит в том, что нет необходимости носить собственное лицо. Ты, должно быть, устала от своего, иначе не пришла бы сюда в поисках Гасана и не обнаружила бы меня.
– Не устала, но мне нужно новое лицо.
– Какое?
– Че… человеческой девушки.
Умайма поджала губы.
– Такое разыскать нелегко. Девушки хорошо стерегут свои шкуры. Но у меня есть одна.
Она вытащила из пухлого кожаного мешка узел цвета хорошего мёда и задумчиво взвесила его в руке.
– Откуда это у тебя? – опасливо спросила я. – Не хотелось бы надевать кожу убитой девушки, как платье.
Умайма улыбнулась и распушила перья на шкуре стервятника.
– Шкура есть шкура, но если ты хочешь знать…
Сказка Торговки шкурами
Первое, что я помню, – яйцо. Мои перья были очень чёрными.
Гасан сказал мне – он признался мне одной из всех своих детей, хотя я была так юна, что на моём клюве ещё виднелся прилипший желток, – что он от рождения был всего-навсего птицей. Согбенной старой вороной, которая хотела лучшей доли. Так он сказал…
В первый раз он сменил шкуру случайно – завернулся в ту, что сбросила змея, и она прилипла, словно плащ, который вдруг стал очень маленьким, и его было невозможно снять.
Перья остались кучкой сажи, брошенной посреди леса, он на них даже не оглянулся.
Через некоторое время отец начал искать шкуры, а вскоре заработал и репутацию… Последние десятилетия до своей смерти он не украл ни одной шкуры! Мой отец был богат шкурами, а это самая большая ценность в мире. Люди рвались к нему, чтобы обменять свои шкуры на что-то, торговля шла оживлённая. Если шкура причиняла неприятности, он всегда мог от неё избавиться; если была редкой – заказать. Некоторые считали его злым, но, по правде говоря, он был таким же, как все другие вороны: любил новые блестящие штучки и был слишком умён, чтобы добывать их обычным путём.
Он обучил меня ремеслу. Большинство его детей стали обычными воронами, тупыми, как одуванчики. Но я была как он, по его словам. Моя душа не имела шкуры, а это значит, что я могла её менять по своему усмотрению. Однако мне требовалось научиться красть шкуры, как это делал отец. По его мнению, это жизненно важный навык, столь же важный, как умение читать для церковника. Он отчитывал меня и называл слабовольной, грозил начать обучение других воронят, если я, например, не подберусь к опоссуму и не распорю его от хвоста до макушки. Но я не могла! Шкура – вещь священная, более близкая, чем мать и дитя. Я хотела меняться, быть как Гасан, но я желала, чтобы и каждый из тех, чьи шкуры мне предстояло надеть, жаждал перемен с неменьшей силой. Я долго искала, спрашивала то пажей, то фермеров, выращивавших картофель, не желает ли кто из них стать вороной. Мой отец смеялся, когда они в ужасе убегали или швыряли в меня камнями либо вежливо отказывались питаться червями и листьями.
И вот настал день – такие дни всегда наступают, – когда я встретила в лесу девушку, именно такую, с какой должны встречаться в лесу чёрные существа с когтями: молодую, розовощёкую, ясноглазую и слишком любопытную, чтобы ходить проторенными тропами.
– Привет, – каркнула я, выпрыгивая перед ней.
– Привет, старушка ворона, – вежливо сказала она.
– Я не старушка, что ты! Я довольно молода, и мои перья красиво блестят.
– Это точно.
– А ты бы не хотела взять их себе? – спросила я, понизив голос, чтобы он звучал вкрадчиво, как шелест волн у зелёных берегов пруда.
Девочка на миг задумалась, накручивая на палец каштановый локон.
– Думаю, с удовольствием, – негромко проговорила она. – Было бы так здорово летать! Жизнь доярки до ужаса скучна… Многие надеются, что такой шанс представится в лесу, но обычно становишься древней бабулей с отвисшими грудями и вторым подбородком, с пальцами, потерявшими чувствительность из-за бесконечной дойки.
Я скакнула поближе.
– А ты позволила бы мне взять свою кожу в обмен?
Она посмотрела на себя.
– Конечно. Если она не покажется тебе слишком заурядной и склонной к отвисанию. Опять же второй подбородок… В каком-то смысле это тело чудовищно. Доить коров не рекомендую, от этого ужасно болят суставы.
– Запомню, – со смехом ответила я, и мы принялись, как заведено, пороть и шить. Она была совсем неопытна, а моих знаний едва хватало, поэтому мы наверняка всё сделали неправильно. Впрочем, в первый раз все слегка неуклюжи, разве нет?
Девушка была миленькой, изнутри пахла молоком и сеном… Она весело каркнула и скрылась среди сосен.
Так я принялась за дело, каждый раз выискивая того, кто желал обмена. Не потому, что воровство было мне неправильно – я как-никак ворона, – а потому, что у меня нет презрения к правильному пути. Но в конце концов я занялась тем же, чем занимался отец, потому что люди хотят торговать, покупать и продавать, а у меня образовался излишек, о котором прослышали. Постепенно появился вкус, как и у Гасана, – мы оба предпочитаем носить на себе определённые шкуры и оставлять в этом наряде что-то от вороньего облика. Мне понравилось носить кожу юноши, а Гасан частенько носил женскую. Разнообразие – это важно, видишь ли; когда демонстрируешь шкуры, всегда получаешь хороший результат.
Мне кажется, что отец по-прежнему ковыляет по своему острову, – тому самому, где я родилась; прячется в норе и играет в сирену. На просторах бескрайнего мира Гасана не видели уже много лет: я единственный торговец шкурами, о котором говорят в наши дни, просто меня по привычке называют Гасаном. Поди разбери, кто есть кто, если наши лица меняются всякий раз, когда весна сменяет зиму.
Вторая сказка Плетельщицы сетей (продолжение)
– Это и есть кожа той первой девочки. Я носила её с собой, как сувенир, но отдам тебе, потому что ты в ней нуждаешься, а мне не помешает медвежья шкура.
Я поскребла снег.
– Умайма, мне страшно.
– Всё хорошо, – с теплотой сказала она и положила мне на плечо костлявую руку. – В первый раз всегда немного больно, а потом будет легче.
– Это будет единственный раз, – жёстко произнесла я.
Умайма почесала свой наряд из перьев.
– Жаль… – вздохнула она.
И взяла меня в свои руки молодого юноши. Не знаю, как объяснить то, что было дальше. Я чувствовала, что разделяюсь, словно орех в скорлупе, которую кто-то поддел ногтем, проливая сахарную кровь. Я чувствовала, как в моей груди возникла обжигающе горячая звезда, шкура и плоть будто разошлись по шву, и каждый стежок рвался с громким треском. Я кричала, мои сильные ноги подгибались, а когти разъезжались на льду. Я слышала, как рвётся моя кожа, а потом раздался влажный скользкий звук, принёсший такую боль, что в глазах у меня потемнело, и всё погрузилось во тьму.
А потом торговка шкурами протянула мне руку, и я, удивительное дело, протянула ей руку в ответ – это оказалась не лапа, а тонкая девичья рука с пятью пальцами и тусклыми бесполезными ногтями вместо когтей, которыми я гордилась. Я стояла обнаженной перед девчонкой-стервятницей в коже юноши и сильно дрожала без своей шерсти. Холод душил меня: хватал за горло, царапал когтями грудь. Я не представляла себе, что такой холод существует, потому что на мне всегда была толстая шкура, защищавшая от него.
И я отправилась домой. Мать вопила и не желала со мной разговаривать; её отчаяние окутало дом, как чёрный мёд. Сёстры не желали меня признавать и заперлись в храме, чтобы молиться за мою душу. Они ни на миг не поверили, что Лаакеа просил меня сделать это. Гунде созвал Конгрегацию, но даже там не удалось решить, что делать. Все сошлись на том, что мне можно остаться, но, если я сумею, лучше бы уйти.
Когда появились волки, я охотно ушла с ними: на севере у меня ничего не осталось, а если бы я отправилась на юг, обязательно услышала бы что-то про тебя или Змею-Звезду. Где, если не в Аль-а-Нуре, можно найти ответы на все вопросы? Я могла бы вернуть нам обоим медвежий облик, разыскать тебя, где бы ты не заплутал. Разве плохо немного развлечься или испытать приключения, пока идут поиски? Когда я отправилась в путь, моё сердце полыхало, как огромный костёр. А когда я вошла в Башню Святой Сигриды, сказала себе, и вполне разумно, что подобные сведения, истории и магию с тем же успехом можно отыскать где-нибудь ещё. Хотя на самом деле я полюбила Святую, Грезящий Город и всё то, что произошло в мире с той поры, как ты меня оставил. Ты превращался в забытое воспоминание, детскую влюблённость. Мир же раскрылся и показал мне чудеса, его нельзя было закрыть.
Я начала забывать тебя, потому что думала – лучше забыть. Меня ждала другая судьба, более интересная, чем у супруги-медведицы, ловящей рыбу в ледяной воде.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
Потрясённый Эйвинд не мог отвести глаз от Сигриды. Они были полны слёз, а огромными руками трактирщик сжимал свою покрытую пятнами рубаху.
– Столько всего случилось, любовь моя. Я носила эту кожу, пока не привыкла к ней так, что, наверное, не смогу снять, даже если захочу. Я годами искала Святую, а когда попала в Мурин, беспомощная и отчаявшаяся, там был ты. Я сразу тебя узнала, конечно, узнала!
– Как ты могла всё от меня скрывать? – выпалил он. Слёзы брызнули и покатились по широкому лицу. – Я годами ждал, что изменюсь, чтобы вновь стать медведем и вернуться во льды, к тебе. А ты всё это время была рядом и молчала? Холодная и жестокая Улла!
Сигрида на миг прикрыла глаза рукой.
– Не называй меня так, это больше не моё имя. Вот моё имя и моё лицо. Я не она, я Святая Сигрида путей, как бы тебе не хотелось чего-то другого. Я отправилась в путь, чтобы разыскать тебя, но по-настоящему именно из-за этого стала человеком. Из-за корабля, что стремится к чудовищу, проглотившему мою богиню. Это и есть мой Подвиг, а не ты. Когда я увидела тебя, это напомнило мне о том, чего я так и не сумела сделать. Если бы я тогда пришла к тебе и все эти годы заправляла таверной вместе с тобой, ты, наверное, был бы счастлив, но это обратило бы в ложь моё обучение и всю жизнь с момента, когда торговка шкурами дала мне новую плоть взамен старой. Это был бы конец моей истории, и всё выглядело бы так, словно я сделала то, что сделала, исключительно ради мужа. Я желала другого конца. Я не твоя цель, Эйвинд, а стрела, летящая к Сигриде, и я должна попасть в мишень. Волк сбил меня с пути, разве не видишь? Он увёл меня с дороги, которая вела к тебе, прямиком туда, где я не смогла бы рассказать тебе драгоценные секреты. Я больше не Улла… Как я могу быть с Эйвиндом?
Трактирщик словно уменьшился в размерах, как если бы из него выпустили всю кровь. Он обхватил голову руками, запустил пальцы в редеющие волосы.
– Моя жизнь так запуталась, что я не вижу правды, даже если она у меня под носом. Болотный король сказал, что я останусь человеком до тех пор, пока деву не проглотят, море не станет золотым, а святые не отправятся на запад на крыльях птиц, не знавших наседки. Я поверил старому аисту… Думал, всё случится через несколько лет, не больше. Годы летели быстро, и однажды я понял, что сделался старым и толстым, а море по-прежнему серое. Я как-то рассказал всё одному мальчишке; с тех пор, наверное, минула вечность. Решил, если с кем-то поделиться, что-то изменится, события потекут быстрее. Но я не думал, ни разу не предположил, что моя любовь рядом, хлещет пиво в тёмном углу. Ты должна была сказать мне, Сигрида. – Он вздохнул тяжело и прерывисто. – Если не ты моя цель, то кто?
– Мне жаль, Эйвинд, в самом деле жаль. Я не хотела, чтобы всё случилось так. Пока была молодой и красивой, мечтала встретить свою капитаншу и спасти её. А теперь я едва тащусь к ней на дырявой посудине в надежде, что мне хватит сил помешать морской твари.
В углу трюма безмолвно плакала Седка; её слёзы капали на палубу корабля, который тихонько качался из стороны в сторону.
Молчание, повисшее между Сигридой и Эйвиндом, было густым и тёмным, словно плоть угря; дни и ночи сменяли друг друга. Седка ненавидела эту тишину, эхом отдававшуюся в ушах. Она обрадовалась как вол, с которого сняли ярмо, когда Грог прикончила последний бочонок с ромом, вылив остатки в синий рот, громко рыгнула и заорала:
– Панцирь слева по борту!
Так и было – у Седки перехватило дыхание от ужаса, когда она увидела растущий панцирь, чёрный, зелёный, синий как море и скользкий, будто тело жука, из которого, покачиваясь, подымался купол. Его круглые злые глаза показались над водой, моргая прозрачными веками из-за тусклого солнечного света. Грог надела гримасу скуки, но девочка видела, что под слоем солёной воды её хвост дрожит. Лицо Сигриды было искажено от страха и возбуждения, она изо всех сил хваталась за руку Эйвинда, то ли пытаясь удержать его рядом, то ли используя вместо якоря на корабле. Седка так и не поняла.
– Грог! – сильным и высоким голосом крикнула Сигрида. – Плыви туда! В пасть!
Магира вскинулась в своей лохани, молотя фиолетовым хвостом.
– Ты выжила из ума, женщина? Я привела вас сюда, но с ножами или без ножей, это такая же дурь, как пить из пустой кружки!
– Всё хорошо! – Сигрида рассмеялась, запрокинув голову. Её волосы струились как у юной девушки. – «Сиротка, медведик и дева домой поплывут беззаботно – вперёд и вперёд!»
Седка похлопала магиру по плечу, которое от страха излучало тёмно-бирюзовое свечение.
– Я это сделаю, Грог. Всё и впрямь будет хорошо. Скорее всего… Ведь об этом поётся в песне, а песни, как правило, правдивы.
Тонкие пальцы, точно восковые, обняли штурвал, и Грог откинулась назад в своей лохани, колыхая пышной грудью.
– Фанатики! – пробормотала она, мотая лохматой зелёной головой.
Пасть Эхинея распахнулась, и море ринулось в неё мимо зарослей китового уса цвета слоновой кости. Маленький кораблик взмыл на гребень волны, как игрушечный.
«Поцелуй ведьмы» исчез в тени, словно угасшее пламя в сердце фонаря.
В Саду
– Не останавливайся! – взмолился мальчик, дыша быстро, как бегущий галопом жеребёнок. Девочка нахмурилась, и у чернильных пятен век появились складки, похожие на созвездия. Её взгляд метнулся в комнату, остановившись на спящей Динарзад, чьи пальцы подёргивались на бронзовых ключах.
– Если меня тут поймают…
– Я тебя защищу! Я храбрый, как любая сигрида! Думаешь, не смогу?
Девочка выдержала вежливую паузу:
– Думаю, ты очень храбрый, но кое-чего не понимаешь. Забыл, что сам когда-то меня боялся?
Мальчик почувствовал, как у него вспыхнули щёки.
– Только чуть-чуть, – пробормотал он, перебирая невесть откуда взявшиеся на подоконнике камешки, пытаясь представить себе, что это фигуры ло-шэнь. Ночь вокруг была темна, точно седельное масло, только их глаза блестели.
– Она крепко спит, – уговаривал мальчик, перегнувшись через подоконник, чтобы быть поближе к девочке, пока не почувствовал её дикий запах – запах деревьев и камня, которым она пропиталась. – Расскажи, чем всё закончилось!
Сказка о Седой девочке (продолжение)
Когда четверо живых существ на борту маленького корабля прочистили глаза от пены и привыкли к темноте, мир вокруг изменился.
Точнее, они оказались в другом мире. Брюхо морского монстра было таким огромным, что они могли видеть лишь ближайший к ним бок – рёбра, изгибаясь, уходили вверх, как в кафедральном соборе, – другой терялся в тумане, а своды над их головами напоминали беззвёздное небо. Желудочный сок чудовища образовал что-то вроде внутреннего моря, над зелёно-коричневыми водами которого курился ядовитый туман. Шхуна скользила по этой маслянистой поверхности, расталкивая носом плававший вокруг мусор. Воняло гнилой рыбой и водорослями, мимо проплывали скелеты безымянных существ, которые никогда не видели солнца над океаном. Седке казалось, что за бортом варится какое-то адское зелье.
Сигрида не стояла у фальшборта и не пялилась на мусор, собранный чудовищем за вечность, которую оно бродило по морю. Она встала за штурвал и, по-ястребиному распахнув глаза, смотрела на залежи корабельных обломков впереди.
Это был город разбитых кораблей, каждый из которых в своём ритме покачивался на волнах моря желчи. Некоторые были серыми и рассыпа́лись от времени, за штурвалами были скелеты, а по палубе с гипнотическим упорством туда-сюда катались черепа. Другие не выглядели старыми: краска на них местами всё ещё оставалась яркой, а тела, застрявшие в «вороньих гнёздах» и на бушпритах, вздулись от гниения, и над ними роились мухи. Шхуна беззвучно миновала могильник. Команда разинула рты, а Эйвинд наконец закрыл глаза, не в силах смотреть на множество трупов.
Сигрида пристально смотрела на корабль, находившийся неподалёку. Среди всех кораблей-призраков лишь на нём горели фонари: их оранжевый свет разливался над омерзительной водой, отблески огня танцевали на слизистых сводах ненасытного брюха.
И слышались голоса – звуки шумного веселья, восторженные крики и радостные возгласы. Сердце Седки заколотилось в груди. С болезненной медлительностью они приближались к загадочному кораблю, и девочка осмелилась надеяться, что он будет алым, как старые мечты. Но, когда они смогли хорошенько рассмотреть галеон – а это был именно галеон, красивейший из всех, что родились на свет, – он оказался не алым, а белым.
Поверхность корабля – бимсы, паруса и лини, даже носовое изваяние в виде женщины с лисьей головой и поднятыми руками, которыми она держалась за нос, – покрывало неимоверное количество морских желудей, сидевших плотно, как семена в сердцевине цветка. Живая мачта обросла этим белым зловонным покровом, облепившим ветви, будто снег во время сильной бури. Тут и там попадались лишь небольшие пятна поверхности, не занятой каменистыми раковинами и сохранившей прежний алый блеск. Получилась почти цельная оболочка, вроде боевой лошади, и даже Грог смотрела на живую массу с отвращением. Однако на палубе можно было заметить множество людей, которые что-то делали и точно были здоровыми и крепкими.
На баке появилась женщина в кожаных штанах и просторной белой тунике, с кожей цвета мирры. У неё были тёмно-желтые глаза, а тёмные волосы ниспадали до талии и мерцали, словно целые залежи дорогостоящих пряностей, – в них было вплетено золото, золотые бусины попадались в узорных косах. За спиной незнакомки стояла женщина-тень, чья кожа будто горела, а рука лежала на рукояти громадного меча. Однако темноволосая глядела доброжелательно, её лицо было открытым и тёплым. Она положила руку на своё девичье бедро и широко улыбнулась гостям.
– Добро пожаловать в преисподнюю! – сказала она и рассмеялась.
В этот момент Сигрида начала плакать, оказавшись со своей Святой лицом к лицу.
– До чего же странная реакция, если позволите сказать, – заметила Святая Сигрида и жестом приказала двум женщинам перебросить планку с борта на борт, чтобы новоприбывшие могли перейти на её корабль.
– «Непорочность», – потрясённо прошептала Сигрида, ступив на палубу знаменитого судна, хоть та и была покрыта каменной белой коркой.
– О, это интересно. Значит, ты из сигрид. – Святая выглядела чуть рассерженной, как если бы ей пришлось осторожно переступить через пьяного жреца, уснувшего на её пути. Сигрида вытаращила глаза.
– Ты знаешь про Башню? – ахнула она.
– Башню? Нет, я не знаю ни о каких башнях, но маленький культ появился до того, как я превратилась в постоянную пассажирку бродячей киточерепахи. Они меня утомляли, но как я могла их разубедить? Всякий раз, когда одни совершают необыкновенные поступки, другие обязаны их повторить. Так устроен мир.
Сигрида выглядела так, будто ей отвесили оплеуху.
– Я всю жизнь искала тебя, Святую Грифонов, Кипящего моря и Алого корабля. Я никогда не пыталась повторить твои чудеса, а творила собственные. Лишь пыталась подражать тебе по духу, быть храброй, благородной и отыскать своё место в мире. Найти тебя.
Святая наклонилась к Сигриде – её лицо было таким же круглым и румяным, как в день исчезновения, – и, притронувшись пальцем к носу, заговорщически улыбнулась.
– Боги всегда разочаровывают, – проговорила она тихо и отрывисто.
Грог дёрнула хвостом, вызвав шумный всплеск, – так она привлекала внимание, словно детёныш, который не может подобраться к кормящей матери, потому что его братья и сёстры никак не перестанут её сосать.
– Мне, по правде говоря, плевать, кто ты такая, щегольски разодетая морская волчица. Твой корабль выглядит так, будто упал носом вперёд, в бочку со старым сыром. Я бы не сказала, что хороший капитан мог такое допустить, святая ты или нет.
Святая пренебрежительно взглянула на выразительный хвост Грог.
– Неприятности в море – дело обычное, как яблоки осенью.
Сказка про Капитаншу и Старую каргу
Длинноухая Томомо была первой капитаншей этого корабля – мы вырезали носовое изваяние в память о ней, – но я держу пари, по меньшей мере один из вас об этом уже знает. Она была прекрасной женщиной, и я любила её. Однако место лисы не в море, как и не во дворце. Она передала мне штурвал после того, как мы много лет бороздили море вместе, хотя были женщины и опытнее меня. Она сказала, что всякой даме надлежит оставлять нажитое имущество дочери, а не тётке или сестре. Томми коснулась моих волос лишь на мгновение, а когда мы пристали к берегу, ушла в лес, держа по мешку золота под мышками.
Больше я её не видела, и «Непорочность» стала моей.
На некоторое время наша жизнь стала яркой, как отражение луны в чёрной воде.
Думаю, случившееся потом на моей совести. Я была убеждена, что мы зачарованы, и Томми наделила нас лисьей магией до того, как покинула свою койку, поэтому нас никогда не поймают, как умную черноносую лису. Моей помощнице Халуд не было равных в поиске сокровищ, которые мы могли бы украсть, и она обычно заботилась о том, чтобы они добывались неправедным путём, чтобы мы могли спокойно спать: у джиннов талант – они вынюхивают золото, как дичь в лесу. Неудивительно, что именно орда джиннов, которую возглавлял великий Кашкаш, основала город Шадукиам во всём его драгоценном великолепии. Так они говорят. Я не слыхала имя Кашкаш, если не считать того, что Халуд постоянно поминала его всуе.
Как-то ночью, поужинав жареной свининой и свежими яблоками, позаимствованными на складе некоего губернатора, Халуд отправилась со мной на вахту. Мы стояли там, где всегда, и курили: я – свою трубку из китового уса, она – маленькую серебряную, которую получила в городе под Розовым куполом. По вечерам Халуд выглядит внушительно со своими волосами из дыма и искр и горячей кожей, испускающей ровное сияние. Впрочем, её глаза временами обжигали меня как пара горячих клещей. И обожгли в тот вечер, когда она рассказала мне о своём новом плане.
– Это будет нетрудно, Сигрида. Легче, чем украсть зерно у вороны. Там нет других сторожей, кроме старухи с деревянной ногой. Она даже вприпрыжку нас не догонит. А какие истории я слышала о её сокровище! Волшебный мешок, снаружи кожаный, внутри – неиссякаемый источник золота! Клянусь бородой Кашкаша! Надо быть безумцем, чтобы не отправиться на поиски этой штуки!
Я глубоко затянулась.
– Халуд, сердце моего сердца, я знаю, что твоя жажда денег ещё ни разу нас не подводила, но это слишком смахивает на детскую сказку. У нас был хороший год. Зачем гнаться за волшебными кошельками, когда наши собственные, вполне реальные кошельки полны?
– Ты веришь, что кошель, который полон до краёв сегодня, будет полным всегда? Возможно, тебе крепче спится, когда ты веришь, что сейчас лето. Но мой долг не позволяет мне бездельничать, я должна заботиться о наших кошельках и зимой. Что до магии и детей, мы с тобой стоим на палубе корабля, с чьей мачты нам на радость падают апельсины и гранаты и где женщина из огня говорит с матерью Грифонов.
– Ты, как всегда, умнее меня, старая джинния. Пусть Звёзды позаботятся, чтобы ты и дальше обо мне думала.
– Не старовата ли ты для того, чтобы удариться в веру, капитанша?
– Едва ли. Это всё привычки, любовь моя, привычки.
Мы отправились в путь к маленькому острову посреди хмурого туманного залива – обычного, со скалистыми пустыми берегами, полными сланца и базальта, украшенного серебристыми моллюсками и тёмно-голубыми мидиями, приросшими к потёртым морем камням. В центре острова была хижина, лишь это выделяло его среди сотен других мёртвых рифовых осколков, дрейфующих в океане. Халуд обменяла флакон своего сердцепламени на карту, и мы, увидев жалкий домишко, объявили цену непомерной. Нам едва ли могли понадобиться сабли, я взяла на берег лишь свою джиннию. Какой дурой я была… Но место выглядело таким пустынным! У несчастной хижины имелась крыша из соломы и листьев – дурно сделанная, беспорядочная и запутанная, точно гнездо. Стены были мазаные и воняли навозом. Она покоилась на распластанных ногах, похожих на лапы пеликана или цапли, когтями вцепившихся в скользкие камни для опоры.
На пороге сидела древняя старуха с полным подолом разинувших створки мидий. Её голова была опущена, так что ни Халуд, ни я не могли разглядеть лицо – спутанная масса пепельно-серых волос ниспадала от макушки до пят. Однако из плеч карги росли длинные чёрные крылья, увенчанные пучками маленьких цепких коготков, напоминавших руки, а от колен начинались кожистые лапы с когтями, походившими на ступни. Перья блестели на солнце и от брызг морской воды. Одежда на ней выглядела потрёпанной и распадающейся: несколько полос животных шкур, сшитых сухожилиями. Она заворчала, когда мы приблизились, и, высосав из мидии оранжевую плоть, швырнула пустую раковину мимо моей головы.
– Старуха! – объявила Халуд, заговорив раньше меня. Она часто так делала: если какая-нибудь несчастная душа приходила в ярость, она бросалась на джиннию, а не резать глотку мне. – Мы пришли за кошелём. Ты его нам отдашь, или мы его заберём, выбирай. Но, клянусь пламенем Кашкаша, он будет нашим!
Старая женщина бросила ещё одну раковину и угодила джиннии между глаз.
– О да, – проворчала карга. – Пришли, чтобы ограбить старую даму, уволочь её сундук? Это так легко, верно? Кости у неё хрупкие, точно у цыплёнка, и будут так благозвучно ломаться – настоящая музыка! – Из её глотки вырвался хриплый смешок. – Только я не слишком лёгкая добыча, красивые мои павлинихи! Ох, нет…
Тут она распрямила свой горб, мидии посыпались с колен и раскатились среди камней. Карга встала, откинула голову назад, и мы с ужасом увидели, что лицо под гривой волос было не изнурённым возрастом или слюнявым – даже не зрелым, а молодым и ухмыляющимся лицом мужчины, чьи глаза блестели чернотой и серебром. Волосы струились по его спине, опускаясь ниже колен. Он впечатляюще тряхнул крыльями. За одним из его оперенных плеч висел кожаный мешок, толстый, словно переполненный винный бурдюк.
– Вы этого хотели? Две девчонки, играющие в пиратов, явились обобрать старого Гасана, слабого и беспомощного? Вы тут далеко не первые. Я отдам его без боя, если вы сумеете меня перепить за предстоящую ночь. Люблю состязания…
Я на миг задумалась, уверенная, что нарядами его трюки не ограничиваются.
– Ты клянёшься, что кошель волшебный? – спросила я.
– Ещё какой! В этом его суть. Итак, ты принимаешь моё предложение… Заметь, речь лишь о тебе, я не бьюсь об заклад с огненными демонами. Или вернёшься на свой корабль и расскажешь команде, что не одолела слабую старуху?
Гасан насмешливо покачал кошелём, ухватив его одним пальцем трёхпалой когтистой руки, и скрылся в хижине.
Халуд одарила меня косым взглядом угольных глаз и вытащила из-за пазухи маленький флакон.
– Сердцепламя, – прошептала она: её голос был как последние завитки дыма от залитого костра. – Я собрала его, надрезав запястье, только сегодня утром. Капля в питьё – и он упадёт точно камень, брошенный с башни какого-нибудь замка.
Я взяла флакон с мутной оранжевой жидкостью и спрятала в рукаве; мы обменялись знакомыми ухмылками. И, полная безрассудства, как дева, намеревающаяся подоить быка, я последовала за Гасаном в его вонючую хижину.
На низком столике стояли глиняные чашки и большой кувшин цвета птичьих язычков. Гасан сидел за столиком, аккуратно сложив крылья, и лучезарно улыбался.
– Отлично! Присаживайся, моя девочка, и попробуй моё лучшее вино. Изготовлено из мидий и печёнок… Лучше на островах не найти.
Я опустилась на колени и потупилась, выражая скромность и покорность.
– У моего народа принято, чтобы прислуживала женщина. Ты позволишь?
Он будто что-то заподозрил, и я была уверена, что услышу отказ. Но мужчине трудно испытывать недоверие к женщине, которая настаивает на желании прислуживать ему, и Гасан кивнул. Я взяла два стакана и наполнила их пойлом нездорового цвета, вытекавшим тяжело, как густая желтая слизь. И, лишь самую малость прикрыв их рукавами, добавила три капли из флакона в его порцию. Своей корявой рукой Гасан взял стакан и с удовольствием осушил его одним глотком.
– О моём аппетите ходит слава по всему миру, – злобно заявил он.
– Как и о том, что ты старуха с больными коленями, – парировала я и осушила свою долю мидиевой настойки.
Мы выпили лишь трижды, и Гасан начал оседать на пол, его глаза закатились. Я не ощущала даже лёгкого опьянения, а его то ли тошнило, то ли тянуло в обморок, то ли всё сразу.
– Ты жульничала! – выдохнул он, схватившись за живот.
Я встала и расхохоталась.
– Даже хорошенькие девочки, играющие в пиратов, знают, как надо играть.
Гасан охнул, из угла его рта потекла струйка слюны; он тяжело осел, сминая перья и не в силах поднять тяжелые веки.
– Тогда забирай кошель, лживая дрянь. Надеюсь, тебе понравится его содержимое!
Тут его тело ослабело, и большая голова, увенчанная гривой спутанных волос, тяжело ударилась о пол. Храп заполнил маленький дом, как шторм, стучащий в окна. Я наклонилась и сняла мешок с его тела, довольная собой, – простой трюк, и времени понадобилось немного.
Ничего-то я не знала…
Когда мы с Халуд вернулись на «Непорочность», команда приветствовала нас триумфальными возгласами. Они собрались вокруг, нетерпеливо ожидая увидеть, как кошель начнёт творить свою магию. Я подняла его над головой, чтобы всем было видно, и сунула руку в толстую кожу, чтобы вытащить пригоршню золота.
Но, когда я вытащила руку из мешка, в кулаке не оказалось ни одной монеты. Взамен вся кисть была покрыта густой белой слизью: она прилипла к моей коже и пальцам, точно тело улитки. Большой сгусток вывалился из мешка, и тот вдруг наполнился слизью, которая, громко шлёпая на палубу, текла через край. Я быстро вытерла руку о штурвал: вещество, вонявшее рыбой и солью, вызвало у меня отвращение. А потом я увидела… мы все увидели, что слизь затвердевала там, куда попадала, и всё текла и текла из мешка, как из фонтана. Она уже покрыла половину корабля, будто снегопад, и вспучилась, образовав подобие кладки яиц, а потом, затвердев, приобрела знакомый вид серо-белых каменных морских желудей.
Разумеется, я приказала девочкам выдраить палубу, но ничего у нас не вышло, даже когда в ход пошли мечи. Мы не дошли и до середины залива, как алый корабль перестал быть алым, и все запаниковали. Тут проснулся Гасан – похоже, он был слишком силён, чтобы надолго поддаться огню Халуд, – и завопил от порога своей хижины:
– Валите отсюда! Глупые вы курицы! Унесите моих крошек так далеко, как только сможете. Пусть они вылупятся на вашем корабле и загадят его своим первым помётом! Дуры! Вот что бывает, если красть у старой женщины! Воровки! Злодейки! Надеюсь, на свой первый завтрак они вам повыдирают печёнки!
Мы с Халуд, больные от ужаса, стояли на баке моего некогда красивого корабля и глазели на птицеподобное создание, которое каркало и размахивало огромными чёрными крыльями, гоготало на суровом ветру.
Сказка о Седой девочке (продолжение)
– Прошло совсем немного времени после расставания с Гасаном, как мы встретили Эхинея… Это не очень интересная история: корабль встречает чудовище и либо спасается бегством, либо становится пищей. Нас проглотили целиком, и мы оказались в этом странном море. Время здесь почему-то течёт медленно, хотя снаружи прошли сотни лет. Из морских желудей никто не вылупился, а мы почти не состарились, ничего не изменилось. Мы ели существ, которых заглатывал Эхиней; вы удивитесь, узнав, скольких тюленей и акул он проглотил! Недостатка в еде у нас не было. Иногда ему попадались другие корабли. Но нас никто не искал, как вы.
Женщина-тень подошла к Святой и положила ладонь на рукоять меча. Седка узнала её по огненной коже: Халуд.
– Вы пришли вовремя, – гортанно проговорила она, точно языки пламени заплясали. – Наверное, вас послала сама судьба. Видите, твари ворочаются внутри яиц? Скоро они родятся, клянусь лампой Кашкаша!
– Всё верно. Думаю, завтра… У меня есть кое-какой опыт с вылупляющимися птицами. Желуди стали очень большими, и видно, что внутри каждого трепещет что-то чёрное. – Святая оценивающе взглянула на четверых чужаков. – Мы собирались бежать. Вы поможете нам или воспрепятствуете?
Сигрида будто подавила желание упасть на колени.
– Я сделаю всё, что смогу, госпожа.
Грог рыгнула.
– Выбора у нас нет, так?
– Ты, старая форель! – раздалось из трюма, и вскоре говорившая появилась на палубе. Это была женщина с волчьим хвостом, оленьими ляжками и яркими синими крыльями. Магадин быстрым шагом приблизилась к лохани магиры, её глаза сверкали.
– Я велела тебе привести мой корабль домой в целости и сохранности, а ты привела его сюда, чтобы разломать на кусочки? – взревела она.
– Что?! Глянь на эту банду – они меня похитили! – Грог отвернулась, взволнованная, и начала ковырять чешуйки на своём фиолетовом хвосте. – Я собиралась отвести его назад, клянусь! Но они заставили меня вернуться сюда. И разве ты не должна меня благодарить за то, что нос и корма на прежних местах? Кроме того, сложно было предполагать, что ты выживешь! А мёртвые не жалуются.
Халуд нахмурилась.
– Мы выловили её из желчи полумёртвую, но брать на борт монстров – священный долг, возложенный на нас старой Томомо… Мы записали её в команду, и теперь она одна из нас.
Магадин обняла лохматой рукой дымчатую талию джиннии.
– Приятно быть частью команды и не управлять каждым парусом в одиночку. Частью команды, а не пленницей, не девой и не грузом. Я умерла внутри кита, и меня волной вынесло на палубу рая. Это лучшая смерть, о которой можно просить, и я надеюсь ещё долго оставаться мёртвой.
Она улыбнулась и завиляла хвостом, усталые морщины на её лице разгладились.
– Теперь, когда мы все семья, – проворчал Эйвинд, – не лучше ли заняться подготовкой к тому, чтобы это чудище нас срыгнуло?
– Отличное предложение, – сказала Святая.
Через несколько часов оба корабля отбуксировали через море желчи ближе к пасти Эхинея. Эйвинд и Грог остались на борту корабля девы-бестии, а Сигрида и Седка держались пираток. Китовые усы висели в отдалении, как блестящий занавес. Было слышно, что снаружи шумит море.
– Сначала надо поднять чудище, – негромко проговорила Святая. – Халуд?
Джинния натянула тёмный изогнутый лук, так что он почти превратился в полную луну, и запалила стрелы от своего живота; потом выстрелила прямо в нёбо киточерепахи. На миг показалось, что стрела растаяла в тумане без единого звука. Но вдруг раздался негромкий стук, которому ответило эхо, и тварь, застонав от боли, начала подыматься сквозь воду, чтобы уничтожить причину неприятных ощущений.
– С чего мы взяли, что они вылупятся? – прошептала Седка, вцепившись в руку Сигриды, чтобы успокоить колотящееся сердце.
Святая, выглядевшая мрачной и счастливой одновременно, вытащила кинжал из ножен, привязанных к бедру.
– Мы не позволим им канителиться. Скорлупа должна быть достаточно тонкой, чтобы они смогли её пробить изнутри… Значит, мы можем пробить её снаружи. Добудь себе нож, девочка.
Грог крикнула Эйвинду, чтобы тот подтащил её к борту корабля, и начала разбивать желуди-яйца, бросая гарпуны. Каждое живое существо на «Непорочности» рубило, царапало, резало, разбивало яйца. Халуд касалась пальцами то одной скорлупы, то другой, и те окутывались оранжевыми язычками пламени. От болезненного треска Седку чуть не стошнило, а запах был ещё хуже – как мясо с душком. Поначалу дело шло медленно, и лишь несколько чёрных птенцов выпрыгнули из своих раковин. Но затем пасть Эхинея заполнил шелест тысяч крыльев, который удваивался и утраивался эхом, превращаясь в ревущий гром.
Первой рассмеялась Святая, её примеру последовала джинния. Они видели, и вскоре это увидели все, что огромная стая ворон поднимается из разрушенных морских желудей, шумно хлопая огромными крыльями, будто переворачивая страницы. Всё больше и больше их самостоятельно пробивали скорлупу, желая присоединиться к братьям и сёстрам. Бесчисленные крылья колотились о стену из китового уса, сводчатое нёбо и щёки темницы. Пасть заполнилась ими, словно глотком испорченного вина, и монстр от ярости взревел – от этого гортанного звука открылась бы земля.
И она действительно открылась. Сначала между челюстями Эхинея возник маленький зазор: ослепляющий луч света прорезал пространство между двумя кораблями. Луч превратился в поток, когда рот открылся шире и море ринулось внутрь, сверкая синим, серым и белым; волны ударили в борта кораблей. Команда «Непорочности» ответила слаженным радостным хором и подняла все паруса; Эйвинд в одиночку управлялся с такелажем другого корабля. Когда море вновь потекло внутрь, они оседлали волну и выехали на ней к солнцу и миру.
Вместе с ними из пасти Эхинея рванулись тысячи блестящих чёрных ворон, опережая корабли и следуя за ними, взмывая вверх и разлетаясь в стороны из пасти кита, как выдох тёмных ангелов. Хлопанье их крыльев было подобно картечи; солнечный свет заставлял их перья мерцать тёмно-фиолетовым цветом на фоне бледного неба. Монстр застонал, почти всхлипнул, и снова нырнул, а корабли устремились прочь от него, и их паруса были до отказа наполнены ветром.
Рождение закончилось так же быстро, как началось. Алый корабль и коричневый плыли вместе в ярком свете солнца, на некотором расстоянии от того места, где погрузилось чудовище; их соединяла планка, чтобы можно было проститься. Несколько нерешительных ворон кружились высоко над ними.
Солнце погружалось в море, его свет скользил по воде, разворачиваясь как перчатка и окрашивая волны в безупречный золотой цвет, будто некая дама уронила своё лучшее ожерелье в глубины. Золотой свет омыл палубу «Непорочности», и глаза Эйвинда заполнились слезами.
– Девственница была поглощена, – сказал он удивлённо, взмахом руки указав на алый корабль, – святые отправились на запад на крыльях птиц, не знавших наседки, а море… – ему стало трудно говорить, – превратилось в золото.
Эйвинд словно замерцал и закрутился, как червяк, дёргающийся на крючке, а потом исчез. На его месте стоял громадный белый медведь, из больших чёрных глаз которого текли слёзы. Его шерсть была мягкой и снежной, подсвеченной солнцем и брызгами волн. Тимберсы затрещали от внезапно увеличившегося веса. Сигрида вскрикнула и, пробежав по доске, перекинутой от алого корабля к «Поцелую ведьмы», упала на колени и коснулась его мохнатого лица.
Медведь закрыл глаза и тяжело опустил голову на колени своей возлюбленной.
– Это случилось. – Он вздохнул; его голос стал глубже и грубее, когда он снова стал собой, и был похож на рычание, а не на человечью речь. – Теперь мы можем отправиться домой. Наконец-то… Мы пойдём к торговке шкурами, и ты попросишь свою шкуру назад. Мы вернёмся в заснеженные пустоши вместе, и всё закончится.
Сигрида медленно отняла руки.
– Нет, Эйвинд. Я не могу… Я больше не Улла и снова ею не стану. Пойду с моей Госпожой, как и должна. Сиротка, медведь и дева. Ты должен найти собственный путь.
– Не бросай меня, жена-медведица! Всё, что я делал, лишь ради тебя.
Потрясённый, он поднял на неё свои ясные глаза.
– Ты делал всё для себя, чтобы снова жить той жизнью, которую считал правильной. Я не могу быть частью этой мечты… Я всё делала по наитию и из страсти, не считая сделанного ради Неё. Она – цель моего Подвига, и я не могу теперь от неё отказаться. Меня будто опять рвут на части, мои шкуры сражаются друг с другом. Но мне жаль, любовь моя: у нас нет пути назад.
Сигридва встала и погладила косматую белую голову медведя, потом наклонилась и поцеловала её; слёзы промочили шерсть насквозь. Он умолял и без толку пытался обхватить тело женщины неуклюжими лапами.
– Куда я пойду? Что я буду делать? – безнадёжно шептал он.
Сигрида покачала головой, не в силах дать ему ответ. Она перешла обратно на красный корабль, укрытый ковром из сломанных раковин. Святая обняла её, и Сигрида засияла, словно новобрачная.
– Что ж, медведь, – сказала Грог со вздохом, плеснув себе на грудь солёной воды. – Кажется, мы с тобой возвращаемся домой в одиночестве. Седка, иди-ка на борт, дитя. Хватит с меня слезливых прощаний.
Но Седка, чьи белые волосы сверкали в последних лучах солнца, отступила и оказалась в руках Сигриды.
– Я остаюсь, – сказала она неуверенно. – Мурин – не мой дом. Там для меня ничего нет. Если капитан меня примет, я назову этот корабль своей матерью и отцом. Возможно, однажды утром я проснусь и увижу, что моё тело опять обрело тёмные и розовые краски.
Девочка улыбнулась, и улыбка согрела её лицо, словно качающийся корабельный фонарь.
– Конечно, мы тебя возьмём[37],– сказала Святая. – Томми заклинала нас никогда не отказывать добровольцам. Мы – семья чудовищ, и рождение новых чудовищ – повод для радости. Нам так много надо сделать, море и прилив снова наши.
Планку отвязали, и корабли разделились, как близнецы в утробе матери. «Непорочность» пошла на запад, её паруса сверкали. Грог и Эйвинд остались на брошенном «Поцелуе ведьмы», который поворачивал на восход, в сторону от солнца, в мрачные сумерки. Магира посмотрела на медведя, стоявшего на передней палубе и смотревшего на красное пятно удаляющегося корабля; его широкие плечи опустились от горя.
– Ну хватит, милый, – сказала она с внезапной и странной нежностью. – Я отвезу тебя домой.
– Мурин и мне не дом. Но я, похоже, недостаточно чудовищен, чтобы заслужить место в море.
Грог, смущённая его скорбью, принялась изучать доски палубы.
– Тогда я отвезу тебя на север, Эйви, – просветлела она, и её голос сделался как сливочный ром. – Туда, где твой настоящий дом. Ты ведь можешь вернуться и отдохнуть со своим народом? Это уже что-то, тебе не кажется? Разве ты не соскучился по Звёздам, которые сияют над ледниками, будто тысяча свечей?
Эйвинд повернул к ней медвежью голову.
– Соскучился, – признался он.
– Тогда я правлю на север, старый медведь. И когда ты снова почувствуешь под лапами снег, мир перестанет казаться таким чёрным. По крайней мере я рискну это предположить. С вами-то как разберёшь?
Грог провела рукой по зелёным волосам.
Белый медведь осторожно прошел по палубе к её лохани и улёгся рядом. Он положил голову на деревянный край и, когда последние ленты дня размотались с неба, уснул.
В Саду
Рассвет прокрался сквозь фиолетовые занавески, запятнав их красным, словно кровью телёнка. Девочка сидела на влажной траве, её лицо окружали оранжевый и золотой цвета, и она улыбалась мальчику, сидевшему на подоконнике, в тени тёплого дня, который ещё рос, как пухлое дитя.
– До чего чудесная история! – воскликнул он громковато.
Девочка шикнула на него, вскочила и приложила палец к его губам. Мальчик затрепетал от её прикосновения, будто был сухим деревом, а она – искрой. На миг они посмотрели друг на друга, и её окруженные темнотой глаза словно поглотили его, пока он не потерял солнце, получив только две луны, полные теней и тайн.
Девочка отняла руку от его лица и потянулась, как молодая львица.
– Да, а завтра я расскажу тебе другую историю, ещё страннее и прекраснее. Если ты вернёшься в Сад, к ночи и ко мне…
Она повернулась и убежала по кипарисовой тропе, мимо конюшни, в подёрнутую туманом яблоневую рощу; серые юбки развевались позади неё.
Мальчик вздрогнул от наслаждения, его кожа покрылась мурашками от утренней прохлады, и он снова забрался под свои меха, чтобы помечтать об алом корабле, плывущем на закат.
Динарзад лежала без сна, спокойная как смерть, и её глаза были полны слёз.
Благодарности
Хотелось бы коротко поблагодарить:
Шона Уоллеса, Ника Маматаса и Джеффа Вандермеера – за то, что они поверили в меня и щедро помогали советами.
Дебору Шварц и Соню Тааффе – за то, что вдохновляли и терпеливо слушали.
Джульет Ульман – за безошибочную интуицию и руководство и Мишель Рубин – за то, что была мне доброй наставницей.
Наконец, Сэма Барриса, Дмитрия и Мелиссу Загидулиных, без неослабевающей поддержки, любви и вдумчивой критики которых эта книга не появилась бы на свет.
Примечания
1
Скимитар – обобщённый европейский термин для обозначения различных восточных сабель. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Послеобраз – феномен зрительного восприятия, который заключается в том, что после продолжительного вглядывания в какой-либо объект или после яркой вспышки человек продолжает видеть этот объект, даже если он исчез из поля зрения. Послеобразы бывают негативные (на тёмном фоне) и позитивные (на светлом).
(обратно)3
Лиульфур (Liulfr) – старонорвежское имя, в переводе означающее «волк».
(обратно)4
Амира (араб. – амирах) – принцесса или княжна.
(обратно)5
Мандала (санскр. – круг, диск) – сакральное схематическое изображение либо конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных практиках.
(обратно)6
Динарзад (Дуньязада) – младшая сестра Шахерезады, с чьей просьбы (заранее обговоренной между сёстрами) начинается цикл историй «Тысяча и одна ночь».
(обратно)7
Левкрота – мифическое животное, описанное Плинием Старшим в «Естественной истории».
(обратно)8
Соня-полчок, или полчок, – грызун семейства соневых. В Древнем Риме сонь-полчков отлавливали и некоторое время держали в неволе, откармливая орехами, после чего использовали в пищу в качестве деликатеса, приготовленного описанным в романе способом.
(обратно)9
Псоглавцы (кинокефалы, киноцефалы) – мифический народ полулюдей-полусобак, упоминания о котором встречаются у античных авторов, например у Геродота и Плиния Старшего.
(обратно)10
Трое братьев-кинокефалов (включая Варнаву, который появится в повествовании позже) носят имена библейских святых: Варфоломей был одним из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; Варнава – из числа «апостолов от семидесяти», а имя Валтасар отсылает к одному из трёх волхвов, принесших дары младенцу Иисусу (хотя в Библии волхвы безымянные, в западноевропейской традиции принято считать, что их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар, или Валтасар). В то же время четвёртый брат носит имя персонажа артурианских легенд. Бадмагю, король Горра, отец злого рыцаря Малаганта (Мелеагана), является героем романа Кретьена де Труа «Ланселот, или Рыцарь телеги». Образ «рыцаря телеги» ещё встретится читателю во втором томе «Сиротских сказок».
(обратно)11
Ло-шэнь – божество реки Ло в китайской мифологии, ставшее одним из символов женской красоты в китайской поэзии.
(обратно)12
Гадание [по И-цзину] на стеблях тысячелистника – один из древнейших способов гадания в Китае.
(обратно)13
Существа И (Yi) отсылают к китайскому мифу о Хоу И (Стрелке И), который убивал чудовищ и хотел стать бессмертным, но не смог, потому что полученное от богини Си Ванму снадобье бессмертия украла его жена Чанъэ, выпила и улетела на Луну, где, по одной из версий мифа, превратилась в жабу.
(обратно)14
Ригор мортис (лат. rigor mortis) – трупное окоченение.
(обратно)15
Пороховая обезьяна (пороховой мальчик) – чернорабочий на парусном судне, в чьи обязанности, помимо уборки корабельных помещений, чистки оружия и т. п., входил перенос пороха из крюйт-камеры на орудийную палубу. По статусу, «пороховые обезьяны» располагались ниже всех прочих моряков.
(обратно)16
Намёк на «прогулку по доске» – казнь, применявшаяся пиратами: осуждённый шёл по доске, один конец которой выдавался в море, и падал за борт, где тонул или становился едой для акул.
(обратно)17
Аримаспы – мифический народ на крайнем северо-востоке Древнего мира, о котором упоминает Геродот; одноглазые люди, постоянно сражающиеся с грифонами из-за охраняемого теми золота.
(обратно)18
Одноноги (моноподы, сциоподы) – мифологические существа, обладающие одной тонкой ногой, которая заканчивается громадной ступнёй.
(обратно)19
Олуваким говорит о циклопах (киклопах) – мифологических существах, которых нельзя отождествлять с народом аримаспов (в отличие от циклопов, они имеют не древнегреческое, а скифское происхождение). В известном повествовании Гомера Одиссей и его спутники попадают на остров циклопов-овцепасов, отличающихся громадным ростом, силой и прожорливостью, но не умом – за что один из них, Полифем, поплатился единственным глазом.
(обратно)20
Моноподов-одноногов также именуют сциоподами, что в буквальном переводе означает «ноги-тени».
(обратно)21
Сянь (xian, hsien) – бессмертные святые в китайской даосской мифологии.
(обратно)22
Отсылка к фразе «hic sunt dracones/leones» (лат., букв. – «здесь [водятся] драконы/львы»), которой на средневековых картах помечали неведомые земли, расположенные на краю освоенного людьми мира (ойкумены).
(обратно)23
Стрига (лат. strix – сова) – согласно римским и греческим легендам, отдалённо напоминающий сову-сипуху вампир с золотым клювом, красными крыльями и четырьмя когтистыми лапами. Древнеримские стриги породили карпато-балканских стригоев и стригоек – колдунов-вампиров, способных менять облик.
(обратно)24
Катоблепас – мифическое существо с телом буйвола и головой кабана, описанное Плинием Старшим и Клавдием Элианом. Возможно, его прообразом является антилопа гну.
(обратно)25
Йейл – рогатое четырёхногое мифическое существо, впервые упомянутое в «Естественной истории» Плиния Старшего. Возможно, его прообразом является индийский буйвол.
(обратно)26
Селки – в шотландской, ирландской и исландской мифологии морские существа, пребывающие в облике тюленей, но способные сбрасывать тюленьи шкуры и превращаться в людей. Если кто-то находит шкуру и прячет, селки остаются на берегу. Во множестве сказок женщины-селки успевают обзавестись семьями и детьми, прежде чем кто-то умышленно или случайно возвращает им шкуры, и тогда они снова уходят жить в море.
(обратно)27
Легендарное чудище из средневекового бестиария, гигантская рыба с присоской на голове, способная задерживать корабли в пути.
(обратно)28
Чанъэ – персонаж китайской мифологии, даосская богиня Луны.
(обратно)29
Тянь-фэй – богиня моря в поздней китайской мифологии, также известная под именами Тянь-хоу и Ма-цзу.
(обратно)30
Пань-нян и Ман Цзинь-и – малоизвестные китайские богини.
(обратно)31
Шунь-и Фу-жэнь – даосская святая, в ряде регионов Китая и Тайваня почитаемая в качестве богини; покровительница женщин, которые вынуждены много и тяжело трудиться. Также считается, что эта богиня помогает страдающим от бесплодия и при родах.
(обратно)32
Шэн-му, «Святая мать», – китайская богиня, покровительница женщин и женского начала.
(обратно)33
Магиры – весьма уродливые русалки, которые, согласно мифологии викингов, обитают вблизи берегов Гренландии.
(обратно)34
Разновидность морского узла. Также известен под названием «узел камикадзе».
(обратно)35
В оригинале помощника магиры зовут Turkshead, в честь морского узла «турецкая голова».
(обратно)36
Робиния обыкновенная или робиния ложноакациевая – дерево, известное под ошибочным, с научной точки зрения, названием «белая акация». Древесина робинии нашла применение в кораблестроении (в основном, для изготовления небольших лодок), так как долго сохраняется в воде и не гниёт.
(обратно)37
Возможно, имя Седки (Snow) в оригинале представляет собой непереводимую игру слов, поскольку, кроме намёка на Белоснежку и указания на цвет волос девочки, оно отсылает к особому типу небольших кораблей, по-русски называемых «шнява» или «снава», а по-английски – snow или snowbrig. У таких кораблей имеются фок-мачта и грот-мачта обычного размера и ещё одна – дополнительная мачта, очень маленькая, только для одного паруса, который называется трисель. Шняв-мачта или трисель-мачта стоит вплотную к грот-мачте; по-английски она называется snowmast. Нетрудно заметить, что в финале на борту «Непорочности» собрались три «мачты» – главные героини «Морской книги», две Сигриды и Седка.
(обратно)



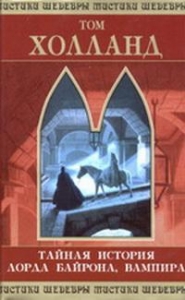
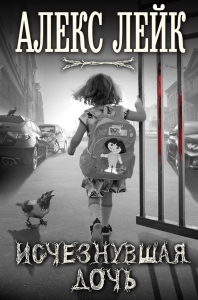
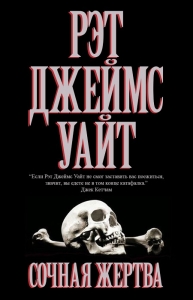
Комментарии к книге «В ночном саду», Кэтрин Морган Валенте
Всего 0 комментариев