Эллен Датлоу Легенды о призраках
Haunted Legends
Edited by Ellen Datlow and Nick Mamatas
Редакторы-составители: Э. Датлоу, Н. Маматас
Перевод с английского А. Белоруссова
Haunted Legends – Copyright © Ellen Datlow; Nick Mamatas, 2010
© Перевод. Белоруссов А. В., 2015
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
* * *
Посвящается Оливии Флинт.
Н. М.Посвящается моим родителям, Натану и Дорис Датлоу.
Э. Д.Почему мы любим истории о призраках
Призраков вообще-то не бывает.
А вот историй о призраках – великое множество. Найти их легче легкого. У каждого города есть свои легенды – об озерах слез, о призраках-автостопщиках, о злобных стариках и старухах, которых не пустили из-за их мерзкого характера ни в рай, ни в ад, о домах, которые всю свою сверхъестественную мощь употребляют на то, чтобы выгнать непрошеных жильцов. Существуют и народные сказки о призраках – они предупреждают родителей, что за детишками нужно хорошенько следить, а то их сожрет какая-нибудь нечисть. Естественно, некоторые такие рассказы служат предостережением и для самих детишек: «Не заговаривай с незнакомцами», – намекают они, или: «Ночами следует спать». Истории о призраках эволюционировали в современные городские легенды, которые имеют свои социальные задачи. «Не ешь в уличных забегаловках, а не то пожалеешь» – одна из них.
В рассказе о призраках сам призрак присутствовать не обязан. В «Пепельном дереве» М. Р. Джеймса есть проклятие, ведьма и «гигантский паук, страшный, опаленный пламенем», но настоящего призрака нет. Даже пауки, несмотря на их огромные размеры – «с человеческую голову», – не являются истинно сверхъестественными существами. Они не отходят далеко от ясеня, в котором живут, – поэтому проклятия легко избежать, если не ночевать в комнате, окно которой обращено к этому дереву, – и умирают в пламени так же, как обычные, всем известные пауки. От большинства призраков так легко не избавиться, потому что они олицетворяют собой скорбь, тоску по прошлому, желание все исправить и предостережение для любопытных. Мы рассказываем друг другу истории о призраках, думая, что это всего лишь выдумка. Но сказка – ложь, да в ней намек…
В мире есть очень много историй о призраках, и на них существует большой спрос, поэтому почти в каждой местности есть собственные «кустарные мастерские» по их производству и люди, которые этим занимаются. К сожалению, большинство из таких «правдивых» рассказов о призраках никуда не годятся. Фольклорист из местного университета вряд ли напишет о привидениях что-либо, кроме курсовой работы. «Исследователь паранормальных явлений» с ручным детектором для прозвона стен, перекалиброванным для поиска призраков, – черт, да он и думает-то с трудом, не говоря уже о том, чтобы написать хороший рассказ. Не современные технологии и не современное мышление загнали истории о призраках в сборники, которые никто не читает, а плохая проза, плохое изложение материала. Большинство таких историй нас совсем не пугает. Подобно тому как каждый наш город был рационализирован, бюрократизирован, «старбаксизирован» и превращен в серую, однообразную, скучную территорию, истории о призраках были стандартизированы и подготовлены для продажи туристам вместе с «местными» сладостями (произведенными на гигантской фабрике в тысяче миль отсюда) и билетами на демонстрацию самого большого в мире веревочного мотка.
Но все же истории о призраках невозможно до конца вогнать в рамки и убрать из них всю неприятную составляющую – потому что в нашей жизни по-прежнему есть место опасности и страху. Существуют дома, в которые не следует заходить, автостопщики, которых не следует подбирать, леса, в которых почему-то очень легко заблудиться. Дети уходят из дома и не возвращаются, и нас преследуют их фотографии с подписью «Пропал без вести» на пакетах с молоком. В основании финансового благополучия даже самых добропорядочных представителей буржуазии лежат чьи-то кости – и хорошо еще, если они метафорические, а не настоящие. Мы уверены, что ни призраков, ни чудовищ не бывает, но по-прежнему существуют вещи, которых мы не понимаем. Призраки прячутся в темных местах, в провалах понимания. Смерть по-прежнему идет рука об руку с жизнью. Перед вами «Легенды о призраках».
Наша идея была проста: мы попросили лучших в мире писателей в жанре «хоррор» и «темное фэнтези» выбрать какую-либо «правдивую» историю о призраке и вызволить ее из паутины местного сувенирного магазина и пыли научного журнала. Двуликая женщина, вьетнамские духи-лисы, призрак коммунизма, бродящий по России в облике товарища Берии, – естественно, это у нас есть. Знаменитые вампиры Род-Айленда, привидение в парке аттракционов, о котором вы, скорее всего, и не слышали, если только вы не с тихоокеанского северо-запада, австралийский затонувший корабль, индийский призрак города Фатехпур-Сикри – это у нас тоже есть. Призраков не бывает, но предостережений любопытствующим… О, их у нас много!
Ник МаматасРичард Боуз Таверна «Никербокер»
В прошлое воскресенье пролетел Голландец, из Сонной Лощины прискакал Всадник без головы. Это произошло тогда, когда я нанес визит в уголок моей извращенной юности, которому я частично обязан ностальгии, но по большей части – болезненному любопытству. Я даже поцеловал кончики пальцев одной моей очень старой, очень скверной привычки, оправдав себя тем, что сделал это ради ушедших дней.
Мы – я и еще несколько выживших – сидели в дешевом нью-йоркском баре, пустившем глубокие корни в нашем прошлом. Это собрание стало логическим продолжением определенной церемонии, из тех, в которых по достижении некоторого возраста все чаще приходится принимать участие; мы только что покинули квартиру одного нашего покойного знакомого.
Звали усопшего Эдди Аккерс. Мы с ним никогда не были особенно дружны. Наши вкусы и интересы ни в чем не совпадали, и я не видел его сорок лет, с того самого времени, как мы с ним работали – и занимали соседние столы – в маленьком рекламном агентстве, функционировавшем в сфере моды, которое называлось «Летучий голландец».
Пару недель назад моя хорошая знакомая, которую мы все зовем Майором, позвонила мне и сообщила о внезапной смерти Эдди. Я рассудил, что его хватил инфаркт, и не стал вдаваться в детали. Хоронили его в городке в долине Гудзона, откуда он родом, и я не стал ради поездки туда отпрашиваться с работы на целый день, тем более что в библиотеке меня некому было заменить.
В прошлый вторник Майор опять позвонила и сказала, что ни одна из бывших жен Эдди, так же как и его сын с дочерью, которых он в процессе жизни произвел на свет, не заинтересованы в том, чтобы приехать и разобрать его личные вещи. Сестра Эдди приехала бы, но ей слишком далеко и тяжело было бы добираться до города. Еще она сказала, что наша старая банда хочет собраться в ближайшие выходные, и попросила меня присоединиться к ним.
Мы называем Барбару Лор Майором Барбарой или просто Майором из-за ее высокого роста, строгой манеры держать себя и сурового британского акцента. Она сказала: «Его сестра прекрасный человек, но возраст, сам понимаешь… Скоро ведь и мы ног таскать не будем. Жаль ты не видел голландскую церковь и кладбище, на котором похоронили Эдди – Сонная Лощина, ни дать ни взять. – И добавила: – А после того, как завершим все дела, можем зайти куда-нибудь и удариться в воспоминания».
Большинство моих воспоминаний о рекламном агентстве «Летучий голландец» и о нашем боссе, Баде ван Брунте, нельзя назвать приятными. Но, задумываясь о тех днях, я понимаю, что где-то во мне еще есть неразвязанные узлы, вещи, которые до сих пор не дают мне покоя. И так как я не пью, то взял с собой перкоцет, оставшийся у меня после последнего эпизода с больным зубом. Конечно, я уже не употребляю наркотиков, но, господа, никто ведь не совершенен.
В воскресенье мы собрались в квартире Эдди. Нас было шестеро. Мы с Майором видимся чуть ли не каждую неделю. Джей Гласс ведет колонку музыкальной критики в «Уолл-стрит джорнал». У нас есть общие друзья и интересы, и мы встречались какое-то количество раз за эти годы, хотя по большей части случайно. Я пришел к выводу, что Джей не любит ни мужчин, ни женщин, не интересуется ни музыкой, ни чем бы то ни было другим, за исключением собственной персоны и пребывания ее в центре всеобщего внимания.
Остальными пришедшими были Мимси Фридман (она пишет статьи о моде в «Харперс базар»), Дуглас Лоттс, который покинул агентство ради поступления в университет и до сих пор преподает в колледже в Нью-Джерси, и Дон Бутби – она может похвастаться влиятельными родственниками, не без помощи которых добилась успеха в сфере связей с общественностью.
Майор заправляла всем процессом. Нас уже ждали многочисленные картонные коробки, по которым мы должны были разложить вещи Эдди, и пицца. «Церемонии, подобные этой, – те, что предназначены для умерших, – это единственные настоящие обряды, которые еще проводятся в нашей среде, – заявила она. – Рождение детей – а их сейчас рожают все меньше – запланировано заранее. Наследственные болезни учтены, пол ребенка выбран, место и время родов определены. Свадьбы – в нашем веке это всего лишь публичное заявление об изменении статуса, социальное мероприятие. Но смерть… смерть, мои дорогие, всегда застает врасплох и всегда означает безвозвратную перемену в ткани бытия». Майор Барбара пишет длинные, высоко оцениваемые критиками фэнтезийные романы, и это чувствуется.
Мы разобрали значительную часть вещей Эдди Аккерса: одежду рассовали по полиэтиленовым мешкам для Армии спасения; кухонные принадлежности, клюшки для гольфа и удочки для ловли форели упаковали в коробки, чтобы отправить их по почте его сестре; журналы с названиями вроде «Пожирательницы мужчин», в которых на девушках были только тигриные или львиные маски и больше ничего, убрали с глаз долой. Кто бы мог подумать, что старина Аккерс увлекается подобными вещами.
За работой мы много говорили о нашем старом боссе, легендарном деспоте Баде ван Брунте.
– Сатана во фланелевой рубашке от братьев Брукс, – сказала Майор.
– С серной вонью, едва замаскированной перегаром и одеколоном «Виталис», – добавил кто-то.
Когда я думал о ван Брунте, то видел вместо его круглой, красной, лысой головы тыкву с вырезанными в ней глазами и ртом, освещенную изнутри багровым пламенем свечи. Это видение заставило меня пойти в ванную и проглотить половину таблетки перкоцета. На пару часов все вокруг приобрело теплое, приятное свечение.
Об Эдди Аккерсе мы почти совсем не вспоминали.
– Бедняга Эдди, – заметил кто-то, когда мы практически закончили разбирать его пожитки. – Какая пустая была жизнь.
– Он выдержал то ли десять, то ли пятнадцать лет в «Летучем голландце», а когда ван Брунт наконец отправился в ад, занял его место. Думаю, он считал, что за это можно было продать душу, – произнес Джей Гласс.
– Он приходился ван Брунту каким-то дальним родственником. Племянником жены, что ли, – сказал я.
– А не пора ли нам переместиться куда-нибудь? – предложила Майор.
– И куда? – поинтересовался я.
– В «Никербокер», – сказала она. – Теперь он называется «Никс». Именно там Эдди отдал богу душу.
– Вы не находите в этом мрачной иронии? – спросила Мимси Фридман.
– Он бы сам хотел, чтобы мы туда пошли. Может, он даже нас там ждет.
Мимси вздрогнула, Джей Гласс поморщился, но остальные рассмеялись.
Когда мы вывалились на улицу, было уже темно. Эдди Аккерс жил в одном из тех многоэтажных монстров, которые в двадцатые повылазили из земли вдоль Шестой авеню.
– Всегда приятно посидеть в теплой компании, после того как кто-то сыграл в ящик, – сказал я. К тому времени я принял вторую половину перкоцета.
Чуть дальше от центра города, не доходя то того места, где на пересечении Шестой и Бродвея разлеглась Геральд-сквер, находится ряд низких домов, которых миновали бульдозеры и экскаваторы. В самой середине этого ряда стоит древнее четырехэтажное здание со здоровенной вывеской «Никс» над входом.
– Его построили в сороковые годы девятнадцатого века. Это здание имеет историческую ценность, поэтому его и не снесли, – сказал Джей Гласс, который явно провел предварительные исследования. – Из-за этого, наверное, и оставшуюся часть квартала не пытаются реконструировать.
Когда все мы были молодыми и Манхэттен казался нам чудом, таверна «Никербокер» на краю блестящего, полного жизни Швейного квартала была оазисом для молодых копирайтеров и ассистентов арт-директоров. В то время «Никербокер» был оформлен в колониальном стиле, а официантки носили голландские чепцы и деревянные башмаки, которые мы все считали восхитительно пошлыми.
Теперь Швейный квартал с его многими тысячами портных и улицами, по которым нельзя было пройти из-за вешалок с одеждой, превратился в выцветшее воспоминание. Все, что осталось голландского в Нью-Йорке, – это немногочисленные улицы и здания с названиями вроде «Гансенфорт», «Стиверсант», «Рузвельт», «Астор» или «Вандербильт».
Мы остановились на тротуаре и стали читать бронзовые таблички, висевшие рядом с входом. Одна из них гласила: «На этом месте во времена голландской колонии располагались придорожная закусочная и постоялый двор». На второй было выбито: «Когда Геральд-сквер была театральным районом, в этом здании находилась таверна “Никербокер”, в которой любили собираться актеры. Считается, что именно здесь Джордж Кохан написал песню “Give My Best Regards to Broadway”».
Внутри «Никс» были только кожа и сталь. Огромный телевизионный экран показывал «Гигантов», швыряющихся мячом под солнцем западного побережья. На втором экране парни в футболках с логотипом телеканала обсуждали итоги бейсбольного матча. Звук был выключен. Воскресный вечер здесь определенно был не самым горячим временем – в огромном пустом заведении, если бы не столы, можно было в футбол играть.
Мы заняли столик в уединенном аппендиксе, ответвлявшемся от дальней стены, и стали осматриваться в поисках каких-нибудь знакомых предметов или элементов обстановки.
– У них тут сохранилась пара вещей из старой гостиницы, – сказала Майор. – Они добавляли «Никербокеру» очарования. А здесь они смотрятся, как на Луне.
– Старый Нью-Йорк не был приятным местом, – сказал Джей. – Во время Войны за независимость тут процветали обман и двурушничество, предательство и воровство. Иностранные агенты тут кишмя кишели. На этом постоялом дворе останавливались и Аарон Бёрр, и Бенедикт Арнольд.
Появилась официантка, смуглая девушка с длинными черными волосами. Она сказала, что ее зовут Бениция, и приняла наш заказ. Она уже собралась уходить, когда Майор Барбара поглядела на нее и сказала:
– Простите, я кое-что хочу у вас спросить. Пару недель назад здесь имел место печальный инцидент с одним клиентом. Это произошло, случайно, не в вашу смену?
Бениция удивленно вскинула брови и сказала:
– Да. Мы тут все очень испугались, но мне его жаль. Он зашел с улицы и миновал нашу хостес. Был как раз «счастливый час», и здесь было полно народу. Лицо у этого мужчины было ярко-красным, и двигался он как-то странно. Я подумала, что он уже сильно пьян. К нему направился администратор, и тут он упал ничком. Мы вызвали «скорую помощь», но он был уже мертв. Как вы узнали об этом случае?
– Это был наш знакомый. Его звали Эдди Аккерс.
– Мне очень жаль, – сказала официантка.
– А где он упал? – спросила Майор Барбара.
– Да где-то прямо здесь. Где вы сидите.
Когда она ушла, Дуг Лоттс сказал:
– Что его вообще дернуло прийти сюда умирать?
– Он же родственник ван Брунта. Никакое другое место не могло бы подойти ему лучше, чем это. Энергетика «Никербокера» сильнее, чем у любого здания в этом районе Нью-Йорка.
– Энергетика? – спросил я, оглядываясь по сторонам. – Это здесь-то?
– Если священное место осквернено, это еще не значит, что оно лишилось всей своей силы. – Майор загадочно улыбнулась, и я спросил себя, что за игру она затеяла.
– Бедный Эдди, – сказала Мимси. – Помните, как ван Брунт его разносил перед всеми?
– А был вообще кто-нибудь, с кем Летучий голландец этого не проделывал? – спросил я и вспомнил лицо, которое летело в меня, словно кулак, и рычание: «Я хочу, чтобы по этой статье было видно, что ее написал мужчина, ты, никчемная баба!»
– Абсолютно каждому из нас он по меньшей мере раз в неделю заявлял: «Ты уволен!» – сказала Дон Бутби.
Ван Брунт специализировался в найме тех работников, которых он мог дешево поиметь, – только что выпустившихся откуда-нибудь юнцов, вроде моих друзей, которым до зарезу нужен был опыт работы, бедолаг вроде Аккерса, которых никуда не брали, раздолбаев вроде меня, которым остался всего дюйм до того, чтобы с треском вылететь из Швейного квартала.
Составленная им брошюра описывала его контору как «агентство на Седьмой авеню, в самом сердце Соединенных Штатов». Занимались мы тем, что писали разные рекламные тексты и рисовали плакаты для магазинов, расположенных по большей части в тех городах, откуда мы все убежали сломя голову.
За глаза все звали ван Брунта «Летучим голландцем». О его скверном характере ходили легенды – и это в отрасли, основанной на скандалах и оскорблениях! По меньшей мере раз в день он угрожал кастрацией и мучительной смертью какому-нибудь несчастному, которому не посчастливилось оказаться на другом конце провода.
Джейсон сказал:
– Помните его стандартную фразу: «Как думаешь, будет тебе приятно ходить, если я затолкаю тебе в задницу мой башмак одиннадцатого размера?»
– Бог ты мой, ну что он был за засранцем! – сказала Майор. – И ведь это нашу кровушку он хлебал от души.
Принесли напитки, и на пару минут столик окунулся в тишину.
Затем Дон Бутби сказала:
– Помните, как ван Брунт заставил меня писать двухстраничную статью о кухонном фартуке для универмага в Джорджии? Прихожу я как-то утром – я только-только тогда к нему устроилась, – а на моем столе рассыпаны фотографии этого убогого фартука и лежит записка от Голландца, в которой написано, что статья должна звучать, как песня. О фартуке! Да кто их вообще покупает – в двадцатом-то веке! И как статья о фартуках может звучать, как песня? Я, наверное, раз сто ее переписывала.
В уголках рта Майора появились морщинки от тщательно замаскированной хитрой улыбки. Они с Мимси переглянулись. Эта реклама фартука была розыгрышем, который они устроили Дон. Столько лет прошло, а она до сих пор не знает правды.
Чтобы сменить тему, я сказал:
– Помните, мы обнаружили, что злодея Брома Бонса в «Легенде о Сонной Лощине», негодяя и хама, который выгнал Икабода Крейна из города, на самом деле звали ван Брунтом?
– Бад упоминал об этом в своих параноидальных монологах, – сказала Мимси. – Он говорил, что его семейство было богатым и Вашингтон Ирвинг им завидовал, потому и сочинил историю о том, как предок Брунта украл Катрину ван Тассел. Наверное, в легенде все же была какая-то доля правды. С другой стороны, я слышала – где-то в восьмидесятом году или около того, – что он умер в психиатрическом отделении больницы, поэтому все, что он говорил, могло быть просто бредом сумасшедшего.
Выглядела она какой-то печальной, и я вспомнил, что в свое время она спала с Голландцем – в агентстве это был секрет Полишинеля. Я мог легко себе представить, насколько это было кошмарно.
Джей Гласс сидел рядом с ней. Кажется, эти двое близки и не особенно счастливы.
– Ирвинг в своих рассказах ни разу не упоминал о войне, – сказал он. – Но всего несколькими годами ранее описываемых событий городок в долине Гудзона, в Сонной Лощине, перестали тревожить набегами индейцы, из него только недавно ушли английские оккупационные войска. Всадник без головы – это персонаж местной истории о призраке гессенского наемника, воевавшего за британцев. Ему оторвало голову ядром, и с тех пор он каждую ночь ездит на своем коне по полям сражений и ищет ее.
Этот разговор о войне напомнил мне один вечер в агентстве. Мы с Эдди Аккерсом остались допоздна – я пытался писать рекламные тексты для каталога, а Эдди рисовал плакат для сети универмагов на северо-западном побережье. Бад ван Брунт в обед ушел, но, естественно, к вечеру вернулся, под завязку накачанный джином. Можно было легко определить, когда он вдрызг пьян, – его лысина становилась ярко-красной.
Он тут же навалился на Эдди по поводу того, что тот принадлежал к семейству его женушки, все члены которого и гроша ломаного не стоили и только и знали, что висеть на шее у родственников, дармоеды.
Они начали спорить о том, какая война была страшнее – Вторая мировая или война в Корее. Несколько минут они препирались, а потом Аккерс сказал: «Чтобы стать героем во Вторую мировую, единственное, что тебе нужно было сделать, – это прийти на призывной пункт. А в Корее, только чтобы тебя заметили, тебе надо было упасть животом на гранату и спасти весь свой взвод».
Прежде чем ван Брунт успел что-то ответить, Аккерс встал и вышел, сказав, что ему нужен перерыв. Меня удивило, что Голландец не сказал ему: можешь вообще не возвращаться. Наверное, в тот момент Эдди был сильно ему нужен.
И тогда он переключился на меня. Война во Вьетнаме тогда шла полным ходом, и он спросил, каким образом мне удалось уклониться от призыва. Уверен, он подозревал, что меня не взяли из-за моей сексуальной ориентации. Он стоял очень близко ко мне. Я помню ясно, как будто это произошло сегодня утром, как он наклонился ко мне и тихо, словно это было интимное предложение, прошептал, что я никчемный извращенец, мерзкий наркоман и трус.
Он безнаказанно имел мой мозг и цинично намекал на то, что не прочь был отыметь и мою задницу. Надо было тут же свалить из этой конторы, но у меня в тот момент была аховая ситуация – я никак не мог разобраться с двумя своими любовниками, вконец ослабел от наркотиков и отчаянно нуждался в деньгах. Мне хотелось перерезать ему глотку канцелярскими ножницами, лежавшими тут же, на столе.
А затем у него будто включилась какая-то другая часть мозга. Он начал говорить о войне и красной угрозе: о гессенцах, выскакивающих из канализационных люков с винтовками наперевес, о коммуняках, выпрыгивающих с парашютом над Нью-Йорком и режущих на улицах каждого встречного и поперечного… Меня это все испугало до чертиков, и я увидел перед собой тыкву с горящими глазами и темные силуэты всадников на фоне ночного неба. Нельзя сказать, что я слышал это все впервые в жизни – ван Брунт частенько заговаривался. Джей по этому поводу говорил следующее: «Прошлое и будущее соединяются в настоящем. Это похоже на фигуриста, который чертит коньками восьмерку на льду». Похоже, ван Брунт занимал Гласса. В тот давний вечер Аккер вернулся и сказал, чтобы он оставил нас в покое, иначе мы никогда не закончим его каталог.
Единственной частью этого воспоминания, которую я озвучил за столом в «Никсе», было:
– Однажды я слышал, как Голландец сказал, что мохоки скоро спустятся из Канады и захватят Нью-Йорк. Меня всегда приводила в ступор его многомерная паранойя.
– У него случались трудности с определением текущего временного отрезка. Как будто в то время, в которое мы живем, он попал из прошлого, – сказал Гласс.
– Война по нему здорово прошлась, – произнес кто-то. Сомневаюсь, что война по нему здорово прошлась. Ван Брунт был какой-то военной шишкой в оккупированной Европе, и, могу поспорить, он развлекся там по полной.
– Да и после войны он, похоже, не был очень уж доволен жизнью, – добавил кто-то.
Вернулась Бениция с остальными заказанными напитками и тарелками с куриными крылышками и жареной моцареллой. Я поднялся со своего места и пошел тыкаться по углам в поисках туалета. Майор тоже встала, и мы вместе прошли до барной стойки.
– Фраза Джея про смещенное время имеет смысл, – сказала она. – На первый взгляд ван Брунт, с его красным лицом и лысиной, выглядел как этакий бюргер со старой картины. Но в нем жил монстр, и когда он вырывался на волю… – Майор дошла до конца очень длинной барной стойки и заглянула за угол. – Помнишь это? – спросила она.
На стене, забранная в стекло, висела голландская дверь. Рядом была табличка, гласившая, что эта дверь из того постоялого двора, на месте которого построили нынешнее здание. Двери было лет двести – триста, и на фоне остальной обстановки она выглядела маленькой и ветхой. Когда здесь еще была таверна «Никербокер», она смотрелась как-то более убедительно.
– Когда новые владельцы выкупили это здание, – сказала Майор, – их обязали сохранить все предметы, имеющие значение для истории. – И добавила: – Ты знаешь, Джей считает, что Бром Бонс с подельниками любил наезжать в этот постоялый двор, чтобы напиться и побуянить.
Подумав, что у Джея это уже стало навязчивой идеей, и покачав головой, я оставил ее у стойки и направился в туалет – стандартный, современный: много света и сушилки для рук. В старом были дубовые кабинки, в каждую из которых можно было поставить карету, и писсуары такой высоты и глубины, что туда можно было упасть, и тогда тебя бы никто уже не нашел.
Я сунул в рот целую таблетку обезболивающего и разжевал ее, чтобы быстрее подействовала. Когда я вышел из туалета, то заметил на стене рядом с кухней картину, которая в «Никербокере» висела позади бара. Я много рабочего времени провел за ее разглядыванием.
На ней была изображена старинная гостиница – конец восемнадцатого века, если судить по тому, как были одеты люди. Это двухэтажное здание с мансардой и двумя флюгерами. У дверей стоит конный экипаж. Кучер флиртует с горничной, птички перелетают с дерева на дерево, на солнце греются собаки, у голландской двери собрались пассажиры, из конюшни ведут свежих лошадей. Еще видно церковь, несколько разбросанных домов, магазин и кузницу. Тут, невдалеке от Бродвея, всего в нескольких милях от городка, расположенного на самом кончике Манхэттена, стояла деревня.
Глядя на картину, я снова заметил, что, невзирая то, что на картине показан яркий солнечный день, два центральных окна на втором этаже гостиницы темны.
– Мы часто сидели и гадали, что же находится за этими окнами. – Майор Барбара сказала это прямо мне в ухо и так неожиданно, что я подпрыгнул. – Мы предполагали даже, что там проводится какой-то экзотический магический ритуал, вроде вуду, только голландского. Я помню, как ты однажды сказал мне, что видел сон, связанный с этим местом. Ты его еще не забыл?
– Не думал о нем долгое время, но снова увидел его в тот день, когда ты мне позвонила. Во сне я стоял перед «Никербокером», но здание было другим. Это была старая двухэтажная гостиница с этой картины. Было темно. Только над дверью гостиницы, мерцая, горел фонарь. Затем в стороне появился еще один огонек. Он раскачивался в темноте. Три раза пропел рожок, и на Бродвее показался экипаж. И вдруг в тех двух окнах, которые на картине темные, зажегся свет. Почему-то мне это показалось зловещим, и я испугался.
Пару деталей я не смог припомнить, но хорошо запомнил чувство страха.
– Старый «Никербокер» был удивительным заведением, поэтому легко себе представить, что гостиница, которая стояла здесь до него, была еще более необычной, – сказала Майор. – Теперь все иначе. – Она обвела рукой яркие лампы, мерцающие телевизионные экраны, широкую лестницу, которой здесь раньше не было. – Они все тут разворотили.
Мы пошли обратно к столику.
– Однажды мне разрешили подняться наверх старого «Никербокера», – сказала Майор Барбара. – Давно, много лет назад, вскоре после того, как ты ушел из «Летучего голландца», тут делали ремонт. Наверху было три этажа, забитых всякой рухлядью: бронзовыми плевательницами, посудой, кухонными принадлежностями, упряжью. Была даже кровать под балдахином, вся изъеденная крысами. И там была одна очень странная вещь…
Она замолчала. Я вопросительно вскинул брови.
– Большой, выполненный маслом портрет голландского бюргера в одежде восемнадцатого столетия, – прошептала она. – И он выглядел в точности как ван Брунт. Лицо у него было просто демоническим – страшнее, чем у ван Брунта в минуты самой страшной ярости.
Я рассмеялся и сказал:
– Да ладно тебе!
Майор как-то невесело взглянула на меня.
Когда мы вернулись к столу, Дон Бутби заявила:
– Наше собрание превратилось в сеанс групповой психотерапии.
Дуг Лоттс сказал:
– Я помню тот день, когда он сказал, что я никудышный копирайтер и что я вообще не мужик, а никчемная баба, и даже носки себе нормальные купить не могу. Затем он, конечно, заявил, что я уволен. Но только в этот раз я и правда ушел и больше не вернулся.
Все мы захлопали в ладоши.
Маленькая Мимси Фридман залпом выпила цветное содержимое своего стакана:
– До свадьбы у меня была очень хорошая работа – в рекламном отделе компании «Лорд и Тейлор». Затем мой первый муж потерял работу, а другую не нашел – по-моему, до сих пор. Чтобы мы хоть как-то могли существовать, я стала сама искать работу. И вокруг не было ничего! Естественно, кроме ван Брунта. День, когда он не доводил меня до слез, он считал потерянным навсегда.
Все кивнули и выпили за это. Голландец держал Мимси не только ради специфических услуг. Она знала о копирайте в сфере моды больше всех нас, включая и самого ван Брунта. А мы выпускали еженедельную полосу, которая заполнялась статьями о моде, сплетнями о знаменитостях и рекламой одежды, которую продавали наши клиенты.
Клиенты – чаще всего это были магазины – могли печатать всю полосу или только ее часть в местных газетах на правах рекламы. Мимси вела эту полосу несколько лет, и приобретенный за эти годы опыт послужил ей хорошей основой для дальнейшей успешной карьеры. Она до сих пор комментирует по телевизору весенние показы мод.
Затем все глаза обратились на меня. Я отпил минеральной воды и сказал:
– А я был голубым наркоманом и хиппи. – Таблетка уже подействовала, и я сильно «поплыл». – В те годы в каждой конторе был хоть один такой, как я. – Кто-то засмеялся. – Работа для меня состояла из бесконечной череды издевательств, источником которых был ван Брунт. Я продолжал день за днем ходить в офис, до тех пор пока он наконец меня окончательно не уволил, потому что по сравнению с Ист-Виллидж, где я тогда жил, «Летучий голландец» был образцом спокойствия и порядка.
Майор сказала:
– Ты был настоящей душой компании. Благодаря тебе у нас там все вертелось. А я попала к ван Брунту потому, что мне нужны были деньги. Даже по сравнению с Лондоном Нью-Йорк – дорогой город, я же была всего-то помощником редактора в издательстве. Я считала, что все, кто работает в рекламе, зарабатывают кучу денег. Ван Брунт взял меня, как он сказал, потому что ему понравился мой акцент – и потом каждый божий день высмеивал меня за него. Проработав у него несколько лет, я продала очень глупый детектив одному издательству, а на следующий день пришла в офис, собрала вещички и больше уже никогда не вернулась.
Так шло и дальше. Все сидящие за столом по очереди рассказывали о своей работе у ван Брунта. Воскресный наплыв посетителей, какой бы он ни был, иссяк. Только за столиками перед окнами сидели несколько человек. Бармен и официантка явно скучали.
Я встал из-за стола и направился в сторону туалета. В руке у меня, кроме стакана, была последняя таблетка. Я прожевал ее и, остановившись, запил водой из стакана.
Бархатный шнур, преграждавший доступ к верхним этажам, висел на крючке. Не задумываясь над тем, что я делаю, я быстро поднялся по лестнице. Второй этаж был освещен довольно скудно, но и разглядывать там было нечего: там располагался обыкновенный зал для банкетов. Майор была права насчет того, что они тут все раскурочили. Судя по всему, они разломали большую часть третьего этажа, чтобы поднять тут потолок.
Окна, в которых наверняка не увидишь ничего, кроме скучного городского пейзажа, были задернуты шторами. Все четыре стены были расписаны на тему старого Нью-Йорка: кареты, дома в голландском стиле, парусные корабли в гавани, и все это на фоне города, где самыми высокими строениями еще оставались церкви. Но никакого масляного портрета с голландским бюргером тут не было.
Я услышал шум и обернулся. За моей спиной распахнулась дверь, которую я раньше не заметил. В ней показалась спина грузного, лысого человека. Это был ван Брунт, и я застыл на месте.
Но наваждение продолжалось только до того момента, пока человек не развернулся. Это был смуглый мужчина, латиноамериканец или араб, нисколько не похожий на Голландца. На вид ему было лет тридцать, голова у него была бритая, а не лысая, под мышкой он держал картонную коробку. Наверное, это был управляющий или даже один из владельцев.
Выйдя из двери, он запер ее – похоже, в том, что осталось от верхних этажей, они устроили склад – и тут увидел меня:
– Эй, мистер, – его акцент нелегко было распознать, – этот этаж сегодня закрыт.
С легкой улыбкой и настороженным вниманием человека, привыкшего выпроваживать пьяных, он показал на лестницу, и я спустился.
– Места полно и здесь, внизу, – добавил он, проводив меня до столика.
Увидев нас, Майор догадалась, куда меня занесло, улыбнулась и незаметно кивнула.
Джей Гласс, размахивая виски с содовой для большей убедительности, говорил:
– Я считаю, на ван Брунте лежало проклятие, переданное ему от Брома Бонса. Или, возможно, оно появилось даже раньше. Но ему самому это не казалось проклятием. Оно выражалось в том, что он был и вел себя как самое отвратительное чудовище. Его предок завоевал Катрину ван Тассел, вызвав Всадника без головы. А он делал это со всеми встречными и поперечными.
Майор сказала:
– Мы все думаем, что призраки приходят из прошлого, но, возможно, их существование не подчиняется временным законам.
Остальные кивнули с глубокомысленным пьяным пониманием, и я понял, что сеанс групповой психотерапии вошел в новую фазу.
Заговорила Мимси Фридман:
– Я видела ван Брунта, может, лет десять назад.
Я хотел было сказать, что к тому времени он уже несколько лет лежал в могиле, но посмотрел на серьезные лица остальных и не стал раскрывать рот.
– В тот год мой брак с Джоакимом окончательно рассыпался, – сказала она, и я вспомнил: кто-то мне говорил, что она в ту пору рассталась с дизайнером из Европы. – Борис и Джон очень мне помогали. У них была прелестная маленькая ферма на Гудзо не неподалеку от равнины Мохок, и тем летом я там долго гостила. Естественно, это была не настоящая рабочая ферма, но у них был сад и небольшая отара овец – очень красивых, в основном серых с черными мордочками, – которая мирно паслась в полях. В пруду плавали гуси, а по двору ходил конь по кличке Гриспин, списанный по старости из нью-йоркской полиции, – самое ласковое животное в мире. Он тыкался в тебя носом до тех пор, пока ты не отдашь ему весь сахар, что был у тебя в карманах.
Они наняли местного жителя, чтобы он смотрел за животными. Я никогда с ним особо близко не сталкивалась – он был нелюдимым и избегал общения. Однажды в конце лета ему нужно было куда-то отлучиться, и вместо него должен был прийти кто-то другой. Я помню, был жаркий день. В горах громыхало, но ни молнии, ни дождя не было. Я увидела мужчину, идущего по полю к Гриспину. Его фигура и походка показались мне странно знакомыми. Он тоже меня заметил. Это был Бад ван Брунт, и он долго смотрел на меня, как будто узнал и хотел, чтобы я это поняла.
В тот же день я собрала вещи и уехала. Борис и Джон в конце концов убедили меня вернуться, и больше я этого человека не видела. Но все вокруг было уже не так. Даже Гриспин стал какой-то нервный.
Над столиком повисло гробовое молчание. Но я уже знал, что за этим последует, и улыбнулся.
– Я вот все думаю, – произнесла Майор, – что же Эдди Аккерс увидел в тот вечер, когда притащился сюда умирать. – Она хотела что-то добавить, но тут к нам подошла официантка Бениция и сказала:
– Дамы и господа, простите, но, боюсь, мы сегодня закрываемся пораньше.
Эта фраза нарушила оцепенение. С удивительной для сильно надрызгавшихся стариков скоростью мы разобрались со счетом и вышли на улицу. Был еще только первый час, но мы оказались последними гостями в «Никсе».
Только в воскресную ночь Манхэттен может быть таким тихим и безлюдным. Мы стали прощаться. Дон и Дуг жили в Нью-Джерси, поэтому они, заверив нас, что не пропадут из виду и будут звонить, поспешили к станции метро.
Джей Гласс и Мимси поймали такси – одно на двоих, так как им обоим нужно было в Верхний Ист-Сайд. Они казались подавленными. «Притворяются», – подумал я.
Мы с Майором жили в центре и собирались пройтись.
– Что, если предположение, что Бром Бонс испугал Икабода Крейна посредством подсвеченной изнутри тыквы с прорезанными глазами и ртом, на самом деле не соответствует действительности? – спросила она, когда мы перешли через улицу. – Что, если он и правда вызвал Всадника без головы?
А я ответил:
– Мимси неплохо сыграла. Надеюсь, вы с ней – наверное, в компании с Джеем – хорошо развлеклись, дурача остальных на счет возвращения старого ван Брунта. Это напомнило мне о старых добрых деньках.
Она остановилась и с высоты своего роста смерила меня взглядом:
– В старые добрые деньки ты острее воспринимал действительность. Ты отчетливо видел зло, заключенное в ван Брунте. Могу дать тебе честное слово, что, кроме пары странных намеков, которые я слышала от нее на похоронах Эдди, Мимси ни слова не, говорила об этом до сегодняшнего вечера. Джей когда-то давно говорил мне, что убежден в том, что на этом месте во времена колонии случилось что-то очень плохое. Но у него, похоже, на этот счет навязчивая идея.
Я был удивлен.
– В действительности, – продолжала она, – я пригласила тебя сегодня, потому что я как раз о тебе и беспокоилась. Я помню, как ван Брунт доставал тебя – сейчас это называется сексуальным преследованием. Помню твой сон о ночном экипаже и старой гостинице. Я подумала, может быть, какие-то крючки ван Брунта остались и в тебе, как они остались в Аккерсе.
Чтобы очистить голову от всей этой чепухи, я обернулся, чтобы посмотреть на «Никс» во всей его обновленной уродливости. И увидел сельскую гостиницу не наших времен. Ее освещали только звезды да половина убывающей луны. В окнах мерцали свечи.
Вдруг показались фонари кареты. И тут я ясно увидел те детали, присутствовавшие в моем старом сне, которые я никак не мог ухватить и вспомнить после пробуждения: у кучера на козлах вместо головы была горевшая багровым огнем тыква, а из окна кареты на меня смотрело лицо ван Брунта.
– А оказалось, – сказала Майор Барбара, глядя на мою отвисшую челюсть, – это о Мимси надо было беспокоиться. Бедная девочка была в отчаянном положении. Ей нужно было кормить и себя, и ее никчемного мужа. И ван Брунту удалось-таки отхватить кусочек ее души. А судя по тому, как ведет себя Джей, ван Брунт и его совратил.
– Он всегда в центре всего, – сказал я. Подул холодный октябрьский ветер и унес остатки кайфа. – А мы с краю.
– Да. Мы – мелкие сошки.
– Как Дуг и Дон.
– Да, – сказала она. – И нам просто повезло, что он не измолол нас в труху.
Послесловие
Мой рассказ берет свое начало в «Легенде о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга. Считается, что Ирвинг соединил элементы местных нью-йоркских сказок о мстительных призраках индейских вождей с немецкими народными легендами о Ночном всаднике. Он писал эту новеллу спустя тридцать пять лет после Американской революции и избрал местом действия долину реки Гудзон, какой она была незадолго до окончания войны. Он сделал Всадника без головы гессенским наемником, ищущим свою оторванную ядром голову, – не очень старый призрак, надо сказать. В какой-то мере он пытался создать американскую мифологию, сравнимую с европейской. Я всегда поражался, насколько он в этом преуспел. «Легенда о Сонной Лощине» стала частью нашего фольклора и, наряду с его «Рипом ван Винклем», в значительной части определяет наши представления о голландском Нью-Йорке колониального периода.
Ричард Боуз написал пять романов, самый последний – «Из дела о патрулировании времени» («From the Files of the Time Randers») – был номинирован на премию «Небьюла». Его самый недавний сборник рассказов – «Сны трамвая и другие полуночные фантазии» («The Streetcar Dreams and Other Midnight Fancies») – вышел в издательстве PS Publications. Он обладатель Всемирной премии фэнтези, премии «Лямбда», премии Международной гильдии писателей, работающих в жанре «хоррор», и премии «Миллион писателей».
Его самые последние рассказы печатались в журналах The Magazine of Fantasy & Science Fiction, Electric Velocipede, Clarkesworld и Fantasy и в антологиях Del Rey Book of Science Fiction and Fantasy, Year’s Best Gay Stories 2008, Best Science Fiction and Fantasy, The Beastly Bride, Lovecraft Unbound, Fantasy Best of the Year 2009, Year’s Best Fantasy, Best Horror of the Year и Naked City. Большинство из этих рассказов являются главами создаваемого в настоящий момент романа «Пыльный демон на тихой улочке» («Dust Demon on a Quiet Street»).
Интернет-сайт Ричарда Боуза: .
Каарон Уоррен Та девушка
В больнице Святого Мартина было по крайней мере чисто – это да. Только в воздухе летали мелкие волоски. Сангита («Ты меня знаешь. Я Сангита»), с длинной ниткой в зубах, ползала среди женщин и трогала их – за колено, за голень, – проверяя, нельзя ли у них чего-нибудь выщипнуть.
– Перестань, Сангита. Здесь ни у кого волос уже нет. Тебе надо собаку найти. – Когда приходили посетители, старшая медсестра становилась очень доброй. Это мне сказали пациентки.
Они сидели на широкой веранде, окружавшей здание по периметру. Их жизнь проходила в основном здесь. Веранды на Фиджи – место досуга. Это было единственное в больнице место с удобными стульями. В столовой, располагавшейся в ветхом, когда-то белом здании позади спального корпуса, стулья были такими, чтобы ты побыстрее ел и уходил; в комнате художественной терапии – чтобы туда попасть, нужно было перейти через неровную, кое-как вымощенную булыжниками дорожку, – стояли табуретки. Эти табуретки были из тех вещей, которые я хотела здесь поменять. Я собиралась поставить удобные кресла, чтобы женщины могли спокойно сидеть и шить, или рисовать, или вязать. Сейчас они делали маленькие веера из пандана и вырезали из мыла фигурки черепах. Все это продавалось на ежегодном базаре. Моего финансирования должно было хватить на месяц. Платила богатая австралийка, приезжавшая в больницу Святого Мартина с благотворительным визитом. Ее повергло в шок состояние комнаты художественной терапии. Картины там были такими старыми, что состояли больше из пыли, чем из краски и холста. Никаких принадлежностей для рисования вообще не существовало. Она наняла меня, чтобы привести все в порядок и дать медсестрам несколько уроков живописи, чтобы они впоследствии могли хоть чему-то научить пациенток. Медсестры очень любили мои занятия – на них они в основном сплетничали.
Уцепившись за мою юбку, Сангита полезла вверх.
– У тебя слишком много волос на бровях. А губа у тебя как волосатая гусеница.
Я посмотрела на нее, и она опять осела на пол.
Старшая медсестра сказала:
– Тебе не нравится, как выглядит наша гостья? А разве ты сама совершенна? Тебе еще многому нужно научиться, Сангита, если хочешь вернуться домой в Суву.
Сангита поправила волосы:
– Я же косметолог. Естественно, я красивая. – Ее лицо было изуродовано угрями. Открытые раны и любые повреждения кожи в тропиках легко загнивают. Ее горло пересекала яркая красная черта, а два пальца загибались в разные стороны. Ногти были накрашены, но слоились и были обгрызены до мяса. – Я училась в Австралии. Я вышла замуж за австралийца, но он каждое полнолуние сходил с ума.
– Ну конечно, – сказала старшая медсестра. – Он был проклят во время вашего медового месяца в Ракираки.
– Он оскорбил ведьм. Он не верил, что они ведьмы, и сфотографировал, как я целую их поросенка. Затем он сказал, что от меня пахнет беконом, и не смог больше меня любить.
– Это благословение, – заявила одна из пациенток. – Ты умрешь нетронутой.
– Мой второй муж любил только мужчин, – сказала Сангита. Все это время нитка свисала у нее изо рта. Она натянула ее. – Можно я выщиплю у тебя волосы? Ты станешь гладкой.
Остальные женщины загалдели. Они все хотели сделать что-нибудь для меня. Для меня.
Только одна старуха, сидевшая на углу веранды, не галдела. Она тихо шевелила губами. Я подошла к ней и наклонилась.
– Что вы говорите? – спросила я.
– Я та девушка, – сказала она. – Я та девушка.
Она была очень худой. Ее кожа была покрыта морщинами и спадала складками, словно темный бархат, – самодельная мягкая игрушка для злого ребенка.
– Я та девушка, – повторила старуха. Она редко говорила что-либо другое. Только иногда просила еще каши, если та была вкусной, да порой подпевала, если молитва была на хинди. Все это я еще узнаю – за несколько последующих дней.
Она схватила меня за руку. Ногти у нее были острыми. Они должны были быть чистыми, как и все вокруг, но я увидела темно-красную полоску, которая мне не понравилась. Если бы она была художницей, я могла бы подумать, что это «красный рассет», но она не была художницей. В воздухе стоял сильный запах отбеливателя. Наверное, другие чистящие средства здесь не использовали.
– О какой девушке она говорит?
Старшая медсестра покачала головой:
– Мы не знаем. Мальвика повторяет это уже очень давно. Говорят, ей было лет шестнадцать-семнадцать, когда она здесь появилась. Старая медсестра рассказывала, что ее нашли у ворот как-то вечером – грязную, в разорванной одежде, в ужасном состоянии. Никому она была не нужна. Семья от нее отказалась. Но она не самый тяжелый случай у нас. – Она положила руку на голову девушки, бесформенной грудой лежавшей в кресле. – Она такой родилась. Семья держала ее в сарае за домом, пока она не забеременела. Никто не знает, кто отец, но говорят, это был пес.
Бедная девушка будто выросла в тесном глиняном горшке. Ее тело было искорежено и свернуто немыслимым образом, словно у смятой бумажной фигурки. Она жевала губу так, будто это была еда. У меня руки чесались ее нарисовать, и старуху тоже. Не для работы, а просто так. Я рисую то, что вижу, чтобы окружающий мир приобрел хоть какой-то смысл. А здесь это ему непременно следовало сделать.
***
После окончания смены мы со старшей медсестрой поехали в пригород Лами, где походили среди рядов подержанной одежды, так пахнущей плесенью и нафталином, что вряд ли ее можно было носить даже после стирки. Мы зашли в темный длинный сарай, в котором располагался рынок. На земле в грязи валялись кучи овощных отбросов, а рядом, на столах, красовались фиолетовые баклажаны, грозди бананов, маленькие пахучие помидоры. Медсестра говорила что-то на фиджийском, и торговцы кивали и улыбались.
– Художница! – сказала одна торговка. – О, mangosa!
– «Mangosa» значит «умный», – сказала старшая медсестра. – Она говорит, если вы художница, значит вы умная. А вот и он, – прошептала она и указала на огромного рыжего беспородного пса. Он сидел, прислонившись спиной к столбу, вытянув задние лапы перед собой по земле, а передние просто свесив вдоль тела. Он сидел как человек. Я никогда не видела таких огромных яиц – они были серо-розовые, размером с шары для игры в крикет.
– Это вот о нем говорят, что от него забеременела та девушка, которую вы видели в больнице. Говорят, ее дети участвуют в выборах в местный совет. – Она рассмеялась, и я наконец поняла, что она шутит. Я чувствовала себя такой растерянной и беспомощной, что поверила бы и в такое.
Я заплатила за овощи и за такси – за нее и за себя. Она поехала домой, а я к себе в съемную квартиру. Зарплаты здесь такие низкие, что она за неделю получает столько, сколько моя австралийская патронесса платит мне в день.
Мы ехали мимо больницы Святого Мартина.
– Они там чокнутые, – сказал шофер и постучал себе по лбу. Я не ответила, и он обернулся – при этом руль крутанулся так, что мы выехали на встречную полосу. – Это сумасшедший дом, – сказал он. – Не ходите туда.
Судя по всему, он не прочь был поболтать, и я спросила его, не знает ли он, кем может быть эта «та девушка». Он посмотрел на меня в зеркало.
– Это может означать что угодно. Смотря кого спрашивать.
– Да, но что это значит для вас.
– То же, что и для любого другого таксиста, – сказал он. – Рассказывают, что она никогда не стареет. Ее кожа всегда свежа, глаза всегда искрятся. Она пахнет спелым манго, только не кожицей, а мякотью, нарезанной и истекающей соком на тарелке. Она ловит такси у ремесленного рынка. Всегда в пять тридцать семь. Многие из нас не сажают девушек в это время, в том месте. Она садится на заднее сиденье и улыбается тебе так, что ты забываешь о том, что женат, и чувствуешь, как плавится твое сердце.
– Вы сами ее видели?
– Нет, но мой брат видел. Она просит ехать на кладбище, и если ты из любопытства спрашиваешь, к кому она направляется, она отвечает: «К матери». А ты хочешь отвезти ее домой и накормить. Ты крутишь баранку и все поглядываешь на нее в зеркало заднего вида, потому что она такая красивая. На ней нет никаких украшений, кроме маленького медальона. Он у нее вот здесь. – Указательным пальцем он касается середины груди, затем раскрывает ладонь, как будто трогает женскую грудь.
– Мне кажется, хватит.
– На нем изображен Кришна – толстый младенец ест масло. Ты поворачиваешь за угол, и вот оно – кладбище. Ты ждешь, что она скажет, где ты должен остановиться. Тебе становится холодно, но дверь закрыта. Ты поворачиваешься – а ее нет.
По моей спине пробежал озноб. Это старая история, но от этого она не становится менее страшной.
Таксисты любят рассказывать о событиях, которым они стали свидетелями, о пассажирах, которых они подвозили. Я считала этот рассказ просто городским мифом и не обращала на него особого внимания. Но они рассказывали эту историю снова и снова. Всегда это был брат или лучший друг, и всегда они говорили с содроганием, как будто боялись об этом вспоминать.
***
Во время своего следующего визита в больницу Святого Мартина я подошла к старухе Мальвике.
– Я та девушка, – сказала она. На шее у нее висел медальон: Кришна ест масло.
– Вы ехали на такси? – спросила я. – Это правда?
– Я… – Она кивнула.
– Давайте отойдем куда-нибудь. Я дам вам конфет. – Последнюю фразу я сказала шепотом, чтобы не услышали остальные. Все женщины здесь ходили медленно, шаркая ногами по полу, как будто их стопы были сделаны из свинца, а они слишком слабы для того, чтобы их каждый раз поднимать. Они были очень рады любым гостям, даже если пришли и не к ним. Все они хотели что-нибудь вам рассказать и получить от вас какой-нибудь подарок. Больше всего они любили, если им приносили сладости, – сахар здесь был самым доступным лакомством. В столовой сахар очень быстро заканчивался, потому что женщины ссыпали его себе в карманы, а затем, например во время молитвы, лазили туда мокрым пальцем, который потом засовывали в рот.
Мы пересекли дорожку и обогнули здание, где была комната художественной терапии. Я не захотела зайти внутрь и сидеть на жестких табуретках. Там было пыльно и пахло бананами и потом. Не знаю, как я это исправлю… Как-нибудь. Мы уселись на старую скамейку позади здания, в тени.
– Я уже много раз это рассказывала, – сказала Мальвика. – Сто раз. Двести. Никто уже не слушает и не записывает.
– Я запишу, – пообещала я и достала блокнот, но начала не писать, а рисовать.
– Моя мать умерла, а отец, вместо того чтобы плакать, вскоре нашел себе новую подружку. Он не ездил на кладбище к матери, но, по крайней мере, давал мне денег на такси. Я закончила работать в полшестого и, перед тем как отправиться домой, поехала навестить мать. Такси в тот день было мало, но этот таксист остановился. Этот остановился. – Она закрыла глаза. Я вспомнила, как старшая медсестра рассказывала, в каком состоянии она попала в больницу, и мой пульс удвоился. Я не хотела этого слышать. Ничего не хочу знать об этом. Но я и хотела это услышать. Да. Я хотела услышать о боли и страдании. Нарисовать его на бумаге, ухватить его и изобразить в подробностях.
– Что было дальше? – спросила я.
– Он казался хорошим человеком. Задавал вопросы о работе и школе. Затем он начал спрашивать о мальчиках, говорить о моем теле – мне не понравилось, что он говорил. Я не смела сказать, чтобы он остановил машину, но и не отвечала.
Когда мы доехали до кладбища, он заехал прямо внутрь. Шел дождь, и он сказал, что не хочет, чтобы я промокла. Естественно, я бы все равно потом промокла. Он остановился и быстро вышел из машины, пока я возилась с вещами. Он открыл мою дверь, и я подумала, что это очень учтиво. Но он не выпустил меня. Нет.
Она сцепила руки в замок.
– Он толкнул меня на сиденье и взял то, что должен был взять мой муж. Он навалился сверху и несколько раз ударил меня. Я пыталась выбраться через другую дверь, но он выкрутил мне руки. Потом выволок меня из машины и бросил лицом в грязь. И он делал со мной еще другие, ужасные вещи. Мне было очень больно.
Она полезла пальцами в карман, достала их все в сахаре и стала облизывать.
– Затем он поднял меня и бросил в машину. Он мог бросить меня прямо там, но хотел замести следы. Он довез меня до больницы и вытолкнул из машины. Я не могла говорить два дня, а потом стало уже слишком поздно.
– И он придумал историю о призраке, чтобы объяснить, куда вы делись, – на тот случай, если кто-то видел, как вы садились к нему в машину.
Старуха посмотрела на меня и улыбнулась:
– Я та девушка.
Я подумала: «Ты цепляешься за свою юность. Ты грезишь о том времени, когда была молода и ничего подобного с тобой не происходило».
Из-за угла вышла старшая медсестра:
– Вот вы где! Вам не следовало ее уводить. Она очень нездорова. С ней в любой момент может что-нибудь произойти.
***
Я вернулась домой, чтобы порисовать при дневном свете. Над Сувой шел дождь. Он двигался в мою сторону, поэтому мне пришлось работать быстро. Портрет Мальвики не давал мне покоя, потому что мое впечатление о ней как о молодой девушке было сильнее, чем как о старухе.
Волосок у нее на подбородке. Он был длинный, темный, но загибался он или нет? И с какой он был стороны – левой или правой?
Я остановила такси, поехала на придорожный рынок, купила бананов и папайи. Никто меня ни о чем не спросит, если я приеду в больницу с фруктами.
По привычке я спросила шофера о «той девушке». Он сказал:
– Она исчезает. Я могу показать где.
***
Я пошла к Мальвике, хотя уже близился обед, а больничный персонал не очень любил, чтобы нарушался заведенный порядок. Она сидела у двери спального корпуса. Остальные пациентки собрались у дальней двери веранды.
Она сидела прямо, с окаменевшей спиной и широко раскрытыми глазами. Она не моргала. Ее рот был раскрыт, вокруг губ запеклась слюна.
– Боже мой, – сказала я. – Она мертва.
Я чуть не побежала за помощью, но медсестра меня остановила:
– Нет, она в ступоре.
Глаза старухи были красными и сухими. Я всмотрелась в них, ища признаки жизни, но не нашла их. Ни пульса, ни дыхания. Я ничего не помнила из курсов первой помощи и, кроме того, не смогла бы заставить себя прижать свой рот к ее.
– Мы должны ее положить, – сказала я. По крайней мере, это я могла сделать. Остальные смотрели на меня.
– Оставь ее как есть, – сказала Сангита, качая головой. От нее пахло жженым волосом.
– Надо позвать доктора, – сказала я, но при этом думала: «Прусская голубая. Если смешать прусскую голубую с титановой белой и разбавить, я получу цвет ее мертвых глаз. Я напишу ее как молодую девушку, а потом вот так нарисую глаза».
– Она пустая, – тихо сказала медсестра. – Ее дух улетел на свободу. Он скоро вернется. Надо только подождать.
Прошло пять минут. Я поняла, что надо что-то делать. Я позвонила доктору со своего сотового телефона. Он сказал:
– Спешка ни к чему. Медсестры сами позвонят в морг, если будет надо.
Я присела перед Мальвикой на корточки. Такой возможности мне больше не представится. Волосок на подбородке… он не загибался.
И тут это случилось. После десяти, а может, даже пятнадцати минут неподвижности Мальвика шевельнулась, моргнула, обхватила руками колени и стала качаться взад-вперед.
– Она… Доктор ее осматривал?
– Они не хотят тратить время. Говорят, все равно это бесполезно.
– Часто это с ней происходит?
– Время от времени. Это ее успокаивает. После приступа она всегда чувствует себя лучше.
Никто вокруг особо не беспокоился, и я подумала, что, возможно, это типично западная черта – бояться старухи, которая может умирать и оживать так же легко, как мы засыпаем и просыпаемся.
Я тихо села на стул и стала зарисовывать вечерние больничные дела. Это меня успокаивало. Мальвика сменила позу и попросила сахара. У нее на подбородке блестели желтоватые струйки слюны. Губы были сухими и потрескавшимися. Глаза по-прежнему смотрели в никуда и имели почти фиолетовый цвет. Левая щека покраснела, как будто к ней прилила кровь.
Я зарисовала эти отметины смерти.
***
Некоторое время я не приезжала в больницу Святого Мартина. Мне заказала портрет одна богатая француженка. Притягательная сила денег убедила меня взять заказ, и, кроме того, мне нравилась мысль, что моя работа будет висеть где-нибудь во Франции.
Как-то, устав от красивого лица француженки, я достала из стола портрет Мальвики. При взгляде на него мне стало нехорошо. Я никогда до этого не рисовала мертвых. На заднем плане я изобразила часы, остановившиеся в 5:37.
Я подумала о таксистах, о том, как они повторяют легенду об исчезающей девушке. Как они непроизвольно своими байками покрывают насильника. Я поняла, что не смогу закончить портрет Мальвики, пока не узнаю ее как молодую девушку, не пройду ее дорогой и не заучу ее наизусть.
И началась неделя – или, может быть, это были две недели? – в течение которой я каждый вечер после пяти ловила такси у ремесленного рынка. Некоторые таксисты гордо говорили мне:
– Вообще-то мы не сажаем здесь молодых девушек. Но я не верю в привидения.
В один из вечеров шофер сказал:
– Вы ездили за покупками? – Он смотрел на меня в зеркало – но не совсем на меня. На место рядом со мной. Мне всегда было тяжело разговаривать с косоглазыми людьми.
– Да, – сказала я, хотя никаких сумок у меня с собой не было.
– Девушки, а вы идете сегодня на танцы?
– Девушки?
– Да. Вы и ваша подруга. – Он кивнул мне. И месту рядом со мной.
Моя правая рука покрылась мурашками. Кто-то будто прислонился ко мне. Я не поверила, что в машине еще кто-то есть, но смотреть мне не хотелось. Я отодвинулась ближе к двери и все же повернула голову.
Ничего. Никого.
Шофер произнес что-то на хинди.
– Извините, я не говорю на хинди, – сказала я, но он продолжал говорить, делая паузы, как будто слушал кого-то.
– Ваша подруга очень скромная, – сказал он.
Мы свернули на дорогу, ведущую к кладбищу и больнице Святого Мартина. Мне хотелось выйти, но я должна была ехать дальше, хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. Мы проехали кладбище, повернули к больнице. Шофер обернулся.
– Где… ваша… подруга? – закричал он. А по виду и не скажешь, что этот мужчина может кричать. – Где она? Вы мне заплатите за двоих!
– Вы можете подождать? Я хочу кое-что проверить.
Он затряс головой и дал газу, едва я захлопнула дверцу.
– Где она? Где та девушка?
***
Мальвика сунула в рот палец:
– Сахар? Сахар?
Никому не пришло в голову ее умыть. Я ясно видела смертные отметины, желтоватую слюну на подбородке, фиолетовый оттенок глаз.
– Вы уходили? – спросила я. – Вас здесь не было?
Она кивнула:
– Я та девушка. – И улыбнулась.
***
Я закончила портрет Мальвики. Слой краски получился очень толстым, потому что я переписывала ее снова и снова: молодая, старая, мертвая. Молодая, старая, мертвая. Я так и не смогла решить, какое лицо лучше всего передает, кто она есть.
Послесловие
Легенда, на которой основан мой рассказ, очень проста. Девушка ловит такси в Суве и просит отвезти ее на кладбище. Когда они доезжают до места, она исчезает. Таксисты пугают этой историей ночных пассажиров.
Я выбрала именно эту городскую легенду, потому что из всех историй, выслушанных мной за целый год, только она не была привязана к определенному призраку, и ее знало много людей. Для большинства рассказов о призраках характерна конкретика – такой-то призрак обитает в такой-то деревне, – и каждый рассказчик настаивает на своем варианте истории.
Кладбище действительно располагается недалеко от психиатрической лечебницы, и сама лечебница тоже существует. Еще чуть дальше по дороге находится тюрьма, которая, возможно, будет фигурировать в одном из моих будущих рассказов.
Окна моего дома выходят на это кладбище. Когда я только въехала, я имела обыкновение говорить таксистам: «К дому возле кладбища». Это их пугало – они все время поглядывали в зеркало, и из-за этого езда становилась опаснее, чем обычно.
Первый роман Каарон Уоррен, «Униженные» («Slights»), вышел в издательстве Angry Robot Books в 2009 году. Ее второй роман, «Затуманивание» («Mistifi cation»), вышел в том же году, а публикация третьего, «Вокруг Дерева» («Walking the Tree»), запланирована на нынешний год.
Ее рассказы, многие из которых получали престижные премии, публиковались в таких журналах, как Poe, Paper Cities, Fantasy Magazine и других – и в Австралии, и по всему миру. Ее рассказ «Тюрьма для призраков» («Ghost Jail»), впервые напечатанный в журнале 2012, был включен в антологию Apex Book of World SF, а ее второй рассказ, «Синий ручей» («The Blue Steam»), – в антологию The Dead Souls.
Каарон Уоррен живет в столице Австралии Канберре.
Кит Рид Акбар
Индия тяжела, даже если это и страна твоей мечты. В горле у Сары пересохло, губы потрескались; по земле змеится красная пыль. Никогда в жизни ее так не мучила жажда. На их десятую годовщину они с Терри отправились в Индию – и вот они здесь, на краю пустыни Тар.
– Вот он, – говорит он каким-то незнакомым голосом. – Призрачный город Акбара.
Над ними нависают, подавляя своими размерами, ворота, ведущие внутрь крепости из красного песчаника. Она потрясенно шепчет:
– А кто умер?
– Наверное, можно сказать, что сам город, – говорит он, но его голос напитан надеждой. – Фатехпур-Сикри. Нравится?
– Кажется, да. Он не похож ни на что на свете. – Они обсуждали эту поездку годами, но теперь, когда они здесь, у нее непонятно почему разыгрались нервы.
– Разве он не прекрасен? – Он берет ее за руки и ждет от нее радости.
– Еще не адаптировалась ко времени. Да еще этот поезд. Я сейчас сама не своя.
– Индия меняет людей, – загадочно говорит Терри. – Пойдем. Все наладится.
– Я надеюсь! – Она любит Терри Кендалла, но никак не может избавиться от мысли, что он привез ее сюда не просто так.
***
Все между ними стало как-то не так с того самого момента, как они добрались до субконтинента. Сара даже под дулом пистолета не смогла бы сказать, что именно изменилось. В этом искаженном мире, где лунный серп на небе висит вниз головой, все непонятно.
Всюду, куда ни глянь, – люди. Побыть одному здесь просто невозможно.
Они пробились сквозь толпы и толпы в аэропорте и скрылись в заказанном Терри автомобиле. Сара обессиленно откинулась на спинку сиденья. Стекло машины отделило ее от людской массы, в которой всем от них было что-то нужно, от огромного множества человеческих существ, обитавших в бесчисленных хижинах и бараках, лепившихся поближе к дороге в город.
Первый день в Бомбее был великолепен. Они проспали все жаркие часы, прекрасно поужинали в ресторане на крыше отеля с видом на сверкающую гавань, полюбовались закатом через широкое окно – солнечный свет переливался в слоях дыма, поднимавшегося от тысяч очагов далеко внизу. Они наслаждались картиной, не думая о том, что именно сгорало в огне, разведенном перед хижинами из сухого коровьего навоза, в которых обитала городская беднота. Затем, когда они спускались в лифте в свой номер, Терри загадочно проговорил:
– Ты знаешь, нам с тобой еще предстоит дальняя поездка.
– Что?
Почему-то он не стал объяснять. Их совместная жизнь никогда не была легкой. Кое-что между ними не ладилось – и это была вполне определенная вещь. Терри улыбнулся светлой, полной надежды улыбкой:
– Дождаться не могу, когда ты его увидишь!
– И куда мы поедем?
– В удивительное, совершенно особое место. – На его лице проявилось подряд несколько неуловимых выражений. – Да, милая. После этого наша жизнь уже не будет прежней.
Услышав это, она отступила от него на шаг и нахмурилась. Десять лет в браке, и все между ними до сих пор смутно, неясно. У них с Терри всегда были странные отношения – смесь жадного обожания и борьбы за власть.
– Почему, Терри? Что ты имеешь в виду?
– Успокойся, – сказал он и засмеялся – чересчур, как показалось Саре, радостным смехом. – Давай просто проживем легенду.
«Какую легенду?» – подумала она. Сара перебрала в голове то немногое, что знала об Индии. Смутно припомнила имена: Брама, Вишну, Шива, Ганеша… Господи, да вообще в нужном ли месте она ищет, об этой ли религии идет речь? Она плохо подготовилась к этому путешествию – и в то же время скорее бы умерла, чем обратилась за разъяснениями к Терри. Это не ее страна; она здесь сама не своя. Она слишком нервничает и слишком мало знает, чтобы задавать вопросы.
В ночном поезде до Нью-Дели Сара мучилась от неизвестности и невозможности как-то вписаться в окружающую действительность. В такой далекой от дома стране ты всегда чужак, и все оказывается не тем, чем кажется. Ее раздражало странное поведение Терри. А потом ей стало плохо.
Приступ был неожиданным, и, казалось, ему не будет конца. Корчась от боли, она смотрела в дыру в унитазе на убегающие назад рельсы. Рассвет она встретила перед протекающим краном, с жестяной кружкой в руке. Каждый спазм жестоко напоминал ей о детях, которых она потеряла, – двух, и во второй раз она чуть сама не отправилась на небеса. Она была дома одна. Выкидыш был резким, мучительным, кровавым. Терри обещал, что ей больше никогда не придется проходить через это.
Она покачивалась, стараясь унять боль. Мимо бежала пустыня, перемежающаяся редкими рощами. В удивительном синем небе кружили коршуны. Индия была красива. Словно полотно. Поезд отмерял от бесконечного рулона этой страны огромные куски, на которых стояли деревни, станции, существовали люди. «Если я выживу в этом поезде, то выживу где угодно», – думала она и чувствовала себя виноватой перед теми, кто ехал вместе с ней.
И вот Терри извлек ее из вагона и повез по Нью-Дели в открытой машине. Ее ошеломил шум. Не то чтобы он был очень громким – просто он имел слишком много источников, доносился буквально отовсюду. Вся Индия дышала, ворчала, кричала, что-то передвигала и швыряла. Никто в этом мире не спал, потому что для сна необходимо уединение, о котором здесь, похоже, не имели никакого понятия. Она слышала всех людей в этой обширной, беспорядочной стране; они говорили все разом, или стенали в отчаянии, или пели, – и больше всего ее тяготило то, что она не понимала ни одного слова.
Терри оставался безучастным к ее страданиям и только улыбался, как будто встреча с неизвестным миром и миллионом незнакомцев должна была приносить ей только радость.
Она почувствовала себя в безопасности, только когда раздвижные стеклянные двери отрезали их от города. Прошли ночь и долгое сонное утро, прошел обед в еще одном элегантном ресторане, и после этого она почувствовала, что готова оказать ему сопротивление.
– Куда мы едем, Терри? – Она должна была заглянуть в глаза человеку, которого, как она думала, она знала, и выяснить, зачем все-таки они здесь. – Что это за дальняя поездка, о которой ты говорил?
– Давай не будем сейчас это обсуждать, – тихо и спокойно сказал он, – только не сейчас, ведь все так хорошо. – Она понимала, что он привез ее сюда, чтобы помочь справиться с прошлыми потерями. Признанный мастер переводить тему. – Ты только посмотри! – добавил он и широким жестом обвел построенный в холле отеля водопад, мраморные галереи, где, не опасаясь попрошаек и уличных торговцев, прогуливались постояльцы, выложенный расписной плиткой пол, блестящую поверхность которого не нарушала даже тень бурлящей снаружи хаотичной жизни.
– Терри, мне нужно знать, – сказала она, потому что ей правда нужно было знать. – Я просто…
Он открыл маленький бархатный футляр, и она замолчала. Что-то упало ей на ладонь. Это было кольцо.
– Сегодня сделали, специально для тебя. Это голубой топаз.
– О! – Камень брызнул светом. – О!
– С годовщиной тебя.
Десять лет. Но вопросы остались. Она сидела у подножия четырехэтажного водопада, от улицы ее отделяли крепкие стены с красивой отделкой, и она сказала себе, что они могут подождать. Если это финальный пункт их поездки, если ощущение безопасности и спокойствия продлится, то вопросы могут ждать еще очень долго. Они с Терри поужинают в просторном прохладном отеле. Они будут проводить здесь почти весь день, а на закате выезжать в закрытой машине в город и любоваться памятниками, осматривать проносящиеся мимо достопримечательности и возвращаться домой, прежде чем случится что-либо плохое. Они…
– Нам лучше поспать. В четыре утра у нас машина.
– Машина? – В животе у нее что-то противно сжалось. «Я не могу».
– Девочка моя, – сказал Терри так, как мог бы сказать: «Ну конечно, ты сможешь», и смягчил свой ответ, достав еще один бархатный футляр. Ей на ладонь, словно обещание, вытекли серьги с голубыми топазами. – Это Индия!
Они отправились рано-рано на рассвете – до жары, до пробуждения городских толп. Улицы были пусты настолько, насколько это вообще возможно в этой стране. В машине Сара чувствовала себя сносно – кондиционер работал на полную, гостиничный шофер Рави Сингх почтительно склонился, усаживая ее на заднее сиденье. Как только они выехали за пределы города, их сдержанный, элегантный шофер-сикх преобразился. Он прорубался сквозь автомобильный поток, словно воин сквозь вражеские ряды. Он вел машину так, как будто стоял плечом к плечу с другими героями-сикхами.
Сара охнула, когда он вильнул на встречную полосу, где на них несся грузовик, чтобы объехать корову, прилегшую отдохнуть на асфальте. Она подумала, как воспринимает это все сам Рави Сингх и сколько у него волос под обширным желтым тюрбаном – она где-то читала, что сикхи никогда их не стригут, сколько отрастет за жизнь – столько отрастет. После смерти бог берет сикха за волосы и забрасывает его на небо – или она придумала это?
И что за бог? Она не имела понятия. Профиль занятого рулем сикха был до того жёсток, что она побоялась спросить.
Так они и ехали в молчании, и у нее было время подумать.
Она сама виновата в том, что не знает, куда ее везет Терри. Она была занята на работе и переложила подготовку к путешествию целиком на плечи мужа. Он все планировал сам, ничего с ней не обсуждая. Тогда она говорила, что хочет, чтобы он ее удивил, но на самом деле ей было неуютно и страшно. Индия слишком велика, она хранит слишком много легенд, и сами эти легенды похожи на тщательно скрываемые секреты. Индия слишком многообразна, слишком сложна. Можно родиться в этой стране и прожить здесь всю жизнь – и так и не узнать ее по-настоящему. Можно читать, изучать, ездить по ней из конца в конец – и все же узнать о ней не больше, чем рыба знает об океане. Поэтому вся ее подготовка свелась к тому, что она собрала вещи и вышла из дому.
А теперь за свое невежество платила сполна. Она дотронулась до руки своего мужа.
– Об этой легенде, которую мы должны прожить… Что это за легенда, Терри? Что это за легенда? – Он никогда не храпел, так что она знала, что он притворяется. Они ехали и ехали. Она сдалась и уснула и проспала до тех пор, пока машина не остановилась и ее не разбудила неожиданная тишина и неподвижность.
Рави поставил машину на ручной тормоз и вышел, чтобы открыть им дверь. В салон хлынул жар.
– Отсюда надо идти пешком. Где мне подождать?
Как заядлый, ко всему готовый турист, Терри ответил:
– Возле Джама-Масджид. Это такая большая мечеть, – объяснил он ей.
«Не притворяйся, что знаешь место, где ты никогда не бывал», – подумала она. Если бы мыслью можно было убить. Но отчего она чувствует такую злость? Не важно. Она могла бы это сказать вслух – он сейчас все равно бы ее не услышал. Они вывалились на дорогу, словно две фасолины на огненную сковороду. Сара решила использовать последний шанс что-либо узнать. Она обратилась к Рави:
– Существует ли какая-нибудь легенда, связанная с этим местом?
Он прикоснулся сложенными ладонями ко лбу.
– Салим Чишти.
– Кто?
Терри, черт бы тебя побрал, с чего ты кажешься таким довольным? С радостной улыбкой он похлопал по путеводителю:
– Все есть вот здесь.
Она скривилась.
– Я спрашиваю господина Сингха.
– Император Акбар построил этот город в знак благодарности святому и переселил сюда свой двор. – Шофер вздохнул. – Он пустует уже много-много лет.
– Благодарности за что?
Тут вмешался Терри, которому не терпелось тронуться в путь:
– Здесь все есть, Сара. Все в книге.
– До заката, – сказал сикх, как будто отмерил им срок.
***
Шофер оставил их на дороге, под ярким солнечным светом, из-за которого им приходится щурить глаза. На спускающихся вниз улицах толкутся туристы, торговцы, попрошайки – их целые толпы, – и Сара делает шаг ближе к Терри, будто хочет сбежать от них; странно, но это как войти в зрачок фотокамеры за мгновение до того, как он закроется.
Что-то движется. Идет время. Сара сбрасывает с себя оцепенение, моргает. Освещение изменилось – видимо, прошло уже много времени.
– Терри, что мы здесь делаем?
– А ты как думаешь? Стоим в очереди за билетами.
Желание.
Она оборачивается: «Кто это сказал?»
Одно желание.
– Я не вижу никакой очереди.
– Ну и хорошо. Тогда мы просто войдем. – Он потянул ее за руку. – Пошли!
Она и хочет этого, и боится. Впервые за все время она не видит галдящих экскурсоводов, никто не выпрашивает доллар, никто не продает безделушки, лакомства, воду. Их машина уехала, Рави Сингх уехал, и дорога, что привела их в этот город-призрак, пуста. Они одни – впервые с того момента, как приземлились на субконтиненте.
– А где все?
– Внутри, скорее всего. – Голос Терри звучит неуверенно – в первый раз за все время. – Или, может быть, сегодня тут вроде выходного дня.
После суматохи и шума спустившаяся на них тишина кажется такой зловещей, что Сара непроизвольно дрожит.
– С нами тут ничего не случится? – не скрывая тревоги, спрашивает она, но Терри этого не замечает.
– Сара, это же национальный памятник! Ты что, думаешь, его не охраняют?
– А откуда я знаю! Я даже не знаю, почему мы здесь!
У него есть желание.
«Что?» – Она оборачивается к Терри:
– Ты что-то сказал?
– Я сказал, вот он. – Судя по интонации, он говорит не только о городе. Вверху широкого ската их ждут, словно раскрытая пасть, высокие, массивные ворота. Он проводит ее под их сводами, и они выходят на залитый злым солнцем двор. – Волшебный город.
У них всегда есть желание.
Чувствуя нервную дрожь, она оглядывает раскинувшийся впереди древний город. Он великолепен. Поразителен. Пуст. Над арками, луковичными куполами и минаретами, крепостными стенами и башенками – дикое синее небо, абсолютно пустое, если не считать припаянного к нему белого, струящего жар солнца. Сколько сейчас времени – полдень?
– О-о-о. – Глаза не смотрят из-за яркого света. Не помогают ни шляпа, ни солнечные очки. Сара, словно кипяток, глотает обжигающий воздух. – О!
– Здесь… – С помощью своего голоса Терри пытается поднять ее и перенести туда, где она не хотела бы оказаться. – Здесь…
Она инстинктивно подносит к губам бутылку с водой.
– Здесь жарко.
– Я не знаю, на что это похоже, – радостно говорит он. – Здесь так красиво!
Она делает несколько глотков и после этого чувствует себя немного лучше.
– Да.
– Это выраженная в камне мечта императора о… я не знаю… – Затем Терри неосторожно переступает черту. – Сара, давай когда-нибудь привезем сюда детей.
Ошеломленная светом, идущая, словно во сне, она мгновенно приходит в себя.
– Ты обещал, – говорит она, и он замолкает.
Сара Кендалл выросла без матери, и потеря ее собственных нерожденных детей убедила ее в том, что она не должна умереть так же, как ее мать. Она не умрет, как ее мать, только не так. Но дело не только в этом. Она больше не хочет испытывать такое горе, такое страдание. Больше никогда в жизни.
После этого она выживала, сжимая зубы и не подпуская к себе никого. Один человек рядом с ней – это ее предел, и Терри это знает.
– Теперь, – резко говорит она, поскольку он так ничего и не объяснил, – об этой легенде.
– Император Акбар взял на себя обет, – охотно говорит Терри, и она понимает, что он не расскажет ей всей правды. – Сикри означает «благодарность». Император получил, что хотел, и поэтому построил этот город. – Затем Терри коротко пересказывает историю империи Великих Моголов, но по-прежнему не говорит, за что Акбар приносил благодарность. Словно коммивояжер, не желающий раскрывать сразу всю информацию о товаре, он углубляется в путеводитель. – Здесь говорится, что строительство крепости и дворцов заняло несколько лет. Все, кроме песчаника, который они добывали прямо здесь, приходилось привозить из других областей Индии. Абсолютно все: мрамор и малахит, металл, ковры и мебель, инструменты и топливо – все необходимое. Носильщики доставляли сюда одежду, драгоценности и оружие для сотен людей. Сюда привозилось все, что требуется для правления империей. Когда все было сделано, сюда приехал двор Акбара – многие сотни и сотни: воины и царедворцы, жены и наложницы, слуги и рабы. Тысячи голов скота.
От жары у нее кружится голова, но Терри бубнит и бубнит, словно гипнотизер. Она раздраженно восклицает:
– Терри! Ты что, весь путеводитель собираешься мне прочитать?
Слушай.
– Слоны императора, – заканчивает он. – Рави высадил нас на скате для слонов. Эти скаты были построены специально для того, чтобы по ним проходили слоны, – добавляет он профессорским тоном, и ей хочется его ударить. – Тебе, может, это неинтересно, но он был величайшим императором из династии Моголов после Бабура. Ты только посмотри вокруг! Акбар продумал все до мелочей.
– С тех пор много воды утекло, – говорит Сара. Рассказывая об этом путешествии прохладным вечером в Провиденсе, Терри не сказал ей, насколько здесь будет жарко, насколько она будет слабой и обезвоженной. Она просто не может спокойно любоваться всем этим великолепием. Она неловко переминается с ноги на ногу. По двору летает красная пыль, она прилипает к волоскам на ее обнаженных руках, забивается в ноздри. – Если он продумал все до мелочей, почему здесь так тихо?
– Вот именно, много воды утекло! Это был удивительный, прекрасный город, рай на земле. Здесь был роскошный тенистый сад, позволявший наслаждаться прохладой даже в самые жаркие месяцы. Здесь была отличная система водоснабжения, но, понимаешь, в этом городе было слишком много людей и скота… – Терри вздыхает. – Прошло несколько лет, и в один прекрасный день вода просто кончилась.
Она, по примеру Терри, тоже вздыхает:
– И город умер.
– Да. Теперь сюда приезжают только туристы. – Он смотрит прямо на нее и добавляет: – И пилигримы.
Да, пилигримы. Сара дергается, словно лошадь, которой докучает овод. Пилигримы, у которых есть желание.
– Какие пилигримы?
Оставив ее вопрос без ответа, Терри выводит ее из крытого прохода на открытое место. Свет ослепляет, под ним все обретает резкие, рельефные очертания: карнизы, купола и башенки, галереи и украшенные тонкой резьбой стены из красного песчаника, служащие границей пустынного города императора Акбара. Огромный двор безмолвен, и это вселяет тревогу. Вокруг все замерло в неподвижности; никаких туристов, бродящих по переходам или позирующих перед пленочными «мыльницами» или цифровыми фотоаппаратами; никаких экскурсоводов, наперебой предлагающих свои услуги, никаких детей-попрошаек, улыбающихся во весь рот, или торговцев водой и сладостями. Она дотрагивается до его руки.
– Терри, а где все?
– Да какая разница? Этот город только наш! – Он смеется и сжимает в ладони ее пальцы, словно ребенок, тянущий ее поиграть. Он ведет ее по очередному проходу, над головой у нее кружевной красный песчаник. – Смотри!
Когда Терри наконец отпускает ее, она делает шаг назад, чтобы хорошо рассмотреть мужчину, который привез ее в это красивое, пустынное место: знакомое лицо, развевающиеся темные волосы – Терри как Терри; и все же она думает: «Знаю ли я тебя?» На мгновение они останавливаются и смотрят через каменную ажурную решетку на расстилающуюся за стеной пустыню.
– Все, что построил Акбар, – наше!
Во рту у нее сухо; кожа как бумага; даже глаза и те, кажется, страдают от недостатка влаги.
– Да, – отвечает она, потому что он ждет ответа.
Она еще не знает, в чем здесь подвох, но подвох есть: напряженная нетерпеливость Терри, странное чувство, что камни или что-то заключенное внутри них разговаривают с ней. Она прислушивается, но голос Терри заглушает то, что, как ей кажется, говорит с ней.
– Здесь написано, что у Акбара было пять тысяч наложниц. – Он показывает пальцем. – Я думаю, это зенана – гарем, где все они содержались. Но ты знаешь, из всех этих жен… – Он замолкает. Решает, что еще не время, и не продолжает.
Он хочет.
Она встревоженно оглядывается по сторонам. «Что он может хотеть? Я даю ему все, что он хочет». Она не прочь была бы оказаться лицом к лицу с таинственной фигурой, которая шепчет, не имея голоса. Она не отказалась бы поспорить. Если бы она заметила, что кто-то следует за ними, прячась за ажурными перегородками, – живой человек, которого, кажется, слышит она одна, – она бы почувствовала себя лучше. Сейчас она спокойно встретила бы даже врага, намеревающегося ее убить. Он хотя бы человек. «С этим, – думает она, – я могу справиться». Но рядом с ней только Терри.
И она задает вопрос ему:
– Чего ты хочешь, Терри?
Но он ушел вперед и не слышит.
«Странно, – думает она. – Все так странно». И продолжает:
– Это что-то вроде жертвоприношения?
Больше. Слова вплывают ей в голову – это предостережение. Они всегда хотят больше.
– Что?
Типично для Терри: он игнорирует вопрос с помощью очередной порции сведений.
– Видишь вон то возвышение посреди воды? Там сидел Акбар, когда вершил суд вне стен дворца. Чтобы с ним поговорить, надо было пройти по тем узким мостикам. Здорово придумано, правда? – Он заглядывает в книгу, потом показывает в другую сторону. – Видишь те ступени? Иногда он сидел там, на той площадке. И играл в шахматы, используя вместо фигур своих подданных. Мы сейчас стоим на шахматной доске. – Он ведет ее к лестнице. – Видишь квадраты? – Он разворачивает ее, словно партнершу в танце. Они останавливаются и рассматривают покрытую клетками площадь. Он разворачивает ее обратно. – Он манипулировал живыми людьми, как шахматными фигурами.
Как объектами своих желаний.
Терри задумчиво заканчивает:
– И он всегда выигрывал.
«Что?» Она слышит не ветер и не голос, но что-то неслышимое и, тем не менее, желающее быть услышанным. Предостережение:
Как тобой.
«Как мной?» Если это предостережение, то чего она должна остерегаться? Они ведь обо всем договорились, разве нет? Терри все понимает и со всем согласен. Он дал обещание. Тогда что происходит? Он прется вперед как танк к какой-то неведомой ей цели, вычитывает из путеводителя описание всего, мимо чего они проходят, словно недавно окончивший институт учитель, впавший в транс от звука собственного голоса. Она пытается заставить его идти помедленнее, но мужчина, которого она вроде бы знает, отгораживается от нее книгой, отмахивается от вопросов.
Пока они идут, – кажется, что многие мили, – небо над их головой выбеливается до цвета расплавленного свинца; она устала, умирает от жажды, а Терри все тянет ее вдоль строки текста, читая его, словно религиозный фанатик, открывающий для себя вселенскую истину.
– Для строительства этого города император привез мастеров со всех концов света, его архитектура богата и разнообразна и включает в себя элементы, взятые из всех известных на тот момент культур.
– Хватит! – кричит она, когда он ныряет в очередной длинный проход. – Пожалуйста, Терри, хватит! – Впервые за все время брака, построенного на любви, Сара думает, что их совместная жизнь может скоро закончиться. Она отмахивается от слов руками; она ничего не может объяснить, не обидев его. «Как я могу слушать, когда ты читаешь, да еще так громко?»
Они подходят к еще одному зданию из красного песчаника. Вступая в тень, она стонет от облегчения.
– А это, – говорит он и читает, а не смотрит вокруг, – это Диван-и-Хас, зал, где Акбар проводил аудиенции. Он сидел наверху вон той колонны, скрытый ажурными перилами, так что его можно было слышать, но нельзя было видеть. Он был здесь властью – безликой и всеподавляющей. Когда император говорил, ни один из людей внизу его не видел, но слышали они каждое слово, и его приговор звучал так, как будто его изрекает сам бог. – Он показывает. – Смотри!
И Сара смотрит, хотя уже давно перестала это делать. Она следит взглядом за его пальцем, который указывает на каменную колонну, вверху которой, скрытый от глаз каменными решетками, расположен пьедестал для его трона. Вся эта конструкция выглядит как перевернутый рожок с мороженым или огромный свадебный торт. «Бог ты мой».
– Он тут проводил аудиенции?
Терри отзывается загадочной фразой:
– Находясь здесь, внизу, мы можем слышать, как он говорит, но не можем видеть, как он принимает решение.
«Мы». Это настораживает.
– Какое решение?
Какое желает.
«Слава богу, ты вернулся». Сара, находясь в чужой стране, не зная, куда деваться от нервной дрожи, не представляет, какого бога она славит.
– Ну, обо всяких там важных вещах.
В следующее мгновение Терри уже лезет по истертым ступеням наверх, на галерею.
– Куда ты, Терри? – Она видит, как он бежит вдоль стены у нее над головой. Она кричит: – Что ты делаешь? – Махнув рукой, он проходит по одному из шести мостиков, ведущих к центральной колонне, и исчезает на императорской площадке.
Они всегда получают то, что желают.
Сара судорожно вздыхает. Ее беспокойство нарастает, она снова кричит, на этот раз настойчивее:
– Терри, что ты делаешь?
Проходит очень много времени, и его голос доносится сверху. Ее упертый, ничего не замечающий возлюбленный снова громко читает путеводитель, сидя на возвышении, предназначенном для императора.
– Легенда говорит, что ни одна из жен Акбара не могла родить ему наследника. Затем к нему пришли странники и принесли рассказы о великом суфийском святом. И Акбар отправился в паломничество в глубь пустыни. Пройдя долгий путь, он сел в ногах шейха Салима Чишти и рассказал ему о своей великой нужде. Святой…
Ее голос дрожит:
– Ты этого хочешь?
– …предсказал, что у него родится сын, но только от жены-христианки.
Слова, покидающие ее рот, на вкус как рвота.
– Ты эгоистичный, лживый… – Она не может подобрать существительное и выпаливает: – Это все, что я должна для тебя сделать?
Затем воздух будто взрывается. Тяжко громыхает голос.
ТАК МНОГО ЖЕН, ТАК МНОГО ЖЕНЩИН, ТАК МНОГО УМЕРЛО, И НЕТ СЫНА, КОТОРОМУ Я МОГ БЫ ОСТАВИТЬ СВОЕ ЦАРСТВО.
Она оглушена. «Неужели это Терри говорит? Это не может быть он».
– Терри! Ты это слышишь? Терри?
САЛИМ ЧИШТИ, МОЛЮ ТЕБЯ О ЧУДЕ…
Мощный, сотрясающий стены голос пробирает ее до самого позвоночника.
– Терри!
МИРИАМ.
– Что это, Терри? Что это?
Не обращая ни на что внимания, ее муж продолжает спокойно читать. Голос у него ровный и четкий, словно у диктора радио:
– Акбар искал ее, пока не нашел, и она родила ему сына, будущего императора Джахангира. В знак благодарности император перенес свою столицу на границу пустыни, в Сикри, и построил здесь новый великолепный город.
– Черт возьми, Терри, послушай!
Над ее головой, невидимый, ее муж продолжает читать, как будто он не слышит или ему все равно. Затем, когда она уже на грани, он останавливается.
– Нет, это ты послушай! – кричит он. – О, Сара, давай попробуем еще раз. Я так этого хочу.
– Я думала, ты любишь меня!
И вдруг откуда-то начинают катиться огромные слова. Они спадают вниз, как будто запечатывая императорскую могилу. ЭТО ГОРЬКО, НО КАЖДОМУ МУЖЧИНЕ НУЖЕН СЫН, КОТОРЫЙ ПОХОРОНИТ ЕГО, И ОНА…
Голос грохочет, и на фоне этого грохота в зале для аудиенций слышится тихий вздох. Сара чувствует, что ее вот-вот накроет волна истерики. Она понимает, что ее подруга, женский призрак, который все это время шел с ней рядом, уходит. Ее последние слова падают, как сухие листья. Теперь ты знаешь.
Она кричит срывающимся голосом:
– Мириам? Мириам, не уходи! – Но Мириам уже нет рядом. Она исчезла, словно ее и не было.
Теперь она одна против мужчин.
НЕ СПРАШИВАЙ МЕНЯ, ЧТО ЗДЕСЬ ПРАВДА, А ЧТО ЛЕГЕНДА. ИДИ.
Раздается продолжительный хруст камня по камню, словно закрывается какая-то огромная ловушка.
Оторопевшая – нет, просто остолбеневшая Сара зовет:
– Акбар?
Но там только Терри. Он уходит с каменной колонны у нее над головой и по мостику возвращается на галерею, где она его уже видит. Живи Сара хоть сто лет и думай об этом каждый день до глубокой старости – она все равно бы никогда не поняла, кто только что говорил с ней.
Что ей сейчас надо, пока она стоит здесь, в этом пустом красивом зале для аудиенций в призрачном городе императора Акбара, расположенном на сухой возвышенности на границе пустыни Тар в северной Индии, и дожидается своего мужа, а он тем временем спускается с верхнего яруса и бежит к ней с распростертыми объятиями, – это принять решение. И она его принимает.
Улыбаясь, он спешит к ней:
– Ну, что ты думаешь?
Она вздыхает и слегка кривит душой:
– Давай пока не будем ничего загадывать. Давай пока осмотрим оставшиеся достопримечательности.
Они покидают здание. Снаружи ее с ног до головы обливает оранжево-золотой свет. Солнце уже клонится к закату. Сколько же времени они там пробыли? Ей на зубы попадает сухой песок, она хватается за бутылку и обнаруживает, что та пуста.
Терри по-прежнему ничего не замечает. Он тащит ее вдоль небольшого возвышения к гробнице Салима Чишти. На табличке при входе по-английски написано, чтобы входящие снимали обувь, но Терри не обращает на это внимания. Несмотря на то что вокруг никого нет, Сара снимает сандалии. Мраморный пол удерживает дневное тепло. Сара очень утомлена и хочет пить. Ей приносят облегчение длинные тени. Терри поднимает глаза от путеводителя:
– Тут говорится, что шейх похоронен здесь.
Едва стоящая на ногах от усталости, нервного напряжения, испуга и злости, она выхватывает путеводитель у него из рук и бросает книгу наружу, на площадь. Останавливается в центре гробницы, смотрит вниз, размышляет. Следовало бы помолиться, но она понятия не имеет, какие слова говорить и к кому их обращать. Они стоят под мраморной крышей. Мир останавливается, они словно находятся в вакууме. Счастливо улыбаясь, Терри берет ее за руку. Как если бы все уже было решено. В груди у нее все опрокидывается.
Они выходят из теней на медленно угасающий свет. Как только они покидают мраморную гробницу, воздух лопается и на них вдруг с пугающим, нестерпимым ревом обрушивается вся Индия: туристы, попрошайки, экскурсоводы, музыканты и торговцы сражаются за место во дворе гигантской мечети; в нос бьет запах красной пыли, готовящейся еды и огромной массы людей, собравшихся на площади, которая никогда не сможет вместить их всех; во все стороны растекается, всюду проникает ровный и мощный шум – усиленный, доведенный почти до крайности голос Индии. Великая, многообразная, непознаваемая цивилизация потягивается, словно тигр, просыпающийся от глубокого, противоестественного сна.
Они спускаются по ступенькам навстречу косо падающему свету, и Терри тоже сонно потягивается и трет глаза – так он делает по воскресеньям, после того как сообразит, что можно еще поспать, и перед тем как выключить будильник.
В первый раз за сегодня Сара бежит впереди – активная, настороженная, восприимчивая. На краю каменной возвышенности, на которой построен город, под гигантскими воротами мечети собралась толпа для какой-то церемонии – наверняка указанной в глупой книжке Терри. Она знает, что за стенами города их ждет в машине Рави Сингх; он готов увезти их туда, где царит спокойствие и безопасность. Однако она чувствует, что еще не все здесь сделала. Бодро работая локтями, она пробивается через толпу. Ей во что бы то ни стало надо увидеть, чего ждут все эти люди. Наверху сплошь покрытых узорами ворот стоят человеческие фигуры. Они будто готовятся… к чему? Люди на воротах мечети явно сосредоточены на чем-то, расположенном на уровне земли, но Сара не видит, что это.
Затем кто-то хватает ее за руку, и она оборачивается. Это мальчишка в футболке и джинсовых шортах – бывших полноценных джинсах, обрезанных выше колен. Сколько ему – четырнадцать, шестнадцать? Один из многих мальчишек, целыми днями теребящих туристов и выжимающих из них рупию-другую. «Чего тебе надо?» Наверняка денег. У ворот что-то произошло – по толпе прокатился вздох.
– Мэ-э-эм, мэ-э-эм, посмотрите, как я прыгну в воду!
Она не слышит; вернее, слышит, но не понимает. Он тянет ее за локоть, этот оборванец.
– Всего сорок рупий.
– Что?
– За сорок рупий я прыгну в воду, – говорит мальчик, указывая на массивные ворота. – А вы посмотрите. Посмотрите, как я прыгну в воду.
В рот ей набился песок, но она все же проговорила:
– В воду?
– Всего сорок рупий.
– Конечно, – говорит она и кладет ему на ладонь мятую сотню. – Когда?
– Да сейчас! – Мальчишка бежит к воротам, но он недостаточно быстр.
Сара машинально хватает его за футболку и бежит вместе с ним – куда он, туда и она, как ни пытается он ее стряхнуть, – и лезет вместе с ним, а он всхлипывает и поминутно оглядывается.
– Мэм, мэм! – Он изо всех сил пытается освободиться, но она, взволнованная, зачарованная, только жмется ближе к нему. Он почти вырывается, когда расползается его ветхая футболка, но она перехватывает его за щиколотку.
Он не может лезть вверх. Она его не отпускает. Пат на камнях. Теперь она попрошайка:
– Пожалуйста.
С дикими глазами мальчишка кричит:
– Чего вы хотите?
– Я сама не знаю!
Внизу, уменьшенный расстоянием, бегает кругами Терри и кричит, чтобы она спускалась.
Держась одной рукой за камень, другой мальчишка лезет в карман и бросает ей деньги. Он качает головой – «нет»:
– Возьмите их назад!
Дрожа, она оценивает все сразу: их положение на воротах, расстояние до верха, тот факт, что она не видит воды внизу, не может судить, насколько широк и глубок водоем и что происходит с теми, кто прыгает; она не знает, откуда обычно прыгает мальчишка и что она сейчас делает. Она знает только, что там, внизу, есть вода.
У подножия ворот кто-то другой кричит:
– Всего сорок рупий…
Не отпуская щиколотки мальчишки, тяжело дыша от волнения и надежды, она быстро говорит:
– Тысячу рупий, если возьмешь меня с собой.
Послесловие
Когда-то давно мне довелось попасть на небольшое каменистое плато на границе пустыни Тар неподалеку от Агры и побродить по самому знаменитому городу-призраку Индии. Этот город построен из красного песчаника, здесь стоит несколько величественных мечетей, повсюду можно видеть элегантные, вырезанные из камня ажурные решетки и стены. И уже несколько сотен лет в нем никто не живет.
Город-призрак, которому дала жизнь старая индийская легенда. Что может быть лучше? По этой легенде, у правившего в шестнадцатом столетии императора Акбара из династии Великих Моголов было очень много жен и дочерей, но ни одного сына, который мог бы продолжить династию.
Странники принесли ему вести о суфийском святом, который творил чудеса, и Акбар отправился в пустыню поклониться ему. Святой и чудотворец Салим Чишти благословил Акбара и пророчествовал, что сына ему принесет женщина христианской веры. Император назвал мальчика Салимом – в честь благодетельного шейха. Когда Салим вырос, он стал императором Джахангиром. Его сын Шах-Джахан построил Красный форт, Агру и Тадж-Махал. В знак благодарности Салиму Чишти Акбар построил город Фатехпур-Сикри на том месте, где обитал святой. Он перевез на это плато, расположенное посреди пустыни, всех своих жен и придворных, и они жили, купаясь в роскоши, до тех пор, пока – и о чем он только думал? – в городе не иссякли все источники воды. И тогда они оставили город на откуп красной пыли и ветрам пустыни. Гробница Салима Чишти находится недалеко от одного из входов в этот великий город-призрак.
Последний роман Кит Рид, «Анклав» («Enclave»), вышел в свет в 2009 году. Среди ее других относительно новых работ такие романы, как «Торговец детьми» («The Baby Merchant»), «Псы правды» («Dogs of Truth») и «Худее, чем ты» («Thinner Than Thou»). Ее повесть «Сестрички Апокалипсиса» («Little Sisters of the Apocalypse») и сборник рассказов «Странные женщины, опутанные проводами» («Weird Women, Wired Women») вышли в финал премии Джеймса Типтри-младшего.
Ее рассказы публиковались во множестве антологий и журналов, включая Asimov’s Science Fiction, The Magazine of Fantasy & Science Fiction, The Yale Review, Postscripts и The Kenyon Review. Ее последний сборник рассказов, «Что знают волки» («What Wolves Know»), издан в 2011 году.
Стивен Пири Джек-прыгун
Время от времени Рут закрывает глаза. Но задремать не получается – это трудно, когда спину царапает жесткая кора; когда он безостановочно толкает ее в бедра, не заботясь о том, что она внутри вся высохла, не думая о том, что, может быть, по ноге у нее течет кровь.
– Ты целуешься, детка? – говорит он.
– Нет, – говорит Рут. – Никогда.
Он впивается губами ей в шею. По крайней мере, ему теперь уже не долго. Она смотрит на закат, пробивающийся через деревья за его спиной. В парке темно; ничто не движется, кроме шлюх и крыс. Окна викторианских домов, выстроившихся вдоль огибающей парк дороги, черны. Там давно уже никто не живет, и они потихоньку ветшают.
Он издает довольный рык. Рут смотрит на сланцевые крыши, желтые в тех местах, где они подсвечены скромным солнцем и отражающимися от облаков городскими огнями, темные там, где сланцевая черепица провалилась и зияют дыры. И там, наверху, находится фигура. Она далеко, но Рут видит, что лицо фигуры искажено, улыбается она или кривится – непонятно, ее руки и кружатся, и извиваются, словно она танцует на крыше.
Рут протирает глаза. Фигура исчезла.
Он выскальзывает из нее, иссякший и отдувающийся.
– Ты точно не целуешься, детка? Я люблю немного нежности после того, как я закончил.
Но Рут уже натягивает трусики и спешит прочь.
***
Сейчас вторник, утро, и в доме при миссии полно народу. Толстые женщины наливают из бачка чай и раздают бутерброды и презрительные взгляды. Они трясут своими брылями, когда к столу подходит Рут. Они знают, кто она такая. Рут терпеть не может миссию, но если ее прогоняют с ее места возле мусорного контейнера, позади велосипедного магазина «Беспечный ездок» на Хай-стрит, то ей некуда больше пойти. Она уже давно поняла, что для таких девушек, как она, церковь распахивает двери не полностью.
Рут берет чай и проталкивается через скопище немытых тел к нише под лестницей. Здесь мало света, и можно не опасаться косых взглядов. Рут спокойнее себя чувствует в полутьме. Меньше шансов, что ее заметит священник и попытается спасти. Ее передергивает; вот уж чего ей совсем не хочется, так это испытать на себе спасительные усилия отца Томаса, намыливающего ей грудь в ванне.
Здесь Коротышка, и Бэзил, и Ласс. Поглядев направо-налево, Бэзил подлил спиртного ей в чай.
– Еще слишком рано для чая без джина, – говорит он. Ласс цепляется за его руку, как будто боится без него потеряться. – Я всегда говорю, что не дело начинать день с пустого чая.
– Из-за тебя нас вышвырнут, – бурчит Ласс.
Коротышка ухмыляется и глядит по сторонам.
– Да хоть бы и вышвырнули – невелика беда, – говорит он. – Больно уж тут сегодня воняет, даже на мой привычный нюх. Я слышал, это место могут прикрыть. Тут нашли асбест, а даже отбросы вроде нас не должны дышать асбестом. И еще здесь, говорят, дыры в крыше.
Рут поперхнулась чаем. На мгновение она вернулась в парк, где на крышах танцует дьявол. Он прыгает от одной полуразрушенной каминной трубы к другой и улыбается ей. Его ноги слишком длинны, слишком палкообразны; его взгляд слишком горяч.
– Вчера на крыше кто-то был, – отстраненно говорит она.
– Ты имеешь в виду, здесь на крыше, на миссии? – переспрашивает Коротышка.
– Нет, там, на домах в парке – странный, худой, долговязый человек прыгал по крышам. Он посмотрел на меня, и его взгляд обжег мне лицо. Я даже из-за этого описалась.
– Да как он туда забрался-то? – говорит Бэзил.
– Не знаю. Когда я посмотрела снова, он уже исчез.
– Это Джек-прыгун, – заявляет Ласс. – Все о нем знают. Ты видела Джека-прыгуна.
– Это вроде бы значит, что ты скоро умрешь, – говорит Коротышка. – Разве это не он бродит по ночам и режет проституток?
Бэзил пинает Коротышку в колено:
– Это значит, что у тебя слишком много джина в чае, старый ты дурак. Ты, наверное, Джека Потрошителя вспомнил.
– Но разве это не одно и то же?
Ласс еще крепче сжимает руку Бэзила.
– Надо чтобы кто-то за тобой присмотрел, например, как мой дорогой за мной присматривает, – говорит она. – Или найди себе другое место для работы, где-нибудь подальше от парка.
«Где-нибудь подальше от парка». Рут опускает голову. Она смотрит на ковер и на макушку Коротышки – большая плешь, окруженная завитушками волос. Что она будет делать-то там, подальше от парка? У нее ничего нет, кроме рабочего инструмента между ног. У нее и занятия другого не будет, кроме как отбиваться от сутенеров и садистов.
Она смотрит на Бэзила, бродягу без гроша в кармане, причисляющего себя к аристократам, и на Ласс, простую и доверчивую женщину, которой абсолютно чуждо чувство собственного достоинства и которая непременно умрет, если она вдруг окажется в стороне от спасительной руки Бэзила, и на Коротышку, уродливого согнутого карлу. На что ему надеяться? На что надеяться им всем?
– Мне придется работать в парке, – говорит Рут. – Я больше в городе ничего не знаю.
***
В эту ночь дело идет медленно. Фонари на аллеях не горят. На парк словно наброшено влажное покрывало – это спустился на землю сентябрьский туман. Из-за него ночь напитана промозглым холодом, а в холодные ночи мужчины не слишком-то охотно снимают штаны. Скоро ей придется подыскивать себе какое-нибудь помещение для работы. Обычно это означало, что ей придется платить сутенеру. Сутенеры – это синяки на ребрах. Сутенеры – это наркотики, которых Рут всегда боялась. Лучше уж как сейчас. Лучше уж пускай лысые вонючие старики, которые уже больше никаким другим способом не смогут побыть с женщиной, припирают ее к дереву. И надо всегда быть настороже и давать стрекача, как только какой-нибудь больной на голову ублюдок достает из кармана нож.
Рут медленно обходит парковые аллеи. С этим туманом и глухой, давящей тишиной можно подумать, что она вернулась в Викторианскую эпоху. Это было время попроще, тогда шлюх тоже считали за людей. Джентльмены приподнимали бы шляпы и вежливо благодарили ее – так рассказывал Бэзил – и бросали бы ей еще одну-две монеты, взбираясь на сиденье красивого кэба. «Да, тогда все было иначе», – думает Рут. Теперь они только обтирают концы ее юбкой и идут прочь.
Рут останавливается, она явно слышала чьи-то шаги. Такое бывало, что клиент некоторое время следовал за ней – чтобы набраться храбрости, если он в первый раз, или чтобы убедиться, что она не связана с грабителями, или с полицией, или с теми и другими.
– Хочешь поразвлечься? – Рут глядит в сумрак.
Там кто-то есть – просто темное пятно, плохо видимое в темноте. Слышно его тяжелое дыхание, но это тоже в порядке вещей. Это может быть старик с астмой, которому не терпится загнать себя в гроб сексуальными упражнениями. Или юнец, который, отдуваясь, кончает себе в штаны и потом со всех ног бежит прочь – поделиться с товарищами рассказом об интересном приключении. Всякие типы бывают, и Рут видела их всех.
– Обычная программа – двадцать фунтов; рукой – десять; в рот не беру и не целуюсь. Еще что-нибудь – смотря что, можем договориться.
Его силуэт четче проявляется в темноте. Затем вновь размывается, потому что он быстро движется к Рут. Она отшатывается назад. Трава грязная, склизкая, и она поскальзывается. В воздухе пахнет серой и гнилью. Платье Рут прилипло к бедрам, от него холодно и мокро.
– Оставь меня в покое! – кричит она.
Человек прыгает перед ней, словно олень. Не переставая подпрыгивать, он поворачивает к ней голову. Его кожа светится болезненным зеленым цветом. Желтые зубы, треугольный подбородок. Огромные выпученные глаза. Его окутывает серная вонь. Он злобно смеется, и его смех похож на утробное урчание.
– Иди отсюда! У меня есть сутенер. Он тебя порежет.
Тридцать футов? Сорок? Даже в кромешной тьме Рут его видит, потому что изнутри его будто освещает бесовский огонь. Он разворачивается и направляется прямиком к Рут. Она сжимается в комок, инстинктивно закрывает голову руками, он перепрыгивает через нее, обдав серным ветром, и снова удаляется огромными прыжками. Она чувствует его запах и слышит его смех.
Он исчезает во мраке, а Рут сидит на земле, обхватив колени руками.
***
Среда в церкви – день исповеди. Бэзил говорит, что отец Томас отпускает грехи в середине недели, чтобы не работать по воскресеньям. Ласс жмется к его руке, восторженно смотрит на него и кивает.
– Ты такой умный, Бэзил, – шепчет она. – Ты знаешь все на свете.
Рут медлит перед кабинкой для исповеди. Она никогда не видела ничего сверхъестественного, ничего, во что нужно было верить, ни плохого, ни хорошего. Вся ее жизнь представляла собой титаническое противостояние – Рут против обычного ужасного мира, и для высших сил и чудес, как видно, места не оставалось. Но когда в темную ночь перед ней явил себя сам дьявол, когда он танцевал перед ней, перед ней одной, когда его вонь проникла ей в горло и обожгла ноздри, – куда, спрашивается, ей еще пойти?
– А мне не в чем каяться, – говорит Коротышка. – Я чист, словно дождик небесный.
Бэзил сжимает руку Рут.
– Подруга, ты точно хочешь туда пойти? Когда Психбольная Мод пошла на исповедь, ей пришлось каяться целую неделю. И когда она вышла, то была похожа на кучу тряпья. Как будто она только благодаря своим грехам и держалась на этом свете.
Бэзил протягивает Рут бренди, и она делает большой глоток. Она не очень хорошо умеет пить спиртное, и бренди палит ей горло. Чаще всего ей негде переночевать, помыться, справить естественные надобности – в таких условиях трудно содержать себя хотя бы в относительной чистоте, даже не употребляя алкоголь. А быть чистой – это крайне важно для привлечения клиентов. Рут знает, что без хотя бы минимального самоконтроля она будет уже в четверг валяться мертвой в канаве.
– Мне надо с кем-то поговорить, – говорит Рут. – С кем-то из церкви. С кем-то, кто разбирается в этих вещах.
– Отец Томас захочет намылить тебе титьки, – предупреждает Ласс.
Коротышка ухмыляется.
– Да ну, я могу это сделать и без церковной белиберды.
– Я должна узнать, кто это был – дьявол или еще кто, – говорит Рут. – Я должна выяснить, что ему от меня было нужно.
***
Рут заходит в кабинку для исповеди. В ней так покойно, что у нее перехватывает дыхание. Это чужое для нее место, она не знает, что делать, как будто, сделав шаг, вдруг оказалась на луне. Единственная свеча мерцает, затем горит ровно. Сначала Рут думает, что здесь больше никого нет, но тут она слышит в этой ясной тишине, как за толстой бархатной занавеской ерзает отец Томас.
– Итак, дитя мое? – наконец говорит он.
Рут трясет.
– Я не знаю, что говорить.
– Ты до этого никогда не исповедовалась в грехах?
– Я не знаю, в чем мои грехи.
– Мы все знаем, в чем наши грехи, дитя мое, нам только следует быть честными с собой и получше искать.
Рут вздыхает:
– Я видела дьявола, святой отец. Он выпрыгнул на меня из мрака. Я чувствовала его дурное дыхание.
Проходит несколько мгновений, затем отец Томас отдергивает занавеску. Он выглядит смущенным.
– Естественно, ты описываешь сейчас свои душевные переживания, а не то, что происходило в действительности?
– Из-за него я упала на землю, а он прыгал вокруг и смеялся. Его запах до сих пор стоит у меня в носу.
Отец Томас качает головой. Он смотрит на колени Рут, и она прикрывает их руками. Этого оказывается недостаточно, и она нервно вскакивает и одергивает юбку.
– Мне нужна помощь, святой отец.
– Пройди в мои покои, а я наполню ванну. – Отец Томас резко встает. Уши у него теплого розового цвета. – Чистота сродни благочестию. Мы смоем твои грехи. Ты снимешь с себя эту грязную одежду, и дьявол немедленно отдалится и исчезнет.
***
В эту ночь Рут не работает. Она держится поближе к краю парка, к дороге и прохожим. Если демон вернется, она за пять секунд окажется в людном месте.
– И когда мы увидим дьявола? – спрашивает Коротышка.
– Я говорила тебе, он захочет, чтобы ты разделась, – говорит Ласс. Она, как обычно, цепляется за руку Бэзила, но он так набрался водки и джина, что уже непонятно, кто кого держит – он ее или она его. – Меня всю передергивает, когда думаю, что он в это время делает свободной рукой.
Рут говорит тихо. Она сейчас чувствует себя более одинокой, чем когда-либо.
– Отец Томас не стал мне помогать. Он хотел только сам получить удовольствие. Сказал, что это были галлюцинации. Как может церковь ничего не знать про дьявола? Как церкви может быть все равно, если я сама иду к ней?
Ласс отпускает руку Бэзила. Это первый раз, когда Рут видит их по отдельности. Ласс смотрит на нее, и радужка ее глаз переливается зеленым, карим и золотым. Это придает ее взгляду глубину. Рут никогда еще не видела у нее такого взгляда.
– Церковь служит только самой себе, – произносит Ласс. – Я знаю, потому что и со мной плохо обращались – и отец Томас, и другие. Он тоже как-то смывал мои грехи. – Ласс улыбается. – Он после этого неделю хромал. Но это не дьявол, а Джек-прыгун. А это совсем другое дело. Будь верна себе, Рут, и, может быть, Джек-прыгун поможет тебе, когда ты его позовешь.
– Что, призывать дьявола? – удивляется Бэзил. – Вот это номер!
– Но зачем мне призывать такое ужасное существо?
– И где его искать? – спрашивает Коротышка.
– Надо смотреть на крыши. – Бэзил указывает наверх и чуть не падает. – Говорят, Джек-прыгун может перепрыгнуть луну.
***
Если Джек-прыгун и появлялся той ночью, он был просто тенью, всего один раз пролетевшей на фоне облаков. Сейчас четыре утра, и Рут ни на шаг не приблизилась к разгадке личности Джека-прыгуна. Воссоединившись с рукой Бэзила, Ласс тут же потеряла способность к яркому озарению, которую она продемонстрировала ранее. Влияние Бэзила как будто вытеснило ее индивидуальность. Несмотря на то что Рут настойчиво расспрашивала ее о Джеке-прыгуне, она ничего не добилась. Бэзил так пьян, что едва дышит. Коротышка забился в ближайшую дверную нишу и спит стоя, прислонившись плечом к стене.
Рут останавливается перед воротами в парк. На востоке, позади черных верхушек деревьев, намечается рассвет. «Это или начинающийся день, или загорающееся пламя, готовое поглотить мир», – думает Рут. Она дрожит, хотя ей и не холодно. Было время, когда она замечала лишь красоту рассвета и не боялась того, что может принести день. Было время, когда демоны и чудовища появлялись только в сказках и страшных снах, которые бледнели и исчезали с первыми лучами наступающего утра.
Но теперь он где-то недалеко, этот призрачный дьявол, пляшущий на деревьях, крышах, облаках и луне. Может быть, он смотрит на нее с холодной высоты. Может быть, он готов слететь вниз, схватить ее и унести в ад, где ее ждут неописуемые страдания. Рут лезет под юбку и чешется. У нее весь лобок в сыпи. Она вздыхает. Каждый мужчина, использовавший ее, все равно понемногу затаскивал ее туда.
***
Сегодня день раздач, и в социальном центре на Лорд-стрит полно народу. Рут сидит и молча ждет, а Бэзил и Ласс толкаются в очереди за одеждой. Стул Рут порезан ножом, и из него вылез поролон. Он едва выдерживает ее вес – да что говорить, Рут и сама его едва выдерживает. У нее перед глазами все кружится, шея горячая. У нее температура, и она ждет, когда ей станет еще хуже.
Над плакатом, на котором написано: «Мошенничество с пособиями по безработице бьет по всем», висит на тусклых цепях старый телевизор. Рут вглядывается в него, стараясь удержать в голове картинку. Цвета размытые и неправильные, по экрану пробегают волнообразные помехи, время от времени передача прерывается черным снегом.
На экране какой-то тип в хорошем костюме тараторит и эффектно заканчивает фразы, рассказывая о мире, откуда Рут исключили за неуспеваемость. Ее мир – это парк, мусорный контейнер позади «Беспечного ездока», кухня в миссии. Вот, пожалуй, и все.
Рут закрывает глаза, но телевизор продолжает работать перед ее закрытыми веками. В квадрате экрана появляется Джек-прыгун – как в комиксе про Человека-паука: ракурс комикса и акробатические трюки, которые Рут сочла бы невозможными, если бы собственными глазами не видела его прыжки и ужимки.
Лицо Джека-прыгуна заполняет весь экран на внутренней стороне ее век. Его глаза выпучены, покрыты паутиной вен и источают желтоватую жидкость. Он наклоняет голову, его губы окаймлены пламенем. Его слова тяжело, словно катящиеся с горы булыжники, падают в голову Рут.
– Я заберу тебя с собой, Рут, – говорит он. – Вот увидишь.
Рут падает со стула. Она теряет сознание еще до того, как касается пола.
***
В голове Рут медленно, словно свиток, разворачивается сумеречный мир. Контуры проявляются и исчезают; цвета меняются, как в калейдоскопе. Она оказывается в парке, но он не похож на тот парк, который она так хорошо знает. В воздухе пахнет дымом, газовые фонари шипят и освещают прогуливающихся джентри тусклым желтоватым светом.
Рут оправляет юбки. Они чистые, шелковые на ощупь. Никто не пачкал их своим семенем. Никто не вытирал о них мочу, сопли и бог знает что еще. Ее хватают сзади за запястье, и она легко поднимается в воздух. Рут прыгает, инстинктивно подстраиваясь под гигантские шаги того, кто несет ее. Они – как два фигуриста, летящие вперед свободно и грациозно, как одно существо. Фонари, покружившись, уходят вниз. Влажный ночной ветер холодит ей лоб.
– Это то, чего ты хочешь, Рут? – говорит Джек-прыгун.
Рут дрожит. Под ними проплывает викторианский Ливерпуль. С каждым прыжком Джек-прыгун уносит ее все выше, дальше от сутенеров и торговцев наркотиками, от тех, кто использует и обижает ее; дальше от той Рут, какой она была, и ближе к узким викторианским улицам и более простым временам.
– Да, – шепчет Рут и крепче прижимается к Джеку-прыгуну. – Это то, чего я хочу.
Рут оборачивается. Дыхание Джека-прыгуна оседает огнем у него на губах, но на мгновение ей кажется, что он мог бы быть Бэзилом, или Ласс, или даже Коротышкой.
– Ты оставишь их, чтобы оказаться здесь? – говорит Джек-прыгун.
– Я могла бы взять их с собой.
– Да, могла бы. Но на это нужно их согласие.
***
Рут приходит в себя. В палате тепло и по-больничному душно. Рут старается вдохнуть полной грудью и не находит воздуха.
– Очнулась, – говорит Коротышка. – Самое время, надо сказать. Ненавижу больницы – они вредны для здоровья.
Бэзил и Ласс, как обычно неразделимые, резко отворачиваются от окна.
– Ну и заставила ты нас понервничать, подруга, – говорит Бэзил. – Я уж подумал, мы тебя потеряли.
Ласс улыбается.
– Хорошо, что ты ошибся, – говорит она. – Видишь, вернулась девочка.
А запах парка никуда не делся. И на губах Рут – вкус огненного дыхания Джека-прыгуна. Белый след от его ладони постепенно пропадает на запястье.
– Где он? – говорит Рут.
– Кто? – спрашивает Коротышка.
– Джек-прыгун.
В палату входит медсестра. От Коротышки пахнет, а Бэзил приканчивает свой бренди. Медсестра даже не пытается скрыть отвращение. Она машет руками:
– Все вон, девочке нужно отдохнуть.
Ласс кладет руку на лоб Рут. Смотрит ей прямо в глаза.
– Я думаю, он вернется за тобой позже, – говорит она. – Когда это случится, тебе следует, ничего не боясь идти за ним. Мы все так должны делать, если хотим вернуться назад. Нас таких сейчас все больше и больше. Таким, как мы, здесь почти нечего делать.
Рут улыбается и кивает. Она понимает. Каждый втайне тоскует по более простым временам.
Когда Джек-прыгун возвращается, он больше не кажется Рут ужасным демоном. Теперь он ясный свет спасения. Он любовь и вера, и надежда, и все, что нужно Рут. Они вместе встают перед открытым больничным окном.
Рут так и видит газетный заголовок: «Джек-прыгун заставил женщину совершить смертельный прыжок из окна».
Они прыгают. Рут еще успевает послать сквозь пространство и время воздушный поцелуй Коротышке, Бэзилу и больше всего – Ласс. Может быть, она когда-нибудь снова встретится с ними – когда они тоже захотят отправиться в лучшее время, в лучшие дни. А Рут уже прогуливается по освещенным газом аллеям, а вокруг гуляют джентри. Она дома, в простых временах. Здесь она понимает, как жить, не занимаясь проституцией. У нее не чешется между ног, и садисты с ножами далеко-далеко.
Дойдя до парковых ворот, Рут не останавливается. Она продолжает идти, медленно и спокойно. Она смотрит в небо. Там, едва различимый, мелькает силуэт Джека-прыгуна.
– Сэр, вас совсем незаслуженно считают плохим, – шепчет Рут, обращаясь к дьявольскому пламени, пляшущему среди каминных труб.
Секунду Рут сомневается: а точно ли она здесь? Неужели она в своем раю, а ее тело лежит мертвое под стеной больницы?
Рут качает головой. Это не важно, вообще-то. Потому что здесь ей хорошо.
– Долгих и высоких тебе прыжков, мистер Джек-прыгун, – говорит она. – Твори побольше чудес.
Послесловие
Меня всегда занимала легенда о Джеке-прыгуне, или, как его еще называют, Джеке-пружинки-на-пятках. Мне нравится, что он появляется среди бела дня и все знают, какие огромные прыжки он может совершать, и все же остается неуловимым и окутанным тайной. Я попытался отразить это в своем рассказе; его появления описываются мимолетно, как будто он почти не имеет отношения к истории Рут, но в то же время все мы понимаем, что именно благодаря ему она, очевидно, обрела спасение. Я допустил некоторую вольность в трактовке легенды, предположив, что нищие друзья Рут тоже этому способствовали – получается, что Джек-прыгун действовал не один. Я живу в Ливерпуле, где Джек-прыгун появлялся много раз. Эта легенда имеет для меня особое значение еще и поэтому.
Стивен Пири живет в английском городе Ливерпуле со своей женой Энн и маленьким сыном Джеймсом. Его произведения публиковались во многих журналах и антологиях по всему миру. В 2007-м вышел в мягкой обложке его комедийно-фэнтезийный роман «Откопать Дональда» («Digging Up Donald»), и сейчас он заканчивает родственный роман (хотя и не продолжение) «Закопать Брайана» («Burying Brian»).
Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте Стива: .
Кэйтлин Кирнан Красный как сурик
1.
– Значит, вы верите в вампиров? – спрашивает она, затем, сделав глоток кофе, аккуратно ставит чашку и смотрит на дождь, поливающий Темз-стрит за окном кафе. Дождь идет уже почти час – холодный и колючий, кульминация этого пасмурного ньюпортского дня, промозглого мартовского дня, который уместнее смотрелся бы зимой, в январе или феврале. Хорошо еще, что снег не идет.
Я отставляю свою чашку – чай, не кофе – и несколько мгновений смотрю на нее, прежде чем ответить.
– Нет, – говорю я Эбби Глэддинг. – Но ведь совершенно ясно, что те люди, жители Эксетера, которые выкопали тело Мерси Браун из могилы, те, которые вырезали ей сердце и сожгли его, – ясно, что они верили в вампиров. И именно это я изучаю – психологию истерии, психологию суеверий.
– Это было так давно, – отвечает она и улыбается. В этой улыбке нет ожидания, даже если хорошо приглядеться. Это не улыбка хищницы. В выражении ее лица нет ничего злобного, или жаждущего, или дикого. Она просто смотрит на дождь и улыбается, как будто мои слова нравятся ей и слегка ее забавляют.
– Да нет, – говорю я, глядя на мою исходящую паром чашку. – Не так давно, как, наверное, многим людям хочется думать. Инцидент с Мерси Браун имел место в 1892 году, а самый поздний случай охоты на вампира на северо-востоке США – из тех, что мне известны, – относится к 1898 году, а это всего лишь сто одиннадцать лет назад.
Улыбка медлит на ее лице, она задумчиво выводит на запотевшем стекле круг, а в нем еще один.
– Мы не так далеко ушли от деревенщины с факелами и вилами, от старого Коттона Мэзера и его клики. Об этом вы говорите?
– Ну, не совсем, но… – И когда я замолкаю, она оборачивается ко мне, и ее сине-серые глаза холодны, словно нависшее над Ньюпортом небо. «В таких глазах можно замерзнуть до смерти», – думаю я и отпиваю еще немного чуть теплого «эрл грэя» с лимоном. Ее глаза кажутся ярче, чем они должны бы быть в приглушенном свете кофейни. Вот в них, может быть, и таится ожидание – и ты его ищешь, ты бы хотела увидеть его отблеск, разве нет?
– Вы забрались довольно далеко от Эксетера, мисс Говард, – говорит она и подносит ко рту чашку с кофе. А я… я сижу и думаю, что с радостью поговорила бы с ней о чем-нибудь другом – о чем угодно, кроме род-айлендских вампиров, массовой истерии, туберкулеза и дипломной работы, которую я буду защищать в конце мая. Уже несколько месяцев у меня не было ничего даже отдаленно похожего на свидание, и мне не хотелось оставшиеся полчаса – или сколько мы еще проговорим – обсуждать мою профессиональную жизнь.
– Я считаю, что обнаружила кое-что интересное, – говорю я, так как не могу придумать способа незаметно переменить тему разговора. – Случай, никем ранее не описанный, прямо здесь, в Ньюпорте.
Она снова улыбается этой своей улыбкой, – и да, хоть я и говорю об оскверненных телах и ритуалах, призванных упокоить мертвецов в их могилах, но в мыслях у меня нечто иное. Даже студентки последнего курса, у которых скоро выпускные экзамены, время от времени испытывают влечение, а некоторые из них испытывают его к своему, а не к противоположному полу.
– Я получила некоторые сведения от фольклориста из Брауна, – говорю я. – Возможно, здесь произошел инцидент, примерно в 1785-м. Если это подтвердится, то мы имеем дело с самым ранним случаем эксгумации тела вследствие подозрения в вампиризме во всей Новой Англии. Поэтому я здесь – чтобы найти факты. Их-то как раз почти нет. Искать вампиров – это совсем не то, что изучать, например, салемский процесс над ведьмами – там у тебя под рукой судебные протоколы, обвинительные заключения, показания свидетелей, чего только нет. А здесь ты только и делаешь, что стараешься отделить правду от вымысла, и обычно и того и другого – лишь жалкие крохи.
Она кивает и вновь отворачивается к большому окну и дождю.
– Зато это будет для тебя шагом в карьере. Я имею в виду, если подтвердится, что это не просто легенда.
– Да, – отвечаю я. – Если это не просто легенда, в научном мире меня заметят.
И вот тут, оставляя после себя озноб и головокружение, по телу проходит волна – не совсем дежавю, а что-то ближе, наверное, к отстраненности, – несколько секунд меня не отпускает ощущение, что я только слежу за этим разговором, наблюдаю за ним со стороны или вспоминаю его, но никак не участвую в нем и вообще нахожусь не здесь, не сейчас. И кофейня, и наш разговор, и дождь за окном кажутся мне гораздо менее реальными, менее вещественными, чем вчерашнее утро. «Сегодня» с легкостью превратилось во «вчера» – неизменным остался только дождь.
Я стою одна на Боуэнской набережной и смотрю мимо голых мачт, столпившихся у пристани, на белые, остромордые парусники, скользящие по брызжущей солнечными бликами воде, – и вдалеке тает в тумане силуэт Гоат-Айленда. Я уже собираюсь развернуться и пойти вверх по улице, к Вашингтон-сквер и библиотеке, – я хочу отдохнуть от слишком ярких лотков, торгующих всякой всячиной для туристов, и окунуться в спокойный, благотворно влияющий на нервы лабиринт древних домов, крыши которых не плоские, как сейчас, а со скатами, и извилистых узких улиц. И в этот момент я вижу ее. Она стоит одна возле киоска, предлагающего морские экскурсии на тюленье лежбище – у них это называется «тюленье сафари», – и разглядывает выцветшую вывеску, черно-белые фотографии тюленей со щенячьими глазами и изображения этих кошмарных девочек с картин Маргарет Кин. На ней старое пальто бушлатового покроя и блестящие зеленые галоши, вроде бы новые, но голова непокрыта, а зонтика нет. Ее длинные черные волосы висят мокрыми тяжелыми прядями, они двумя прямыми вертикальными линиями очерчивают ее бледное лицо.
Затем все заканчивается – странный сбой в моей психике проходит, и я снова оказываюсь внутри себя, в этом настоящем. Я снова сижу против нее в кабинке кафе, и в воздухе сильно, почти болезненно пахнет только что обжаренным и помолотым кофе.
– Я уверена, этот город хранит много тайн, – говорит она, снова морозя меня этими своими невозможными сине-серыми глазами и улыбаясь той же безупречной улыбкой.
– Да. Плюнь – попадешь в какую-нибудь тайну, – говорю я, и она смеется.
– А это хоть приносило пользу? – спрашивает Эбби. – Я имею в виду выкапывание мертвых из земли, осквернение их тленных останков ради покоя и безопасности живых. Эти методы помогали?
– Нет, – отвечаю я. – Нет, конечно. Но об этом мало кто задумывался. Под воздействием страха люди совершают странные поступки.
Она продолжает задавать мне вопросы о вампирах колониального периода, ньюпортских городских легендах и моих исследованиях. Надо радоваться хотя бы тому, что она не задает обычных вопросов из разряда «неужели за это еще и деньги платят?» – из вежливости ли или благодаря своей проницательности – не знаю. Она рассказывает мне историю об оборотне, появившуюся в начале XIX века: как одного местного священника после совершенного им ужасного убийства заперли пожизненно в Портсмутской лечебнице для умалишенных и не повесили только потому, что люди верили в то, что он оборотень и, следовательно, не может отвечать за свои действия. Она даже рассказывает, что видела его могилу на кладбище в Миддлтауне – на безымянном надгробном камне была высечена голова волка. Я не говорю ей, что уже слышала эту историю раньше.
Наконец я замечаю, что дождь закончился.
– Прошу меня извинить. Мне нужно вернуться к работе, – говорю я, и она кивает и говорит, что нам нужно как-нибудь вместе по ужинать. Я соглашаюсь, но день и время мы не назначаем. В конце концов, у нее есть номер моего сотового, мы можем обсудить это позже. Она также упоминает о том, что в кинотеатре имени Джейн Пиккенс идет фильм, который она еще не видела и который, как она думает, может мне понравиться. Я ухожу, а она остается сидеть в кофейне в своем коротком пальто и зеленых галошах и заказывает еще одну чашку кофе. По дороге в библиотеку я вижу дерево, на котором сидит целая стая шумных, каркающих ворон, и почему-то это дерево наводит меня на мысли об Эбби Глэддинг.
2.
Это было в понедельник, а вторник не приносит ничего примечательного. Я еду из Провиденса в Ньюпорт, на пути к Конаникуту пересекая восточный рукав залива Наррагансетт, а на пути к острову Акиднек и Ньюпорту – западный. Большую часть дня я провожу в Рэдвудской библиотеке на Беллевю, среди газетных вырезок и микрофишей, среди ветхих пожелтевших книг, напечатанных еще до Войны за независимость. Мне выдали специальные белые хлопковые перчатки, предназначенные для работы с архивными материалами, и я накропала несколько страниц заметок, относящихся в основном к тому, как лечили чахотку в Ньюпорте в первые два десятилетия восемнадцатого века.
По вторникам библиотека работает допоздна, и я ухожу только в восьмом часу. Но сведения, записанные мною сегодня, нисколько не приближают меня к подтверждению гипотезы, что в 1785 году на Ньюпортском общинном кладбище было эксгумировано тело предполагаемого вампира. На пути домой – а дорога эта долгая – я стараюсь не думать о том, что она не позвонила и что, скорее всего, и не позвонит. Ужинаю консервированными равиоли с пивом. Вполглаза смотрю что-то моментально забывающееся по телевизору. Стою под горячим душем и чищу зубы. Если мне что-то и снится – хорошее ли, плохое, какое-нибудь другое, – то утром я этого не помню. День солнечный, не очень холодный, и я собираю по закоулкам собственной личности остатки оптимизма, их хватает на то, чтобы выбраться из дому и сесть в машину.
Когда я подъезжаю к ньюпортской библиотеке, у меня уже болит голова. Подозреваю, что это начинается мигрень: в глазах как будто застряли железнодорожные костыли, и я сильно жалею, что вообще сегодня вылезла из постели. Я нахожу удобное место в читальном зале имени Родерика Терри – одно из тех темно-зеленых кожаных кресел – и, не снимая очков, пролистываю книги, которые наугад снимаю с полки справа. Романы Уильяма Кеннеди и Элии Казана – знакомые, дружелюбные книги, но когда я пытаюсь сосредоточиться на написанном, голова начинает болеть сильнее. Я возвращаю «Сделку» на место и беру книгу, которую раньше не читала, – «Тысяча журавлей» японского писателя Ясунари Кавабаты.
Я не открываю ее, но и не ставлю обратно на полку. Она мирно лежит у меня на коленях, а я закрываю глаза и так сижу под восьмиугольным световым люком, поднимающимся над крышей библиотеки. Может, пять минут, может, больше; я слышу приглушенные шаги, кашель старика, сирену проезжающей мимо полицейской машины, шепот библиотекарши за стойкой – чуть более громкий, чем обычно. Или это мигрень усиливает ее голос, а на самом деле он звучит как всегда. И вообще, все эти незаметные, привычные звуки кажутся громче – наверное, это из-за библиотечной тишины.
Я открываю глаза, и мне приходится несколько раз мигнуть, чтобы комната обрела резкость. Поэтому я не сразу замечаю женщину, которая стоит за окном, на улице, и смотрит на меня. Или просто заглядывает внутрь, а я оказалась на линии ее взгляда. Может, она не смотрит ни на что конкретно или разглядывает бронзовую статую Фидиппида на деревянном пьедестале. Может, она ищет кого-нибудь, но уж никак не меня. Окно – в другом конце зала, далеко, футах в сорока от меня. Но, даже находясь на таком расстоянии, я почти уверена, что это бледное лицо и эти прямые длинные волосы принадлежат Эбби Глэддинг. Я поднимаю руку для неуверенного приветствия, но если она меня и видит, то никак не показывает этого. Просто стоит, не шевелясь, и смотрит.
Я встаю с кресла, и «Тысяча журавлей» слетает с моих коленей; от звука упавшей на пол книги несколько человек отрываются от журналов и смотрят на меня. Я жестом прошу прощения – жест состоит из пожимания плечами и робкой, глуповатой гримасы, – и они качают головами, практически синхронно, и снова углубляются в чтение. Когда я снова смотрю на окно, темноволосой женщины там больше нет. Вдруг моя головная боль усиливается (наверное, из-за того, что я слишком резко поднялась на ноги), и я ощущаю неожиданный, вызывающий тошноту прилив адреналина. Нет, даже не только это. Это самый настоящий страх. Сердце колотится, во рту пересыхает. Всякое желание выйти на улицу и проверить, не Эбби ли это действительно заглядывала в окно, немедленно исчезает, и я опять сажусь в кресло. «Если это Эбби, – думаю я, – то она зайдет внутрь».
Поэтому я жду, и – очень медленно – пульс возвращается к своему нормальному ритму, но адреналин оставляет после себя напряжение, а боль в глазах не стихает. Я подбираю с пола книгу Ясунари Кавабаты и ставлю ее обратно на полку. Думаю о том, чтобы пойти в туалет – он находится недалеко от абонементного стола, – но часть меня все еще боится чего-то, и это, кажется, именно та часть, которая управляет движениями ног. Я остаюсь на месте и жду, когда женщина, глядевшая в окно, зайдет в читальный зал имени Родерика Терри. Я жду, что это окажется Эбби, что ее зеленые галоши будут скрипеть на паркетном полу. Она скажет, что сперва хотела позвонить, но затем подумала, что я наверняка в библиотеке и мой телефон, естественно, отключен. Она скажет что-нибудь про погоду и спросит, когда на этой неделе я буду свободна и мы сможем вместе сходить в кино и поужинать. Я расскажу ей про мигрень, и конечно же она предложит мне выпить экседрин или тиленол. Наше перешептывание кому-нибудь помешает, и он на нас шикнет. Потом мы над этим посмеемся.
Но Эбби не появляется, и я еще некоторое время сижу, глядя через просторный зал на окно, на дерево за окном, на дома на другой стороне аккуратной и чистой Рэдвуд-стрит. По средам библиотека открыта до восьми, но я уезжаю сразу же, как только чувствую в себе достаточно сил добраться до Провиденса.
3.
Четверг, и я сижу в том же зеленом кресле в читальном зале имени Родерика Терри. Еще только 11:26 утра, а я уже понимаю, что сегодняшний день потерян. Лишних дней, которые можно потратить впустую, у меня нет, но я уже знаю, что работа, которую я должна сделать сегодня, не продвинется ни на шаг. Этой ночью я очень плохо спала, и теперь не могу сосредоточиться. Думать почти невозможно – в голову лезут воспоминания о ночных кошмарах, о лице Эбби Глэддинг за окном – ее синие глаза, ее черные волосы. И да, я окончательно уверилась, что это ее лицо я видела и что она смотрела именно на меня.
Она так и не позвонила (а ее номера я не взяла, подумав, что оставленного мной номера достаточно). Час назад я обошла прилегающие к набережной улицы Ньюпорта, надеясь встретить ее, – безуспешно. Некоторое время постояла возле киоска с «тюленьим сафари», ожидая, против всякой логики, что она появится именно здесь. Выкурила сигарету и, ежась от холода, глядела на горизонт залива, слушала шум автомобилей, и дыхание ветра, и крики серых чаек. За мгновение до того, как я смирилась с поражением и направилась обратно в библиотеку, я заметила возле киоска собачьи следы – там среди асфальта было пятно влажной земли. Я подумала, что они уж очень большие, и не могла не вспомнить наш с Эбби разговор в кафе и ее историю об оборотне-священнике, похороненном в Миддлтауне. Но ведь многие люди в Ньюпорте держат больших собак, и они выгуливают их на набережной.
Я сижу в зеленом кожаном кресле, и на коленях у меня лежит большая картонная папка с фотокопиями и компьютерными распечатками. Я понемногу проглядываю их, притворяясь, что это работа. Естественно, это не работа. В папке нет ничего, что я не прочитала бы по пять – десять раз, ничего, что не цитировалось бы другими учеными, изучающими фольклор о вампирах Новой Англии. Сверху «„Вампиры“ Род-Айленда» из журнала «Янки», октябрь 1970-го. Дальше идет «Они сожгли ее сердце… Была ли Мерси Браун вампиром?» из «Наррагансетт таймс», 25 октября 1979-го; и из «Провиденс сандэй джорнал»: «Слышали ли они вампирский шепот?» – также октябрь 1979-го. Многие такие статьи выходили в октябре – убедительное свидетельство того, как журналисты относились к вампирской теме, – они рассматривали ее лишь как удобный скелет, который можно доставать из шкафа каждый Хеллоуин, смахивать с него пыль и выставлять напоказ.
У Салема есть ведьмы. У Сонной Лощины – гессенский безголовый наемник. А у Род-Айленда есть чахоточные, охочие до людской крови фантомы – Мерси Браун, Сара Тиллингаст, Нелли Вогн, Рут Эллен Роуз и все остальные. После статьи из «Провиденс сандэй джорнал» я беру черно-белую фотографию, сделанную мной несколько лет назад, – оскверненный надгробный камень Нелли Вогн со знаменитой надписью: «Я жду тебя и слежу за тобой». Я секунду-другую смотрю на фотографию и откладываю ее в сторону. Под ней копия еще одной октябрьской статьи, «Когда воет ветер и стонет дерево», также из «Провиденс сандэй джорнал». Закрываю папку и стараюсь не смотреть в то окно.
Это просто окно, и за ним только деревья, дома и небо.
Я снова открываю папку и нахожу значительно более старую статью, «Анимистический вампир в Новой Англии», из журнала «Американский антрополог», напечатанную в 1896 году, спустя всего лишь четыре года после инцидента с Мерси Браун. Читаю ее молча, про себя, но замечаю, что губы непроизвольно двигаются:
«В Новой Англии суеверия, связанные с вампиризмом, никогда не имели собственного названия. Бытует убеждение, что чахотка является не физической болезнью, а духовной, вызываемой одержимостью либо влиянием злых духов; люди верят, что наличие крови в сердце умершего от чахотки родственника является доказательством того, что его тело находится под воздействием некой потусторонней силы, которая не позволяет ему упокоиться и заставляет пить кровь живых людей, чтобы предотвратить его окончательный распад».
Я снова закрываю папку и убираю ее в сумку. Затем встаю и иду через широкий читальный зал к тому утопленному в нише окну, в котором я видела – или мне только показалось, что я видела, – смотрящую на меня Эбби Глэддинг. Здесь стоит мраморный бюст Цицерона, и я несколько минут гляжу на голые деревья и бурую траву, на тротуар и проезжую часть за ним, – и вдруг замечаю рисунок на стекле, всего в нескольких дюймах от моего лица. Совсем недавно, когда стекло было мокрым, кто-то пальцем нарисовал на нем круг, а внутри него – еще один. Стекло высохло, а прозрачный рисунок остался. И я вспоминаю, как в понедельник, в кофейне, когда мы беседовали и смотрели на дождь, Эбби Глэддинг начертила точно такой же символ (если слово «символ» здесь уместно) на запотевшем стекле.
Я прижимаю ладонь к стеклу, и оно оказывается гораздо холоднее, чем я ожидала.
Во сне я стояла перед другим окном, в конце длинного коридора, и смотрела на Северное кладбище. Я открыла окно в надежде, что воздух снаружи будет свежее, чем застоявшийся воздух в коридоре. Так оно и было, и мне показалось, что я чувствую запах клевера и земляники. И еще я услышала музыку. Там была Эбби, она стояла под деревом и играла на скрипке. Музыка была очень красивой, хотя и очень грустной, и совершенно мне незнакомой. Она медленно водила смычком по струнам, и я поняла, что вся эта ночь каким-то образом зависела от музыки. Над кладбищем плыли облака, и аккорды, которые она извлекала из инструмента, изменяли форму этих облаков и определяли скорость их движения. Вверху висела раздутая луна и светила нездоровым желтым светом, а все небо извивалось, словно на картинах Ван Гога. Я удивилась, почему она не рассказала мне, что умеет играть на скрипке.
Позади меня что-то упало, стукнувшись об пол, и я обернулась. Но за спиной был только длинный коридор, исчезающий в абсолютной темноте, – по-видимому, оттуда я пришла. Когда я опять повернулась к окну и кладбищу, музыка уже стихла, а Эбби исчезла. На ее месте, под деревом, теперь сидела большая собака, – по крайней мере, издалека это существо можно было принять за большую собаку, – а вокруг нее ряд за рядом косо поднимались из земли могильные камни: угольно-черный сланец, белый мрамор, красноватый песчаник, добытый где-нибудь в Массачусетсе или Коннектикуте. Я подумала, что эти шатающиеся надгробия напоминают отряд пьяных солдат, выстроившихся для сражения, которое они проиграют.
Я никогда не любила записывать свои сны.
Позднее утро четверга, почти середина дня, и я отнимаю руку от холодного стекла. Вечером мне надо быть в Провиденсе – я читаю там лекцию, – и я собираю свои вещи и ухожу из Рэдвудской библиотеки. По дороге в город я прилагаю все силы, чтобы не думать о кошмаре, все силы, чтобы не размышлять о том, что же за существо я видела под деревом, после того как затихла музыка и Эбби Глэддинг исчезла. Но всех сил недостаточно.
4.
Лекция проходит хорошо – лучше, чем я ожидала, и, если подумать, лучше, чем она этого заслуживает. «Мерси Браун как источник вдохновения для „Дракулы“ Брэма Стокера» в Род-айлендском историческом обществе. И каким-то образом мне удается даже не выставить себя дурой, отвечая на вопросы слушателей. Очень помогает, что я раньше уже отвечала на эти же самые вопросы. К примеру:
– Если я правильно вас понял, вы также проводите определенные параллели между инцидентом с Мерси Браун и «Кармиллой» Шеридана Ле Фаню?
– Некоторое сходство, конечно, есть, но, насколько я знаю, никому не удалось убедительно доказать, что Ле Фаню было известно об этих событиях, и, кроме того, «Кармилла» вышла в свет на двадцать лет раньше, чем была произведена эксгумация тела Мерси Браун.
– Но все же он мог знать о более ранних случаях.
– Естественно, он мог знать о более ранних случаях. Но мы не располагаем никакими доказательствами этого.
Но все это время мои мысли витали совсем в другом месте – на другом берегу залива, в Ньюпорте, в той кофейне на Темз-стрит, и в Рэдвудской библиотеке, и в коридоре из сна, откуда я смотрела на Северное кладбище, каким его представило мне мое подсознание. Женщина, играющая на скрипке под деревом. Женщина, с которой я разговаривала лишь однажды, но о которой не могу перестать думать.
«Бытует убеждение, что чахотка является не физической болезнью, а духовной, вызываемой одержимостью либо влиянием злых духов…»
После лекции, после вопросов, после пожимания именитых и влиятельных рук, когда я наконец могу улизнуть, не боясь показаться невежливой, я прогуливаюсь часок по Колледж-хилл. Стоит холодный, ясный вечер, и я иду на запад по Беневолент-стрит до Бенефит-стрит, а затем поворачиваю на север. Есть какой-то покой в неровных, чувствительных для стопы камнях мостовой, в голых ветвях деревьев, в мягко светящихся окнах. Останавливаюсь на гранитных ступенях, ведущих к парадной двери здания, которое историки называют «домом Стивена Харриса», – построен в 1764-м. Сто шестьдесят лет спустя Говард Филлипс Лавкрафт назвал его «домом Бэббитта», использовав в качестве места действия в рассказе, посвященном оборотничеству и вампиризму. Я хорошо знаю это большое желтое строение, – и столь же хорошо знаю четыре таблички с выведенными вручную надписями, прибитые к воротам, – все четыре на французском. С тротуара, при электрическом свете ближайшего уличного фонаря, я могу различить только верхнюю половину третьей таблички – остальные теряются в сумраке. «Oubliez le chien». Забудь о собаке.
Я иду дальше, направляясь теперь домой, в мою маленькую, тесную от всякой всячины квартирку, которая отсюда всего в паре кварталов к востоку – на Проспект-стрит. Переулки, по которым лежит мой путь, известны своими крутыми горками, а я сейчас не в лучшей форме. Не успела я пройти и двадцати пяти ярдов, как у меня закололо в боку. Я прислоняюсь к каменной стене и пытаюсь отдышаться, проклиная привычку к сигаретам и отсутствие привычки к регулярным физическим упражнениям. От ледяного воздуха ноют носовые пазухи и зубы. Горло горит, как от виски.
И вот тут я уголком глаза замечаю какое-то движение – просто какое-то темное пятно. Впечатление, что какая-то тень, что-то большое и темное, быстро пересекла улицу. Не больше чем в десяти футах от меня, но ниже, ближе к Бенефит-стрит, откуда я пришла. Я оборачиваюсь поглядеть, но ее уже нет, – и я начинаю сомневаться, что вообще что-либо видела. Ну, может, это была бродячая собака.
Некоторое время я вглядываюсь в темноту и в желто-оранжевый, натриевый разлив света уличных фонарей, по которому эта тень проскользнула, прежде чем исчезнуть. Впору посмеяться над собой, потому что я чувствую, как руки покрылись мурашками, а короткие, тонкие волосы на шее – ближе к затылку – встали дыбом. Никогда бы не подумала, что однажды окажусь действующим лицом типичной сцены фильма ужасов. Не могу не вспомнить фильм «Люди-кошки» Вэла Льютона, тот эпизод, где Джейн Рэндольф бежит мимо Центрального парка, а ее преследует одержимая местью Симона Симон; Джейн спасется в последний момент благодаря счастливому прибытию городского автобуса. Но я знаю, что ради моего спасения никакой автобус не придет, и, что более важно, я очень хорошо знаю, что в темноте сегодняшнего вечера таится только то, что поместило туда мое разыгравшееся воображение. Я отворачиваюсь от фонаря и иду дальше вверх по холму. И мне не надо притворяться, что я не слышу шаги за спиной или стук когтей по бетону… потому что я действительно ничего этого не слышу. Быстрая тень, темное, размытое пятно, захваченное периферическим зрением, – это всего лишь мгновенная ошибка восприятия, не более чем проделка моего утомленного, беспокойного ума, заполненного обрывками не слишком жизнеутверждающей лекции и фразами из бесед с коллегами о вампирах.
Oubliez le chien.
Пятнадцать минут спустя я запираю за собой входную дверь моей квартиры. Завариваю ромашковый чай и пью его, стоя у кухонного стола. В одиннадцатом часу я уже в постели. К этому времени мне удается окончательно отделаться от последних мыслей о том, что же я все-таки видела – или не видела, – переходя Дженкес-стрит.
5.
– Откройте глаза, мисс Говард, – говорит Эбби Глэддинг, и я подчиняюсь. Она ни в коем случае не приказывает мне открыть глаза, совершенно ясно, что тут у меня есть выбор. Но есть что-то такое в ее голосе, в ее интонации, в размеренном ритме, с каким сказана эта фраза, что держать глаза закрытыми положительно невозможно. Еще темно, но вряд ли рассвет заставит себя ждать, и я лежу в своей постели. Не могу точно сказать, бодрствую я или сплю, или, может быть, нахожусь в каком-то пороговом состоянии, не являющемся ни сном, ни явью. Я сразу ощущаю невидимый вес, тяжело давящий мне на грудь; мне трудно дышать.
– Я ведь обещала, что мы с вами еще увидимся, – говорит она, и я с большим трудом поворачиваю голову на звук ее голоса, зарываясь щекой в подушку. Теперь я понимаю, что полностью обездвижена, возможно, той же силой, что давит мне на грудь. Я стараюсь разглядеть, что это, но вижу только столик возле кровати, электронные часы и пепельницу, книжный шкаф с прогибающимися от слишком большого количества книг полками и ситцевые обои в цветочек, которые уже были в квартире, когда я в нее въехала. Если бы я могла двигать руками, то включила бы лампу. Если бы я могла, я бы приподнялась на постели и, может быть, стала бы снова дышать нормально.
И затем мне кажется, что она поет, хотя в ее песне нет слов. Да они оказываются и не нужны – одних тембра, гармонии и мелодии достаточно, чтобы развеять в пространстве вещественные предметы, составляющие мою спальню, смахнуть в черный ящик обыденное «здесь и сейчас», которое, подобно плотной завесе, скрывало то, что я должна увидеть. Когда распадаются и исчезают книжный шкаф и столик, я понимаю, что ее песня снова затягивает меня в сон, хотя я, кажется, уже почти проснулась, когда она сказала мне открыть глаза. У меня нет возможности обдумать эти очевидные противоречия, и я не могу отвернуться и не смотреть на то, что она хочет мне показать.
«Тебе нечего бояться, – думаю я. – Здесь не страшнее, чем в любом плохом сне». Но эта мысль меня совсем не убеждает. Она кажется еще менее реальной, чем растворяющиеся обои и книжные полки.
И вот я смотрю на заросший травой берег покрытого туманом пруда или болота. Свет рассеянный и мутный, и не понятно, то ли это послезакатные или предрассветные сумерки, то ли очень пасмурный день. Над водой – абсолютно гладкой, без морщинки, цвета полированного малахита – плачут большие деревья. Затаившись среди мха и камыша, папоротника и скунсовой капусты, квакают лягушки, а птичий щебет теперь составляет контрапункт голосу Эбби. Она стоит по колено в зеленой воде, и сейчас я вижу, что она не поет. Музыка исходит от скрипки, которую она прижимает к плечу, от смычка и струн и движения ее левой руки по грифу инструмента. Эбби стоит ко мне спиной, но мне не обязательно видеть ее лицо – я и так знаю, что это она. Ее черные волосы доходят до бедер. Только теперь я понимаю, что на ней нет никакой одежды.
Она вдруг перестает играть и опускает руки вдоль тела – скрипка в левой, смычок в правой. Кончик смычка разрывает поверхность воды, от него бегут концентрические круги.
– Я надеваю на себя власяницу, чтобы обманывать, – говорит она, и сразу все птицы и лягушки замолкают. – Но вы ведь умная девушка. Вряд ли моя наружность может вас обмануть.
Ни одного слова не слетает с моих непослушных, сонных губ, но она все равно слышит меня, слышит мой беззвучный ответ – и поворачивается ко мне. Глаза у нее золотые, а не сине-серые. И в сумеречном свете они на мгновение вспыхивают ярким, флуоресцирующим желтым. Она улыбается, показывая острые, как стальные лезвия, зубы, и цитирует Евангелие от Матфея.
– …А внутри суть волки хищные, – говорит она, но без зла или угрозы в голосе. – Вы видели все, что хотели увидеть, и, наверное, даже больше. – Сказав это, она снова отворачивается и смотрит на туман, окутывающий широкий зеленый пруд. И я тоже смотрю, не в силах ни отвести, ни закрыть глаза. Она выпускает из рук скрипку и смычок; они падают в воду с тихим всплеском. Смычок идет на дно, а скрипка остается плавать на поверхности. И вдруг Эбби встает на четвереньки и прыгает в пруд, а ее волосы начинают по-змеиному извиваться.
И вот я уже не сплю; я плохо понимаю, где я, грудь горит, как будто я тонула и меня только что вытащили на сухой и безопасный берег. И обои опять всего лишь выцветший ситец, а книжный шкаф – всего лишь книжный шкаф. Часы, лампа и пепельница – все на столике у кровати, на положенных местах.
Простыня вся мокрая от пота, меня бьет озноб. Я сажусь на постели, прислонившись спиной к изголовью, и мой взгляд сам собой притягивается к окну, – а живу я, кстати сказать, на втором этаже. Солнце еще не взошло, но снаружи все же немного светлее, чем в спальне. И в течение какой-то доли секунды я вижу голову и плечи молодой женщины, четко различимые на фоне фальшивого рассвета. Я также вижу волчью морду и настороженные уши, и это золотое свечение, следящее за мной. Затем она исчезла. Но теперь я точно знаю, что я ищу, – я видела это раньше, давно, еще за несколько лет до того, как впервые встретила Эбби Глэддинг, мокнущую под дождем без зонта.
6.
В пятницу утром я еду в Ньюпорт. Мне требуется совсем немного времени, чтобы найти то, что я ищу. Оно находится чуть к югу от забора из проволочной сетки, отделяющего Северное кладбище от более старых Общинного кладбища и Исландского погоста. Я сворачиваю с Уорнер-стрит на разбитую грунтовую дорогу, вьющуюся между неровными рядами надгробных камней. Нахожу место, где можно съехать на обочину и оставить машину. На деревьях только начали набухать почки, и их голые ветви резко выделяются на фоне неба – голубого, белого, такого ясного, что при взгляде на него болят глаза. Трава почти везде еще прошлогодняя, бурая от долгих месяцев снега и холода, но кое-где все же виднеются пятна нежной муравы.
На этом кладбище начали хоронить в 1640-м или около того. Здесь лежат три губернатора колониальной эпохи (один из них – делегат в Континентальный конгресс), а также один основатель род-айлендской франкмасонской ложи, один подписант Декларации независимости, несколько генералов времен Гражданской войны, немало смотрителей маяков и многие сотни негров-рабов, вывезенных из Гамбии и Сьерра-Леоне, Золотого Берега и Берега Слоновой Кости во времена расцвета работорговли, китобойного промысла и торговли ромом. На могиле Эбби Глэддинг стоит пострадавший от времени сланцевый камень, весь заросший лишайником. Но, несмотря на его возраст, неглубоко вырезанную надпись все еще можно разобрать:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ТЕЛО
ЭББИ МЭРИ ГЛЭДДИНГ
ДОЧЕРИ СОЛОМОНА ГЛЭДДИНГА ЭСКВАЙРА
И МЭРИ СУПРУГИ ЕГО
ПОКИНУВШЕЙ ЭТОТ МИР ВО 2-Й ДЕНЬ
СЕНТЯБРЯ 1785 ГОДА В ВОЗРАСТЕ 22 ЛЕТ
ОНА УТОНУЛА И ОПОЧИЛА И СПИТ
ЗАХ 13:4 И НЕ БУДУТ НАДЕВАТЬ НА СЕБЯ
ВЛАСЯНИЦЫ ЧТОБЫ ОБМАНЫВАТЬ
А вверху надписи, на обычном месте Адамовой головы, вырезано изображение скрипки. Я сажусь на сухую, мертвую траву напротив надгробия. Не знаю, сколько времени я так просидела, – меня возвращает к действительности воронье карканье. Я оглядываюсь. За моей спиной, по направлению к Фэйрвелл-стрит, стоит дерево, все усыпанное крупными черными птицами. Они неодобрительно смотрят на меня, и я воспринимаю это как знак, что мне пора уходить. Мне пора в библиотеку, потому что ответы на последние неясности этой загадки ожидают меня там. Я найду их в старом журнале, или газетной вырезке, или в ветхой церковной книге. Я только знаю, что обязательно найду их, потому что теперь я приблизительно представляю, что произошло двести с лишним лет назад. Однако я покидаю могилу Эбби Глэддинг с неожиданной для меня неохотой. Я не чувствую ни страха, ни потрясения, ни упрямого неверия в эту невозможную историю. Какая-то часть меня отмечает эту странность – то, что я не боюсь. Я оставляю ее одну в ее тесной домовине, охраняемой каркучим вороньем, и иду к машине. Пятнадцать минут спустя я уже в Рэдвудской библиотеке, делаю запрос на все материалы, в которых фигурирует имя Соломона Глэддинга и его дочери Эбби.
– Как вы себя чувствуете? – говорит библиотекарша, и я спрашиваю себя, что же отпечаталось на моем лице или в глазах, что она сочла нужным задать такой вопрос. – Вам нехорошо?
– Да нет, ничего такого, – отвечаю я. – Просто поздно легла вчера, не очень хорошо выспалась. Да и, по правде сказать, немного перебрала с выпивкой.
Библиотекарша с пониманием кивает, и я улыбаюсь.
– Хорошо. Я посмотрю, что у нас есть, – говорит она и отправляется на поиски, результатом которых становится короткая статья, появившаяся в «Ньюпортском вестнике» в начале ноября 1785 года – всего через два месяца после смерти Эбби Глэддинг. Начинается она так: «Мы получили необычное донесение, в котором сообщается, что в ночь на 3-е ноября, то есть в прошедший четверг, из могилы и гроба было извлечено тело умершей и похороненной молодой женщины. Эксгумация была предпринята по воле отца усопшей, что делает данное происшествие, и так вызывающее недоумение, еще более непонятным». Далее следует описание ритуала, который известен каждому человеку, знакомому с произошедшим в 1892 году инцидентом с Мерси Браун из Эксетера, или с гораздо более ранней эксгумацией Нэнси Янг (лето 1827-го), или с любым другим случаем «обезвреживания» вампира в Новой Англии.
В сентябре 1785-го местный рыбак обнаружил труп Эбби Глэддинг в Ньюпортской гавани. Было решено, что она утонула. Ее тело было уже сильно тронуто разложением, и я подумала, что, скорее всего, дата на могильном камне – это тот день, когда было найдено тело, а не тот, когда она утонула. По городу расползлись слухи, что дочь Соломона Глэддинга, местного торговца, наложила на себя руки. Молва описывала ее как «особу нрава своеобразного и меланхолического»; незадолго до того она отклонила предложение руки и сердца, исходившее от старшего сына еще одного ньюпортского торговца, Эбенезера Баррилла. Еще поговаривали, – уже гораздо тише и опасливее, – что Эбби занималась колдовством, для чего удалялась в близлежащий к Ньюпорту лес; что в чащобе она играла на скрипке (подаренной ей матерью) и тем самым «призывала лютых волков и других бесов, и те исполняли всякое ее приказание».
Вскоре после ее смерти неожиданно занемогла ее младшая сестра, Сюзанна. Это произошло в октябре, и к концу месяца девушка умерла. Симптомы ее болезни, такие же, как у родственников Мерси Браун, указывали на туберкулез в последней стадии. В случае с Эбби Глэддинг примечательно то, что она сама, по-видимому, не страдала от подобного недуга; еще одна странность – быстрота, с какой чахотка развилась у Сюзанны. Обычно при данном заболевании угасание человека происходит гораздо медленнее. Сюзанна еще боролась за свою жизнь, когда заболела мать Эбби, Мэри, и, по всей видимости, Соломон Глэддинг согласился на эксгумацию тела своей дочери в надежде спасти жену. В статье в «Ньюпортском вестнике» говорится, что, возможно, его научила этому ритуалу ямайская рабыня.
На рассвете силами Соломона Глэддинга и еще семи мужчин – некоторые, очевидно, были его родственниками – могила была открыта, и все присутствующие с ужасом увидели, что «тело Эбби Глэддинг не носило никаких следов разложения и было свежим, как в день, когда она предстала перед Господом», а ее щеки «были покрыты румянцем». Согласно ритуалу, печень и сердце Эбби были вырезаны, и в них была обнаружена свернувшаяся кровь, что, по общепринятому в то время мнению, доказывало, что она еженощно поднималась из могилы, чтобы сосать кровь матери и сестры. Сердце сожгли в огне, разведенном на кладбище, пепел смешали с водой и дали выпить полученный напиток матери. Тело Эбби перевернули в гробу лицом вниз, а спину пронзили железным колом, чтобы ее беспокойный дух уж точно не смог найти выход из могилы. Тем не менее, если верить приходской книге церкви Троицы, незадолго до Рождества Мэри Глэддинг скончалась. Несколько месяцев спустя заболел отец Эбби; он умер в августе 1786-го.
И я нашла еще одну вещь, о которой упомяну здесь. На левом поле газетной страницы с отчетом об эксгумации Эбби Глэддинг рыжими, выцветшими чернилами выведено: «jé-rouge», то есть «я – красный» – термин, в гаитянской традиции обозначающий питающегося людьми оборотня. Под этим словом, тем же паучьим почерком, написано: «Белый как снег, красный как сурик, зеленый как вереск, черный как уголь». Под этими строчками нет ни подписи, ни даты.
И вот уже почти вечер, и я сижу одна на деревянной скамье на Боуэнской набережной, не так далеко от киоска, предлагающего экскурсии на катерах вдоль каменистых пляжей залива Наррагансетт, где греются на солнышке толстые, черноглазые тюлени. Я сижу и смотрю на заходящее солнце, и мне холодно, потому что утром я уехала из дома без плаща. Я не думаю, что увижу Эбби Глэддинг – сегодня или вообще когда-нибудь. Но все же я пришла сюда и, наверное, приду и завтра.
Я не буду включать эксгумацию 1785 года в дипломную работу, и не важно, насколько поднялся бы мой рейтинг в научном мире, если бы я сделала это. Я ни слова об этом не скажу – никогда. Эти записи… Думаю, я скоро сожгу их. Я писала их для себя, и только для себя. Если Эбби хотела через меня поведать свою историю, если ей нужно, чтобы ее выслушали, то ей придется найти себе другой рупор. Я смотрю, как отплывает от берега и уплывает в горизонт рыбацкая лодка. Закуриваю сигарету. Над гаванью носятся, то и дело окунаясь в воду, серебристые чайки.
Послесловие
«Если смотреть поближе к дому, то в Джеймстауне, например, есть „призрачный пес форта Уэзерилл“. Этот пес менее известен, чем его западный собрат, но его тоже считают предвестником скорой смерти. Рассказывают также, что в Тивертоне видели „черную как ночь собаку“, принимающую облик женщины, которая, перед тем как исчезнуть, играет на скрипке. Похожа на нее, хотя и менее музыкальна, ньюпортская черная собака, которая также превращается в женщину, на этот раз заглядывающую в окна домов».
Чарльз Л. Харви, «Красное дерево»
Кэйтлин Кирнан – автор семи романов, включая признанный «Порог» («Threshold») и написанные недавно «Дочь гончих» («Daughter of Hounds») и «Красное дерево» («The Red Tree»). Ее рассказы выходили в сборниках «Сказки страданий и чудес» («Tales of Pain and Wonder»), «С таинственных и дальних берегов» («From Weird and Distant Shores»), «Чарльзу Форту, с любовью» («To Charles Fort, with Love»), «Алебастр» («Alabaster») и «„П“ означает „пришелец“» («A Is for an Alien»). Ее эротическую прозу представляют три книги: «Лягушачьи лапки и щупальца» («Frog Toes and Tentacles»), «Сказки бедняги-утконоса» («Tales from the Woeful Platypus») и «Исповедь пятикамерного сердца» («Confessions of a Five-Chambered Heart»). Сейчас она живет в Провиденсе, штат Род-Айленд, и работает над своим восьмым романом.
Екатерина Седиа Жестянки
Я старый человек – слишком старый, чтобы о чем-то по-настоящему беспокоиться. Моя жена умерла в день открытия московской Олимпиады, а мой причиндал не делал ничего достойного упоминания с того года, когда была провозглашена независимость Чечни. Люди удивляются, когда я рассказываю, что был маленьким мальчиком, когда крейсер «Аврора» произвел свой судьбоносный залп, с которого началась Октябрьская революция. Все равно жизнь кажется слишком короткой, сколько лет ни живи, и потому я рассказываю эту историю.
Мой внучатый племянник Данила – наглец и хлюст, как и вся нынешняя молодежь (задирают нос, как будто они короли жизни, а у самих молоко на губах не обсохло; меня всегда так и подмывает вытащить ремень из брюк и немного поучить их скромности), – позвонил и спросил, не нужна ли мне работа. Работенка не пыльная, сказал он, сторожем в тунисском посольстве. Только ночные смены, потому что для присутственных часов у них есть свои охранники – высокие, широкоплечие, черные и блестящие, словно начищенные сапоги, с зубами как рояльные клавиши. А ты будешь дежурить по ночам, старый пень, чтобы тебя никто не видел.
Естественно, мне нужна была работа. А кому она не нужна? Мне и сейчас, спустя годы после кошмарных, голодных девяностых, хватило бы одного слепого, пьяного скачка инфляции, чтобы начать собирать бутылки и играть на аккордеоне в переходе. Поэтому я сказал «да», даже несмотря на то, что меня здорово раздражает то сочетание высокомерия и подхалимства, которое Данила демонстрирует в разговорах со мной. Да, это меня раздражает, как и много других вещей, и дело не в том, что я стар; просто время сейчас такое – идиотское.
***
Посольство располагалось на Малой Никитской, в большом особняке, окруженном небольшим парком – раскидистые тенистые деревья, ухоженные цветочные клумбы, – поглядишь, и глаз радуется, и вся эта красота была отгорожена от улицы высоченным кирпичным забором. Я его часто видел. Забор, я имею в виду. Внутри я ни разу не был до того дня, когда меня пригласили на собеседование. О Тунисе я знал только то, что когда-то давно там был город Карфаген и в нем жил Ганнибал, который со своими слонами доставил Риму много неприятностей. Остановившись возле клумбы с розами, чтобы одернуть пиджак и поправить орденские планки на пиджаке, я подумал, что совсем недалеко отсюда, на Большой Грузинской, слоны сидят в клетках. Было же время, когда война была не таким идиотским делом, – по крайней мере, тогда слонов в клетках не держали.
Никаких очередей в три оборота вокруг здания – как возле американского посольства – видно не было; неудивительно вообще-то: кому этот Тунис нужен, всем ведь Бруклин подавай. Кстати, я там был – довелось-таки съездить за границу, когда ее открыли, – и не понимаю, как может кто-нибудь сам рваться в Брайтон-Бич, это унылое серое место, похожее на провинциальный советский город семидесятых годов, омываемое грязным прибоем какого-то особенно безысходного океана. Забавно еще, конечно, что всякий раз, когда ты от чего-то бежишь, эта самая вещь, которую ты ненавидишь, таскается за тобой повсюду, словно жестянка, привязанная к собачьему хвосту. И все эти жители Бруклина привезли свой Советский Союз с собой.
Поэтому я и остался здесь, в этой проклятой стране, в этом проклятом доме и теперь стоял на пороге посольства, глядя на голубые мундиры и блестящие пуговицы двух дюжих тунисцев – уж не знаю, кто это был, охранники или другие сотрудники посольства. И я никуда не бежал, ни в Бруклин, ни в далекий солнечный Тунис с его охряным песком и душными ночами. Я сказал: «Я слышал, вам нужен ночной сторож».
Они пропустили меня внутрь и дали заполнить заявление. Ручку я на столе не нашел, поэтому писал огрызком карандаша, который я всегда ношу с собой. Через каждые несколько букв я слюнявил его тупой мыльный кончик – так слова выходили яркими и убедительными. В качестве лица, могущего дать рекомендацию, я указал Данилу, хоть и скривился при этом.
На следующий день мне позвонили и сказали, что берут меня на работу, и велели приходить через два дня к восьми часам вечера.
Был май – поздние закаты, длинные глубокие тени, чернильные пятна под цветущими сиреневыми кустами и лязг трамваев, долетающий во двор особняка на Малой Никитской из жестокого и грязного мира за его стенами. Я вошел не торопясь, но мой медленный шаг не был походкой старика – он был знаком того, что это идет опытный, много повидавший на своем веку человек.
Но все же даже таким шагом я скоро прошел ворота. Как только они закрылись за моей спиной, я почувствовал себя отрезанным от всего мира, как будто и правда переместился в славный Карфаген, принявший вид пятиэтажного особняка с садом. Под руку прошли высокий дипломат с женой. У женщины голова была обмотана цветным шарфом. В Москве они выглядели так же не к месту, как я бы выглядел в Тунисе. Естественно, они меня не заметили – когда доживаешь до определенного возраста, привыкаешь, что взгляды людей на тебе не задерживаются. Вид такого антикварного предмета, как я, оскорбляет зрение окружающих – так что с того?
И я начал сторожить посольство – без особого плана обходить пустые коридоры, бродить с фонариком по коротким, но не слишком прямым тропинкам сада, подниматься и спускаться по лестницам. Иногда я видел какого-нибудь сонного дипломата, идущего из своих апартаментов в ванную. Они молча проходили мимо меня, и я тоже ничего не говорил: сами посудите, ну кому интересно посреди ночи, по дороге к толчку, останавливаться и беседовать со стариканом-сторожем? Поэтому я просто притворялся, что я невидимка. Но в одну из ночей я увидел в коридоре обнаженную девочку.
***
Естественно, я знал, чей это был дом – ну то есть кто в нем в свое время жил. Я помню, как арестовали Лаврентия Берию – давно, в пятидесятых годах. Помню, как он толстыми, как сосиски, пальцами держался за штаны, чтобы они не упали. Хрущев его так боялся, что велел маршалу Жукову и его людям – они производили арест – срезать все пуговицы с его ширинки, чтобы его ужасные руки были все время заняты. Это должно было выглядеть комично, но выглядело просто страшно – как человек, имени которого не произносили вслух из-за боязни навлечь на себя беду, поддерживал свои штаны. Про него говорили: хуже чем Сталин. И после смерти Сталина его, правую руку вождя, арестовали, пришив какие-то смехотворные дела вроде шпионажа в пользу Великобритании. Когда Берия возглавлял НКВД – до того, как оно немного помягчело и стало называться КГБ, – он убивал русских, грузин, поляков с одинаковой беспощадной эффективностью. И вот его выводили с заседания Президиума – неопрятного, отвратительного, как навозная муха.
Говорят, в тот же день его расстреляли, и это тоже было убийством. По крайней мере, так думал я, стараясь если не оправдать, то хотя бы понять те страшные времена, снова и снова вспоминая о них и неосознанно ускоряя шаг.
Иногда сотрудники посольства, спеша в ванную, оставляли двери приоткрытыми, и полукружья света, отбрасываемого висящими на стене бронзовыми бра, выхватывали из сумрака масляно блестящую мебель красного дерева. Но в основном я просто бродил по коридорам, думая обо всем том, что происходило в этом доме, поэтому я отнюдь не был потрясен или удивлен, когда в первый раз увидел обнаженную девочку.
Наверное, ей и тринадцати не было: груди – два пустых маленьких холмика, бедра узкие, длинные. Она пробежала по коридору, и я машинально подумал, что ей здесь не место – она не выглядела ни туниской, ни даже просто живой, если уж на то пошло. Она бежала со всех ног – рот искажен в немом крике, на лице синяки. Ее волосы, до плеч, цвета соломы, бились сзади от быстрого бега. Я помню ямочку на ее худом бедре, то, как от нее отражался свет моего фонаря, как ходили под гладкой кожей ее небольшие мышцы. Да, она летела со всех ног, беззвучно врезаясь пятками в паркетный пол и помогая себе руками.
Я проследил за ней лучом фонаря. Я как шел, так и застыл на месте, еще не успев ничего толком подумать, – я просто смотрел затаив дыхание. Она добежала до конца коридора, и я ждал, что она исчезнет, или побежит вверх или вниз по лестнице, или развернется; вместо этого она остановилась и стала бить кулачками по воздуху, как будто там была дверь.
Один раз она обернулась. По ее лицу текли призрачные слезы. Она еще колотила по несуществующей двери, но уже не так отчаянно, словно не верила, что сможет выбраться. Затем невидимая, но жестокая рука одним рывком отбросила ее от двери. Девочка упала, и… я не видел, кто это был, но он втащил ее в одну из комнат сквозь закрытую дверь.
Я неподвижно стоял в коридоре, пытаясь переварить только что виденное. Конечно, я знал, кто была эта девочка – не имя или что-то подобное, но то, что с ней случилось. Я глядел на запертую дверь; я знал, что за ней, на постели с балдахином, спит консул с женой. И, тем не менее, на этой же самой постели, сейчас отбивалась от невидимого насильника эта девочка, и волоски на ее тонких руках стояли дыбом от страха, а рот кривился в неслышном крике… Я был даже рад (если здесь уместно это слово), что не могу видеть его. Хотя, когда я повернулся и пошел назад по коридору, лицо в круглых очках без оправы возникло перед моими глазами, словно опущенная в проявитель фотография, и до самого восхода я не мог избавиться от ощущения, что он где-то здесь, совсем рядом со мной.
***
Скоро я пообвыкся на новой работе: всю ночь я ходил по лестницам и коридорам, изредка шарахаясь в сторону от бегущих призрачных девочек – их было так много, так много… и все не старше восемнадцати, все обнаженные и вселяющие страх своей наготой – и живых дипломатов, ночующих в посольстве, которые, спотыкаясь спросонья, появлялись из мягкого света старинных ламп и спешили к ванным комнатам. Каждое утро после смены я шел в маленькую кофейню, располагающуюся неподалеку от посольства, и заказывал себе кофе – черный, обжигающий, очень сладкий кофе с толстым слоем гущи на дне чашки. Я медленно пил его и размышлял о тяжелых дверях с железными засовами и о подвале под посольством, где слишком много маленьких клетушек и толстых цементных стен, которые никто не решается потревожить из-за страха что-нибудь обнаружить в них или под ними. А потом я спешил домой, на тот случай, если сын решит позвонить мне перед сном. У нас с ним разница во времени восемь часов.
Ты понимаешь, что стар, когда твои дети тоже уже постарели, когда их мучает больное сердце и радикулит, когда они тоже начали глохнуть и вам обоим приходится орать в телефонную трубку. Но вообще-то, звонит он не очень часто – я не обижаюсь, я бы себе тоже не стал звонить. Он меня не простил и вряд ли когда-нибудь простит, – если только на смертном одре… И мне грустно думать, что он, вполне возможно, взойдет на него раньше меня и что мои внуки не умеют читать по-русски.
Я прихожу домой и жду, когда телефон позовет меня своим тихим сентиментальным звоном. Я закрываю глаза, и немедленно перед ними встает все то, что я видел предыдущей ночью. Семь девочек, ни одна из них не старше четырнадцати, стоят на четвереньках, расставленные по кругу так, что их макушки касаются друг друга, а обнаженные ягодицы подняты вверх. Я вижу, как они содрогаются от невидимого присутствия, которое кружит и кружит вокруг них, без конца. Мне кажется, что я ощущаю дуновение воздуха, когда Берия проходит мимо меня.
Когда нога одной из девочек взлетает в воздух – я вижу вмятины на призрачной плоти и понимаю, что невидимая рука схватила ее за лодыжку, – я отворачиваюсь. Он тащит ее из круга, а она отбрыкивается второй ногой, хватается за длинный ворс ковра, а ее груди и локти оставляют на нем борозды. Ее и так уже поломанные ногти снова ломаются, и пальцы отпускают ковер. Я знаю, что произойдет дальше, и, хотя я не вижу его, я не могу на это смотреть.
Наконец наступает утро – всегда уже после того, как я теряю надежду, что солнце когда-нибудь встанет. Я даю себе клятву, что никогда сюда не вернусь. «Больше никогда», – шепчу я, это та же самая клятва, которую я повторял еще до войны, и, как и тогда, я знаю, что буду нарушать ее снова и снова, каждый вечер.
На выходе из голубого здания посольства я, бывает, сталкиваюсь с поваром-пакистанцем, который работает здесь уже несколько лет. Иногда мы останавливаемся покурить. В один из таких перекуров он рассказал мне о мешке с костями, который он какое-то время назад нашел в стене позади кухонной плиты. Он предложил мне показать это место, но я вежливо отказался – смешно, но меня по-прежнему пугает история о том, как один мужчина купил пирожок с мясом и нашел в нем палец своей жены с еще надетым на нем обручальным кольцом. Поэтому я боюсь смотреть на место, где был найден мешок с костями, несмотря на то что каждую ночь вижу призраков.
За все это время сын позвонил мне только однажды. Он долго и торопливо жаловался, не давая мне вставить хоть слово. Я молчал и слушал. Вообще-то я и не ждал, что он будет говорить о вещах, которые мы никогда не обсуждали: почему он уехал или почему он никогда не говорил своей жене, где я в свое время работал. В свою очередь, я никогда не говорил о том, как злился на него за то, что он эмигрировал в семидесятых годах. Какой в этом смысл? Поэтому я не обвинял его в смерти матери, и он не обвинял меня ни в чем. Он просто сетовал, что его внуки ни слова не понимают по-русски. А я даже не помнил, как они выглядят – ни они, ни их родители, мои внуки.
Когда мы закончили разговаривать, я лег в постель и спал до обеда. Меня разбудили голоса играющих во дворе детей. Их всегда хорошо слышно в такую погоду, в эти теплые дни конца мая. Я лежал и слушал радостные пронзительные крики, и мне было слишком жарко в пижаме. Когда проживешь такую жизнь, как моя, – то есть такую же долгую, как моя, – то о чем только не передумаешь, лежа в постели. Начинаешь вглядываться в ту ужасную гущу, что скопилась на дне твоей памяти, и если слишком вдумываешься, слишком прислушиваешься к детским крикам и велосипедным звонкам, доносящимся с улицы, то взбаламучиваешь ее, – и тогда призраки девочек обступают тебя и не дают уснуть ни днем, ни ночью.
***
Автомобили НКВД называли «черными воронами» – из-за цвета и жуткой цели, с которой они въезжали в чей-либо двор. Народный комиссариат внутренних дел – мысленно я всегда произношу это название полностью. Просто сокращения меня не пугают в должной степени. Современные желтые полицейские канарейки кажутся в сравнении с «воронками» безобидными, даже в чем-то симпатичными. А «воронки»… До сих пор помню зловещий свет фар, скрип кожи по коже – форменной одежды по сиденью, округлость жесткого рулевого колеса под перчатками.
Профессия шофера никогда не была особенно престижной, но возить его, возить Берию, – такого даже в страшном сне не придумаешь. Я помню бледный закат и вьюгу конца февраля, яркие огни на концах шпилек – это уличные фонари попарно зажигались впереди моей машины, как будто убегая от нас… от него. Я не совершил никакого проступка, но на затылке встают дыбом только недавно подстриженные волосы, а макушка под кожаной фуражкой просто утопает в поту. Я ощущаю на себе его взгляд – как прикосновение жирных пальцев. Это, знаете ли, смешно: дожил до девяноста лет, много раз знавал, почем фунт лиха, и все равно содрогаюсь – даже теплым майским днем – при одной мысли о том февральском вечере.
Вскоре после того, как зажглись все фонари, осветив фасады домов, – все старые, дореволюционные здания, потому что это был центр города, – выкрашенные в голубой, желтый и светло-зеленый цвета, пошел снег. Этот танец фонарей напомнил мне об одном стихотворении, прочитанном несколько лет назад; я все старался его вспомнить, хотя и понимал, что бесполезно, не вспомню, – все что угодно, только бы отвлечься от липкого, нечистого взгляда, направленного мне в затылок. Затылку было холодно, как будто к нему прижималось револьверное дуло.
– Помедленнее, – тихо говорит он. Кроме него, в машине никого нет, и я рад хотя бы тому, что он обращается ко мне только затем, чтобы сказать, с какой скоростью ехать и куда сворачивать.
Я сбрасываю скорость. Впереди вьется поземка, и лучи фар обрезают ее поверху.
– Выключи фары.
Я подчиняюсь и вижу ее. На ней старая, поеденная молью шуба, голова обмотана толстым шерстяным платком. Я узнаю ее – это Ниночка, мы живем с ней в одном доме. Говорят, у нее немного не в порядке с головой, но она хорошая девушка и всегда со мной здоровается. Она пробирается по глубокому снегу в валенках, шуба и платок изменяют ее очертания – в этом одеянии она похожа на обычную толстую бабу, – и я надеюсь, что этого достаточно, чтобы она спаслась.
Я немного прибавляю скорость, чтобы он не обратил на нее внимания, чтобы мы проехали мимо и, может быть, нашли другую девушку, возвращающуюся с поздней работы домой… Нашли другую, незнакомую мне. Это так несправедливо, что я хочу обменять одну мученицу на другую, – но, Господи, дай нам проехать, просто дай нам проехать. Я мысленно заключаю сделки с Богом, даю ему обещания, которые никогда не смогу сдержать. Я не знаю, почему это так важно, но чувствую: если бы я смог спасти хотя бы ее, хотя бы одну девушку, то все еще могло бы наладиться. Если бы она спаслась, то оказалось бы, что этот мир все же справедлив, хотя бы немного, что в нем все же есть какой-то смысл. Господи, пожалуйста, пронеси.
– Притормози, – говорит он, и кожа моего сиденья скрипит и шевелится, когда он хватается за него. – Остановись вон там. – Он указывает вперед, на отрезок тьмы между двумя конусами света, туда, где цвет снега меняется с белого на сумеречно-синий. Он выходит из автомобиля, и несомый ветром снег обвивает его ботинки. Ниночка впервые поднимает взгляд. Она не узнает Берию – ни поначалу, когда только видит его, ни потом, когда она тихо всхлипывает на заднем сиденье машины. Ее руки заломлены назад, так что она даже не может вытереть лицо, и слезы капают с кончика ее покрасневшего носа, словно вода с тающей сосульки. Я все никак не могу припомнить стихотворение – что-то там о бегущих уличных фонарях – и пытаюсь поймать его ускользающий ритм, и смотрю только на дорогу, и не смотрю даже в зеркало заднего вида. Наконец мы останавливаемся напротив кованых ворот его дома, и они с Ниночкой выходят. За ворота меня никогда не пускали, – я же просто шофер, а не сотрудник НКВД, – и я еду в гараж.
***
Так что я решил, что моя служба сторожем в небесно-голубом доме – не случайность, и то, что я вижу повсюду мертвых обнаженных девочек, что-то значит. Я старался не смотреть на них, особенно когда они были выстроены в круг, головами друг к другу. Мне не нужно было вглядываться в их лица, потому что я и так знал, что Ниночка где-то среди них – прозрачный призрак длинноногой девушки, которую он раз за разом утаскивал в какую-то тайную комнату, чтобы подвергнуть тому, о чем лучше не думать. И я зажмуривался и тряс головой, чтобы не думать, только бы не думать.
Мой сын был диссидентом, и для него не было ничего горше, чем знать, что его отец работал в НКВД, что он забирал людей из их домов и присутствовал на народных трибуналах – тех самых, на которых людей объявляли врагами народа. Его стыд за мои грехи заставил его сбежать в страну, где не было и следа его мечты о свободе, и находить иллюзорное успокоение в родном языке, который все больше разлагался под воздействием английских слов и одних и тех же разговоров о радостях капитализма – мелких и обыденных, как тараканы в кухне его квартиры на Брайтон-Бич.
Но ему все же удается думать, что он лучше меня, потому что его не преследуют и во сне, и наяву обнаженные мертвые девушки. Они не толпятся в его голове в редкие драгоценные минуты отдыха. Мои ордена и медали не принимаются в расчет, как будто и не было войны после этих медленных тайных поездок по городу. Годы идут для всех, кроме этих девочек, навечно заточенных в отрочестве, как будто не было ни побед, ни грандиозного марша по грязи до Германии и обратно, как будто после них не было ничего. Время в особняке на Малой Никитской остановилось где-то в 1938 году. Я не могу не думать об этом и не могу уволиться из посольства – до тех пор, пока не выясню, почему это происходит, или не решу, что лучше ничего не выяснять и оставить все как есть.
***
Я вспоминаю последнюю неделю своей работы в посольстве. Мертвые девочки были повсюду, и даже дипломаты и охранники замечали их уголком глаза – я видел, как они оборачивались в их сторону; глаза у них были, как у испуганных лошадей. Длинноногие, бледные, покрытые синяками девочки встречались мне в каждом коридоре, я видел их измученные лица на каждой лестнице, в каждом углу, в каждом стакане сладкого черного чая, который ежеутренне заваривал мне пакистанский повар.
Дипломаты шептались на своем странном наречии – наречии, как я думал, не изменившемся со времен Ганнибала с его слонами. Я понял, что мертвые девочки стали и их проблемой, и рассказал кое-что этим иностранным сановникам. Тогда они решили что-то с этим сделать – то, о чем я в своем застарелом ужасе и подумать не мог. Они решили сломать фальшивые цементные перегородки в подвале.
Мне велели не приходить на работу несколько дней, и я едва пережил эти дни. Я не мог спать ни днем ни ночью и все думал о бледных видениях, бегущих по темным коридорам небесно-голубого дома. В глубине души я боялся за себя так же сильно, как боялся за этих мертвых девочек, боялся, что они проведут какой-нибудь обряд изгнания духов, убьют их, и тогда единственная причина, по которой я каждый день просыпался, брился и выходил из дома, исчезнет. Я не знал, была ли мучительной эта видимость существования, дарованная им, но все же надеялся, что они выживут.
Они не выжили. Вернувшись на работу, я обнаружил, что все цементные перегородки в подвале разрушены, а кирпичи стен скреплены свежим раствором. Коридоры и комнаты были пусты – я часто оборачивался, думая, что уловил краем глаза какое-то движение, но ничего не находил. Я заглядывал во все комнаты, надеясь увидеть, как призрачные ноги режут воздух на длинные светящиеся куски.
Я нашел их утром, после того как выпил темный, сладкий, душистый чай, как обычно предложенный поваром.
– Они нашли кости, – сказал он. – Даже больше чем в том мешке, про который я тебе рассказывал.
– Куда они их дели?
Он пожал плечами и покачал головой. Он понятия не имел, да ему это и не было интересно. Я уже точно знал, что в доме их нет, потому что посмотрел везде, куда только мог пробраться, не потревожив сна дипломатов.
Перед тем как уйти домой, я решил осмотреть двор. Там было так тихо, как будто и не было за стеной шумной улицы. Так спокойно. Я нашел черепа позади дома, они были выложены в ряд под деревьями, вдоль гравийной дорожки, бегущей между зданием и стеной.
Я смотрел на шеренгу черепов – все с отверстием в затылке – и жалел, что ни разу не видел среди безмолвных видений Ниночкиного лица. Я не знал, какой череп ее; они глядели на меня пустыми черными глазницами, и мне казалось, я слышу, как внутри черепов негромко гремят пули, – и постепенно этот звук становился все более громким и похожим на громыхание жестянок, привязанных к хвосту бегущей собаки.
Я повернулся и пошел к воротам, стараясь идти медленно и спокойно, как будто ничего не случилось, стараясь не обращать внимания на громыхание черепов, которые волоклись за мной последние шестьдесят лет.
Послесловие
Лаврентий Павлович Берия – один из самых зловещих и противоречивых персонажей российской истории, поэтому неудивительно, что дом, в котором он жил, фигурирует во многих рассказах о привидениях. Говорят, что у этого дома каждую ночь останавливается призрачный лимузин, что внутри особняка обитают привидения. Из всех версий этой легенды я выбрала самую пугающую. Жизнь Берии окружена тайной, страхом и противоречивыми сведениями – истории о похищениях и изнасилованиях дополняются рассказами о гигантских мясорубках и орудиях пыток, установленных в подвале; в то же время никаких фактов, подтверждающих подобные истории, обнаружено не было. Даже о его роли в истории до сих пор ведутся споры: многим он известен как «сталинский мясник», но некоторые утверждают, что после смерти Сталина он находился на острие политических реформ.
Для меня этот рассказ является прежде всего возможностью поговорить не только о великом зле, но и об обычных людях, замешанных в нем. Как жил бы дальше человек, в свое время способствовавший процветанию зла?
Екатерина Седиа проживает в городе Пайнлэндз, штат Нью-Джерси. Ее романы «Тайная история Москвы» («The Secret History of Moscow») и «Алхимия камня» («The Alchemy of Stone») были опубликованы издательством Prime Books и хорошо приняты критиками. Ее следующий роман, «Дом несбывшихся снов» («The House of Discarded Dreams»), вышел в 2010 году. Ее рассказы появлялись в таких журналах, как Analog, Baen’s Universe, Dark Wisdom и Clarkesworld, а также в антологиях Japanese Dreams и Magic in the Mirrorstone. Заходите на ее интернет-страничку .
Джон Мантут Крушение поезда в обувной коробке
Сьюзи я представлял себе бегущей по бескрайнему полю: волосы отброшены назад встречным ветром, рот приоткрыт, потому что она смеется. Поле я сделал из скошенной на дворе травы, тщательно приклеивая каждую травинку к дну коробки из-под обуви. Над Сьюзи висели облака из ваты, а еще выше – солнце из апельсинной корки. По сторонам я расположил те вещи, которые она любила, когда была жива: конфеты «Скиттлс»; кукол Барби, представленных небольшими цветными вырезками из журналов для девочек; миниатюрных пластиковых щенков, которых я нашел на гаражной распродаже; ожерелье, в котором каждая бусина висит на тонкой отдельной ниточке. Мне нравится воображать, что эти ниточки скручены из ее волос.
Саму Сьюзи я нашел на блошином рынке – чудесная маленькая статуэтка на дне ящика с игрушками. Я понял, что это она, в ту самую секунду, как увидел ее. Глаза, улыбка, развевающиеся волосы. Это была Сьюзи.
Примерно так же я нашел и остальных. Не все из них были уже полностью готовы, как Сьюзи. Саманту мне пришлось собирать по частям из старых пластиковых фигурок, но в итоге у меня получилось.
Когда я только начал их делать, три года назад, почти сразу после несчастного случая, я думал позвать их родителей, родственников, пригласить их всех в мою комнату, показать им, что я сделал, как я потрудился для того, чтобы вычеркнуть тот день из календаря, чтобы их дети опять были живы. Они были бы поражены, представлял я, они тихо перешептывались бы друг с другом, удивляясь, как мне удалось не упустить ни одной детали и сделать все именно так, как надо. Конечно, без слез бы не обошлось, но я обнял бы плачущих, и слезы высохли бы у меня на рубашке, а потом, после ухода родителей и родственников, я повесил бы ее в шкаф и не стал бы стирать, и прикасался бы к ней каждый день – это было бы еще одним напоминанием о том, что я сделал.
А сейчас я стою перед шестью обувными коробками, смотрю на них, думая о том, что можно сделать еще. Ничего нового я придумать не могу и поэтому просто обхожу их по очереди, начиная с Майкла и заканчивая Сьюзи, а между ними Адриана, Филип, Адам и Саманта, – в таком порядке я вижу их во сне. Я прислушиваюсь – и из коробок до меня доносятся их голоса, едва слышные, словно дуновение ветра. Я наклоняюсь поближе, и тихие звуки сливаются в напев, слов которого я не могу разобрать. Но позже, когда дом безмолвен и я, лежа в постели, балансирую между сном и бодрствованием, я наконец понимаю, что они говорят:
«Мертвые не преследуют живых».
***
Я думал о том, чтобы переехать. В конце концов, многие ли машинисты остались бы в городе, где они стали причиной такой трагедии? Но когда дело дошло до того, чтобы выставить дом на продажу, я уже принялся за обувные коробки, и мне нужно было находиться здесь, в южной части Сан-Антонио, чтобы их закончить. Надо сказать, никто меня особенно не беспокоил. Все решили, что во всем виноват водитель автобуса, Джейк Кроули, так как через три часа после аварии он сунул в рот дробовик и снес себе голову.
Сейчас, если люди вообще упоминают об аварии, они толкуют о поездах-призраках и о том, что мертвец Кроули бродит с фонарем по переезду в Бакс-Крик и ищет детей, которых он потерял. Также распространилось поверье, что, если остановить машину на путях, там, где произошла авария, души тех шестерых детей столкнут машину с железнодорожного полотна в безопасное место. Подросткам оно нравится. Часто можно видеть, как они направляются к Бакс-Крик, набившись в машину в обнимку с упаковками пива. И обязательно у них есть пакет с мукой. Они обсыпают ею задний бампер и, когда хорошенько наберутся, вполне могут убедить себя, что следы на муке – это отпечатки ангельских пальцев, а не просто то место, где садились на бампер мотыльки, привлеченные теплым светом задних фар.
И я тоже могу в это поверить, хотя со дня аварии и не притрагивался к спиртному.
***
Дно коробки Филипа я выложил узкими дощечками, тщательно отполированными и покрытыми лаком. На них я нарисовал разметку и поставил небольшие баскетбольные кольца. Если бы Филип был живой, он сейчас учился бы уже в выпускном классе. А потом он стал бы играть в университетской баскетбольной команде. Тренеры считали его хорошим игроком. В газетной статье, появившейся после аварии, приводились слова университетского тренера, который говорил, что Филипу, единственному из всей школы, уже была обеспечена спортивная стипендия.
Когда я долго смотрю на его обувную коробку, – вот как сейчас, – то почти слышу, как кричат болельщики на трибунах. Они подбадривают его, требуют, чтобы он жил.
Иногда я теряю связь с этим миром – это как выдернуть корни из мягкой земли. Когда так происходит, Филип начинает двигаться. Я вижу, как он играет. Пусть и недолго, но он вновь живет.
***
Больше всего мне нравится в моих диорамах то, что они представляют собой упорядоченное пространство, в котором нет места насилию. Здесь, благодаря моему усердию и вниманию к деталям, дети находятся в безопасности. Здесь они неуязвимы, нечувствительны к страшным ударам судьбы. Здесь поезда не несутся на полной скорости к переезду, автобусы не останавливаются поперек путей. Здесь города не оплакивают погибших детей.
***
Я спал без снов. Теперь мои глаза открыты и видят мерцающие рядом с кроватью часы. В комнате темно, до рассвета, наверное, еще несколько часов. Я поднимаюсь с постели, иду к окну и не узнаю свой двор. Ночью огромный вяз, который рос у меня в палисаднике, раскололся надвое, и одна его половина упала на линию электропередачи. То и дело вспыхивают электрические разряды. Они похожи на серебряных угрей, играющих в черном море.
Я слышу стук в дверь. Мгновением позже я смотрю в глазок на Джеймса, который был моим помощником, когда случилась авария.
Как и я, Джеймс в тот день был пьян, и, как и я, он выглядел в достаточной мере трезвым на месте аварии, когда все кричали и засыпали нас вопросами. Надо отдать ему должное: он первым выступил в мою защиту. «А что Арч мог сделать? – сказал он. – На переезде в Бакс-Крик давным-давно следовало поставить шлагбаум. Это всем известно. Я считаю, что в такой ситуации ни один машинист не смог бы избежать столкновения».
После аварии мы с Джеймсом постепенно перестали видеться, в основном по моей собственной вине и из-за моего гнева. Но не только: нас тяготило нечто вроде общей болезненной тайны, какое-то тяжелое бремя, которое, всякий раз, когда мы видели друг друга, становилось невыносимым. Я перестал отвечать на его звонки. Как-то я встретил его на улице, когда шел домой из библиотеки. Мы оба притворились, что не заметили один другого. Мы соблюдали неписаное соглашение, и его условия были нам известны: страдай в одиночку.
А теперь он стоит у моей двери, и ни ночь, ни гроза не помешали ему прийти.
Я слышал, что у него рак, но все же не ожидал, что он будет выглядеть вот так. Он весь как-то уменьшился, ключицы выступают, как какой-то нелепый костяной шарф. Он сцепил ладони перед собой, и его пальцы напоминают две связки крючков, случайно и накрепко запутавшихся. Его руки такие тонкие – кожа да кости, – что мне удивительно, как они еще могут двигаться. Он открывает рот, и его зубы – те, что остались, – сами собой щерятся в щербатой ухмылке, какую вырезают в тыкве ко Дню всех святых.
– Арч, – говорит он, – можно мне зайти?
Я отступаю в сторону, и он, шаркая, проходит мимо меня в гостиную.
Я сажусь и показываю ему на диван.
Снаружи снова принимается лить дождь. Он громко стучит в жестяную крышу, и мне кажется странным, что такой ливень не разбудил меня, когда начался в первый раз.
– Мне нужно кое-что тебе сказать, Арч.
Вспыхивает молния. Комнату мгновенно заливает белый свет, а затем она так же мгновенно погружается в темноту – это отключилось электричество. Джеймс, сидящий на диване в двух метрах от меня, теперь не более чем черная тень.
– То, что мы с тобой натворили… Ты считаешь, что ты их убил. Но ведь это в прошлом. Долгое, очень долгое время я хотел вернуться назад, в тот день, когда я солгал, и рассказать всем правду. Я хотел сесть в тюрьму. Сдохнуть там. Но ведь это невозможно. Понимаешь?
– Да, – говорю я. – Понимаю.
– Дети на том переезде… Я говорил с ними. Они просили, чтобы я тебе кое-что передал.
– Не надо, Джеймс.
– Они хотят, чтобы ты понял. Они остаются здесь не потому, что таково их желание. – Его голос совершенно спокоен, он будто не замечает поднимающейся во мне злости.
– А потому, что это я оставил их на том переезде, верно, Джеймс? Ты ведь всего лишь помощник машиниста. Ты не в ответе за то, что произошло. – Я вдруг оказываюсь возле дивана, хватаю его за рубашку, стараюсь поднять его на ноги. Но он тяжелый, страшно тяжелый… А ведь он так исхудал, что вообще не должен ничего весить. Вспыхивает молния и освещает его темные глаза. Я не могу найти в них ничего – они спокойны, и только.
– Отпусти их, Арч.
Кажется, он хочет сказать что-то еще, но тут на дом обрушивается каскад молний, освещая комнату повторяющимися вспышками, словно почти одновременно щелкает множество фотоаппаратов. Когда комната снова погружается во тьму, Джеймса больше нет. Я не вижу его. Его рубашка все еще у меня в кулаке, и я в отчаянии тяну ее на себя, чтобы найти его, чтобы он не смел исчезать. Рубашка рвется. Что-то остается в ладони, но я не вижу что. Болит голова. Вокруг меня оглушительно гремят раскаты грома. Комната вдруг кренится вправо, и я теряю сознание.
***
Следующим утром солнце светит в окно так ярко, что я едва могу открыть глаза.
Я поворачиваю голову и смотрю на часы у кровати: 12:00. Прикрываю глаза ладонью и выглядываю во двор, туда, где ночью упал вяз. Электрики уже на месте – восстанавливают линию электропередачи.
Я чувствую себя разбитым, полностью вымотанным, как будто вообще не спал. В голове стальной иголкой застрял визит Джеймса. Но что он хотел мне сказать?
Просто сон, думаю я. Затем понимаю: у меня в кулаке что-то есть. Разжимаю его и вижу пуговицу.
***
Джеймс мертв. Я убеждаюсь в этом, позвонив ему домой. Его жена, Бет, говорит, что он умер ночью во время грозы.
– Прими мои соболезнования, – говорю я.
– Арч, Джеймс рассказал мне правду. О том, что вы тогда были пьяны.
– Бет…
– Я его возненавидела. Хотела, чтобы он отправился в тюрьму. А на следующий день мне только и нужно было, чтобы он всегда был рядом. Туда-сюда. Каждый день. Много времени прошло, прежде чем я его простила. И еще больше, прежде чем он сам себя простил.
– Он не был виноват, Бет. Виноват был я один.
– Такое никто не вынесет в одиночку.
– Ты когда-нибудь задумывалась, кто это решает? – спрашиваю я.
– Что решает?
– Кому из детей жить, а кому умереть. Какой автобус должен остановиться поперек рельсов. Я столько раз напивался во время смены. И ничего не случалось.
– Арч…
– Как думаешь, о скольких детских смертях я слышал до аварии? О сотнях, наверное. Стоит только включить вечерние новости – и пожалуйста, только смотри. И знаешь что? Это все проходило мимо меня. Эти смерти как бы ничего не значили. Их будто не было. Но все изменилось. Все меняется, когда ты машинист поезда, который врезается в автобус с детьми. После этого они уже не просто дети. Они твои дети.
***
Днем позже я принимаюсь за коробку Джеймса. Самого Джеймса я делаю из бельевой прищепки и обрезков тонкой проволоки. Для головы приспосабливаю пуговицу, оставшуюся у меня с той, произошедшей во сне, ночной встречи с ним.
Много времени уходит на маленький поезд, едущий по рельсам из палочек от леденцов. Я помещаю Джеймса в кабину поезда, и мне странно, что меня рядом с ним нет. Небо раскрашиваю серым, вдоль железнодорожного полотна расставляю деревья: соцветия растущего неподалеку от моего дома кустарника, напоминающие ершики для чистки бутылок. Изготавливаю автобус из старой коробки из-под овсяных хлопьев и ставлю его поперек путей, прямо перед поездом.
День аварии, только в коробке. Я ощущаю себя богом – богом, бессильным изменить прошлое.
***
Спустя несколько дней я слышу гудок. Выхожу на задний двор и смотрю на деревья, как будто это они виноваты в том, что я услышал этот звук. Я знаю, что где-то за этими деревьями находится железная дорога, где случилось несчастье, но ведь она в нескольких милях отсюда – на таком расстоянии поезда не слышно.
Но я не могу притвориться, что ничего не слышал. Я иду внутрь, в свое святилище, сажусь перед диорамами и жду, когда ко мне придет спокойствие – то спокойствие, благодаря которому я верю, что все на самом деле хорошо и дети в коробках не мертвы.
Но и здесь я слышу гудок. И он звучит громче, настойчивее, как будто требует, чтобы я сделал что-то. Но что?
Я закрываю глаза и пытаюсь вернуться в ту ночь, когда мне снился Джеймс.
Чего он хотел? Что он хотел сказать?
«Отпусти их, Арч».
– Но они меня не отпустят, – говорю я.
Затем другой голос. Голос из сна. Детский голос: «Мертвые не преследуют живых».
– Преследуют, – говорю я. – Они преследуют меня.
Поезд гудит еще громче.
Помню, в день аварии я смотрел, как ветки деревьев царапают небо. Они были похожи на когтистые руки: земля, обдирающая небесную синеву.
Вот на что я смотрел, когда товарный поезд в сотню вагонов, который я тащил, начал, словно змея, вползать в слепой поворот, и я увидел школьный автобус, застрявший на переезде. Только что я был пьян и находился в полном согласии с этим миром, и вот я трезв как стеклышко и охвачен таким ужасом, что едва могу двигаться – мышцы под кожей будто внезапно покрылись льдом.
Подумал ли я о том, чтобы дать гудок? Не помню. Помню только, что отчаянно пытался остановить поезд. И еще помню, была холодная-холодная мысль о том, что я не успею сделать этого вовремя, не успею избежать столкновения.
О том, чтобы спрыгнуть с локомотива, я и не думал. Гордиться тут нечем, но я остался на своем месте.
Когда я задействовал тормоза, поезд уже нависал над автобусом.
Последовал оглушительный удар, затем звук рвущегося металла, вынимающий душу визг стали, а затем единственный крик, сразу же стихший, погасший, как задутая спичка. Поезд продолжал движение. Едва вздрагивая, локомотив разрезал автобус пополам. Две части длинной машины отбросило от путей, словно камни, которые кто-то столкнул с обрыва.
Когда все было кончено, я понял, чего я не сделал. Я не дал гудок.
И кто-то сейчас делает это за меня.
***
Тем же вечером я еду в своем пикапе к железной дороге, в Бакс-Крик, где все и произошло. На заднем сиденье лежит пакет с мукой.
Когда я туда приезжаю, там уже стоит другой автомобиль, с открытым верхом, полный подростков. Они остановились на путях, насыпали на бампер изрядное количество муки и теперь ждут. Время от времени они незаметно бросают назад пустые банки и пугают друг друга, говоря, что только что слышали какой-то звук. На меня они не обращают внимания.
Я тоже жду. Проходит час, и сумерки набрасывают на небо вуаль – редкую, темную, отливающую серебром. Чуть позже на ней проявляются эскизы звезд, пока еще настолько тусклые, что их едва видно. Отмечая время, в лесу ухает сова. Подходит минута. Последние пятна света убегают, спугнутые тенями, и в сумраке я вижу их: шесть фигур, окутанные призрачными отблесками, поднимаются из земли – медленно, настолько медленно, что кажется, их движения синхронизированы с опускающимся за горизонт солнцем.
Становится совсем темно, и я узнаю каждого из них; они стоят так, как я расставил их у себя в комнате: Майкл, Адриана, Филип, Саманта и Сьюзи. Однако Филип не похож на того энергичного спортсмена, который бежит по спортзалу в обувной коробке. У Майкла, Адрианы, Адама и Саманты усталый вид.
Дети подходят к стоящей на рельсах машине, их пальцы едва касаются бампера. Они не толкают ее, не прикладывают никаких усилий, но автомобиль – скорее всего, он на нейтральной передаче – легко скатывается с путей. Сидящие внутри подростки громко смеются. Кто-то фыркает и обрызгивает остальных пивом. Одна девушка восклицает: «Господи, боже мой! Не может быть». Крупный парень с длинными прямыми волосами выпрыгивает из машины с банкой пива в руке и бежит к заднему бамперу. «Ничего себе! Ребята, вы только гляньте!» Они высыпают из машины и смотрят на отпечатки пальцев убитых мною детей. Они не видят самих детей, которые стоят на путях и будто не знают, что им делать дальше.
Одна из них, Сьюзи, оборачивается и, кажется, видит меня. Ее лицо отливает серебром, словно луна ясной ночью. Она выглядит растерянной. Ее глаза находят мои, и я снова слышу голос. Ее голос: «Мертвые не преследуют живых».
Медленно-медленно они снова выстраиваются в линию и встают поперек путей, лицом к востоку. Они отрешенно ждут поезда, который убьет их снова. Спустя несколько мгновений я различаю дымок, тонким жгутом поднимающийся над темным лесом. Легкие заполняет резкий запах дизельного топлива. Земля под ногами начинает дрожать.
Появляется поезд, он несется вперед словно гончая, выпущенная из ада. Дети разметаны, стерты, возвращены в землю, из которой они встали… из которой они встанут ради краткой и страшной жизни и в следующую ночь, и в ночь за ней, и еще через ночь, и будет это продолжаться до тех пор…
…пока я их не отпущу.
Я еду прочь, в темный закат, и наконец понимаю. Мертвые не преследуют живых. Живые преследуют мертвых.
***
Я разведу костер. Пламя станет лизать подножие сосны, а дым будет подниматься к небу. Затем, по одному, я буду выносить их из дома, бросать в огонь и отворачиваться, когда они будут сгорать.
Последней я вынесу коробку Джеймса. Зажав пуговицу в кулаке, я сожгу остальное. Костер пахнёт сладковатым запахом смерти, который скоро рассеется, продержавшись всего несколько секунд, как аромат хризантем после долгого дождя.
Вздохнув, я задумаюсь над тем, что мир никогда не дает тебе того, что ты от него ждешь. Эти дети. Из-за меня они задержались здесь. Я усмехнусь и попытаюсь извлечь урок из своих страданий, попытаюсь понять, как они приводят к еще большим страданиям, – попытаюсь отследить этот бесконечный цикл, вращающийся сам по себе, так что невозможно определить, где его начало и где конец.
Постояв так некоторое время, я раскрою ладонь и посмотрю на пуговицу. Я подумаю о том, чтобы сохранить ее – один последний предмет, один символ, привязывающий меня к ним. Мне захочется выпить. Но, не обращая внимания на это желание, я закрою глаза и в кренящейся темноте брошу пуговицу в огонь. А когда я их открою, то буду воспринимать миры в обувных коробках лишь как болезненный бред. Я вернусь в дом и, оказавшись внутри, начну по-настоящему разбираться с тем, как мне жить дальше с самим собой и тем, что я натворил.
Послесловие
Я вожу школьный автобус, и поэтому мне близка легенда о «детях-призраках» Сан-Антонио. Железная дорога – это настоящее проклятие для водителей автобусов. От мысли о том, что мы можем застрять на переезде перед приближающимся поездом, нас бросает в холодный пот, даже если все дети сегодня уже развезены по домам. То, что я написал рассказ от лица машиниста поезда, стало сюрпризом для меня самого, но теперь мне кажется, что иначе ничего бы и не получилось.
Изучая эту легенду и похожие на нее, я стал задумываться над тем, что могли бы чувствовать участники тех настоящих трагедий, из которых выросли эти легенды. Скоро я уже размышлял над такими вопросами, как вина и прощение. Я думал о том, что даже в сентиментальных историях о привидениях есть что-то, что может показать нам нас самих, продемонстрировать нам то, как мы справляемся с трагедиями, страдаем от коллективной вины и находим путь к личному освобождению от нее.
Джон Мантут преподает английский язык и водит школьный автобус в центральной Алабаме. Его рассказы публиковались в журналах Shroud, Feral Fiction, Shimmer и Fantasy. В настоящее время он заканчивает свою магистерскую диссертацию: сборник южного нуара о суровых людях, мертвых детях и авариях различных транспортных средств.
Кэтрин Валенти Пятнадцать табличек, рассказывающих о печали баку и йотай
Что она прошептала
Когда ты, милая соня, просыпаешься утром – ладонь прикрывает глаза от света, веки слиплись, простыня смята, – сны все еще текут в тебе, изорванные, все в дырах. Ты помнишь мужчину с желтыми глазами, но не почему он преследовал тебя. Ты помнишь женщину с ястребиными когтями вместо ног на крыше твоего дома, но не что она тебе прошептала.
В этом виноват я. Не смог удержаться. Ночью я прошел сквозь тебя и съел твои сны – как моль сквозь шерсть. Не все – только самые сладкие, самые вкусные жилки, только жир, пронизывающий кусок багрового мяса, только костный мозг того, что она прошептала, почему он бежал.
Я ищейка – я поднимаю рыло вверх, к луне, чтобы поймать запах твоего пота. Я показываю плоские зубы ночному ветру. Я прошу разрешения у простыней свернуться во впадине твоего живота, поглодать твои плечи, твою грудь, твои веки. Я должен прогрызть в тебе дыру, пролезть к тому красному месту в глубине, откуда текут твои сны.
Во сне ты приобняла меня. Ты помнишь? Мое брюхо было тугим и черным – брюхо тапира, – и хоботом тапира я внюхивался в твое дыхание, словно свинья, отыскивающая трюфели. Ты и была моим трюфелем, моим жирным, пахнущим землей грибом. На вкус ты была великолепна, и я благодарю тебя за ужин.
Самоцвет, который нам не грызть
Синие рассветные сумерки выхватывают из темноты мой короткий хвост. В 6:17 я сажусь в залатанный жестяными пластинами пригородный поезд. На нем я еду домой, в Рай Чистой Земли. Яцухаси присоединяется ко мне на той остановке, где живет твоя тетя – в доме с широким белым крыльцом. Нас связывают приятельские отношения. Она так наелась снов твоей тети, в которых она в экстазе скачет на начальнике отдела, а он в это время наизусть цитирует Басё, что едва не лопается. Вагон пуст. Она садится на свое место, я сажусь на свое. Ее тапирье тело аккуратно вписывается в изгибы кресла и превращается в тело респектабельного дельца в респектабельном черном костюме. Я тоже распускаю свой образ и поправляю галстук. Проводник приносит нам горячего, сладкого маття, но мы отказываемся – наши шкуры и так едва не трескаются после ночного пиршества. Если бы ты видела нас, ты бы никогда не подумала, что мы возились на твоей постели и прижимались к твоему боку в течение нескольких темных, освещенных только луной часов. Ты бы подумала: «Вот два богатых и уважаемых джентльмена едут в Сити, к своим крепким, чистым столам».
Но мы уже отработали свою смену и едем домой, несемся со скоростью поезда к персиковому дереву бессмертия и перламутровым корытцам просветленных бесед, куда мы отрыгнем съеденное ради наслаждения съесть это снова.
– Кабу, – говорит Яцухаси, хотя она знает мое полное имя: Акакабу. Она склонна к фамильярности из-за плохого воспитания. – Как ты думаешь, сны на вкус больше похожи на вишню или на красную икру? Я никак не могу определить.
– При всем уважении, Яцухаси-сан, сравнение с икрой здесь совсем неуместно. Тебе прекрасно известно, что на дне сна лежит твердый самоцвет, который нам не грызть, самоцвет спящей души, облепленный мясом и сахаром. Икра сладкая, нежная, она взрывается на языке брызгами золотой соли – как редок сон, по вкусу напоминающий икру! Только у детей и стариков нет во снах твердой субстанции, о которую мы, если забудем об осторожности, можем обломать зубы.
– Конечно, ты прав, Кабу! Но я никак не могу отделаться от ощущения некой рыбности. Во мне извиваются сны зрелой женщины, лишенной плотской любви!
Вот так изъясняется моя приятельница. Многие баку ведут подобные разговоры, потому что им не хватает здравомыслия и они всю ночь едят сны, плохо перевариваемые тапирьим желудком: пьяные сны, лихорадочные сны, болезненные сны, сны хилых детей. Они так вкусны, что устоять перед ними очень трудно – они как торт, сервированный на маленьком изящном столике, такой влажный, что от него намокла скатерть. Но от них баку заговариваются и не попадают в дверь.
«Станция Йокосука-Тюо. Пожалуйста, не забывайте свои вещи».
Механический голос далек и шероховат, как во сне. Мне это нравится. Я схожу с поезда.
Рай Чистой Земли
Вас удивляет, что в Чистой Земле есть железнодорожная станция? Есть, и не одна. Мы, обитатели здешних мест, тонки, как воздух, – не только баку, но и все другие звери и цукумогами, драконы, русалки с луной в волосах и босоногие бодхисаттвы. Мы позволяем людям возводить серые, приземистые, квадратные башни прямо в Садах Истинного Учения; мы позволяем им мостить Улицу Желтого Дыма и строить там залы игровых автоматов патинко. Мы позволяем им называть Чистую Землю Йокосукой. Мы наблюдаем за тем, как Бабочки Совершенной Мысли обжигают крылышки о неоновые вывески. Мы поступили мудро – мы в безопасности, мы самый глубокий сон, мы спрятаны в подкладке человеческого города, там, где никто, даже их солдаты в мундирах с золотыми пуговицами, и не подумает искать небесные чертоги. Нельзя сказать, что в Раю Чистой Земли не существует печали. Напротив, все мы обязаны испытать печаль хотя бы раз за свою долгую, бесконечную, подпитываемую персиками жизнь, чтобы обрести твердый, холодный противовес красоте Чистой Земли. Никто из нас не любит говорить о своей печали, но все мы испытали ее в должный срок, все мы выполнили свой долг. Я хочу рассказать тебе о моей печали, хочу, чтобы она приснилась тебе, но при этом я должен переступить через свое воспитание, а это нелегко. В Раю Чистой Земли у меня квартира на Синей улице. На самом деле у нее нет названия, только номер, но люди очень к месту замостили ее искрящимися синими камнями – возможно, инстинктивно уступив нашему вкусу, – поэтому мы – и они тоже – зовем ее Синей улицей. Как видите, мы, как и они, практичные существа. Из окна своей квартиры я вижу залив, зеленую воду, пенными, мусорными волнами набегающую на берег – каждый гребень истыкан горлышками пивных бутылок. В воде плавают целлофановые пакеты, размокшие книги манги, флаконы из-под чистящих средств и апельсиновые корки. На дне – невообразимая свалка велосипедов, утопленных теми, кто не смог разобраться в хитросплетениях законов об утилизации мусора, – местами наша суть проливается в человеческий мир, а сложноорганизованный порядок – неотъемлемая часть чистой земли созерцания. Медузы запутываются в велосипедных спицах, растерянные, испуганные, прозрачные.
Я тоже растерян. Я тоже принял велосипедное колесо за надежное убежище. Никто не совершенен.
Закрой глаза
Будет лучше, если ты закроешь глаза. Мне легче взаимодействовать со спящими. Если ты увидишь мой рассказ во сне, я проплыву по мелкой речке твоего позвоночника, отыщу те его части, что чересчур ужасны, чересчур ярки, чересчур интимны для твоего взора. Я съем их, проливая слезы в твою черепную коробку, и ты проснешься, помня лишь соль.
Ты ведь не чувствуешь себя уставшей? Нет? Хорошо. Начну так: я любил одно живое существо, которого больше нет. Она стала лишь тягостной вещью-сном.
Застенчивость ночного ветра
Моей любовью владела белая женщина. Мы с ней встретились на работе, как часто случается в современном мире. Я свернулся в объятиях белой женщины, вцепившись зубами ей в рот, проник в горло, доставая студенистый костный мозг ее неприметных, домашних кошмаров. Пришлецы с запада не отличаются изысканным вкусом. Этой снился ее муж в белой форме, с саблей на боку и черным масляным пистолетом, – золотая фуражка, серебряный взгляд. Он коснулся моря, и оно замерцало нездоровым зеленым цветом. Он не улыбнулся ей – я съел его улыбку. А увидел ее – за плечом этой грустной маленькой женушки. Она была высокой и смуглой и стояла в углу, как бы охраняя сон своей хозяйки. У нее была угловатая фигура и серьезное лицо.
Рафу, моя Рафу! Как я вглядывался в то первое мгновение! Я долго держал его в своих лапах, а потом убрал его в шкатулку, выстеленную красным бархатом и слезами, – чтобы достать тогда, когда замерзли звезды! Я положил подбородок на плечо белой женщины и смотрел на черно-золотую вещь, которая – хоть я этого тогда не знал – была Рафу.
Она слегка поклонилась. Ее петли заскрипели. Ее шелковые створки легко затрепетали в застенчивости ночного ветра. Наброшенная на нее ивово-зеленая юбка затеняла ее лицо – моя Рафу была складной ширмой, шелковой красавицей, легко заткнувшей бы за пояс целые полчища статуй. Она была йотай – ширмой, которая прожила столько лет, что однажды очнулась и обрела имя, речь и способность мыслить. Такие свойства зарабатываются лет за сто или около того. Мир просто обязан тебя ими наградить, раз тебе удалось выжить. «Что делаешь ты здесь, радость нынешней ночи, в доме этой бледной дьяволицы?»
Чтобы спрятать ее от жизни
– Ее зовут Мило, – прошептала та, которую мне еще предстояло полюбить. – Ее отец хотел мальчика. Меня подарила ей ее подруга Тиэко, которая с самой молодости проявляла доброту к женам моряков, потому что они хуже детей: немые, потерянные, неживые, закоснелые в глупости – своей единственной защите. Тиэко любила апельсины микон, и у нее была родинка на левой груди. Как-то один мальчишка поцеловал ее без разрешения под хурмовым деревом, и Тиэко никогда этого не забыла – в тот момент она горела ярче и теплее, чем когда-либо после. Ее мать Кайо – ее любимые духи состояли из лотоса и лимонной воды, ее муж вечно ходил с красным лицом, у нее случилось три выкидыша только на моих глазах – купила меня в чайной в Йокогаме, где мной владела маленькая девочка, словно по волшебству превратившаяся в старуху. Ее звали Батико, она носила розовое кимоно, расшитое черными вишневыми цветами. Она садилась на корточки в моей скрывающей тени и пила что-то серебристое, от чего ей становилось плохо. Ее двоюродная бабушка, Аои, любила одного англичанина, который не любил ее; она вышла за имбиревода, чьи прикосновения ее обжигали, и у нее не было детей. Аои нашла меня в лавке в Камакуре, у самого моря, и решила, что я смогу спрятать ее от жизни. Я долго наблюдала за женщинами. Мило ничуть не хуже, чем любая из них.
– Ее сны на вкус, как белые перегородки лайма.
Рафу содрогнулась – ее створки определенным образом затрепетали.
– Ее снедает печаль. Она не говорит по-японски. Ее муж уехал в пустыню много месяцев назад. Каждый день она ходит на рынок и покупает там обед: черный шоколад, персик и рисовый шарик с лососем. Она сидит, ест и глядит в стену. Иногда она смотрит телевизор. Иногда она проходит три мили до Синей улицы и разглядывает ожерелья, выставленные в витринах. Она хочет, чтобы кто-нибудь купил ей такое. Иногда она выходит на пирс, чтобы посмотреть на утопленные велосипеды, которые разрушаются под воздействием сонаров военных судов, ржавчины и кораллов. Ей нравится гладить собак, которых выгуливают их хозяева. Вот и вся ее жизнь. О чем ей грезить?
– О чем-то лучшем.
Танцуя, падал мелкий снег
Не то чтобы я особенно хотел есть сны Мило. Я мог бы найти сны повкуснее у любого торговца рисовыми шариками с Синей улицы – сны с прожилками темноты и тоской по поцелуям, подобным кленовому соку. Но в полутьме дома Мило, окутанная желто-зеленым, травяным ароматом новых татами, стояла Рафу, и сквозь ее кожу просвечивали звезды. Она смеялась, когда я пересказывал ей шутки, услышанные от Яцухаси во время нашей утренней поездки. Я катался по полу перед ней и показывал все, чем я могу быть: тапира, тигра, дельца, тень, воду.
Я забывал вгрызться в жену моряка. Ее похожие на опилки сны не привлекали меня. Она плакала во сне, преследуя корабли, о которых я не хотел ничего знать. Она тонула в своем утомленном колониальном отчаянии.
Я похудел, как и положено любовнику.
На семнадцатую ночь я познал свою Рафу, я раскрылся в шелковую ширму, украшенную одинокими тапирами, пьющими из освещенного луной ручья. Мы стояли створка к створке и умиротворенно молчали. За окном, танцуя, падал мелкий снег. Мило спала на полу, на циновке, и не видела нашей неподвижной, безмолвной любви.
– Я так тоже могу, – кокетливо сказала Рафу, когда мы закончили и пот каплями выступил на наших шелковых полотнищах. – Я могу складываться в тапира, тигра, дельца, тень, воду. Девушку.
– Покажи!
– Не теперь, – отказалась она.
Из-за ее наготы
– Брось эту унылую, бесхвостую кошку, – просил я свою Рафу, блистательную, золотую на фоне ночи. – У меня квартира на Синей улице – я никогда не стану бросать на тебя одежду. Я покажу тебе скрытных Павлинов Верного Намерения, которые вьют гнезда в адмиральском особняке и клюют его в руки, когда он приказывает морякам строиться в идиотские шеренги и выкрикивать злобную чепуху. Он их не видит и думает, что у него экзема. Мы с тобой посмотрим Карнавал Праведной Жизни и попробуем жженый сахар, приготовленный в Печах Умиротворения. Ты сможешь каждый вечер уезжать со мной на поезде и продолжать свое изучение женщин – ради тебя я отныне буду питаться только женскими снами! Мы будем ходить в залы патинко, тянуть за рычаги, и в треске серебряных шариков, доступном лишь нашему слуху, мы услышим щелкающее движение звезд, движущихся по идеальной орбите, и будем знать, что ничего случайного не бывает.
Рафу покраснела – ее полотнища расцвели алым. Мило всхрапнула и повернулась на другой бок, что-то бормоча в призрачной агонии. Прядь ее каштановых волос попала ей в рот. Рафу смотрела на нее, слегка наклонившись вперед.
– Нет, Акакабу, страсть моих преклонных лет! Я люблю ее. Я люблю ее и никогда не покину.
– Как ты можешь любить такое существо?
– Я люблю ее из-за ее наготы, Кабу. Она снимала передо мной одежду, представала передо мной полностью беззащитной, ее грудь, плечи, ее одинокий акт любви – все это только для меня, для моего взора, моей любви, моей жалости. Я знаю, что она проколола себе язык, когда была подростком, но убрала украшение, когда вышла замуж. Я знаю, что ее правая грудь немного больше левой, что у нее родимое пятно на крестце – оно выглядит как след от удара, – что у нее растяжки на животе, хотя она и не рожала, просто ей здесь больше нечего делать, кроме как есть. Это такие ценные вещи! Я знала их о Тиэко, о Кайо, о Батико и об Аои. Все они показывали мне свои тела и то, как на них отпечатался мир. Твоего тела – так, как мне демонстрировали его мои хозяйки, – я не видела. Она стояла передо мной в наготе, и я не оставлю нагую девушку холоду.
Как у первых леди
Признаю, я разозлился, и беру на себя ответственность за все произошедшее после этого. Я ревновал Рафу к ее нагим женщинам, которые никогда не узрят лазурь и пурпур Павлинов Верного Намерения, к ее тайным актам любви в уединенных домах. Я хотел показать моей йотай, что и баку могут познать людей подобным образом, поскольку нигде человек не бывает более обнаженным, чем во сне, где все стыдное и скрытое блестит, словно сладкий пот на кости.
Ворча на Рафу, в злорадном предвкушении, я свернулся в тяжелых сонных руках Мило. Я вцепился в этот вялый западный рот и стал втягивать в себя все ее глубоко запрятанные съедобные вещи: ее горе, ее одиночество, ее густую, как сливки, вину, ее пошлую интрижку на Окинаве, ее прошлого любовника, который целовал пальцы ее ног, как будто она была ангелом и могла даровать благословение. Я съел все это – жадно, неопрятно. Я съел ее мужа, который покинул ее, съел его саблю, и пистолет, и тонкую чопорную улыбку. Я извивался на Мило, возил по ней своим тугим, черным тапирьим брюхом, вгрызался в нее, обгладывал твердую вишенку в основании ее грез, ломал зубы о неуязвимый самоцвет ее души.
Рафу устыдилась меня и отвернулась.
Мило обняла меня и открыла глаза:
– У всех других женщин имена как у первых леди, – прошептала она шероховатым со сна голосом. – Хиллари, Лаура, Пэт, Либби. Почему меня зовут Мило?
– Потому что предполагалось, что ты будешь мальчиком, – жестокосердно сказал я, поскольку должен был проявить жестокосердие. – Если бы ты родилась согласно желанию родителей, ты бы маршировала по улицам с красивым ружьем, стреляла направо и налево, пила виски и предавалась всякого рода развлечениям. И никто никогда тебя бы не бросил.
– О, – с пониманием произнесла Мило, как будто я все ей объяснил. И снова уснула.
Порождения желудка
Я уверен, такое случалось и раньше. Все мы в конечном счете порождения желудка. Когда я был маленьким и пятнистым, мать рассказывала мне, что первый баку был просто огромным, прозрачным, фиолетовым желудком – может быть, с участком пищевода, – который в ненастные дни парил над крышами и, спускаясь, накрывал сновидцев, словно одеяло, и всасывал в себя абсолютно все их сны. В те времена люди вообще не помнили снов, так искусен был баку в их поедании.
Тот баку был безупречен, но я таковым не являюсь. Я съел слишком много Мило; я был так наполнен ею, что моя икота превратилась в дельфинов, которые уплыли в ночь. Рафу в отвращении шелестела полотнищами – ее золото подернулось желчным желтым, так сильно она осуждала мое обжорство.
Я сделал это только для того, чтобы причинить тебе боль, моя шелковая возлюбленная, моя Рафу, моя сгинувшая красавица.
Пьяный, с дурной головой, тяжело переступая короткими лапами, я слонялся взад-вперед по скользким татами. Моя шкура казалась мне слишком толстой; я хотел снять ее и предстать голым перед Рафу, чтобы она полюбила меня так же, как и тех женщин, что были в ее жизни. Я заслужил это, не так ли? Я сбил деревянный подсвечник, ударился о низкий столик из красного дерева, поранил свой короткий тапирий хобот об угол Рафу – она со стуком упала на пол.
Меня вырвало на травяные маты, и я завалился на бок и уснул рядом с лужей собственной рвоты.
С неспешной фамильярностью мужа
На полу лежал мужчина. Он сформировался из моей рвоты. Я изверг из себя содержимое сна Мило, и оно теперь лежало на полу в белой форме, кое-где запачканной моим серебристым желудочным соком: слезы, мед потерянных без возврата дней, пот, ночное семя. Офицерская фуражка свалилась у него с головы; волосы были влажные и спутанные, как у новорожденного.
Он пошевелился; Рафу в ужасе сложила створки – насколько смогла тихо. Мужчина подполз к спящей Мило и прижался к ней, подстраиваясь под изгибы ее тела с неспешной фамильярностью мужа или часто наведывающегося баку. Он поцеловал ее в макушку, оставив у нее на шее серебристые потеки. Из глубокой тени я наблюдал, как он позвал ее по имени и она выкатилась из сна и повернулась к нему, – ее лицо распускается в улыбку, как я иногда распускаюсь в человека.
– Как ты здесь оказался? – удивилась она.
– Я скучал по тебе, – неразборчиво пробормотал он. Существо, еще минуту назад находившееся у меня в желудке, не сразу адаптировалось к человеческой речи. «Лжец», – подумал я.
– Мне было так одиноко, – вздохнула Мило. – Мне не нравится здесь. Мы можем поехать домой?
– Да, конечно. Завтра же. – Моряк ее не слушал. Он стягивал с нее смятую ночную сорочку, сероватые, застиранные трусики, доставал из хрустящих белоснежных брюк свой уд, истекающий серебристой слизью грез. Она тихо застонала – испуганная, еще полусонная. – Это так странно, – выдохнул он, неуклюже втолкнув себя в нее с грацией слона, упавшего на несчастливо подвернувшуюся антилопу. – Всего несколько мгновений назад я был в пустыне. Все вокруг пахло песком и нефтью. На катере были люди; они стреляли в нас, и вокруг них море было злым, сине-зеленым, фосфоресцирующим из-за водорослей и пролившегося топлива. Море мерцало, а лица людей были такими пустыми.
Мило начала беззвучно плакать. Ее тело выгибалось от его толчков.
– Мы стали стрелять в ответ – а что нам было делать? Я вытаскивал их трупы из светящейся воды. – Он хрипло рассмеялся, втыкаясь в нее все чаще, все чаще. – Это было так странно, прямо у меня в руках с них слезала кожа, словно одежда, а внутри ничего не было. Они были мягкими, как будто сделанными из пустоты, с пустотой внутри. Мы доставали из воды только окровавленную кожу, людей внутри нее не было.
– Не смейся, меня это пугает, – прошептала Мило. Моряк закрыл ей уши руками, как бы для того, чтобы заглушить звук его смеха, который по спирали забирался на вершину громкости и высоты тона. Потом у него изо рта и из ладоней пошла вода – вода вливалась в нее, морская соль очищала ее, ракушки и рыба, и песок, и кровь выплескивались из него прямо в ее уши, ее лоно, ее рот. Она отплевывалась и кашляла – он проталкивал сквозь нее море, и ее губы стали синими, как волны, волосы струились, как бурые водоросли, его пальцы оставляли на ее ребрах пурпурных актиний.
– Разве ты не рада, что я вернулся? Почему ты не поцелуешь меня? Неужели ты меня не любишь? – И он целовал ее снова и снова – мокрое, соленое чмоканье в темноте, аккомпанементом которому служил тихий плач Рафу, словно ненужная мебель, валявшейся в углу.
Нельзя любить мясо
Извергнутая мной рвотная масса сидела на полу, скрестив ноги, и дожидалась, когда ей подадут чай. Мило неподвижно лежала перед ним – лицо распухшее, изо рта струйкой вытекает вода.
– Твое имя Кабу. Акакабу, – медленно произнес он. Дитя узнало своего отца. – Меня зовут лейтенант?
– Нет. – Я вышел из тени тумбочки с американским телевизором и по-собачьи присел рядом. – Тебя зовут Габриэль Салас, но ты не он – не совсем он.
– Да, я знаю. Если бы я был Габриэлем Саласом, то и поныне находился бы в пустыне, и неподалеку мерцало бы море, и я бы видел вдалеке города, полные осмотрительных птиц.
– Ты – сон. Понимаешь?
– Чей сон?
– Твоей жены. Посмотри, что ты с ней сделал в ее сне.
Моряк-греза посмотрел на жену. Его лицо ничего не выражало.
– Я любил ее.
– Да.
– Я больше не люблю ее. Нельзя любить мясо.
– Это тебе решать.
– Что мне теперь делать, Акакабу?
– Это Рай Чистой Земли. Ты можешь начать с Праведной Мысли. И еще это Йокосука. Ты можешь начать с похорон твоей жены и возжигания в ее честь благовоний.
– Мне не нравится ни то ни другое. Вряд ли я буду это делать. Я голоден.
– Ты голоден, потому что это я изверг тебя, а я всегда голоден.
– Тогда я пойду в город. Будут есть то, что мне нравится.
– А что тебе нравится?
Лейтенант Габриэль Салас задумчиво склонил голову набок. Затем подобрал с пола офицерскую фуражку и надел ее:
– Павлины. Бабочки. Жженый сахар. Праведные Мысли.
С прямой и гордой спиной он вышел из дома и направил шаги к Синей улице.
Когда он ушел, Рафу выползла из угла, отталкиваясь створками от татами. По мере того как она ползла, рамы ее створок, сделанные из прекрасного темного дерева, обрели пальцы – их ногти ломались о плетеную траву, ее шелковые полотнища стали плечами, животом, сильной спиной. Она поднялась, раскрываясь в женщину, с длинными, расписанными тиграми, шелковыми руками на петлях, выдвинувшимися из ее прекрасного тела и заканчивающимися деликатными ладонями. Она преклонила колени перед утопленницей Мило.
– Спаси ее, – плакала моя Рафу. – Спаси ее из-за ее наготы, из-за того, как беззащитна она была передо мной, из-за того, как я любила ее меньшую грудь.
– Не получится, похитительница моего сердца. Я умею только поедать.
Потому что ты новая
Рай Чистой Земли существует внутри Йокосуки, словно волос, застрявший в гребне. Зубы города поднимаются высоко в небо и ничего не знают об ониксовых прядях, бьющихся у его основания. Естественно, безжалостная рука может очистить гребень от этих прядей. Они не будут сопротивляться.
Я и Рафу последовали за Габриэлем-грезой через Йокосука-Тюо и вдоль шоссе, через влажный, пахнущий илом туннель и вверх по заросшим террасам. Нам нетрудно было за ним следить – он был шумен и чужероден этому месту. Он поедал вишневые деревья, росшие по обочинам дороги, – открывал рот и заглатывал их целиком, как мог бы сделать я. Добравшись до города, он схватил одной рукой Павлина Верного Намерения, брызнувшего синим и зеленым, а другой – девушку, возвращавшуюся со свидания с американским солдатом на серой, разросшейся во все стороны военной базе. Он одновременно засунул их себе в рот, как две ножки золотистого цыпленка.
На Синей улице он ел шляпы, пояса, плиты для варки риса, керосиновые лампы, уличные фонари, дорогие итальянские туфли, Торговцев Совершенной Уравновешенностью, аквариумы, Проституток Чистого Разума, Мотоциклы Благочестивого Суждения. Рафу сморщила нос и хлопнула в ладоши.
– Неужели ты такой – с изнанки? – спросила она.
– С изнанки абсолютно все мы такие, – вздохнул я.
– Но я не такая!
– Это потому что ты новая. У тебя не было желудка в течение сотни лет. Ты еще только начинаешь познавать, как наполнять его. Ты еще не знаешь, что его никогда не наполнить.
Невдалеке впереди нас Габриэль-греза раскрыл пасть и проглотил автомат с напитками. Он испарился с музыкальным лязгом.
– Он всех нас съест?
– Да, – спокойно ответил я. – Он же сон; он не знает, что это не сон. Настоящий он находится сейчас где-то в невероятно жарком месте и грезит о своей мягкой, послушной жене, не названной как первая леди. Он поедает мир с помощью серого корабля и красивой фуражки. Сны более буквальны. Более откровенны.
– Почему ты не боишься?
– Потому что я знаю кое-что о Чистой Земле, чего он не знает. – Рафу обняла мою тапирью тушу своими руками-полотнищами и поцеловала меня прямо в горячее рыло. В ее руках я распустился в человека, чтобы соответствовать ей, чтобы ей было хорошо. Я так хотел, чтобы ей было хорошо.
По прекрасному золотому осколку
В Чистой Земле Йокосуки нет места более священного, чем розовые дворцы с залами патинко. Я должен был привести туда Рафу, чтобы помедитировать вместе в голубом сиянии электронных экранов и пьянящем сигарном дыму. Здесь бодхисаттвы с голыми, дрожащими в экстазе шеями, распростертые перед неумолимыми богинями удачи, практикуют Истинную Игру. Одного за другим лейтенант-греза съел их, лежащих ниц на потолке, – зеленокрылых серафимов Идеального Шанса. Он хватал их ртом за пальцы ног и всасывал в себя. Их крики заглушались звуком падения многочисленных серебряных шариков. Старые, ссохшиеся мужчины, поворачивавшие колеса сверкающих машин, даже не пошевелились – они не видят Чистой Земли, даже когда солнце поднимается над гаванью и дарит каждому обитателю Праведного Города по прекрасному золотому осколку. Он – сон; и я – сон; все мы сны, ослепленные неоновыми вывесками.
Габриэль засмеялся – это был густой, жирный звук, как будто он прополоскал горло. Зал взорвался крупными выигрышами. Богини, дающие и берущие назад по своему усмотрению, исчезли в его огромном, ненасытимом брюхе – больше они уже ничего не возьмут назад.
– Пожалуйста, – тихо сказала Рафу. Старики закричали от радости и, отталкивая друг друга, бросились к изумленному владельцу. Голос Рафу был едва слышен среди их криков, но Габриэль повернулся к ней – голодный, с алыми губами, измазанными тайной кровью. – Ты помнишь, – сказала Рафу, скользя по направлению к нему, – как Мило в возрасте шести лет сломала палец на ноге? Она пыталась догнать друзей, убегающих от нее в лесу позади ее дома. Он навсегда остался кривым, и в плохую погоду ты растирал его, чтобы он не болел. Ты помнишь, как сладко изгибалась ее талия? Ты помнишь вкус ее губ? Даже в дни болезни она пахла, как ребенок, – чистотой, невинностью, постоянством. Ты это помнишь?
– Нет, – проворчал Габриэль-греза.
– Ты помнишь, что у нее на пальцах левой руки были мозоли, хотя она давным-давно бросила играть на гитаре? Ты помнишь, как выглядели ее волосы, когда они спутывались и когда они были только что расчесаны? Ты помнишь, как скатывался ее живот к тайной ложбинке внизу, как выглядело ее родимое пятно? Ты помнишь форму ее ушей?
– Нет, – проворчал Габриэль-греза. – Я хочу тебя съесть. Тогда я все это вспомню.
– Зачем ты это делаешь?
Габриэль пожал плечами.
– А что еще делать во время визита в чужую страну? – Он повернулся, собираясь сожрать хромую, горбатую старуху с палкой. Ее тощие ладони были полны серебряных шариков патинко. Она выигрывала, конечно, она выигрывала. Его невидимые зубы разлетелись, коснувшись ее старой высохшей кожи. Не замечая ничего вокруг, она задумчиво улыбнулась.
– В каждом сне есть место, которое нельзя съесть, – сказал я, обращаясь к Рафу. Я чувствовал себя таким уставшим. Это первое, что узнает маленький баку. – Тебе не поздоровится, если ты вцепишься в него. Конечно, во сне это самая вкусная вещь, и нам приходится учиться обуздывать желание его поглодать. Во сне о Чистой Земле – сне, который днями и ночами снится Йокосуке, – в зале патинко сидит старуха, наша алмазная сердцевина – она неуязвима, потому что не знает, что она самая сладкая вещь в мире.
Сон о Габриэле разрушался, проливая на пол серебристую грезную жидкость, содрогаясь, извиваясь, умоляя о спасении. Мне было все равно.
Но Рафу протянула ему руки, – ах, я должен был это предвидеть – мы всегда рабы своей природы, даже в Раю Чистой Земли – особенно здесь, – и если я умею только есть, она умеет только прятать, скрывать существ от стыда. Ее руки раскрылись, прямоугольная створка за прямоугольной створкой, и она полностью загородила его, встала вокруг него, так что он не мог пошевелиться, заключила его в себя – золотая стена Рафу.
Габриэль-греза всхлипывал в ее объятиях. Поглощенные им вещи начали рваться на свободу: шляпы, пояса, плиты для варки риса, керосиновые лампы, уличные фонари, дорогие итальянские туфли, Торговцы Совершенной Уравновешенностью, аквариумы, Проститутки Чистого Разума, Мотоциклы Благочестивого Суждения. Семь Богинь Идеального Шанса. Он ослаб, потерял форму, а они вырвались из него – и прорвали тело Рафу, которое было не более чем шелком. Тонким-тонким шелком. Ее кожа повисла клочками, изорванная, и шелковые нити трепетали в струе иссякающей серебристой субстанции.
Затем я проснулся
Это был просто сон. Иногда так говорят в конце сказок, в той земле, где родилась Мило. «А затем я проснулся – это был просто сон». Но здесь сказки не могут закончиться таким образом. Я не могу проснуться. Я не сплю.
Мило не может проснуться. Если бы она могла, то увидела бы свою комнату: низкий столик красного дерева, два окна, телевизор, шоколад, персик, рисовый шарик с лососем, ширма, принадлежавшая ее подруге Тиэко, разбитая, как будто в нее ударил артиллерийский снаряд, грудой лежащая на татами. Если бы она могла проснуться, то купила бы себе новую – они могут купить все что угодно новое, эти люди. Из всех нас только ты можешь проснуться, только тебе может стать легче. Ты можешь убедить себя, что мы на самом деле никогда не существовали, что Йокосука – всего лишь старый, серый военный город, что складные ширмы не умеют говорить и что их голос вовсе не похож на наматываемую на палец шелковую нить. Все это я оставлю нетронутым.
А теперь мне надо идти. Меня ждет моя кара.
***
И все же поедание снов – это жизненно важная для Рая Чистой Земли процедура ликвидации отходов. Я исполнил свой долг. Я проглотил остатки грезной рвотной массы, извергнувшейся из меня, а также остатки Мило, влажные от морской воды. Я все вычистил, понимаешь? Все стало абсолютно как раньше.
На пригородном поезде, отходящем в 6:17, Яцухаси рассказала мне анекдот о гейше, отказывавшейся носить парик. Анекдот был бессвязный и несмешной. Яцухаси-сан – идиотка. Квартира на Синей улице пуста, потому что она ушла. Естественно, там ее никогда и не было – я так и не привел ее на свой порог, не приготовил ей чай с той почтительностью, на которую я способен. Так и не показал ей медуз. Когда-то наши дома были соединены светящимся жгутом – ее дом, высокий и золотистый от татами, вниз по холму от станции Андзинсука, и мой, светлый, опрятный – сны такими не могут быть, – вычищенный до блеска мягким усердным рылом.
Рафу больше никогда не вернется; эта пустота – неизменна.
Рай Чистой Земли останется. Он огромен, он больше всех нас, он ничего не замечает. Раскинувшись, он лежит у самого моря, этот остров света. Я бреду по Синей улице, среди носимых ветром сухих листьев, и Чистая Земля обращается к тебе, будто желая сказать что-то, что-то важное, что-то очень глубокое.
***
А затем ты просыпаешься. В конце концов, это всего лишь сон.
Послесловие
Я была женой морского офицера и два года жила в Японии. Это были самые странные и одинокие годы в моей жизни. Для уроженца запада Япония действительно магическая страна – все непонятно, необъяснимо, сюрреалистично. Йокосука – унылый военный город, в котором мало радости и мало что происходит. Ему нечем поделиться со своими жителями и особенно с приезжими. Чтобы подготовиться к жизни в этой стране – такой уж я человек, – я прочла много японских сказок и мифов. Не уверена, что мне это помогло. Но в одной книге я наткнулась на цукумогами – легендарных существ, рождающихся, когда неодушевленному предмету исполняется сто лет. Существует много разновидностей цукумогами: стремена, чайники, мечи, обувь, складные ширмы. Складная ширма всегда казалась мне таким деликатным предметом, меня заворожила мысль о том, что она может ожить, – и тогда я представляла, что йотай могла видеть за свою долгую жизнь, но неизменно возвращалась к мыслям об одинокой жене морского офицера, утопающей в одиночестве и плавно скользящей к самоубийству. И мне показалось правильным, что ее могли спасти от ее призраков только местные японские демоны.
Кэтрин Валенти родилась в 1979 году на тихоокеанском северо-западе США. Она является автором более чем дюжины книг прозы и поэзии, включая роман «Палимпсест» («Palimpsest»), серию «Сиротские сказки» («Orphan’s Tales») и уникальный сетевой проект «Девочка, отправившаяся в плавание вокруг Волшебной страны на корабле собственного изготовления» («The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making»). Она является лауреатом премии Типтри, Мифопоэтической премии, премии Рислинга и премии «Миллион писателей». Она становилась финалистом Всемирной премии фэнтези в 2007 и 2009 годах. Что касается данного рассказа, он прошел в финал премии имени Андрэ Нортон и премий «Лямбда» и «Хьюго», которые вручались в 2010 году. Она живет на острове рядом с берегом Мэна со своим любимым человеком, двумя собаками и огромным котом.
Каролин Тарджен Плачущая женщина
Карен приехала одна в этот город, полный влюбленных. Ничего не планировала. Увидела объявление в воскресной газете и подумала: «Вот это мне сейчас нужно». Мексика сулила птичьи клетки, попугаев, ползучие цветы, обвивающие крыши и заборы, коктейли с текилой и песок, расписные плитки под ногами и высокие церкви. Ей нужно было что-то, что бы напомнило ей: на свете существует еще кое-что, а не только ее горе.
Она сразу же, в первый день, купила три шкатулки с крестами и изображениями Марии на крышках, пару длинных серебряных серег с вырезанными на них майяскими богами и набор фигурок для празднования Дня мертвых – танцующие, одетые в платья скелеты и стеклянные формы, наполненные высушенными бутонами роз. Она собиралась украсить этим свою квартиру в Нью-Йорке. Она надела летнее платье и сандалии – и это в середине декабря – и подарила себе обед в ресторане, который администратор гостиницы, Марко, назвал лучшим в городе. Она ела рыбу с выложенными по краю тарелки ломтиками авокадо, стараясь не обращать внимания на воркующих вокруг влюбленных. Ей даже удалось не смутиться, когда официант с сочувствием посмотрел на нее и принес бесплатных сладостей. Она знала, что этом городе, где по улицам ходят, обнявшись, так много парочек, она представляет собой необычное зрелище: одинокая тридцатипятилетняя женщина в ярко-красном платье, обнажающем плечи, темно-каштановые волосы собраны на затылке и зашпилены, ногти цвета клубники. Ей хотелось чувствовать себя живой и красивой. Она ела не спеша и не спеша потягивала коктейль. В это время она думала о том, как ей жить дальше, и получится ли у нее жить дальше после всего, что случилось, и будет ли она когда-нибудь снова счастлива.
Но сны не давали ей ничего забыть, и в ту первую ночь она проснулась, захлебываясь водой из сна, заполняющей легкие. Белые простыни сбились в жгуты и тоже пытались ее задушить.
Она села на постели, судорожно глотая воздух, и прошло несколько долгих секунд, прежде чем она поняла, где находится. Комната медленно проявлялась в темноте, словно симпатические чернила на бумаге: пол из керамической плитки, блестящий в лунном свете, силуэты бугенвиллии и гардении за открытым окном, шум прибоя.
Карен медленно выбралась из постели и подошла к окну. По чистому, бархатно-черному небу были рассыпаны мелкие звезды. В лицо тепло дул ароматный ветер. Она посмотрела на воду, черную, словно нефть. Там Карен увидела женщину в длинном белом платье, которая медленно шла по песчаной полоске вдоль воды. Некоторое время она стояла перед окном, смотрела на эту женщину, и слезы текли у нее по щекам. И после этого ей почему-то стало легче.
***
На второй день она поехала на экскурсию к каким-то древним майяским руинам, расположенным неподалеку от города. Она записалась на эту экскурсию, услышав за завтраком, как о ней говорил официант молодой паре из Японии. Почему бы и нет? Она сейчас куда угодно отправилась бы. Она сидела в рахитичном автобусе с толстым любовным романом на коленях и думала о том, что скоро она познакомится с древней культурой, которая не имеет ни малейшего отношения к ее собственной жизни. Разве это не чудесно, разве это не приключение? Перед ней сидела японская парочка. Темная рука мужчины гладила светлые, выбеленные волосы женщины. Его толстые короткие пальцы играли яркими прядями. Они болтали на своем языке, легком, приятном на слух. Автобус натужно ревел, а гид время от времени вставал, призывал к вниманию и сообщал группе какие-либо сведения.
Она старалась не думать об их с Тимом последней поездке – из Флоренции в Сан-Джиминьяно, тоже на автобусе. Они решили посмотреть на средневековые итальянские города. Это была попытка снова сблизиться, спаси себя, спасти то, что осталось от их отношений. Естественно, к тому времени было уже слишком поздно. Куда бы Карен ни шла, она была окутана туманом горя – и Тим тоже, – и никакие великолепные ландшафты, виноградники, холмы, древние мощеные дорожки не могли вырвать ее из этого тумана.
Карен держалась на краю группы туристов и слушала только вполуха, предпочитая греться на солнышке и воображать, что она попала в другое время и другую вселенную. Она купила на одном из лотков, которых много стояло вокруг развалин, пластиковый стаканчик с напитком orchata и горячий churro, завернутый в вощеную бумагу. Она медленно потягивала орчату – пить ее было нелегко, потому что она была густой, как рисовый пудинг, – и разглядывала древние камни, траву и грязь, из которых поднимались изъеденные веками здания. Как же они тут жили столько лет назад? Была ли их жизнь похожа на нашу? Она понемногу откусывала чурро – горячее сладкое тесто таяло на языке – и думала: если бы она жила в то время, возможно ли, чтобы она иначе отнеслась к своему горю, к своей потере? Она представляла все те жизни, которые могла прожить, женщин, которыми могла быть. Скольким из них пришлось пройти через то, через что прошла она? Это ведь такая же фундаментальная часть жизни, как эти камни и эта трава. Солнце так приятно грело лицо и руки.
Вечером они вернулись в гостиницу. Примерно в это же время заканчивались и другие экскурсии, и Карен, почти не осознавая этого, стала искать глазами женщину в белом, которую видела ночью. Но ее не было среди смеющихся пар.
Она устала после поездки, и ее слегка разморило от мексиканского солнца. Перед тем как отправиться на экскурсию, она записалась на сеанс массажа в СПА-салоне, и теперь надо было идти туда. Она решила, что сегодня будет отдыхать по полной программе: экскурсия, массаж, затем долгий ужин: carnitas, mole, tamales, еще немного этого удивительного мягкого авокадо, вкуснейший salsa verde, бутылка вина.
Массажист оказался молодым и красивым – симпатичный мексиканец с белыми-белыми зубами. Ей было неловко, когда она снимала платье, и она непроизвольно напряглась, почувствовав на плечах его ладони. Это был для нее самый близкий контакт с другим человеком за последний год. Его пальцы разминали ей спину, втирая в кожу теплое масло. И в конце концов откуда-то изнутри все же поднялась волна расслабления.
Она уже забыла, что это такое – удовольствие от прикосновения.
***
А ночью ее разбудил тот же сон. Ее легкие наполнялись водой, она изо всех сил старалась, но не могла вдохнуть воздух, а до поверхности была целая миля.
Она села на постели, и горе обрушилось на нее, словно кулак. Словно булыжник, оно ударило ей прямо в грудь. А ведь все до сих пор могло бы быть хорошо: его умненькое лицо, обращенное к ней, маленькие ручки, длинные ресницы, по которым она любила провести кончиком пальца. Туда-сюда, туда-сюда.
Что она здесь делает? Зачем бродит по развалинам, о которых ничего не знает? Зачем ест авокадо? Зачем красивые молодые мексиканцы делают ей массаж? Как она вообще что-то может делать, когда ее сын мертв?
Она встала и доковыляла до окна. Горе обдавало ее, как ледяной прибой, и она знала, что ничего тут нельзя сделать, кроме как сжать зубы и терпеть.
Через некоторое время она заметила возле воды движение, белый всплеск. Это снова была женщина, как и предыдущей ночью, в том же белом платье. Ее прямые черные волосы струились вниз по спине.
Как только Карен увидела ее, на нее снизошел странный покой – как и вчерашней ночью. Может быть, это из-за того, что эта женщина тоже страдала, она тоже потеряла кого-то. Карен чувствовала это, и это чувство соединяло их так же надежно и ощутимо, как телефонный провод.
Она прищурилась, пытаясь ее получше рассмотреть. Что-то подсказывало ей, что женщина в белом тоже приехала сюда одна, хотя, если подумать, шансы на это были невелики. Наверное, она просто туристка, страдающая от бессонницы. В любую минуту она вернется в гостиницу и присоединится в постели к своему возлюбленному.
***
Завтрак подавали на веранде, построенной на самом берегу. На длинных столах – горы свежих фруктов – бананы, манго, папайя, – свежий сок, huevos a la mexana, chilaquiles, cornettos con dulce de leche, café con leche и luciado de batata.
Карен сидела одна и искала глазами женщину в белом. На веранде яблоку было негде упасть. Красивая мексиканская пара средних лет. Женщина была в кофточке с открытыми плечами и длинном шарфе, в ней чувствовался настоящий стиль, как в Софи Лорен. Карен всегда хотела производить на людей подобное впечатление. Японская пара, которую она видела на экскурсии. Они сидели у окна напротив другой пары, наверное, из США. Рыжеволосая женщина с мужчиной гораздо старше нее, явно состоятельным и определенно не ее отцом. Очень светловолосая, очень немецкая супружеская пара с ребенком.
Затем на веранду вышла молодая женщина с длинными черными волосами, в белой тунике и свободных хлопковых штанах.
Карен тут же встала и подошла к ней.
– Простите, – обратилась она к девушке, – вы гуляли по пляжу вчера ночью?
Девушка отступила назад в опасливом удивлении. «Как странно», – подумала Карен. Девушка энергично покачала головой.
– О нет, сеньора, – сказала она. – Нет.
– Но ведь я…
Она не успела договорить – девушка прошептала по-испански: «Извините» – и быстро скрылась в гостинице.
Карен смущенно поглядела ей вслед. Она заметила, что мексиканская пара смотрит на нее. Она встретила их взгляд, и они оба одновременно отвели глаза.
Она стряхнула с себя чувство, что все как-то странно, и вернулась к завтраку. «Я слишком привыкла к тому, как люди ведут себя в Нью-Йорке», – подумала она. Здесь не Нью-Йорк и, возможно, она, сама того не зная, нарушила правила приличия.
День Карен провела на пляже, читая любовный роман. Весь день она не вылезала из мира королей, королев, политических и любовных интриг. Вокруг нее люди смеялись и мазали друг друга кремом для загара, парочки, взявшись за руки, бежали к воде, женщины расхаживали с голой грудью, в одних трусиках от бикини. В конце концов все эти проявления чувств и демонстрация обнаженных тел начали ее угнетать. Она почувствовала себя очень одинокой и подумала, не сходить ли на еще один массаж, но решила, что в этом есть что-то унизительное. Жалкое. «Что мне действительно надо, – подумала она, – так это провести с кем-нибудь ночь».
Она рассмеялась вслух. Такое даже вообразить было невозможно.
***
Вечером Карен вернулась к себе в номер. Она была решительно настроена этой ночью поговорить с женщиной в белом или, по крайней мере, рассмотреть ее получше. Прочитав несколько страниц, она привстала на постели и поглядела в окно, но увидела только луну, небо, черную воду и качающиеся силуэты бугенвиллии и гардении. Наконец, чуть позже полуночи, женщина появилась. Опять в белом платье, она медленно прогуливалась по пустынному пляжу.
Карен вскочила с постели и бросилась бежать по коридору, открыла дверь и выбежала на веранду, спустилась с нее. Впереди тянулся песчаный пляж. Воздух был неожиданно прохладным, и ей стало немного холодно. Ночь была великолепной. Она немного задержалась, просто чтобы получше впитать ее в себя: угольно-черное небо с рассыпанными по нему звездами, луна такая пузатая, что кажется – сейчас лопнет, темная вода с серебряными бликами – ловит луну и зашвыривает ее обратно в небо.
На секунду Карен ощутила чистую радость.
Затем она поспешила к пляжу. Она подошла прямо к воде – та, набегая, омыла ее босые ступни – и посмотрела по сторонам. Никого. Пляж был пуст. Не видно было даже следов на влажном песке.
Некоторое время она оставалась на берегу. Бродила в ночном прибое, проводила пальцами по воде, воображая существ, обитающих под ее черной поверхностью.
Но женщина так и не пришла.
***
На следующее утро, в тот момент, когда Карен выходила из душа, в дверь номера постучали. Она завернулась в мохнатый гостиничный халат, чуточку приоткрыла дверь и выглянула. В коридоре стояла горничная Айрин.
– Ах, я уйду через несколько минут, – улыбаясь, сказала Карен. – Спасибо.
– Да, сеньора, – сказала Айрин. – Но… Мне нужно кое-что вам сказать.
– Да?
– Простите меня, сеньора. Но вам нужно быть более осторожной. Нельзя гулять одной по ночам.
– Что вы имеете в виду? – Карен сама заметила, что она сказала это чересчур резко, и ей стало стыдно. – Зайдите, пожалуйста.
Айрин вошла в номер. Ей явно было неловко. Она стояла посреди комнаты в своей крахмальной розовой форме и смотрела на Карен. «Она на полголовы ниже меня», – подумала Карен.
– Я просто… я… мой муж видел вас ночью у воды. Это нехорошо. Он велел мне, чтобы я вам сказала. По ночам никто из нас к воде не подходит. Поверьте, ночью вам лучше оставаться здесь, в гостинице.
Карен рассмеялась:
– Но, Айрин, ночью на пляже так красиво. Днем там слишком много людей, а ночью это как будто другой мир. – А про себя подумала: «Черт побери, я же из Нью-Йорка. Что может со мной случиться в этом маленьком, опрятном мексиканском курортном городке?»
– Нет, – сказала Айрин. – Все равно это нехорошо. Поверьте мне, сеньора. Тут всякое случалось. Я говорю вам это от души.
Карен не придумала, что ответить, и просто кивнула. Может, на пляже кого-нибудь убили. Может, ей не стоит так хорохориться. Ей было ясно видно, что эта женщина хочет ей добра.
– Спасибо, – с улыбкой сказала она. – Я вам очень благодарна за совет.
– Пожалуйста.
Айрин улыбнулась в ответ – по ее лицу побежали мелкие, ничуть ее не портящие морщинки. Маленькая, сильная мексиканка развернулась и вышла из комнаты.
«Все здесь как-то странно», – подумала она, натягивая майку и легинсы. Сегодня она решила сходить на пилатес, занятия по которому проводились в том же СПА-салоне. Это ей будет полезно. Она забросила физические упражнения давным-давно, еще до рождения Итана. И так и не избавилась от лишнего веса, который набрала во время беременности.
По дороге в СПА-салон она заметила, что некоторые искоса поглядывают на нее: похожая на Софи Лорен мексиканка, темноволосая девушка, с которой она вчера разговаривала, и еще кое-кто. В этой гостинице она была, наверное, единственной женщиной без спутника и уже привыкла к таким взглядам, но теперь в них появилось что-то пугающее, чего она не замечала раньше. Какая-то настороженность и, может быть, даже страх.
Неужели страх?
Карен покачала головой. Похоже, она превращается в параноика.
Упражнения были очень трудными, и она едва дотерпела до конца занятия. Зато потом она почувствовала легкость и даже гордость за себя. Наверняка она сможет сбросить несколько фунтов, когда вернется в Нью-Йорк. Да что там, она обязательно сбросит их. И может быть, пройдет еще некоторое время, и она снова будет ходить на свидания. Когда будет готова.
Впервые за долгое-долгое время Карен допустила мысль, что когда-нибудь все же наступит время, когда она будет готова.
Днем она надела шляпу с широченными полями и просто побродила по округе. Она шла мимо магазинов, мимо старых зданий, мимо церквей, сворачивала в переулки. Ей понравились маленькие, утопающие в зелени дома, где в палисадниках стояли разноцветные, украшенные цветами и гирляндами ковчежцы с иконами и статуэтками Девы Марии и разных святых. Проходя мимо стайки детей, она невольно улыбнулась и замедлила шаг. Она представила Итана, играющего с ними, бросающего мяч вон той девчонке с косичками. Она разрешила себе увидеть, каким он был бы в пять, в шесть, в десять лет. Наверное, его ресницы остались бы такими же по-девичьи длинными. Ее мать говорила: «У него глаза, как у маленькой Элизабет Тейлор».
Эти мысли странным образом успокаивали ее, как будто Итан был где-то рядом, как будто он и в самом деле играл где-то здесь, на пыльной улице. А что, если бы она осталась здесь, в этом городе, в этой части Мексики, вдруг подумала она. Просто бросила бы прошлую жизнь и осталась здесь. Разве это невозможно? Иногда ведь люди сбегают от своей жизни и начинают новую, разве нет? В Нью-Йорке она заработала достаточно – несколько миллионов. У нее большая квартира на верхнем этаже небоскреба в Трайбеке. Что, если она продаст квартиру, обналичит пенсионные накопления, снимет все деньги с банковского счета? Ей никогда не придется больше работать.
На обратном пути она прошла по рынку, где торговали крестьяне из окрестностей: целые горы фруктов и овощей, расположенные несколько на отшибе мясные ряды, картинки на древесной коре, серебряные украшения и толстые, ярких расцветок юбки. Она купила тако с рыбой и ела его на ходу, запивая ледяным мексиканским пивом. В бутылке плавал ломтик лайма.
Может, ей и стоит остаться здесь. Начать все сначала.
Она бродила по городу до самого вечера.
***
В ту ночь Карен снова ждала появления женщины в белом. Незадолго до полуночи она набросила на плечи шаль, надела на ноги теннисные туфли и вышла из гостиницы. Она прошла по веранде, глядя на блестящую в лунном свете воду, вдыхая запах соли, моря, растительности. Муж Айрин, наверное, наблюдал за ней из какого-нибудь окна – возможно, он работал на кухне или ухаживал за цветами и деревьями, растущими перед гостиницей, – но ее это не очень волновало.
Карен сделала первый осторожный шаг по песку. Прислушалась к шуму воды. Ей уже пора бы привыкнуть к этому звуку, не смолкавшему ни днем ни ночью дыханию моря. Она подобрала ракушку, провела пальцем по ее неровной, но в то же время гладкой поверхности. Сняла туфли и пошла босиком.
Она почти забыла о женщине, которую искала, как вдруг услышала чей-то плач. Она повернула голову на звук и краем глаза заметила вспышку белого цвета.
Женщина в белом стояла очень близко, не более чем в нескольких ярдах от Карен, и смотрела на море. И как она могла ее не заметить? И тем не менее она была здесь, во плоти, и не обращала ровно никакого внимания на Карен.
Она была моложе, чем думала Карен. Кожа у нее была смуглая и гладкая, волосы густые, черные, блестящие в свете луны. Идеальный изгиб щеки, едва видимый, мокрый от слез.
Карен стояла неподвижно и едва смела дышать. Женщина нагнулась и провела пальцами по поверхности воды.
Горе женщины, казалось, можно было пощупать. Оно достигало Карен так же, как достигал ее ветер, плеск волн, запах цветов и воды. Оно омывало ее, и удивительно, но от этого ей становилось легче. Как будто оно добралось до тайного места в глубине ее души и успокоило обитавшую там печаль.
На мгновение все вернулось. Всесокрушающая тоска, химически чистая боль от потери ее мальчика.
И каким-то образом, сейчас и здесь, это не казалось невыносимым.
Она села на песок, взялась руками за голову и разрешила себе потосковать о нем. И это не было нечеловечески больно. Она с какой-то странной убежденностью подумала: «Он здесь». Итан. Он был здесь, рядом с ней. Его боль прошла. Рана, терзавшая его тельце, прошла. Теперь на него снизошел покой. Он был так близко.
Она плакала на песке, и страдание сочилось из нее, постепенно разбавляясь слезами. Когда она наконец подняла глаза, женщины уже не было.
Небо над головой было глубокого сине-черного цвета, как будто его нарисовали красками.
Карен готова была бить себя по щекам за то, что ничего не сказала этой женщине, не попыталась успокоить ее. Потому что эта женщина, сама того не зная, успокоила ее.
***
Утром Карен позвонила администратору и попросила принести свежих полотенец. Через несколько минут Айрин их принесла.
– Вы не хотите, чтобы я сейчас убрала комнату, сеньора? – спросила она после того, как положила полотенца на незаправленную кровать.
– Может быть, чуть попозже, – сказал Карен. – Я скоро уйду. Но сначала я хотела бы спросить вас кое о ком.
Айрин улыбнулась:
– В самом деле? И кто он?
Карен засмеялась:
– Не «он», Айрин. «Она».
– «Она»? – Айрин вскинула брови.
– Нет-нет. Не в этом смысле. Мне просто любопытно. Я видела эту женщину на пляже, ночью. Всегда одна, гуляет вдоль воды.
Лицо Айрин посерьезнело.
– Вы ведь не ходили туда снова, сеньора? Ночью? Нельзя ходить ночью к морю.
– Нет-нет-нет, я видела ее из окна. Вы знаете ее?
Айрин попятилась к двери:
– А как она выглядит?
– Женщина с длинными черными волосами, в белом платье. Очень красивая. Всегда одна.
Карен не могла понять, почему Айрин на нее так смотрит. Как будто у нее вдруг выросли плавники и акульи зубы.
– Айрин, – сказала Карен. – Это ведь просто женщина! Она не станет меня грабить или насиловать. Она кажется очень печальной. Она все время плачет.
– Эта женщина… – сказала Айрин, не глядя на нее, – это Ла Йорона. Плакальщица. Видеть ее… это нехорошо.
– Айрин, я тебя не понимаю.
– Ла Йорона, она… она мертвая, сеньора.
Карен смотрела на горничную и видела, что та говорит серьезно. Она верит в это. Тут и правда другой мир. И вопреки всем ее убеждениям, у нее прошел холодок по спине. Какая-то древняя ее частица верила в такие вещи.
– Это какая-то чепуха, – сказала она. Удивительно, но ее голос дрогнул. Она добавила более твердо: – Женщина, которую я видела, была такая же живая, как мы с вами.
– Сеньора, послушайте меня. То, что я вам сказала, – правда. Вы мне не верите, но все равно послушайте меня и сделайте, как я скажу. Это для вас очень опасно. Не выходите из гостиницы после захода солнца.
– Айрин, вы говорите, что женщина, которую я видела, – призрак? И вы рассчитываете, что я в это поверю?
Но ведь женщина появилась на пляже как будто из воздуха – вот ее нет, и вот она есть. Разве не так? Карен отмахнулась от этой мысли. С каких это пор она начала слушать суеверных старух?
Айрин взяла ее за руку и посмотрела ей прямо в глаза.
– Да, сеньора. Женщина, которую вы видели, – это Ла Йорона. Она плохая. Она убила собственных детей. Муж бросил ее ради другой женщины, и она убила их, чтобы его наказать. Теперь она ищет их. Вы говорите, она плачет. Она плачет, потому что не может их найти.
Карен почувствовала, что ее бьет дрожь, как если бы в комнате внезапно похолодало.
Айрин продолжала:
– Говорят, она является тем людям, которые скоро умрут. Поэтому вы и должны ночью держаться подальше от воды. Она всегда на берегу, ищет своих детей.
Карен высвободила ладонь из руки Айрин и села на кровать. Она едва могла дышать. «Ищет своих детей. Она убила собственных детей».
Она попыталась успокоиться, хотя это было ужасно трудно.
– Спасибо, Айрин, – сказала она. – Я буду осторожна.
– Хорошо, сеньора. – Айрин кивнула. – Хорошо. Я вас оставлю сейчас. Я скоро вернусь.
– Спасибо, – повторила она. Горничная вышла из номера. Все здесь было так странно. Женщина в белом появилась из ниоткуда и потом так же загадочно исчезла. Загадочно ли? Карен не могла вспомнить. Она здесь такая рассеянная – заблудилась среди месмерической красоты моря и неба, среди других туристов, местных жителей, собственных воспоминаний. И Итан – Итан! – кажется, он тут так близко.
Боже мой, как она его любила! С того самого мгновения, когда взяла его на руки, – его хрупкое маленькое тельце, она любила его с силой, которой и сама до этого в себе не подозревала. В тот момент она поняла все избитые фразы о материнстве. Она бы умерла ради него, и не один раз, а тысячу. Она бы сделала ради него все на свете.
И ведь она делала все, разве нет? Делала все, чтобы спасти его. Выполняла все, что предписывали врачи, до самого конца. Никто бы не сделал больше.
А он все больше слабел, все больше поддавался боли, которая, казалось, не ограничивалась его маленьким телом и заполняла собой весь мир.
Ее ребенок кричал от боли – днем и ночью.
***
Ближе к вечеру у Карен разболелся живот. Она не пошла на ужин и легла в постель. Ее тут же затянуло в сон – тот же закольцованный сон, который снился ей каждую ночь, с тех пор как она приехала сюда: она тонет, вода заполняет ее легкие, и ее ребенок тоже там, ближе к поверхности, но она не может добраться до него, сопротивляется, но ее тащит в глубину, а он плачет, плачет…
Карен проснулась от плача. Она не знала, сколько она проспала и который сейчас час. Голову заполнял только что прожитый сон. Темнота, вода. Ее сын.
Она открыла глаза и увидела силуэты бугенвиллии и гардении, выделяющиеся на фоне забрызганного звездами неба. Красиво. Она вдохнула ароматный воздух, почувствовала теплый ветер у себя на щеке.
И вдруг – лицо, прямо за окном, смотрит на нее. Женское лицо, обрамленное густыми черными волосами.
Она вскрикнула и села на постели.
Но там никого не было. Только бугенвиллия и гардения.
Она услышала тихий детский плач.
– Итан?
Какое-то движение в углу комнаты, затем ничего.
– Итан!
Она мгновенно спрыгнула с кровати. Ее малыш! Он здесь! Она знала, она чувствовала, что приехала сюда не просто так. Что-то заставило ее купить ту воскресную газету – когда она в последний раз покупала воскресную газету? – открыть ее на нужной странице, увидеть рекламу и тут же решить провести отпуск в этом мексиканском городке. В последние месяцы жизни Итана она каждую свободную секунду посвящала ему, таскала его от доктора к доктору, пробовала все возможные курсы лечения, даже однажды отвезла его к в какую-то глушь к «целителю», который натер его разными маслами и заявил, что вытащит из него болезнь голыми руками. И еще была та печальная поездка по Италии – как будто все между ней и Тимом не умерло в тот момент, когда чертов врач сказал: «Рак». А год спустя, здесь, сейчас, она увидела объявление, обещающее «романтику», «яркие впечатления» и «приключения», и, не размышляя ни секунды, позвонила в туристическое агентство, а на следующий день написала заявление об отпуске – естественно, они должны были его дать, даже несмотря на то, что это был самый загруженный месяц в году и без нее всем остальным придется туго, потому что у нее умер ребенок от чертова рака. И она набила чемодан летними платьями, купленными еще до рождения Итана – она даже не удосужилась проверить, будут ли они ей впору, – и поехала в аэропорт имени Кеннеди.
Теперь она знала, к чему это все.
Она опять услышала плач, и на этот раз он доносился снаружи.
Она кое-как напялила одежду, выбежала в коридор, на веранду, спустилась к воде и песку.
– Итан!
Она знала, что он здесь. Но где?
– Карен.
Голос был негромким, добрым. Она обернулась. Перед ней стояла женщина в белом. По лицу женщины текли слезы, но она улыбалась. Красивая. Карен никогда в жизни не видела женщину красивее и печальнее. Ее опять, как и в прошлый раз, охватило чувство покоя.
– Карен, все хорошо, – сказала женщина. – Он здесь.
– Итан?
– Да. Да. – Ла Йорона улыбнулась. – Он здесь. Иди за мной. – Сказав это, она вошла в воду. Она была похожа на изображения Девы Марии в ковчежцах перед домами мексиканцев и на шкатулках, которые Карен купила на рынке, – чистая, она так и лучилась добротой.
– Исполнена благодати, словно Матерь Божья, – прошептала Карен. Перед ней расстилалась водная серебряная поверхность, над которой висело огромное, испещренное звездами небо. В воздухе пахло цветами – теми, белыми, которые как будто светились в темноте. Что может быть прекраснее? Великолепная ночь, расцветающий внутри покой. Ее малыш возвратился к ней. Она не могла дождаться, когда снова увидит его.
Ла Йорона заходила все глубже в воду. Она раскинула руки в стороны. Ее платье трепетало от легкого, дующего с берега бриза.
Карен последовала за ней.
– Где он? – спросила она. Она вгляделась в толщу воды, но было слишком темно, и она ничего не увидела. – Он здесь? – Она заходила все дальше в море.
– Ему было так больно, – сказала Ла Йорона.
– Да, – прошептала Карен. – Да. – Она не останавливалась, и вода становилась все холоднее.
– Ты отправила его туда, где ему хорошо, где не существует боли.
– Да, – сказала она, стараясь приблизиться к Ла Йороне, к своему сыну – где же он? – Ему было слишком больно. Я не могла оставить его так. Я должна была прекратить его страдания.
– Я знаю, дитя мое. – Ла Йорона взяла ее за руки, потянула за собой. – Пойдем.
Ла Йорона сказала что-то еще, но слишком тихо. Карен не разобрала слов. А затем Ла Йорона обхватила ее руками, и они вместе начали уходить вниз. Вода наполняла ей легкие, она билась и билась, не в силах вдохнуть, а затем и Ла Йорона исчезла, и под поверхностью воды ничего не было, совсем ничего, она падала вниз, одна, одна с того самого дня, как он умер, и ей вспомнилось то мгновение, когда она впервые взяла его на руки и он посмотрел на нее – глаза как у маленькой Элизабет Тейлор, – а она подумала: «Я готова ради тебя на все, абсолютно на все».
Она увидела его. Он был все ближе и ближе. Он улыбался – счастливый, здоровый.
Ее сын.
***
Таких ярких звезд она не видела никогда в жизни. Небо было как будто в нескольких десятках ярдов. Карен моргнула. Села.
Она снова была на пляже и смотрела на черную воду. Что с ней произошло? Она не могла понять.
Она обернулась и посмотрела в сторону от моря. Обширная веранда, заросшая бугенвиллией, небольшие деревья, цветущие гардении и большое, красивое здание самой гостиницы. В нескольких окнах все еще горел свет. В одном был виден силуэт обнимающейся пары. В другом одинокая женщина глядела в небо. Она проследила за взглядом женщины на яркую, почти полную луну.
Что-то тут было не так.
Она снова посмотрела на воду, на своего сына.
– Что там, Итан? – прошептала она. Она встала и медленно пошла вдоль берега – медленно, чтобы он поспевал за ней.
Налетел ветер. Он растрепал ее черные волосы, взметнул вверх подол ее длинного белого платья. Она глубоко вздохнула. Кое-чего не хватало. Запаха. В воздухе отсутствовал запах. Она не чувствовала сладкого аромата гардении. И она не чувствовала ветра на коже.
– Ш-ш-ш.
Она обернулась. В двух шагах от нее стояла Ла Йорона и смотрела на нее влажными черными глазами.
– Все хорошо, Карен, – сказала Ла Йорона. – Ты больше не одинока.
– Я знаю, – сказала Карен. – Посмотри. – Она показала в сторону воды, туда, где играл и смеялся ее сын. Но он был не один. Теперь там были другие дети. Сотни, а может, тысячи. И все они были счастливы и играли в воде. Их было столько, сколько звезд в небе.
Она в растерянности посмотрела на Ла Йорону и увидела за ее спиной целую армию, бесчисленное количество женщин. Все они плакали и протягивали руки к воде, к своим детям.
Карен охватили страх, паника. Но это длилось всего мгновение.
А затем все прошло, и она все поняла, и все ее существо омыл чистый поток радости.
Она была дома. Слезы чистой радости покатились у нее из глаз. Все было так хорошо. Ее сын смеялся, и она была дома.
Послесловие
Легенда о Ла Йороне – «плачущей женщине» – хорошо известна в Центральной и Южной Америке. Она рассказывает о призрачной женщине, которая бродит по земле, разыскивая своих детей (будучи еще живой, она утопила их, или чтобы наказать своего возлюбленного, или чтобы они не мешали ей встречаться с ним). Существует множество версий этой истории. В некоторых ее видят только те люди, которым суждено вскоре умереть. Мне понравилась идея о том, что в Мексику едет другая женщина, тоже пережившая горе и не имеющая сил с ним справиться. Она видит Ла Йорону, и та помогает ей, исцеляет ее. В конце концов, благодаря ей женщина находит покой.
Каролин Тарджен – автор двух романов: «Деревня дождя» («Rain Village») и «Крестная мать: Тайная история Золушки» («Godmother: The Secret Cinderella Story»). Ее третий роман, «Русалочка» («The Mermaid»), новое прочтение классической сказки о Русалочке, вышел в 2011 году.
Ее веб-сайт: carolynturgeon.com.
Кэрри Лабен Обезьянье лицо
До сегодняшнего дня все говорили, что это просто птица, большой уродливый мексиканский аист. Только я посмотрел в библиотеке, как выглядят эти аисты. Они белые. Так что это чушь. Дьявольская птица – черная.
Моя тетя Мэри, сестра моей матери, увидела ее через два или три дня после того, как о ней появились первые слухи. Она вечером ехала домой от нас – они с мамой весь день подписывали свадебные приглашения, это было как раз перед тем, как мама вышла замуж за Уолтера. Она проезжала поле Стюартов, как вдруг увидела что-то. Она притормозила, подумав, что это какой-нибудь пес-дуралей, который может выскочить на дорогу.
И что-то действительно показалось на дороге – оно не бежало, а летело над землей, очень низко, чуть выше фар. Когда оно пролетало над капотом, то повернуло голову и посмотрело тете прямо в глаза. Именно это она непрестанно повторяла. Она развернула машину, домчалась до нашего дома и колотила в дверь, как сумасшедшая, перепугав маму чуть не до смерти. И все повторяла, что оно посмотрело ей прямо в глаза.
Она не могла усидеть на одном месте, и мама тоже не могла усидеть на одном месте, и поэтому мы все ходили кругами по кухне. Тетя Мэри передвигалась размашистыми солдатскими шагами, а мама медленно переваливалась, как утка. Так делают все беременные женщины, и я до сих пор нервничаю, когда вижу такую походку – мне всегда кажется, что женщина вот-вот упадет и я не успею ее поймать, и мне за это влетит. А я перебегал из угла в угол, стараясь не попасть им под ноги.
– Хорошо бы Уолтер был здесь, – сказала мама, придерживая живот. – А то уехал, а на дорогах такое чудище летает. И так о пьяных, контрабандистах и бог знает о ком еще надо беспокоиться, а тут такое!
– У нее красные глаза, – повторила тетя Мэри, хотя необходимости в этом я не видел: мама и так была напугана. Но мама обняла ее. – И лицо, как у обезьяны. И хвост острый, как коса. Ну и кто это может быть, как не сам дьявол?
– Может, это был птеродактиль? – Уолтер незадолго до этого купил мне книжку о динозаврах, и я решил показать свои знания.
– Иди наверх, Джимми, – сказала мама.
– Если это птеродактиль, то они рыбу едят. Нас они не тронут. И мистера Лиона тоже.
– Я сказала, иди наверх.
Но она не уточнила, куда именно наверх, так что я сел в коридоре, где мог их слышать. На тот случай, если произойдет что-нибудь интересное. Но они долго-долго молчали, а затем тетя Мэри сказала:
– Мне надо ехать домой.
Голос у нее звучал так, будто она вот-вот расплачется.
– Ты не можешь ехать в таком состоянии – посмотри на себя, ты до сих пор вся дрожишь.
– Мама с папой, наверное, все извелись. Я уже полчаса как должна быть дома.
– Позвони и скажи, что ты останешься у нас на ночь.
– Они не поверят. Я имею в виду, если я им скажу, что видела. – К этому времени я уже точно знал, что она плачет. Хорошо, что мама отослала меня, потому что я не хотел бы на это смотреть.
– Ну, тогда скажи им, что у нас ушло больше времени на приглашения, чем мы рассчитывали. Мы их еще сегодня поделаем, так что ты даже не соврешь.
– Они и так думают, что я слишком много времени трачу на твою свадьбу.
– Но они ведь не хотят, чтобы ты по дороге свалилась в какую-нибудь канаву.
– Мне надо ехать домой. Ты ведь знаешь, какие они.
К тому времени я был уже уверен, что никаких подробностей о птеродактиле узнать мне не светит, да и на полу сидеть было не очень-то удобно, так что я пошел в свою комнату и занял наблюдательный пост возле окна – на кровати, так как она стояла прямо рядом с ним. Я ждал с фонариком в руке, когда залают Ремингтон и Макс. Тогда я увидел бы птеродактиля. Я думал, что ни за что не засну. Но почему-то проснулся только утром, когда начинались мультики.
Я как раз смотрел, как овчарка загоняет Койота в аккордеон, чтобы он сказал «Спокойной ночи, Ральф» перед очередной рекламой, когда мама пришла из кухни. В одной руке у нее была чашка кофе (она всегда пила «Фолджерс»), в другой – миска кукурузных хлопьев. Она вручила мне миску и плюхнулась на диван, который под ее весом сильно просел. Ложечка в ее чашке зазвенела.
Она сделала глоток кофе, и мы стали смотреть телевизор. Сначала нам показывали страдания Койота, а потом анонс «Человека за шесть миллионов долларов» и рекламу шоколадных шариков «Какао паффс», а потом Баггза Банни, который виртуозно убегал от Йосемита Сэма. Только после того, как Сэма, с его длинными вислыми усами, сменила очередная реклама, мама поставила чашку на пол и приобняла меня.
– Мистер Лион будет сегодня ночевать у нас, – сказала она. – Мы отдадим ему твою постель, так что тебе придется спать на полу в моей комнате.
– Ну ма! – Я знал, что у меня мало шансов увидеть птеродактиля, если буду спать на первом этаже – даже если мама разрешит мне сидеть, чего она, конечно, не разрешит.
– Это как ночевать в палатке, – сказала она.
– Может быть, устроить мне постель на заднем дворе? Я обещаю, что я не буду бояться, не буду вам надоедать и не буду в этот раз разводить костер.
– Нет! – Она, наверно, почувствовала, что я вздрогнул, потому что нежно сжала мне плечо. – Джимми, это опасно. Вчера ночью Стюарты видели, как это чудище пролетело над их коровником, а утром обнаружили, что одна из их коров сдохла.
– Можно мне пойти посмотреть?
– Единственное, на что тебе сейчас можно посмотреть, – это умывальник. – Она снова взяла свою чашку. – Мне нужны чистые банки для консервирования, и ты удостоился чести их все перемыть. Пойти посмотреть на дохлую корову? Да ладно тебе! Как будто ты до этого ни одной не видел. – Она встала с дивана, покачала головой. – Так уж и быть, посмотри еще один мультик, а потом тащи свое мягкое место на кухню.
Даже в те времена у мамы было очень много банок – их ей подарили, когда она выходила замуж за моего отца. Так что хотя это были просто старые стеклянные банки, она бы расстроилась, если бы я разбил хоть одну. Это было бы неуважение к памяти отца, или плохая примета, или и то и другое. Так что все утро я их мыл, ополаскивал и вытирал. На ланч у нас была яичница в корзинке – очень вкусная штука. Я подумал о том, чтобы снова попроситься сходить к Стюартам – только аккуратно, а то как бы она еще чего-нибудь для меня не придумала. Но пока я размышлял, как бы провернуть это дело, зазвонил телефон.
– Джимми, мой мальчик, ответь, пожалуйста. Если это по оплате счетов или что-нибудь подобное, то меня нет, и я не могу подойти к телефону.
Но это была тетя Мэри, и маме пришлось встать из-за стола, не доев яичницы. Я болтался в дверях и ждал подходящего момента для обращения к ней с тщательно сформулированной просьбой.
Мама долго слушала, затем сказала: «Но как?» – а затем: «У папы тоже есть ружье», – а затем: «Послушай, я знаю, что им не нравится, как все идет у нас с Уолтером, но мы же бьемся изо всех сил…» – а затем: «Господи боже!» – и я попятился обратно в кухню, потому что она никогда просто так бога не поминала.
Казалось, она сама себе удивилась, потому что после этого долго молчала, а потом тихо сказала: «Ладно, извини». И я потихоньку свалил к себе в комнату. Бессмысленно было лезть к ней с дохлыми коровами.
Я сидел у себя в комнате, глядел в книжку, пытаясь представить, как это было бы – увидеть птеродактиля, и тут приехал Уолтер. Я увидел его грузовик, подъезжающий к дому, и побежал вниз, чтобы его встретить и рассказать о динозаврах; я хотел показать ему, что его подарок не лежит без дела. Мне Уолтер нравился, и я не понимал, почему дед, бабушка и тетя Мэри его невзлюбили. Ну да, волосы у него были немного длиннее, чем у меня или у деда, но он ездил на грузовике со знаком Геологической службы США, а в моих глазах это было сродни полиции и уж точно искупало длинные волосы.
Я вышел на лестницу. Он разговаривал с мамой тихим, каким-то необычным голосом. Я решил, что прерывать его сейчас – не очень хорошая идея.
– Собирай сумку, Джимми, – сказала мама, услышав, что я спускаюсь по лестнице. – Мы все едем к деду.
Когда я вышел с вещами на улицу, Уолтер уже посадил собак в грузовик, а мама сидела на пассажирском сиденье и смотрела на дом так, словно ожидала, что он рухнет, едва мы от него отъедем.
Мы ехали, солнце пекло как сумасшедшее, а я крутил головой, стараясь смотреть сразу во все стороны на тот случай, если поблизости пролетит птеродактиль. Однако я не видел ничего, кроме травы, коров и иногда деревьев. Уолтер ехал молча, одна его рука лежала на мамином животе. Обычно он болтал и шутил без умолку, и даже в предвкушении увидеть птеродактиля я не мог не заметить, что он сам не свой. Я подумал, неужели Уолтер тоже считает, что эта птица – дьявол. Хотя на него это не было похоже. Он рассказывал мне, что от жаб не могут пойти бородавки, и объяснял, каких змей надо бояться, а каких нет. Я не мог поверить в то, что он испугался динозавра. Отец бы не испугался, и он тоже.
Через полчаса мы доехали до старого, приземистого и широкого дома, где жили дед, бабушка и тетя Мэри. Ремингтон и Макс были страшно рады выбраться из грузовика – видимо, даже еще больше, чем я, потому что я еще не отлепился от винилового сиденья, а они уже бежали к стене дома, туда, где были тень и лужа, которая всегда натекала из дырявого шланга.
Но когда они дотуда добежали, то вместо того, чтобы валяться и кататься в прохладном месте, как они обычно делали, они остановились, понюхали и отбежали обратно к нам. Уолтер попытался опять посадить их в грузовик, но эта идея им тоже не понравилась. Они так разнервничались, что нам пришлось держать их за ошейник.
Дед, который стоял, прислонившись к дверному косяку, кивнул. Его старая гончая Люси, поджав хвост, выглядывала из-за его колена. А обычно она лежала на одном и том же месте возле дорожки.
– Так вы тоже решили приехать?
Уолтер никак не мог справиться с собаками; он не поднял глаз:
– Я рассудил, что раз ситуация настолько серьезна, вам может понадобиться любая помощь. – Он заставил Макса сесть, но Ремингтон все никак не успокаивался.
– Что бы это ни было, им оно не нравится, – сказал дед и сошел по ступенькам крыльца. – А ты, Джимми, мой мальчик? Ты боишься этой Дьявольской птицы?
– Нет, сэр, не боюсь.
Он взял меня за плечо, и я улыбнулся.
– Ты ведь не допустишь, чтобы она добралась до твоей матери, ведь так?
– Да, сэр! – Я хотел объяснить деду, что это птеродактиль, но только когда я в первый раз рассказал ему о динозаврах, он махнул рукой и сказал, что это все чушь собачья.
– Надо бы дать тебе ружье, раз ты единственный мужчина в доме. – Я посмотрел на него – возможность подстрелить птеродактиля не являлась мне даже в мечтах, – но он глядел не на меня, а на маму. – Ну ладно, у бабушки есть кока-кола в холодильнике. Сходи и возьми себе бутылочку.
В доме было темно и немного прохладнее, чем снаружи. Бабушка и тетя Мэри сидели возле радиоприемника. Я взял кока-колу и сел с ними. Диктор весело рассказывал, как Большая птица – он так ее называл – ударилась о трейлер какого-то Альверико Гуаярдо и перепугала его до смерти. Тот сказал, что у нее были красные глаза размером с серебряный доллар, лицо, как у гориллы, но с длинным клювом, и крылья, как у летучей мыши – а вот это было очень похоже на птеродактиля. Я подумал, что надо скорей рассказать об этом Уолтеру. Очевидно, мексиканцы, которые живут дальше на юг, видят эту птицу уже несколько лет – по крайней мере, так они говорят. Тетя Мэри вздрагивала каждый раз, когда диктор смеялся, но ничего не говорила.
Я уже допил свою колу, но Уолтер, мама и дед все не приходили. Диктор принялся говорить о погоде и каких-то других скучных вещах, связанных с принятием нового закона. Я встал и направился к двери, но бабушка поймала меня за руку.
– Ну-ка, помоги бабушке, – сказала она, сунув мне миску с восковой фасолью. – Спасибо, Джимми. Ты хороший мальчик.
Она вышла, а я сидел на кухне, лущил фасоль и думал о том, что хорошо бы куда-нибудь смыться, или выпить еще кока-колы, или еще что-нибудь поделать – все лучше, чем слушать рекламу муки «Голд медал» и глядеть на самоубийственное кружение мух вокруг липучки. Тетя Мэри все молчала. Я посмотрел в ее миску и увидел, что она вылущила только три или четыре стручка.
Я вылущил примерно половину фасоли, когда собаки начали лаять, как безумные. Я вскочил, поставил миску на стол и побежал к двери.
Но там не было никакого красноглазого птеродактиля и даже темной тени, мелькнувшей в небе. Только мама, дед, бабушка и Уолтер. Они стояли возле машин и орали друг на друга. Собаки кружили на одном месте и лаяли. Они явно не знали, чью сторону принять.
– То, что ты пустила коту под хвост собственную жизнь, еще не значит, что у тебя есть право ставить Мэри в такое положение. О ней же люди будут говорить.
– А что они скажут? Что она вспомнила, что кровь гуще воды. Многим здесь стоило бы это вспомнить.
– Например тебе. – Дед не повысил голоса. Он почти рычал. – Потому что это ты хочешь забрать мальчика от нас и от всех родственников его отца. У тебя не больше рассудительности, чем у коровы, если ты не можешь жить там, где ты выросла и где твой дом.
Я никогда не видел Уолтера таким рассерженным. Он шагнул к деду, но мама придержала его.
– Папа, здесь у нас с Джимми нет будущего. Ты это знаешь. Так было еще до всего, что произошло. Счета накапливаются, и…
– И ты думаешь, что твое бегство отменит тот факт, что жизнь тяжела? – сказала бабушка. – Езжай одна, оставь мальчика. По крайней мере он будет расти в окружении достойных людей. – Она сделала шаг к маме, и на секунду мне показалось, что она собирается дать ей пощечину. Так уже было, и не раз, хотя она никогда не делала этого в присутствии Уолтера, и мне бы не хотелось, чтобы это произошло.
Я подумал, что лучше мне вернуться в дом, к фасоли и радио. Я попятился и наступил на ногу тете Мэри. Я не слышал, как она подошла.
– Фасоль рассыпалась по полу, – без выражения сказала она, и все посмотрели на нас.
Я спрыгнул с крыльца и, увернувшись от руки деда, со всех ног побежал к кукурузному полю.
Я бежал по полю долго, исцарапал сорняками руки и ноги. Я обливался потом и был с ног до головы покрыт пыльцой. Затем я понял, что за мной больше никто не гонится. Я бросился на землю между высокими рядами и стал смотреть на небо – его было видно в узкие просветы между темно-зелеными листьями.
Никто мне не говорил о переезде. Еще два дня назад я, может быть, подумал бы, что это будет здорово – целое приключение. Но ведь тетя Мэри и дети Стюартов, скорее всего, еще увидят птеродактиля. Они ничего не знали и не хотели знать о нем, кроме того, что он – зло. А я его никогда не увижу. Это было несправедливо.
Наверное, я заснул, несмотря на то, что был очень расстроен и у меня все чесалось и было жарко, потому что в следующее мгновение солнечный свет был уже косой, вечерний. Где-то неподалеку шуршали листья. Кто-то ходил по полю, всего в нескольких рядах от меня. «Джимми!» – послышался голос деда.
Судя по тону, он еще сердился, поэтому я не пошевелился. Если меня найдут, я всегда могу сказать, что не слышал. Все кукурузные поля заглушают звук, а дедово, похоже, делало это даже сильнее, чем все остальные. Судя по дрожанию верхушек, дед был всего в нескольких рядах, а на слух казалось, что он чуть ли не в миле от меня.
Когда голос и движение кукурузных стеблей удалились к западу, я начал думать, что мне пора домой. Я хотел есть и, наверное, мог бы убить за бутылку кока-колы. А если злой дед бродит здесь, из этого следует, что дома его нет.
Я встал и уверенно направился в сторону, противоположную той, куда ушел дед. Я пробирался прямо поперек рядов. Если я и сшиб бы несколько стеблей, то всегда мог свалить это на оленя, или на енотов, или на Дьявольскую птицу.
Поле тянулось бесконечно. Я и не знал, что забрался так далеко – или я тогда бежал быстрее, чем мне казалось, или теперь шел не в том направлении. Я взял чуть-чуть к югу – дом точно должен был быть в той стороне. Даже среди высокой кукурузы было ясно видно, в какой стороне заходит солнце.
О кока-коле я перестал даже мечтать. Теперь я был бы рад напиться и из поливочного шланга, и даже просто из канавы. У земли, в тени кукурузы, уже начали проявляться первые островки сумерек, застрекотали сверчки, оживились комары. Я без конца шлепал по телу ладонью и махал руками.
Я шел не очень тихо. Наверняка дед меня уже услышал и идет в мою сторону. Наверняка остальные тоже меня ищут. Наверняка собаки меня скоро учуют. Я остановился и прислушался.
Откуда-то издалека снова послышался голос деда. Точно определить направление было невозможно, но я двинулся в ту сторону, откуда, как мне показалось, донесся его крик.
Вдруг я плечами почувствовал накатившуюся волну воздуха. Над головой пронеслась тень. Я посмотрел вверх – и увидел ее.
Все мои идеи о птеродактиле рассыпались в пыль. У нее были перья – пыльные черные перья. Кончики крыльев заканчивались чем-то вроде пальцев, которые шевелились в воздухе. У нее был длинный прямой острый клюв и лицо, похожее на сгнившую в сухом сарае тыкву. И красные глаза, о которых говорила тетя Мэри.
Не глядя на меня, она полетела дальше. Ее длинный хвост заканчивался чем-то вроде ромба. Если бы я увидел только его, то еще некоторое время продолжал бы думать, что это птеродактиль. Скоро птицу скрыли метелки кукурузы, и она исчезла из виду.
Я не помню, как упал, – но упал прямо на задницу, в пыль. Кое-как поднялся на ноги. Все руки были в царапинах. Надо было выбраться из кукурузы. Я хотел к маме. Я побежал.
Где-то – не очень понятно где – к заходящему солнцу взвился придушенный крик. «Койот», – подумал я. А затем: «Нет – дед».
Через несколько секунд я продрался сквозь последний ряд кукурузы и запнулся о край оросительной канавы. Лягушки посыпались в разные стороны, словно камушки. Я вовремя притормозил, а то присоединился бы к ним на дне канавы. Кто-то – не дед, Уолтер – звал меня по имени, и на этот раз я закричал в ответ.
Она ударила меня прямо между лопаток, и это был не только не птеродактиль, это был сам дьявол, как и говорила Мэри. Лапа, схватившая меня за затылок, была горячей, жесткой, подвижной и сильной, как человеческая рука. Она вдавила меня лицом в грязь. Я извивался, как мог, пытаясь вырваться, но она была очень тяжелой – птицы не могут быть такими тяжелыми. Она пришпилила меня, словно бабочку, я ничего не видел из-за травы, задыхался и скреб пальцами землю.
Я подумал о маме. А затем я ее услышал. Она кричала, кричала так, что мне стало страшно. Ей ведь нельзя было волноваться.
И вдруг тяжесть, давившая мне на голову, исчезла, как будто ее и не было. Меня подняли на ноги, я стер грязь с глаз и посмотрел в небо. Но Дьявольская птица исчезла.
Уолтер тряс меня сзади за плечи.
– Джимми. Джимми, ты дышать можешь? Скажи что-нибудь.
Мама была передо мной, в нескольких ярдах. Она была вся белая и дышала как-то нехорошо. Я подбежал к ней, зарылся лицом ей в бок и стал реветь. Уолтер сказал: «Люси!» – и она посмотрела на меня, кивнула и погладила меня по голове.
Мы, так и не разнявшись, пошли к дому, и я не упал только потому, что она меня держала.
Все в округе узнали о дедовом сердечном приступе, из-за того, что он был связан с появлением Дьявольской птицы, и на похоронах было много людей, которых я вообще не знал – даже пара студентов из Хьюстонского университета. Когда мы после церкви собрались на улице, тетя Мэри принялась орать на этих посторонних, и бабушка взяла ее за руку и отвела подальше. После этого она опять стала нормальной.
Через несколько недель мама и Уолтер, который сказал мне, чтобы я звал его Уолтером и что я самый большой храбрец из всех, кого он видел в своей жизни, поженились, а меня официально назвали Джеймсом Эрлом Лионом. Еще через некоторое время мы погрузили все, что смогли, в грузовик Уолтера и уехали в Портленд, штат Орегон. Мама взяла с собой всего три банки для консервирования и ничего с ними не делала – только ставила в них цветы. Никто из нас больше не был ни там, где мы раньше жили, ни у бабушки. Мама даже не поехала на ее похороны. Она иногда говорила мне, что ей жаль, но я никогда не понимал – чего.
Мне до сих пор – нечасто, правда, – звонят всякие люди и просят рассказать им историю о Дьявольской птице. И я рассказываю. Если только они не говорят, что это был аист.
Послесловие
Большую техасскую птицу видели множество раз в 1976 году в окрестностях города Браунсвилл, штат Техас. Она спровоцировала целую лавину слухов и даже панику на местном уровне. У нее была не очень приятная привычка влетать в дома и машины. Рассказы видевших ее людей имеют различия, но многие из них сходятся в том, что у этого существа была лысая голова, «как у обезьяны» или «как у змеи». Встречи с ней постепенно стали очень редким явлением, но сообщения о том, что по Техасу летает что-то странное, появляются время от времени и до сих пор. Является ли Большая птица естественным или сверхъестественным феноменом, обычная ли это птица или птеродактиль, или нечто сродни Человеку-мотыльку – об этом криптозоологи спорят до сегодняшнего дня. Я склонна думать, что это был мексиканский аист.
Аист это был или нет, меня занимало прежде всего то, как это необычное существо (и другие похожие, от Чупакабры до Дуврского демона) стало ядром, вокруг которого кристаллизовались различные истории – истории, которые больше говорят о подсознательных страхах обычного человека, чем о том, что он видел.
Большая птица ни разу не напала на человека; я заимствовала эту деталь, а также прозвище «Дьявольская птица» у другого случая появления гигантской птицы, который имел место в Иллинойсе в 1977 году. Многочисленные свидетели того инцидента утверждают, что птица схватила и подняла на два фута в воздух десятилетнего мальчика.
Кэрри Лабен выросла неподалеку от Буффало, штат Нью-Йорк, в миле от парка развлечений «Шесть флагов». Несколько лет она провела в Итаке и Бруклине, а сейчас живет в Монтане, где скоро собирается получить степень магистра искусств. В свободное время она любит наблюдать за птицами. Ее рассказы появлялись в журналах Clarkesworld, Apex Digest, ChiZine и в антологии Phantom; в настоящее время она работает над романом.
Джеффри Форд По Атшен-роуд
Я живу у самого края пустошей Пайн-Барренс в Южном Джерси. Один миллион сто тысяч акров дремучих, древних лесов, многочисленных озер, топких болот с клюквой, орхидеями и илистым песком. Черные медведи, лисы, рыси, койоты и даже, говорят, пумы. Здесь есть города-призраки времен Войны за независимость – разрушенные дома, рассыпавшиеся хижины, развалившиеся башни для изготовления дроби, до которых можно добраться только на каноэ. За те годы, что я здесь живу, я много ходил по пустошам Пайн-Барренс и до сих пор думаю, что эта огромная территория – живое, могущественное существо. Иногда бывает, что я оказываюсь далеко от дороги, где припаркована моя машина и откуда я начал свой пеший поход, когда вдруг наступают сумерки, – а темнеет здесь быстро, – и тогда меня охватывает паника. Мысль, что придется заночевать в этих лесах, отдается дрожью в теле. Естественно, вы слыхали о Джерсийском дьяволе. Это для туристов. Это место полно легенд гораздо более причудливых и глубоких. Если вы умеете наблюдать и если вам повезет, вы можете даже увидеть рождение одной из таких легенд.
Шестнадцать лет назад, когда мы с женой и двумя сыновьями (один был во втором классе, второй еще даже в садик не ходил) переехали в Медфорд-Лейкс, я обратил внимание на странного старика, бродившего по городу, – худого, лысого, с длинной седой бородой, в которую были вплетены соколиные перья. У него была вытянутая голова и тяжелые веки. Он все время улыбался. Он ходил, энергично размахивая руками, будто маршировал. В дождь и жару, зимой и летом на нем был старый, порыжевший плащ, старые бермуды, черные кроссовки и красная футболка с логотипом софт-рок-группы «Брэд», популярной в семидесятые годы. Каждый раз когда я проезжал мимо него на машине, мне казалось, что он разговаривает сам с собой.
Как-то я приехал в город за пиццей, и он сидел в пиццерии один за столиком. Перед ним стояла бумажная тарелка с остатками пиццы. Когда я проходил мимо него, направляясь к прилавку, он настороженно и внимательно посмотрел на меня, бормоча что-то себе под нос. В магазин вошла женщина с дочерью. Увидев девочку, старик вытащил из кармана коричневый бархатный мешочек и достал из него что-то. Я смотрел на это все от прилавка и думал, что, наверное, назревает какая-то не слишком приятная ситуация. Однако мать отпустила руку девочки. Та подошла к нему, и он дал ей маленького, вырезанного из дерева оленя. Мать проговорила: «Что надо сказать, Элен?» Девочка сказала: «Спасибо». Старик рассмеялся и хлопнул ладонью по столу.
Где-то неделю спустя, вечером, мы с Линн поехали на озеро – оно было недалеко от нашего дома, вниз по улице. Мы захватили с собой термос с кофе. Мы сидели на одеяле и смотрели, как солнце скрывается за деревьями, а дети бегали у воды. Наш сосед Дэйв, с которым мы познакомились за несколько недель до этого, выгуливал собаку. Он подошел к нам и сел на песок. Мы немного поговорили о школьном совете, о планах города почистить озеро Нижняя Этна, он зачитал нам свой обычный монолог на тему религии, а затем я спросил его:
– А кто этот сумасшедший старик, которого я часто вижу в городе?
Он улыбнулся.
– Это Сумасброд, – сказал он.
– Сумасброд? – переспросила Линн, и мы рассмеялись.
– Вообще-то его имя Шерман Греттс, но все зовут его Сумасбродом. Несколько лет назад один мальчишка – Дуэйн Геппи, он с моим старшим учится в одном классе, живет от вас в двух кварталах – услышал, как его отец, который работает на автозаправке, назвал старика «сумасбродом». С тех пор и прицепилось. Все дети его так зовут. Я думаю, старику это прозвище очень подходит.
– А что еще вы о нем знаете? – спросил я.
– Да почти ничего. Он вроде как художник. Живет на Атшен-роуд, у самого озера.
– Оттуда до города далеко, – заметила Линн.
– Восемь миль, – сказал Дэйв.
– Судя по тому, как он выглядит, он ненормальный, – произнес я.
– Может, и так, – сказал Дэйв. – Но как бы там ни было, он безобидный.
Прошло несколько месяцев, мы обустроились в Медфорд-Лейкс. Время от времени я встречал Сумасброда. Он все время куда-то спешил, ведя с собой бесконечный диалог, и полы его плаща развевались позади него. Я каждый раз спрашивал себя, сколько же ему лет. На вид ему было лет шестьдесят, но он столько ходил, поддерживая себя в форме, что ему могло быть гораздо больше. Линн тоже начала приносить мне известия о нем. Она ездила на работу по 206-му шоссе, на которое выезжала по Атшен-роуд, и раз в несколько дней видела его – он шел в город или из города или сидел где-нибудь на пеньке.
На наше первое Рождество в Медфорд-Лейкс нас с Линн пригласили на вечеринку. У супружеской пары, которая устраивала вечеринку, сын учился с нашим старшим сыном в одном классе. Там было много людей из города и окрестностей, мы пили и разговаривали. Когда в гостиной собралась целая толпа и стало слишком жарко, я вышел на задний двор выкурить сигарету. Было совсем холодно, падал пушистый снежок. Только я зажег сигарету, как открылась дверь и на двор вышла пожилая женщина, слегка отяжелевшая, но высокая, с белыми волосами. Она тоже закурила. Я представился, и она сказала, что ее зовут Джинни Сэнгер.
У нас с ней завязался разговор. В какой-то момент она упомянула, что она историк-любитель и кое-что знает о Пайн-Барренс. Меня всегда интересовало, когда здесь появились первые жители, и я спросил ее об этом.
– Самыми первыми обитателями этой земли были, конечно, ленапы, самое уважаемое племя среди всех алгонкинов, – сказала она. – Это давние времена, о них мало что известно. Первые европейцы появились здесь в начале XVII века, это были шведские трапперы. Потом пришел Стейвесант и выгнал шведов. И в конце пришли англичане и выгнали голландцев.
– Почему вы стали изучать историю? – спросил я.
– После того как умер мой муж, я не знала, чем заняться. Он оставил много денег, так что работать мне было не нужно. Однажды летним днем, лет семь назад, я поехала к озеру Атшен искупаться. Знаете, где оно находится? – сказала она, указывая на восток.
Я кивнул.
– Я купалась и наступила на что-то острое. Я решила достать это, потому что в тот день в воде было много ребятишек. Я нырнула и нащупала на дне большой кусок металла. Это оказалась плоская, ржавая фигурка индейца в головном уборе из перьев, который стрелял из лука. Она крепилась к четырехдюймовому штырю и была сильно изъедена ржавчиной, но все равно было понятно, что это такое.
– С этого и началось ваше увлечение? – спросил я.
– Нет. Сосед посоветовал мне показать эту штуку Шерману – он живет чуть дальше по Атшен-роуд.
– Шерману? – переспросил я. Я слышал это имя, но не мог вспомнить где.
– Вы наверняка его видели. Старик в плаще.
– Вы его знаете? – удивился я.
– Его тут все знают. Я отнесла ему индейца, и он сказал, что это флюгер и что выковали его в мастерской в Атшен-Виллидж приблизительно в середине XIX века. Он стал рассказывать мне о первых поселенцах и ленапах. Мы весь день просидели у него на террасе – знаете, у него очень странный дом. Мы пили чай со льдом из синих железных кружек. Он рассказал мне о Ганноверской домне, о том, как в старые времена плавили металл, о злом духе, обитающем в здешних лесах, о последнем вожде ленапов.
– Я видел его в городе, и мне показалось, что он немного… того.
– Ну… – протянула она.
Тут вышла Линн. Она уже собралась уезжать. Я представил ее Джинни, потом мы попрощались и ушли через задние ворота. Снег усилился. Мы шли вдоль озера, и я рассказал ей все, что услышал от Джинни Сэнгер о Шермане Греттсе.
Шли месяцы. Я писал книгу и почти никуда не выбирался. О Сумасброде я и не вспоминал, пока однажды в феврале, в пятницу вечером, Линн не пришла домой и не сказала, что утром, по дороге на работу, видела, как он заходил в дом в конце Атшен-роуд.
– Я раньше его не замечала, – призналась она. – И теперь по верить в это не могу, потому что он ярко-желтый.
Подумав о Сумасброде, живущем в ярко-желтом доме, я улыбнулся.
– Тебе бы тоже надо на него посмотреть, – сказала Линн. – Я каждый день ездила мимо и всегда думала, что там растут деревья – вроде кизила, что ли, – но сегодня я разглядела, что это скульптуры, сделанные из древесных стволов и веток. У него перед домом целая армия деревянных существ.
В ближайшее воскресенье мы отправились посмотреть на дом Шермана Греттса. Линн медленно проехала мимо обветшалого желтого дома. Расставленные перед ним скульптуры представляли собой примитивные, извивающиеся формы – «Крик» Мунка, выполненный из перекрученных ветвей магнолии. «Боже мой», – сказал я. Мы развернулись и снова проехали мимо дома, а потом еще раз.
Так до середины весны Сумасброд то появлялся в нашей жизни, то пропадал из нее. Я видел его не так часто, как бывало, и, когда встретился с ним в очередной раз, подумал о его скульптурах и внимательно к нему присмотрелся. Во время первой грозы я повстречал его на «тропе ленапов». Он направлялся к пиццерии. Дождь лил как из ведра, и он промок до нитки. Две машины передо мной, одна за другой, въехали в лужу у обочины и окатили его с головы до ног. Он не замедлил шаг и даже будто ничего не заметил. Прошло несколько недель, в течение которых он мне не встречался, и как-то в кафе я ни с того ни с сего спросил Линн, не видела ли она его. Она сказала, что однажды вечером, когда она ехала домой, он вышел из леса на 206-е шоссе.
В то первое лето мы с детьми проводили много времени на озере. Мы купались, лежали на солнышке, жарили барбекю, а когда вечерело, гуляли по вьющимся лесным тропам. Сумерки приносили прохладу, в кронах дубов шумел ветер, приносивший сосновые и глициниевые запахи.
Однажды вечером, в середине июля, мы шли по мосту, пересекавшему край Верхней Этны. Младший сын сидел у меня на плечах, а старшего Линн вела за руку. Мы подошли к скамейке, смотревшей на воду, и вдруг я заметил вспыхнувший огонек сигареты. Там было совсем темно – скамейка находилась в тени дуба, – и человек оставался невидим, пока разгоревшийся от затяжки сигаретный кончик не осветил его лицо. При следующей затяжке я увидел, что это была Джинни Сэнгер.
Я поздоровался с Джинни и напомнил Линн, что мы видели ее на рождественской вечеринке. Джинни сказала, что она как раз пришла в гости к паре, устроившей ту вечеринку. Они сейчас укладывают детей спать, и она решила пройтись.
– Мне нравится это место, – проговорила она.
– Мы хотим добраться до дома, пока эти двое не уснули прямо у нас на руках, – сказал я.
– И вряд ли у нас это получится, – добавила Линн.
– Я понимаю, что вам нужно спешить, – сказала Джинни, наступив на сигарету. Теперь под дубом стало абсолютно темно. – Но я так и не дорассказала вам, из-за чего начала увлекаться местной историей.
– Да, вы сказали, что побеседовали с Шерманом Греттсом, – напомнил я.
– Да, это так, – кивнула она. – После разговора с ним я стала читать книги и посещать лекции. Но вот о чем я хотела вам сказать… Я и сама кое-что узнала за это время. И еще как-то на конференции встретилась с одним сказителем из племени ленни-ленапов. Мне стало ясно, что мистер Греттс все выдумал. Названия мест были правильные, и некоторые детали тоже, но ни в одном прочитанном мной документе не было упоминания о тех вещах, о которых он мне говорил. – Она немного помолчала, затем рассмеялась.
– Интересно, – сказал я, и перед моими глазами, как живой, встал Сумасброд.
Джинни кивнула.
– Шерман проводит много времени в лесу, – продолжила она. – Среди прочих вещей, он иногда говорит – и всегда по секрету, как будто опасается, что его услышит кто-нибудь, кому это знать не положено, – что по Пайн-Барренс до сих пор кочует группа ленапов, которые живут так, как они жили до прихода европейцев. «Они всегда там были», – говорит он.
Я бы и хотел остаться и послушать, но нам нужно было спешить домой. Мы пошли дальше, через сосновый бор, по ковру из сухих иголок, теперь со спящими детьми на руках.
Линн сказала:
– Джинни, наверное, спросила у того сказителя о ленапах, скрывающихся в Пайн-Барренс.
– И что? – откликнулся я.
– А если все эти истории Сумасброда – правда и сказитель заявил, что ничего об этом не знает, только чтобы сохранить все в тайне? А то найдутся люди, которые обшарят всю Пайн-Барренс в поисках этого племени.
– А ты не думаешь, что Сумасброд просто не в своем уме? – сказал я.
– Ну, это само собой.
***
Было начало ноября, и по Атшен-роуд ветер носил листья того же цвета, что и дом Сумасброда. Я доехал до конца Атшен-роуд, поглядел налево-направо, пересек 206-е шоссе и выехал на грунтовую дорогу. На съезде с шоссе был уклон, и машина резко нырнула, потом я перевалил через небольшой холм. За холмом я увидел автостоянку, а еще дальше, за деревьями, высился церковный шпиль. На стоянке приткнулись два автомобиля, но никого поблизости не было. Я поставил машину, вышел и надел куртку – день был холодный и дул сильный ветер.
Тропа начиналась ярдах в двадцати. Я знал, что если бы я был готов к долгому путешествию, она провела бы меня через самое сердце Пайн-Барренс и закончилась через пятьдесят миль в Батсто, еще одном поселке, где плавили металл и делали дробь во время Войны за независимость. Я вошел в лес. Через сотню ярдов слева открылась широкая поляна, на которой стояла белая церковь. Я читал про нее – это была квакерская церковь Сэмюэля Ричардса, построенная в 1828 году. Ричардс владел литейным заводом в Атшен-Виллидж. Его особняк до сих пор стоит на берегу озера.
Рядом с церковью располагалось кладбище – концентрические круги могильных камней. В дальнем конце кладбища рос огромный дуб, я таких больших в жизни не видел. Он был очень старым, его оголенные ветви резко выделялись на фоне синего неба. Он стоял так, как будто о чем-то задумался. Я свернул с тропы и направился к кладбищу. Надгробия были небольшие, закругленные сверху. Они были сделаны из какого-то белого камня – мрамора или песчаника. Я шел по кладбищу и читал надписи – те, которые мог разобрать. Самой старой датой из тех, что я видел, был 1809 год. Какая-то напасть в один день унесла жизни четырех членов семьи Эндрюс. Возвращаясь назад на тропу, я через плечо поглядывал на дуб.
В тот первый раз я углубился в Пайн-Барренс на милю и никого по дороге не встретил. Наконец, в том месте, где ручей подходит близко к тропе, я остановился. Меня окружали сосны и дубы. И во все стороны, насколько хватал глаз, были только деревья. Земля была устлана желтыми и красными листьями. Было так тихо, что я слышал, как потрескивали сосны, едва заметно раскачивавшиеся от ветра. Где-то вдалеке закаркала ворона. Тут у меня стало как-то неприятно на душе, я развернулся и пошел обратно. Я видел оленя, смотревшего на меня из-за деревьев.
Я сел в машину, перекатился через холм, выбрался по крутому склону на 206-е шоссе, пересек его и поехал домой по Атшен-роуд. Вдруг я заметил у дороги большой деревянный щит, на котором ярко-зеленой краской по оранжевому фону было написано от руки: «СЕГОДНЯ ВЫСТАВКА! ЗАЕЗЖАЙТЕ!» Тут я увидел, что это дом Сумасброда, и съехал с дороги. На широкой обочине Атшен-роуд уже стояло несколько автомобилей, и еще больше их выстроилось перед самим домом. Я вышел из машины и увидел людей на заднем дворе. В воздухе пахло барбекю.
Я прошел мимо извивавшихся деревьев и завернул за дом. На обширном заднем дворе было еще больше этих странных скульптур, и к их перекрученным ветвям были подвешены картины и костяные статуэтки. Тут и там сидели люди и курили травку, и почти у каждого в руках была открытая бутылка с пивом. Они кивали мне и улыбались. Дети, подростки, старики, белые, черные, даже одна женщина в белых арабских одеждах. Когда я проходил мимо гриля, парень с бородкой и татуированными руками протянул мне хот-дог. Я взял его и пошел дальше, разглядывая картины.
Сумасброд был, конечно, не Пикассо, но в его работах, в основном в стиле примитивизма, было что-то притягательное. Это были изображения событий, когда-то происходивших в Пайн-Барренс: индейцы, олени, поселенцы, охота на диких индеек. На одном рисунке была изображена могила под огромным дубом, на еще нескольких – какие-то существа вроде демонов. Мне стало неуютно под их взглядами. Я закурил сигарету и отошел поближе к дому. Когда музыка – «Hello Walls» Фарона Янга, которая играла на старенькой «Виктории», – стихла, я услышал женский голос, зовущий меня по имени, и обернулся.
– Я здесь, здесь! – сказала женщина. Я посмотрел в полумрак закрытой террасы, рядом с которой я стоял.
– Кто «я»? – спросил я, прикрыв глаза ладонью, чтобы не мешало солнце.
– Джинни Сэнгер, – сказала она.
Я направился к бетонному блоку, заменявшему ступеньки, встал на него и открыл забранную сеткой дверь. Когда глаза привыкли к сумраку, я увидел Джинни, сидевшую на деревянном садовом стуле рядом с Сумасбродом, у которого на плечах была шкура, на голове – красно-бело-синяя повязка, а в пальцах – косяк толщиной с сигару.
Представив меня Сумасброду, Джинни сказала:
– Это Шерман Греттс, художник.
Я подошел и пожал старику руку.
– Видел вас в пиццерии, – проговорил он.
Я кивнул и сказал:
– Разглядывал ваши картины.
– Хотите купить что-нибудь? – спросил он и засмеялся.
– Сколько стоит? – поинтересовался я.
Он указал мне на пустой стул. Я сел. Он протянул мне косяк. Я как следует затянулся и передал его Джинни. Греттс сказал:
– Джинни говорит, вы писатель.
– Да, – кивнул я.
– Почему вы пишете? – спросил он.
– Потому что мне это нравится, – сказал я, и он опять засмеялся.
Он затушил косяк:
– Хотите кое-что увидеть? Мне нужно, чтобы вы побыли свидетелем.
– Что вы имеете в виду?
– Если вы кое-что засвидетельствуете, я дам вам одну картину бесплатно. А Джинни будет вторым свидетелем.
– В чем? – спросил я.
– Я вам покажу. – Не вставая, он поднял с пола свернутое розовое полотенце и положил его на кофейный столик. – Сначала вам нужно меня выслушать.
Я кивнул.
– В 1836 году была опубликована книга под названием «Народы Америки». Написал ее Константин Сэмюэль Рафинеск-Шмальц. В ней Рафинеск – в основном его так называли – утверждал, что, когда он посещал племя ленапов, они передали ему во владение книгу «Валам-Олум», написанную на древесной коре древними пиктограммами и рассказывающую о том, как ленапы пришли на эту землю после большого потопа. – Старик взял со столика банку с пивом, открыл ее и передал мне. – Рафинеск да же намекнул, что некоторые рисунки в этой книге указывают на то, что прародину ленапов следует искать на просторах Сибири. Когда книга вышла, он сказал, что оригинал «Валам-Олум» сгорел во время пожара, но заверил читающую публику, что пиктограммы, представленные в его книге, настоящие. Естественно, это была неправда. Это была неправда. – Сумасброд замолчал и откинулся на спинку стула.
Я взглянул на Джинни, и она мне подмигнула.
– Это была фальшивка, – продолжал старик. – Но как во многих вещах, названных фальшивками, в ней была толика правды. Книга «Валам-Олум» и в самом деле существует. Скажем так: я контактирую с определенной группой ленапов, которые живут в самом сердце леса. Они защищают настоящую «Валам-Олум». И я хочу вам показать страницу из этой книги. – Шерман развернул полотенце. Внутри оказался свиток тонкой, желтоватой березовой коры, такой мягкой и гибкой, что она напоминала ткань. В центре свитка была нарисована гигантская черепаха с человеком, сидящим на ее спине.
– Это не ты нарисовал, Шерман? – спросила Джинни с глуповатой, обкуренной улыбкой.
– Нет, она настоящая, – сказал он. – Если они обнаружат, что я ее взял, они пошлют за мной махтанту.
– А кто это? – спросил я.
– Что-то вроде демона, – сказала Джинни.
– Наверное, когда вы шли к дому, вы этого не заметили, но он окружен бетонным желобом, который всегда наполнен водой. У меня круглые сутки работает насос, который гонит воду по кругу. Мне известно, что духи не могут перейти через текущую воду.
– А как вы поступаете, когда вам нужно покинуть дом? – спросил я.
– О, в таких случаях мне нужно быть очень осторожным. Перед выходом из дома я провожу всякие ритуалы. У меня нет права на ошибку.
– А каковы шансы, что они вас настигнут? – спросил я.
– Если я все буду делать правильно, ничего не случится, – заявил Шерман. – Но теперь дело не только во мне. Помните, вы мои свидетели. Если вы – пусть даже шепотом – расскажете кому-нибудь за пределами этого защищенного места о том, что я вам сейчас показал, они узнают, что я забрал страницу, и тогда меня ничто не спасет, как бы я ни был осторожен. Поэтому обещайте, что вы ничего никому не скажете.
– Хорошо, я никому ничего не скажу. – Я встал, пожал ему руку, попрощался с Джинни и вышел из дома, чуть не промахнувшись мимо бетонного блока под входной дверью. Сумасброд сказал, что я мог взять одну из его картин, и, как я ни хотел побыстрее убраться оттуда, я замедлил шаги, приглядываясь, что бы мне выбрать. Старик и в самом деле был не в себе, от его рассказа на террасе у меня мурашки бегали по спине, а уж подмигивающая Джинни с косяком в руке… Но, с другой стороны, я понимал, что если у меня не будет какого-нибудь материального объекта, связанного с этой историей, никто мне не поверит, если мне когда-нибудь – возможно, через много лет – приведется рассказать ее. Я взял из руки узловатого древесного существа изображение кладбища с дубом. Освободившись от веса картины, деревянный гигант будто встряхнулся. Я положил картину на заднее сиденье и всю дорогу до дома непроизвольно поглядывал в зеркало заднего вида.
Линн один раз взглянула на картину и сказала «нет», поэтому я повесил ее в своем кабинете. Вечером, в постели, она спросила, как я съездил в Пайн-Барренс. Я рассказал ей о церкви и о выставке картин. Мне хотелось рассказать ей и о странном эпизоде, произошедшем на террасе желтого дома Сумасброда, но ведь я обещал молчать. Так ничего и не сказав, я уснул.
Прошла пара лет. Дети ходили в школу, Линн и я работали. Проклятие Сумасброда стало всего лишь очередным событием из бесконечного их ряда и скоро перестало меня занимать. Изредка я видел его в городе или на дороге и думал о том, какие обряды ему пришлось провести для того, чтобы иметь возможность уйти так далеко от дома. Иногда мой взгляд натыкался на картину, висевшую у меня в кабинете, и тогда я тоже его вспоминал. Но это были редкие, почти неуловимые мгновения. Большую часть времени я был просто занят своей жизнью. Однако все же, даже напиваясь пьяным на вечеринках, даже под коноплей я не выдавал секрета старика.
Прошло еще сколько-то времени, и вся эта история занимала столько же места в моих мыслях, как и мой третий день рождения. Но однажды вечером Линн приехала с работы сама не своя. Она вся дрожала.
– Сумасброд, – сказала она. – Я его чуть не сбила. Он или пьян, или не знаю что… шел прямо посреди Атшен-роуд.
– Ого! – воскликнул я.
– Да черт с ним, – проговорила она. – Я чуть в дерево не врезалась, пытаясь его объехать.
– Что будем делать?
– А что тут можно сделать? Не лезть в это дело.
– Кто-нибудь его собьет, – обеспокоенно произнес я.
– Он последний ум растерял, – сказала Линн и стала звонить в полицию.
Может, спустя месяц после этого, примерно на протяжении двух недель, я то и дело слышал о Сумасброде. То у него случился припадок в пиццерии, и он на кого-то накинулся, то люди видели, как он шатался по проезжей части Атшен-роуд, а изо рта у него шла пена, а потом машина, пытавшаяся его объехать, врезалась в дерево, хотя никто не пострадал. Все это привело к тому, к чему должно было привести: как-то вечером его сбил грузовик. Нам сказал об этом сосед, Дэйв, когда мы сидели на берегу озера. Он был знаком с полицейским, которого вызвали на место происшествия.
– Греттса просто размазало по дороге, – сказал он.
Я молчал еще несколько месяцев из странного чувства уважения к Сумасброду, а затем, в конце лета, рассказал Линн всю историю. Мы сидели на террасе при свечах и пили кофе. Когда я закончил, она сразу спросила:
– Как ты думаешь, это значит, что Джинни проболталась и в старика вселился злой дух?
Я рассмеялся и сказал:
– Я как-то об этом не думал.
В скором времени на Атшен-роуд произошел еще один несчастный случай. Четверо подростков в белом «виндстаре», пьяные, под наркотиками, вылетели с дороги и воткнулись в огромный дуб. Мальчишка, который был за рулем, погиб мгновенно, еще двое, ехавшие сзади, умерли в больнице. Выжил только тот, кто сидел на переднем пассажирском сиденье, – его просто выбросило из машины, поэтому он и не получил смертельных повреждений. Это был Дуэйн Геппи, и когда он пришел в себя, то клялся, что все произошло из-за восставшего из мертвых Сумасброда, который выскочил на дорогу прямо перед фургоном. Эта история разлетелась по округе. Я слышал ее от доброго десятка человек и пересказал ее еще большему количеству людей. Так родилась легенда. Сумасшедший старик, сбитый грузовиком на Атшен-роуд, возвращается из загробного мира, чтобы мстить жителям города, которые с таким пренебрежением относились к нему при жизни. Под Хеллоуин в местной газете появлялись статьи о зловещем призраке, бродящем по дорогам, и от старшего сына я слышал, что дети иногда нарочно ездят к озеру в надежде его повстречать. В конце концов и дом Сумасброда сгорел при пожаре, возникшем «при невыясненных обстоятельствах».
Но по-настоящему пугало меня совсем другое. Каждый раз, когда я глядел на висевшую в моем кабинете картину с дубом, мне на ум приходил тот вопрос Линн: не выдала ли Джинни секрет старика? Я мог выяснить это, только встретившись с ней. Я полагал, что, даже если она мне солжет, я все равно узнаю правду по выражению ее лица. Я позвонил той супружеской паре, у которой мы отмечали свое первое Рождество в этом городе, – там я впервые встретил Джинни. Трубку взяла женщина. Я спросил у нее, не знает ли она телефонный номер Джинни Сэнгер. Она сказала, что не понимает, о ком я говорю. Я ответил, что это высокая пожилая тетка с белыми волосами, и тогда она сказала:
– Могу вас уверить, мы не знаем никого похожего.
– Разве она не приезжает к вам иногда? Она живет дальше по Атшен-роуд.
– Вы, наверное, взяли ее из какой-нибудь своей книги, – сказала женщина, рассмеялась и повесила трубку.
Я просмотрел телефонную книгу, обратился в службу интернет-поиска, много раз останавливался и заговаривал со стариками, живущими по Атшен-роуд. Никто и слыхом не слыхивал о Джинни Сэнгер. Некоторое успокоение я находил в том, что Линн подтвердила, что я ее не выдумал, она тоже ее видела. Но в этом округе не жила никакая Джинни Сэнгер – это, после всех поисков, можно было сказать точно. Мне понадобилось несколько лет, чтобы ее найти, – дети уже поступили в колледж, – но ответ все это время был у меня перед глазами.
Я обнаружил ее вчера на концентрическом кладбище возле белой церкви. Под взглядом гигантского дуба я соскреб мох с одного могильного камня. Она была там. Вирджиния Сэнгер, годы жизни 1770–1828. Скажу вам то же, что сказал Линн: не просите меня объяснить. Я и собственной роли во всем произошедшем не могу определить, что уж говорить о Джинни. В чем я уверен, так это в том, что если я зайду в эту церковь и пороюсь в архиве, то найду какую-нибудь ниточку, ведущую к ней: документ, письмо, рисунок – и тогда этому не будет конца. Из одной легенды будут вырастать десять, как отрубленные головы гидры. Так уж здесь все происходит. Эта местность обладает разумом. Он отражается в легендах, которые переплетаются друг с другом, рождают новые легенды и вливаются в собственную бескрайнюю невидимую пустошь. Мы живем на самом краю Пайн-Барренс, но все равно дух этих пустошей добрался до нас и втянул в себя.
Послесловие
Джерсийский дьявол – далеко не самое странное существо местных легенд. По правде говоря, у меня есть соседи, с которыми он не идет ни в какое сравнение. Однако широко известен только он, что, как мне кажется, не очень справедливо, потому что вокруг пустошей Пайн-Барренс витают буквально сотни легенд. Тут есть Белый олень, Черный доктор, призрак из города Атко, Капитан Кидд из Ридз-Бэй, Женщина-кролик, Джерри Мунихон (колдун, который, когда его не приняли на работу, наложил заклятие на Ганноверскую домну, из-за чего она наполнилась черными и белыми воронами) и еще множество призраков – начиная с XVII века и до наших дней их собралась целая толпа, – и это не считая ленапских легенд.
Если бы вы пожили здесь немного, послушали местных рассказчиков – а я, будучи писателем, интересующимся сверхъестественным, их внимательно слушал, – то вам, как и мне, стало бы очевидно, что в этой местности есть нечто, что порождает легенды. Частично это связано с огромными размерами этой дикой территории, где можно бродить целыми неделями и не встретить ни одной живой души или заблудиться и уже никогда не выбраться оттуда, но мне кажется, основная причина тут в другом: я убежден, что в сердце этих пустошей обитает какая-то разумная энергия, первобытное сознание, пропитывающее собой всех, кто живет в Пайн-Барренс или в непосредственной близости от них. Это чувство просто физически ощутимо. Из всех мест, где мне довелось побывать, я испытывал нечто подобное только в горах Шотландии. Однажды я провел там десять дней в домике, откуда был виден остров Скай. Это красивейшие места, но там живет еще кто-то, кроме нас. Там, среди гор и озер, щедро разлиты меланхолия и одиночество. Меня ни на минуту не покидало ощущение, что это место живое – древний великан, который спит и видит сны. Рассказ «По Атшен-роуд» – это попытка запечатлеть сверхъестественное воздействие Пайн-Барренс. Вы можете мне не поверить, но большая часть этой истории – чистая правда, а те ее части, что я выдумал, не имеют существенного значения. В этой непостижимой местности легенды рождались с тех пор, как сюда впервые ступила нога человека. Они встречаются друг с другом и сплетаются вместе, словно нити паутины. Посредством легенд эта равнина взаимодействует с нами. Задумайтесь вот над чем: обширный участок земли на северо-востоке США, расположенный не так уж далеко от Нью-Йорка, остается фактически нетронутым цивилизацией. Подумайте о том, сколько на нем могли бы заработать строительные компании, подумайте о городах, торговых центрах, дорогах, которые можно было бы здесь построить. Все кругом падает под топором «прогресса», а Пайн-Барренс ничто не берет, как будто они заговоренные. Любопытный факт, не правда ли?
Джеффри Форд – автор романов «Физиогномика» («Physiognomy»), «Меморанда» («Memoranda»), «Запределье» («The Beyond»), «Портрет миссис Шарбук» («The Portrait of Mrs. Charbuque»), «Девочка в стекле» («The Girl in the Glass») и «Год призраков» («The Shadow Year»). Его рассказы представлены тремя сборниками: «Секретарь писателя» («The Fantasy Writer’s Assistant»), «Империя мороженого» («The Empire of Ice Cream») и «Утопленная жизнь» («The Drowned Life»). За свою прозу он получил Всемирную премию фэнтези, премию «Небьюла», премию Эдгара Аллана По и премию Grand Prix de’l Imaginaire. Он живет в Нью-Джерси с женой и двумя сыновьями и преподает литературу и писательское мастерство в Брукдэйлском муниципальном колледже.
Гэри Браунбек Возвращение в Мариабронн
Вот ты где. Я вижу тебя в ночи.
Лорена сразу замечает, что с Руди что-то не так. Он всегда занимал стул прямо по центру барной стойки. «Люблю находиться поближе к делу, – пояснял он. – А если никакого дела нет, люблю смотреть на тебя и воображать, что оно есть». Почему она за столько времени так и не дала ему пощечину, Лорена не знает. Может быть потому, что он, говоря подобные скабрезности, краснеет, словно мальчик, который только что произнес первую в жизни сальную шутку. Есть что-то милое в его неуклюжих попытках продемонстрировать грубый дальнобойщицкий юмор, и поэтому она всегда только улыбается.
Но сегодня Руди садится в дальнем конце стойки, возле туалетов, – это худшее место в закусочной. Губы у него плотно сжаты, взгляд неподвижен, и он не знает, куда деть руки. Это совсем не тот человек, которому она подавала кофе и макароны с сосисками последние два года, и она сомневается, стоит ли спрашивать, что с ним такое. Он выглядит так, будто вот-вот развалится. Лорена наливает всем кофе и подходит к Руди:
– Я и не думала, что тебя сегодня увижу – погодка та еще, да и на дорогах черт знает что. Гнал, наверное, как сумасшедший.
Руди пытается улыбнуться, – улыбка выходит кривой и деревянной, – и молча подвигает к ней свою чашку. Лорена подливает в нее кофе. Когда Руди тянется за ней, она кладет свободную руку ему на ладонь и говорит:
– Ну что с тобой такое сегодня, Руди? Обычно к этому времени ты меня уже раза три на свидание приглашаешь. Я, правда, ни когда не соглашаюсь, но кто знает… может, сегодня я скажу «да».
Руди смотрит на нее, на остальных посетителей закусочной, затем начинает говорить – его голос словно маленькое, тщедушное, испуганное существо:
– Кажется, я сегодня совершил ужасную вещь. Не специально, но… – Он смотрит на нее, и в его глазах столько безмолвной мольбы, что у Лорены сжимается горло. Она уже и не помнит, когда в последний раз видела человека, которому было бы столь же одиноко.
– Что случилось, Руди? Расскажи.
– Я не знаю… – мямлит он. – Я… ну, ты мне вроде как нравишься… Думаешь, почему я всегда останавливаюсь здесь, когда уезжаю в рейс и когда возвращаюсь?
Лорена слегка краснеет:
– Да. Я чувствовала, что ты неровно ко мне дышишь. Но ты ведь скромняга.
– Твое мнение обо мне много для меня значит, и я… я не хочу, чтобы оно испортилось.
Лорена ставит кофейник обратно на плиту и говорит повару и второй официантке, что уходит на пятнадцатиминутный перерыв. Берет чашку Руди и его недоеденный сэндвич и машет рукой, приглашая его в одну из пустых кабинок.
Когда они усаживаются друг против друга, Лорена откидывается на обитую тканью спинку скамейки, складывает руки на груди и говорит:
– Руди, послушай, что я тебе скажу. Ты мне тоже нравишься. Я думаю, ты хороший парень. Я и сама делала в жизни вещи, которыми я не горжусь, и поэтому стараюсь никого не осуждать. Так что давай – рассказывай.
Руди, не глядя на Лорену, начинает рассказывать. Он не поднимает глаз, даже когда доходит до самой страшной части своей истории. Чтобы разобрать слова, Лорене приходится наклониться вперед и повернуться к Руди здоровым ухом. В какой-то момент ей становится трудно сосредоточиться на его словах, на глаза наворачиваются слезы. Но она все равно слушает, и ее мутит.
Договорив, Руди делает глоток кофе – он уже остыл – и наконец смотрит ей в глаза. Что-то в нем трогает ее, она садится рядом с ним и вытирает ему лицо бумажной салфеткой.
– Руди, послушай меня, хорошо? Если бы не ты там проехал, то кто-нибудь другой – обязательно. Ты ведь ничего не мог сделать. И никто бы не смог.
– Лорена, но я же не… – Он берет ее за руку. – Я плохой человек?
– Нет. Плохой человек не чувствовал бы того, что ты чувствуешь сейчас. – Она обеими руками берет его за голову. – Запомни это, Руди, запомни хорошенько.
– Да…
***
– Да не маши рукой, я серьезно говорю: я тут такое вчера ночью на диктофон записал!
– Во имя всего… Дружище, я тебя умоляю, найди себе женщину, скачай порнухи, начни собирать фарфоровых гномиков, но только брось заниматься этой фигней, ладно? Ты своей дурацкой охотой за привидениями уже всех достал. Это еще к тому же и небезопасно. Шляешься один по ночам, неровен час…
– Ну пожалуйста! Ты просто послушай. Я тебе обещаю, что если это ерунда, если ты все еще будешь думать, что это напрасная трата времени и денег, то я брошу. Ладно?
– Хорошо. Давай послушаем.
Щелчок. Шипение. «Где ты пропадал? Я скучала по тебе». Шипение. (Очень тихо, автомобильный шум почти заглушает слова.) «Потанцуешь со мной?» Щелчок.
– Ну?
– Бог ты мой…
***
Сегодня танцевальный зал «О’Генри» забит до отказа, оркестр как никогда хорошо исполняет You Came Along, Love in Bloom и (I Can’t Imagine) Me Without You – это одна из самых любимых ее песен. Но ее спутник сильно перебрал выпивки и начал вести себя чересчур нахально. Она берет его левую руку и молча возвращает себе на талию, где ей и положено находиться. Он не понимает, и скоро его руки снова соскальзывают вниз, касаясь ее в самых неподобающих местах. Наконец она теряет терпение, вырывается и бьет его по щеке.
– Прекрати, я прошу тебя!
Он смотрит на нее с недоумением и потирает щеку. Несколько пар остановились и смотрят на них.
– Я не понимаю, о чем ты, – говорит он.
Она оглядывается по сторонам, замечает, что на нее глазеют, и заливается краской. Надо было остаться дома и послушать «Тень» вместе с родителями. Этот новый актер, Орсон Уэллс, – у него такой голос! А вместо этого она потащилась на танцульки и теперь выглядит дурой, потому что парень, с которым она сюда пришла, оказался пьяницей и нахалом.
– Я хочу, чтобы ты отвез меня домой, если не возражаешь.
Он подходит к ней вплотную и хватает ее за плечи.
– Никуда я тебя не повезу, – с трудом выговаривает он. – Мы вернемся за столик, выпьем и успокоимся.
Она пытается высвободиться, но он держит ее крепко. Она изо всех сил наступает ему на правую ногу. Он вскрикивает, отпускает ее и отшатывается назад.
– Отвези меня домой немедленно!
– Никуда я тебя не повезу. Хочешь уйти – уходи! Приятной прогулки.
Он раздраженно разворачивается, нетвердым шагом направляется прочь и исчезает где-то среди танцующих. У нее выступают слезы унижения и злости. Ничего не видя перед собой, она идет по танцевальной площадке к дверям. По ее щекам текут слезы, лицо горит и уже начинает опухать. Может, от холодного ночного воздуха ей станет немного лучше.
Она толкает двери и выходит в морозную зимнюю ночь. Ей идти меньше мили. У нее сильные ноги, ноги танцовщицы, и она наверняка дойдет. Да, она сильно замерзнет по дороге, но дома ее ждут отец и мать. Горячее какао, а может быть, и суп. Отцовское теплое пальто и кресло у камина. Приятная музыка по радио. Интересно, «Гершвин представляет» сегодня будут передавать? (Она надеется, что будут.)
Обхватив грудь руками, она вдыхает ледяной воздух и идет к дороге. Ее белое платье сливается с кружащимся снегом.
***
Полиция находит машину весной, после первой серьезной оттепели. Она лежит на крыше неподалеку от кладбища Воскресения, на дне длинной и глубокой ложбины, которая тянется вдоль Арчер-авеню. Зимой эту ложбину всегда заметает снегом, который скрывает трупы животных, приползших сюда умирать еще осенью, мусор, выброшенный подростками, когда они на полной скорости влетают в поворот, а иногда даже закоченевшие тела бродяг, которые устраиваются здесь на ночь, укрывшись газетами и думая, что утром, немного отдохнув, они отправятся дальше.
Вся левая сторона автомобиля вмята чудовищным ударом, дверь и половина капота отсутствуют.
– Эта машина будто с танком повстречалась, – говорит один полицейский.
Второй качает головой:
– Вряд ли после такого удара кто-нибудь выжил. По крайней мере, хоть номер на месте.
Полицейские связываются с участком по рации. Им приказывают осмотреть близлежащую местность. Они производят осмотр, но ничего не находят.
***
Старик просыпается в четыре утра и лежит в постели, глядя в потолок. Он терпеть не может этого узора на штукатурке – завитки накладываются друг на друга, и невозможно до конца проследить взглядом какую-либо линию. Они слишком похожи на снег, подхваченный безжалостным зимним ветром, летящий ночью в лобовое стекло, – нескончаемый натиск белого цвета, с которым не справляются «дворники». Белое… слишком много белого.
Он садится, спускает ноги с кровати и ставит пятки на холодный пол. Обернувшись, он смотрит на ту половину кровати, где спала его жена. Генриетта, родная, – уже шесть лет как в могиле. Она бы, как всегда, нашла нужные слова, она помассировала бы ему плечи, шепча в ухо: «Все хорошо, успокойся, что было – то прошло, ты и сам знаешь, что это был несчастный случай…» Но ее нет, а дети выросли, и у них уже свои дети. Конечно, они часто звонят и навещают, и по четвергам он с приятелями играет в карты в «Орле», – ему уже скоро будет восемьдесят девять, но дети и внуки постоянно твердят ему, какой он бодрый для своего возраста, – но в такие вот ночи, а они в последнее время повторяются все чаще и чаще, он просыпается бог знает когда и слишком отчетливо ощущает все свои болячки, слишком ясно чувствует, как ноют и хрустят его кости при малейшем движении, слишком хорошо слышит, как тихо в доме и за его стенами… Как бы он хотел, чтобы эта тишина распространилась и на его совесть. Разве в таком возрасте память не начинает сдавать? Он уже должен быть выжившим из ума стариканом, который не может вспомнить, как надевают брюки – на трусы или под трусы. Как жаль, что нельзя выбрать, что именно ты можешь забыть.
Шаркая, он подходит к окну, отдергивает занавеску. Идет снег. Пока он не слишком сильный – редкие, крупные снежинки, – но телевизор прав, суток через двое эта часть Среднего Запада окажется под добрыми девятью дюймами снега. Он задумывается, будет ли снегопад таким же сильным и безжалостным, как в ту ночь. Опять смотрит на пустое место на кровати.
– Не могу больше с этим жить, девочка моя. Я должен вернуться туда.
Одно мгновение он видит Генриетту: она сидит на постели, на плечи наброшено одеяло – она зимой всегда легко простужалась; она улыбается – в уголках ее улыбки таится печаль – и говорит: «Делай, что должен, милый. Ты заслужил немного покоя».
– Спасибо, – шепчет он в пустоту. Затем снова выглядывает в окно. – Я многое оставил на Арчер-авеню, тогда, в 37-м. Я помню, что, когда я подъезжал к тому повороту, Бинг Кросби пел «Black Moonlight». Я помню, сколько было снега – Господи, сколько же снега летело в ветровое стекло! Дворники не справлялись.
Надо было мне притормозить или съехать на обочину и подождать, пока стекло очистится. Господи, я сидел за рулем родительского «империала»! В то время «Крайслер» делал автомобили, больше похожие на танки. Надо было переждать. Я ведь был еще мальчишкой. Надо было… – Он замолкает, потому что слышит другой голос – не его жены. Этот другой голос, пришедший из сна, шепчет: «Вот ты где. Я вижу тебя в ночи».
Он медленно подходит к книжной полке и берет старое издание «Нарцисса и Гольдмунда» Гессе. Это одна из его любимых книг. Он садится на край кровати – со стороны Генриетты – и пролистывает страницы, останавливаясь, чтобы прочесть полюбившийся абзац там, запоминающийся диалог здесь. Все это время он не перестает качать головой. Смотрит на подушку покойной жены.
– Не знаю почему, девочка моя, но я вдруг подумал об этих двоих, Нарциссе и Гольдмунде… как они стали друзьями и пошли разными дорогами, Нарцисс остался в Мариабронне и стал аббатом Иоанном, а Гольдмунд превратился в бродягу-художника. Меня всегда трогали последние главы – не помню, говорил я тебе об этом или нет, прости, если повторяюсь, – вот Гольдмунд, он безрассудно промотал свой талант художника, всю жизнь потакал всем своим слабостям и порокам и кончил тем, что его должны теперь повесить за воровство. И вот, как «бог из машины», – так это и задумывалось, я полагаю, – появляется Нарцисс, который помогает ему сбежать и увозит его в Мариабронн. Гольдмунд, больной, умирающий, прощен Нарциссом. Зная, что дни его на исходе, Гольдмунд принимается за свое последнее, истинное произведение искусства – изображение Мадонны, созданное по облику Лидии, любви всей его жизни, чье сердце он разбил. Он ищет и находит прощение в собственном сердце, девочка моя, потому что всю любовь, сожаление и вину, что есть в нем, он употребляет на то, чтобы создать идеальное воплощение Мадонны. И когда Гольдмунд наконец снова видит лицо Лидии, он знает, что прощен и может умереть в мире с самим собой. – Он захлопывает книгу. – Наверное, ничего более сентиментального Гессе не написал. Мне сейчас кажется, девочка моя, что в жизни, в отличие от романа, нужно самому организовать себе «бога из машины», если хочешь добиться прощения.
Он встает с кровати, опершись на подушку Генриетты, затем ставит книгу обратно на полку и начинает собираться в путь.
***
– У меня тут не только это. Я говорил с парнем, который ее видел.
– Ну, тогда давай и это послушаем.
Щелчок. Шипение. Приглушенные голоса и звон стаканов, выставляемых на стойку после мойки. Слышен более громкий голос: «Еще две кружки на седьмой столик!» «Обычного или светлого?» – кричит бармен. Шипение. Кашель. Затем: «Эта штука сейчас работает?» – «Работает. Я ее включил». – «Ха. Я таких диктофонов раньше не видел». – «Это цифровой диктофон. Ему не нужна кассета». – «Да ну?! Чего только не придумают». – «Итак, вы говорили, что видели ее?» – «Еще как видел! Я это уже много раз рассказывал. Один раз меня даже по телевизору показывали». – «Но вы ведь не откажетесь рассказать это еще раз?» – «Нет, конечно. Я рад, что вы не приняли меня за сумасшедшего». – «Я верю в такие вещи. Итак, пожалуйста…»
***
Трос лебедки натягивается, и разбитая машина начинает медленно ползти вверх по склону. Полицейский детектив смотрит на стоящего рядом с ним мужчину и говорит:
– Не возражаете, если я задам вам еще один вопрос?
Мужчина кивает и вытирает пальцем глаз.
– Задавайте. Не знаю, правда, что я еще могу вам сказать.
– У вас нет никаких соображений насчет того, что он вообще здесь делал? Ведь он должен был понимать, что это рискованно в его возрасте – отправиться в такое путешествие одному, да еще в середине зимы. От Огайо путь неблизкий. Мне кажется, он собирался что-то сделать или с кем-то встретиться. Что вы думаете по этому поводу?
Мужчина качает головой:
– Клянусь, я не имею ни малейшего представления о том, что ему здесь понадобилось.
Что-то в его голосе подсказывает детективу, что он лжет. Детектив хочет что-то сказать, но осекается и замолкает. Нет смысла давить на парня. Ему и так нелегко.
***
Она дошла до того места, где Арчер-авеню резко поворачивает налево. Она слышит шум автомобиля, но из-за ветра непонятно, с какой стороны этот автомобиль приближается. Да это и не имеет большого значения. Она уже не чувствует ни рук, ни ног. Даже если машина едет ей навстречу, ни один водитель, если у него есть живая душа и способность к состраданию, не оставит ее на холоде в такую ночь.
Она выходит на середину дороги, смотрит вперед и назад, затем начинает махать руками. Скоро она видит свет фар, приближающийся к ней из-за изгиба дороги. Как чудесно! Машина движется в ту сторону, куда ей надо. Она готовится закричать водителю и уже делает шаг к обочине, в сторону от машины, как вдруг из-за резкого порыва ветра теряет равновесие. Ее белые туфли скользят на пятне черного гладкого льда, и она, всплеснув руками, падает прямо под колеса автомобиля.
***
– Сестренка? Это Джозеф. Слушай, я тут в доме отца, и… Что?
– Я спросила: ты знаешь, сколько сейчас времени?
– Да. Извини, что разбудил. Я три дня пытался дозвониться до отца. Он не брал трубку.
– Господи! Что случилось? Как он?
– Его здесь вообще нет! И машины нет. Он оставил на столе конверт. В нем завещание, банковская книжка, сертификаты на акции, документы на дом – он оформил его на тебя – и еще… письмо.
– Что в письме?
– Нет, не по телефону. Ты можешь приехать? Я позвонил в полицию, и мне надо их здесь дождаться.
– Я буду через час. Ты-то как?
– Да как? Никак. Но спасибо, что спросила.
– Как ты думаешь, куда он поехал?
– Когда приедешь… Я все расскажу, когда приедешь.
***
Водитель грузовика с полуприцепом до последнего не видит припаркованного автомобиля, и у него нет времени ни затормозить, ни уйти в сторону – только не на этой дороге, не на этом голом льду. Он врезается в машину и толкает ее дальше – летят искры, осколки стекла дождем обдают кабину, – затем сшибает снеговика, слепленного прямо посреди дороги, и наконец машина отскакивает от грузовика, выезжает на обочину и скатывается вниз по заснеженному склону.
Водитель колотит кулаками по рулю, ругается последними словами, но не останавливается. Снег падает так плотно, что дороги почти не видно. Если он опоздает с доставкой груза, то придется отвечать.
«Что за идиот! – думает он. – Будет теперь знать, как парковаться на таком повороте в такую погоду». Ну какой нормальный человек оставит машину в опасном месте для того, чтобы пойти и слепить снеговика прямо посреди дороги?
Через несколько миль он замечает, что на больших, ледяных комьях снега, прилипших посередине лобового стекла, там, где их не мог достать ни левый, ни правый дворник, видна кровь.
«Господи, пожалуйста… Боже мой, нет!»
Он съезжает на обочину и останавливается, чертыхаясь, спеша, достает из-под сиденья фонарик, открывает дверь, встает на подножку и осматривает капот.
Кровь и волосы. В комьях льда и снега – кровь и волосы. Он встряхивает головой. Нет, это просто снеговик. Это просто снеговик – и все. Но откуда кровь? Наверное, это птица. Да, птица. Птица ударилась о капот, а он не заметил.
«Но у птиц нет волос», – возникает шепот на задворках сознания.
– Нет, – громко говорит Руди. – Нет. Это была птица. Птица ударилась о капот, а я не заметил. – И это помогает. Не очень, но помогает. И он едет дальше – руки у него дрожат, он знает, что это не могла быть птица, но снова и снова убеждает себя в обратном – и очень хорошо понимает, что это будет преследовать его всю оставшуюся жизнь.
***
– …Очень красивая девушка, тут уж не поспоришь. Длинные светлые волосы, миловидное лицо. Она напомнила мне мою младшую дочь. Я увидел ее в танцевальном зале «Уиллобрук» – когда-то он назывался «О’Генри», а потом его выкупили новые владельцы и решили все там… подновить, что ли.
Она подошла и пригласила меня на танец. Я рассудил: почему бы нет – она была страшно вежливой, не то что нынешние девушки, – и мы не слишком долго, но очень недурно потанцевали. Видели бы вы, как она была одета! Длинное белое платье, глаз не отвести, и белые туфли. Это, наверно, прозвучит слащаво, но она была похожа на ангела с рождественской открытки.
Но было кое-что такое… она была ужасно холодной, хотя была только осень и в зале было тепло. Спина, руки, щеки. Очень холодные. У меня жена вроде как мерзлячка… Нет, она у меня хорошая, не подумайте, но знаете, иногда у нее руки прямо как лед… Так вот она говорит, это все из-за того, что у нее кровь плохо по жилам циркулирует… Так, о чем я говорил? Ах, да.
Эта девушка была по-настоящему холодной, и я говорю, мол, дать тебе куртку? Она вежливо меня благодарит, и я накидываю свою куртку ей на плечи. Она спрашивает, не могу ли я подвезти ее домой, и я говорю: конечно, о чем разговор? Мы едем переулками, и она просит меня свернуть на Арчер-авеню. Я сворачиваю, едем дальше и болтаем о погоде, о том, как изменился «Уиллобрук», обо всем подряд, и тут мы подъезжаем к кладбищу Воскресения, и она просит меня остановиться. Я про себя думаю: странно как-то, – но останавливаюсь.
Она отдает мне куртку, опять благодарит, говорит, какой я джентльмен, затем выходит из машины и направляется к воротам кладбища. Я думаю, ничего себе: пол-одиннадцатого вечера, а она к мертвякам в гости. Кричу ей вслед, что кладбище закрыто, что надо бы ей вернуться в машину, и я отвезу ее домой. И тогда она оборачивается, смотрит на меня, улыбается и говорит: «Я уже дома». А потом… просто растворяется в воздухе.
И тогда я понял, кто она такая, и, можете мне поверить, чуть штаны не обмочил. Вот оно как. Ты слышишь все эти рассказы о ней, но никогда не думаешь, что сам когда-нибудь можешь с ней повстречаться… ну, вы понимаете, о чем я. Дня не проходит без того, чтобы я ее не вспоминал. Плакать хочется, как подумаешь, какой смертью она умерла – одна, на дороге, среди зимы. А сукин сын, который ее сбил, даже не остановился. Может, он до сих пор жив. Надеюсь, в его жизни не было и мгновения покоя.
Она была хорошей девушкой и не заслужила такого, понимаете?
***
Старик удивляется сам себе; за десять часов поездки он остановился только два раза – чтобы помочиться. В последний раз он написал свое имя на снегу, как, бывало, делал в детстве. При этом он даже искренне посмеялся – наверное, впервые за последние двадцать лет.
Он добрался до места вопреки снегу и ветру. Раза три его чуть не сдувало с дороги. По радио сказали, что такие погодные условия можно классифицировать как «снежную бурю», но это его не остановило.
И вот он наконец снова здесь, спустя столько лет, после стольких кошмаров. Целая жизнь прошла. Арчер-авеню. Но теперь, теперь он едет медленно. В этот раз он увидит ее заранее. В этот раз он остановится. В этот раз он все сделает правильно – он надеется, что этого будет достаточно.
Он включает радиоприемник, настраивает его на местную станцию, передающую «приятную музыку». Сегодня вечер больших джазовых оркестров. Гленн Миллер. Стэн Кентон. Спайк Джонс. Эта музыка подходит старику как нельзя лучше. Да, сэр. До тех пор, пока они не поставят Бинга Кросби, особенно «Black Moonlight».
Он выходит из поворота и едет по прямому участку. По обеим сторонам дороги густо растут деревья, они закрывают глубокую ложбину, куда обрывается обочина. Если он не будет внимателен, то может случайно съехать с дороги – даже одним колесом будет достаточно – и кувыркнуться вниз на добрых семь футов. Он скатится на дно ложбины, и с дороги, из проезжающих автомобилей, его уже не будет видно. Но он будет вести машину осторожно – как должен был вести ее в 37-м.
Свет фар мерцает, когда густые снежные облака взбираются по капоту и рассыпаются на ветровом стекле. Но на этот раз у него обогреватель стекла стоит на максимуме; на этот раз у него установлены дорогие дворники; на этот раз он очень внимателен. Он ездит взад и вперед – час, два. Проходит еще полчаса, и он замечает, что стрелка, показывающая уровень бензина, уже близка к нулю.
– Ну где же ты? – спрашивает он, обращаясь к снегу и мраку. Он не ждет ответа, но все же… Он ведь слышал рассказы об этой дороге, о том, как другие люди видели ее, говорили с ней, подвозили ее домой.
– Ну где же ты? – снова спрашивает он, на этот раз громче. Он съезжает на обочину, следя за тем, чтобы не слишком приближаться к обрыву. Чуть ли не половина машины стоит на проезжей части, но ему все равно. Он прижимает ладони ко лбу, глубоко вздыхает и глушит двигатель.
Некоторое время просто сидит, глядя в морозную ночь. А снег вьется вокруг машины. Он так устал, так устал. Ему кажется, что вдалеке он видит двух всадников в средневековой одежде, они скачут к монастырю, где один из них создаст свой последний шедевр.
Он открывает дверцу, выходит из машины и идет по дороге в сторону кладбища Воскресения. У него болят колени, в ногах слабость, но по крайней мере на нем теплое зимнее пальто, зимние перчатки и шерстяная шапка – подарок Генриетты на последнее Рождество, когда она была еще жива.
Не дойдя до кладбища несколько сотен ярдов, он чувствует, что дальше идти не может. Он останавливается, набирает снега и делает снежок. Снег хорошо лепится. Он усмехается и принимается лепить снеговика – точнее, снежную девушку, – совсем забыв, что находится посреди дороги. У него уходит сорок минут на то, чтобы выполнить задуманное, и под конец он совсем не чувствует рук – не помогли даже толстые перчатки. Лицо он вылепить не может, но это его не расстраивает, потому что он помнит это лицо с кристальной ясностью – до самой последней черточки.
Он отступает от фигуры и улыбается, затем протягивает к ней руки.
– Могу я пригласить вас на танец? – спрашивает он.
И вот он стоит, с вытянутыми руками, часто моргая из-за летящего в глаза снега, и слышит рев двигателя, грохот столкновения, металлический скрежет и звук разлетающегося стекла. Он подступает ближе к ней, дотрагивается до ее холодной кожи – да, все ведь говорили, что ее прикосновение было очень холодным. Бедняжка. Бедняжка.
Он стоит и улыбается, а приближающийся свет фар, кружащийся снег и искры создают вокруг нее чудесную зимнюю ауру. Он закрывает глаза. «Вот ты где», – думает он. Он не дрожит. «Я вижу тебя в ночи». Он задерживает дыхание. Задерживает дыхание. Задерживает дыхание. Задерживает…
Послесловие
В Ньюарке, в 1968 году, местная радиостанция каждую пятницу передавала какую-нибудь «старую» программу. Это были выпуски таких передач, как, например, «Без света», «Привидения. Рассказы о сверхъестественном», «Цена страха» и «Макабр». Как-то вечером в одной из передач прозвучал классический рассказ Люсиль Флетчер «Автостопщик» («The Hitchhiker»). Мне тогда было восемь лет, и рассказ испугал меня до чертиков. С тех пор я помешался на историях о привидениях. Отдельной статьей шли рассказы о призраках-водителях, призраках-пассажирах, призраках-автомобилях и призраках-дорогах. Мысль о том, что вот ночь, ты один на дороге, а за тобой следует – или, что еще хуже, находится с тобой в одной машине – что-то сверхъестественное и отнюдь не дружественное, терзала мое молодое воображение. Когда пришло время написать рассказ для этого сборника, я сразу решил, что расскажу историю о привидении на дороге. Возможность воссоздать легенду о Мэри с кладбища Воскресения казалась мне настолько заманчивой, что я не смог ей не воспользоваться. Кроме того, я всегда хотел попробовать написать рассказ о призраке, в котором сам призрак так и не появляется. Ну, если только посредством чувства вины. Потому что вина – это ведь тоже призрак.
Гэри Браунбек – автор девятнадцати книг, среди которых известный роман «В безмолвных могилах» («In Silent Graves»), первый роман продолжающегося цикла о городе Сидар-Хилл. Его проза была переведена на японский, французский, итальянский, русский и немецкий языки. Его рассказы, а их почти двести штук, появлялись в различных журналах и сборниках, включая The Magazine of Fantasy & Science Fiction и The Year’s Best Fantasy and Horror. Он родился в Ньюарке, штат Огайо, и этот город служит моделью для вымышленного Сидар-Хилл, фигурирующего во многих его произведениях. В качестве редактора Гэри заканчивал последний выпуск антологии «Маски», созданной Джерри Уильямсоном (во время работы над сборником «Маски-5» Джерри сильно заболел и не смог закончить его сам), и вместе с Хэнком Швэблом редактировал антологию Five Strokes to Midnight, получившую премию Брэма Стокера. Работы Гэри отмечены пятью премиями Брэма Стокера, премией Международной гильдии критиков в жанре ужасов, тремя премиями «Шокер» проекта Shocklines, премией «Черное перо» журнала Dark Scribe Magazine и номинацией на Всемирную премию фэнтези. Посетите его интернет-сайт на .
Эрзебет Йеллобой По следу Двуликой женщины
На город накатывает буря. Ветер пластает по земле полынь и швыряется в забор щербатым перекати-полем. В эти суровые часы улица говорит: среди нас стукач; Джекса вырвало кровью, и его отвезли в больницу; полиция собрала специальную группу по борьбе с метамфетаминовой зависимостью, и сегодня у них первое открытое заседание. Интересно, хватит ли у нее наглости прийти.
Мы с Эм, под одним одеялом на двоих, сидим на диване. В углу мерцает старый черно-белый телевизор. Приглашения на заседание мы не получали. Никто из нас, жителей в этой части города, никогда туда не ходил и никогда не пойдет. Ни один из этих специалистов не знает, что каждый дом в нашем квартале насквозь провонял кошачьей мочой; что во дворах у нас стоят чучела, потому что нас совсем одолело воронье; что ночью мы не выйдем на улицу, даже если у нашего порога будут кого-то убивать. Потому что пока это касается только нас, больше это никого не волнует.
Их врачи доискиваются до причин проблемы, их закон определяет, как они будут справляться с проблемой, они ходят вокруг проблемы кругами и говорят, говорят… Наверное, они будут говорить и тогда, когда проблема наступит на них и раздавит в лепешку. Эти дураки даже не увидят ее, когда она подойдет к ним бесшумной, грациозной походкой. Я знаю о ней все – и как бы я хотела, чтобы Двуликая женщина обошла стороной мой квартал. Я постоянно твержу моей младшей сестренке Эм: если видишь ее, сразу беги прочь. Но Эм мне не верит. Эм любит меня, но никогда не слушается.
В том-то и дело. В нее сейчас мало кто верит. Ей удалось увести нас в сторону от тропы осмысленной жизни. А ведь когда-то мы знали, как жить. Мы шли по этой тропе. Бабушка рассказывала мне об этом – до того, как она вернулась домой, на звезды. Она рассказывала мне и о Двуликой женщине. Я считала, что она просто придумывает эти истории. Тропа давно поросла травой – но мне все равно следовало слушать бабушку.
Может быть, тропы больше нет, но Двуликая женщина есть – прямо здесь и сейчас. Мы больше не узнаём ее, поэтому она прибирает к рукам нас всех. В прошлом она преследовала мужчин. Она искушала их, дразнила томным взглядом и отблеском света на темных волосах. Но наши предки хорошо знали рассказы о ней. Они находили в себе силы не идти за Двуликой женщиной. А мы широко раскрываем ей объятия, потому что позабыли все то, во что они верили.
Она была самой красивой женщиной на земле – так гласит легенда – и слишком гордилась этим. Она попыталась обольстить солнце, что светит в небе, и поплатилась за это. Половина ее прекрасного лица стала уродливой. Но это не остановило ее. Она прошла насквозь тополиные рощи и широкие равнины. Теперь она идет через небольшие городки, когда-то возникшие на месте колодцев, где караваны фургонов пополняли запасы воды. Она чувствует себя как дома в больших городах, в предместьях, в гетто. Проникая всюду, она прельщает нас всех. Она стала всеобщей проблемой. Двуликой женщине удалось то, что не удалось нам: она сокрушила все барьеры и границы, установленные цветом кожи, социальным положением и религиозным мировоззрением. Неплохо для забытой легенды. Я бы посмеялась, но, к сожалению, в этом нет ничего забавного.
Она добралась до меня давным-давно. Тогда я была еще девчонкой. Прогуливала школу, болталась по улицам с друзьями, двоюродными братьями и сестрами – беспечная, как все дети. В тот день была такая жара и время текло так медленно. Мы играли со старым, истрепанным садовым шлангом. Может быть, если бы я не обратила на нее внимания, она бы так и прошла мимо. Но я смотрела на нее во все глаза. У нее было все, чего не было у меня. Она была темной, словно земля, а волосы у нее были черные-пречерные, словно беззвездная ночь. Она обернулась и посмотрела на меня – искоса, как будто обещая что-то. И я попалась на крючок.
Я вглядывалась в ее прекрасное смуглое лицо, половина которого была скрыта угольно-черными прядями. Ее губы были прелестны, как цветок, и мне захотелось поцеловать их. Но вместо поцелуя она протянула мне трубку, и я вдохнула в себя дым – для нее, только для нее. Я не знала, к чему это приведет. Мы никогда не знаем – или, может быть, знаем, но нам все равно. Теперь я понимаю, что у меня просто не было шансов. Я пошла за ней.
Земля под моими ногами сменилась потрескавшимся гранитом, гранит – асфальтом, асфальт – якорцами, стелющимися по камням и песку. Сухой летний жар окружал меня стеной. Так трудно было идти сквозь эту стену! Наверное, даже сам воздух знал, что впереди меня ждет опасность, и старался меня остановить. То и дело я взглядывала на нее, идущую передо мной. Изящная спина, скользящая походка – она шла аккуратно, по струнке, словно самка оленя, забредшая в человеческое селение. Волосы у нее были распущены. Они свободной, дикой волной стекали по спине и заканчивались у верхнего края мягкой оленьей кожи, перехватывавшей ее бедра. Ее одежда, искусно расшитая бусинами, уместнее смотрелась бы в музее, чем здесь, на пыльных улицах, где самым красивым предметом был обыкновенный булыжник.
Так мы прошли до заброшенной стоянки в конце нашего квартала, где среди ржавых, ободранных до последней гайки автомобилей росли шалфей и индейская кисть. Она села на валун, и я села подле нее. Она протянула мне трубку, поднесла к ней зажженную спичку – для меня, все только для меня. Она ни разу не взглянула мне в глаза. Теперь я понимаю почему. Она скрывала свою уродливую половину – правду я должна была узнать позже. Я затянулась. Когда я открыла глаза, ее уже не было.
«Давай, девочка, – могла бы сказать она. – Тебе будет хорошо». И мне было хорошо. На какое-то время я забыла, что я всего лишь пылинка на чистом белом льне. Я узнала, каково это – быть избранной. Она любила меня.
Но теперь, когда с того дня прошло уже немало лет, Эм спрашивает у меня совета, но я не знаю, что ей сказать. Я каждый день ищу эту трубку. Я говорю ей: мне уже нечего ловить. Тебе нужно найти свою тропу. А я уже даже не знаю, в какую сторону смотреть.
Может быть, я бы в конце концов разобралась, как мне жить дальше, но я была слишком занята поисками Двуликой женщины. Так она действует. Она показывает нам свою красивую сторону – ту, что манит нас изгибом щеки и бархатистостью ресниц. Мы оглядываемся – не видит ли кто? Нет, никто не видит. А она смотрит на нас, улыбается и ждет – только нас, одних нас. Может быть, это ее запах или следы ее ног на разбитом тротуаре. Не знаю. Знаю только, что с ней мне очень хорошо.
А когда она уходила, я начинала метаться, как в лихорадке. Мысли роились, летели наперегонки, но в конце оказывалось, что все они об одном: о ее лице. И я снова выходила на поиски. Снова и снова, пока, кроме нее, ничего не оставалось. Я видела ее на каждой лестнице, в каждом окне. Я могла постучать в любую дверь – и там она ждала меня, с трубкой в руке.
Иногда я прихожу домой. Там меня ждет Эм. Лицо Эм не так красиво, как у нее. Эм пытается поговорить со мной, но у меня нет времени. Я сплю и возвращаюсь к ней. Так я живу. Иногда Эм хочет пойти со мной, но я говорю: нет, Эм, ты останешься дома. Если она хватает меня за рукав, я отталкиваю ее, возможно, слишком грубо, и отворачиваюсь, чтобы не видеть слез, которые она отчаянно пытается скрыть. От меня, своей старшей сестры. Не возвращаюсь я долго.
Как-то раз, когда я сидела на диване еле живая от слабости и глядела на полупустую бутылку бог знает чего, ко мне зашел мой старый приятель Угорь. Мы звали его Угрем, потому что он никогда не попадался. С первого взгляда можно было определить, что он провел с ней немало времени.
– Покурить есть? – спросил он. Он говорил не про ее дым.
– Ага. – Я протянула ему кисет. Тонкими, как у скелета, пальцами он набил сигарету. Достал из кармана коробок спичек. Пламя показало истинную глубину теней у него под глазами. Сквозь него было видно стену.
– Ну, ты как вообще? – спросил он. Я рассказала и, закончив рассказ, тоже спросила:
– А ты?
– Да потихоньку, – сказал он. – Хотел показать тебе кое-что.
Он ткнул себе в ладонь зажженной сигаретой, и она прошла сквозь нее – легко, будто просто сквозь воздух. Я была так обезвожена, что просто не могла заплакать. А стоило бы. Двуликая женщина увела Угря, моего хорошего друга. Она совсем увела его от нас.
Потом он ушел, но не через дверь. Не сходя с места, он медленно выцвел и рассыпался мельчайшими пылинками, которые погасли одна за другой, словно звезды перед рассветом. Я встала и отправилась ее искать.
Тогда-то я начала замечать и других призраков. Я видела их везде – в любой толпе, в любом собрании людей. Их одежда была изношенной и рваной. Их глаза тлели, как догорающие угли. Они курили и пили всё, что им предлагали – совершенно как все вокруг, – и все вокруг были пьяны или обкурены и не замечали, что они призраки. Но даже в самом густом дурмане я видела их. Они заговорщицки улыбались мне: я ведь разделяла с ними их секрет, я знала об их существовании – и не могла никому рассказать.
Из-за них я стала задумываться о таких вещах, о которых раньше никогда не задумывалась. Мне приходит на ум, а не видят ли призраков и эти – из другой части города. Может быть, призраки ходят на их заседания и нашептывают им в их холодные, бледные уши. Может быть, они прислушаются к призракам, раз уж не прислушиваются к нам. Каждый раз, когда я встречалась с Двуликой женщиной, я внимательно оглядывала ее. Она была по-прежнему прекрасна, свежа и реальна, словно живое, зеленое дерево. С ней ничего не происходило. Я научилась не обращать внимания на призраков, не замечать их улыбок. Я забыла о них на какое-то время. Меня мало что занимало, кроме ее трубки.
Но в последний раз все было иначе. Она протянула мне трубку. Взяв ее, я поднесла к ней огонь, вдохнула. Она наблюдала; она всегда наблюдает, она наслаждается вместе с нами, хотя ее губы никогда не касаются чубука. Я закрыла глаза, отдаваясь приходу. Когда я открыла их, лицо Двуликой женщины было повернуто ко мне уродливой стороной.
Я расскажу кое-что об уродливой стороне ее лица. Ты можешь увидеть ее только тогда, когда зашел слишком далеко и пути назад нет. Она показывает тебе свое другое лицо, но бежать уже поздно. В этом лице я увидела, во что я превратилась.
Я пошла домой и проспала три дня. Затем я пришла в сознание – и был мой черед ждать. Не знаю, сколько дней я сидела в холодном доме. Меня всю колотило, я смеялась – и это был смех безумия, – рвала на себе волосы, царапала лицо. Я бросалась к двери при каждом скрипе, каждом шорохе, думая, что это Эм, что она наконец вернулась домой. Я кидалась к окну каждый раз, когда мимо дома проезжала машина. В конце концов я сдалась. Сестренка не возвращалась, а я не могла больше ждать. Где-то на улице была Двуликая женщина, и я должна была идти к ней.
Я искала везде и не могла найти ее, но в один из дней я увидела Эм. Она шла по улице вместе с подругами. Я видела, как одна из девочек достала что-то из кармана и, прикрывая рукой, показала приятелям. О Эм! Как же так?! Я знала, что это была ее трубка. Девочки свернули в переулок, а я осталась стоять посреди улицы. Если бы могла, я бы заплакала, но во мне не осталось слез.
Телевизор мерцает в углу, ветер завывает за заклеенным скотчем окном. Эм свернулась у меня на коленях. Она такая маленькая, такая хрупкая. Я смотрю на свои руки, на волосы. Никто никогда больше не захочет пойти со мной. Когда-то я была красивой, но вся моя красота давно усохла и рассыпалась. Эм глядит на меня – глядит так же, как я глядела на Двуликую женщину, до того, как она повернулась ко мне своей уродливой стороной. Мне хочется сказать ей: нет, Эм, никогда не бери пример со своей старшей сестры. Но, конечно, на самом деле она смотрит не на меня – перед ней сейчас Двуликая женщина, и даже если Эм отвернется, она никуда не исчезнет.
Послесловие
Двуликая женщина, подобно Женщине-оленю, – это персонаж, пришедший из фольклора американских индейцев. Индейцы верили, что она бродит по лесам и равнинам и губит неосторожных путешественников. Пораженные ее удивительной красотой, они сходят с тропы и устремляются к ней в объятия. И тогда она показывает свою ужасную природу, но спасение уже невозможно. Этот рассказ написан под впечатлением от моей жизни на западе, где я своими глазами видела последствия употребления метамфетамина индейской молодежью. В тех местах Двуликая женщина – это не просто миф. Она живет среди людей, среди всех нас.
Эрзебет Йеллобой является редактором журнала Cabinet des Fées, публикующего сказочную прозу, и основателем Papaveria Press, частного издательства, которое специализируется на эксклюзивных, переплетенных вручную изданиях мифологической поэзии и прозы. Ее рассказы и стихотворения появлялись в таких журналах, как Fantasy Magazine, Jabberwocky, Goblin Fruit, Mythic Delirium, Electric Velocipede и др. В 2010 году вышел ее второй роман «Спящая Хелена» («Sleeping Helena»). Для получения более подробных сведений об Эрзебет Йеллобой посетите ее интернет-сайт на .
М. К. Хобсон Оукс-парк
Тебе тридцать девять лет, ты женщина и мать, и ты только что не сказала мужу того, что могло бы спровоцировать скандал и драку. Лето почти кончилось, но дни еще длинные, а вечера еще теплые и полны гудения мух и слепней, и от этого тебе грустно, но ты не знаешь почему. У тебя есть дочь, которую ты уже не понимаешь, хотя ей всего двенадцать. Даже собственная жизнь для тебя загадка, ты проводишь день за днем в тумане неясного недовольства, всякая способность к принятию решений и отстаиванию собственного мнения утеряна в бесконечных компромиссах с семьей, ограничениях брака, и каждый новый день накрывает тебя с головой, словно дырявое покрывало.
***
У твоей дочери много подруг – загорелых исцарапанных созданий, таких же диких и невозможных, как и она. Они как будто с другой планеты. Они появляются словно из воздуха, оказываются у тебя за спиной, а ты никогда не слышишь, как они подбираются к тебе. Они похожи друг на друга, как две капли воды. Они валяются на диванах в темных прохладных комнатах, смотрят «Тин Ник», потягивают «Капри санз», сминают упаковки лапши быстрого приготовления и набивают рот вкусным крошевом. Они оставляют за собой следы из оберток и крошек. Как-то твоя дочь, которую подговорила ее лучшая подруга, неотличимая от нее, спрашивает: «Когда ты повезешь нас в Оукс-парк?» – и ты отвечаешь: «Когда ты уберешься в своей комнате»; ты знаешь, что она никогда этого не сделает, и поэтому тебе никогда не придется везти ее в Оукс-парк.
***
А потом ты слышишь разговор твоей дочери с двумя другими ее друзьями, мальчиком и девочкой, неотличимыми от нее, – исцарапанные коленки, загорелая до черноты кожа, волосы, как верхушки молодой кукурузы, и футболки, демонстрирующие их неколебимую преданность героям аниме. Они сидят в тени крыльца, лижут фруктовое мороженое на палочке и капают разноцветной слюной на серые от солнца и времени ступеньки.
– В Оукс-парке есть привидение, – говорит мальчик. – Там кто-то умер, и теперь там бродит призрак.
Ты замираешь и прислушиваешься. Раньше ты об этом никогда не слышала. Ты хочешь спросить: «Кто там умер? Там и в самом деле есть привидение? Как оно выглядит?» Но никто из детей наверняка не знает никаких подробностей, поэтому эти вопросы остаются незаданными и неотвеченными. Дети бегут на улицу и уносятся на своих велосипедах, оставляя после себя обертки, палочки и лужицы сахарной сладости – муравьям на радость.
***
Ты выходишь в Интернет.
Оукс-парк – небольшой парк аттракционов, расположенный в 3,5 мили (6 км) к югу от центральной части Портленда, штат Орегон.
Парк был построен Орегонской гидроэнергетической и железнодорожной компанией и открыт в 1905 году. В то время парки для отдыха и развлечений часто сооружались поблизости от трамвайных путей.
Большой деревянный каток для катания на роликах открыт круглый год. Примечательно, что в Оукс-парке до сих пор сохранился орган – теперь он является самым большим в мире органом, установленным на катке.
В настоящий момент штатным органистом Оукс-парка является Кейт Форчен, который играет по четвергам и воскресеньям.
Всё разноцветное, шумное, павильоны, лотки со сладостями, женщины в юбках с клиньями и мужчины в соломенных шляпах. Ты узнаешь, что двери и окна в танцевальном зале снабжены сетками от насекомых и что пол катка покоится на понтонах и поэтому остается на плаву, когда разливается протекающая неподалеку река Уилламетт. О мертвом ребенке или о привидении – ничего. От этого настроение у тебя немного улучшается. Поселившаяся внутри смутная тревога отступает. Возвращается муж, и вы не говорите о том, о чем вы оба не хотите говорить, и ты готовишь ужин, и вы едите перед телевизором, задернув окна от летнего солнца, которое летом так поздно закатывается за горизонт.
***
На следующий день ты получаешь электронное письмо от молодого человека, которого зовут Чак. Он работает в Оукс-парке. Ты уже забыла, что писала ему, – время Интернета не похоже на обычное время. Но когда сообщение появляется в твоем почтовом ящике, ты вдруг вспоминаешь, что заполнила на сайте форму, озаглавленную «вопросы об истории парка». Твой вопрос был коротким.
Есть ли в Оукс-парке привидение?
Ответ Чака почти столь же краток.
Некоторые посетители и сотрудники парка сообщают, что видели призрак девочки. На вид ей лет двенадцать. На ней типичная для 70-х годов одежда. Она крадет сладкую вату и катается на аттракционах. Ее любимый аттракцион – «Осьминог».
Твои пальцы яростно печатают вопрос:
Она счастлива?
Но ты не нажимаешь кнопку «Отправить», потому что ты понимаешь, что Чак не знает ответа. Скорее его знаешь ты.
***
Когда ты в последний раз ездила в Оукс-парк, тебе было двенадцать, и это был 1977 год.
Ты помнишь, как ты сидела на заднем сиденье «доджа», американская сталь неслась по узкому Селлвудскому мосту, а во все четыре открытых окна лился убийственный жар.
Руки у тебя липкие от пота, и ты одета в шорты «Хаггар» и футболку «Гаранималз», купленные в магазине «Сирз сёплас» в Ллойдовском торговом центре. Волосы у тебя светлые, как верхушка молодой кукурузы, а кожа загорелая до черноты и покрытая царапинами – их до того много, что ты похожа на карту звездного неба.
Твои родители холодно молчат – они ссорились всю ночь напролет. Это твоя награда, твои репарации, гарантирующие то, что в этом мире все идеально.
Профиль твоего отца жесткий, красивый и мужественный. Лицо мамы свежее и нежное, у нее гладкая стрижка, как у Дороти Хэммилл, большие, янтарного цвета солнцезащитные очки, внимательный взгляд. Твои ноги липнут к винилу. По радио играет «Отель Калифорния».
Твои родители останавливают машину под узловатыми, нездоровыми деревьями. Кажется, будто небольшая стоянка расположена не в том месте; чтобы доехать до нее, надо миновать сторожку и мастерскую, перед которой разбросаны старые детали от аттракционов. Ты входишь в парк через задние ворота, как будто пробираешься туда тайком, аккуратно обходя самые крупные трещины в разбитом асфальте и стараясь не споткнуться о корни деревьев. Твои родители поотстали и негромко меж собой разговаривают. В последнее время они говорят друг с другом, только когда ты их не можешь слышать.
Чтобы добраться до новых аттракционов, тебе нужно пройти старую аллею, вдоль которой стоят брошенные аттракционы, не работающие уже много лет. Старые здания рассыпаются величественно и не спеша: серебряное дерево и лупящаяся краска, великолепные фонари с разбитыми в незапамятные времена лампами, на которых свили гнезда птицы, кучи тополиного пуха в давно неметеных углах.
Круглый вход одного покосившегося строения забит досками. Он похож на гигантскую решетку ливневого стока. Ты бежишь к нему, вглядываешься в щель между досками – что там, в темноте? Прохладный воздух, сочащийся сквозь щель, пахнет плесенью. Родители зовут тебя, и ты бежишь туда, где расставлены новые аттракционы – стальная паутина колеса обозрения, разноцветный зверинец карусели, гигантский конструктор американских горок, собранный из ржавого железа, огромных болтов и перепачканного машинным маслом дерева. Дальше к северу тянется трасса для картов, пахнущая бензином и жженой резиной; за ней начинается долина реки, зловонное болото, по которому разбросаны отслужившие свой срок автомобили и разлохмаченные шины. А дальше по аллее светится неоновая вывеска «Самолеты», но на самом деле там стоит «Осьминог», вращающий щупальцами, в которых он держит черные луковицы кабин.
Ты стоишь в очереди, чтобы прокатиться на «Осьминоге», и видишь возле лотка со сладостями парня и девушку. На ней майка и светло-голубые шорты, и у нее длинные гладкие волосы, струящиеся вниз по спине. Она заложила за пояс большой палец, а сгибом локтя придерживает плюшевую обезьянку – видимо, выигранную в каком-нибудь призовом аттракционе. У парня густые кудрявые волосы, и он обнимает, по-хозяйски поглаживает ее. Ты хрустишь воздушной кукурузой. Ты не понимаешь их и вдруг осознаешь, что и не хочешь их понимать. Отец куда-то отлучился, и с тобой сейчас только мать. Она понимает их. У нее на лице грусть и боль.
Солнце палит по-прежнему, но ты начинаешь мерзнуть. Очередь движется, и тебе уже скоро садиться на «Осьминога», но ты чувствуешь, что скоро небо затянется облаками, ты чувствуешь, что скоро пойдет дождь, скоро станет холодно. Твои родители будут скандалить и драться, скандалить и драться. Начнется учеба, и у тебя будут новый учитель в классной комнате с натертыми полами и новая одежда, а затем колледж, и ты окажешься далеко-далеко отсюда, оттуда, где старые мудрые здания поддерживают порядок времен. Ты станешь девушкой с прямыми блестящими волосами, у тебя появится кудрявый парень в обрезанных по колено джинсах. Вы займете место своих родителей. Тебе исполнится тридцать девять лет, ты станешь женщиной и матерью, и все будет бессмысленно и не очень больно. Ты видишь все это в течение одного долгого ужасного мгновения, ты видишь, что все это будет повторяться и повторяться без конца.
***
Ты катаешься на «Осьминоге» с матерью. А затем ты убегаешь.
Ты находишь безлюдное место, замусоренный угол между электрическими аттракционными автомобилями, неподалеку от уборных. Ты забиваешься туда, садишься, обхватываешь колени руками. Прижимаешься лбом к коленям и закрываешь глаза.
Ты представляешь себе призрака, пустую оболочку, которую можно бить и мять, уступчивую, как твоя мать, когда перед ней маячат огромные кулаки твоего отца, податливую, как та девушка с длинными гладкими волосами, когда кудрявый парень нависает над ней, словно туча, закрывающая солнце. Ты притворяешься, что это существо есть на самом деле. Ты приказываешь ему занять твое место, там, в мире других людей. Ты шепчешь: «И не смей сюда возвращаться». Ты думаешь, что это как игра, как прятки. Ты спрячешься от времени и страха, от предательства и горя. Она, эта другая девочка, вместо тебя поедет в машине твоих родителей, вместо тебя будет жить в их доме. Она будет спокойно жить такой жизнью, потому что в ней нечему страдать, она не будет чувствовать страха, потому что она не чувствует вообще ничего. Легкая и неосязаемая, как туман, как воздух, пойманный покрывалом. А ты останешься в Оукс-парке. Днем, в самые жаркие часы, ты будешь спать, а вечерами, когда зажигаются фонари, старые дома будут шепотом рассказывать тебе о том, что они видели за свою долгую жизнь. Ты будешь дружить с ними, и они будут заботиться о тебе вечно.
***
Тебе тридцать девять лет, ты женщина и мать.
Ты просыпаешься утром после череды беспокойных снов, тягостных, бегущих по кругу снов, полных криков и тусклого света и запаха жженого сахара, и опять скандалишь с мужем. Ты говоришь ему, что он испортил тебе жизнь. Ты говоришь, что очень жалеешь, что вышла за него замуж. Говоришь, что никогда не любила его. Говоришь, что ненавидишь его, и, говоря это, сама чувствуешь – это чувство подобно тошноте, – что это правда. Вы долго орете друг на друга, и оба опаздываете на работу, а дочь опаздывает в школу.
Ты отвозишь ее. Она, съежившись, сидит на заднем сиденье, и ты скорее ощущаешь, чем видишь, ее тревогу. Ты ее хорошо понимаешь. Ты помнишь его, это чувство, когда все разваливается, когда мир вокруг рушится. Это странное и незнакомое воспоминание. Оно как будто принадлежит кому-то другому, кому-то, похожему на тебя.
Ты не едешь на работу. Ты возвращаешься домой и сидишь в гостиной на диване, а зной, словно кипяток, льется на дом сверху и лезет в открытые окна. Ты задергиваешь занавески, преграждая ему путь, включаешь все вентиляторы, но все равно ужасно жарко. Задремываешь, и тебе снятся здания с облезшей краской, с забитыми окнами и дверями. Ты думала, они таят свои тайны, ты думала, они мудрые. Но в них ничего нет. Ты просыпаешься от собственного крика.
Вечером ты едешь в Оукс-парк.
Воздух покоен, чист и пронизан светом. На закате ты сворачиваешь с Селлвудского моста, и солнце бьет в глаза с такой силой, что они начинают болеть. Ты едешь по дороге, ведущей в парк, и в золотом воздухе блестит тополиный пух. С реки Уилламетт налетает ветер и треплет выцветшие нейлоновые флажки. Фонари в парке, скорее всего, уже зажжены, но ты их пока не видишь.
Все здесь изменилось. Большая потрескавшаяся асфальтовая плешь, где раньше была картовая трасса, превратилась в большую, гладкую автомобильную стоянку. Болото теперь стало лугом, расчерченным многочисленными тропинками и площадками для пикника. Все стало как будто меньше. Многие из тех аттракционов, которые были здесь раньше, исчезли – даже поднимающая скоростная карусель со злыми клоунскими лицами. Тебе она никогда не нравилась, потому что она пахла соляркой и после нее кружилась голова и тошнило. Вместо старых горок из дерева и металла стоит что-то пластиковое, разноцветное, с многочисленными петлями. Ты проходишь мимо бывшего «Рудника с привидениями» и вспоминаешь, что очень боялась туда заходить. Теперь этот аттракцион называется «Путешествие Льюиса и Кларка», и вместо скелетов на тебя выпрыгивают бобры. Кругом одни второсортные, заимствованные развлечения с дешевыми рисунками и избытком супергероев. Из колонок выплескивается альтернативный рок.
Не осталось ни одного старого, заколоченного здания. Их сровняли с землей, и теперь на их месте большая площадка для пикников и футбольное поле.
Ты подходишь к лотку и покупаешь воздушную кукурузу. Она произведена в Китае, продается в герметичном пакетике из фольги и совершенно безвкусная. Ты садишься на старую зеленую деревянную скамью и дожидаешься темноты. Ты замечаешь ее раньше, чем она тебя. На ней шорты «Хаггар» и футболка «Гаранималз» из «Сирз сёплас». В руке у нее сладкая вата на палочке. Она беспрестанно оглядывается по сторонам, пробираясь через толпу с беспокойной целеустремленностью потерявшегося ребенка. Лоб озабоченно нахмурен. Затем она видит тебя, и ее лицо озаряется радостью и облегчением. Тебя, словно горячая вода из ведра, окатывают чувства. Гнев. Обида. Горечь. Жалость. Она бежит к тебе, хватается за тебя грязными ручонками. Прижимается чумазым лицом к твоему животу и плачет, ее храбрая бдительность растворяется в прерывистых всхлипах. Она рыдает, потерявшийся и нашедшийся ребенок, и ты, пытаясь ее успокоить, гладишь ее по лопаткам. Она цепляется за тебя изо всех сил. Проходящие люди видят это и сочувственно цокают и качают головами. Ты наслаждаешься моментом. Не торопишь его. Думаешь о дочери и вспоминаешь миллион выражений ее лица, которые ты никогда не могла расшифровать. Теперь ты понимаешь их все. Вспоминаешь всю ту сотню раз, когда ты ненавидела мужа, жизнь, работу… даже своего собственного ребенка.
«Я хочу домой, – всхлипывает она прямо тебе в рубашку. – Я хочу домой».
И ты хочешь забрать ее домой. Ты посадишь ее на заднее сиденье, и она уснет, измотанная многолетними испытаниями. Ты повезешь ее домой, и к тому времени, когда ты туда доберешься, она исчезнет, растает в твоей машине, сплавится с тобой в единое целое. Ты снова станешь целой. Оукс-парк потеряет одного призрака, а ты – приобретешь.
А затем случится скандал и драка, и еще скандал и драка, и еще, и ты снова увидишь бесконечную череду дней, лежащую перед тобой, и увидишь, как смотрит на тебя дочь, и поймешь, что написано у нее на лице, – отвращение, жалость и стыд. И, возможно, ты ударишь ее, обидишь так сильно, что она сотворит собственного призрака, и все это кошмарное колесо повернется еще раз, эта выворачивающая наизнанку петля снова замкнется.
Ты не можешь забрать ее домой.
От ужаса перед тем, что ты сейчас собираешься сделать, у тебя болят все мышцы. Ты не должна об этом думать. Просто сделай и все. Как там тебе всегда говорили? Глаза боятся – руки делают. Ты берешь ее за руку, и вы уходите. Она успокоилась, довольна, что ее уводят. На щеках сохнут последние слезы, но из носа еще течет. Вы идете к старой автомобильной стоянке в дальнем углу парка. Но на самом деле ты ищешь то место позади электромобилей, позади уборных. Оно такое же, как двадцать семь лет назад. Здесь валяется тот же мусор. Даже тополиный пух тот же.
Ты садишься на землю и берешь ее на руки, баюкаешь несколько минут, прижимаешь к груди, говоришь ей, какая она храбрая. Она, захлебываясь, тараторит – фразы как сломанные веточки: она не хотела; это была просто игра; она не хотела потеряться; она боялась; она долго искала тебя.
Ты шепчешь «Ш-ш-ш, ш-ш-ш» ей в ухо, а в это время твои пальцы находят рукоять кухонного ножа, который ты прихватила с собой из дома.
Ты внезапно и сильно чиркаешь ножом по ее гладкому коричневому горлу. Из него бьет фонтан, но это не кровь. Из нее вытекает время – миллион золотых закатов и белых, освещенных фонарями ночей; из нее вытекает страх – черная вселенская тень, тягучая, как патока; из нее вытекает страдание. Она бьется у тебя в руках, вздыхает, как смертельно раненный зверек. Она уменьшается, тает. Скоро от нее не остается ничего, кроме запачканной старой одежды из «Сирз сёплас». Ты заталкиваешь эти тряпки в какую-то щель.
Ты идешь к машине и дрожишь всем телом, но это просто реакция организма. Разум твой спокоен, и все вокруг снова становится смутным и далеким. Твоя привычная онемелость возвращается, и ты знаешь, что все будет хорошо.
Она останется в Оукс-парке. Она будет кататься на аттракционах и есть сладкую вату. Но она станет другой. Она будет ощущать весь тот страх, от которого ты скрылась. Легкая и неосязаемая, как туман, как воздух, пойманный покрывалом. Днем, в самые жаркие часы, она будет спать, а вечерами, когда зажигаются фонари, она будет напряженно, лихорадочно искать в толпе свою мать, которую она не хотела терять, и жизнь, которой она не хотела сдаваться.
Ты оставляешь эту девочку ее призракам.
И возвращаешься к своим.
Послесловие
Когда я искала историю о привидении, которую я могла бы рассказать, то сосредоточилась на Орегоне, моем родном штате. Орегон знает много известных легенд о потусторонних силах (об обитающем на маяке убитом капитане корабля, о страшной уборной, в которой всегда течет вода, о призраке коровы, который провоцирует аварии на старом 97-м шоссе), но меня целиком захватила следующая дразнящая строчка:
«В этом парке развлечений, построенном в 1890 году, уже более 20 лет обитает призрак потерявшейся девочки в одежде, типичной для 70-х годов».
Эта сюрреалистическая фраза рассыпана по всему Интернету. Ее просто копировали, никак при этом не объясняя. Ее ясность и одновременно загадочность завораживали, особенно в сочетании с тем фактом, что я сама нередко бывала в этом парке как раз в то самое время. Я часто ездила в Оукс-парк в 70-х – ребенок с мороженым в бумажном стаканчике или сладкой ватой. Может быть, я видела эту девочку, которая стала привидением? Может, даже говорила с ней? А может, я даже была ею? Из этого сплава сюрреалистического и личного быстро вырос рассказ. Больше всего остального я старалась запечатлеть на бумаге ощущение одного страха, который неподвластен времени, – страха обнаружить, что призраки могут оказаться ближе, чем ты думаешь, и там, где ты бы никогда не подумала их искать.
Первый рассказ, который М. К. Хобсон удалось продать, был опубликован в SCI FICTION в 2003 году. С тех пор ее рассказы появлялись во многих журналах и антологиях, например в Realms of Fantasy, The Magazine of Fantasy & Science Fiction, Interzone, Strange Horizons и в 5-м и 6-м выпусках сборника Polyphony. Недавно вышел в свет ее дебютный роман, «Родная звезда» («Native Star»), романтико-магическая сага, действие которой происходит в Америке в 70-х годах XIX века.
Для дополнительной информации заходите на ее интернет-сайт или на страничку ее блога, mk.hobson.livejournal.com. Она живет в Орегоне с мужем и дочерью.
Стивен Дедман За тех, кто в опасности в море
Рабочие Кайзерской судостроительной верфи начали поговаривать, что «Джордж М. Шривер» проклят, задолго до того, как его спустили на воду, и задолго до того, как его заселили духи или гремлины. Но только много лет спустя на его борту увидели первое привидение.
***
Дуган заскрежетал зубами, когда еще один тарантул пополз по его ноге. Пауки были разные – и с ноготь большого пальца, и с целую ладонь. Ему обещали, что ни один из них не ядовитее осы и уж точно не так агрессивен, но от этого ему было не легче стоять и не содрогаться от отвращения. Ему также сказали, что стоимость всех пауков, которых он прихлопнет, в конце шоу будет вычтена из призовой суммы. Из-за татуировок и волос на ногах и груди мурашек, которые его покрывали, почти не было видно, но он не смог сдержать дрожь, когда почувствовал, как что-то заползло ему под шорты.
Он отвел взгляд от полчища пауков, ползающих в его личном аду – прозрачном пластиковом цилиндре размером с гроб, – и посмотрел на своего соперника. Лэнгли, находившийся в таком же цилиндре, был бесстрастен, как деревянный индеец перед табачной лавкой или гвардеец-гренадер перед Букингемским дворцом. Этот бывший вояка, казалось, не боялся ничего… по крайней мере, из того, чему их подвергали продюсеры. Но Дуган подозревал, что у Лэнгли есть по меньшей мере одна слабость, которая впоследствии может сыграть решающую роль: патологический страх поражения.
«В конце концов останемся мы с тобой», – подумал Дуган. На его плечо – на то, на котором был изображен знак процента и логотип «Харлей-Дэвидсона» с фиолетовыми крыльями, а не на то, на котором он хотел вытатуировать паутину, когда сидел в тюрьме строгого режима, – шлепнулся пещерный паук размером с ладонь. «Мы останемся один на один», – неслышно повторил он, словно это была мантра. Все остальные сломаются раньше.
Краем глаза он заметил какое-то мельтешение и повернул голову. Одна из участниц билась всем телом о стенку цилиндра. Видимо, в панике она забыла об особой фразе, которую следовало произнести для выхода из заточения. Предусмотрительно не раскрывая рта, Дуган улыбнулся. Первый участник выбыл из игры – значит, время пошло. Этот кошмар будет длиться еще девяносто минут. Не так уж много. Интересно, какие будут следующие испытания.
***
Бек взглянул в таблицу и скривился. «Худший кошмар», похоже, оправдывал свое название – по крайней мере, лично для него.
– Вы, должно быть, шутите, – сказал он. – За такие деньги даже тридцатисекундный рекламный ролик не снять.
– А все потому, – сказала бухгалтер, – что вы превышали бюджет почти в каждой серии. Один миллион триста тысяч семнадцать долларов сверх сметы, и это притом, что рейтинги у нас такие, что плакать хочется. – Она вручила ему еще одну распечатку. – Нам пришлось сбросить цену на рекламные вставки, так что их едва хватит, чтобы оплатить счет за электричество. Повторный показ «Острова Гиллигана» и то нам больше денег приносит. Единственная причина, почему вы еще снимаете свое шоу, – это дурацкие австралийские законы в области информации.
С этим Бек спорить не мог. Реалити-шоу казались телеканалам манной небесной – они приносили деньги благодаря рекламе и отчислениям телекоммуникационных компаний, которые зарабатывали на текстовых сообщениях зрителей, голосовавших за понравившегося участника, и стоили гораздо меньше, чем драматические или даже комедийные сериалы, потому что участникам реалити-шоу почти ничего не платили… И поэтому, когда Бек обратился к руководству телеканала с идеей «Худшего кошмара» – гибрида «Выжившего» и «Фактора страха», с довольно большой примесью старой японской игры «Кто вытерпит», – они ухватились за нее. К сожалению, после этого они запустили еще шесть реалити-шоу, и аудитория переключилась на них. Последняя серия «Худшего кошмара» была действительно худшим кошмаром: она показала самые низкие рейтинги из всех передач, транслировавшихся через станции открытого вещания. Ее обошли даже телепрограммы на иностранных языках.
Как полагал Бек, проблема состояла в том, что зрителям не нравились оставшиеся участники, но, с другой стороны, они не ожидали, что кто-нибудь из них получит серьезную травму или погибнет. В первые две недели шоу участники прошли через множество унижений, но те из них, что остались, делали это так невозмутимо, что зрители перестали им сопереживать. «Эта передача уже почти такая же страшная, как ремейк “Призрака дома на холме”, и это никого не трогает», – угрюмо подумал Бек. А бюджетные ограничения означали, что он не мог пригласить в качестве гостя даже самую замурзанную знаменитость.
Он снова взглянул в распечатку, достал из кармана смартфон и начал считать. Единственный способ снять что-либо за такие деньги – это выехать на какую-нибудь интересную локацию. Если число участников уменьшится быстрее, чем ожидают зрители, это не слишком хорошо отразится на рейтингах, но зато позволит сэкономить деньги. А если он изменит график, чтобы уменьшить количество перелетов… нет, даже этого не хватит.
– Я что-нибудь придумаю, – сказал он.
– Да, придумайте, придумайте, – промурлыкала бухгалтер, – потому что, если эту передачу зарежут… – Заканчивать фразу не требовалось. Бек кивнул и вышел.
***
Несколько рабочих все же закричали «ура», когда «Джордж М. Шривер» сошел со стапеля в море; но большинство молча и настороженно ждали, что он сейчас потонет или взорвется. Через три минуты он был еще на плаву и цел. Тогда бригадир сказал: «Перерыв. Кури, у кого есть», – и запалил «Лаки страйк».
Сборка корпуса корабля типа «Либерти» обычно занимала десять дней; в случае «Джорджа М. Шривера» она тянулась шесть недель из-за отказов оборудования и несчастных случаев. Большинство несчастных случаев, как считал бригадир, происходило по вине рабочих, которые спешили завершить сборку проклятого судна и избавиться от него. Ситуация ухудшалась из-за неявки рабочих на смену под различными предлогами – они всеми правдами и неправдами старались держаться подальше от несчастливого транспорта. Ходили слухи, что корабль либо сам является источником беды, либо притягивает ее, словно гигантский магнит. Теперь, когда они избавились от проклятого корабля, все должно снова наладиться, подумал бригадир.
На следующей неделе большинство отсутствовавших рабочих вернулись на верфь – кроме тех нескольких, которые были покалечены при постройке «Шривера», и тех двух, которых больше никто никогда не видел.
***
Бек весь вечер листал каталог фильмов ужасов в поисках испытаний, которым он мог бы подвергнуть участников «Худшего кошмара», принимая во внимание урезанный бюджет. Несколько минут он проглядывал книгу в алфавитном порядке, а когда дошел до «Ведьмы из Блэр», начал открывать ее наугад. «Фантазм». Различные версии «Корабля-призрака». «Похороненный заживо» – нет, он уже использовал похожую ситуацию в седьмой серии. «Фредди против Джейсона». «Седьмая жертва». Третья часть «Хеллоуина». Он собрался отхлебнуть виски, но увидел, что стакан пуст, и направился к бару. Не дойдя до него, он развернулся и бросился к лэптопу, чтобы записать пришедшую в голову идею. Затем он снова углубился в бухгалтерскую таблицу. На этот раз он улыбался.
Приз победителю «Худшего кошмара» составляет один миллион долларов, а ему надо снять еще восемь серий. Если никто не получит миллион, это почти покроет недостающую сумму, и ему не придется уменьшать бюджет каждой планируемой серии на сто тысяч фунтов. А если он еще и умудрится уменьшить бюджет, то это, естественно, будет еще лучше.
Он просмотрел договоры и обнаружил пункт, гласивший, что, если все участники не справятся с каким-либо заданием, он вправе уменьшить или отозвать призовую сумму и дисквалифицировать их всех. Для большинства испытаний на выносливость был предусмотрен минимальный временной порог, и он мог установить его на любую удобную ему величину. Теперь следовало найти место съемок, желательно где-нибудь недалеко. Оно должно быть пугающим, дешевым и еще таким, чтобы можно было забросить туда участников по меньшей мере на неделю.
***
– Корабль с призраками? – усмехнулся Лэнгли. – И вы думаете, что после всего, через что мы прошли, мы испугаемся каких-то призраков?
Бек оглядел комнату и оставшихся четырех участников – в первой серии «Худшего кошмара» их было тринадцать. Лэнгли, бывший спецназовец; Дуган, неоднократно сидевший в тюрьме байкер; Сиверсон, каскадер; и Мосс, профессиональная домина.
– Вопрос состоит не только в том, чего испугаетесь вы, – сказал продюсер. – Корабля, населенного привидениями, испугаются многие зрители, и это столь же важно, и даже важнее – если думать о рейтингах, – чем ваши личные ощущения. И если вы пройдете этот этап без потерь, вас будет ждать еще одно задание.
– В каком состоянии находится корабль? – настороженно спросил Сиверсон.
– Ну, вообще-то он затонул, – жизнерадостно сказал Бек. – Почти как «Титаник», с той разницей, что большая часть его корпуса находится над водой. Вам не придется никуда плыть – нужно будет просто провести на борту несколько дней. И ночей, естественно. Мы снабдим вас спальными мешками, запасом пищи, воды… а дальше сами справитесь. Все сведения, которые вам необходимы, находятся в этих конвертах.
Дуган сразу помрачнел. Бек знал, что байкер страдает от такой сильной дислексии, что не может прочитать и несколько слов. Другие трое открыли пузатые конверты и стали разглядывать информационные листки, фотографии и карты.
– «Алкимос», – сказал Лэнгли. – Я о нем слышал. Он находится у западного побережья, неподалеку от Янчепа.
Мосс вскинула пробитую кольцами бровь:
– Ты там был?
– Нет, но у меня были друзья, которые ныряли там с аквалангами. Никаких призраков они не видели, и ничего с ними не случилось. По крайней мере тогда. – Остальные посмотрели на него, молча ожидая окончания истории. – Они развелись, у нее обнаружили рак, а он попытался совершить самоубийство, врезавшись в дерево… но все это произошло годы спустя, далеко от корабля. И ведь это все равно бы случилось, даже если бы они там не ныряли. Верно?
– Ну разве этот парень не чудо, – пробормотала Мосс.
– Завтра мы туда выдвигаемся, – сказал Бек. – Лэнгли, умеешь управлять резиновой лодкой с мотором?
– Естественно.
– Хорошо. Тогда последнюю часть пути пройдете сами. Постарайтесь никого не потерять по дороге.
***
Почти всю Вторую мировую «Джордж М. Шривер» простоял в сухом доке – его ремонтировали. Один из членов команды рассказывал, что как-то слышал на палубе собачий лай. Он в шутку предположил, что на корабле обитает пес-призрак. Однако других сообщений о призрачном псе – и тем более свидетельств людей, видевших его, – не поступало.
В 1961-м, после столкновения с другим судном, «Шривер», считавшийся склонным к авариям, был продан норвежской компании и переименован в «Вигго Ханстеен». Несколькими месяцами позже он был вновь продан и получил новое имя: «Алкимос». В марте 1963-го он напоролся на риф у западного побережья Австралии. Его сняли с мели и отбуксировали в бухту Фримантла, но в мае на судне возник пожар, сильно повредивший его.
В качестве компенсации издержек, связанных с перемещением корабля и тушением пожара, «Алкимос» был конфискован местными властями. Злосчастный владелец выкупил его, затем нанял буксир, чтобы отогнать его в Гонконг для ремонта. На второй день после выхода из Фримантла на буксир и корабль налетел неожиданный сильный шквал, нанесший ущерб обоим судам. Буксировочный трос лопнул, и «Алкимос» отнесло к берегу, где он опять сел на риф.
Было предпринято несколько попыток вернуть кораблю плавучесть; все они сопровождались чрезвычайными происшествиями различного характера и не увенчались успехом. Команда буксира «Пасифик стар» почти выполнила задачу, но им тоже помешала череда различных механических поломок. Позже операция была временно приостановлена в связи со смертью владельца компании.
Перед следующей попыткой снять корабль с рифа капитан «Пасифик стар» пригласил католического священника для совершения обряда изгнания духов с «Алкимоса». Мощный вал поднял корабль со скалы, и «Пасифик стар» начал буксировать его к Фримантлу. Не прошли они и двух миль, как к ним приблизился другой корабль. Капитан был арестован за неуплату долгов, а буксир конфискован. «Алкимос» был поставлен на якорь в открытом море, но очередная высокая волна порвала якорную цепь, и корабль отнесло обратно к берегу. Матросы с «Пасифик стар», оставленные на «Алкимосе» в качестве сторожей, видели, как человек в штормовке и зюйдвестке прошел по верхней палубе и исчез перед закрытой дверью.
***
После Ту-Рокс на море появилась крупная зыбь. Мосс перегнулась через борт надувной лодки, и ее вырвало. К ее отвращению и к радости Дугана, ветер подхватил большую часть рвоты и швырнул ей на куртку. Корпус корабля, в хорошую погоду прекрасно видимый даже с берега, теперь казался размытым из-за дождя. Его нос был цел до самого мостика и машинного отделения, но с кормы была сорвана вся обшивка, так что был виден рангоут.
Бек хотел, чтобы четверо участников подошли к кораблю вечером, но юридический отдел телекомпании это запретил. Одна операторская группа следовала за ними в лодке большего размера, вторая снимала с холма на берегу. Бек попытался выдавить из бюджета деньги на аренду вертолета, чтобы снять общий план разбитого корабля, но теперь был рад, что затея не удалась: они уже на несколько часов отставали от графика, и даже если бы они и нашли пилота, который согласился бы вылететь в такую нестабильную погоду, то ему пришлось бы заплатить столько, что от бюджета остались бы рожки да ножки, – а шансы получить материал приемлемого качества все равно были невелики. Лэнгли добрался до корабля раньше, чем вторая группа до новой позиции, и ему пришлось дожидаться, пока они приготовятся к съемкам. Желудок Мосс к этому времени был уже пуст, но ее еще мучили рвотные спазмы. Они курсировали вдоль «Алкимоса» в поисках удобного места для швартовки. Радиопереговоры между лодками и группой, оставшейся на берегу, были едва возможны из-за шума и атмосферных помех.
Бек сидел в уютном теплом «рейндж-ровере» и следил за лодками, глядя в бинокль. Пока все вроде шло неплохо – даже лучше, чем он рассчитывал. Он был уверен, что Дуган и Лэнгли не выйдут из игры на этом этапе, да и Сиверсон тоже, но вот Мосс может отказаться от борьбы. За предыдущие серии она все же собрала себе небольшую группу поклонников, хотя их количества явно недостаточно для поднятия рейтингов шоу. Жаль, что стриптизерша не смогла справиться с пауками так же хорошо, как со змеями.
У Лэнгли и Сиверсона на касках были установлены камеры, и они первые должны были подняться на ржавый борт «Алкимоса». Несколько раз они пытались забросить на палубу веревку, но у них ничего не получалось – волнение было довольно сильным, и надувную лодку относило от корабля. В конце концов Сиверсону удалось как следует зацепиться, и он – медленно и с явным трудом – вскарабкался на палубу. Картинка с камер была не слишком хорошей, и на монтаж, скорее всего, уйдет больше времени, чем обычно, но это придаст видеоряду атмосферу «Ведьмы из Блэр», – радостно подумал Бек, – а все неприятности можно списать на привидений.
Продюсер улыбнулся. По съемочной группе пополз слух, что программу могут закрыть, а это означало, что участники тоже об этом знают. Он был в курсе, что Дугану очень нужны деньги, – возможно, так нужны, что он будет готов ради них убить, когда в игре останется только два участника, – а Бек был уверен, что байкер войдет в эту последнюю пару. Вторым, скорее всего, станет Лэнгли, а он не менее тренированный боец, чем Дуган. Он окажется достойным противником Дугану, если только байкер не нападет неожиданно и одним мощным первым ударом не обеспечит себе решающего преимущества. Не то чтобы это имело большое значение. Бек сильно сомневался, что Дуган прочитал свой договор, – а ведь там написано, что, если участник телепрограммы будет подвергнут судебному преследованию за те действия, которые он совершил во время ее производства, он лишается права получения призовой суммы даже в случае своей победы. И не будет иметь ровно никакого значения, признают его виновным или оправдают, а если он попытается подать в суд на телеканал, то все равно скорее всего ничего не получит, – ну перепадет доллар-другой, если крупно повезет.
Он повернулся к съемочной группе.
– Ну, как это выглядит?
– Плохо, – сказал оператор, а звукорежиссер показал вниз большим пальцем. – Даже если не говорить о дожде и об уровне освещенности. На таком расстоянии я толком и разобрать-то не могу, кто есть кто. А синоптики обещают, что погода еще ухудшится. К нам движется мощный грозовой фронт.
Бек скривился.
– Будем надеяться, что нормальный материал нам дадут камеры на касках. Билл?
Звукорежиссер покачал головой:
– Понадобится дикторский комментарий. У меня в наушниках только стук, скрежет, ругательства, шум ветра и волн, крики чаек, атмосферные помехи и что-то вроде собачьего лая.
– Собачьего лая? – удивленно переспросил Бек.
– Ну да, очень похоже. А вдруг у кого-нибудь из них собака в рюкзаке. Или, как вариант, морской котик. Судя по звуку, он не слишком-то счастлив.
***
Сиверсон осторожно перевалился через ограждение и оказался на палубе. И то, и другое было скользким от дождя, но не сломалось и не обрушилось под его весом. Немного расслабившись на этот счет, он повернулся к Лэнгли:
– Все спокойно, капитан!
– Да уж, – пробормотал бывший коммандо, перебираясь через ограждение. – Спокойнее некуда. Он огляделся – камера на его каске не спеша прошлась по ржавой металлической палубе и свинцовой рябой воде. Затем пожал плечами и посмотрел через планшир на лодку. – Все нормально, поднимайтесь! – Мосс все еще мутило, и она никак не могла разобраться с жумаром на той веревке, по которой он только что поднялся.
– Я думал, она неплохо управляется с узлами, – сказал Сиверсон, которого все это явно веселило; Лэнгли не отозвался, и он продолжил: – Можно задать тебе вопрос?
– Задавай.
– Ты сказал, что у тебя друг попытался совершить самоубийство. То есть он выжил?
– Вроде того. Он врезался в дерево – на большой скорости, как полагается – и вылетел через лобовое стекло. Но не умер.
– И не попытался еще раз?
– А он не мог. Его парализовало. Он просил врачей его усыпить, но никто не согласился.
– Господи боже, – проговорил Сиверсон. Лэнгли взглянул на него и с удивлением отметил, что впервые с начала съемок «Худшего кошмара» видит Сиверсона по-настоящему испуганным. Наверное, паралич для него страшнее, чем смерть. Затем каскадер усмехнулся, и Лэнгли опять посмотрел вниз. Лодку относило от корабля. Дуган схватился за веревку, но, похоже, никак не мог сообразить, то ли остаться в лодке, то ли подниматься наверх.
– Местные призраки ему не рады, – сказал Сиверсон.
– Вряд ли нам улыбнется такое счастье. Этому уроду так нужны деньги, что он за ними хоть к черту на рога полезет. – В этот момент байкер принял решение: не отпуская веревки, он прыгнул из лодки в воду – и исчез среди волн.
***
В марте 1969 года, во время заплыва между Коттесло и островом Роттнест, пропал без вести выдающийся пловец на дальние дистанции Герберт Войгт. Спустя три недели беглый заключенный, прятавшийся на «Алкимосе», обнаружил его череп, лежащий на видном месте в машинном отделении корабля.
***
Голова Дугана показалась над неспокойным морем – без альпинистской каски и камеры, – и Сиверсон издевательски закричал «ура». Байкер тяжело подтянулся на руках, затем перехватился, уперся ногами о борт и стал медленно подниматься. Он качнулся в сторону и, быстро перебирая ногами поперек борта, подобрался к другой веревке, как будто в попытке схватить ее – или Мосс, которая остановилась на полпути на тот случай, если бы ему понадобилась помощь. Лэнгли вполголоса выругался и стал вытягивать веревку Мосс, чтобы байкер ее не достал. Ботинок Дугана скользнул по мокрому металлу, он прорычал ругательство и, как маятник, качнулся назад.
– Как думаешь, помочь ему или нет? – спросил Сиверсон, но Лэнгли как будто оглох. Он продолжал поднимать Мосс, пока ее рука не показалась из-за ограждения, затем нагнулся и схватил ее за запястье. С перил полетели хлопья ржавчины, но они выдержали, даже когда Мосс повисла на них.
– Спасибо, – выдохнула она и рухнула на скользкую от дождя палубу.
– Не стоит благодарности, – пробормотал Лэнгли и посмотрел вниз, на Дугана, который по-прежнему упрямо лез вверх.
Операторская группа взяла их надувную лодку на буксир. Они тоже наблюдали за медленным восхождением байкера. Мосс встала на ноги и осмотрелась.
– Ох и мерзкая дыра! – сказала она. – Неужели не могли найти отель с привидениями?
Сиверсон ухмыльнулся.
– Думаю, придется пожить пока здесь, пока не найдем что-нибудь поприличнее. Конечно, ты всегда можешь звякнуть Беку и попросить номер получше… – Он нажал на кнопку радиомикрофона, висевшего у него на шее: – Проверка, проверка…
Мосс вздохнула.
– Да нет, это сойдет. Надеюсь, тут хоть туалеты работают. – Она взглянула на Дугана, который в этот момент зацепился локтями за ограждение. – Рада, что ты наконец-то к нам присоединился.
Он криво ухмыльнулся и, перевалившись через перила, мешком упал на палубу. Затем он достал из кармана потертой кожаной куртки небольшой водонепроницаемый футляр, а оттуда – пачку «Кэмела» и зажигалку «Зиппо».
– Ну, ладно, – сказал он, закурив и держа ладонь над сигаретой для защиты ее от дождя и ветра. – Чем займемся?
– Во-первых, докуришь – окурок где попало не бросай, – сказала Мосс. – Я читала об этом корабле. Где-то здесь до сих пор находятся бочки то ли с дегтем, то ли с машинным маслом. Некоторые из них загорелись в семидесятых. Сочли, что это самовозгорание.
– А это точно был не призрак? – спросил Дуган и заржал, как конь.
– Я спрошу его, когда увижу, – сказал Лэнгли. – А что касается твоего вопроса, я собираюсь осмотреть каюты и выбрать те из них, которые находятся в относительной сохранности. Надо же нам где-то ночевать. Это если ни у кого нет более разумного предложения.
Более разумного предложения ни у кого не было, поэтому они, шлепая по лужам и предусмотрительно держась за все, за что можно было держаться, двинулись к корме. Рядом с туалетами Дуган обнаружил дверь с надписью «Тряпки» и рассмеялся:
– Эти ребята, мне кажется, потеснятся, – хрипло воскликнул он, затем открыл дверь и заглянул внутрь. В стенах щелей не было, с потолка не текло. Он посветил фонариком по углам и проворчал: – Бывало и хуже. Если других желающих нет, я займу эту.
– Прекрасно, – сказала Мосс. Дуган сбросил с плеч рюкзак, и он с тупым стуком упал на пол. Остальные оставили его и продолжили осмотр. Ветер и дождь немного приутихли, и они могли теперь разговаривать без крика, однако при взгляде на темное небо становилось ясно, что погода скоро ухудшится.
– Что еще ты знаешь об этом месте? – спросил Лэнгли.
– Очень мало фактов и целую груду слухов и легенд. Говорят, еще до того, как этот корабль спустили на воду, в его корпусе замуровали сварщика, – может, это была случайность, а может, он не смог расплатиться с гангстером-ростовщиком. Кто-то утверждает, что сварщиков было двое или что это были сторож и его собака. На одном интернет-сайте написано, что здесь разгуливает призрак контрабандиста, которого выбросили за борт за то, что он пытался нагреть своих подельников. Также считается, что во время войны на этом корабле было совершено убийство, причем убийца тут же наложил на себя руки. – Она открыла дверь каюты и заглянула внутрь: это помещение тоже выглядело целым, хотя пахло здесь не лучше, чем в том, где остался Дуган. – Сложно разобраться, каким сведениям можно доверять, а каким – нет. Точно можно сказать, что с тех пор, как это судно наткнулось здесь на риф, кто бы ни пытался что-либо с ним сделать, все терпели финансовые убытки. Даже когда его хотели продать на металлолом, его удалось демонтировать только наполовину – работы прекратили из-за очередного пожара. Хотя я не знаю, что тут могло еще гореть. – Она повнимательнее взглянула на дверь. – Как считаешь, эти двери можно запереть? Или, на худой конец, хотя бы заблокировать чем-нибудь?
– Наверно, – сказал Лэнгли. – А что, если у нас после этого не получится их открыть? Как мы тогда выберемся?
– Думаешь, это страшнее, чем если кто-нибудь сюда вломится?
– Ты имеешь в виду Дугана? – Бывший солдат пожал плечами. – Вряд ли он попытается что-нибудь выкинуть. Нас тут трое, и мы все увешаны камерами и микрофонами…
– Кроме него, – сказала Мосс.
– Если хочешь, я займу соседнюю каюту. Понадобится помощь – постучи в стену, или закричи, или что там обычно в таких случаях делают. Но только не слишком старайся: это старое корыто выглядит так, будто готово развалиться в любой момент. – Он взглянул на часы. – Тебя еще мутит? Время перекусить.
Мосс едва сдержала рвотный позыв.
– Вы с Сиверсоном поешьте, – сказала она, – а я, пожалуй, сосну.
***
Бек выдал Лэнгли рацию – с помощью нее они могли попросить, чтобы их сняли с корабля, – но запретил участникам брать с собой любые электронные устройства. Лэнгли, которому в жизни частенько приходилось сидеть неизвестно где и ждать неизвестно чего, очень не хотел расставаться со своим КПК, но пришлось. Он предусмотрительно захватил с собой, вместе с другими нужными для выживания вещами, колоду карт и карманные шахматы. Он раскладывал пасьянс, когда дверь неожиданно распахнулась. Карты разлетелись по всей каюте. Он поднял голову, но в дверях никого не было. Он выглянул в коридор, но там тоже было пусто. Если это кто-то решил пошутить, подумал Лэнгли, то он большой мастер передвигаться быстро и бесшумно. Вряд ли ему самому удалось бы так умело исчезнуть, несмотря на всю его подготовку. Он закрыл дверь, затем не спеша собрал карты и перетасовал их. Он разложил уже половину следующего пасьянса, когда дверь снова распахнулась, и он устало повторил всю процедуру. Дождь снова разошелся, сквозь завывание ветра слышались отдаленные громовые раскаты.
Два раза пасьянс у него не сошелся (он не любил проигрывать, но еще больше не любил ловчить), и уже было понятно, что третья игра тоже не пошла, – и тут отчаянный стук в переборку и приглушенный крик заставили его вскочить на ноги. Забыв о картах, он бросился к двери, но она теперь не поддавалась. Он дергал за ручку, пока та не оторвалась, и в этот момент дверь распахнулась – с такой стремительностью и силой, что можно было подумать, ее пнули с другой стороны. От удара он отлетел внутрь каюты и упал, однако быстро поднялся и выбрался в коридор, пока дверь снова не захлопнулась.
Дверь в каюту Мосс была открыта. Он заглянул внутрь и увидел Мосс, сонную, с взъерошенными волосами, сидящую в спальном мешке, – видимо, проснулась, но еще не успела выбраться, – и Сиверсона, который стоял рядом.
– Что тут у вас происходит? – спросил Лэнгли.
Мосс повернулась в его сторону.
– И ты тоже. Ничего не происходит, кроме того, что спящую красавицу грубо разбудили.
– Это не ты кричала?
– Нет. Ну, если только во сне. – Она посмотрела на Сиверсона. – Ты слышал крики?
Он покачал головой.
– Стук только – подумал, что это ты стучишь. Наверное, это был ветер. Прости, что побеспокоил.
Они разошлись по своим каютам. Лэнгли прижал дверь рюкзаком, но ветер все равно ее распахивал, и после нескольких минут возни он решил оставить ее как есть, хотя так было гораздо холоднее. Он уложил карты в рюкзак и стал играть сам с собой в шахматы. Примерно через час он опять услышал стук, будто бы по металлу, и тихий крик, похожий на долгое «не-е-е-е-т».
Он снова выбежал в коридор и сражался с дверью каюты Мосс, пока не подоспел Сиверсон. Они вдвоем ворвались в каюту Мосс. Она была одна, по-прежнему в спальном мешке. Выглядела она еще более раздраженной, чем в прошлый их приход.
– И что вам послышалось на этот раз?
– А что ты слышала?
– Ну, стучал кто-то. Точно не я… Черт, так всем вместе и свихнуться недолго.
Сиверсон скривился и кивнул:
– Если уж не от чего-нибудь другого, то от усталости и недосыпа точно. Хочешь, кто-нибудь из нас останется в твоей каюте?
– Нет, – сказала она без экивоков. – Вы не обижайтесь, это не из-за того, что я вам не доверяю. Просто не могу спать, когда в комнате еще кто-то есть. Особенно если этот кто-то сам не спит. Это не фобия, – добавила она извиняющимся тоном, – просто я не могу и все. Если кто-нибудь из вас хочет поспать здесь, а я в это время буду бодрствовать – так и быть. А так нет. А спать на этой развалине надо, иначе видения какие-нибудь начнутся. Простите.
– А что, если в следующий раз это на самом деле будет Дуган? – спросил Сиверсон.
– У меня дверь больше не закрывается, – сказал Лэнгли. – Ему не обязательно мимо нее проходить, чтобы добраться сюда, но это кратчайший путь. Кроме того, он не знает, в какой из кают остановилась Мосс. Даже если ему повезет и он угадает с первого раза, все равно вряд ли он пройдет мимо нас незамеченным. Но ты ведь немного выспалась, верно, Рэйчел? В таком случае нам все равно хорошо бы оставаться всем вместе, в одной каюте – и лучше в той, у которой дверь закрывается. И тогда мы с Сиверсоном смогли бы поспать по очереди.
Мосс немного подумала, затем кивнула.
– У меня другое предложение, – сказал Сиверсон. – Чем просто стучать, нам надо условиться о какой-нибудь последовательности, чтобы не вскакивать каждый раз, когда ветер хлопает незакрытым люком или дверью… Не SOS, но что-то похожее, какой-то определенный ритм.
– Пам-ба-ба-пам, тарам? – без особого энтузиазма предложила Мосс.
В конце концов условились на теме из «Звездных войн», и Лэнгли с Сиверсоном вышли. Но Лэнгли не пошел сразу к себе, а задержался возле каюты каскадера.
– Ты точно не слышал криков? Или голосов?
– Точно. Но стук был довольно громким, так что, может, он их заглушил. А что?
– Просто мне кажется, что я слышал не только ветер.
– Только не говори, что ты начал верить, будто на этой посудине живет призрак.
– Нет. Но я также не очень-то верю ей, особенно когда на кону миллион долларов. – Он зажал микрофон ладонью. Сиверсон понял намек и сделал то же самое. – Я думаю, что продюсеры очень хотят, чтобы мы поверили в привидение. Они могли приготовить нам сюрприз – звуковые эффекты и еще какие-нибудь трюки, – продолжил Лэнгли. – Ты работал в кино, на телевидении… что ты об этом думаешь?
– Это возможно, – признал Сиверсон. – В съемочной команде поговаривают, что у шоу плохие рейтинги… Не исключено, что продюсер мог попробовать что-то подобное. Не только нам с тобой приходится беспокоиться о конкурентах.
– Х-м-м. Ну, я не собираюсь стоять рядом и ничего не делать, если Дуган возьмется за Мосс, но в то же время я был бы не против, если бы она покинула шоу. Дуган-то будет держаться до самого конца – зацепится зубами и ногтями.
– Но ведь есть же что-нибудь, чего он боится, – сказал Сиверсон. – Опять сесть в тюрьму?
– Может быть, но это не так легко устроить. – Однако Лэнгли задумался. Бек устраивал участникам шоу не только опасные ситуации – некоторые задания были неопасны, но унизительны или омерзительны. Дуган спокойно справился с игрой в карты на раздевание, покупкой в секс-шопе извращенной порнографии, переодеванием в женскую одежду (с макияжем, укладкой волос и депиляцией), пением голышом в караоке. Он без труда поглощал еду, которую даже бывшему коммандо с трудом удавалось удерживать в желудке. Он производил впечатление упертого гомофоба и расиста, но Лэнгли подозревал, что за миллион долларов байкер готов был на какое-то время забыть об этих предрассудках – и возможно, даже с большей легкостью, чем сам Лэнгли. Бывший спецназовец не имел представления, что Бек еще для них придумает после того, как они уберутся с «Алкимоса»… Карцер? Пытку утоплением? Связывание в болезненных позах? И Лэнгли будет счастлив, если им не придется выдержать ничего более серьезного. – Но у меня есть предложение. Раз уж мы все равно будем следить за Дуганом, почему бы одному из нас не занять каюту рядом с его? Так будет легче за ним наблюдать. По крайней мере, до тех пор, пока Мосс нормально не выспится. А второй останется в твоей каюте; по моей ветер гуляет – дверь не закрывается.
Сиверсон секунду подумал:
– Хорошо. Бросим жребий?
– Есть монета?
– Нет.
– Ладно. У меня есть колода карт. Меньшая карта пойдет сторожить Дугана.
Над их головами прогремел гром, и Сиверсон подпрыгнул от неожиданности.
– Господи!
– Я пойду принесу карты, – сказал Лэнгли.
***
Съемочная группа оставалась на берегу до наступления темноты, затем все поехали в Янчеп ужинать – кроме звукооператора Келли, которая осталась дежурить. Она сидела в палатке и вполуха слушала трансляцию с «Алкимоса», прерываемую сильными атмосферными помехами. Время от времени в белый шум вклинивались обрывки членораздельной речи, например когда участники поднимались на палубу и устраивались в каютах, но в основном качество трансляции было просто ужасным, и Келли подумала, что вряд ли что-нибудь из этого вообще можно будет использовать. Микрофон Дугана был слышен хуже всего, – видимо, из-за того, что он побывал в воде, – не то чтобы он много разговаривал, но она иногда слышала его храп. Хорошо еще, что микрофоны сами записывают звук. Хотя вряд ли люди смотрят реалити-шоу ради диалогов. Она взяла термос, налила себе еще одну кружку кошмарного кофе и вернулась к чтению сомнительной книжки про «Алкимос», которую Бек забыл в палатке. Ее автор утверждал, что призраки на борту «Алкимоса» – это духи людей, умерших страшной или мучительной смертью. Они оказались в ловушке на разбитом судне и не помнят ничего, кроме последних моментов жизни, замкнутых в адское кольцо и воспроизводящихся без конца. В последней главе описывался спиритический сеанс, якобы проведенный группой студентов на берегу, невдалеке от «Алкимоса», то есть примерно на том месте, где находилась сейчас Келли. Какая-то сила начала передвигать по «говорящей доске» пластиковый стаканчик. Она предупредила студентов, что на корабль подниматься нельзя.
– Он проклят?
– ДА.
– Ты призрак?
– НЕТ.
– Что хочет призрак?
– ЧЬЕЙ-ТО СМЕРТИ.
– Почему?
– СЛЕДУЮЩИЙ, КТО УМРЕТ НА КОРАБЛЕ, СТАНЕТ НОВЫМ ПРИЗРАКОМ. СТАРЫЙ ПРИЗРАК ОСВОБОДИТСЯ. НОВЫЙ ПРИЗРАК БУДЕТ ОБИТАТЬ НА КОРАБЛЕ, ПОКА…
Келли подпрыгнула от испуга, услышав страшный грохот, эхо которого, казалось, носилось по берегу еще несколько минут. Она бросила книгу и выбежала из палатки. Вгляделась в темноту, но остов «Алкимоса» был всего лишь темным пятном на тускло-серой поверхности моря. Она подумала о том, чтобы взять рацию и спросить, все ли нормально на борту, но указания Бека на этот счет были ясными: инициировать переговоры по рации могли только сами участники. В этом случае считалось бы, что они не справились с заданием и потеряли шанс выиграть призовую сумму. Микрофоны передавали какой-то топот. Он был таким громким, что заглушал голоса участников – если они вообще говорили. Сквозь него пробился только один высокий звук, который, конечно, мог быть воем ветра, но больше походил на крик.
***
Мосс первая добежала до каюты Сиверсона. Что-то рухнуло, судя по звуку, именно в этой стороне, хотя после страшного грохота дрожал, казалось, весь корпус корабля.
– Энди?
Ответа не было – слышался только топот бегущих по коридорам Лэнгли и Дугана, – и она постучала в дверь фонарем в металлическом корпусе. Затем взялась за ручку, но ее оттолкнул подоспевший Дуган. Он толкнул дверь, она не поддалась, тогда попытался высадить ее плечом. Дверь распахнулась, и он шагнул вперед – в пустоту. Падая, он громко выругался и инстинктивно схватился свободной рукой за дверной порог. В другой руке у него был фонарь. Он выронил его и уцепился за палубу обеими руками, однако, как он ни старался перехватиться покрепче, они скользили по ржавому, шелушащемуся металлу.
– Черт! Помогите мне!
Лэнгли проследил взглядом за падающим фонарем. Вся каюта – и не только каюта, как он увидел, посветив вниз, но целая секция корабля – обрушилась в море. Внизу, метрах в четырех-пяти под ногами Дугана, из воды угрожающе торчали металлические обломки; падение вряд ли будет смертельным – только если он очень уж неудачно приземлится… Он посмотрел на руки Дугана – на его пальцах было вытатуировано «HARD» и «CORE», – затем на свои тяжелые армейские ботинки и подумал: а что бы байкер сделал на его месте?
– Если ты упадешь, – сказал он тихо, так что его едва было слышно в шуме ветра, – это будет означать, что ты не выполнил условий задания и не можешь рассчитывать на призовые деньги?
Дуган моргнул, затем посмотрел вниз.
– Да что вы за уроды такие! Дайте мне руку! – Он не видел их лиц – Лэнгли и Мосс были двумя черными силуэтами на фоне темного неба. Никто не спешил ему помогать. – Кто-нибудь из вас! Пожалуйста!
И как бы в ответ снизу донесся стон. Лэнгли мигнул, вглядываясь в металлическую груду над поверхностью моря.
– Энди?
– Пожалуйста! – повторил Дуган.
– Заткнись, – сказал Лэнгли, но пересилил себя и схватил Дугана за запястье. Только теперь он осознал, насколько сильно на самом деле ненавидит байкера; но он также понимал, что им придется вытаскивать Сиверсона и без помощи Дугана не обойтись. Висевший над провалом байкер изо всех вцепился ему в руку, и Лэнгли испугался, что это была уловка, что Дуган сейчас сбросит его вниз. Он уже хотел стряхнуть его – Мосс, несомненно, поддержала бы его версию случившегося, – но тут Дуган, кряхтя, подтянулся и навалился грудью на палубу. Мосс схватила его за другую руку, и они выволокли его обратно в коридор.
– Энди? – повторил Лэнгли, опять наклонившись над морем. Дуган теперь был позади него, но бывший коммандо понимал, что придется рискнуть. – Слышишь меня?
Снизу донеслись лихорадочные удары по металлу. Лэнгли поводил фонарем туда-сюда и заметил руку, высовывающуюся из-под металлического листа.
– Ты живой там?
Ответный возглас был тихим и неразборчивым.
– Лучше бы это был он, а не призрак, – сказала Мосс.
– Да уж, – сказал Лэнгли. – Дуган, сходи за рацией. Вызови помощь.
Байкер не шелохнулся.
– Сходи сам. Нам же было говорено: кто позовет на помощь – вылетит из игры.
– Ты, урод, это уже не игра!
– Я пойду, – сказала Мосс. – Потом собачиться будете, сейчас надо Сиверсона вытащить. У нас ведь есть альпинистское снаряжение?
– Да. И захвати мой рюкзак. Там есть сигнальная ракета. Это на тот случай, если рация не работает.
Дуган поднялся на ноги и посторонился, давая Мосс пройти.
– Я принесу веревки, – угрюмо сказал он. – Но выходить из игры я не собираюсь.
***
– «Худший кошмар», это Мосс. Слышите меня? Прием.
Никакого ответа. Лэнгли, сам не замечая этого, перестал дышать. От страха и беспокойства у него подгибались колени, он чувствовал, что его вот-вот вырвет. Если рация не работает, им придется выпустить сигнальную ракету, но если ее никто не увидит…
– Это «Алкимос». Вы нас…
Треск помех, едва слышный в шуме ветра, и затем:
– …плохая слышимость…
– Мэйдэй! SOS! Мы терпим бедствие! Нужна помощь! Слышите? НУЖНА ПОМОЩЬ!
– …что…
Лэнгли выхватил рацию у Мосс.
– ЭТО «АЛКИМОС». ЧАСТЬ КОРАБЛЯ ОБРУШИЛАСЬ В ВОДУ. СИВЕРСОН ОКАЗАЛСЯ ПОД ОБЛОМКАМИ. ОН ЕЩЕ ЖИВ, НО ЕМУ НУЖНА НЕМЕДЛЕННАЯ ПОМОЩЬ И ЭВАКУАЦИЯ. СЛЫШИТЕ МЕНЯ? ПРИЕМ.
– …звоню Беку…
– НАМ НУЖНА ЛЕБЕДКА И ВРАЧ. ЛЕБЕДКА И ВРАЧ. ПОНЯЛИ МЕНЯ?
– Лебедка и врач, – сказала Келли. – Поняла. Конец связи.
Лэнгли с облегчением вздохнул и отдал рацию Мосс.
– Что будем делать? – спросил Дуган. – Ждать?
– Умеете оказывать первую помощь? – спросила Мосс.
– Несколько лет назад проходил базовый курс, – сказал Лэнгли.
– Тоже базовый курс, но очень давно, – отозвался Дуган.
– У меня сертификат третьего уровня, и я работала медсестрой в больнице. – Мосс подняла с пола аптечку первой помощи, затем взялась за жумар на веревке. – Что надо сделать с этой штукой, чтобы спуститься вниз?
– Я боюсь, ты не справишься.
– Не попробуешь – не узнаешь.
Лэнгли кивнул.
– Ладно. Только тебе фонарик на лоб понадобится. Если у тебя нет, я тебе дам.
***
Почти полчаса спустя Лэнгли поднял ее обратно на палубу.
– К нам направляются катер и вертолет, – сказал он. – На борту ныряльщики и врачи. Он дотерпит?
– Ну, он не умрет от потери крови и не утонет, – сказала она. – Голова у него находится над поверхностью воды – не слишком высоко, но опасаться нечего. Он может двигать пальцами, но не чувствует ног… по крайней мере одна из которых сломана.
– Травма позвоночника?
– Похоже на то. Не исключено, что серьезная. Может на всю жизнь остаться парализованным.
Лэнгли покачал головой.
– Черт. Возможно, он предпочел бы умереть. Я бы точно предпочел.
– Так у него хотя бы есть выбор, – резко сказала Мосс. – Слушай, я пойду к себе и переоденусь, а то вся вымокла. А потом подыщу себе другую каюту – подальше отсюда. И тебе советую сделать то же самое. – Она показала на микрофон на шее Лэнгли и провела пальцем по горлу. Лэнгли посмотрел на нее исподлобья, кивнул. Он вернулся к себе в каюту, снял микрофон, затем встретился с остальными в коридоре между котельной шахтой и камбузом.
– Ну, ладно, – сказала Мосс. – Я не знаю, вышвырнут ли меня из шоу за то, что я воспользовалась рацией, или за то, что покинула корабль, чтобы помочь Энди, но, если они это сделают, я пойду прямиком к их конкурентам и попытаюсь продать им свою историю. Миллион за нее не заплатят, но что-нибудь я все равно заработаю. А если меня все же не вышвырнут… – Она набрала воздух в легкие. – Я предлагаю поделить деньги. Четверти миллиона мне вполне хватит.
– На четверых? – сказал Дуган.
– Думаю, Энди они будут нужны больше, чем нам.
– А ты не знаешь, для чего они мне, – мрачно сказал байкер. – Вот что. Меня устроит половина. Вторую половину миллиона можете поделить, как вам вздумается.
– А с чего ты решил…
– С того, что я готов идти до конца, – проворчал Дуган. – А вы двое готовы? Я вам еще одолжение делаю.
– Мечтать не вредно! – резко сказала Мосс. – Да, мне не терпится убраться с этой посудины, но я не собираюсь…
– Погоди секунду, – прервал ее Лэнгли. – Дуган, если ты так в себе уверен, как насчет того, чтобы трое из нас получили… – Он быстро посчитал в уме. – По двести тысяч. У меня в каюте есть колода карт. Самой большой карте достается остальное. Если вытянешь, получишь свои полмиллиона и еще пятьдесят тысяч. А если мы вытянем, отдадим половину Энди. Или его жене, если он умрет.
Дуган прикурил, подумал, затем покачал головой.
– Нет. Мне в жизни не слишком-то везло. Своей удаче я больше не доверяю.
– Господи, – сказала Мосс. – Я думала, у тебя хватит… – Она застыла. Лэнгли и Дуган обернулись. В коридоре, в том месте, где он с другим проходом образовывал т-образный перекресток, стоял человек, его лицо освещал фонарик на лбу Мосс. Он был одет в клетчатый купальный костюм, к правой голени был пристегнут нож в ножнах. Казалось, он смеялся. Дуган шагнул ему навстречу. Человек попятился и исчез, несмотря на то, что за его спиной была стена.
Несколько мгновений они стояли молча, затем Дуган засмеялся:
– О, мне так страшно! – сказал он с презрением. – Да к черту. Я получаю половину миллиона, а генерал может разделить остальное как ему нравится. Это мое последнее слово. – Он затянулся, затем добавил: – И я остаюсь до конца.
– Я капрал, – сказал Лэнгли. – Ты хочешь сказать, что позволяешь мне уйти из шоу?
– Я тебе одолжение делаю.
– Послушай, я в Афганистане всякого повидал. С чего ты решил, что я испугаюсь какого-то призрака? И кстати, ты думаешь, мы поверим, что ты отдашь причитающуюся нам сумму, после того как получишь деньги?
– А почему я должен верить тебе?
– Вообще-то это не я отсидел срок.
– Это за драку. И за наркотики. – Он со вкусом затянулся. – Вором я никогда не был.
Мосс посмотрела на Дугана, потом на Лэнгли и поняла, что ни тот ни другой не уступит. Брезгливо поморщившись, она ушла на корму дожидаться вертолета.
Три дня спустя, когда она спокойно сидела дома, а Сиверсон находился в больнице и его состояние оценивалось как стабильное, «Алкимос» накрыло еще одним штормом и остатки корпуса и палубы обрушились в море.
***
Бек прошел процедуру следствия с прямой спиной и высоко поднятой головой. Телеканал уволил его, поскольку «Худший кошмар» завершился раньше оговоренного в контракте срока, но руководство решило не подавать на него в суд, и после того, как коронер вынес свой вердикт по поводу смерти Лэнгли и Дугана, государственный прокурор объявил, что не намерен предъявлять кому бы то ни было обвинение в убийстве по неосторожности. Свидетели из съемочной группы подтвердили, что ни Лэнгли, ни Дуган не предпринимали попыток связаться с берегом – ни перед, ни во время шторма они не просили снять их с корабля.
Как сказал коронер, по-видимому, весь период времени с того момента, как Мосс покинула корабль, и до того мгновения, как на них неожиданно обвалился потолок, они сидели на камбузе, пили кофе и играли в карты. Среди обломков были найдены два ножа, но патологоанатом, производивший вскрытие, засвидетельствовал отсутствие на их телах ножевых ранений.
Согласно его показаниям, они оба, вероятнее всего, пережили разрушение корабля и оставались в сознании еще приблизительно в течение часа после катастрофы – и умерли один за другим в течение нескольких минут, а вполне возможно, и в одно и то же время.
Послесловие
Севший на мель «Алкимос» находился всего в паре часов ходьбы от дома моих родителей; его хорошо было видно с пляжа, располагающегося рядом с нашим домом. Несколько раз я специально ходил на него смотреть с ближайшей точки, но никогда не плавал к кораблю и не видел призраков.
Большая часть фактов, приведенных в этом рассказе, соответствует истине – хотя иногда, когда факты явно противоречат легенде, я придерживаюсь легенды. Отличаются друг от друга, например, свидетельства о том, где именно был найден череп Войгта – на самом корабле или рядом с ним. История, которую Лэнгли рассказывает другим участникам шоу, произошла в действительности – на одну пару, посетившую «Алкимос», обрушились подобные несчастья. И в 2007-м судно действительно развалилось во время шторма, над водой осталось только машинное отделение.
Однако сцена спиритического сеанса целиком выдумана мной – как и все персонажи и (к счастью) «Худший кошмар». В свое время в Австралии пытались запустить «Фактор страха», но этот проект забросили, сняв всего две серии. Не стану притворяться, что меня опечалил его неудачный старт. Некоторые вещи лучше не трогать. Пускай себе лежат.
Стивен Дедман – автор четырех романов: «Искусство вырезания стрел» («The Art of Arrow Cutting»), «Укус теней» («Shadows Bite»), «Тела иностранцев» («Foreign Bodies») и «Пригоршня данных» («A Fistful of Data»), и более ста двадцати рассказов, опубликованных в журналах и антологиях самой разной направленности.
Он работает преподавателем творческого письма в Университете Западной Австралии и является совладельцем книжного магазина Fantastic Planet в Перте.
Для дополнительной информации заходите на его интернет-сайт: .
Лили Хоанг Лисы
Теперь я понимаю, что вы думаете. Лисы обитают не только во Вьетнаме, но в том-то и суть. Поэтому эту историю и помнят. И еще вы должны учесть, что в тот день в деревеньке появилась не одна лиса. И не две. Нет, ее окружили целые сотни лис, и они ушли только после того, как сровняли ее с землей.
***
Эта история начинается так же, как и множество других – с прошлого. Было время, когда Вьетнам был очень спокойным местом. Это было давным-давно, задолго до коммунистов, задолго до рождения моих родителей. В том Вьетнаме люди жили сообща. По утрам, когда было еще прохладно, они работали в полях, а после обеда возвращались в свои дома отдыхать и учиться. Но в то время учеба была не такой, как сейчас. Люди ходили от дома к дому и искали, кто может их чему-нибудь научить – естественно, тому, что им было нужно. Если ты хотел научиться ткать, то шел в дом Ко Ту. Если хотел получить знания о звездах, то отправлялся в обсерваторию Чу Санга. Если хотел изучить человеческое тело, то шел к доктору Тием Пуонгу. Конечно, если ты не хотел ничему учиться, то тебя никто не заставлял. Ты мог просто отдыхать. Но большинству людей нравилось учиться. Это давало им возможность ощутить уважение к разным формам труда.
Затем, как и в большинстве подобных историй, кое-что произошло. В нашем случае этим «кое-чем» была болезнь. Болезнь пришла в деревню и убила почти всех ее жителей. Это был ужасный недуг, такой мерзкий, что обитатели деревни молили о смерти. И не страх медленной смерти заставлял людей желать смерти быстрой. Нет, просто заболевшие мучились от такой сильной боли и выглядели так отвратительно, что те, к кому еще хворь не привязалась, молились о том, чтобы их убили. Они молили о быстрой смерти. Они молили Бога, которого еще никогда не видели, забрать их.
А затем, с той же легкостью, с какой она пришла, болезнь покинула деревеньку. В живых осталось только семь человек, почти все не ели уже долгое время и тронулись умом. Они почти позабыли человеческий язык и думали только о смерти. И эти семь выживших, не в силах поверить в то, что болезнь отступила, искали способы убить друг друга. К счастью для них, колонисты пришли в деревню как раз вовремя и успели их спасти.
Дети до сих пор играют в «Лис». Я играла в эту игру, когда была маленькой. Мои родители играли, когда были детьми, и их родители тоже, и родители их родителей – все дальше и дальше в прошлое.
Эти колонисты были похожи на всех других колонистов. Их светлые волосы развевались на ветру, а золотые кресты ослепляли наших нецивилизованных выживших. Они говорили на языке, очень похожем на тот, которому местный лингвист Чу Хиен когда-то давно обучил жителей деревни. Они еще немного помнили тот язык и, как могли, объяснили колонистам, что деревню опустошила моровая язва и они – это все, кто остался. Они пытались рассказать, как жили до того, как на них напала болезнь, но колонисты не умели слушать ничего, кроме «Радуйся, Мария» и других своих молитв. Немного времени прошло, и эти семеро, пережившие самую страшную болезнь, какую только видела земля, были повешены.
***
Когда моя мать рассказывает эту историю, она говорит: «Лисы возвращаются на это место, словно воспоминания. Они суровы и безжалостны. Это железные звери».
А когда эту историю рассказывает отец, он говорит: «Лисы – воины. Они хладнокровны и очень хорошо умеют ждать».
***
Когда недуг поражает тебя, ты узнаешь об этом сразу же. Первые тридцать шесть часов ничего не происходит – это инкубационный период болезни, – но ты все равно знаешь. Тебя вдруг озаряет вспышка умственной ясности, понимания, кто ты есть на самом деле. Все проступки, которые ты допустил в своей жизни, выплывают из небытия и разворачиваются перед тобой, словно трехмерные фильмы, в которых ты одновременно актер и зритель. И тогда ты понимаешь, что за тобой идет смерть. И ты понимаешь, что она не будет легкой.
***
Ханх был хорошим мальчиком. Он был прилежным учеником, усердно работал, любил своих родителей и никогда не ленился. Если занятия в школе заканчивались пораньше, он бежал домой и готовил для родителей обед. А после того как все поели, он всегда вызывался вымыть посуду. Конечно, мать никогда не разрешала ему этого и мыла ее сама.
После обеда Ханх шел к себе в комнату и учил уроки до тех пор, пока глаза у него не вылезали из орбит. И даже после этого он занимался еще час-другой. Он не мог себе позволить терять время даром. Он был идеальным вьетнамским сыном.
***
Когда мой отец рассказывает эту историю, он говорит: «Болезнь наполнила этих женщин яростью столь сильной, что они смогли повлиять на закон перерождений и вернуться ради мести». Когда отец рассказывает эту историю, он говорит: «Женщины никогда не прощают поругания. Их ничем не задобришь». Невозможно подсчитать точно, говорит он мне, но эти женщины – эти лисы, – может статься, они опустошили огромное количество деревень. Непонятно, сколько именно – от деревень не оставалось ни камушка. Может, их были сотни, а то и тысячи. Одно можно сказать наверняка: лисы существуют, и они будут продолжать убивать.
А когда эту историю рассказывает мать, она говорит: «Это из-за жестокости колонистов женщины вернулись в облике лис». Она говорит: «Пока Вьетнам остается под пятой колонистов, лисы будут разрушать все, что они строят».
Мать совсем не интересуется политикой и не разбирается в ней, но когда она рассказывает эту историю, я с ней не спорю.
Когда историю рассказывает моя мать, она говорит: «Лисы нападают на поселения людей с тех пор, как во Вьетнам приплыли первые колонисты». Она говорит, что они очень методичны и идут от деревни к деревне, убивая людей и разрушая здания. Еще она говорит, что их становится больше и больше – потому что они собирают армию. Мать говорит: «Они не собираются отступать. Они никогда не остановятся».
***
За тридцать шесть долгих часов тебе придется заново пережить все самые болезненные эпизоды твоей жизни. В течение всего этого времени твоя память работает идеально – все цвета именно такие, как были в реальности, не забыт ни один волос, – и ты видишь себя оступающегося, ты видишь себя падающего, видишь себя страдающего, видишь себя, знающего все, что случится, и все, что уже случилось. Ты чувствуешь смятение и жалость к себе, и даже их одних хватает на то, чтобы начать умирать. Ты желаешь себе смерти, но она не придет так легко.
В этой игре семь девочек изображают из себя лис. Они окружают всех остальных. Затем, после подмигиваний, кивков и завываний, они выбирают новую лису. Они нападают на детей, хватают выбранную девочку и убивают остальных. Конечно, они не убивают нас на самом деле, но та, которую выбрали, становится нашей предводительницей на весь день. Каждая девочка хочет, чтобы именно ее выбрали лисы. Потому что это означает, что сами боги позволили ей жить.
В течение инкубационного периода болезнь заставляет тебя заново проживать свое прошлое. Ты идешь по своему прошлому, и если твое существующее в сегодняшнем дне тело, например, сталкивается со стеной, ты продолжаешь идти дальше, потому что в прошлом – то есть там, где ты в действительности сейчас находишься, – этой стены просто нет. Те, кому повезло, заходят в океан и тонут до того, как проснется настоящая боль. Но большинству не везет. Они отделываются синяками, сломанными конечностями и потерей частей тела.
***
Лиса – охотница. Она очень хитрая. А еще она красивая и изящная.
***
Один мужчина, проживая заново убийство своей жены, бросился с ножом на тридцать семь человек и убил почти половину из них. Его бы судили и повесили, если бы все не были убеждены, что это на самом деле милосердие – так быстро и легко лишить жизни этих людей.
***
Единственными выжившими были женщины – беременные женщины. Хотя они даже не понимали, что беременны. Болезнь сожрала некоторые важные участки их мозга. У одной женщины не было гиппокампа, у другой – всей лобной доли. Эти женщины были уже на девятом месяце и едва ходили, но не из-за тяжести живота или болей в спине, а потому, что из-за болезни их ноги так раздулись, что напоминали стебли капусты бок-чой. Недуг раскрасил их кожу фиолетовыми пятнами и прыщами, которые пухли и гноились от жары.
***
Это колонисты первыми поняли, что женщины на сносях. Колонисты были бесконечно мудры и тверды в своем понимании мира, и как только они поняли, что женщины беременны, то быстро пришли к выводу, что это недуг – то есть дьявол – заронил в них семя.
***
Но лиса может быть и чувственной. Она гибкая и ловкая, у нее гладкий, лоснящийся мех. У лисы человеческие глаза, заглянув в которые можно увидеть жалость, а порой и настоящую страсть.
***
Когда Ханх был маленьким, он, бывало, просил мать рассказать ему историю о привидениях – такую, после которой маленький мальчик вряд ли смог бы заснуть, – но мать никогда не рассказывала таких историй. Она говорила, что правда всегда страшнее вымысла, и еще она говорила, что прошлое этой деревни, той самой, где он прямо сейчас лежит в кровати, таково, что если даже самый храбрый мальчик узнает его, то он больше никогда не заснет.
Заинтригованный, Ханх просил рассказать тогда о прошлом деревни, но мать говорила: «Скоро, мой милый сыночек. Ты пока еще слишком мал, но скоро ты пойдешь в школу, и я не смогу уже защищать тебя, даже если бы захотела».
И это было правдой. Она не смогла его защитить.
Правила игры просты: семь самых заметных девочек – или самых богатых, или самых влиятельных – становятся лисами. Все остальные должны стать жителями деревни. Эти девочки, девочки-лисы, очень сильны, и они знают об этом. Они стоят выше, чем учителя или родители. Они стоят вровень с богами, и остальные дети оказывают им почести. Эта игра никогда не кончается. Девочки-лисы могут прийти в любое время. Они могут прийти, когда ты ешь и когда спишь. Они могут прийти, когда ты писаешь и когда учишь уроки. В любое время. И тебе нужно быть готовым к тому, что тебя заберут или убьют.
Когда эти девочки-лисы приходят, они танцуют. Их тела закутаны в прозрачные, сетчатые накидки. Когда они убивают тебя, небольшая часть тебя и в самом деле умирает, потому что ты надеялась, ты молилась, что на этот раз они наконец выберут тебя. Ты думаешь об этом, но ты уже мертва. Они убили тебя.
Болезнь начинается в мозгу. Если тебе повезет, болезнь выест нужные части мозга, и ты не будешь ничего чувствовать. Но большинству людей не везет.
Когда болезнь полностью развилась, она нападает на кожу. Вначале она проявляется как простая веснушка или бородавка, но через минуту-две это пятнышко начинает гореть. Это похоже на то, как если бы на кожу упала маленькая капля кислоты. Затем появляется еще одна крапинка, затем еще десять. Затем сотня – и ты с ног до головы покрыт заполненными кровью прыщами, и каждый из них горит жутким ледяным огнем. На этой стадии чувство жжения превращается в чувство холода, превращается в неописуемую боль. Но на этом болезнь не останавливается.
К счастью, это всего лишь игра, и ты можешь снова ожить. У тебя появляется чудесная, невероятная возможность. В следующий раз они могут выбрать тебя. В следующий раз ты можешь возродиться в облике девочки-лисы.
Болезнь сама регулирует количество этих прыщей, так, чтобы какой-то процент кожи оставался неповрежденным и она не слезала кусками. Ты чешешься как безумный, но это не помогает. Жжение и зуд идут вглубь, и ты чувствуешь их в мышцах – как будто тебя колют отравленной булавкой, – а потом и в костях. Вполне возможно, что в итоге ты ощутишь их и в сердце, и в мозгу, но, по понятным причинам, достоверные свидетельства, подтверждающие это, отсутствуют.
Когда боль достигает костей, костный мозг начинает пениться, кости размягчаются и ты не можешь ходить. Но лежать ты тоже не можешь. Боль становится такой сильной, что ее не в силах терпеть даже самые выносливые люди, но даже тогда болезнь не дает телу умереть. Люди корчатся и извиваются на земле, и, если смотреть внимательно, можно заметить слабую пульсацию внутри их истощенных тел – это дышат их кости.
***
Когда я была маленькой и плохо себя вела, родители говорили, что, если я не буду слушаться, придут лисы и съедят меня. Конечно, я ни минуты в этом не сомневалась и сразу переставала шалить. Родители никогда не уставали предупреждать меня о лисах. До сего дня они напоминают мне, что лисы всегда где-то рядом, что от них нельзя убежать, что им достаточно увидеть меня один раз, чтобы запомнить навсегда. Они говорили, что это из-за их чуткого носа, но в глубине души мы всегда знали, что дело тут в чем-то другом, гораздо более страшном.
***
Конечно, лисы детей не едят. Они вообще на них не обращают никакого внимания. Эти лисы – они на самом деле не лисы. Да, они принимают облик лис, они выглядят, как лисы, они прижимаются к земле, как лисы, перед тем как прыгнуть на жертву, но пусть это вас не обманывает. В этих лисах живет болезнь – болезнь, убившая всех жителей их деревни, болезнь, которая просто так не покинет это место.
***
Колонисты были жестоки. Когда семь выживших женщин выбрались из-под груды мертвых тел, колонисты их связали. Они собирались вымыть их, чтобы посмотреть, что там, под коркой засохшей грязи и крови. И, может быть, потому, что женщины и колонисты почти не понимали друг друга, они много кричали, а затем женщинам заткнули рот кляпом. Затем им завязали глаза. Затем высекли. Затем изнасиловали. Затем снова вымыли. И все началось заново и продолжалось до тех пор, пока колонисты не насытились. Затем этих женщин – этих сильных женщин, переживших самую страшную болезнь, какую только видела земля, – повесили. Но даже когда все они были мертвы, колонисты не прекратили их пытать.
***
Когда эту историю рассказывает отец, я в безопасности. Отец говорит: «Лисам ты не нужна. Больше всего на свете они, эти лисы, хотят найти хорошего отца для своих детей. Они хотят найти мужчину, который не убьет их и который не умрет от болезни. Они ищут его каждый день, и, к счастью, маленькая моя дочурка, ты – не мужчина».
Но когда эту историю рассказывает мать, она звучит немного по-другому. Нет, в основных моментах их версии совпадают. В ее рассказе есть и болезнь, и колонисты, и убийства, и лисы, но лисы в нем гораздо более мстительны. Она говорит, что «это из-за всего того, что им пришлось пережить». Она считает, что вьетнамцы, а особенно вьетнамские женщины, могут пережить больше, чем любой другой народ в мире, и не жаловаться и даже не копить обиду, но все же говорит, что страдания этих женщин требовали отмщения. Она говорит: «Вьетнамцы не склонны к насилию, но, когда тебя бьют и бьют, не нанести ответный удар – это глупость и самоубийство».
***
Ханх занимался при свечах не потому, что в его доме не было электричества – оно было, и именно оно использовалось для освещения его комнаты, – а потому что свеча показывала, сколько прошло времени. Каждый вечер он сидел за уроками, пока не сгорало ровно три свечи, а потом шел спать. Перед началом занятий он отмечал на каждой свече середину – чтобы знать, когда переходить с предмета на предмет, которых было шесть. Он был очень целеустремленным мальчиком, но, кроме того, он был очень предан родителям, как все хорошие вьетнамские сыновья. Он учился не только ради себя, но и ради них, чтобы они с гордостью могли говорить соседям, какой у них умный мальчик.
***
Когда эту историю рассказывает моя мать, она говорит: «Лисы хотят, чтобы Вьетнам был как стоячее болото. Они хотят, чтобы все здесь было как раньше. Они эгоистичны и с предубеждением относятся к любым новшествам».
А когда эту историю рассказывает отец, он говорит: «Лисы пытаются спасти Вьетнам от крушения – крушения, вызванного тяжестью наших желаний».
***
Лисы работают в команде. Мы не слышим и не понимаем их языка, но нам очевидно, что этот язык существует, поскольку они движутся как единый организм. Все их движения четко выверены. Это похоже на грандиозный балет, во время которого сотни людей умирают, чтобы лисы могли окружить одного-единственного человека, которого они хотят забрать с собой. И после этого рождается еще одна лиса.
***
Убрав все тела, колонисты построили новую деревню по образцу поселений своей родины, где правили монарх и деньги. Это было очень выгодно, потому что они, колонисты, сами стали здесь монархами. Они были правителями, чьи повеления не обсуждались. Даже после того, как лисы убили всех колонистов, после того, как целые поколения сменили друг друга, деревня уже никогда не вернулась к своему изначальному, свободному и мирному устройству.
***
Когда мать Ханха узнала, что лисы вновь объявились в округе, она сразу поняла, что они пришли за ее сыном. Это была не материнская гордость. Это был инстинкт. Она знала своего сына, он был прилежным и красивым. У него были свои маленькие недостатки, но он все равно был самым хорошим мальчиком из всех, кто родился в деревне за последние годы. И тогда она придумала план. Она поговорила со всеми остальными женщинами, жившими в деревне. Она угощала их пирожными и сладким рисом. Она раздала им все свои ценности – только бы они обещали помочь ей. У лис была дурная репутация. Она знала, что они придут и убьют всех, и единственный способ пережить их нашествие – это сражаться.
***
Вот когда болезнь проникает в костный мозг – тогда все становится на самом деле страшно. Костный мозг увеличивается в объеме и давит на твердую кальциевую стенку кости. Она трескается, но из-за болезни не ломается полностью. Она как бы шелушится, с нее слезает слой за слоем. Эти слои отделяются не чисто. Они расщепляются, и осколки кости пробивают себе путь к поверхности, к воздуху. А ты все не умираешь. Даже сейчас ты продолжаешь жить и страдать.
***
Но лисы на самом деле едят детей. Они едят мальчиков и девочек с такой же легкостью, с какой они едят женщин и мужчин. И не испытывают ни малейшего чувства вины.
Правда состоит в том, что лисы жрут все и всех. Они сожрут всю твою деревню, а затем, просто по доброте душевной, сровняют все дома с землей, чтобы стереть всякие следы того, что здесь жили люди. Лисы – разрушители. Они хотят сделать с тобой то же, что болезнь и колонисты сделали с ними. Им незнакомо чувство жалости и сострадания. Они убивают и разрушают быстро, но иногда останавливаются – ровно настолько, чтобы ты осознал, что происходит. Они злы и жестоки.
Но они оставляют в живых одного человека. С каждой разрушенной деревней их стая, их семья, медленно растет. Теперь их уже целая армия – армия лис.
***
Мать Ханха была очень настойчива. Она ходила от двери к двери и собирала деревенских женщин. Она не знала, что делать. Другие женщины тоже не знали, но они все равно собирались и разговаривали. Каждая женщина рассказывала свою версию легенды о лисах. Мать Ханха полагала, что в различиях разных версий может быть скрыт какой-то секрет, что-то, что их всех спасет. Но по мере того как женщины говорили, становилось ясно, что ничего сделать нельзя, что они все обречены и, что хуже всего, что лисы не примут ее сына в свои ряды. Лисам не нужны были мужчины; они не хотели, чтобы какой-нибудь мужчина снова их убивал.
***
Проблема с теми колонистами, как и со всеми колонистами в принципе, состояла в том, что земля, которую они колонизировали, – это была не их земля. Они не знали, что здесь принято, а что нет. Они не уважали обычаев этой земли, потому что не знали их. Поэтому, когда колонисты повесили тех семерых больных женщин, они не подумали о том, как действует смерть, не подумали о том, что тела надо похоронить, и уж точно не подумали о возможных последствиях.
Но они повесили этих женщин не из злобы. Подумать так – это значит не понять ровным счетом ничего. Нет, колонисты убили их из страха. Они были уверены, что в них, в их черной плоти и выпирающих костях, сидит дьявол.
Колонисты не заметили, что тела повешенных женщин просто исчезли. Деревня была просто завалена трупами, и колонистам приходилось их разгребать. У них было столько дел! Они просто забыли об этих женщинах. Это кажется неправдоподобным, – казалось бы, они все равно должны были заметить. Но только именно так все и было. Семь беременных женщин, пережившие болезнь и попавшие под бичи колонистов, были повешены, и их смерть была засвидетельствована. После этого они просто исчезли.
А спустя несколько недель появились лисы. Естественно, колонисты их тоже не заметили.
Девочки-лисы могут выбирать в качестве новой лисы любую девочку, которая им понравится. Каждая новая девочка-лиса проходит особый обряд посвящения, позволяющий ей стать частью мира лис. Это очень долгий ритуал, в котором фигурируют ленты и конфетти, уголь и вода. Он очень труден для новых девочек-лис, но они никогда не жалуются, потому что несказанно рады стать частью группы. Каждая девочка-лиса в тайне задается вопросом, является ли настоящее посвящение в лисы таким же чудесным действом, похоже ли оно на обретение новой семьи.
***
На том, что осталось от тела, появляются огромные волдыри. Они вырастают размером с кулак. Ты видишь, что внутри этих волдырей в гное плавают какие-то частички. Если ум у тебя еще не совсем помутился, ты понимаешь, что эти частички и есть болезнь, но в большинстве случаев к тому времени, когда появляются волдыри, твой мозг уже превратился в суп и единственное, о чем ты можешь думать, – это боль.
Те девочки, кого лисы не выбрали, целую неделю после бойни не имеют права разговаривать. И родители, и учителя понимают это правило и позволяют детям молчать. Создается впечатление, что весь Вьетнам соглашается с этим почитанием лис. Это своего рода способ поклонения и молитвы, чтобы лисы не пришли в деревню, не важно, большая она или крохотная, богатая или бедная.
Мать Ханха была права в том, что лисы положили глаз на ее дом, но ее сын был тут ни при чем. Для них он был просто жалким последователем колонистов. Нет, им нужна была она.
В тот день, когда лисы напали на деревню, на улицах было тихо.
В тот день, когда лисы напали на деревню, в небе ярко светило солнце. Жители деревни понимали, что грядет что-то невиданное – солнце никогда еще не пекло землю с такой яростью.
А затем они пришли. Лисы пришли.
***
В ночь перед тем, как пришли лисы, все женщины деревни накопали вокруг своих домов не очень большие, но глубокие ямы. В дно этих ям они натыкали острых палок, а сверху прикрыли их сеном и соломой. Они запаслись бензином и спичками. Они заточили все ножи и спрятали детей в подвалах. Женщины были готовы. Они были полны решимости дать лисам отпор.
***
Когда эту историю рассказывает отец, он говорит: «Это колонисты принесли с собой болезнь». Отец говорит: «Это было предостережение». Он говорит: «Болезнь проявила милость к тем, кого она не пощадила».
Он говорит так, и все же принял религию колонистов.
Когда эту историю рассказывает моя мать, она говорит: «Лисы могут прийти в любое время. Ты должен быть всегда готов к их нападению».
***
В тот день, когда появились лисы, женщины спрятали своих мужчин и детей. Когда появились лисы, только женщины встали на их пути. Лисы пришли в деревню и принялись убивать.
Мать Ханха смотрела из окна кухни, как лисы перепрыгнули через ямы-ловушки, как они увернулись от бензина и спичек. Она смотрела, как они одновременно запрыгнули во все окна. «Красиво», – подумала она. Она увидела, как брызнули фонтаны крови, и услышала, как лисы пробрались в подвалы. Мужчины и дети начали кричать – а затем тишина. Все произошло буквально за несколько мгновений. За несколько ее вздохов.
Затем, еще до того, как они забрались в ее дом, у нее тоже появился хвост.
***
Существуют определенные признаки приближения лис, но никто толком не знает, что это за признаки. Некоторые говорят, что перед нападением лис становится очень жарко. Другие говорят, что появляются целые тучи мух. Третьи – что с ночного неба исчезают звезды.
В любом случае не подлежит сомнению тот факт, что лисы могут управлять силами природы.
***
Когда эту историю рассказывает моя мать, она говорит, что моя пра-пра-прабабка как-то видела деревню, которую лисы разрушили не до конца. Мать говорит: «От нее почти ничего не осталось. В стенах немногих уцелевших домов были огромные трещины – это из-за того, что лисы разбегались и с силой землетрясения ударяли в эти стены головой. В каждом доме лежала семья – мать и отец рядом, навзничь, и дети, свернутые калачиком у их ног». Она говорит: «Твоя пра-пра-прабабка видела только одну семью, где матери не было».
Когда эту историю рассказывает моя мать, она говорит: «На полях ничего не росло. Это были просто участки грязи. Никаких животных тоже не было. Не было ни растений, ни даже просто травы. Даже мух – и тех не было. Во всей деревне были только разваливающиеся дома и мертвые люди».
А когда эту историю рассказывает отец, версии матери уже нет веры. Когда эту историю рассказывает отец, нет никаких деревень, переживших нападение лис. Ни одной.
***
Ханх был хорошим мальчиком. Он был умным и любящим, но обычным. Лисы убили его, как и всех остальных. Он не был особенным.
***
Моя пра-пра-прабабка увидела это, когда была маленькой. Она тоже играла в «Лис». Однажды ее выбрали новой лисой, и в качестве награды ее подруги-лисы взяли ее с собой посмотреть на разрушенную деревню. Они взяли ее взглянуть на свою судьбу. Увидев это, моя пра-пра-прабабка перестала разговаривать. И почти перестала есть. Закрывая глаза, она каждый раз видела мертвые лица, спокойные и покорные.
***
Был один раз, когда лисы не взяли с собой новую лису, – это когда они напали впервые. Они только недавно родились, еще недостаточно развились, их поведение было лишено изощренности. В тот раз они убивали просто из необходимости. Они убивали, чтобы выжить и отомстить. У них не было движущей идеи, какого-либо расчета. Они просто хотели уничтожить людей, которые пытали и повесили их.
Когда лисы напали впервые, колонисты жили на этой земле уже несколько десятилетий. Они наделали детей и рассыпали их по всех стране. Лисы ждали слишком долго, и поэтому они решили, именно тогда, увидев лица колонистов, посвятить свои жизни искоренению всего, что они создали.
***
Теперь и мои дети играют в «Лис». Они бегают и танцуют, проводят сложные ритуалы. Мне кажется, наши игры и ритуалы были все же немного проще. Когда они прибегают домой, я говорю им, что бояться нечего. Я говорю, что лисы их не тронут, что на самом деле их не бывает, но при этом мне требуется все мое самообладание, чтобы не показать им мой пушистый, красивый хвост.
Послесловие
Мои родители создали целую серию мифов обо мне – эти мифы описывают время, которое я не могу вспомнить. Следовательно, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти истории. Как бы то ни было, один из мифов рассказывает о девочке со стрижкой «под горшок». Я очень маленькая, хотя и не знаю точно, сколько мне лет. Наверное, три или четыре. Я держу в руках книгу – сборник сказок, написанных одновременно на английском и вьетнамском. Когда к нам приходят гости, родители дают мне эту книгу, и я читаю вслух. Сначала я читаю по-английски. Гости охают и ахают. Затем я читаю ту же самую сказку по-вьетнамски. Все теряют дар речи. Они поражены. Я гений. Родители мной гордятся.
Лили Хоанг – автор романов «Эволюционная революция» («The Evolutionary Revolution»), «Невидимые женщины» («The Invisible Women»), «Перемены» («Changing») и «Парабола» («Parabola»). Последний победил в конкурсе «Разбор романа» издательства Chiasmus Press. «Перемены» получили премию «Вне границ» Американского ПЕН-центра (PEN/Beyond Margins Award). Она работает помощником редактора в издательстве Starcherone Books и является соредактором антологии 30 Under 30.
Лэйрд Баррон «Рэдфилдские девчонки»
1.
Каждую осень, в течение десяти лет, несколько «рэдфилдских девчонок», членов сплоченного женского клуба преподавателей Рэдфилдской мемориальной средней школы города Олимпия, штат Вашингтон, предпринимали небольшое путешествие по глухим местам тихоокеанского северо-запада. Как правило, они арендовали домик в какой-нибудь живописной сельской местности – где-нибудь на островах Сан-Хуан, в Кэннон-Бич или в Астории – и последние долгие выходные, перед тем как их ученики, загорелые и дикие после каникул, заполнят учебные классы, проводили за криббиджем, книгами и вином. Сердцем «рэдфилдских девчонок» были Бернис Барбер, Карла Готт, Дикси Тисс и Ли-Хуа Минг. Ли-Хуа работала школьным психологом, Карла и Дикси преподавали английский язык. Карла была убежденной поклонницей «мертвых белых европейцев», а Дикси предпочитала Неруду и Борхеса. Их частые споры были то мучительными и надуманными, то изысканными и страстными – в зависимости от того, сколько бокалов «мерло» они успели осушить. И обе они воспринимали Бернис, одинокую учительницу физики и любительницу покупать книжки на распродаже, в качестве брошенной в грязь палки, отмечающей границу двух враждующих государств.
В этом году был черед Бернис выбирать цель путешествия, и она выбрала простой деревянный дом, стоящий на берегу озера Кресент, что раскинулось на полуострове Олимпик. Дом принадлежал гостинице «Крупная рыба» и располагался в полумиле от основной дороги в небольшом пихтовом лесу. Там отсутствовало электричество, и туалет был на улице, но сам дом был большим и чистым, а дровяной сарай забит под завязку. По телефону ей сказали, что в этом доме останавливалось немало знаменитостей – Фрэнк Синатра, Бинг Кросби, Элизабет Тейлор и по крайней мере один представитель семейства Кеннеди. И даже какие-то известные гангстеры со своими любовницами.
Собственно, это Дикси заставила ее выбрать озеро Кресент. Если бы не ее нытье, Бернис удовольствовалась бы очередным уик-эндом в Оушн-Шорс или Сисайде. Дикси была категорически против: ее всегда привлекали Порт-Анджелес и Секим-Вэллей, она ныла и канючила, и Бернис в конце концов сдалась. В двадцатых годах в той местности жила ее семья, но, конечно, за столько лет всех разбросало по свету. Сама она выросла в Олимпии, но каждое лето приезжала на озеро с родителями. Они ставили палатку, рыбачили и купались. Отец жарил барбекю и рассказывал истории о привидениях – чем же еще заниматься долгими вечерами у воды? Бернис и ее муж, Элмер, ездили туда раз пять-шесть; но она ни разу не была там после его смерти. Однако в последнее время она часто вспоминала об озере. Она просыпалась в поту, а сон исчезал, словно ртутный отблеск.
Вечером накануне того дня, когда «рэдфилдские девчонки» должны были отправиться в путешествие, разыгралась буря. Бернис вздрогнула от громкого стука в дверь. Она не сразу встала с кресла и слегка пожалела, что не завела собаку, после того как умер Норман, ее черный лабрадор. Она жила за городом, в лесу, и к ней редко заглядывали гости – и уж точно не на ночь глядя. Затем из-за двери знакомый голос произнес ее имя. Это была ее племянница, Лурд Бланшар, которая нежданно-негаданно прилетела из Парижа.
Провожая Лурд в гостиную, Бернис приложила все усилия, чтобы скрыть от нее свое беспокойство. Нет, дети и подростки не вызывали у нее отрицательных эмоций. Однако она очень ревностно относилась к этим нескольким неделям свободы перед началом учебного года, и, что более важно, ее отношения с Лурд были довольно прохладными. Эта девушка-подросток была умной и острой на язык – не слишком-то приятное сочетание для любой женщины моложе тридцати.
Бернис заподозрила, что она убежала из дому. Уложив девочку в постель, Бернис, стараясь не шуметь, позвонила своей сестре Нэнси, и та развеяла эти подозрения. Да все хорошо, просто замечательно – а почему она спрашивает? Лурд скопила немного денег и решила слетать в штат Вашингтон – просто немного отдохнуть, сменить обстановку. Глупость, конечно, но что прикажешь делать? Она ведь упрямая – прямо как ее любимая тетя.
– Ну, для начала ты могла бы меня предупредить, – сказала Бернис. – Господи, Нэнс, я завтра уезжаю с «рэдфилдскими девчонками».
Нэнси рассмеялась. В трубке начало потрескивать.
– Видишь, как здорово. Она всегда хотела, чтобы ты взяла ее в одну из твоих поездок. Сестренка? Сестренка? Связь прерывается. Повеселитесь там…
Нэнси отключилась. Бернис положила трубку. Все это было очень странно и слишком зловеще для совпадения. Уже несколько дней подряд ее мучили кошмары; а теперь на пороге появилась Лурд, вымокшая до нитки, и за спиной у нее гремел гром и вспыхивали молнии. Прямо как в готических романах, которые Бернис читала, чтобы заснуть. Она не могла взять и отправить Лурд домой, и у нее не хватило бы совести оставить ее здесь одну. Поэтому она поскрипела зубами, а затем изобразила на лице улыбку, как у мисс Америки, и сказала:
– Знаешь что, детка? Мы едем в горы.
2.
День уже клонился к вечеру, когда они приехали к озеру. Каким-то образом им удалось впихнуться со всеми сумками в насквозь проржавевшую «субару» Дикси. Эта машина прошла уже добрую сотню тысяч миль после истечения срока эксплуатации и была сплошь заляпана наклейками вроде: «Свободу Тибету», «Выброси свой телевизор» и «Миру – мир». Они остановились у гостиницы и получили ключ от дома и бесплатную корзину с фруктами. Оттуда до дома на берегу было десять минут езды через лес. Пока остальные заканчивали разбирать вещи, Бернис незаметно улизнула на террасу, собираясь выкурить сигарету. К ее досаде, она увидела там Лурд. Она стояла, облокотившись на перила. Бернис подумала, что что-то слишком уж быстро ее племянница начала причинять неудобства. Удивительно, но остальные женщины, очевидно, не испытывали никакого неудовольствия по поводу ее присутствия. Наверное, они так терпимы к ней, потому что у них нет своих детей.
– Тетя Долли здесь умерла. Вон там ее нашли. – Лурд показала на темную воду, плещущуюся ярдах в тридцати от террасы.
– Тебе она не тетя, а двоюродная бабушка. – Бернис незаметно спрятала зажигалку обратно в карман и попыталась сообразить, как ей удалиться с места действия таким образом, чтобы это не выглядело бегством. – И если быть точным, скорее всего, это случилось ближе к западному берегу. Они жили в той стороне.
– Но ведь это она «девушка из озера»?
– Тетя Долли была тетей Долли. Она умерла страшной смертью. Так что скрипичные пассажи тут не к месту.
– Как и истории о привидениях?
– Да. Это все местные пьянчуги – им только дай повод языками почесать.
– А тебя это не печалит? Хоть немного?
– В тридцать восьмом меня и на свете-то не было. Я ее не знала. Ты что, думаешь, я такая старая?
Лурд откинула волосы с лица. Она была светловолосой и худощавой, хотя у нее были глаза и губы матери. Бернис всегда удивлялась тому, что она такая светлая. Их предки по материнской линии представляли собой жгучую испанско-клалламскую смесь, и, как следствие, почти все в их семье были ширококостными и темноволосыми. Бернис унаследовала от родителей высокие скулы, бронзовую кожу и черные волосы, которые в последнее время слегка посерели, будто их припорошили золой. Дома у нее была пара мокасин, которые она никогда не надевала, и целая коллекция бус, оставшихся от матери. Бусы она хранила в шкатулке вместе с другими безделушками и тоже никогда не доставала.
Между ними и озером протянулась полоса песка. Озеро было узким и длинным – в длину десять миль, в ширину всего миля. Волны бились о скалы, подбрасывая в воздух клубки бурых водорослей. По небу катились облака. Солнце садилось, и по черной воде бежала красная дорожка. Осенью здесь рано темнеет – солнце заходит за горизонт, и тут же становится так темно, что хоть глаз выколи. Берег погружался во мрак. Дугласовы пихты и канадские красные кедры поднимались ввысь, словно древние башни, и под ними было прохладно и сумрачно. Вдалеке, у подножия длинной и низкой горы Сторм-Кинг, были разбросаны простые деревянные дома. От них отходили грунтовые дороги, которые, сливаясь одна с другой, в конце концов добирались до шоссе. Это была земля лесорубов и фермеров; земля полей, ручьев и вековых лесов, в которых обитали только птицы, олени и – иногда – заблудившиеся туристы.
Ухнула сова, и Бернис вздрогнула.
– Кстати. Как ты вообще об этом узнала?
– Давным-давно прочла одну газетную вырезку – помогала бабушке разбирать бумаги дедушки, когда он умер. И я просто вспомнила эту историю, когда мы сюда ехали. Это место такое… устрашающее. Я имею в виду, тут, конечно, очень красиво, но эта красота какая-то зловещая. И еще… мне об этом Дикси рассказала, когда ты ходила за ключом.
– Я могла бы догадаться.
Девушка плотнее запахнула шаль:
– Просто это… так ужасно.
– Да уж, детка. Еще как ужасно. – Бернис называла племянницу «деткой», хотя Лурд было уже семнадцать и она через неделю-другую собиралась в колледж. В зависимости от результатов вступительных экзаменов она будет учиться на судью или, в крайнем случае, на адвоката-барристера. В Европе дети быстро растут. Но все равно, разница в возрасте у них была очень велика – Бернис скоро исполнялось пятьдесят, и она костями чувствовала каждый прожитый год. Необходимость опекать маленькую, язвительную всезнайку казалась ей плохой наградой за трудный и нервный год, проведенный в классной комнате.
– И еще кое-что… На днях у меня был очень странный сон о тете Долли. Я плавала в озере, не здесь, а где-то, где потеплее, и она заговорила со мной. Она была просто белым силуэтом под водой. Но я знала, что это она, и отчетливо слышала ее голос.
– Что она сказала?
– Я не помню. Что-то не очень страшное… Но вот только что-то в этом сне было неправильно. Не могу понять что. Как будто она хотела меня обмануть. Я проснулась вся в поту.
Шея и руки Бернис покрылись гусиной кожей. Она не знала, что ответить, но удержалась от рассказа о собственных кошмарах.
– Да, это довольно странно.
– Я почти боюсь расспрашивать об убийстве, – сказала Лурд.
– Но «почти» не считается, верно? – Похоже, они с Лурд на одной волне. Только вот на какой?
– Мама тоже никогда о нем не рассказывала.
– Ну, твоих двоюродных братьев и сестер дедушка Говард пугал этой историей каждый Хеллоуин.
– Не очень-то это деликатно с его стороны.
– Да, но это другая ветвь семьи. Он не Киссинджер. Нэнси не посвящала тебя в семейную историю?
– Фрэнк не любит пустых разговоров. Он само благоразумие. А мама берет с него пример. – Для Бернис не было секретом, что Лурд не любила отца. Его имя было Франсуа, но она за глаза звала его Фрэнком. Она сделал пирсинг на пупке и вытатуировала на пояснице американский флаг, только чтобы позлить его. Забавно, но его приемные сыновья, Джон и Фрэнк, любили его чуть ли не больше французских багетов.
Хороший размен, потому что дочь его ненавидела. И о чем только думала Нэнси, когда выходила замуж за этого идиота. Хотя Бернис прекрасно представляла, о чем она думала, – Франсуа был первоклассным инженером-строителем, одним из лучших в Париже. После смерти Билла Нэнси думала только о том, как поднять на ноги детей. Мальчики тогда учились в школе, а на Билле тяжким грузом висели ипотечные кредиты и счета за химиотерапию. Бернис подозревала, что Нэнси зачала Лурд только по одной причине – чтобы закрепить сделку. Нэнси сделала правильный и умный выбор – почему это должно ее раздражать? Когда Бернис потеряла Элмера, она поступила иначе – закрылась от всех и смирилась с ролью вдовы. С тех пор прошло одиннадцать лет, а она так и не вышла во второй раз замуж, даже на свидание ни разу не сходила. Это было очень неправильно – завидовать Нэнси, но, Господь свидетель, именно это она и делала. Может, поэтому Лурд была ей слегка неприятна – совсем чуть-чуть, – а завидовала она, наверное, потому, что они с Элмером все откладывали рождение детей на потом, а теперь было слишком поздно.
Лурд спросила:
– Ты поэтому нас сюда привезла? Чтобы рассказать страшную историю и хорошенько нас всех напугать?
Бернис рассмеялась, чтобы скрыть растущую неловкость:
– Мне это и в голову не приходило. Я взяла с собой сумку с книгами и крем от загара. По вечерам у нас планируется турнир в криббидж. Надеюсь, тебе не будет с нами скучно.
– Дикси обещала завтра взять меня в лес.
– Завтра? – Бернис не любила долгие пешие прогулки. Склоны здесь были ох какими крутыми, насекомые ох какими голодными. Она давно не была в спортзале и с весны набрала почти пятнадцать фунтов. Нет, ей определенно не хотелось весь день таскаться по лесу. Подумать только – с ней даже никто не посоветовался по поводу изменения программы. Вероломство Дикси не будет оставлено без последствий.
– Завтра в первой половине дня. А потом мы поедем в Порт-Анджелес и поужинаем в «Красном черте».
– Это же бар. Твои родители…
– Там подают рыбу с чипсами. Дикси говорит, что у них лучшая треска на свете. Кроме того, во Франции нет закона о том, до какого возраста подросткам нельзя употреблять алкоголь.
– Да ну? Что-то не верится, – сказала Бернис. Ей дико хотелось курить, хотя она и ограничивала себя двумя «Вирджиния слимз» в день, да и то втайне от всех. В доме включился свет. Дикси высунулась в окно и объявила, что ужин готов.
3.
Ли-Хуа приготовила на газовой плите стир-фрай и яичные рулеты. Она предпочитала традиционную китайскую кухню. Ли-Хуа была сильной, решительной женщиной. Во время культурной революции ей пришлось поработать на шинной фабрике, откуда она сбежала сначала в колледж, потом на остров Хайнань, а оттуда – в США, где получила докторскую степень. Карла давно уже подначивала ее написать мемуары, по сравнению с которыми книги Эми Тан покажутся жалкой макулатурой. Ли-Хуа скромно улыбалась и отвечала, что лучше уж она, когда выйдет на пенсию, откроет ресторан.
Потом все ели хлеб с чесноком и пили красное вино, которое Карла и ее муж Чак привезли из своей недавней поездки на виноградники Венатчи. Обычно летом они ездили в Пьюджет-Саунд нырять с аквалангами. Как объяснила Карла: «Мы поехали на виноградники потому, что я стала слишком толстой и не влезла в свой гидрокостюм».
После ужина Дикси пригасила керосиновые лампы, и они впятером устроились перед камином – Бернис и Ли-Хуа в пахнущих плесенью кожаных креслах; Карла, Дикси и Лурд в спальных мешках. В радиоприемнике тихо играл классический джаз. Карла расспрашивала Лурд о жутких экзаменах, которые ей предстояли в скором времени, о плюсах и минусах европейского образования по сравнению с американским.
Бернис, с бокалом вина на колене, вполуха слушала их разговор, лениво разглядывала низкие стропила, развешанные по стенам чучела уток, лосиные головы и выцветшие фотографии, на которых суровые мужчины позировали рядом с поваленными деревьями или горами дохлой семги. В окна глядела тьма.
– Ну что, хочешь, я расскажу? – сказала Дикси. – Твоя племянница меня весь день донимает.
– Я знаю. Она и меня этим уже достала.
– Пусть расскажет, что тут такого? – подала голос Карла и поворошила кочергой в камине.
– Да, что тут такого? – подхватила Дикси, а Лурд не стала скрывать довольной ухмылки. Щеки у нее раскраснелись. Дикси и Карла влили в нее уже несколько бокалов вина. «Эй, да они во Франции пьют чуть ли не с младенчества!» – заявила Дикси, когда Бернис попыталась вмешаться.
– Ну что ж, тогда начинай. – Бернис покачала головой. Она не стала спорить, потому что была слишком уставшей и сонной. Ей всегда нравилось, как Дикси рассказывает эту историю. Ее подруга как-то даже написала очерк под названием «Призрак озера». Его опубликовали в «Дэйли олимиан» и с тех пор печатали каждые пару лет под Хеллоуин.
– Если вы настаиваете…
– Эй, девчонки, – сказала Ли-Хуа. – Не к добру трепать об этом языком на берегу священных вод.
– Да ладно тебе, – отмахнулась Дикси.
Ли-Хуа нахмурилась:
– Я серьезно. Когда вы завели этот разговор, у меня ноги тут же похолодели. Что, если духи вас услышали и теперь они наблюдают за нами? Вы ведь не слишком много знаете о таких вещах. Возможно, прямо рядом с вами существует такое, что вам даже не снилось.
– Уж прямо и не снилось, – сказала Бернис. Она отказывалась признать, что тот же холодок полз и по ее ногам. – Давайте тогда сидеть, молчать и бояться.
– Ну, хорошо. И что такого особенного в этом озере? – Карла поставила кочергу на место и с театральным интересом посмотрела на Дикси.
– Оно проклято, – торжественно объявила Дикси.
– Вот и я тоже об этом, – сказала Ли-Хуа.
– У меня впечатление, что вы, северяне, принесли из Старого света слишком много суеверий, – заметила Карла, намекая на норвежское происхождение Дикси.
– Это нечто большее, чем просто суеверие белого человека. Зимой здесь бывают сильные грозы, в лесу бушуют пожары, ветер срывает крыши с домов, дождь затапливает все лощины и низменности отсюда до Порт-Таунсенда. – Дикси задумчиво кивнула и сделала глоток из бокала. – Ветер дует как безумный. Он как молотом бьет по поверхности озера, и оно показывает ряды белых пенистых зубов. Оно очень старое, это озеро – глубокий, темный колодец ледниковой воды, возникший еще в эпоху палеолита. Оно было здесь уже целую вечность, когда по его берегам и в близлежащей долине, в хижинах и длинных домах расселились племена клалламов. Клалламы никогда не доверяли ему. По легенде, они даже не плавали по озеру Кресент в своих каноэ. Это действительно о многом говорит, потому что клалламы на воде чувствовали себя как дома и ходили на каноэ по всем ближайшим и даже отдаленным водоемам. Они верили, что в озере обитают демоны, которые могут утащить их на дно, если они нарушат границу их владений.
От внезапного порыва ветра задрожали стекла, загудело в каминной трубе. Над решеткой взвились искры, и все, кроме Дикси, поглядели в темные углы комнаты.
– Подруга, у тебя получается все лучше и лучше, – сухо сказала Бернис.
– Рассказывайте дальше! – попросила Лурд. Она натянула свитер на нос, так что были видны одни глаза.
– А я бы на твоем месте помолчала, – сказала Ли-Хуа.
Дикси захихикала и протянула бокал Ли-Хуа. Ли-Хуа подлила ей вина еще на три пальца и отдала бокал обратно.
– Люди, которые живут в этой местности, обожают всякие истории – смешные истории, истории о призраках и потустороннем мире, истории об убийствах и ограблениях. Да, они любят поболтать. У каждого – буквально у каждого – есть любимая легенда или байка. Самая знаменитая легенда об озере Кресент повествует об убийстве Долли Хансон, которая работала официанткой в баре. Из всех страшных сказок, какие рассказывают у походного костра, это история, пожалуй, самая запоминающаяся.
Вообще-то ее сюжет неоригинален. В середине тридцатых годов закусочная на берегу озера стала популярным местом отдыха преуспевающих горожан. Владельцы возвели рядом еще одно здание, купили несколько гостевых домиков и переименовали закусочную в «Гостиницу на озере Кресент», хотя большинство местных жителей упрямо продолжали называть ее «Таверной Сингера». Некоторые до сих пор так ее зовут. По легенде, Долли, которая приходилась Бернис тетей, недавно развелась со своим третьим мужем Хэнком. Основанием для развода послужили его многочисленные измены.
– И тот факт, что он избивал ее до полусмерти каждый раз, когда ему доставалось от собутыльников, – вставила Бернис.
– Да, – сказала Дикси. – Утром после большого празднования Рождества 1938 года в «Таверне Сингера» он задушил Долли, привязал ей к ногам бетонный блок и утопил ее в озере. Разделавшись с Долли, этот ублюдок несколько лет преспокойно исполнял роль веселого порт-анджелесского вдовца, пока наконец не переехал в Калифорнию. Люди подозревали, шептались, но Хэнк заявил, что его бывшая жена убежала на Аляску с коммивояжером, – или с моряком, в зависимости от того, кому он это рассказывал, – и никто не мог доказать, что это не так.
Долли обнаружили местные рыбаки в сорок пятом – ее прибило к берегу прямо у гостиницы. Это озеро очень глубокое и холодное – в континентальных США, пожалуй, другого такого нет. Благодаря холодной щелочной воде тело Долли не разложилось. Оно превратилось в мыло.
– В мыло? Она стала как статуя, как скульптура из мыла?
– Да. Холод спровоцировал химическую реакцию, размягчающую тело, но оставляющую его нетронутым… до определенной степени. Странный и жуткий вид мумификации.
– Да, жутковато, – согласилась Лурд.
Дикси усмехнулась:
– Бернис, скажи, это не Боб Холл ее опознал? Да… Холл, местный парикмахер и дантист. У него были все записи, а зубы девушки прекрасно сохранились. Для подлеца Хэнка это был конец. Его повесили в сорок девятом. И это только один случай. А их там гораздо больше.
– Больше убийств? Больше мыльных мумий? – спросила Карла.
– Думаю, просто больше трупов. Озеро глубокое, и топить кого-нибудь тут очень удобно. Здесь, в краю холмов, нередки распри между фермерами. На полуострове за его долгую историю исчезло немало людей, и большинство исчезновений приходится как раз на местность вокруг этого озера.
– В самом деле? И кто в основном исчезает?
– Да разные люди. Супруги, которые купили в Секиме посудомоечную машину и которых последний раз видели в миле от того места, где мы сейчас сидим. Они исчезли в 1955-м, и до сих пор остается загадкой, куда они делись. В 2005-м какой-то любитель тайн обнаружил крышку посудомоечной машины на глубине двухсот футов, неподалеку от омута под названием Дьявольская кружка. Парень прямо голову потерял от своей находки; он собирался вернуться с помощниками и дополнительным оборудованием, но так и не приехал, и вряд ли приедет. Да и вряд ли он бы что-нибудь нашел. Тут есть еще мыс «скорой помощи». Спешившая в больницу «скорая помощь» пробила ограждение и упала в озеро. Врачи и водитель выплыли, а вот травмированный и пристегнутый к каталке лесоруб – естественно, нет. Каждый год ныряльщики находят на дне то дверную ручку от «форда» модели «А», то бампер от «паккарда», то колесо от еще чего-нибудь. Кости? Несомненно, там, в глубине, их очень много. Но их никто никогда не найдет. Старики говорят, что это озеро держит своих утопленников поближе к сердцу. Некоторые считают, что души тех, кого оно забрало, возвращаются в облике койотов и гагар. Когда воет койот и кричит гагара – это они оплакивают самих себя, плачут по потерянным любимым и близким.
Глаза Лурд были широко открыты. В них плясали отблески огня.
– Вы правда написали об этом очерк?
– Да.
– Когда вернемся домой, пришлете мне его по электронной почте?
– Считай, что он у тебя уже есть.
Бернис уже собиралась лечь спать, когда Дикси и Лурд рассмеялись и Дикси сказала:
– Отличная мысль. Бернис, ты в деле?
– В каком именно?
– Мы хотим устроить спиритический сеанс.
– Я интересовалась оккультизмом, – зарумянившись, сказала Лурд. – Так что я знаю, как это делается.
– Что, выбирала себе факультативные курсы с помощью черной магии?
– Да нет, просто мы с подругами иногда развлекались, проводили всякие обряды.
– А выглядит она, как вполне нормальная девочка, – проговорила Бернис, обращаясь к Карле и Ли-Хуа.
Ли-Хуа покачала головой:
– Даже не думайте. Ни за что.
– А я за, – сказала Карла. – Я была на нескольких сеансах, когда училась в колледже. Это безобидная вещь. Интересно проведем вечерок.
– И он нам запомнится, – пообещала Дикси. – Вспомните, когда мы в последний раз делали что-нибудь из ряда вон выходящее?
– Да, но во время летних каникул, когда мы изображаем из себя знать и катаемся на яхтах, ты отправляешься в Сальвадор, – сказала Карла. – Разве тамошние жители не верят в привидения? Там, говорят, всякие странные обряды проводятся. Ты же их видела?
– Только издали. Я не очень-то храбрая.
– Прибедняетесь, сеньора. Я бы ни при каких обстоятельствах не смогла выдержать ту дюжину прививок, которые надо сделать, чтобы поехать в эти страны. Нет уж. Я аристократка до мозга костей.
– Ну, а я поддерживаю Ли-Хуа. Я устала, а это в общем-то глупая затея. – Бернис встала и вышла на террасу. Ветер морщил воду и гудел в кронах деревьев. В лицо полетели листья и сосновые иголки. Она прикрыла глаза ладонью. Волосы выбились из-под заколки, и она подумала, что сейчас наверняка похожа на ведьму. Очень хотелось покурить перед сном – но ведь нельзя, нельзя. Ее накрыла волна раздражения. Настроение не улучшилось, когда она, захлопнув дверь и заложив засов, увидела, что Дикси, Карла и Лурд, сидя по-турецки, полукругом расположились на полу.
Ли-Хуа забралась с ногами на койку и сидела в углу, в темноте, сложив руки на груди. Она похлопала по покрывалу:
– Приземляйся сюда. Не обращай на них внимания.
Бернис устроилась рядом с подругой. Они накрылись одним одеялом. Огонь в камине затухал, оставляя после себя багровые угли. В комнате быстро холодало.
– Это просто… – Бернис не могла подобрать слов. С одной стороны, эта идея о спиритическом сеансе была просто смешной, детской, однако в сочетании с ее нервным состоянием, мрачным пейзажем и неожиданной бурей она приобретала вес, зловещую окраску. Наконец Бернис сказала: – Это просто глупо.
Но в итоге ритуал прошел тихо, мирно и довольно скучно. Лурд вызвала духов тети Долли и других утопленников и велела им каким-либо образом подать знак, что они пришли. Может, они это сделали, а может, и не сделали – было очень трудно различить что-либо на фоне хлопающих ставен и гудящего в застрехах ветра. Дикси задремала, свесив голову, и чуть не опрокинулась на пол, повеселив всех присутствующих.
После сеанса всё потихоньку успокоилось. В доме было тепло и уютно, от вина на всех напала приятная сонливость. И снова Бернис решила не упоминать о своих недавних кошмарах, в которых она тонула и видела в глубине тетю Долли, которая всплывала со дна, словно кусок льда. Она медленно двигалась вверх сквозь толщу воды, и лицо у нее было черным, как луна в новолуние. Дикси засмеялась бы и ввернула что-нибудь о плавающих зомби, а Карла вскинула бы брови и посоветовала не налегать на спиртное. А хуже всего то, что Ли-Хуа, скорее всего, восприняла бы это серьезно. «Так ты вернулась, чтобы встретиться лицом к лицу со своими детскими страхами? Это очень хорошо!» Нет-нет-нет – лучше уж она будет держать язык за зубами.
Она уснула, и ей снилось, как она тонет в ледяной воде или изо всех сил старается уплыть от белой фигуры, на голове которой бились непослушные, словно змеи горгоны Медузы, волосы. За мгновение до того, как она проснулась, хватаясь за одеяло и задыхаясь, она увидела лицо своей сестры.
4.
К несчастью, по крайней мере для Бернис, после завтрака они и правда отправились на прогулку вдоль озера. На берегу, кроме них, никого не было, хотя вдалеке на воде и качалось несколько маленьких лодок. Небо было серое и низкое. Время от времени начинало моросить, и колючий ветер пускал зыбь по водной поверхности. Они шли до тех пор, пока не добрались до самой дальней северной точки. Там по разнокалиберным камням бежал ручей, а лохматые кусты и плакучие деревья формировали непроницаемый экран между берегом и лесом.
Женщины остановились отдохнуть на ярком пятне от просочившегося через дырку в облаках солнечного света. Бернис сняла ботинок, вытряхнула из него песок и мелкие камешки, скривилась, глядя на надувшуюся на пятке мозоль.
– Только не говори, что полагала, будто мы, заехав в эту чащобу, погрузимся в спячку на все выходные.
– Именно это я и полагала.
– Глупая женщина. Пешие прогулки – это ведь так здо-ро-во!
– Посмотри на этот чертов волдырь у меня на ноге и повтори то, что ты сказала.
Лурд и Карла швыряли в воду камушки и смеялись. Подошла Ли-Хуа и посмотрела на свежую, водянистую мозоль Бернис.
– Может, стоит ее проколоть? Давай ее проколем.
– О чем это ты говоришь?
– Ну, мозоли прокалывают. Чтобы жидкость вытекла.
– Ты в своем уме? Ничего такого с ними не делают, – сказала Бернис и торопливо впихнула ногу в ботинок – мало ли, что еще эта китаянка придумает. – Тебе только дай порезвиться. Признайся, ты ведь просто хочешь испытать рецепт какого-нибудь древнего травяного снадобья – поглядеть, сработает оно или ногу разнесет, как тыкву.
Ли-Хуа улыбнулась и пожала плечами. Она была не слишком высокого мнения о западной медицине – давний предрассудок, который усилился из-за осложнений после операции по удалению матки, проведенной в больнице Святого Петра. Ее собственная бабушка владела аптекой и дожила в добром здравии до ста одного года.
– Мой муж знал одного старого рыбака, который тут жил. – Муж Ли-Хуа, Хунг, занимался этнографическими исследования ми и провел несколько недель среди клалламов и норвежских и голландских переселенцев, которые жили здесь уже многие десятилетия. – У Джоба Нилссона была ветхая хибара на одном из вон тех холмов. Хунг узнал у него много полезного и интересного для своего отчета, а потом мы каждую зиму привозили ему консервы и другие вещи. До тех пор, пока он не умер. Жаль его было.
– Ну и ну, – сказала Дикси. Она сама не единожды ездила в Сальвадор и Никарагуа с гуманитарными миссиями. – А я и не знала. Вы молодцы. – Она спрыгнула с камня, на котором сидела, и обняла Ли-Хуа.
– Джоб мало рассказывал об этом озере. Он перестал здесь рыбачить в 1973-м и переместился на реку. Он верил в то, что говорили о нем клалламы: что в озере обитают демоны, они неустанно кружат под водой и ждут нарушителей их границ. Он говорил: большинство белых людей верит в то, что в толще воды живут только души утопленников, но, по его мнению, они ошибаются. Здесь, на земле, остаются только немногие развращенные души – или те, которые заблудились по дороге и позабыли, кто они такие. Остальные устремляются ввысь, к награде либо к наказанию.
– Понятно. Как же иначе, – проворчала Бернис. От этого разговора у нее по спине снова поползли мурашки. Она испугалась, и страх запустил безотчетную злость.
– Духи – великие обманщики. Их утеха – причинять боль и вызывать страх. Естественно, духи гневаются из-за домов на берегу, моторных лодок, мусора и увлекают нарушителя их спокойствия на дно, если им представляется такая возможность.
Бернис покачала головой:
– Вчера вечером ты на нас взъелась, когда мы стали рассказывать страшные истории. А теперь сама начинаешь.
– Джинн ведь уже выпущен из бутылки.
– Да? Тогда, может быть, его стоит засунуть обратно?
– Так этот старик был суеверен? – Дикси зажгла сигарету, и рот Бернис наполнился слюной.
– Его брат Калеб утонул в Дьявольской кружке. Четыре человека видели, как он упал в воду и исчез в глубине. Тело так и не нашли, но Джоб утверждал, что год спустя встретил нечто, притворявшееся его братом. Он шел по пляжу и увидел труп брата, лежащий под грудой плавника и водорослей. Он подбежал и протянул к нему руку, но тут Калеб подскочил и, извиваясь всем телом, уполз в воду. При этом он смеялся. Джоб испугался. Он понял, что это существо на самом деле даже отдаленно не напоминало его брата. Поэтому он и перестал тут рыбачить.
– Надеюсь, пить самогон он тоже перестал, – сказала Бернис.
Именно Лурд заметила весельную лодку. Она лежала на пляже прямо напротив их дома, частично скрытая кучей вынесенных на берег палок, перевитых коричневыми водорослями. Женщины обступили ее, заглянули внутрь. Вроде бы, она была целой – весла на месте, под дощатым полом плескалась всего пара ведер дождевой воды.
– Наверное, ее сдают в прокат, – предположила Дикси. – Приезжающие арендуют у местных гостиниц каноэ и ялики. Кто-то забыл ее привязать, и ее отнесло сюда.
– Да нет, непохоже, – возразила Бернис. Лодка была старой, с покоробленными и позеленевшими бортами. – На ней вряд ли вообще в этом году плавали. Древняя посудина. – От лодки пахло ряской и гнилью.
– Да. Она старше Энди Гриффита, – сказала Карла.
– Возможно, это лодка кого-нибудь из местных.
– Все возможно. Будем проезжать гостиницу – сообщим. Пускай сами разбираются. – Дикси привязала швартовочную веревку к торчащему из песка пню, и они ушли.
5.
Они заехали в «Крупную рыбу», сообщили о найденной лодке и заодно помылись, а затем направились в Порт-Анджелес и поужинали в «Красном черте». Они проездили несколько часов, а когда вернулись, над озером уже вставала луна. Бернис и Карла натаскали дров для камина. Ли-Хуа сварила какао, и они пили его, сидя на террасе.
– Лодка еще там, – проговорила Лурд, показывая на темное пятно посреди серебра пляжа.
– Ее заберут утром, – сказала Бернис. – Или не заберут. Какая разница.
– Есть идея! – Дикси хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание всех присутствующих. – Давайте-ка прокатимся!
– Прокатимся? Ты что, мотор видела на этой посудине? – сказала Карла.
– Нет, не видела, но мы используем ручную тягу. Она называется «весла».
– Я съела чересчур много раков и не могу воспринять это предложение всерьез.
– Не гляди на меня, – сказала Бернис. – Дикси, ты что, не слышала? Перестань на меня глядеть.
Через несколько минут они с Лурд уже помогали Дикси спихнуть лодку с берега. Ли-Хуа и Карла махали им с берега, постепенно, по мере того как Дикси налегала на весла, превращаясь в два смазанных темных пятна.
– Ну разве это не здорово?! – воскликнула Дикси.
Бернис сидела на носу. Вскоре ее загипнотизировали мерный плеск весел, погружающихся в гладкую воду, и ритмичный скрип уключин. Лодка неуклонно двигалась вперед, разрывая пелену поднимающегося тумана и оставляя позади себя его клочья. Бернис казалось, что их лодка – это мелкое насекомое, ползущее по бездонной толще воды, насекомое, которым вот-вот поживятся огромные, невиданные хищники, затаившиеся в глубине.
Когда до противоположного берега оставалось примерно полмили, Дикси бросила весла. Теперь лодка дрейфовала сама по себе.
– Ух ты, как натерла. Надо было захватить перчатки, в которых я за баранкой сижу. – Она подула на ладони. – Бернис, подруга, а как насчет того, чтобы немного погрести?
– Мечтай, детка. Это была твоя затея.
– Господи боже мой, нам суждено бороздить эти воды вечно!
– Давайте я погребу, – предложила Лурд. Лодка неприятно качнулась, когда они с Дикси поменялись местами. – Ну, как это делается? – Дикси дала ей несколько рекомендаций, и спустя несколько секунд они уже двигались к берегу – медленно, неуверенно и рыская по сторонам.
– Как бы нам не опрокинуться, – с опаской проговорила Бернис. Позади лодки бурлила вода, брызги с весел летели ей в лицо и на волосы.
– Да уж, – вздохнула Дикси.
– Что «да уж»? – сказала Бернис. Дом на берегу понемногу увеличивался в размерах. Она посмотрела вниз и увидела, что в лодке полно воды. – Господи! Это пробка. – Во всех лодках есть пробки, чтобы сливать воду, скопившуюся на днище, когда лодку вытаскивают на берег. Она полезла на корму, больно ударилась голенью о весло. Засунула руку в воду по локоть, нащупала отверстие, пробку, плотно вставила ее на место.
Вода бурлила у ног Лурд.
– Тетя… – Она бросила весла. Теперь, когда лодка осела в воде, грести было все равно невозможно.
– Черт побери! Она просто разваливается!
– Придется плыть, – сказала Дикси. Она уже сбросила ботинки. – Ну, Бернис, приготовься!
До берега было ярдов семьдесят. Не так уж и далеко, но Бернис уже несколько лет в воду не заходила. Руки и ноги свело от страха, мозг залила пульсирующая темнота. Во рту появился кислый вкус недавнего ужина.
Дикси прыгнула. Мгновение спустя Лурд последовала за ней. Она споткнулась о борт, и лодку сильно качнуло. Она зачерпнула бортом воду и начала быстро погружаться. Бернис зажала пальцами нос и прыгнула – холодная вода, словно кулак, ударила по почкам. Она непроизвольно охнула и забилась в воде. Одежда, которая вдруг стала тяжелой, как будто она была сделана из бетона, тянула вниз. Ум Бернис обрел кристальную ясность, и ей хватило времени на то, чтобы пожалеть обо всех выкуренных сигаретах, выпитом алкоголе, обо всех выходных днях, которые она провела, пластом валяясь на солнышке, вместо того чтобы заниматься своим здоровьем и физической формой. Луна висела низко-низко; она сливалась с озером, и на мгновение ей показалось, что вода – это небо, а небо – это вода. Она забарахталась сильнее, пытаясь сориентироваться в этом огромном темном пространстве.
– Лурд! – Ледяная вода обожгла ей нос и горло. – Лурд! – Голоса не было. Она закашлялась. В нескольких ярдах от Бернис качалась на воде Дикси, непотопляемая, словно пробка, но ее племянницы нигде не было видно. Она набрала в легкие воздуха и нырнула. Лунное свечение сменилось черными и красными мошками, закружившимися в поле зрения.
В темной глубине она увидела Лурд. Девушка слабо шевелилась, пытаясь добраться до поверхности. Бернис схватила ее за руку и потянула вверх. Краем глаза она заметила ясное светлое пятно. Оно быстро приближалось, очерчиваясь все яснее, приобретая размер и становясь материальным. Бернис инстинктивно повернула голову и взглянула на него – а вдруг она упала прямо в небо и теперь плывет к самой луне. Ее охватил ужас – она закричала, изо рта вырвался поток пузырей. Одним судорожным гребком она вытолкнула Лурд на поверхность, и тут ее обхватили сзади, под мышками, чьи-то руки и потащили, потащили.
Позже, лежа в позе эмбриона на прибрежной гальке, – незадолго до этого Карла разогнала всех и делала ей искусственное дыхание до тех пор, пока ее не вырвало и она не стала дышать сама, – Бернис пыталась понять, что именно она видела там, в глубине. Даже сейчас, когда она была в безопасности, на берегу, в окружении подруг, расплывчатая фигура вызывала в ней животный страх. Она приблизилась к ней почти вплотную. От нее шел холод гораздо более сильный, чем от ледяной воды. Бернис зажмурилась и потерла глаза в безуспешной попытке изгнать этот образ, просочившийся из ее кошмаров в реальный мир.
Дикси и Ли-Хуа уговаривали ее поехать в больницу. А что, если у нее гипотермия? Бернис раздраженно отмахнулась – она чувствовала себя нормально, после того как пришла в чувство и выкашляла воду из легких. Силы кончились, согреться не мешало бы – это да, но чувствовала она себя нормально. С Лурд тоже было все хорошо – наверное, даже лучше, чем с ней самой, – с этих подростков все как с гуся вода. Девушка сидела рядом с ней и взахлеб рассказывала о том, как зацепилась штаниной за уключину и ударилась плечом – и могла бы утонуть, если бы не Бернис и Дикси!
– Похоже, мне следует тебя поблагодарить, – сказала Бернис, когда Дикси, завернув в одеяло, повела ее к дому.
– Не меня, – сказала Дикси. – Я бы ни за что не смогла сама дотащить тебя до берега. Ты бы только видела, что Карла вытворяла в воде. Эта старая коряга действительно умеет плавать!
6.
Карла и Ли-Хуа, в свете сложившихся обстоятельств, предложили собраться и уехать домой пораньше. Лурд вышла на берег, и Дикси лежала на ее койке и винила себя в том, что затащила их на эту ветхую лодку, – они ведь могли утонуть!
– Ну я и выступила, – сказала она. Голос у нее охрип, потому что она плакала в подушку. – Что я за дура!
– Мы должны последнюю рубаху отсудить у гостиницы за то, что у них тут такие лодки! – сказала Карла. Она непрерывно возмущалась уже добрый час.
– Мы ведь взяли лодку без разрешения, забыла? – сказала Ли-Хуа.
– Да какая разница? Это же просто уму непостижимо – смертельная ловушка лежит просто так на берегу. Они должны получить по заслугам.
Бернис заставила себя встать с койки и выйти на берег. Там она курила сигарету и смотрела, как встает солнце, а луна при этом еще висела над горизонтом. Она затушила сигарету о подошву ботинка. Глаза у нее пересохли и чесались, волосы торчали во все стороны. Она показала озеру кулак и сплюнула.
Из кустов, растущих возле тропы, вышла Лурд и встала рядом с ней. Лицо у нее сегодня было другое – более вдумчивое, что ли. Насмешливая улыбка исчезла.
– В такую холодную воду я еще никогда не прыгала, – сказала она. – Мне все это снилось еще раньше.
– Что именно? Как лодка тонет? – Бернис не нашла в себе сил посмотреть на нее.
– Вроде того. Нет, не лодка; все было немного по-другому. Мы были где-то в лесу… здесь, наверное. Я, ты, кто-то еще – не помню кто. Ты все рассказывала о Долли.
– Да, только на самом деле об этом рассказывала не я, а Дикси. У нее это всегда лучше получалось.
– Я не так увидела. Сны… в них легко ошибиться. Мама думает, я экстрасенс. Оказывается, не совсем.
– Это под воздействием твоих экстрасенсорных способностей ты сюда прилетела?
Лурд пожала плечами:
– Я об этом особенно не задумывалась. Просто захотелось по видать тебя. Это глупо прозвучит, но, мне кажется, я подсознательно тревожилась, что с тобой может случиться беда, если я не приеду. Похоже, я все перепутала, а?
Бернис молча смотрела, как вода меняет цвет с черного на серый, затем на золотой.
– Я тоже иногда кое-что вижу, – сказала она.
– Правда?
– В детстве мне иногда снилось что-нибудь, что потом происходило на самом деле. Ничего значительного. Я не умела угадывать номера в лотерее. А потом это как-то сошло на нет. В последнее время мне ничего такого почти не снится.
– Ух ты! Спасибо, что сказала. А то мама знать ничего не хочет. Я как-то раз пыталась ей рассказать… Фрэнк надавил как следует – и все.
Они замолчали и закурили по сигарете. Докурив свою, Бернис помялась секунду, затем похлопала Лурд по плечу, повернулась и ушла в дом.
После завтрака в «Крупной рыбе» настроение у всех улучшилось, и к середине дня они решили все же остаться – жаль было просто так бросить хорошую погоду и несколько уже откупоренных бутылок вина.
Оставшиеся дни и правда оказались великолепными. Они натянули сетку для бадминтона, соорудили самодельные ямы для бросания подков и играли до наступления темноты. Карла и Ли-Хуа наснимали две флешки фотографий. Бернис научила Лурд играть в криббидж и джин рамми. Она даже умудрилась – при свечах, когда все уже спали, – продраться сквозь книжку по толкованию снов. Она оказалась не очень-то познавательной применительно к ее собственному опыту. Тем не менее она засыпала, прижимая ее к груди, словно талисман.
В последний вечер Бернис и Лурд пошли в сарай за дровами. Они помедлили возле него, молча слушая сверчков и сов. Из дома доносились крики и проклятия – Дикси и Карла опять затеяли дискуссию.
Лурд сказала:
– Я так тебя и не поблагодарила. Я тогда могла утонуть.
Бернис усмехнулась:
– Тут не за что благодарить. Нэнси бы меня прикончила, если бы я дала тебе пойти ко дну. Ты не представляешь, сколько времени ей пришлось просидеть у бассейна, когда мы были детьми и я училась плавать.
– Узнаю маму.
– Послушай… – Бернис кашлянула. – Мне в тот момент то ли привиделось что-то… Не знаю… Мозг остался без кислорода.
– Что?
– Я все собиралась спросить. Ты случайно не видела в воде ничего странного?
– Помимо тебя?
– Не смешно, детка. – Бернис улыбнулась, но ее рука, которой она опиралась о стену, будто одеревенела. Под ложечкой противно сосало. Прошлой ночью она снова была в озере, и вместе с ней там была Нэнси – мертвенно-бледная, она приближалась к ней с распахнутыми объятиями. Но только это была не Нэнси. Она просто наделила эту фигуру знакомым лицом. – Да нет, ничего особенного я не видела. Нахлебалась воды. Наверное, рыба мимо проплыла и слегка меня напугала.
От деревьев и от воды к сараю подкралась темнота. Лурд стояла в тени, и выражения ее лица не было видно – свет, падающий из окон дома, только создавал ореол вокруг ее головы и освещал одно плечо. Она сказала:
– Никакой рыбы я не видела. – Немного помолчав, она добавила странно изменившимся голосом: – С той лодкой было что-то не так.
– Это уж точно. Прогнила насквозь, скорее всего.
– Она вообще была неправильная. Как будто она дожидалась именно нас.
Бернис попыталась придумать остроумный ответ. Она просто обязана была поднять Лурд с ее намеками на смех.
– А, – сказала она. – «Летучий ялик» озера Кресент, да?
Лурд ничего не ответила.
7.
«Рэдфилдские девчонки» вернулись на озеро Кресент только через три года. В этот раз был черед Дикси выбирать маршрут поездки. Она пригласила Лурд, и та согласилась присоединиться к ним. Бернис и Ли-Хуа отказались от путешествия, впервые нарушив этим традицию. Бернис не поехала потому, что за неделю до этого она упала, когда чистила водосточный желоб, и сломала лодыжку. Лодыжка хорошо заживала, но была еще в гипсе, и много ходить Бернис не рекомендовалось. Ли-Хуа отговорилась тем, что ее муж Хунг уехал в Китай в деловую поездку и кому-то надо приглядывать за их буйными сыновьями-подростками Джерродом и Джулсом.
Бернис отлично ее понимала. В то время как Дикси и Карла быстро забыли инцидент с лодкой, у нее и Ли-Хуа развилась стойкая антипатия к этому озеру; его мрачные эманации пугали их. А что касается Лурд – молодой и неопытной девушке трудно устоять, когда ее приглашают в круг избранных. Она не хотела оставлять Бернис, но искушение было слишком велико. В итоге они выпили вместе несколько бокалов вина, и Бернис сама велела ей ехать – какой смысл сидеть весь уик-энд с теткой-инвалидкой?
Бернис провела все выходные дома, подрезая розы и катаясь по газону на старой, плюющейся травяной кашей газонокосилке Элмера. В воскресенье, в утренних новостях, обещали грозу. Она работала почти до вечера и едва успела сложить инструменты и выбрать из гипса жесткие стебельки травы, как заходящее солнце затянуло тучами. Вдалеке загрохотал гром, с неба начало накрапывать. Она похромала в кладовку – надо было найти фонарь и запасные батарейки. Не прошло и нескольких минут, как отключилось электричество, – это происходило почти каждый раз в грозу, – и она, самодовольно ухмыляясь, зажгла свечи (некоторые из них она купила всего днем раньше, в субботу!) на кухне и в спальне. Приготовила себе чай на походной плитке, которую Элмер всегда хранил в гараже, и залезла в постель с твердым намерением прочесть несколько глав из иллюстрированной книжки про так называемые «маймские холмики». Долгий, долгий день физической работы сделал свое дело. Она уснула, не прочтя и двух страниц.
Бернис проснулась в кромешной темноте. Дождь с ветром тяжело бился в стену дома. Вспыхнула молния, и тени деревьев протянули свои длинные пальцы в окно, к кровати. Что-то размеренно бухало. Схватив фонарь, она выбралась из постели и, опираясь на дешевую трость с резиновым кончиком, купленную в больнице, вышла в гостиную. Входная дверь была распахнута настежь. В комнате гулял ветер, он разбросал по полу бумаги, которые она оставила на кофейном столике. Она налегла плечом на дверь и, закрыв ее, задвинула засов.
После этого Бернис практически упала в кресло и, скрипя зубами, ждала, когда уляжется боль в лодыжке. Пока она так сидела, тот факт, что она заперла дверь перед сном, начал тяжело давить на голову. Что же ее разбудило – хлопающая от ветра дверь? Вряд ли. Кто-то звал ее по имени.
Дом весь трясся от бури, в небе вспыхивали молнии, освещая эркеры так ярко, что ей приходилось закрывать глаза ладонью. Спать было невозможно, и она свернулась в кресле и стала ждать рассвета. В два часа ночи кто-то постучал в дверь. Три громких удара. Ее сердце пронзила ледяная спица страха.
Не думая ни о чем, она крикнула:
– Лурд? Это ты? – Никто не ответил. Она подумала о грабителях, и во рту у нее пересохло. Она затаила дыхание, боясь даже пошевелиться, и изо всех сил пыталась расслышать хоть что-нибудь, кроме завывания ветра. Удары больше не повторялись.
8.
Бернис не полетела во Францию на похороны Лурд. Обезумевшая от горя Нэнси не хотела ее видеть. Почему Бернис не защитила Лурд, почему не поехала с ней. Она отпустила ее с двумя женщинами, которых Нэнси и Франсуа едва знали, – и девочка не вернулась домой. Много недель прошло, прежде чем Нэнси пришла в себя и стала хоть как-то общаться с Бернис, но Франсуа с ней по-прежнему не разговаривал, а сыновья Нэнси последовали его примеру.
Когда полицейский сообщил ей о смерти Лурд, она впала в ступор; доела весь валиум, оставшийся с похорон Элмера, и несколько дней не вылезала из постели, не выходила из дома, не отвечала на телефонные звонки, часто забывала поесть и помыться.
Когда Бернис наконец слезла с транквилизаторов и стала вновь подавать признаки жизни, Ли-Хуа рассказала ей о том, что произошло.
Происходило все так. Дикси привезла Карлу и Лурд в Джойс, городок в паре миль к западу от озера Кресент. Они поужинали в небольшой закусочной, купили в универмаге открыток и тронулись в Олимпию. К тому времени уже стемнело. Никто точно не знал, что именно пошло не так. Вероятнее всего, на тридцать восьмой миле – мысе «скорой помощи» – «субару» Дикси вылетела с дороги и пробила ограждение. Предположительно, машина упала в воду и затонула. Спасатели-ныряльщики из Сиэтла обыскали дно, но не обнаружили ни машины, ни тел. Некоторые говорили, что, возможно, авария произошла в другом месте или ее вообще не было. Другие считали, что под мысом «скорой помощи» может быть придонное течение или илистая яма. В любом случае, эти предположения ничем не подтверждались, и этот случай пополнил ряд загадочных трагедий, связанных с проклятием озера Кресент. Были еще подробности этого несчастья – их Бернис просто отказалась впустить в сознание. Это было выше ее сил – думать о последних мгновениях жизни двух ее подруг и племянницы. Спасая собственный рассудок, она засунула эти подробности в самый дальний угол психики и вскоре позабыла о них.
Бернис взяла долгий академический отпуск, который плавно перешел в уход на пенсию. Она просто не могла вернуться. Ей было бы невыносимо увидеть новые лица в классах Дикси и Карлы – увидеть, что жизнь идет дальше, не останавливаясь ни на мгновение. Ли-Хуа по-прежнему работала школьным психологом. Они с Хунгом очень поздно пришли к профессии и не могли позволить себе уйти на отдых. После гибели Лурд, Карлы и Дикси все стало совсем по-другому. Оставшиеся «рэдфилдские девчонки» разбрелись кто куда – кто-то перевелся в другую школу, кто-то бросил преподавание, а кто-то просто перестал звонить. С вечеринками и ежегодными поездками было покончено. У всех была своя жизнь.
Той зимой, в один из вечеров, позвонила Ли-Хуа.
– Послушай, Бернис, я должна тебе кое-что сказать. О девчонках.
Бернис лежала в постели и решала кроссворд. У нее так задрожали руки, что она сломала карандаш.
– Ли, у тебя все нормально? – Ли-Хуа похудела и перестала улыбаться. Было ясно, что у нее на душе какая-то тяжесть, тайна, которую она скрывает от своей подруги. Бернис все равно чувствовала, что не все знает об этой трагедии, и притворялась, что ни о чем не догадывается, просто из трусости. – Хочешь, я приеду?
– Нет. Просто послушай. Я хотела рассказать тебе раньше, но не могла. Я боялась, что ты что-нибудь натворишь. Я боялась, Бернис. – Голос Ли-Хуа сорвался. – Карла звонила мне в ту ночь, когда все это случилось. Я мало что понимала – не совсем проснулась, а она так кричала в трубку. Когда человек испуган, голос у него меняется. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что это она. Карла была в панике, говорила очень быстро. Сказала, что машина потеряла управление и они упали в воду. Мне кажется, они в это время были уже под водой. Двери не открывались. Она умоляла помочь. Звонок длился всего несколько секунд. Затем все они начали кричать, и связь прервалась. Я набрала «911», сообщила о ситуации оператору, сказала, что они предположительно находятся там-то и там-то. Потом стала звонить девчонкам на мобильные. Услышала только автоответчик.
Положив трубку, Бернис лежала и смотрела на круг света, расплывшийся на столе под лампой с абажуром. Она медленно, тяжело пыталась сообразить, что только что сказала ей Ли-Хуа. Что-то глубоко внутри нее шевельнулось. Она сняла с подставки беспроводной телефон и начала пролистывать все записи. Когда она добралась до лета, механический голос в трубке сказал, что у нее есть непрослушанное сообщение. Оно было записано в два часа ночи – в ту ночь, когда случилась авария. Так как в доме не было электричества, звонок был сразу направлен на голосовую почту.
– Боже мой. Боже мой. – Она стерла сообщение и бросила телефон, как будто ее ударило током.
9.
Как только зажила ее лодыжка, Бернис собрала кое-какие вещи и поехала к озеру. Было холодно. Канавы были полны черных и бурых листьев. Она остановилась на повороте, на высокой скале, круто обрывающейся в озеро, – это место называлось мысом «скорой помощи» – и прикрепила к ограждению венок. Осушила пару крохотных бутылочек шираза и плакала до тех пор, пока не кончились слезы и не опухли глаза. Затем вернулась в машину и поехала дальше.
Дорога вела мимо пирса. Сезон давно кончился, и пирс был почти пуст – один грузовик на парковке, одна моторная лодка средних размеров на воде. Бернис чуть не проехала мимо, не останавливаясь, – она хотела снять номер в «Крупной рыбе». Что она там собиралась делать, это и для нее самой было загадкой. Вдруг она заметила, как рядом с лодкой всплыл аквалангист. Не глуша мотор, она остановилась у пустой билетной будки. Аквалангист проплыл вдоль своей лодки, поправил что-то на маске и забрался на борт.
Дворники машины Бернис шарахались по стеклу, по радио играла какая-то баллада – так тихо, что слов было не разобрать. Ее начало трясти. Это была не просто скорбь и раскаяние, а какое-то более древнее, более примитивное чувство. Она сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Пока она вылезала из машины и шла по пирсу до пришвартованной лодки, где аквалангист снимал маску и ласты, небо стало еще более серым. Это был молодой человек со светлыми волосами и густой рыжей бородой, из-за которой его лицо казалось очень бледным. Он сел на скамейку и скинул с плеч баллоны с воздухом. Бернис стояла на краю пирса. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Поднялся ветер, и лодка закачалась.
Он сказал:
– Потеряли кого-то?
– Да. Подруг.
– А, это те женщины, которые исчезли здесь минувшим летом. Мои соболезнования. – Кожа вокруг глаз у него была набрякшей. Она подумала: отчего это? От погружений или от слез?
– Вы здесь ныряете, чтобы найти какие-либо свидетельства трагедии?
– Да, я и еще пара человек. Есть еще компания из Орегона, но, по-моему, это охотники за сокровищами. Какие сокровища они тут ищут – непонятно.
– Из Орегона?
Он кивнул.
Она сказала:
– Иногда я людей просто ненавижу. А вы? Вы же тоже за сокровищами охотитесь, в некотором смысле. Вы хотите узнать, как произошла та или иная катастрофа. Ищете сенсацию. Я о вас читала.
– Я не ищу сенсаций. Я ищу ответы. Это озеро – вор. Вы знаете, мне кажется, если я найду их – жизни, украденные этим озером, – то освобожу их. Нельзя, чтобы души жертв остались здесь навечно.
– Мне снились кошмары об этом озере и о моей сестре. Я видела ее лицо. Она была мертва. Утонула. После несчастного случая я поняла, что все это время ошибалась. Я видела не свою сестру, а ее дочь. Вообще-то они не очень похожи друг на друга – но глаза и губы у них одинаковые. Это меня и сбило с толку.
– Такого никому не пожелаешь, мисс. Мой брат погиб в автокатастрофе. Ехал в Беллингем, и в него врезалась бетономешалка. А хуже всего – простите, если это прозвучит грубо, – что это не отпустит вас до конца жизни. И ничего тут не поделаешь.
– Темнеет, – сказала она.
В камышах, на которые уже спустились сумерки, прокричала гагара.
Послесловие
Вдохновение для создания «Рэдфилдских девчонок» мне подарило озеро Кресент – мрачное и по-своему красивое место неподалеку от моего дома в Олимпии, штат Вашингтон.
Очень популярное среди туристов, озеро Кресент представляет собой оставшуюся после ледника и заполненную водой впадину у подножия горы Сторм-Кинг на полуострове Олимпик. Это величественная, суровая местность, край гигантских вечнозеленых деревьев и иззубренных гор, граничащий с лесным заповедником Олимпик. Это озеро – одно из самых холодных и глубоких в Северной Америке, а еще считается, что оно проклято. Древние легенды племени клалламов гласят, что его глубины – обиталище злобных духов, ищущих, как бы утащить на дно нарушителей их покоя. Уже в наше время во время поездки по скалистому берегу озера исчезла супружеская пара – были найдены кое-какие личные вещи, но ни машину, ни их самих обнаружить не удалось. Самая известная легенда рассказывает о том, как в 1937 году одна местная женщина была убита собственным мужем. Ее труп всплыл на поверхность только через семь лет. Ледяная вода озера сохранила его в виде своего рода мыльной статуи. После этого ее муж был осужден за убийство.
Призраки, демоны, таинственные исчезновения, разнообразные мрачные трагедии – такова темная сторона озера Кресент. «Рэдфилдские девчонки» – первый рассказ, действие которого происходит в этой местности, но, как я подозреваю, не последний.
Произведения Лэйрда Баррона появлялись в таких изданиях, как The Magazine of Fantasy & Science Fiction, SCIFICTION, Inferno: New Tales of Terror and the Supernatural, Poe: 19 New Tales Inspired by Edgar Allan Poe, The Del Rey Book of Science Fiction and Fantasy и Lovecraft Unbound. Их также включали в различные антологии лучших произведений за год. Его дебютный сборник, «Стадия взрослого насекомого и другие рассказы» («Imago Sequence & Other Stories»), получил премию Ширли Джексон в первый год ее вручения. Баррон родился на Аляске и живет в настоящее время в штате Вашингтон.
Пэт Кадиган Между небом и Халлом
Когда автостопщик сел в «мондео», он уже знал, что совершил ошибку. Такое иногда случалось. Ты полдня бредешь пешком, а затем какая-нибудь машина наконец – слава тебе, Господи! – съезжает на обочину и останавливается. Ты настороженно подходишь к ней, ожидая, что вот сейчас она завизжит шинами и умчится, а люди в ней, наверное, будут от души хохотать – как же, неплохо ведь пошутили. Но она не трогается с места, и ты срываешься на бег, думая, что наконец-то удача тебе улыбнулась, потому что машина симпатичная, может быть, даже совсем новая. Перед тобой опускается окно, и у людей, которые смотрят на тебя, лица чистые и дружелюбные. Они спрашивают, куда ты направляешься, и ты понимаешь по их голосам, что они не угостят тебя кока-колой с рогипнолом и ты не проснешься на следующее утро где-нибудь в лесу, обобранный до нитки.
Так что ты радостно прыгаешь на заднее сиденье и с облегчением вздыхаешь, потому что как раз начинается дождь. И вдруг ты понимаешь, что дорогая стереосистема автомобиля послушно воспроизводит живую запись недоучившегося скрипача, или оперу Вагнера, или сборник «Сто лучших песен о любви в стиле кантри». По крыше машины бьют капли дождя, и день уже повернул к вечеру, а тебе приходится срочно решать, что для тебя важнее: не промокнуть или не потерять рассудок.
В данном конкретном случае две женщины, сидевшие впереди, оказались хохотушками. Они смеялись и хихикали не переставая, как девчонки. Его бы это так не раздражало, если бы они на самом деле были девчонками, но куда там – им было лет по сорок, а то и больше. Это еще, конечно, не старость, но смешливый возраст у них уже давно должен был пройти.
Естественно, еще до того как сесть машину, он уже подозревал, что эта поездка не будет самой приятной в его жизни. Еще стоя на съезде с шоссе, он видел, как они преспокойно ехали по круговому движению в обратном направлении – верный признак того, что за рулем земляк-американец. Однако такое обращение с развязками – не единственная раздражающая черта американцев. Иногда ему хотелось притвориться, что он канадец.
Но, Боже ты мой, он так долго торчал на этом чертовом съезде, и к тому же небо потихоньку затягивали тучи.
– Привет, я Дони, – сказала та, что сидела на водительском сиденье – хотя нет, это было как раз пассажирское сиденье. – А эта барышня за рулем – Лоретта.
– Салют! – Дикого вида женщина подмигнула ему в зеркало заднего вида. Ветер, влетающий в полуоткрытое окно, растрепал ее короткие, почти платиновые волосы. У другой женщины волосы были густые, черные, курчавые и перехвачены большой пластиковой заколкой. Прически у них были такие разные, что казалось, это было сделано намеренно, потому что в остальном они были похожи. По-крайней мере, хихикали они точно одинаково.
– Вы сестры, что ли? – спросил он и поморщился, когда они опять захихикали.
– Нет, просто очень старые друзья, – сказала черноволосая.
– Эй, кого это ты старой назвала? – фальшиво возмутилась вторая.
– Ну, друзья, которые очень давно друг друга знают. Так лучше, мадам?
– Гораздо лучше, спасибо. – Светловолосая снова посмотрела на него в зеркало заднего вида. – Ну, куда направляетесь?
– В Абердин, – ответил он, глядя, как о ветровое стекло разбиваются дождевые капли.
– А мы в Скарборо. Если нам повезет, успеем туда до темноты.
– Не выдумывай. Нам для этого должно как-то немыслимо повезти, – сказала черноволосая.
– Я не очень хорошо разбираюсь в географии, – сказал он. – Разве Скарборо так далеко?
– Естественно, далеко, если нам понадобилось сорок пять минут на то, чтобы выбраться из Хитроу, – сказала блондинка.
– Не привыкли к левостороннему движению? – спросил он.
– Можно и так сказать. Вы знаете, Дони даже поспорила со мной, что вы не сядете в машину после того небольшого конфуза с круговым движением.
– Ну, если честно, я удивился, что вы остановились, – ответил он. – Женщины почти никогда не берут попутчиков.
– Раз уж пошел разговор начистоту, я скажу, что мной двигали эгоистические побуждения. – Она опять хихикнула, на этот раз как-то глуповато. – Я надеялась, что вы англичанин и что вас можно убедить сесть за руль. – Еще один быстрый взгляд в зеркало заднего вида. – Но, как я понимаю, вы тоже не большой умелец ездить по этим дорогам?
– Да. Извините. Да и права у меня недействительны. Забыл обновить перед поездкой.
Черноволосая женщина поглядела на него через плечо и нахмурилась.
– Да, похоже, вы не слишком-то нам полезны. – Секунду-две ей удалось сохранять суровое выражение, и он уже решил было, что она говорит серьезно. Затем обе женщины рассмеялись, и он тоже принужденно хохотнул, чтобы показать, что он, в общем-то, ничего парень. Затем она снова нахмурилась: – Вы что, не пристегнулись? Пристегнитесь. Береженого Бог бережет.
Он был неожиданно тронут ее заботливостью и из вежливости повозился с ремнем, который заедало всякий раз, когда он за него тянул. Когда ему наконец удалось вытащить нужную длину, он никак не мог найти пряжку.
– Наверно, между подушками застряла, – сказала она. – Просто пощупайте рукой.
Он пощупал, надеясь, что она не заметит, что он не очень-то старается. Он не любил быть к чему-либо пристегнутым – все равно, безопаснее это или нет.
– Простите, – сказал он, выждав положенное время.
– Может, остановимся, и я достану, – предложила она. – У меня ладони поменьше.
– Ты, ворона, оставь его в покое, – прикрикнула на нее блондинка. – Если бы он сидел впереди, это имело бы какое-то значение. А на заднем сиденье – без разницы. Слушайте, если мне покажется, что сейчас мы во что-нибудь врежемся, я скажу вам заранее – и вы быстро сползайте на пол. Идет? – Она подмигнула ему в зеркало заднего вида.
– Идет, – сказал он и неловко отдал честь. Естественно, снова смешки, хотя они его уже так не раздражали. Человек ко всему привыкает, подумал он, по крайней мере они не сектанты и не поклонники оперы. И не страшилки. Если бы он встретил их на вечеринке или в баре, то, возможно, даже заинтересовался бы.
Он встретился взглядом с брюнеткой и понял, что она что-то ему сказала.
– Простите? Кажется, я слегка задремал. Наверное, устал сильнее, чем мне кажется.
Она улыбнулась:
– Я спросила: давно вы уже путешествуете?
– Так давно, что уже не помню. – Он усмехнулся. Они рассмеялись.
– Нет, правда. Как давно? Мне просто любопытно.
– Она имеет в виду – ей до смерти любопытно, – ехидно вставила блондинка.
– Да ничего страшного, – сказал он, откидываясь на спинку сиденья и вытягивая ноги. Сиденье блондинки было максимально близко сдвинуто к приборной доске, так что места для ног там было предостаточно. – Когда я был в Гданьске, погода была что надо – тепло, солнечно. А когда добрался до побережья – похолодало. Там есть такой длинный пирс, и люди платят деньги, чтобы по нему пройтись. Это было… наверное, в конце июня – начале июля.
– Я думала, это я во времени потерялась, – хихикнула блондинка.
– Я перестал носить часы. Дней десять проходишь – падают, теряются, разбиваются. Похоже, у меня карма потери часов. – Музыкально смеются, рассеянно подумал он, как китайские колокольчики.
– А перед Гданьском где вы были? – спросила брюнетка.
Он задумался на несколько секунд.
– В Екатеринбурге, на Урале. Красивый город, но это лето выдалось там страшно жарким, а кондиционеров почти нигде не было. Меня там подвозила одна пара, они пригласили меня поужинать. У них была дача у озера.
– Это, наверное, довольно далеко от Екатеринбурга?
– Вы знаете этот город? – спросил он.
– Мы там по каждой улице прошлись. – Он хотел спросить, посещала ли она там православные храмы, когда она добавила: – Но только в Интернете. Удивительное качество изображения. Можно рассмотреть каменную кладку, трещины на асфальте – создается ощущение, что действительно там находишься.
– Похоже, в Интернете все под колпаком, – сказал он.
Она покачала головой, и ей на лоб упало несколько темных волнистых прядей.
– Нет, что вы. Это все та компания – забыла, как называется. Они ездят с фотоаппаратами по всему миру, фотографируют всякие города, а потом соединяют фотографии вместе, и получается что-то вроде диорамы.
– Разве это называется не «панорама»? – спросила блондинка.
– Да какая разница? – Черноволосая беззаботно махнула рукой.
– Значит, вы из Екатеринбурга направились прямо в Гданьск. А в Москву вы не завернули по дороге?
– Не завернул, – сказал он и подумал, что это как-то глупо, что он не был в Москве. Но тогда ему казалось, что важнее всего двигаться дальше. Он думал, они поинтересуются, почему он не воспользовался возможностью увидеть Кремль и Красную площадь, но они не спросили. Они вообще не особенно его расспрашивали, уточняя что-нибудь только тогда, когда он перепрыгивал в рассказе с места на место. Не стали они шутить и по поводу его памяти – то ли из вежливости, то ли потому, что сами много путешествовали и понимали, что воспоминания со временем размываются.
Их искренний интерес тоже его удивил. Он-то полагал, что слушать, где он побывал и какая там была погода, и что он делал (а он не делал ничего особенного), – это страшно скучно. Но каждый раз, когда он упоминал о каком-нибудь городе – Базеле, Берлине, Кале, – они подскакивали, как будто он произносил волшебное слово. Наверное, это потому, что они побывали в этих городах таким же способом, как в Екатеринбурге, – с помощью фотографий высокого разрешения, загруженных в сеть какой-то корпорацией, которая, очевидно, задалась целью оцифровать весь мир.
– Я почти не разбираюсь в компьютерах, – сказал он. – Иногда захожу в интернет-кафе, читаю новости или смотрю какой-нибудь забавный ролик. Но я не могу долго усидеть на месте. Пятнадцать – двадцать минут – и мне уже надо идти дальше.
– Вот это я называю непоседливостью, – сказала блондинка. Странно, но смешков не последовало.
– Я никогда не мог запомнить таких вещей, как, например, адреса электронной почты или пароли, – продолжал он. – Как-то я пытался завести себе почту, но забыл, на какой странице зарегистрировался. Без-мозгов-точка-ком. Дырявая-память-точка-ком. Сайт-для-идиотов-точка-ком. Мне бы вот такие названия подошли.
– Ну, так давайте проверим. Может быть, эти доменные имена свободны. Заведете свою страницу, – сказала брюнетка. Его вежливый смешок оборвался, когда он увидел у нее на коленях небольшой ноутбук.
– Бог ты мой, не надо! – сказал он, встревожившись и сам не зная почему.
– Поздно! – сказала она. – Но это все без толку, потому что все эти имена заняты.
Блондинка удивленно хмыкнула.
– Серьезно? Даже сайт-для-идиотов-точка-ком?
– Даже он.
– Вы выходите в сеть прямо из машины? Каким образом? – Он был поражен.
– Беспроводная связь, – сказала она, как будто это все объясняло. – О, да вы правда не разбираетесь в компьютерах, – добавила она, увидев выражение его лица. – Вам следовало бы купить себе «Блэкберри», или нетбук, или карманный компьютер с навигатором.
– Я предпочитаю путешествовать налегке, – сказал он.
– Нетбуки самых новых моделей весят как бутылка воды. А карманные компьютеры вообще ничего не весят.
– Стоят, наверное, целое состояние.
– Да нет. В последнее время они сильно подешевели.
– Покупка ненужной вещи – это бесполезная трата денег, – сказал он. – Кроме того, это еще один предмет в рюкзаке, который можно украсть. Я стараюсь не носить с собой того, из-за чего кому-нибудь может захотеться треснуть меня по затылку. – Он улыбнулся черноволосой женщине. Она не улыбнулась в ответ.
– Когда-нибудь думали о том, чтобы не ездить так много? – спросила она.
Он моргнул:
– Простите?
– Оставить дорогу, осесть на одном месте, по определенному адресу?
– Просыпаться каждое утро в одной и той же постели, – добавила блондинка. Ее серо-зеленые глаза сверкнули в зеркале заднего вида. – В собственной квартире или в доме, где хранятся дорогие вам вещи.
Он не ответил.
– Неужели вы никогда об этом не думали? – недоверчиво сказала черноволосая.
– Да. И мне бы не хотелось это обсуждать, – сказал он вежливо, но твердо.
Брюнетка начала что-то говорить, но блондинка ее перебила:
– Хорошо. Не обращайте внимания на нашу болтовню. Правда.
– Спасибо, – сказал он нарочито формально. Брюнетка разочарованно отвернулась. Маленький компьютер у нее на коленях был открыт, но он не мог рассмотреть, что было на экране.
Она вдруг опять повернулась к нему.
– В любом случае, карманный компьютер с навигатором был бы вам очень полезен. Вы бы всегда знали, где находитесь и в какую сторону вам следует двигаться. С навигатором кратчайший путь можно найти на раз-два. – Она щелкнула пальцами.
– Да я как-то не стремлюсь искать кратчайшие пути, – сказал он.
– Ну, тогда вы можете выбрать самый длинный маршрут.
– Я уж лучше ничего выбирать не буду, – сказал он по-прежнему вежливо, но уже скрывая раздражение. – Вы знаете, мне уже рассказывали обо всех этих штуках. О высокотехнологичных путешествиях, обо всяких «гу-гу мэпс» – или как они там называются. Не нравится мне все это. Навигатор – это что? Вы подключаетесь к спутнику, а потом беспокоитесь о том, что кто-то имеет доступ к вашей личной информации. Что вообще происходит в мире?
Долгое время никто ничего не говорил. Затем блондинка кашлянула и сказала:
– А в его словах есть смысл.
– Наверное, надо все-таки вытащить из руки микрочип, – заявила черноволосая.
Он был в ужасе.
– У вас в руке микрочип?
Обе женщины расхохотались.
– Боже мой, нет, конечно! – Как следует посмеявшись, сказала черноволосая женщина. – Чипы вживляют только ВИП-клиентам эксклюзивных клубов.
– Я вам не верю, – сказал он. – На такое никто не согласится, даже будь он тридцать три раза богач и безумец. Это просто байка.
– Да нет же! Это чистая правда! – заверила его брюнетка.
– Если это выдумка, то не первая, на которую ты купилась, – сказала блондинка и опять подмигнула ему в зеркало заднего вида. Что это должно означать – она сейчас пошутила или у нее просто нервный тик? – И не вторая. И не третья. И не четвертая…
– Хватит-хватит. Тебе не обязательно тыкать меня носом в мои прошлые заблуждения.
– В какое именно заблуждение тебя не надо тыкать носом? – поинтересовалась блондинка. – О маленькой мексиканской собачке, которая на самом деле оказалась крысой, или о кобрах, устроивших себе гнездо в шубе? Или…
– Я сказала хватит! – Брюнетка попыталась изобразить возмущение, но не выдержала и рассмеялась. – Поэтому мне и нравятся компьютеры и Интернет. Там всегда можно все проверить. Твердые факты.
– Такие, что зубы можно сломать, – ляпнул он не думая. Они снова расхохотались.
– Он достойный собеседник, Дони, – отдышавшись, сказала блондинка.
– Да уж, – улыбаясь, отозвалась черноволосая. – Хорошая шутка.
Его ответная улыбка была неискренней. Не так уж она и хороша, подумал он. Может, в ней есть какой-то подтекст, который он и сам не понимает, или именно эта фраза что-то означает для них обеих. Поэтому они и смеются. Да только ему от этого не веселее. «Может, пора вылезти из этой машины и дальше двинуться пешком», – подумал он.
Как будто угадав направление его мыслей, блондинка сбросила скорость и съехала на обочину. Затем она обернулась и посмотрела на него.
– Что-то не так? – спросил он, выпрямляясь на сиденье.
– Совсем нет, – сказала она. – Просто впереди развилка, где наши пути расходятся. Если хотите ехать коротким путем в Абердин, тогда вам надо оставить нас и поймать другую машину. Или… – Жестом руки она отметила драматическую паузу. – Или вы можете поехать с нами и посмотреть на Хамберский мост.
Обе женщины выжидающе смотрели на него.
– А что такого особенного в Хамберском мосте?
Женщины переглянулись.
– Вы никогда его не видели, – сказала черноволосая.
– Иначе вы не задали бы этого вопроса, – добавила светловолосая.
– Он чудесен, просто великолепен, – проговорила черноволосая.
– Великолепен? – переспросил он недоверчиво.
– Уж поверьте, – ответила блондинка. – Я и сама не верила, когда Дони мне это заявила. Но потом я его увидела. Если на небесах есть мосты, молодой человек, то они выглядят именно так.
Он улыбнулся, столь же недоверчиво.
– А далеко он отсюда?
Она отвернулась и посмотрела на что-то на приборной панели.
– Судя по навигатору, всего несколько миль. Он не так уж и в стороне от нашего маршрута – после моста будет Халл, а Скарборо от него недалеко к северу. А вас мы можем высадить на каком-нибудь перекрестке, где вы поймаете машину, следующую на запад, обратно к Лидсу.
– А может быть, мне доехать с вами до Скарборо, а потом уже своим ходом отправиться дальше?
– В этом случае вы, скорее всего, окажетесь в Уитби, и вам придется выбираться оттуда, – объяснила черноволосая.
– Да какая разница? – сказал он. – Я же говорил, что не очень стремлюсь выбирать кратчайшие маршруты.
– Ну, это вам решать, – пожала плечами блондинка. – Но если вам придется провести ночь в Уитби, поешьте чеснок на ужин, чтобы вас Дракула не укусил.
– Дракула? – озадаченно спросил он.
– Да. Именно там он сошел на берег после того, как покинул Трансильванию, – сказала черноволосая. – А вы не знали?
– Не знал. Но это же сто лет назад было, верно?
– Да, но для Дракулы это не имеет значения. Он же вампир и, следовательно, бессмертен.
– Я думал, ему вонзили кол в сердце, и он превратился в пепел.
Брюнетка покачала головой.
– Дракула всегда возвращается.
– Бела Лугоши мертв, – невозмутимо ответил он. – Об этом даже песня есть.
– Бела Лугоши – да. Но не Дракула.
Он никак не мог понять, шутит она или нет. Лицо у нее было серьезное, никаких признаков того, что она сейчас улыбнется или рассмеется. Он посмотрел в зеркало заднего вида, ожидая, что блондинка ему подмигнет. Наконец она посмотрела в зеркало, но лишь мельком, и выражение ее глаз ему ничего не сказало.
Да какого черта, подумал он. Мир – странное место, а люди делают его еще более странным. Его подвозили атеисты, которые верили в призраков, люди, которые думали, что астрология – часть астрономии. Эти две женщины, наверное, не единственные в целом нормальные люди, которые считают, что события, описанные в «Дракуле» Брэма Стокера, происходили в действительности. Он передвинулся к центру, чтобы между передними сиденьями можно было наблюдать за дорогой. То, что он там увидел, испугало его гораздо сильнее, чем все призраки и вампиры, вместе взятые.
Дорога была узкой, и на ней едва могли уместиться их машина и та, что ехала навстречу, – даже если бы она не тащила за собой трейлер размером со слона. Он открыл рот, чтобы предупредить блондинку, но у него внезапно пропал голос. Однако еще до того, как он бросился на пол и закрыл голову руками, она притормозила и повернула руль влево.
– Ну, вдохнули! – весело воскликнула она. Он машинально подчинился и, затаив дыхание, проследил за тем, как мимо них прошуршал трейлер – казалось, на расстоянии дюйма от их машины.
– Близко, – проговорила черноволосая. – Он точно нас не поцарапал?
– Он не так близко проехал, как кажется, – успокоила ее блондинка.
– Да уж, – сказал он дрожащим голосом. – А когда мы съехали с шоссе?
– А мы и не съезжали, – сказала блондинка. – Это в США такая дорога означает, что ты заехал в глухомань. А в сельской Англии это крупная транспортная артерия.
– В следующий раз предупредите меня заранее. Я свернусь на полу и буду молиться. – Он попробовал посмеяться вместе с ними, но не смог.
***
Пятнадцатью минутами позже блондинка остановила машину на обочине.
– Узрите же, – провозгласила она. – Хамберский мост!
Он выпрямился и посмотрел сквозь лобовое стекло. Несмотря на весь свой скепсис, он был поражен. «Подвесной мост» – этот термин казался слишком сухим для описания конструкции, протянувшейся поперек реки под клонящимся к закату солнцем. И как только строители этого добились – чтобы миля металла, камня и асфальта производила впечатление паутинки? Мост выглядел изящным и в то же время крепким – было ощущение, что он может выдержать что угодно, даже землетрясение.
Он стряхнул с себя сонливость, потихоньку копившуюся в закоулках мозга, и протер глаза. Снова посмотрел на мост: в небе над рекой собирались облака, они затягивали только недавно проглянувшее солнце, а от реки начал подниматься туман.
– Ну как? Удивительное зрелище, правда?
Он молча кивнул, не поняв, которая из женщин с ним заговорила. Машина снова двигалась, они ехали к мосту. Когда они подъехали ближе, он увидел, что мост совсем не такой узкий, каким он казался издалека. Это радовало, поскольку исключало опасность, что они свалятся в воду при встрече с еще одним трейлером.
Они были над серединой реки, когда туман стал таким плотным, что мост впереди и противоположный берег совершенно исчезли из виду. Он уже хотел посоветовать блондинке включить фары, но она, к его ужасу, нажала на тормоза и совсем остановила машину.
– Что вы делаете? – спросил он испуганно. Она тем временем поставила машину на ручной тормоз.
– Тут вы выходите, – сказала блондинка, а черноволосая открыла дверь и выбралась из машины. Она опустила спинку сиденья вперед и заглянула в салон.
– Вылезайте. Вы слышали Лоретту? – приказала она.
– Вы что, с ума сошли? Хотите высадить меня на середине…
– Навигатор никогда не врет, – сказала блондинка. – А теперь вылезайте. У вас осталось меньше минуты.
– До чего? До того, как в тумане меня собьет машина?
Черноволосая наклонилась и схватила его за рубашку. Он попытался освободиться, но обнаружил, что она гораздо сильнее, чем выглядит. Она вытащила его из машины и толкнула на ограду, отделявшую проезжую часть от пешеходной дорожки. Затем с такой силой бросила ему его рюкзак, что он чуть не упал.
– Да что вы творите-то! – воскликнул он.
Черноволосая никак не отреагировала. Она вглядывалась в туман. Потом схватила его за руку и дернула к себе.
– Заткнись и стой здесь! – отрезала она.
Он протянул к ней руку, но она отступила, и его пальцы сомкнулись в пустоте. Разозлившись, он шагнул к ней, намереваясь ее схватить, – и в следующую секунду уже катился вниз по холодному, грязному склону, покрытому мокрыми листьями. Докатившись до ровного места, он остановился. Полежал на спине, глядя в ночное небо. Где-то неподалеку, наверху, пронесся грузовик – скорость, наверное, миль семьдесят.
Он встал на ноги и медленно поднялся по склону. Когда он выбрался на обочину, мимо проехал еще один грузовик. Шоссе 2А – сразу понял он. Ему тут был знаком каждый дюйм; лучшее место для того, чтобы голосовать, – многие дальнобойщики предпочитают его новой федеральной трассе, на которой грузовики взвешиваются. А путешествующие бизнесмены ездят по нему, потому что здесь, на старой дороге, много хороших кафе.
Он, как мог, отряхнулся, забросил на плечи рюкзак и поднял большой палец, думая, что, наверное, здорово устал, раз уснул прямо в канаве.
***
– Ну, все, – сказала Дони. Она села в машину и захлопнула дверцу.
– Вот и хорошо. Давно бы так, – проворчала Лоретта. Она отпустила ручной тормоз и осторожно поехала вперед, поглядывая в боковое зеркало на тот случай, если кто-нибудь появится до того, как она вырулит на основную полосу и наберет скорость.
– Да уж. Теперь-то, слава Богу, все нормально, – сказала Дони. – Проедем мост, доберемся до Халла, и на этот раз было бы здорово, если бы ты нашла дорогу, а не ездила целый час кругами.
– Эй, все могло быть гораздо хуже, – добродушно сказала Лоретта. – По крайней мере, я теперь знаю, где у этой штуки задняя передача.
– Слушай, следи-ка лучше за дорогой.
Послесловие
Если и есть что-нибудь, что мне нравится, – помимо шоколада, хорошей вечеринки и любви моей кошки, – то это городские легенды, предпочтительно с примесью сверхъестественного. Такие истории хорошо рассказывать вечером, когда ты слишком устал, чтобы оставаться твердоголовым реалистом, а тени так длинны и глубоки, что все время кажется, что ты только что краем глаза заметил какое-то движение.
Или можно рассказывать их днем, во время долгой поездки на машине. Особенно если эта поездка действительно долгая – гораздо более долгая, чем ей следовало бы быть.
В 1993 году мы с Эллен Датлоу совершили долгую автомобильную поездку из Лондона в Скарборо. Мы даже не представляли, насколько долгой она будет, хотя тот факт, что нам понадобилось сорок пять минут на то, чтобы выбраться из аэропорта Хитроу, должен был навести нас на кое-какие мысли. До Скарборо мы ехали восемь часов (последние сорок пять минут из которых мы провели, пытаясь припарковаться возле гостиницы). Наш путь был настоящим приключением.
В идеальном мире это приключение было бы таким, каким оно описано в рассказе. У призрака-автостопщика, в конце концов, не должно возникнуть никаких трудностей с перемещениями по миру. Если компьютерные вирусы могут передаваться через Интернет, почему призраки не могут передаваться по GPS?
Мы и правда видели нескольких автостопщиков. Один из них проследил за тем, как мы промчались по встречной через круговой перекресток (если едешь не в ту сторону, делай это быстро). Когда мы доехали до того места, где он стоял, он очень нарочито убрал палец, спрятал руку в карман и отвернулся. Сомневаюсь, что он был призраком. Но если все же был, тогда, возможно, две американки в арендованном «Форде Мондео» тоже были призраками – и они до сих пор ездят вокруг призрачного Халла, не в силах найти правильный путь.
P. S. Когда у меня закончился срок действия прав, я их торжественно сожгла по обряду викингов.
Пэт Кадиган дважды получала премию Артура Кларка – за романы «Синнеры» («Synners») и «Дураки» («Fools») – и номинировалась почти на все остальные премии в области научной фантастики и фэнтези. Хотя она в основном известна как автор научной фантастики (и единственная женщина, работающая в жанре «киберпанк»), она также не чуждается фэнтези и хоррора. Это подтверждается ее сборниками «Модели, грязная работа» («Patterns, Dirty Work») и «Дом у моря» («Home by the Sea»). Она автор пятнадцати произведений, включая две книги нон-фикшн и один роман для подростков, и в настоящее время работает над двумя новыми романами.
Рэмси Кэмпбелл Чаки пришел в Ливерпуль
Робби смотрел на мать, и ему казалось, будто ему снова десять лет, – и в кои-то веки это не было неприятно. Она была сейчас похожа на себя в те моменты, когда они вместе играли в какую-нибудь настольную игру: глаза ее становились спокойными, с лица исчезали резкие линии, и она уже не выглядела старше своего возраста – а ей тогда было всего в два раза больше лет, чем сейчас ему. Она была счастлива, когда ей, хотя бы короткое время, нужно было думать только об одной вещи – о том, какой сделать следующий ход. Он стоял, погруженный в воспоминания, пока она не отвела взгляд от компьютера, стоявшего в гостиной, и не увидела его за окном.
Неужели она подумала, что он шпионит за ней, как делал его отец, когда они с ним развелись? Ее голова резко дернулась назад, как будто ее ущипнул кто-то невидимый, – ущипнул между бровей, где от этого остался след: мгновенно образовавшаяся морщина. Робби втянул голову в плечи и поспешил в дом. Из-за ее велосипеда и рюкзака в узком коридоре было не повернуться. Он бросил на ступеньках свой школьный рюкзак, а она в это время забирала из принтера отпечатанные листы – с такой поспешностью, что один из них выпорхнул из ее руки и спланировал на пол.
– Оставь, Робби, – сказала она.
– Да я тебе его хочу отдать.
Это был киноплакат с подписью: ЧАКИ В ГОРОДЕ. На плакате было изображено круглое кукольное лицо, злобное и одновременно веселое. Оно было как будто разломано на куски и скреплено крупными стежками, которые даже в черно-белом варианте выглядели зловеще. Что бы этот плакат ни анонсировал, показать это должны были на выходных, в кинотеатре «Мерсискрин», в рамках фестиваля искусств под названием «Освобождение Ливерпуля». Все это Робби успел прочесть до того, как его мать выхватила листок у него из рук.
– Ну, ты все хорошо разглядел – после того как тебе велено было оставить его там, где он лежал?
– Что это такое? Для чего?
– На это тебе нельзя смотреть.
– Я уже посмотрел. Только что.
– Совсем не остроумно. Ты поступил, как жулик. – Закончив расплавлять его огорченным взглядом, она добавила: – Это плакат фильма, который ты никогда не должен смотреть.
Их было так много, что он бы сбился со счета, если бы стал считать, – любое кино, где есть драки, или пистолеты, или ножи, или что-нибудь такое, из-за чего он стал бы вести себя, как плохой мальчик. Или бомбы, хотя бомбы – это, кажется, любимые игрушки взрослых. Или где ругаются плохими словами. В общем, куда проще было пересчитать фильмы, которые ему разрешалось смотреть.
– Еще один, – сказал он.
– Я не хочу, чтобы ты стал таким, как твой отец. Слишком многие из вас думают, что вы вправе издеваться над женщинами – и даже делать с ними кое-что похуже. – Прежде чем Робби осмелился спросить, чего она не договаривает (правда, когда дело касалось его отца, обычно договаривать было уже почти нечего), она добавила: – Я не говорю, что ты уже тоже из этой братии. Просто не становись таким никогда.
– Зачем ты это все распечатала? Для чего это?
– На этот раз мы будем бороться всерьез. – Он догадался, что под «мы» она подразумевает «Матерей против хаоса», а она продолжала: – Эти злые фильмы нельзя показывать. Они должны быть запрещены в Ливерпуле. Они заползают в головы детей и заставляют их вести себя, как…
– Как кто?
– Как это чудовище, – сказала она и ткнула пальцем в листки, которые положила на стол – изображением вниз. – Ну хватит. Ты просто надо мной издеваешься. – Она переключила взгляд на режим строгости и сказала: – Обещай, что ты никогда не станешь смотреть такие фильмы.
– Обещаю.
– Покажи руки.
Он снова ощутил себя маленьким – его подозревают в том, что он может ходить с грязными руками. И хотя он не скрестил пальцы за спиной, но все равно не совсем обещал. Помолчав, она сказала:
– Приготовь обед. Мы собираемся у Мидж.
Мидж была преподавателем на курсах уверенности в себе, которые посещала его мать, и основательницей «Матерей против хаоса». Робби протиснулся мимо велосипеда в кухню – она была еще меньше, чем гостиная, – и включил плиту. Он все еще гордился тем, что учится готовить, хотя и ни за что не признался бы в этом в школе. Он только предпочел бы, чтобы его мать не напоминала ему каждые пять минут, что его отец был не в состоянии даже сварить себе яйцо. На поверхности ливерпульской запеканки лопались пузыри, и это зрелище наводило его на мысли о каком-нибудь монстре, из тех фильмов, которые ему не разрешалось смотреть. С помощью рукавиц, слишком толстых, для того чтобы ими мог воспользоваться маньяк-убийца, он перенес запеканку на стол, всегда скрытый под грязноватой клеенкой.
– М-м-м, – сказала его мать, – вкуснотища! – Хотя ела она меньше и быстрее, чем Робби. – Еще и на завтра останется. – И спросила: – Много сегодня задали?
– Ну, так… Много, если честно.
– Чтобы все было сделано. – Она уже надевала рюкзак. – Не знаю, когда вернусь, – сказала она и покатила велосипед к двери. – Если задержусь, ты знаешь, в котором часу ты должен лечь спать.
Он оставил недоеденную запеканку на столе и вымыл тарелки, прежде чем перейти в гостиную. Как и на телевизоре, на компьютере стояли все родительские блокировки, какие только его мать додумалась установить. Он вышел в Интернет, отыскал очерк о ливерпульских поэтах и, заменяя слова, переписал его в тетрадку для домашней работы по английскому языку. Он переписывал последний параграф, когда зазвонил мобильник.
На нем не стоял рингтон из «Звездных войн» с тех пор, как его мать решила, что это фильм о войне. Робби не дал миру много времени – взял трубку прежде, чем христианскому хору удалось озвучить свои благочестивые напевы.
– Это Дункан Донатс? – сказал он.
– Да, если это Робин Бэнкс.
Отец назвал Робби в честь ливерпульского футболиста, но теперь мать всем рассказывала, что его назвали в честь певца.
– Моя мамка с твоей, – сказал Дункан. – Все мамки вместе собрались.
– Ага. К Мидж в дом набились.
– Как селедки. Как бы из окон не полезло.
На вкус Робби, это было уже слегка чересчур.
– Чего делаешь?
– А ты как думаешь? Домашнее задание доделываю.
– Чего? Ну как всегда. Еще полы там помой.
– Да ладно тебе, – сказал Робби. – Я уже заканчиваю.
– Заканчивай-заканчивай, ботаник, – съязвил Дункан, – только побыстрее, а то я все выкурю.
Робби дописал абзац, поменяв некоторые слова, выключил компьютер и вышел из дома. Лабиринтум-плэйс, маленький район через дорогу, был просто нагромождением одинаковых домов, которые стояли чуть ли не друг на дружке, зато следующая улица – Уотерворкс-стрит – вела к парку. Ветер толкал облака по черному октябрьскому небу, и он же приносил от Сифортского дока густую вонь силосных зернохранилищ. В переулках то и дело хлопали выстрелы и мелькали вспышки – но это была еще не война, а просто ранние, бессмысленные фейерверки; громкий раскатистый грохот у него за спиной оказался не взрывом бомбы – это очередной самосвал выгружал металлический лом на пустыре неподалеку от торгового центра.
Пешеходный переход, который сторожили нервные янтарные светофоры, упирался прямо в ворота парка. По бетонной дорожке, ведущей к заброшенной сцене, ползали тени кустов. На куполе, нависающем над сценой, перепархивали голуби, будто дожидаясь своей очереди посидеть на ржавом флюгере в виде стрелы. Дункана нигде поблизости от сцены видно не было, но Робби определил его местоположение по сильному запаху сканка.
Он сидел на балюстраде наверху широкой лестницы, которая поднималась на невысокую горку рядом с поляной для боулинга. Над ним безносая грязно-белая статуя потрясала обрубком руки – ни дать ни взять жертва маньяка с тесаком. Позади статуи на пустую баскетбольную площадку пялились дома, каждый из которых был раза в два больше дома Робина. Дункан, наверное, видел, как Робин ищет его возле сцены, поскольку с его наблюдательного пункта открывался прекрасный вид во все стороны. Робби взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Листья под его подошвами хрустели, словно кости младенцев.
– Дайте-ка и нам, – сказал он.
Судя по тому, что Дункан еще не добил толстый косяк, это был уже второй. Как следует затянувшись, он передал его Робби.
– Забористая дурь! – выдавил он, стараясь удержать дым по дольше.
Робби вдохнул сколько смог и задержал дыхание. Немного дыма убежало из ноздрей. Затем он закашлялся, а в это время Дункан сделал еще затяжку.
– Ты прав, – сказал Робби – или это сказал кто-то посторонний его голосом.
– Чего?
– Забористая.
– Чертовски забористая.
– Чертовски. – Робби пришлось с этим согласиться, потому что мир вокруг него начал осыпаться с шорохом и потрескиванием. У реки опять свалили полный грузовик лома, но Робби это едва слышал – в уши будто напихали ваты. Статуя целилась своей культяпкой, похожей на ствол крупнокалиберного пулемета, в черный силуэт дерева, от которого отлетали кусочки и принимались носиться по парку. Прикрепляясь обратно к дереву, они каркали. Робби подумал, что выкурил слишком много и слишком быстро. В попытке восстановить контроль над распоясавшимся содержимым черепа, он сказал:
– Ты знаешь, о чем они говорят?
– Вороны? Они говорят о том, что они черные. Эй, уважуха вам! – крикнул он воронам.
– Нет, не они. – Робби рассмеялся, но это почти не помогло. – Мамы, – сказал он.
– Я их не слышу. А ты слышишь, что ли?
– Нет, конечно, – помотал головой Робби. – Но я знаю, что они осуждают.
Он оговорился – хотел сказать «обсуждают», – но потом подумал, что так оно будет даже точнее.
– И что? – спросил Дункан.
– Самое злобное кино всех времен и народов.
Дункан передал ему дымящуюся «пятку». Когда ее кончик разгорелся светофорным красным огоньком, он сказал:
– Могу спорить, я знаю, что это за кино.
Робби выдохнул дым – на этот раз затяжка была чисто символической – как бы ради того, чтобы спросить:
– И что это за кино?
– Про Чаки. Один из фильмов про него.
Лицо Дункана посветлело. Оно стало пластиково-бледным, по нему пролегли похожие на шрамы линии, красные глаза сдвинулись к носу, а зубы заблестели неестественным, прозрачным белым цветом. Эти ломаные линии были тенями от тонких веток, брошенными на его лицо взрывавшимися в небе фейерверками. Из-за них его лицо было словно собрано из осколков. Робби попробовал стереть их с помощью вопроса:
– Откуда ты узнал?
– Дай-ка нам, не задерживай. – Дункан дососал косяк до самых пальцев, затушил, положил на язык и, откинув голову назад, проглотил. Наконец он сказал: – Оттуда же, откуда я все знаю. От верблюда. Смотришь эти фильмы – превращаешься в куклу-марионетку.
– Да ладно. Фильмы такого не могут делать. Это же просто фильмы.
– Эти могут. Все это здесь и началось.
Робби смутно подумал, что уже знает эту историю, просто не помнит. Он спросил:
– Что началось?
– Двое детей убили третьего, который был младше их. Они брали пример с Чаки. Это произошло недалеко отсюда, еще тогда, когда моя мамка жила с моим настоящим отцом, а меня еще не было. А потом дети постарше замучили девочку – они говорили, что слышали голос Чаки, который приказывал им это сделать. На Стрэнде у одного дядьки был магазин, и там продавались кассеты с Чаки, так кто-то разбил витрину и истыкал дядьку осколками. Чаки такое вытворяет с людьми. Один мальчик в Ливерпуле зарезал хахаля своей мамки и сказал, что это Чаки его заставил. Тут дальше по улице был пакистанский магазин, и его сожгли, потому что там продавались журналы с Чаки.
У Робби возникло чувство, что за ними наблюдают. На экране появилось насмешливое, злобное лицо. Он поднял взгляд, и в этот момент перед экраном упал занавес – нет, это опустилась штора в окне дома позади баскетбольной площадки.
– Хочешь его увидеть? – сказал Дункан.
Тени, ползавшие туда-сюда по бетонным дорожкам, казалось, все направились в их сторону. Бродившие по сцене голуби забеспокоились, словно оставались считаные секунды до выхода из-за кулис какого-нибудь звездного исполнителя. Но их перья, конечно, дрожали просто от ветра.
– Где? – поколебавшись, спросил он.
– У меня дома, в следующий раз, когда они соберутся у Мидж.
– Но у тебя же нет этих фильмов.
– Я могу достать их, когда захочу, и еще много других, от которых у моей мамки истерика.
– Тогда почему не посмотреть что-нибудь другое? Мы могли бы…
– Только не говори, что ты боишься Чаки. – Улыбка Дункана стала шире, как будто швы в углах его рта разошлись. – Квадриллионы детей смотрели эти фильмы и ничего после этого не делали. Даже девочки, – сказал он, и его улыбка вернулась к нормальному размеру. – Накуримся и затупим так, что ему ни в жизнь до нас не добраться. – Он посмотрел за спину Робби и соскочил с балюстрады. – Пора раствориться в воздухе, друг мой, – сказал он.
Робби обернулся и увидел у входа позади баскетбольной площадки мерцание красных и синих огней. Это была полицейская машина, и Дункан уже скрылся за постаментом жертвы маньяка.
– В ту сторону не беги, – прошептал Робби – тихонько, а то вдруг вороны поднимут тревогу. – Полицию вызвал кто-то из тех домов.
– А я и не бегу. Меня тут уже нет, – сказал Дункан и пригнулся пониже. – А ты вали куда-нибудь в другую сторону.
Робби не сомневался, что при встрече с полицией лицо его выдаст – пытаясь не улыбаться, он улыбался все шире и шире. Он спустился по ступенькам и повернул к Дункану свою располовиненную голову.
– Выловлю тебя в школе. Смотри не попадись.
– Да не будут они напрягаться из-за детей, которые чего-то там смолят. Давай переждем, пока они уедут, и еще косячок забьем.
– Нет, я уже свалил, – сказал Робби и сбежал по лестнице. Целые полчища жуков хрустели у него под ногами. Полиция могла услышать этот хруст – или оглушительные аплодисменты, которыми встретила его голубиная публика, когда он со всех ног пробежал мимо сцены. Проехавшись по земле, он остановился у ворот, перед переходом. Желтые огни светофоров мигали в такт его пульсу. Он метнулся через дорогу и побежал по улице. В проулках по-прежнему вспыхивало, но это опять были фейерверки, а не полиция, старающаяся его перехватить. И никто не схватил его сзади за шиворот, пока он с металлическим хрустом поворачивал ключ в замке и открывал дверь своего дома.
Сколько времени он простоял в ванной, начищая зубы своему отражению в зеркале? Только страх того, что его мать, вернувшись, заметит, как сильно он изменился, заставил его лечь в постель. Его кровать была лодкой, в которой он уплывал от взрывов на берегу. Его вернул к действительности следующий саундтрек: хлопок входной двери, треньканье ведомого по коридору велосипеда, глухой стук сброшенного рюкзака. Были еще и другие звуки – некоторые ему было неловко слышать, – но эхо от стука, произведенного рюкзаком, пульсировало у него в голове. Оно заставило его выйти из комнаты, как только он решил, что мать уснула.
Уличный фонарь наклонил свою круглую светящуюся башку и заглянул в окошко над входной дверью. А вдруг мать оставила листки у Мидж? Нет, они были в рюкзаке. Он вытащил их и отнес в гостиную. Так как он не осмеливался включить лампу, то, стараясь не шуметь, подошел к окну и развернул мятую пачку листов в бледном свете, добиравшемся с улицы. Кроме плаката, рекламирующего показ всех пяти фильмов про Чаки, и рецензий на них, там были распечатки газетных статей. Пятнадцать лет назад меньше чем в миле от его дома двое мальчиков, которые были даже младше, чем он теперь, замучили до смерти малыша. Несколько газет обвиняли в трагедии фильмы про Чаки, а одна даже призывала: Ради блага всех наших детей… СОЖГИТЕ ВАШИ ВИДЕОКАССЕТЫ. Жирные буквы, казалось, блестели, словно швы на лице Чаки. Его фильмы были запрещены к показу в кинотеатрах Ливерпуля, но этого было мало, чтобы уничтожить Чаки. Он заставил детей, похитивших девочку, разговаривать его голосом, пока они пытали ее, и надоумил семилетнего ливерпульского пацана двадцать один раз ткнуть кухонным ножом в дружка своей матери. Газеты пытались его остановить, но про него сняли еще два фильма, хотя их так никогда и не показали в Ливерпуле. И вот теперь это упущение будет исправлено. Неудивительно, что он улыбался. Робби смотрел в его злобно-веселые глаза, и его рот сам собой растягивался до ушей.
Наверное, безопасно смотреть эти фильмы, когда ты уже взрослый, – иначе кинотеатру не разрешили бы их показывать. Но если кинотеатр – это для взрослых, то видео можно посмотреть и дома. Если Дункан может их смотреть, то и Робби может; он не позволит превращать его в маменькиного сынка, которого презирают друзья. Он как минимум на пару лет старше любого мальца, которым манипулировал Чаки. Те ребята, скорее всего, еще играли в игрушки и верили в Рождество и в то, что папа будет с ними всегда. Это проходит с возрастом. Точно так же проходит и время сильного воздействия фильмов на психику – и в его случае оно уже прошло. Робби сложил листы, засунул их в рюкзак и отнес свою ухмылку в постель.
Он всегда чувствовал себя несколько вялым по утрам, после того как покурил накануне травы, но сегодня мать немного подняла ему настроение.
– Это хорошо, что у нас остался вчерашний обед, – сказала она за завтраком. – Мы снова собираемся у Мидж. Надо сделать все, чтобы эти фильмы не показали.
Она уехала на работу – в магазине «Фруго» в торговом центре, – а он присоединился к похоронной процессии мальчиков и девочек, одетых в белое и черное. Хоронили, кажется, прошлое – на уроке истории Ливерпуля почти все его одноклассники молчали, словно убитые горем родственники. Робби смог поговорить с Дунканом только на перемене. Как только они вышли в коридор, Дункан сказал:
– Я их достал.
– Чаки?
Ухмылка Дункана подтвердила его догадку. Проходившая мимо девочка, которую они даже не знали, как зовут, требовательно спросила:
– Что Чаки?
– Мы будем смотреть фильмы про него, – сказал Робби.
– Моя мама говорит, что этого делать нельзя, хотя бы из уважения к погибшим.
– А мы моральные уроды, мы никого не уважаем, – заявил Дункан.
Девочка и ее подруга синхронно зажмурили свои глупые глаза.
– Это вернет его, – сказала подруга и преувеличенно вздрогнула.
– Кого вернет? – спросил Робби, на всякий случай грубо – вдруг эти цыпочки против них что-то имеют.
– Если кто-то посмотрит про него фильм, это вернет его назад.
– Если кто-то посмотрит, зная, что этого делать нельзя, – добавила подруга, – это то же самое, что пригласить его в наш мир.
– Это как вызывать демона, чтобы он овладел твоим телом, – сказала первая девочка.
– Но у них все равно ничего не выйдет, – презрительно проговорила вторая.
Такая шпилька не могла остаться без ответа.
– Это почему? – спросил Робби.
– Потому что вас не пустят в кинотеатр.
– А нам наплевать. Мы…
– Мы туда все равно проберемся, – прервал его Дункан. – Нам откроет двери сам Чаки, чтобы мы могли на него полюбоваться.
Должно быть, он не хотел, чтобы девочки узнали, что они будут смотреть фильмы у него дома. А он не такой уж отчаянный, хотя он и любил убеждать Робби в обратном.
Девочки синхронно изобразили на лицах презрительные улыбки и убежали на школьный двор. Понизив голос, Дункан сказал:
– На сегодня у меня есть два. Я тебе напишу, когда…
Весь остаток дня у Робби пересыхало в горле и вставали дыбом волосы на затылке. Он совершенно не мог сидеть на одном месте – но за обедом пришлось, а то мать могла что-нибудь заподозрить.
– Опять много задали? – спросила она.
– Да, как вчера.
Умно. Ему удалось соврать, не соврав, и она ничего не заметила. Наверное, он взрослеет.
– Ничего страшного, у тебя весь вечер впереди, – сказала она.
Он переписывал из Интернета статью о трущобах викторианского Ливерпуля, когда на его мобильник пришло сообщение. Оно гласило: «Ушла заходь».
«Иду», – напечатал Робби. Торопясь, он подбирал слова для замены в тексте из Интернета, а в голове у него шумело и пульсировало. Надо побыстрее закончить, и он свободен. Телевизоры показывали одно и то же во всех домах, стоявших вдоль улицы, по которой бежал Робби, до самого паба «Собачья челюсть». Дункан с матерью жили напротив паба в таком же маленьком, как у Робби, доме. Дункан и горьковатый запах сканка встретили Робби у двери.
– Ну что, готов пройтись по травке? – спросил Дункан.
Робби поколебался. Из дверей паба вывалилось несколько мужчин – видимо, тоже собирались покурить, хотя и не совсем то, что его друг. Дункан поднял два пальца, демонстрируя косяк:
– Давай-ка вот этим угостимся. А то вчера была доза для слабачков.
– Не здесь же. Кто-нибудь может увидеть. И я не хочу, чтобы мамка унюхала. Эта травка довольно вонючая.
Поглядев на Робби стеклянными красными глазами, Дункан сказал:
– Ладно, пошли на задний двор.
Робби проследовал за ним через коридор, в котором по крайней мере не было велосипедов, и через заставленную всякой всячиной кухню. Они вышли во двор. Он затянулся по-настоящему, как мужик, и ему показалось, что за ними наблюдают. Зрителями оказались безжизненные окна второго этажа. Где-то – он не мог определить где – надрывался ребенок. К тому времени, как они с Дуганом докурили самокрутку, его уже тошнило от этого крохотного, обнесенного забором двора, над которым по небу метались фейерверки.
– Ну и где твой Чаки?
– Ждет тебя.
Естественно, Дункан имел в виду: ждет их обоих. Они прошли в гостиную, где пухлый диван и два тощих кресла изображали аудиторию перед выключенным телевизором. На одном из кресел лежала книжка про ливерпульские трущобы, а на полдивана разлегся оранжевый женский кардиган. Дункан засунул диск в плеер и плюхнулся рядом с кардиганом.
– Поехали, – сказал он.
Робби положил книжку на ковер и откинулся на спинку кресла – хотя он не сказал бы, что это было удобно. На экране началась «Детская игра». Это было название фильма; видимо, оно должно было обмануть зрителя, который еще не знал про Чаки – злобную куклу, в которую вселился дух убийцы. Почему все обвиняли мальчишку? Разве непонятно, что кукла специально подстраивала все так, чтобы казалось, будто это он совершает эти убийства? Его даже посадили в психушку, а Чаки потом убил местного психиатра. Наконец мать мальчишки догадалась, что Чаки живой и это он творит все эти гадости. Они вместе с мальчишкой бросили его в камин, и он горел ради блага всех детей, как было сказано в газете, – но до конца не сгорел, и мамаше еще пришлось разнести его из пистолета. Робби почувствовал облегчение, когда она наконец узнала правду. Он отпустил костлявые подлокотники кресла, которые, по-видимому, уже некоторое время впивались в его ладони. Дункан фыркнул:
– Нытик.
– Кто?
– Да этот сопляк. Весь фильм ныл да хныкал. Надеюсь, другой диск будет лучше.
Как кукла смогла вернуться? У нее уже были швы на лице, но это была не вторая часть, и Робби не узнал, каким образом она снова ожила. Чаки убил девушку, которая раньше была его сообщницей и любовницей, и перенес ее душу в куклу-девочку. И когда она заговорила, комнату наполнил странный звук – хихиканье, переросшее в захлебывающийся смех.
– Что смешного-то? – с испугом спросил Робби.
– Это же Мардж из «Симпсонов».
И Робби сразу узнал каркающий женский голос из любимого мультфильма своей матери. Мардж Симпсон, засунутая в куклу, помогала Чаки убивать людей. Ближе к концу ее пытались сжечь заживо, но она выжила, а Чаки опять тщательно расстреляли из пистолета – а он в это время кричал: «Я еще вернусь!» Кажется, кто-то еще это говорил. Во сколько же фильмов удалось проникнуть Чаки и его подружке? А в конце она родила ребенка – окровавленную маленькую куклу. Дункан вытащил диск и принялся щелкать кабельные каналы. Они сменяли друг друга, словно слайды, – так быстро он их переключал. И тут Робби крикнул:
– Вот он! Там!
Дункан подпрыгнул, и кардиган на всякий случай перелег подальше от него, взмахнув пустым рукавом.
– Кто? – спросил он, бросившись к окну.
– Чаки.
Дункан задернул занавески и сурово поглядел на Робби, то ли чтобы пристыдить его, то ли из-за того, что он не сказал заранее, что какой-нибудь прохожий может увидеть, что за фильм они смотрят.
– Да это не он.
– Нет, это про него кино, – возразил Робби, но, когда улыбающаяся кукла выскочила из-под кровати мальчика, Дункан нажал на кнопку информации, и оказалось, что это фильм Спилберга. В аннотации было сказало, что это фильм про полтергейст, однако Робби это не успокоило.
– Мне надо вернуться домой, пока она не пришла, – сказал он.
Дункан улыбнулся… улыбкой Чаки:
– Да-а-а, ты уж точно своей мамки не боишься.
– Я не боюсь никого и ничего.
– Вот я действительно не боюсь. Отец как-то пытался напугать меня этим идиотским Чаки. Не настоящий отец, а тот, которого мамка мне презентовала в мой четвертый день рождения.
– И что он делал?
– Да ничего он не делал. На диване валялся, в основном. – Пристально взглянув на Робби, Дункан добавил: – Говорил, что, если я буду себя плохо вести, меня заберет Чаки. Вот что они тогда детям говорили.
Разве Робби это говорили?
– Они сами не знали, что мелют, – проговорил Дункан. – Чаки действует совсем по-другому.
Он, конечно, имел в виду: действует в фильмах. Не мог же он говорить о чем-то другом.
– Увидимся в школе, – сказал Робби.
– Будешь выходить – прикрой дверь. А я еще раз посмотрю, как он врача электрошоком поджаривает.
Улица была пустой. Фонари пятнали тротуар светом, который растекался по крышам припаркованных автомобилей. Если бы Робби был девчонкой или персонажем фильма, его могли бы испугать темные провалы между машинами, куда свет не добирался и откуда мог выпрыгнуть маленький шустрый монстр. В действительности Чаки можно было обнаружить только в телевизоре, и Робби заглядывал в каждое мерцающее окно. Он как раз смотрел, не нападает ли кукла на молодую пару, укладывавшуюся спать на экране, когда его заметила старуха в кресле. Он отпрыгнул от окна и побежал домой. Она не преследовала его, но, может, она знала, где он живет? А если она расскажет его матери? Она не могла рассказать, что он искал Чаки; никто об этом не знал, даже Чаки. Чаки надежно спрятан у него в голове, и никто его не увидит.
Света в доме не было, и это значило, что мать увидит его только утром, когда всякое выражение вины – если оно там есть – уже исчезнет с его лица. В зеркале в ванной, пока на его губах вздувалась пена, а зубная щетка полировала улыбку, его лицо не выглядело таким уж виноватым. Он был в постели задолго до того, как его мать вернулась домой, но сон убегал от него. Если бы мать разрешила ему поставить компьютер в своей комнате, он бы поиграл в него, но, скорее всего, мать сочла бы все интересные игры слишком жестокими. Она не раз говорила, что даже настольные игры провоцируют агрессию. Когда ухмыляющаяся кукла наконец утихомирилась у него в голове, он уснул.
Утром у него тупо ныла голова, но он полагал, что ведет себя нормально за завтраком. И тут его мать спросила:
– Что случилось, Робби? Что у тебя с глазами?
– Да ничего.
– Ты что, плохо спишь? У тебя вид какой-то не такой.
– Это все из-за твоих рассказов про Чаки.
– Я больше не буду. Не волнуйся, мы от него избавимся, – сказала мать и для его дальнейшего успокоения добавила: – Сегодня моя очередь готовить обед.
То есть вечером собрания у них не будет. Наверное, поэтому перед занятиями Дункан не стал к нему подходить, а просто кивнул из другого угла классной комнаты. А поговорили они только на первой перемене, во дворе школы. К ним подбежали вчерашние девочки.
– Ну что, вы теперь довольны? – сказала одна.
Робби ухмыльнулся, хотя вопрос был неожиданным, даже бессмысленным.
– Чему мы должны быть довольны? – спросил Дункан.
– Ваш Чаки вернулся.
– А он что, уходил? – выпалил Робби, а Дункан сказал:
– В каком смысле вернулся?
– Он висит в витрине магазина на Стрэнде, и его всем видно.
– Они никого не уважают, – осуждающе проговорила ее подруга.
– Его не остановить. Он до всех доберется, – сказал Дункан и оскалился.
Он продолжал скалиться до тех пор, пока девочки не оставили их в покое. Если ему и трудно было вернуть нормальное выражение лица, то это выглядело скорее, как шутка. Он делал страшную рожу всем девочкам, мимо которых они проходили, и это было так заразительно, что Робби тоже стал скалиться. К углам его рта будто прикрепили стальные струны, и его губы устали задолго до того, как звонок загнал всех в класс.
Учительница спросила, какие истории о прошлом им рассказывали родители или бабушка с дедушкой. Один мальчик сказал, что правительство настолько сильно ненавидело Ливерпуль, что переместило все рабочие места на юг. Ему возразила девочка, заявив, что это профсоюзы не давали работать ее отцу и другим родителям.
– Это больше легенды, чем рассказы о прошлом, – сказала миссис Пиктон, и тут в игру вступил Робби.
– Есть еще Чаки, – выпалил он.
– Что ты…
– Это ведь история, которую рассказывают родители, верно? Как это все началось после того, как дети посмотрели этот фильм.
Миссис Пиктон не успела ответить – ее опередили одноклассники Робби. Кому-то приснилось – после того как он прочитал статью в газете, – что Чаки прячется под кроватью. Кто-то был знаком с девочкой, которая сжигала своих кукол из страха, что одна из них может оказаться Чаки. Кто-то слышал о мальчике, который напал на свою сестренку, потому что думал, что в нее вселился Чаки. Еще несколько детей подтвердили эти сообщения, но Дункан не сказал вообще ничего.
– Это всего лишь фильм, – сказала миссис Пиктон, и это прозвучало как-то знакомо. – Но это не значит, что вам, в вашем возрасте, можно такое смотреть.
– Но ведь эти мальчики убивали по-настоящему, ведь так? – не унимался Робби.
– Да, эти убийства действительно имели место. Но, Робби, пожалуйста, давай не будем в это углубляться.
Почему он вдруг почувствовал себя так, как будто сделал что-то дурное? До конца урока он не проронил ни слова. Училка бросала на него проницательные взгляды. Когда звонок поднял его на ноги, она наконец сказала:
– Робби, задержись, пожалуйста.
Он застыл у своей парты, словно кукла, а потом она отвела его к директору. Наверное, кто-то рассказал, что он ходил по школьному двору, изображая Чаки, но почему тогда Дункан не идет рядом с ним? Это он сейчас должен идти по коридору, словно убийца к месту казни, это на него должны глазеть и о нем испуганно перешептываться. Робби и его надзирательница почти подошли к кабинету миссис Тодд, когда он вдруг понял, что они не имеют права так поступать с ним – при разговоре непременно должна присутствовать его мать. Но она была в кабинете.
Она выглядела еще более расстроенной, чем две другие женщины, и он повернулся к миссис Пиктон:
– Вы сказали, это всего лишь фильм.
– Что ты смотрел? – спросила его мать.
– Я не смотрел их все. Дункан видел больше. И ничего нам от них не сделалось. Все как она говорит – это всего лишь легенды, байки. Это просто идиотские фильмы.
– И ты был так занят их просмотром, – сказала миссис Тодд, – что перестал делать домашнюю работу?
– Я все делал. Кто говорит, что я не делал?
– Твоя учительница нашла ее в Интернете, – грустно ответила мать Робби.
Робби почувствовал, что его череп трескается, будто пластиковый.
– Я только читал там, как в учебнике.
– Работа была переписана практически дословно, – сказала миссис Пиктон. – Как будто ты сам хотел, чтобы тебя уличили.
– И чем ты только забиваешь свою голову? – Это было скорее горестное восклицание, а не вопрос.
– Попробуй обратить свою умственную энергию на учебу. Именно в это русло ее следует направлять, – сказала миссис Тодд. – На первый раз мы ограничимся предупреждением; но любой следующий проступок приведет к гораздо более серьезным последствиям. Запомни это, пожалуйста, и постарайся больше не подводить ни себя, ни мать, ни школу.
– И делай домашнюю работу как следует, – добавила миссис Пиктон.
Когда они с матерью шли по двору, она самозабвенно играла в безмолвного тюремщика. Как только она скрылась за воротами, к нему подошел Дункан.
– Чего они от тебя хотели?
– Да это из-за домашних заданий.
– Фигово было?
Робби скопировал улыбку Дункана, поскольку не понял, о чем тот говорит – о домашней работе или о беседе в кабинете директора.
– Адски жестко.
Улыбка Дункана стала шире и снова отразилась на лице Робби. Они опять начали соревнование – у кого ухмылка шире. Проходившая мимо девочка бросила:
– И как вы думаете, на кого вы похожи?
– На Чаки, – хором сказали они и продолжили ухмыляться до тех пор, пока Робби не почувствовал, что его щеки трескаются, словно пластик.
Он не мог ходить так весь день, хотя губы у него чесались под взглядами учителей. Уроки казались нескончаемыми, но все равно в конце концов закончились. Куда ему идти, как не домой? Он не боялся матери – ведь Чаки же он не боялся, а она боялась. От ее ворчания у него еще больше разболится голова – и он подумал, что можно прогуляться, перед тем как пойти домой.
На металлических скамейках возле квартала магазинов по четверо сидели пенсионеры. Они настороженно взирали на школьников, дерущихся на автобусной остановке и швыряющихся друг в друга мусором. Заметив зловещее лицо в маленьком магазине через дорогу, Робби остро почувствовал, что они смотрят и на него. Он перебежал дорогу перед мордой автобуса, забитого детьми, и, воодушевленный лицом в витрине, продемонстрировал водителю лучшую из своих улыбок. Круглая резиновая маска была испещрена швами и шрамами, но Робби не был уверен в том, что они расположены так, как следует. Чем дольше он смотрел на нее, тем лукавее становилась ее ухмылка. Он подумал, что было бы здорово надеть ее, когда мать будет его отчитывать. Но она не позволит ее купить, как и не позволит купить даже одну петарду из того огромного множества, что были выставлены в нижней части витрины. А что, если она не узнает? Он станет носить ее, когда она будет уезжать к Мидж на свои собрания. Денег не хватало, но в его комнате у него была заначка, и поэтому он направился домой.
Не успел он закрыть за собой дверь, как мать вышла в коридор.
– И что ты делал на этот раз?
– Ничего. Шел домой.
– Я тебе больше не верю. Кто придумал сделать именно то, что я категорически запрещаю?
– Ну… Мы оба. – Робби бросил рюкзак на ступеньки и тут же понял, что он загораживает ему путь, как и мать и ее велосипед. – Не говори его маме, что я рассказал про него, ладно? Ты ведь можешь не говорить. Пожалуйста, не говори.
– А почему? Ты боишься, что он может что-нибудь выкинуть, после того как вы посмотрели эти фильмы?
– Нет, конечно. Это глупо. Зачем вы хотите запретить людям их смотреть? Они ведь даже не страшные, и только маленькие дети могут из-за них начать вести себя нехорошо.
– Я бы на твоем месте не улыбалась. Ты правда так думаешь? Тогда взгляни вот на это. – Она схватила свой рюкзак, вытащила оттуда мятые листы и сунула один из них ему. – Ну, что ты теперь скажешь?
Это была статья о девочке, которую замучили в Манчестере. Робби решил было, что должен сказать, кто были ее мучители – монстры или же просто типичные представители мужского пола; но тут он понял, что в прошлый раз ускользнуло от его внимания: подростки, слушавшиеся голоса Чаки, были на несколько лет старше него. Как жалко, что у него нет маски Чаки, чтобы спрятать под ней лицо. Все, что он смог промямлить, было:
– Среди них были и девочки.
– Это показывает, насколько ужасны эти фильмы. Поэтому их и следует запретить. Я теперь не могу оставлять тебя одного.
– Почему?
– Я уже почти жалею, что тут нет твоего отца. Неужели ты превращаешься в чудовище, с которым не будет никакого сладу? Неужели я больше никогда не смогу тобой гордиться?
Робби наклонился за рюкзаком, чтобы она не увидела его лица.
– Пойду делать домашнее задание, – пробормотал он.
И хотя он хотел возиться с уроками не больше обычного, переписывание эссе по истории ненадолго отвлекло его от его страхов: а вдруг учительница английского тоже обнаружит, что он скопировал работу с Интернета; а вдруг Дункан узнает, что он его сдал; а вдруг эти фильмы все же могут на них повлиять, потому что им, оказывается, не так уж много лет. Спицы нервов протыкали и протыкали вялый студень его мозга, и он обрадовался, когда мать позвала его обедать.
Наверное, она чувствовала себя виноватой, потому что приготовила бургеры с индейкой, его любимые. Они закончили обед и, ставя чатни в холодильник, его мать сказала:
– Ну вот, смотри, что из-за тебя получилось.
Она, словно курица, засунула голову в холодильник так, что ее шею можно было прищемить дверью.
– Что? – спросил Робби.
– Я забыла купить апельсинового сока на завтрак.
Ножки его стула в компании с линолеумом издали такой визг, какому позавидовала бы жертва самого жестокого маньяка, и Робби сказал:
– Я схожу.
– Но только быстро – одна нога здесь, другая там.
Он побежал наверх, скрипнул дверью ванной, а затем пробрался в свою комнату. Его шаги были легки, как падающий полиэтиленовый пакет. Деньги были в его комнате единственным секретом; не то чтобы их было много – меньше половины сдачи, которую он припрятал, когда в последний раз ходил в магазин. Он засунул руку в щель между шкафом и стеной, и под пальцами заскрипела пыль. Он спустил воду в туалете и сбежал вниз. Там его встретила мать.
– Только не вздумай болтаться где-нибудь, – сказала она.
Он бежал в магазин и чувствовал, как лицо меняет свою форму, чтобы маска оказалась ему впору. Что он сможет сделать с ее помощью? Он подумал о том, как будет здорово заглядывать в окна, смотреть на телевизоры, где может прятаться Чаки, и его улыбка стала шире. Однако она завяла, когда он добрался до улочки, ведущей к Стрэнду. Окна в магазине, где продавались маски, были темными.
Дверь не поддавалась. Робби долго и громко стучал, но никто не ответил.
– Чего ты улыбаешься? – спросил он, но маска его не слышала. Казалось, ей нравилось, что он попал в трудное положение, или, быть может, она усмехалась собственным тайным мыслям. А если он просто разобьет окно и освободит Чаки таким способом? Он огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого и заодно удостоверился, что улица пуста. И в этот момент Робби понял, что именно он собирается сделать. Во рту у него пересохло, как будто он покурил травы.
Неужели маска вложила эту мысль ему в голову? Чем еще завладел Чаки? Робби вспомнил, как хотел надеть маску перед разговором с матерью, и тут же увидел ее шею в гильотине холодильника. Пустые глазницы маски засветились – они как будто ожили от этого воспоминания. Это над крышами домов вспыхнули и разлетелись фейерверки. Робби отпрянул от окна и побежал к продуктовому магазину за углом.
Похоже, фейерверки в небе были предзнаменованием. Они выстроились и под стеклянным прилавком. Робби показал на них пачкой сока:
– И одну такую.
Он решил было, что все, не продадут, но женщина за прилавком, должно быть, просто ждала от него слова «пожалуйста». Так и не дождавшись, она положила петарду перед ним. Робби сказал:
– И спичек.
Вторым шансом отказать ему она тоже не воспользовалась. Робби расплатился и вернулся на перекресток. Если на другой улице кто-нибудь есть, у него ничего не выйдет – но там не было даже машин. Он будто мимоходом подошел к магазину и поджег петарду.
Покрытая шрамами маска, казалось, искоса глядела на него, когда он просунул длинную картонную трубку в щель для писем и резко бросил ее вправо. Петарда упала в витрину. Через несколько мгновений из нее брызнули искры, занялись остальные фейерверки. В фильмах Чаки никогда не удавалось сжечь, но все равно – шанс уничтожить его лицо оставался. Когда взрывы фейерверков потрясли окно, маска начала корчиться от страха. Стекло выдержало, но маски скользнули вниз и упали прямо в огонь. Языки пламени вырвались из глаз Чаки. Глазницы маски увеличивались, чернели, пустели, затем беспомощное перевернутое лицо начало распадаться, как будто стали рваться скрепляющие его швы. Остатки маски принялись ворочаться и пузыриться, словно крупные личинки, попавшие на жаровню. Робби со всех ног побежал домой.
Он совершил вроде бы плохой, но одновременно очень хороший поступок. Его мать могла бы гордиться им, но разве можно было ей рассказать? Он непростительно долго вставлял ключ в замок, прикидывая в уме, заподозрит она что-нибудь или нет. Закрыв за собой дверь, он услышал каркающий голос.
Это была подружка Чаки. Робби не успел придумать, как на это следует реагировать, потому что в этот момент на него налетела мать – словно обезумевший от ярости маньяк.
– И куда ты пропал на этот раз?! Сколько надо времени, чтобы купить сока?
Он понял, что она смотрела телевизор – «Симпсонов».
– Там магазин горел, – сказал он.
– И что, надо было обязательно остановиться поглазеть?
С каменным лицом Робби прошел в кухню и с таким же лицом вернулся обратно в гостиную. Он сел смотреть мультфильм вместе с матерью, но, как ни старался, не мог понять, что там происходит. Он смеялся на тех местах, на которых смеялась его мать, то есть каждый раз, когда каркала Мардж Симпсон. Он пялился в экран, как будто там могли показать, что ему делать дальше, и тут пиликнул его мобильник. Когда он нажал на кнопку, мать наклонилась к нему, чтобы прочитать сообщение. «Чаки сжог магаз», – информировал его Дункан.
– Что это значит? – с подозрением спросила мать Робби.
Робби счел, что умнее всего будет просто пожать плечами. Она уже снова хихикала над репликами Мардж, когда зазвонил телефон.
– Это опять Дункан? – вскипела она и убрала звук телевизора. – Включи громкую связь.
Мардж в это время открывала рот на экране. Мать Робби как будто озвучивала ее. Ему стало слегка не по себе. Он нажал на кнопку громкой связи, голос Дункана оказался с ними в одной комнате.
– Тот магазин, о котором девчонки говорили… он горит! – кричал Дункан на фоне шума толпы. – Дуй быстрее сюда – посмотришь.
– Я видел.
– Ты видел Чаки? Его там теперь нет. Может, он сам его поджег и сбежал.
– Нет, это не он! – Удивленная тем пылом, с каким он отозвался, мать Робби нахмурилась, и он поспешно добавил: – Он только в фильмах бывает.
– До тех пор, пока его кто-нибудь не выпустит.
– Ну, пока. Мне надо идти, – сказал Робби и отключил Дункана.
Ему еще нужно было взглянуть матери в глаза.
– Он что, хотел сказать, что это он поджег магазин? – спросила она.
– Это не он.
– Откуда ты знаешь?
– Там висела маска Чаки. Он хотел ее купить. Теперь она сгорела.
Он выдержал еще несколько долгих секунд, и накал в ее зрачках ослаб.
– Пожалуйста, Робби, не смотри больше таких фильмов.
– Не буду.
– Даже близко к ним не подходи.
В это мгновение Робби сообразил, что еще можно сделать, и испугался, что она заставит его дать обещание. Но она взяла пульт от телевизора, и голос куклы опять стал слышен. Он – и еще голос Чаки – продолжал звучать у него в голове и после того, как мультфильм закончился, но теперь он знал, как их заткнуть. Его мать начала смотреть передачу о женских приютах. Робби пошел спать.
– Спокойной ночи. Выспись как следует, – сказала она. – Нас завтра ждут великие дела.
Она даже не представляла себе, какие великие дела его ждали. Он и сам этого до конца не представлял. Лежа в постели, он видел лицо Чаки. Оно чернело и пузырилось, пытаясь выползти из пламени. Из-за него он не мог как следует уснуть – все вскакивал, словно марионетка, которую кто-то все время дергает за ниточки. Он боялся, что за завтраком мать начнет его допрашивать, но она либо привыкла к красноте его глаз, либо была слишком погружена в свои мысли, чтобы ее заметить. Каждый раз, когда она глядела на него, он старался не улыбаться, и в конце концов ускользнул из ее поля зрения, перейдя в гостиную, чтобы делать домашнюю работу.
В работе по английскому Робби должен был написать о фильме. Было бы интересно написать что-нибудь о Чаки, но он не знал, что можно о нем сказать. Он написал о «Симпсонах», хотя ему трудно было удержаться от того, чтобы не упомянуть о голосе Мардж. Он все же не написал об этом ни слова и почувствовал себя так, будто у него на лице маска. Он пытался сосредоточиться на эссе, когда, словно сигнал тревоги, в холле зазвонил телефон.
А вдруг кто-нибудь видел, как он поджег магазин? Поверит ли ему полиция, если он расскажет, почему он должен был это сделать? Он услышал, как мать взяла трубку, но не мог различить ни слов, ни даже интонации. Он написал еще несколько слов, прислушиваясь к ее шагам в холле. Наконец она открыла дверь.
– Мидж хочет устроить сегодня пикет возле кинотеатра. Что мне с тобой-то делать?
Он придумывал ответ, а в это время его мобильник полз по столу. «Че седня делаеш», – хотел знать Дункан. Робби не мог ему сказать. Он ощущал собственный череп тонким, словно пластик. Они с матерью молчали до тех пор, пока не зазвонил телефон.
– Дай-ка и я послушаю, – сказала мать.
Робби включил громкую связь. Дункан сказал:
– Ты чего не отвечаешь, дрыхнешь, что ли?
– Нет. Уроки делаю.
– Ну-ну. Все равно умнее не станешь. – Робби не ответил, и тогда Дункан сказал: – Мамка меня сегодня на пикет с собой берет. Веселуха, наверно, будет. Не хочешь пойти?
Отрицательный жест матери Робби был таким же строгим, как и ее взгляд.
– Не могу, – сказал он.
– Почему? Что будешь делать?
– Уроки, – сказал Робби – единственный безопасный ответ, который он смог придумать. – Надо некоторые домашние задания заново сделать.
– Хорошо, – сказала мать, когда он закончил разговор. – Я поверю тебе. Тебе не обязательно идти со мной сегодня.
Она не хотела, чтобы он виделся с Дунканом. Робби как будто оказался в фильме, где все уже предопределено сюжетом. По сюжету несколько часов ничего не должно было произойти, и он сходил с матерью за покупками, а остальное время просидел в гостиной. Ему казалось, что за обедом он слишком часто улыбается. Затем она ушла, велев ему убрать со стола и вымыть посуду. Он подождал, пока она не отъехала подальше, а затем и сам вышел из дома.
Он мог бы взять ее велосипед, но она пристегнула его цепью к лестнице. Он направился к автобусной остановке. В воздухе висел смрад силосных зернохранилищ, он был похож на запах расплавленного пластика. Вверху возникали горящие птичьи лапы, они оставляли черные следы – то ли в небе, но ли на сетчатке его глаз. С грохотом опрокинулся камень на могиле Чаки, и кукла вылезла на свет божий – нет, это просто свалили у реки железный лом. Подъехал автобус и увез его в Ливерпуль, но он сошел, немного не доехав до многозального кинотеатра, расположенного в районе доков.
Возле него толпился народ – компании студентов, парочки людей постарше, одиночки с журналом «В поисках ужаса» в руках. На обложке журнала было лицо Чаки. Всех их встречали у входа женщины, размахивающие плакатами следующего содержания: ДЕТИ, А НЕ ЧАКИ; СТРАХ ВРЕДЕН ДЛЯ ПСИХИКИ, ДУМАЙТЕ О ДЕТЯХ, А НЕ О ФИЛЬМАХ; ОГРАДИТЕ НАШИХ ДЕТЕЙ ОТ САДИЗМА… Какой плакат держала его мать, Робби не увидел, так как быстро зашел за угол соседнего жилого здания.
Этот элитный дом был огорожен электрическим забором. Робби прошмыгнул мимо него вдоль реки. Он мог поручиться, что никто не видел, как он обогнул забор и подобрался к кинотеатру с тыла. А затем сюжет, который он разыгрывал, казалось, изменил ему. Все задние двери кинозалов были заперты, и боковые тоже. Ему не удалось проникнуть в здание и через ближайший к пикетам вход. Пикетчики принялись скандировать: «Чаки-Чаки – вон! Чаки-Чаки – вон!» – и колотить древками плакатов по бетону. Кто-то пытался их урезонить. Робби выглянул из-за угла и увидел, что это был менеджер. С ним было немало сотрудников кинотеатра. Пикетчики заорали еще громче. Где-то среди них были его мать и мать Дункана, но никто не видел, как он через ближайшую к углу переднюю дверь проскользнул в кинотеатр.
С пикетчиками воевал почти весь персонал, а девушки в кассе обращали внимание только на очередь покупающих билеты. Даже у входов в кинозалы никого не было. За стойкой с попкорном стояли продавцы, но они были заняты клиентами. Робби прошел мимо них – не слишком быстро и не слишком подозрительно – в коридор, где висели плакаты, указывающие, в каком зале какой фильм идет. Он не нашел нужный плакат, но зато услышал голос Чаки.
Он доносился из-за двери с табличкой «Только для персонала». Оглядевшись по сторонам, Робби убедился, что коридор пуст. Затем открыл дверь и вошел. Дверь закрылась за ним. Ему казалось, что он попал не просто в фильм, а в какой-то сон, который он недавно видел – или видит прямо сейчас. Он оказался там, где мечтал оказаться – в киноаппаратной.
Киномеханика в комнате не было. Шесть проекторов – по два на каждый зал – выстроились перед карликовыми оконцами у длинной дальней стены комнаты. Веселый насмешливый голос привел Робби ко второму аппарату слева. Через пустое оконце рядом с проектором он увидел лицо Чаки – огромное, нависающее над притихшей в темном зале публикой. Они смотрели документальное кино про то, как создавались фильмы с Чаки. Все пять его лент в плоских жестянках были сложены стопкой рядом с проектором.
Робби снял со стены оба огнетушителя и положил их рядом с проектором. На столе возле двери лежал какой-то киношный журнал, он разорвал его и набросал обрывки между огнетушителями. Подцепил крышку верхней жестянки с пленкой и вывалил ее на пол. Она кольцами обвила кучу бумаги. Он слышал отдаленное скандирование и слаженные удары палок о землю, и это заставило его поторопиться. К тому времени, как он опустошил все контейнеры с пленкой, его ногти саднили от открывания крышек, а руки болели от переворачивания тяжелых жестянок. Из-за лежащих огнетушителей бесконечные кольца целлулоидной пленки не до конца погребли под собой рваную бумагу. Наверное, Чаки сам хотел, чтобы его поймали – чтобы его остановили. Робби достал из кармана коробок и зажег спичку.
Бумага занялась сразу. Она ярко разгорелась под грудой пленки. Секунду спустя вспыхнул и целлулоид. Чаки еще что-то вещал в колеблющейся тьме – но скоро он замолчит. Робби хотелось посмотреть, как пламя доберется до пленки в проекторе, но огонь мог его отрезать от двери. Или его мог застукать киномеханик. Комната стала наполняться вонью горящего пластика. Выскользнув в коридор, он задержался возле туалетов – как будто дожидался кого-нибудь – и увидел, как в дальнем конце коридора появился мужчина и поспешил в киноаппаратную.
На мгновение Робби задумался, не предупредить ли его, но затем решил, что киномеханик наверняка смотрел все фильмы Чаки, когда проверял пленки. Киномеханик открыл дверь, воскликнул что-то нечленораздельное и рванулся в комнату. Дверь закрылась за ним, пыхнув густым клубом дыма. Все стихло, кроме криков пикетчиков. Робби находился уже у бокового выхода, когда в коридор выскочила фигура, покрытая пламенем и частично состоящая из него.
Наверное, это была кукла. С нее облетал горящий пластик. Или это были кусочки кинопленки? Она не кричала; из ее горла вместо крика вырывалось только хрипение и клокотание. Может быть, ее лицо уже расплавилось? Она металась по коридору и, удаляясь, становилась все больше похожей на марионетку – ее руки на ниточках то хватались за полыхающий череп, то поднимались вверх, то хлопали по пластиковому телу. Она почти исчезла в дальнем конце коридора, когда из кинозала вышла женщина с детьми. Вот они закричали – да как закричали! Робби пришлось прикрыть улыбку рукой – так ему понравилась их реакция. Закрыть лицо ладонью – это почти то же самое, что надеть маску. Не переставая кричать, они исчезли в кинозале, а марионетка упала ничком. Робби вышел из кинотеатра.
Пикетчики все выкрикивали свое «Чаки-Чаки – вон!» и стучали плакатами. Он мог бы сказать им, что ничего этого уже не нужно, что он уже все сделал, – но вдруг его неправильно поймут? Он скрылся за углом ближайшего здания. Разрывающиеся в небе фейерверки отмечали его триумф. С верхнего этажа автобуса он видел, как из всех выходов кинотеатра выбегали люди, как уменьшалось количество плакатов над толпой. Вот исчез последний плакат, и он почувствовал, что это случилось в его честь.
Робби посильнее захлопнул за собой входную дверь дома, отсекая запах расплавленного пластика. Он чувствовал себя опустошенным, но в хорошем смысле – как после отлично выполненной работы. Он дремал в постели, пока не услышал, что мать пришла домой, а затем уснул. Ему ничего не снилось, и он не проснулся, даже когда в церкви стали бить в колокола. Может, они звонят по Чаки. Еще, кажется, он слышал телефон. Когда Робби открыл глаза, мать стояла в дверях его комнаты.
– Неплохо ты поспал, – сказала она. – Моя няня говорила, что хорошо спят только те дети, которые хорошо себя ведут.
Мог ли он рассказать ей, насколько хорошо он себя вел? Он проверил, как функционируют губы, а она сказала:
– Ты все пропустил.
Он открыл было рот, но она продолжала:
– Да и хорошо, что тебя там не было.
– Почему?
– В кинотеатре случился пожар. Полиция считает, что это поджог. Они хотят с нами побеседовать.
Но они же не поймут! Она должна услышать это первой. Робби уже собрался открыть ей свою тайну, когда она сказала:
– Один из сотрудников кинотеатра обгорел при пожаре. Мидж только что звонила и сообщила, что он умер в больнице. Мы все собираемся у нее. Твой завтрак на столе.
То есть она не имела в виду, что полиция будет допрашивать его. Он должен был раньше понять, что мать не видит всего того, что творится вокруг. Ей было жаль киномеханика, и, возможно, он не заслуживал смерти. Но все же это было необходимо сделать. Она сказала:
– Я опять забыла купить сок.
– Я сам куплю.
– Ты хороший мальчик. Таким и оставайся, – проговорила она и ушла вниз.
Как только она вывела велосипед из дома, Робби встал и направился в ванную. Ему еще надо много всего сделать. Это была печальная обязанность – если стоит печалиться о людях, превратившихся в куклы. В зеркале его лицо не выглядело грустным. Оно вообще ничего не выражало – обычное лицо, единственная маска, которая ему нужна. Он внимательно смотрел на него, когда запел его телефон.
Мир и покой наступят еще не скоро, но они обязательно наступят.
– Надо было тебе пойти вчера, – сказал Дункан.
– А что такое?
– Наши мамки чуть не подрались с сотрудниками кинотеатра. И кто-то устроил пожар, и полкинотеатра сгорело. Там еще какой-то дядька обгорел. Расскажу тебе все подробно, когда увидимся. У меня есть такая дурь, что у тебя крышу снесет.
«Дункан стал таким, потому что слишком много смотрел фильмы про Чаки», – подумал Робби.
– Где? – спросил он.
– В парке. Я нашел место, где нас даже с собаками не отыщут. Ты идешь?
– Мне надо сначала сходить в магазин.
– Снова пай-мальчика перед мамкой изображаешь?
– Увидишь, какой я пай-мальчик. – Робби знал, что Дункан улыбается во весь рот. Они оба будут так скалиться, когда встретятся. Но его улыбка будет не такая, как у Дункана, – это будет маска, потому что он полная противоположность Чаки.
– Это не займет много времени, – сказал Робби. – Я скоро приду.
Послесловие
Чаки и фильмы с ним стали настоящей темной ливерпульской легендой. Газеты приписали убийство Джеймса Балджера, совершенное в Мерсисайде в 1991 году двумя десятилетними мальчиками, влиянию «Детской игры – 3», хотя ни тот ни другой этого фильма не видели и он не упоминался во время следствия и суда. (В действительности это убийство скорее вызывает ассоциации с фильмом «Один дома», в котором десятилетний Маколей Калкин развлекает зрителей, подвергая взломщиков мучениям, очень похожим на те, которые три года спустя испытал Джеймс Балджер.) Все последующие фильмы про Чаки были запрещены к показу в кинотеатрах Ливерпуля. Газетные статьи, упомянутые в моем рассказе, существуют на самом деле. Видео о похищении Джеймса Балджера можно увидеть на YouTube в сопровождении популярной песни.
О Рэмси Кэмпбелле отзываются как о «наиболее уважаемом ныне живущем британском писателе, работающем в жанре ужасов». Он получил больше наград, чем любой другой писатель этого жанра, включая премию «Грандмастер» Международного конвента любителей ужасов, премию «За прижизненные достижения» Ассоциации писателей в жанре ужасов и премию «Живая легенда» Международной гильдии ужаса. Его недавно написанные романы – это «Самая темная часть леса» («The Darkest Part of the Woods»), «За одну ночь» («The Overnight»), «Тайная история» («Secret Story»), «Ухмылка мрака» («The Grin of the Dark»), «Вороватый страх» («Thieving Fear»), «Ливерпульские создания» («Creatures of the Pool») и «Семь дней Каина» («The Seven Days of Cain»). Его рассказы представлены в сборниках «Кошмары наяву» (Waking Nightmares), «Наедине с кошмарами» (Alone with the Horrors), «Призраки и другие неприятные вещи» (Ghosts and Grisly Things), «Рассказано мертвыми» (Told by the Dead) и «У тебя за спиной» (Just Behind You), а его нехудожественная проза собрана в книге «Рэмси Кэмпбелл, вероятно» («Ramsey Campbell, Probably»). Его романы «Безымянные» («The Nameless») и «Договор отцов» («The Pact of the Fathers») были экранизированы в Испании. Он ведет свою колонку в All Hallows, Dead Reckonings и Video Watchdog. Он является президентом Британского общества фэнтези и Общества фантастических фильмов.
Рэмси Кэмпбелл живет в Мерсисайде со своей женой Дженни. Любит классическую музыку, вкусную еду, хорошее вино и покурить трубочку – чем бы она там ни была набита. Его интернет-сайт: .
Кэмпбелл – писатель, чье творчество отличается неизменно высоким качеством, несмотря на то, что пишет он очень много. Его влияние на жанр ощущается уже в течение нескольких десятилетий, практически со дня первой его публикации (в молодости, в самом начале писательской карьеры, он сам был слишком подвержен влиянию Лавкрафта), и его новые произведения тоже не остаются незамеченными читателями и критиками. Действие многих его рассказов происходит в Англии.
Джо Лансдэйл Складной человек
Они возвращались с вечеринки, посвященной Хеллоуину, и уже давно сняли свои маски. Кроме Гарольда, никто не пил, да и он был не настолько пьян, чтобы ничего не видеть вокруг себя, – лишь настолько, чтобы почти лежать на заднем сиденье и по какой-то неизвестной причине повторять клятву верности флагу, которую он толком не помнил. Он вставлял ее в куплеты государственного гимна, а когда тот закончился, принялся горланить клятву бойскаута – он успел ее выучить до того, как его выперли из организации за поджог соседского сарая.
Несмотря на то, что Уильям, сидевший за рулем, и Джим, сидевший впереди рядом с ним, были совершенно трезвыми (как и положено баптистам), они тоже находились в состоянии послепраздничной эйфории. Они кричали, свистели и размахивали руками, а Джим спустил штаны и показал задницу черной машине с монахинями, которую они как раз обгоняли.
Странно было видеть такую машину на дороге. Джим не мог определить ее марку. У нее был какой-то зловещий вид. Она напомнила ему автомобили из старых фильмов – на таких, визжа шинами на поворотах, ездили гангстеры. Только эта была еще больше, с широкими окнами, через которые он видел монахинь – ну или, по крайней мере, мог различить, что это монахини: в машине словно расположилась целая стая пингвинов.
А произошло это так. Они нагоняли черную машину, и Джим сказал Уильяму:
– Дружище, давай к ним поближе, я им сейчас жопу покажу.
– Но они же монахини!
– Вот в этом-то и прикол, – сказал Джим.
Уильям повернул руль вправо, а Гарольд на заднем сиденье завопил:
– Большой Каньон! Большой Каньон! Покажи им Большой Каньон… Слушайте, а вы видите…
Джим спустил штаны и забрался с ногами на сиденье, так, чтобы его задница оказалась напротив окна. Когда они проезжали мимо монахинь, Уильям нажал на кнопку, и стекло опустилось. Джимова задница вывалилась наружу – торчащая из окна подрагивающая луна.
– Они смотрят? – спросил Джим.
– Смотрят, – сказал Уильям. – Только они, похоже, не очень-то удивились.
Джим натянул штаны, сел нормально и посмотрел в окно. Точно, совсем не удивились. Затем произошла странная вещь: одна из монахинь показала ему средний палец, остальные последовали ее примеру.
– Ни фига себе! Вот это монахини, – воскликнул Джим.
Теперь он смог их хорошо рассмотреть – фары выхватили из сумрака их лица, уродливые, как смерть от заразной болезни, и суровые, как погодные условия. Особой красотой отличалась та, что сидела за рулем. От такого лица часы остановятся и пойдут в обратную сторону, а дерьмо поползет вверх по кишкам.
– Ты это видел? Они мне палец показали, – сказал Джим.
– Видел, – кивнул Уильям.
Гарольд наконец вспомнил все слова гимна и теперь самозабвенно пел его, после последнего куплета без всякой паузы переходя снова к первому.
– Во имя всего святого, – взмолился Уильям. – Гарольд, заткнись.
– Знаешь что, – сказал Джим, глядя в зеркало заднего вида. – Кажется, они поехали быстрее. Они нас догоняют. Черт, а вдруг они наш номер хотят записать? А вдруг уже записали? Если они позвонят в полицию, моей провинившейся заднице не поздоровится.
– Ну, если они еще не записали номер, – сказал Уильям, – то и не запишут. Моей детке есть что показать.
Он надавил на педаль газа. Машина зарычала, будто ей не понравилось такое обращение, и рванулась вперед.
– Эй, да вы обалдели, что ли?! – завопил Гарольд с заднего сиденья.
– Пристегнись, раззява, – сказал Джим.
Машина Уильяма пожирала дорогу. Она взлетела на холм и нырнула вниз, словно дельфин, катающийся на океанской волне. Джим подумал: «Пока, пингвины», – и посмотрел назад. Автомобиль с монахинями был уже на гребне холма, его фары злобно сверкнули. Он набирал скорость и двигался почти неуловимыми для глаза рывками, как будто исподтишка воровал пространство.
– Вот это да! – удивился Уильям. – А их катафалк тоже кое-что может. Эти тетки неплохо жмут.
– Какая у них машина? – спросил Джим.
– Черная, – сказал Уильям.
– Ха! Тоже мне знаток.
– А ты сам-то знаешь?
Джим не знал. Он снова посмотрел назад. Машина с монахинями была уже близко: черный, блестящий под луной зверь на колесах нависал над машиной Уильяма, его фары заливали салон ярким белым светом. Джим ощущал себя рыбкой в аквариуме, который поставили посреди театральной сцены.
– Да что у них там под капотом?! – воскликнул Уильям. – Гипердрайв?
– Эти монахини, – сказал Джим, – они, похоже, серьезно настроены.
– Поверить не могу. Они у меня на бампере сидят.
– Притормози. Это заставит их сбросить скорость.
– Нельзя – слишком близко, – проговорил Уильям. – Как бы кишки по дороге не размазать.
– Разве монахини так могут поступать?
– Эти могут.
– А! – сказал Джим. – Я понял. Хеллоуин. Это не настоящие монахини.
– Тогда давайте зададим им жару! – крикнул Гарольд и, когда монахини стали обгонять их справа, опустил окно. Стекло на машине монахинь тоже ушло вниз, Джим повернулся посмотреть – монахиня и правда была уродливой, даже еще уродливей, чем он думал. Она выглядела не очень-то живой, и ее одеяние было не черно-белым, а лилово-белым. Или это так казалось из-за лунного света и света фар. Губы монахини разошлись, открывая зубы – длинные и такие желтые, как будто она смолила сигареты десять жизней подряд. Один ее глаз был похож на протухшую фрикадельку, а ноздри смотрели вперед, словно пятак у свиньи.
Джим сказал:
– Это не маска.
Гарольд высунулся из окна и, размахивая руками, завопил:
– Ты такая уродина, что тебе, наверно, приходится ловить трусы по всей комнате, чтобы их надеть!
Гарольд продолжал распинаться, и некоторые из его фразочек вполне соответствовали действительности, как вдруг одна из монахинь, та, что сидела ближе всего к окну, привстала и потянулась к Гарольду. В руках у нее оказался обрезок доски – или, скорее, бруска сечением два на четыре дюйма. Рукава ее монашеского одеяния задрались выше локтей, и Джим заметил, что руки у нее тонкие, как палки, и бледные, как рыбье брюхо, а сами локти узловатые и сгибаются не в ту сторону.
– Быстро залезь обратно! – крикнул Джим Гарольду.
Гарольд взмахнул руками и проорал что-то еще, но тут монахиня ткнула бруском, который из-за неправильности ее локтей врезался в его голову под странным углом. Раздался хруст – то ли бруска, то ли черепа Гарольда, – и он упал вперед, животом на опущенное окно. Его колени колотились о дверь, задница висела в футе от пола, одна нога болталась в воздухе. Асфальт срывал кожу с его пальцев.
– Монахиня ему двинула, – сказал Джим. – Доской.
– Что? – не расслышал Уильям.
– Ты глухой? Она ему двинула.
Джим отстегнул ремень безопасности, перегнулся назад и втащил Гарольда за рубашку обратно в машину. Голова Гарольда выглядела так, будто ее раздавили в тисках. Повсюду была кровь.
Джим сказал:
– Уил, кажется, он мертв.
БАМ!
Джим подпрыгнул от неожиданности. Отпустив Гарольда, он вернулся на свое сиденье и посмотрел в окно. Монахини ехали так близко, что смогли достать доской до машины Уильяма. Черный монстр упорно прижимался к их борту.
Еще один взмах доски – и боковое зеркало разлетелось вдребезги.
Уильям попытался вырваться вперед, но машина монахинь держалась рядом, оттесняя его влево. Потом они ударили Уильяма в борт, его развернуло и бросило на обочину. Машина сделала боковое сальто и скатилась с насыпи в лес, разбрасывая листья, хвою и грязь.
***
Джим пришел в себя, лежа на спине возле машины. Он пошевелился, и все завертелось, затем медленно собралось вместе и обрело привычные очертания. Его выбросило из автомобиля, как и Уильяма, который валялся неподалеку. Сама машина лежала на крыше, колеса еще вращались, из-под капота вырывались облачка пара – чистые, как отбеленный хлопок. Постепенно колеса остановились, словно старые часы, у которых кончился завод. Лобового стекла не было, три из четырех дверей сорвало и разбросало по сторонам.
Автомобиль монахинь стоял на обочине. Его двери открылись, и монахини вышли. Их было четверо. Они были ненормально высокими, а их колени, как и локти, сгибались не в ту сторону. Наверняка это сказать было нельзя из-за их длинных одеяний, но было похоже на то – да и их безобразные локти наводили на эту мысль. Они стояли на дороге в свете луны, бледные, как пельмени. Их зубы, казалось, выросли еще больше, спины были согнуты, как большие луки, а свиные ноздри жутко и не к месту смотрелись на крючковатых ведьминых носах. Одна из них держала в руках обрезок доски.
Джим подполз к Уильяму, который пытался сесть.
– Живой? – спросил он.
– Да вроде, – произнес Уильям и дотронулся пальцем до кровоподтека на лбу. – Я отстегнул ремень безопасности прямо перед тем, как они в нас воткнулись. Глупо. Не знаю почему. Наверное, хотел выбраться из машины. Голова совсем не варит.
– Смотри, – сказал Джим.
Они посмотрели на дорогу. Одна из монахинь спускалась с насыпи, направляясь к перевернутой машине.
– Если ты можешь идти, – прошептал Джим, – то думаю, нам пора.
Уильям не без труда поднялся на ноги. Джим схватил его за руку и потащил в лес, где они остановились, привалившись спинами к дереву. Уильям сказал:
– Все кружится.
– Скоро остановится, – подбодрил Джим.
– Надо голову охладить. А то я сейчас вырублюсь.
– Погоди, – сказал Джим.
Монахиня, которая спустилась с насыпи, наклонилась позади машины Уильяма и на несколько мгновений исчезла из виду – а затем они увидели, что она поднимается по склону и волочет Гарольда за собой, держа его за ногу. Тело Гарольда волочилось по земле, как будто у него были переломаны все кости.
– Господи боже, – дрожащим голосом проговорил Уильям. – Ты это видишь? Надо ему помочь.
– Он мертв, – сказал Джим. – Они проломили ему голову доской.
– Черт, Джим. Этого не может быть. Они же монахини.
– Вряд ли, – сказал Джим. – По крайней мере, не такие монахини, каких ты знаешь.
Монахиня доволокла Гарольда до черной машины и отпустила его ногу. Другая монахиня открыла багажник и вытащила оттуда что-то похожее на сложенный шезлонг, только больше. Она поставила этот «шезлонг» на землю и пнула его ногой. Сложенный предмет начал со скрипом и стуком раскладываться. Он развернулся – прямой силуэт, наклоненный немного влево. Его глаза, ноздри и рот были просто отверстиями, через которые сквозил лунный свет. Его голова поднялась вверх под давлением похожих на вешалку плеч, а под ними развернулась грудь, похожая на старый проволочный каркас, который в старину использовали для пошива платьев, или, может быть, на птичью клетку, обитатель которой был бы заточен навечно. Стук и скрип не стихали. Снизу выдвинулись длинные кости ног с вывернутыми назад коленями и огромными, забранными в металл ступнями. Тонкие, как палки, руки повисли ниже колен, ударяясь о них, словно ветки о подоконник. Он встал во весь рост, и в нем было не меньше семи футов в высоту. Как и у монахинь, его колени и локти сгибались не в ту сторону.
Монахиня, стоявшая возле багажника, наклонилась и достала оттуда еще что-то – что-то довольно крупное, бьющее крыльями в ночном воздухе. Она держала крылатое существо за когтистые лапы, оно яростно щелкало клювом, высматривая, что бы ему клюнуть. Свободной рукой монахиня открыла грудь складного человека – в центре ее была дверца на петлях – и засунула черное крылатое существо внутрь. Оно забилось там, словно сердце, получившее укол адреналина. Отверстия глаз складного человека заполнило красное свечение, вокруг рта наросли губы, похожие на толстых червей, в ночь вывалился длинный, как гадюка, и темный, как грязь, язык, ноздри с шумом втянули воздух. Одна из монахинь нагнулась, зачерпнула пригоршню глины с обочины и прижала ее к руке складного человека; со скоростью сплетни глина расползлась по его телу, покрывая голые кости плотью земли. Та монахиня, которая вытащила складного человека из багажника, схватила Гарольда за ногу и с легкостью, словно он был надувной куклой для секса, забросила его в черный зев багажника, затем захлопнула дверцу и посмотрела в ту сторону, где, прислонившись к дереву, стояли Джим и Уильям.
Она не то кашлянула, не то что-то сказала, и складной человек начал спускаться с насыпи, двигаясь поначалу неровно и как будто неуверенно. Его суставы скрипели, словно несмазанные шарниры, его конечности двигались с металлическим лязгом, к которому добавлялся тот специфический звук, какой издает с силой скручиваемая проволочная вешалка.
– Бежим! – прохрипел Джим.
***
Джим ощутил боль и понял, что ударился сильнее, чем думал раньше. Болела шея. Болела спина. Очень сильно болела нога. Наверное, он ушиб колено. Уильям, который, уклоняясь от деревьев, бежал рядом, сказал:
– Ребра. Кажется, они у меня сломаны.
Джим обернулся. Позади них, на самой границе леса, подсвеченный сзади луной, был виден складной человек. Он передвигался странными рывками, как будто внутри у него были пружины, и уже развил приличную скорость.
***
Участок леса, по которому они бежали, находился в низине, здесь собиралась вода, почва была мягкой и местами переходила в грязь, на поверхности луж плавали листья. Они шлепали по воде, и брызги разлетались во все стороны, а позади них скрипел и лязгал складной человек. Когда они осмеливались оглянуться, то видели его между деревьев – темный силуэт на фоне серебряных просветов. Для существа своего размера он двигался очень быстро – до тех пор, пока они не добрались до самого дна низины. Здесь ему пришлось несколько замедлить ход, поскольку его большие ступни завязли в грязи. Он с нечеловеческой силой выдирал их из мягкой земли, и каждый его шаг сопровождался чавкающим звуком. Однако через минуту существо приспособилось к местности, его движения стали плавнее, а поступь легче.
Наконец Джим и Уильям добрались до поросшей лесом возвышенности. Выбравшись из грязи, они немного набрали скорость, несмотря на то, что склон, по которому они поднимались, был крутоватым и им приходилось цепляться за ветки деревьев и кустов. Поднявшись наверх и взглянув назад, в низину, они увидели, что им удалось даже немного оторваться от складного человека. Ломая кусты, он продирался сквозь густой подлесок, и это получалось у него довольно медленно. Лунный свет, пробивавшийся сквозь кроны более высоких деревьев, пятнал его тенями их листьев. Но, хотя кусты и замедлили его продвижение, он шел вперед с механической неумолимостью, как будто ему неведомо было чувство усталости. Джим и Уильям оперлись ладонями о колени и постарались отдышаться.
– Если пройти этот лес насквозь – там есть старое кладбище, – сказал Джим. – Возле свалки автомобилей.
– Это где ты прошлым летом работал?
– Да. По кладбищу бежать легче, мы сможем оторваться еще больше. Доберемся до свалки – там живет старик Гордон. У него есть ружье и собака Чавка. Она меня знает. Она эту штуку сожрет.
– А меня она не сожрет?
– Тебя – нет. Ты же со мной. Пошли. Я, кажется, знаю, где мы сейчас. Было время, играл на кладбище и в этом углу леса. Надо двигаться.
***
Местность становилась Джиму все более знакомой, и они побежали еще быстрее. В раннем детстве он жил недалеко отсюда и проводил в этом лесу много времени. Они добежали до выжженной проплешины, которая осталась после пожара, начавшегося из-за удара молнии. Деревьев здесь не было, земля под ногами была черной, и серебряный лунный свет наполнял открытую поляну, словно ртуть черную чашку.
На середине поляны они снова остановились, чтобы отдышаться, и Уильям сказал:
– У меня голова сейчас взорвется… Эй, а этой штуковины что-то не слышно.
– Все равно она где-то позади нас. Вряд ли она так просто от нас отвяжется.
– Бог ты мой, – прошептал Уильям и судорожно вздохнул. – Не знаю, насколько меня хватит.
– Надолго. Нас должно хватить надолго.
– Что это такое, Джим? Какого черта эта штука за нами гонится?
Джим помолчал, затем спросил:
– Знаешь старую байку о черном автомобиле?
Уильям покачал головой.
– Бабушка рассказывала мне о черном автомобиле, который колесит по дорогам всех южных штатов. Он появляется то в одном месте, то в другом. Бывают времена, когда о нем ничего не слышно, но и тогда можно сказать точно: он где-то на дороге. А в Хеллоуин его видят чаще всего. Он всегда за кем-то гонится – и никто не знает почему.
– Чушь собачья.
Джим, не отрывая ладоней от колен, поднял голову:
– А ты сходи к этой щелкающей штуке и ей скажи, что это чушь собачья. И поглядим, как она тебе башку прищемит.
– Но ведь это и правда бессмыслица.
– Бабушка говорила, что до черного автомобиля это была черная карета, а до кареты – одетый в черное всадник на черной лошади, а еще раньше – просто щелкающая, лязгающая и скрипящая тень. Люди исчезают, говорила она, и забирает их черный автомобиль, черная карета, всадник или ходячая тень. Это одно и то же существо, просто выглядит оно по-разному.
– А монахини? Они-то откуда?
Джим покачал головой, выпрямился, вздохнул, проверяя, как работают легкие.
– Это не монахини. Это… не знаю… антимонахини, что ли. Это существо может принимать множество различных форм – так говорила бабушка. Пошли. Нам нельзя надолго останавливаться.
– Еще минуту. Я так устал. И, по-моему, оно нас потеряло. Я его не слышу.
В это мгновение, как будто в ответ на слова Уильяма, послышался лязг, скрип и хруст конечностей складного человека. Уильям взглянул на Джима, и они молча побежали через выжженную поляну к деревьям. Джим оглянулся: складной человек, облитый лунным светом, появился на другой стороне поляны. Он неутомимо двигался вперед, быстро приближаясь.
Они бежали. Впереди выросли белые могильные камни. Многие из них покосились или вовсе лежали на земле – в этом были виноваты корни растущих рядом с ними деревьев. Это было старое кладбище, а значит, до свалки автомобилей было уже недалеко – как и до дробовика Гордона и его злющей псины.
Им пришлось преодолевать еще один подъем, и на этот раз Уильям упал. Он с трудом встал на четвереньки, и его вырвало чем-то черным.
– Господи боже. Джим, не бросай меня… Я сдох… Дышать… не могу.
Джим бежал немного впереди Уильяма. Он вернулся и взял Уильяма за руку, чтобы помочь ему подняться, – и тут складной человек их нагнал. Со скрипом и стуком он схватил Уильяма за лодыжку и дернул его назад, вырвав из рук Джима.
Складной человек с легкостью размахнулся Уильямом и ударил его о дерево. Затем он развернулся и щелкнул Уильямом, словно кнутом, – с такой силой, что шея Уильяма переломилась, а из черепа вылетел один глаз. Складной человек снова развернулся и хлестнул Уильямом о могильный камень. Раздался хруст, как будто на пол упала стеклянная кофейная чашка. Складной человек закружился на месте и стал колотить Уильямом о деревья, так что с них полетела кора, а с Уильяма – клочья одежды и мяса.
Джим умчался оттуда со всех ног. Так быстро он не бегал никогда в жизни. Скоро лес кончился, и он оказался на открытом месте. Под ногами захрустел гравий. Позади него, на опушке леса, появился складной человек. Он приближался, передвигаясь длинными прыжками, – приближался, несмотря на то, что волок за собой изломанный труп Уильяма, держа его за лодыжку.
***
С того места, где Джим находился, он уже видел вдалеке свалку автомобилей. «Может, и добегу», – подумал он. Но ведь вокруг свалки шел алюминиевый забор семи футов в высоту. Высоковато. Затем он вспомнил, что где-то справа от свалки, прямо возле забора, растет клен. Старик Гордон не раз говорил, что надо бы его спилить, а то кто-нибудь переберется по нему через забор и сопрет запчасти, которым «цены нет». Хотя, даже если кто-нибудь и позарился бы на его ржавые железки, ему бы все равно светил заряд из Гордонова дробовика в задницу да здоровенные клыки его псины. Последний раз Джим видел старика полгода назад и надеялся, что тот не перешел от слов к делу и дерево еще стоит на том же месте.
Подбежав ближе, Джим увидел, что клен никуда не делся – он все так же стоял, прижимаясь к блестящей алюминиевой стене. Джим посмотрел через плечо. Складной человек прыгал вперед, словно огромный механический кролик. При каждом его прыжке тело Уильяма, которое он тащил за собой, взлетало в воздух и со стуком и шуршанием ударялось о гравий. Если монстр будет продолжать двигаться с такой скоростью, через несколько секунд Джиму придет конец.
В боку у него резало так, будто там торчал кухонный нож, а сердце так и порывалось выскочить из груди. Он собрал все оставшиеся силы и полетел вперед, надеясь, что милосердный Господь не даст ему споткнуться.
В два рывка он забрался на дерево, перемахнул через забор, приземлился на ржавую крышу автомобиля, спрыгнул с нее и со всех ног бросился в ту сторону, где между шеренгами древних машин и кучами железного хлама виднелось освещенное окно хибары, построенной из досок и алюминиевых листов.
Перед хибарой на него выбежала Чавка – наполовину питбуль, наполовину просто здоровая дворняга. Она зарычала, явно намереваясь наброситься на непрошеного гостя. Джим остановился, – хотя внутри у него все сжималось от страха: малейшее промедление позволяло щелкающему существу, убившему Уильяма, отыгрывать драгоценные секунды, – наклонился, протянул руку и позвал собаку по имени:
– Чавка! Хорошая собака, хорошая. Чавка, это я.
Собака приостановилась, наклонила голову и завиляла хвостом.
– Да-да. Это твой дружище Джим.
Собака подошла ближе, и Джим погладил ее по голове.
– Хорошая девочка.
Джим поглядел через плечо. Ничего.
– Чавка, пошли.
Джим подошел к хибаре и постучал. Через мгновение дверь распахнулась. На пороге хибары, в рабочем комбинезоне, надетом на голое тело, – одна лямка сползла с плеча и висела на сгибе локтя, – стоял мистер Гордон. Он был старый, приземистый и промасленный, словно дизель. Зубов у него почти не было.
– Джим? Какого черта ты здесь делаешь? Ну и вид у тебя.
– Там существо… Оно за мной гонится.
– Существо?
– Да. Оно прямо за забором. Оно убило двух моих друзей…
– Что?!
– Оно убило двух моих друзей.
– Что это за существо такое? Какой-то зверь?
– Нет… Я не знаю, что это такое.
– Сейчас вызову копов.
Джим покачал головой.
– Бессмысленно им сейчас звонить. Когда они приедут, будет уже поздно.
Гордон исчез внутри хибары, но через мгновение опять появился на пороге – уже с помповым дробовиком двенадцатого калибра в руках. Он лязгнул затвором, вышел из хибары и огляделся.
– Ты это серьезно насчет друзей?
– Да. Конечно, сэр. Абсолютно серьезно.
– Ну, тогда сейчас мы с тобой да моя двенашка это проверим.
Гордон пошел вдоль рядов автомобилей, внимательно глядя по сторонам. Джим держался поближе к Гордону. Чавка трусила неподалеку. Пройдя так некоторое расстояние, они остановились. Слева и справа ряды разбитых автомобилей. Впереди блестящий в лунном свете забор. Больше ничего.
– Мне кажется, это существо – или как его там – ушло, – сказал Гордон. – Потому что иначе Чавка давно бы на него набросилась.
– Я думаю, оно пахнет не так, как пахнут люди или животные.
– А ты не разыгрываешь старика? Это часом не шутка, которую вы с приятелями придумали на Хеллоуин?
– Нет, сэр. Двое моих друзей мертвы. Это существо убило их. Какие уж тут шутки.
– Куда же оно тогда подевалось?
Словно в ответ на его вопрос, раздался звук, как будто открывали гигантскую консервную банку. Тонкая рука складного человека проткнула забор и медленно двинулась вверх, разрывая металл. Большой кусок забора отогнулся, а еще через мгновение оторвался совсем и отлетел в сторону. Теперь Джим видел складного человека: он стоял в проломе во весь рост, по-прежнему держа за ногу истерзанное тело Уильяма.
Джим и Гордон не могли пошевелиться.
– Сукин ты сын, – произнес Гордон.
Чавка зарычала и рванулась вперед.
– Чавка сейчас его уделает, – сказал Гордон.
Как раз в тот момент, когда собака прыгнула, складной человек отпустил ногу Уильяма и наклонился вперед. Он поймал ее, выкрутил, словно простыню, засунул свою длинную руку ей в глотку и стал вытягивать ее внутренности. Кишки Чавки полетели во все стороны – складной человек будто вытряхивал конфетти из мешка. Затем он вывернул собаку наизнанку.
Опустошив Чавку, складной человек нагнулся и прицепил ее к крюку, расположенному у него на голени.
– Бог ты мой! – прошептал Гордон.
Существо снова взяло Уильяма за ногу, сделало шаг вперед и остановилось.
Гордон поднял дробовик.
– Подходи, урод, сейчас я тебя поперчу.
Существо склонило голову набок, как будто обдумывая это предложение, затем двинулось вперед большими скачками, скрипя и пощелкивая. Мертвая собака колотилась о его голень. Впервые его рот – просто дыра с губами-червяками – изогнулся в какое-то подобие улыбки.
Гордон крикнул:
– Джим, беги! Я с ним разберусь.
Дважды просить Джима было не нужно. Он развернулся и бросился бежать вдоль рядов машин, нашел щель между двумя «фордами», где трава была повыше, и спрятался за одним из них. Между землей и днищем машины, стоящей на спущенных колесах, просвет был небольшой, и он лег на живот, чтобы хоть что-нибудь видеть. На некотором расстоянии, заполненном стоящими впритирку автомобилями, он увидел ноги Гордона. Они передвинулись в крепкую стойку. Джим понял, что это старик прижал приклад дробовика к плечу.
Тут раздался выстрел, и сразу же еще один. Тишина, затем такой звук, как будто кто-то рвет толстый картон, затем крики и опять звук разрываемого картона. У Джима закружилась голова – оказалось, он уже некоторое время не дышит. Он судорожно втянул в себя воздух и испугался, что существо его услышит.
«Господи боже, – подумал он, – я убежал, оставил мистера Гордона одного против этой штуковины, а теперь…» Он не знал, что и думать. Может, это кричал… он, складной человек? Но ведь пока Джим не слышал даже, чтобы он дышал, – никаких звуков, кроме щелканья и скрипа его сочленений.
По-пластунски, словно солдат под огнем противника, он подполз к спущенному колесу «форда» и выглянул. Между рядов машин, с механической методичностью осматривая их, шел складной человек. Одной рукой – если это можно было назвать рукой – он волок тело Уильяма, другой – труп мистера Гордона, который выглядел теперь намного тоньше, чем раньше, – слишком многое было вынуто из него. Чавка все еще висела на проволочном крюке, приделанном к его голени. Каждый раз, когда нога складного человека опускалась, Чавку тащило по грязи.
Джим быстро пополз назад. Он полз и полз, пока не уперся спиной в дверцу автомобиля. Тогда он поднялся на корточки и, стараясь держаться как можно ниже, двинулся по самому узкому проходу между автомобилями, рассудив, что здесь складному человеку будет сложнее его найти. Он знал, что кое-где на этой свалке ряды машин стоят совсем впритык, и если он доберется до того места, куда складной человек не сможет пролезть…
Где-то поблизости раздался громкий лязг. Не вставая с корточек, Джим повернулся, чтобы отыскать его источник. Складной человек смотрел прямо на него. Он поднял автомобиль, загораживающий ему путь, за передний мост – так, что его задний бампер оказался на земле, – и заглядывал под него. Монстр находился совсем близко от Джима, и тот понял, что складной человек больше, чем ему казалось раньше. Там, где заканчивалось его широкое туловище, были видны пружины – мощные пружины, дрожащие, отливающие металлом в лунном свете. Наклонившись, он ухватился и за задний мост автомобиля, чтобы поднять его, и Джим увидел, что там, где изламывались назад его колени, тоже были пружины, – складной человек был ходячим собранием металлического лома.
Джим застыл. Складной человек широко раскрыл рот, и Джим разглядел, что внутри монстра вращаются шестеренки и вспыхивают электрические искры. Джим сорвался с места и бросился бежать между машинами. Он прыгал с капота на капот, пробегал по крышам, а за ним шел складной человек – он поднимал автомобили и отшвыривал их в сторону, как будто они были игрушечными.
Джим видел вдалеке забор и стремился к нему. Когда он подбежал поближе, то уже знал, что делать. Прямо рядом с забором стоял «шевроле», и Джим подумал, что может взбежать на его крышу, прыгнуть с нее на забор, уцепиться и перелезть на другую сторону. Это не остановит идущего за ним монстра, но даст ему еще несколько секунд форы.
Скрип и щелканье позади него становились все громче.
Впереди была шеренга машин, он запрыгнул на капот первой и побежал по крышам, затем спрыгнул на землю и взял немного вправо, направляясь к стоящему у забора «шевроле».
И тут что-то со страшной силой ударило его в спину, совершенно выбив из него дыхание.
Первый удар развернул его, поэтому второй обрушился на грудь.
Джим не сразу осознал, что лежит между двумя машинами, а складной человек стоит над ним, размахиваясь телом Уильяма, как будто оно было просто мокрым полотенцем. Так вот чем он ударил его – он орудовал трупами, словно хлыстами.
Откуда в нем взялись силы, Джим не знал, но он вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону как раз тогда, когда тело мистера Гордона врезалось в землю. Тело Уильяма просвистело рядом с его ухом, но он уже опять убегал.
Он добрался до «шевроле», чуть ли не на карачках забрался на капот, затем запрыгнул на крышу. Нога за что-то зацепилась, но он, не глядя назад и не останавливаясь, брыкнул ей изо всех сил и освободился. Он прыгнул в сторону забора, зацепился за его край локтями. Острая кромка врезалась в тело, но это не остановило его: он рывком подтянулся и в следующее мгновение перелетел через забор и приземлился с другой стороны.
Правую ступню Джима как будто прострелили. Взглянув на нее, он увидел, что ботинка на ней нет, и понял, что его нога вовсе не зацепилась, когда он лез наверх, – это складной человек схватил ее, но добычей его стал только ботинок. Однако ступня нестерпимо болела. Никакой пули, естественно, не было. Он подвернул ее, когда спрыгивал с забора, и то ли сломал, то ли вывихнул. Наступать на нее было чертовски больно, но делать было нечего, и, сильно хромая, он поспешил прочь от забора.
В двадцати ярдах впереди было шоссе. Джим услышал, как за его спиной упал забор, и понял, что ему пришел конец, потому что у него кончился бензин, проколота шина и вот-вот взорвется мотор. Он дышал с трудом, а кровь колотила в виски, как заключенный, стремящийся разбить стены своей камеры.
И вдруг он увидел огни. Свет фар. Большой грузовик с прицепом, «Мак», ехал в его сторону. Если грузовик остановится, водитель поможет ему. Наверное. Только бы остановился.
Спотыкаясь, Джим вышел на середину шоссе, прямо под свет фар, и замахал руками. Он бросил взгляд налево…
…и там был он. Складной человек. Всего в шести футах от Джима.
Грузовик явно не успевал затормозить. Складной человек протянул к Джиму свою длинную руку. Отчаянно оттолкнувшись здоровой ногой, Джим отпрыгнул в сторону, а складной человек оказался прямо на пути грузовика. Раздался такой звук, как будто кто-то, поднимаясь по лестнице, уронил коробку с тарелками.
***
Грузовик пронесся так близко от Джима, что его обдало ветром. Он убрался с дороги «Мака» как раз вовремя. В отличие от складного человека. Когда Джим отпрыгнул, то непроизвольно развернулся – и поэтому увидел, как грузовик врезался в складного человека.
Деревянные и металлические части, пружины и шарниры разлетелись во все стороны.
Грузовик прокатился по некоторым из них, потом водитель ударил по тормозам. Огромный «Мак» не мог остановиться сразу. Его колеса заклинило, и он пошел юзом. Ночь наполнилась визгом, шины задымились, грузовик проехал еще ярдов тридцать и встал.
Джим свалился в неглубокий кювет, встал и дохромал до росших поблизости кустов. На что-то наступил и снова упал. Перекатился на спину. Получилось так, что он полусидел-полулежал на дне канавы, прислонившись спиной к дальнему от дороги склону. Его голова находилась почти на уровне земли, и сквозь кусты он видел шоссе. Шоссе было хорошо освещено, потому что по его обочинам стояли фонари. На шоссе лежал складной человек – или, скорее, по всей дороге валялись его части. Выглядело это так, как будто грузовик въехал в скобяную лавку, торгующую подержанными железками. Посреди всего этого лежали Уильям, Гордон и Чавка.
Туловище складного человека, каким-то чудом пережившее столкновение с грузовиком, вдруг завибрировало и открылось. Из него с вороньим криком вылетело крылатое существо. Оно схватило старика Гордона и Уильяма, – по одному трупу в каждую лапу, – клювом подцепило собаку и, несмотря на то, что оно было слишком маленьким для того, чтобы унести хотя бы одного из них, не говоря уже обо всех троих, подняло их в воздух и исчезло в ночном небе, быстро слившись с темнотой.
Джим повернул голову. Дальше по шоссе водитель вылез из грузовика и чуть ли не бегом направился с месту происшествия, а через несколько шагов и в самом деле побежал. Добравшись до места аварии, он склонился над деталями складного человека. Поднял пружину, рассмотрел ее, отбросил в сторону. Посмотрел в сторону канавы, в которой лежал Джим, но, похоже, ничего не увидел – Джима хорошо скрывали кусты.
Джим уже хотел позвать водителя на помощь, но тот вдруг зло закричал:
– Ты чуть меня не угробил! Ты чуть себя не угробил! Может, тебе уже конец пришел. А если нет, то придет, когда я до тебя доберусь, ты, идиот! Выбью из тебя все дерьмо.
Джим тут же передумал его звать.
– Давай выходи, я тебя своими руками придушу.
«Замечательно! – подумал Джим. – Сначала меня хотел убить складной человек, а теперь еще и водитель грузовика. Да черт с ними, черт с ними со всеми», – и он откинул голову на край канавы, закрыл глаза и уснул.
***
Водитель грузовика не пошел его искать, и когда Джим проснулся, «Мака» уже не было на дороге, а небо начало светлеть. Лодыжка болела так, как будто из нее пытались сложить оригами. Он поглядел на нее. В темноте мало что было видно, но все же он разобрал, что ее раздуло до толщины канализационной трубы. Джим вяло подумал, что еще немного полежит, а потом дохромает или доползет до обочины шоссе – а там его подберет какая-нибудь проезжающая машина. Он снова откинулся на край канавы и хотел уже закрыть глаза, когда услышал звук приближающейся машины.
Он посмотрел на шоссе и увидел огни фар с той стороны, откуда приехал грузовик. Вверх по спине, словно паук, пополз страх. Это был черный автомобиль.
Черный автомобиль приблизился к обочине и остановился. Из него вышли монахини. Они принюхались, раздувая ноздри, затем высунули длинные языки и лизнули уходящую ночь. С невероятным проворством они собрали части складного человека и сложили их в мешок, который поставили посреди дороги.
Когда мешок был полон, одна монахиня вступила в мешок своей длинной ногой и утрамбовала детали. Вытащив ногу, она взялась за горловину мешка, размахнулась им как следует и шмякнула несколько раз об асфальт. Затем она отошла, а другая монахиня пнула мешок. Третья монахиня раскрыла мешок и достала оттуда складного человека. Джим позабыл, что человеку нужно дышать. Монстр был полностью в сборе и сложен. Монахиня не стала его раскладывать. Она открыла багажник автомобиля и бросила его туда.
Затем она повернулась и посмотрела в ту сторону, где в канаве прятался Джим. Она вытянула в сторону руку и застыла в такой позе. Из остатков ночной тьмы вылетело крылатое существо и село ей на руку. Оно по-прежнему держало в когтях трупы Уильяма и Гордона, а Чавку – в клюве. Они висели, словно тряпки, и, казалось, весили не больше, чем тряпки. Монахиня взяла птицу за ноги и тоже затолкала ее в багажник – вместе с ее добычей. Закрыла дверцу багажника. Посмотрела прямо в то место, где лежал Джим. Перевела взгляд на небо, где на востоке потихоньку вставало солнце. Опять уставилась на Джима, вытянув в его сторону длинную руку, на которой, как на палке, болтался широкий рукав ее одеяния. Она ткнула костистым пальцем прямо в него, слегка наклонившись вперед. Другие монахини встали рядом с ней и тоже вытянули указующие пальцы в его сторону.
«Боже мой, – подумал Джим. – Они знают, что я здесь. Они меня видят. Или чуют. Или чувствуют. Но они знают, что я здесь».
Небо еще посветлело, и на его фоне ясно выделились их темные силуэты. Наконец монахини опустили руки.
Они быстро забрались в автомобиль. Последние пятна темноты расползлись по земле, уступив место розовому цвету зари. Ночь Хеллоуина кончилась. Мотор автомобиля взревел, и он помчался прочь. Джим видел, что, не проехав и нескольких футов, черный автомобиль исчез. Растаял, словно туман. Остался только восход и занимающийся день.
Послесловие
Когда я был маленьким, – а это было в шестидесятые годы, – я слышал рассказ о черном фургоне, или черном автомобиле. Я думаю, фургон появился оттого, что многие боялись, что нас украдут хиппи. Но история эта родилась раньше, и фигурировал в ней не только автомобиль, но и карета, и всадник на лошади, и просто ходячая тень, – так, по крайней мере, мне рассказывала бабушка, когда была в настроении. Я слышал эту историю и от других людей – чаще всего вариант с автомобилем. И я стал задумываться: ну хорошо, в этой машине есть что-то плохое, но что же? Дальше включилось воображение.
Джо Лансдэйл пишет с 1973 года. Он автор тридцати романов и восемнадцати сборников рассказов. Джо получил, среди прочих, премию Эдгара Аллана По, семь раз премию Брэма Стокера, Британскую премию фэнтези и итальянскую литературную премию Гринцане Кавур.
По его новелле «Бабба Хо-теп» («Bubba Ho-tep»), получившей премию Брэма Стокера, Дон Коскарелли снял фильм, считающийся сейчас культовым, а его рассказ «Происшествие на горной дороге» («Incident On and Off a Mountain Road») составил литературную основу первого фильма сериала «Мастера ужаса» кабельного канала Showtime.
Он писал для кино, телевидения, комиксов и является автором многочисленных эссе и ведущим рубрик в нескольких журналах. Последние книги Лансдэйла – это вышедший в издательстве Техасского университета сборник его лучших рассказов «Sanctifi ed and Chicken Fried», а также самый новый роман серии о Хэпе Коллинзе и Леонарде Пайне «Vanilla Ride». Вся серия была недавно издана в мягкой обложке издательством Vintage Books.
О редакторах-составителях
Эллен Датлоу уже тридцать лет редактирует научную фантастику, фэнтези и хоррор. Ее работа отмечена множеством премий, включая Всемирную премию фэнтези, премии «Локус» и «Хьюго», премию Международной гильдии писателей, работающих в жанре хоррор, премии Ширли Джексон и Брэма Стокера. В 2007 году она стала лауреатом премии Карла Эдварда Вагнера, вручаемой на Британском конвенте фэнтези за «выдающийся вклад в развитие жанра». Она живет в Нью-Йорке. Для получения дополнительных сведений посетите ее веб-сайт: .
Ник Маматас является автором двух романов, «Под моей крышей» («Under My Roof») и «Иди под землей» («Move Under Ground»), и более чем пятидесяти рассказов, большинство из которых представлены в сборнике You Might Sleep. Его работы были номинированы на премию Брэма Стокера и премию Международной гильдии писателей, работающих в жанре хоррор. Он не верит в привидений.



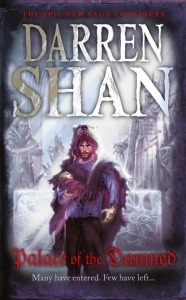


Комментарии к книге «Легенды о призраках», Эллен Датлоу
Всего 0 комментариев