Энн Райс Скрипка
Пролог
То, что я пытаюсь здесь делать, вероятно, вообще неосуществимо с помощью слов. Вероятно, этого можно добиться только в музыке. Я же хочу попытаться сделать это словами. Я хочу придать рассказу структуру, которой обладает только повествование – начало, середина и конец, – одним словом, полное развертывание событий в фразах, правдиво отражающих воздействие этих событий на автора Вам совершенно не обязательно знать композиторов, часто упоминаемых на этих страницах: Бетховена, Моцарта, Чайковского, надрывную игру деревенских скрипачей или мрачное звучание гаэльских скрипок. Мои слова должны донести до вас саму суть звучания.
Если этого не произойдет, значит, существует нечто, что никак не поддается словесному описанию. Но раз эта история живет во мне, я вынуждена ее поведать: свою жизнь, свою трагедию, свой триумф и его цену – у меня нет иного выбора, кроме как попытаться выразить все это на бумаге.
Итак, мы начинаем… Не старайтесь связать события моей жизни в одну цепочку, словно бусины четок. Ничто подобное не входило в мои намерения.
События вырываются наружу в совершеннейшем беспорядке, как подброшенные вверх бусины. Но если бы все таки их нанизать и сделать четки – а лет мне ровно столько, сколько бусин в четках: пятьдесят четыре, – мое прошлое все равно не представляло бы собой складное описание, в котором нашлось бы место и для тайн, и для грусти, и для радости или славы. Никакое распятие в конце пути не искупает грехов за пятьдесят четыре года. Я опишу здесь только яркие моменты, которые важны для повествования.
Представьте меня, если угодно, в образе отнюдь не старой женщины. Пятьдесят четыре по нынешним временам – пустяки. Нарисуйте в своем воображении, если это обязательно, невысокую пухленькую особу с бесформенным торсом, отравившим всю мою взрослую жизнь, и при этом с детским личиком и пушистыми темными волосами, густыми и длинными, с тонкими запястьями и лодыжками. Накопленный жирок не изменил выражение моего лица – оно осталось таким же, как и в год моего двадцатилетия. Стоит мне облачиться в какую-нибудь одежду свободного покроя, как я становлюсь похожей на маленькую молодую женщину с гитарообразной фигурой.
Создавая мое лицо, природа проявила доброту, но не переусердствовала в этом: типичная ирландско-немецкая физиономия квадратной формы, большие карие глаза и челка над бровями, скрывающая худшую черту моей внешности: низкий лоб. «Какая хорошенькая!» – говорят о кубышках вроде меня.
Черты лица не совсем заплыли жиром, так что при определенном свете даже могут показаться сносными, хотя и не очень выразительными. Если какой-нибудь прохожий и обращает на меня внимание, то только благодаря острому взгляду, в котором светится отточенный ум, а еще потому, что, когда улыбаюсь, я кажусь действительно молодой.
Конечно, в том, чтобы оставаться молодой в пятьдесят четыре года, сегодня нет ничего необычного. Но во времена моего детства человек, проживший более полувека, считался старым.
Будь нам за пятьдесят, за шестьдесят – не важно сколько, – мы все идем по жизни так, как позволяет делать это состояние нашего организма: шагаем свободным легким шагом, одеваемся по-молодежному, если, конечно, такой стиль нам нравится, сидим, небрежно задрав ноги на стол, наслаждаемся беспрецедентным здоровьем… – в общем, стараемся до последних дней сохранить интерес к жизни.
Такова героиня повествования – если мне предстоит быть героиней.
А кто же герой? О, он прожил больше века.
Эта история начинается с его прихода.
Представьте себе мрачного и обеспокоенного обольстителя – этакого лорда Байрона – на вершине скалы, что обрывается в пропасть: задумчивого, таинственного, истинное воплощение романтизма… Да он действительно заслуживал такой характеристики и полностью ей соответствовал. Он распространял вокруг себя удивительную ауру величия – изысканного и глубокого, трагичного и притягательного… Как «Стабат матер».[1] И он заплатил за все. Заплатил…
Вот что произошло…
Глава 1
Он появился за день до смерти Карла.
Ближе к вечеру город приобретал сонный пыльный вид, движение на Сент-Чарльз-авеню, как всегда, не затихало, и большие листья магнолии полностью закрыли мощенную плитами дорожку, потому что я давно не выходила, чтобы подмести ее.
Он дошел до моего угла, но не стал переходить на другую сторону. Вместо этого он остановился перед цветочной лавкой, повернулся и, наклонив голову, посмотрел на меня.
Я стояла у окна за занавеской и все видела. На фасаде нашего дома много таких длинных окон и несколько широких просторных крылец. Я наблюдала за улицей, за спешащими по ней машинами и людьми – просто так, бездумно, без всякой на то причины, как делала всю свою жизнь.
Разглядеть меня за плотной занавеской не так-то легко.
Движение на углу интенсивное. Но тюлевая занавеска, хоть и порвана, все еще остается достаточно плотной, чтобы обитатели дома не чувствовали себя на виду у всего мира.
В тот раз скрипки при нем не было – только мешок висел через плечо. Он просто стоял и смотрел на дом, а потом повернулся, словно достиг конца пути, и теперь направлялся обратно, не торопясь, пешком, точно так, как пришел сюда, – обыкновенный прохожий, совершающий вечернюю прогулку.
Он был высок и сухопар, но отнюдь не лишен привлекательности. Неухоженная темная шевелюра, волосы длинные, как у рок-музыкантов, заплетенные в две косы, чтобы не падали на лицо. Помню, когда он повернулся, мне понравилось, как они рассыпались по спине. Поэтому помню и его пальто – старое черное, ужасно пыльное, словно он ночевал в пыли. Мне запомнились блестящие черные волосы – нечесаные, длинные и очень красивые – на фоне этого пальто.
У него были темные глаза – я это разглядела несмотря на большое расстояние – те выразительные, глубоко посаженные глаза, которые кажутся очень загадочными под изогнутыми бровями, пока не подойдешь поближе и не разглядишь в них теплоту. Он был долговяз, но не без изящества.
Он смотрел на меня и смотрел на дом. А в следующую секунду пошел прочь, легким шагом, чересчур размеренным, как мне показалось. Хотя что я могла в то время знать о призраках? Или о том, как они ходят, оказавшись в нашем мире?
Он вернулся спустя два дня после смерти Карла. Я никому не сообщила, что Карл умер, и автоответчик продолжал за меня лгать.
Эти два дня принадлежали только мне.
В первые несколько часов после ухода Карла, я имею в виду настоящего ухода, когда кровь отлила вниз и его лицо, руки и ноги побелели, на меня нахлынуло ликование, как бывает после смерти, и я все танцевала и танцевала под музыку Моцарта.
Моцарт всегда был моим счастливым хранителем, Маленьким Гением, как я его называла, Хормейстером Ангелов – вот кем был Моцарт; а Бетховен – Маэстро Моего Горестного Сердца, капитаном моей разбитой жизни и всех неудач.
В ту первую ночь, когда Карл был мертв всего пять часов, после того, как я сменила простыни, обмыла его тело и сложила ему руки по бокам, я не могла слушать Ангелов Моцарта. Пусть с ними останется Карл. Умоляю, после такой боли. Книга, над которой работал Карл, была почти закончена, но не совсем – по всему столу были разбросаны ее страницы и иллюстрации. Пусть подождет. После такой боли.
Я обратилась к своему Бетховену.
Легла на пол в гостиной первого этажа – угловой комнате, свет в которую проникал сквозь расположенные с двух сторон окна, – и включила Девятую симфонию Бетховена – мучительную музыку, вторую часть. Моцарт не смог бы вырвать меня из смерти. Настала пора страданий, и Бетховен понимал, что это такое, и вторая часть симфонии тоже.
Не важно, кто умирает или когда. Вторая часть Девятой симфонии просто помогает тебе выжить.
Ребенком мне нравилась последняя часть бетховенской Девятой симфонии – она нравится всем. Я любила слушать хор, поющий «Оду к радости». Я ходила на ее исполнение бессчетное количество раз – и здесь, и в Вене, и в Сан-Франциско в те холодные годы, что я прожила вдали от родного города.
Но в последнее время, даже до встречи с Карлом, именно вторая часть стала по-настоящему моей.
Эта музыка была написана словно для того, чтобы помогать идти вперед, упрямо и почти мстительно карабкаться в гору. Она зовет вперед, вперед и вперед, не позволяя останавливаться. А затем наступает затишье, как в венском лесу, словно у человека внезапно перехватило в горле от вида города, куда он стремится, и тогда он раскидывает руки в стороны и принимается танцевать по кругу. Тут вступает валторна, каждый раз заставляющая вспоминать о лесах, долинах и пастухах, и возникает ощущение покоя и неподвижности леса и того плато, где стоит счастливый человек, но затем… затем вступают барабаны. И он вновь начинает карабкаться вверх по склону, решительно идет дальше. Шагает и шагает…
Под эту музыку можно танцевать, если захочется, раскачиваться в разные стороны, как в безумии, что я и делаю – до головокружения. И мои волосы при этом перелетают то направо, то налево, закрывая уши. А еще можно ходить кругами по комнате суровым маршевым шагом, сжав кулаки, двигаясь все быстрее и быстрее, время от времени разворачиваясь и продолжая шагать дальше. При этом мотаешь головой вперед-назад, вперед-назад, и твои волосы то падают на глаза, то взлетают вверх, и ты вновь видишь потолок.
Это беспощадная музыка. Идущий человек не собирается останавливаться. Вперед, вверх, дальше… Теперь уже не важно: леса, деревья – все это не имеет значения. Имеет значение только одно: ты продолжаешь шагать… И когда вновь приходит капелька счастья – благоуханного, ликующего счастья, вызванного тем, что ты шагаешь по плато, – то на этот раз в такт ему звучат шаги. Потому-то путь не заканчивается.
До тех пор пока не перестает звучать музыка.
Это конец второй части. Я могу перекатиться по полу и снова нажать кнопку, а потом склонить голову и позволить музыке звучать дальше, независимо от всего прочего, даже величественных и пышных заверений, которые, видимо, Бетховен пытался адресовать всем нам, – заверений в том, что когда-нибудь все будет осмыслено и что жизнь стоит того, чтобы ее прожить.
Той ночью, сразу после смерти Карла, я слушала вторую часть до самого утра, до момента, когда комната наполнилась солнечным светом и ярко засиял паркет. Широкие лучи солнца вошли сквозь дыры в занавеске. И потолок, моментально лишившийся последних бликов от фар автомобилей, которые бесконечной вереницей ночь напролет мчались по улице, стал гладко-белым, как чистая страница, на которой пока ничего не написано.
В полдень я прослушала всю симфонию с самого начала – с закрытыми глазами.
День был пуст, только снаружи рычали машины, несущиеся в обе стороны по Сент-Чарльз-авеню, слишком многочисленные для узких полос ее проезжей части, слишком быстрые для ее старых дубов и изящно изогнутых уличных фонарей. В этом не вяжущемся с обликом улицы грохоте тонул даже чудесный звон старых трамваев, проезжающих по ней с регулярными интервалами. Лязг. Дребезжание. Шум, которому следовало бы переходить в грохот, что когда-то и было, наверное, хотя я за всю жизнь (а это больше полувека) не могу припомнить, чтобы авеню когда-нибудь по-настоящему стихала, разве что глубокой ночью.
Я пролежала весь день в тишине, не в силах пошевелиться. Не в силах что-либо сделать. Только когда снова стемнело, я поднялась наверх. Простыни были по-прежнему чистые. Застывшее в смертельной неподвижности тело. Я знала, что это rigor mortis.[2] Лицо почти не изменилось – я ведь сразу несколько раз обмотала голову чистой белой тканью, чтобы челюсть не отвисла, и сама закрыла ему глаза. Я всю ночь пролежала рядом с ним, свернувшись калачиком, положив руку на его остывшую грудь, однако ощущение было совсем не таким, как когда он был живым и мягким.
Тело расслабилось и вновь стало мягким к середине утра. Простыни промокли. Появился гнилостный запах.
Я не собиралась сдаваться. Теперь я легко подняла ему руки и снова обмыла с ног до головы. Сменила все белье, как делают нянечки, перевернула тело на бок, подстелила чистую простыню, после чего снова уложила его на спину, чтобы расправить и подоткнуть белую ткань с другой стороны.
Он был бел и мертв, но вновь обрел гибкость. И хотя кожа начала проваливаться, искажая черты, это все-таки было по-прежнему его лицо – лицо моего Карла, и я даже видела крошечные трещинки в неизменившихся губах и бесцветные кончики ресниц, когда на них упал солнечный луч.
Комната второго этажа, выходящая окнами на запад. Именно здесь он хотел устроить нашу спальню, именно здесь он и умер. Солнце проникает сюда довольно поздно – сквозь маленькие чердачные окошки.
Этот огромный дом с шестью коринфскими колоннами и черной чугунной решеткой на самом деле всего лишь коттедж. Нет, правда. Обычный коттедж с просторными помещениями на первом этаже и маленькими спальнями, устроенными на бывшем пещерообразном чердаке. Когда я была совсем маленькая, там действительно располагался чердак и приятно пахло деревом.
Спальни появились, когда родились мои младшие сестры.
Западная угловая спальня смотрелась здорово. Он был совершенно прав, что выбрал именно эту комнату, отремонтировал ее и шикарно обставил. Когда-то это не составляло для него труда.
Я никогда не знала, где он хранит деньги, сколько их у него и что с ними будет потом. Мы поженились всего несколько лет тому назад. Тогда мне казалось, что спрашивать об этом неприлично. Возраст уже не позволял мне иметь своих детей. Но он был чрезвычайно щедр: дарил все, что мне только стоило пожелать. Таков уж был его характер.
Все дни он проводил за составлением комментариев к собранию изображений одного святого: святого Себастьяна. Работа захватила его целиком. Он надеялся, что успеет закончить книгу, и это ему почти удалось. Остались только кое-какие технические мелочи. Ими я займусь позже.
Позову Льва и спрошу его совета. Лев был моим первым мужем. Он обязательно поможет – все-таки профессор колледжа.
Я долго лежала рядом с Карлом, а когда наступила ночь, подумала: «Что ж, он мертв вот уже два дня, а ты, наверное, нарушаешь закон. Но разве это имеет значение? Что с тобой смогут сделать? Все равно всем известно, отчего он умер. СПИД. Совершенно безнадежный случай. Когда в дом все-таки придут люди, они все здесь уничтожат. Заберут тело и сожгут».
Наверное, именно по этой причине я так долго скрывала его смерть. Я не опасалась трупного яда или чего-то подобного. Он сам в последние месяцы был чрезвычайно осторожен и требовал, чтобы я постоянно носила маску и перчатки. А потом я лежала рядом с ним, мертвым, среди грязи и микробов, одетая в толстый бархатный халат. Но на моей коже не было ни единой царапины, и это спасало меня от всех бактерий и вирусов, скопившихся вокруг.
Наша близость ограничивалась только прикосновениями, причем исключительно такими, после которых можно было вымыть кожу в местах контакта, – мы никогда не следовали принципу «будь что будет».
СПИД так до меня и не добрался. И только сейчас, по прошествии двух дней, когда я решила, что, пожалуй, следует позвонить и поставить их в известность, – только сейчас я пожалела, что не заразилась. Во всяком случае, мне казалось, что пожалела.
Как легко желать смерти, когда она тебе не грозит! Как легко полюбить смерть – а лично я ее люблю всю свою жизнь и видела, как ее самые преданные обожатели в конце ломались, переходя на крик в своих мольбах пожить еще немного, как будто все темные вуали и лилии, и запах свечей, и грандиозные обещания могилы ничего не означают.
Я все это знала. И тем не менее всегда желала себе смерти. Только так можно было продолжать жить.
Настал вечер. Глядя в маленькое окошко, я следила за тем, как постепенно разгорались уличные фонари. Чуть позже в цветочной лавке зажгли свет и заперли двери за последним покупателем.
Я увидела, что слой жестких, скрученных листьев магнолии на плитах дорожки еще толще. Я увидела, как отвратительно торчат кирпичи вдоль забора, которые мне давным-давно следовало убрать, чтобы никто не упал. Я увидела дубы, припорошенные пылью, летевшей из-под колес автомобилей.
«Что ж, поцелую его на прощание», – подумала я. Ведь мне известно, что будет дальше. Тело уже мягкое, а запах разложения никоим образом не должен с ним ассоциироваться.
Я наклонилась и поцеловала его в губы. Потом еще… и еще… Я все целовала и целовала его – моего спутника в течение всего нескольких коротких лет, так быстро угасшего. Мне хотелось снова улечься в кровать, но я заставила себя спуститься вниз и съесть несколько кусков белого хлеба, запив его теплой диетической колой из картонки, стоявшей на полу. Все это я проделала с полным безразличием или скорее с уверенностью, что удовольствие в любой его форме отныне запрещено.
Музыка… А что, если снова послушать музыку? Еще один вечер одиночества, чтобы насладиться записанными на дисках мелодиями, пока дом не заполонила оголтелая толпа и не подняла крик. И пока его мамаша не начала всхлипывать, звоня из Лондона: «Слава Богу, ребенок родился! Он дождался! Он успел узнать, что у его сестры появился младенец!»
Я в точности знала, что она скажет, и, в общем-то, ее слова не будут противоречить истине: он действительно дожил до рождения ребенка у сестры, но не дождался возвращения домой матери. Вот по этому-то поводу она будет верещать по телефону дольше всего, а у меня не было терпения выслушивать слезные стенания. Добрая старушка. К чьей постели ты поспешишь – к дочери-роженице в Лондон или к умирающему сыну?
Дом был завален мусором.
Боже, что я на себя взвалила! Впрочем, в последние дни квалифицированные сиделки все равно отказывались приходить. Есть среди них, конечно, и святые, которые до последней минуты остаются с умирающим, но в данном случае в доме была я, а следовательно, необходимость в святых отпала.
Каждый день ко мне приходили верные слуги – Алфея и Лакоум. Но всякий раз видели лишь записку на двери: «Все хорошо. Оставьте сообщение» – я так и не удосужилась ее поменять.
Итак, кругом валялся хлам, пустые банки и крошки от печенья, в углах скопились комья пыли и даже листья – наверное, где-то, скорее всего в хозяйской спальне, которую мы никогда не использовали, открылось окно и ветер принес листья на оранжевый ковер.
Я прошла в гостиную. Легла на пол. Хотела протянуть руку и нажать кнопку, чтобы снова зазвучала вторая часть – только Бетховен, властитель этой боли. Но я не смогла это сделать.
Даже Маленький Гений Моцарт пришелся бы сейчас кстати – будто ангелочки беспечно болтают, смеются и крутят сальто в божественном свете. Мне хотелось… Но я не двигалась с места… много часов. Моцарт звучал в моей голове: я слышала пение его безудержной скрипки; для меня всегда превыше всего была скрипка и только скрипка.
Временами я слышала Бетховена; еще большее счастье, выраженное в его одном-единственном Концерте для скрипки, давным-давно выученном мною наизусть – я имею в виду, конечно, несложные мелодии соло. Но в доме, где наверху покоилось мертвое тело, а я лежала на полу гостиной, музыка не звучала. Пол был холодным. Стояла весна, и погода в последние дни менялась от жары до зимней промозглости. «Что ж, раз холодает, то тело лучше сохранится», – подумалось мне.
В дверь постучали, но, не дождавшись ответа, ушли. Шум на улице достиг своего пика, а потом вдруг наступила тишина. Автоответчик произносил одну ложь за другой. Щелк и щелк, щелк и щелк.
Потом я заснула – наверное, впервые за эти дни. И мне приснился красивейший сон.
Глава 2
Мне приснилось море при ясном солнечном свете, но такое, какого я в жизни не видела. Суша представляла собой огромную люльку, в которой шевелилась морская вода, – подобное можно увидеть в Вайкики или вдоль побережья к югу от Сан-Франциско, – далекие земляные выступы, возвышавшиеся справа и слева, словно отчаянно пытались удержать воду.
Это было яростное блестящее море под лучами огромного сияющего солнца, хотя самого светила над головой не было – только его сияние. На берег накатывали огромные пенящиеся волны, они вспыхивали на секунду сочным зеленым огнем, прежде чем разбиться, а затем каждая будто исполняла некий невообразимо прекрасный танец.
Из каждой умирающей волны поднималась пушистая пена и разбивалась на отдельные остренькие пики – шесть или восемь из одной волны, – и эти пики были очень похожи на людей, которые стремились выбраться на сушу, на пляж, а может быть, просто к солнцу, – на людей, созданных из сверкающих воздушных пузырьков.
В своем сне я долго разглядывала море. Я знала, что смотрю на него из окна. Я любовалась зрелищем, даже пыталась сосчитать танцующие фигурки, пока они не исчезали. Меня поражало, как хорошо они сформированы пеной: кивающие головки, отчаянные жесты. Несколько мгновений – и призрачные человечки, словно получив смертельный удар воздухом, опрокидывались на спину. Их смывала вода, но через секунду они вновь взмывали над зеленым гребнем, демонстрируя грациозный танец мольбы.
Человечки из пены, морские призраки – вот кем они мне казались, и вдоль всего побережья, насколько я могла видеть из своего окна, все волны делали одно и то же: закручивались в блестящие зеленые гребни, а потом разбивались, превращаясь в молящие фигурки, которые, прежде чем вернуться в необъятный, яростно бушующий океан, то кивали друг другу, то разлетались в стороны.
Мне не раз приходилось бывать на море и прежде, но ни разу еще не довелось стать свидетелем рождения подобных танцоров. А когда солнце к вечеру зависло над самым горизонтом и на просеянный песок хлынул искусственный свет, танцоры замерли, высоко подняв головы и выпрямив в струнку спины, и в молящем жесте протянули к берегу руки.
Да, эти пенные создания казались мне призраками – они были словно духи, не имеющие достаточно сил для возникновения в реальном мире, – им хватало энергии лишь на то, чтобы появиться на секунду в распадающейся пене и заставить ее принять форму человечка, прежде чем природа вернет ее себе.
Я всю ночь любовалась чудесной картиной – во всяком случае, так мне грезилось. А затем сон продолжился… Я снова увидела себя, но на этот раз был день. Мир ожил, занявшись привычными делами, а море было по-прежнему бескрайним и таким синим, что я чуть не расплакалась, глядя на него.
Я видела саму себя в окне! В моих снах практически никогда не бывает такой перспективы – никогда! Но на этот раз я себя узнала: мое собственное худое квадратное лицо, мои собственные черные волосы с ровно подстриженной челкой, длинные и прямые. Несомненно, это я стояла в квадратном окне белого огромного здания. Я видела собственные черты: мелкие, невыразительные, неинтересные, совершенно заурядные – и не было в них ни вызова, ни угрозы. Челка закрывала лоб почти до ресниц, а губы улыбались. Мое лицо оживляется только при улыбке. И еще, помнится, я подумала во сне: «Триана, ты, должно быть, очень счастлива!» Впрочем, мне достаточно самого мелкого повода, чтобы улыбнуться. Я близко познала и несчастья, и радость.
Я думала обо всем этом во сне – о печалях и веселых моментах в жизни. И была счастлива. Во сне я стояла у окна, держа в левой руке большой букет красных роз, а правой махала людям внизу.
«Где же это?» – недоуменно гадала я, все ближе и ближе подбираясь к границе, за которой наступает пробуждение. Я никогда не сплю долго и не знаю, что такое глубокий сон. В моем подсознании уже возникло жуткое подозрение. «Это сон, Триана! Тебя там нет! Тебя нет на теплом ярком берегу огромного моря. У тебя нет роз», – вертелось в голове.
Но сон не рассеивался, не мерк – он продолжал оставаться удивительно четким, без малейшего изъяна.
По-прежнему стоя у расположенного высоко окна, я все так же махала рукой, улыбаясь и держа в руке большой пышный букет. И тут до меня дошло, что я машу паре, стоящей на дорожке внизу: высоким парню и девушке – им было лет по двадцать пять или даже меньше, – и знаю, что именно они прислали мне эти розы.
Молодые люди мне понравились. Я все махала и махала, а они махали в ответ и подпрыгивали от переполнявших их чувств. А потом я начала посылать им воздушные поцелуи.
Пальцами правой руки я посылала поцелуй за поцелуем этим своим поклонникам, а за их спинами тем временем переливалось огромное синее море. Неожиданно наступил вечер. Тьма быстро сгущалась, но эти молодые танцоры продолжали выплясывать на узорчатой черно-белой дорожке. Вслед ними снова принялось танцевать море, из пенных волн возникали стайки фигурок, и весь мир казался настолько реальным, что я просто не могла назвать происходящее сном.
«Все это происходит с тобой, Триана. Ты здесь».
Я попыталась взяться за ум, ибо знала, какие трюки порой вытворяют сны и какие демоны нежданно появляются перед глазами на самой границе сна. Все это было мне хорошо известно, а потому я сделала над собой усилие и попыталась рассмотреть комнату, в которой находилась.
Где это? Как можно было все это вообразить?
Но я видела только море. И черную ночь, пронизанную светом звезд. А еще исступленный танец пенных призраков, вереница которых протянулась вдоль берега сколько глаз хватало.
«О душа! О потерянные души! – пела я вслух. – Вы счастливы, вы радостнее, чем в жизни, полной таких опасностей и такой боли?» Они не ответили, ибо успевали только протянуть ручки, прежде чем их вновь затягивало в мерцающую воду.
Я проснулась. Внезапно.
Карл проговорил мне в ухо: «Только не так! Ты не понимаешь. Перестань!»
Я села. То, что я запомнила его голос, то, что он прозвучал так близко, привело меня в шоковое состояние. Но потрясение не было кошмарным. Страха я не испытывала.
Я была одна в просторной грязной гостиной. Фары отбрасывали кружевные блики по всему потолку. Над нарисованным святым Себастьяном, что висел над камином, засиял золоченый нимб. Дом потрескивал, движение на улице не стихало, до меня доносился низкий ровный гул проезжавших мимо машин.
«Ты здесь, – твердила я себе. – И это был яркий сон, да-да, именно сон. И Карл был рядом с тобой!»
Только сейчас я уловила в воздухе запах. Сидя скрестив ноги на полу, все еще во власти сна и под впечатлением строгого голоса Карла: «Только не так! Ты не понимаешь. Перестань!» – я наконец ощутила запах в доме, а это означало, что тело уже начало разлагаться.
Я узнала этот запах. Даже если нам не довелось побывать в морге или на полях сражений, мы все определяем его безошибочно. Мы чувствуем его, когда в стене умирает крыса и ее невозможно отыскать.
И теперь я почувствовала его… едва уловимый, но всепроникающий, заполнивший собой огромный дом, все его большие красивые комнаты, даже эту гостиную, где из золоченой рамы на нас смотрит святой Себастьян, а в нескольких дюймах от картины стоит проигрыватель.
Телефон вновь принялся щелкать. Настала пора лгать. Щелк, щелк… Наверное, пришло сообщение.
«Но дело в том, Триана, что тебе все это приснилось. И этот запах не мог появиться. Нет, только не он, потому что эта жуткая вонь не может быть связанной с Карлом. Это не мой Карл. Это просто мертвое тело».
Я подумала, что пора пошевелиться. Но тут что-то остановило меня. Музыка, незнакомая музыка… Ее не могло быть на дисках, разбросанных по полу. Но инструмент я узнала.
Только скрипка умеет так петь, только скрипка умеет так молить и рыдать в ночи. В детстве я страстно мечтала, что когда-нибудь сумею извлечь подобные звуки из своей скрипочки.
Кто-то перед домом играл на скрипке. Я слышала, как музыка нежно возносится над уличным гулом. Отчаянная и пронзительная музыка, словно подчиненная дирижерской палочке Чайковского; я слышала мастерские пассажи, настолько быстрые и виртуозные, что они казались волшебными.
Я поднялась и подошла к угловому окну.
Он был там. Тот высокий, с блестящими черными длинными волосами, как у рок-музыкантов, в пропыленном пальто. Тот самый, кого я видела прежде. Теперь он стоял на углу, на дорожке из разбитого кирпича возле чугунной ограды, и играл на скрипке, а я смотрела на него из окна. Я снова задернула занавеску. От звуков божественной музыки мне захотелось плакать. Еще немного – и я умру от всего этого: от смерти и зловония в доме и от совершенной красоты этой музыки.
Зачем он пришел? Почему ко мне? И почему из всех инструментов он выбрал скрипку, которую я так люблю и с которой так мучилась в детстве? Впрочем, кто не любит скрипку? Но почему нужно играть на ней у меня под окном?
«Милая детка, все это тебе снится! Ты попала в очередную глубокую, самую худшую ловушку гипногогики. Ты все еще во власти сна. Ты вообще не проснулась. Возвращайся и приди в себя, убедись, что ты там, где должна быть… лежишь на полу. Приди в себя…»
«Триана!»
Я обернулась.
В дверях стоял Карл. Голова обмотана белой тканью, бледное лицо, высохшее, как скелет, тело под черной шелковой пижамой, в которую я его переодела.
«Не делай этого!» – произнес он.
Скрипка зазвучала громче. Смычок обрушился на басовые струны, взял ре, соль, издав душераздирающий надрывный аккорд, звучащий почти диссонансом, который в эту секунду как нельзя лучше выразил мое отчаяние.
– Карл! – воскликнула я. Должно быть, воскликнула.
Но Карл исчез. Карла больше не было. Скрипка продолжала петь; она все пела и пела, и когда я повернулась, то снова увидела музыканта: его блестящую черную шевелюру, широкие плечи и скрипку, переливающуюся оттенками коричневого при уличном свете; он с такой яростью ударил смычком по струнам, что у меня по затылку и рукам пробежали холодные мурашки.
– Продолжайте, продолжайте! – закричала я.
Он раскачивался как безумный – одинокая фигура на углу, в мерцании красных ламп цветочной лавки, в тусклом свете изогнутого уличного фонаря, в тени веток магнолии, нависших над кирпичами. Он продолжал играть. Он играл о любви и боли, он играл о потере, он играл о всех тех вещах, в которые мне больше всего хотелось верить в этом мире.
Я заплакала.
Зловоние вновь окутало меня словно облаком.
Я не спала. Я бодрствовала. Мир вокруг был реальным. Я ударила по стеклу, но не сильно – оно даже не треснуло – и посмотрела на музыканта.
Он повернулся ко мне, не опуская смычка, а потом, глядя прямо на меня сквозь ограду, заиграл спокойную мелодию, но так тихо, что рокот проезжавших машин ее почти заглушил.
Громкий шум неприятно резанул ухо. Кто-то изо всех сил колотил в заднюю дверь. Так, пожалуй, и стекло может вылететь.
Я продолжала стоять на месте, не желая отходить от окна, но понимая, что, когда люди стучат таким образом, они все равно войдут. Наверняка кто-то догадался, что Карл мертв, так что нужно идти и произносить разумные слова. Не время для музыки.
Не время для этого? Человек возле ограды извлекал из скрипки стонущие звуки – то низкие и хриплые, то высокие и пронзительные.
Я попятилась от окна.
В комнате кто-то был. Но не Карл. Женщина. Она вошла из коридора, и я ее знала. Это была моя соседка Харди. Мисс Нэнни Харди.
– Триана, милая, этот человек вам досаждает? – спросила она, подходя к окну. Пение его скрипки явно не произвело на нее впечатления. Я воспринимала мисс Харди лишь малой частицей своего разума, а все остальное мое естество устремилось к музыканту, и совершенно неожиданно я поняла, что он реален.
Соседка только что это доказала.
– Триана милая, вы не отвечаете на стук вот уже два дня. Пришлось поднажать на дверь посильнее. Я волновалась о вас, Триана. О вас и о Карле. Если хотите, я прогоню этого ужасного человека. Что он о себе возомнил? Только посмотрите на него. Слоняется около дома, а теперь еще вздумал играть на скрипке среди ночи. Неужели он не знает, что в доме больной человек?..
Но ее слова были как мелкие камушки, сыпавшиеся с чьей-то ладони, – коротенькие звуки, не имевшие никакого значения. Музыка продолжалась, удивительно сладостная и серьезная. Зазвучали завершающие аккорды сочувственного финала: «Я понимаю твою боль. Я знаю такую боль. Но безумие не для тебя. Ты из тех, кто никогда не утратит способность разумно мыслить».
Я уставилась на него, а потом перевела взгляд на мисс Харди. На соседке был халат. И пришла она в шлепанцах. Довольно необычный поступок для истинной леди. Она взглянула на меня. Потом принялась осматривать комнату, стараясь делать это незаметно, как хорошо воспитанный человек. Наверняка она увидела разбросанные диски и пустые банки из-под содовой, скомканную обертку от хлеба, нераспечатанные письма…
Однако не это заставило ее перемениться в лице, когда она снова взглянула на меня. Что-то ее озадачило, что-то привлекло ее внимание. Что-то неприятно поразило.
Она ощутила зловоние, исходящее от разлагающегося тела Карла.
Музыка прекратилась.
Я повернулась и сказала:
– Не позволяйте ему уйти!
Но высокий худой человек с шелковистыми черными волосами уже двинулся прочь, унося в руках скрипку и смычок. Перейдя улицу, он остановился перед цветочной лавкой, оглянулся и помахал мне. А потом осторожно переложил смычок в левую руку, в которой держал скрипку, и правой послал воздушный поцелуй – совсем как те двое молодых ребят во сне, которые принесли мне розы.
«Розы, розы, розы…» Мне показалось, будто я слышу, как кто-то произнес эти слова на чужом языке, и я чуть не рассмеялась от мысли, что роза все равно остается розой.
– Триана, – ласково позвала мисс Харди и положила руку мне на плечо. – Вы позволите мне сделать пару звонков. – И тон ее был отнюдь не вопросительным.
– Да, мисс Харди, мне самой следовало позвонить. – Я откинула с глаз челку и заморгала, пытаясь лучше рассмотреть и ее саму, и надетый на ней цветастый, очень симпатичный халатик. – Все дело в запахе, да? Вы тоже почувствовали?
Она медленно кивнула.
– Почему, Бога ради, его мать оставила вас здесь одну?
– Несколько дней тому назад в Лондоне появился на свет младенец, мисс Харди. На автоответчике осталось сообщение. Можете послушать. Я настояла, чтобы его мать уехала. Она не хотела оставлять Карла. Но, знаете ли, никто не может точно сказать, когда покинет этот свет умирающий или когда родится ребенок. К тому же речь шла о первенце сестры Карла, и Карл сам велел матери ехать. Я тоже настаивала. К тому же… Знаете, я просто устала от всех остальных визитов.
Ее лицо ничего не выразило. Я не могла догадаться, о чем она думает. Возможно, в эту секунду она сама не в силах была разобраться в собственных мыслях. Мне вдруг пришло в голову, что она хорошо смотрится в этом халате, белом, с неяркими цветами, присборенном у талии, и на ногах у нее, как и полагается даме из Садового квартала, атласные шлепанцы. Седые волосы аккуратно подстрижены и уложены маленькими кудряшками вокруг лица. Все говорили, что мисс Харди очень богата.
Я снова выглянула на улицу, но не увидела высокого сухопарого человека. Зато опять услышала те же слова: «…безумие не для тебя. Ты из тех, кто никогда не утратит способность разумно мыслить». Я не сумела запомнить выражение его лица. Улыбался ли он? Шевелил ли губами? Что касается музыки, то лишь от одной только мысли о ней на глаза мне навернулись слезы.
Это была самая бесстыдно чувственная музыка, словно Чайковский говорил: «К черту весь этот мир» – и выпускал наружу сладчайшую печальную боль, что никогда не удавалось ни моему Моцарту, ни моему Бетховену.
Я оглядела пустой квартал, дальние дома. Медленно раскачиваясь, на угол выехал трамвай. Мой Бог, да вот же он! Скрипач. Оказывается, он перешел на островок безопасности и стоял на трамвайной остановке, но в трамвай не сел. Он находился слишком далеко, и я не могла разглядеть его лицо, даже не могла понять, видит ли он до сих пор меня. Потом он повернулся и исчез.
Ночь была прежней. Зловоние было прежним.
Мисс Харди застыла в испуге и выглядела очень печальной. Она думала, что я сошла с ума. А возможно, ей было просто неприятно, что, навестив меня, она оказалась в такой ситуации и теперь придется взять на себя лишние хлопоты. Не знаю.
Соседка ушла. Я подумала, что она хочет найти телефон. Для меня у нее не нашлось больше слов. Наверное, она решила, что я не в себе и не стою еще одного разумного слова. Разве можно ее за это винить?
Во всяком случае, насчет младенца в Лондоне я сказала правду. Но даже если бы в доме было полно людей, я все равно не позволила бы тронуть тело Карла. Просто это было бы сложнее.
Я повернулась и поспешила вон из гостиной, пересекла столовую, затем прошла через маленькую утреннюю комнату и взбежала по лестнице. Она совсем не походила на величественные лестницы двухэтажных довоенных построек: небольшие слегка изогнутые ступени вели на чердак домика в стиле греческого Возрождения.
Я захлопнула дверь и повернула в замке медный ключ. Карл всегда считал, что каждая дверь должна запираться на индивидуальный замок, и впервые за все время я была этому рада. Теперь ей не войти. Никому не войти.
В комнате стоял ледяной холод из-за настежь распахнутых окон, что, однако, не уменьшало зловония, но я, набрав в легкие воздуха, забралась под одеяло, чтобы в последний раз еще несколько минут провести рядом с Карлом, прежде чем его сожгут – каждый палец, губы, глаза… Пусть они дадут мне побыть с ним.
Пусть они дадут мне побыть со всеми ушедшими…
Откуда-то издалека донесся гул голосов, но к нему примешивался еще какой-то звук… Да, тихо и торжественно звучала скрипка.
«Ты все-таки остался, играешь».
«Для тебя, Триана».
Я прижалась к плечу Карла. Он был такой мертвый, гораздо мертвее, чем вчера. Я закрыла глаза и натянула на нас большое желтое стеганое одеяло – он любил тратить деньги на такие красивые вещицы – и в нашей широкой кровати с четырьмя столбиками в стиле принца Уэльского в последний раз погрузилась в грезы о нем… В могильные грезы.
В этих грезах нашлось место музыке. Она звучала так тихо, что я даже не была уверена, слышу ли ее на самом деле или это мои воспоминания о ней.
Музыка.
Карл.
Я дотронулась до его костлявой щеки – и вся сладостность растаяла.
В последний раз позвольте мне упиться смертью, и на этот раз пусть играет музыка моего нового друга, словно присланного дьяволом из преисподней, – этого скрипача, предназначенного для тех из нас, кому «смерть мнится почти легчайшим счастьем на земле».[3]
Отец, мать, Лили, допустите меня до своих костей, допустите меня в свою могилу. Возьмем в нее Карла вместе с нами. И нам не важно, тем из нас, кто мертв, что он умер от какой-то смертельной болезни; мы все здесь, во влажной земле, вместе; мы все мертвы.
Глава 3
Глубже, глубже, душа моя, туда, где сердце – и кровь, и жар, и последнее упокоение. Глубже в сырую землю, туда, где лежат мои любимые… И она, мама, с темными длинными волосами, отделившимися от черепа. Ее кости сдвинуты к самой стене склепа, чтобы дать место другим гробам, но в своих грезах я располагаю их вокруг себя и представляю, что мама здесь, в темно-красном платье… И он, умерший позже отец, похороненный без галстука, потому что он терпеть не мог галстуки и я, помня об этой его ненависти, сняла с него галстук, стоя у гроба, и расстегнула отцу рубашку. Руки его не были иссохшими и выглядели как живые, словно их не тронуло тление – то ли благодаря инъекциям гробовщиков, то ли оттого, что изнутри их наполнили подземные обитатели, которые приходят «поскорбеть», сжирают все и удаляются. И она, самая младшая, моя красоточка, облысевшая от рака и все же прелестная, как ангелок, родившийся безволосым и идеальным Но нет, позвольте мне вернуть ей длинные золотистые волосы, выпавшие из-за лекарств, ее волосы, которые я с таким удовольствием расчесывала щеткой, светлые, с рыжинкой… Она, самая прелестная маленькая девочка во всем мире, плоть от плоти моей – моя доченька, умершая так давно. Будь Лили жива, сейчас она превратилась бы в красивую молодую женщину…
Глубже, еще глубже… Позвольте мне остаться с вами – и будем лежать здесь все вместе.
Лежите с нами, с Карлом и мной. Карл уже превратился в скелет!
И открытой стоит могила, в которой мы все так нежно и счастливо обрели друг друга. Нет слов, чтобы описать тесный союз наших мертвых тел, наших костей, крепко прижатых друг к другу.
И я больше ни с кем не расстаюсь. Ни с мамой, ни с отцом, ни с Карлом, ни с Лили, ни с живущими, ни с мертвыми, так как мы одно целое в этой сырой и осыпающейся могиле, в нашем тайнике, этом глубоком подземном зале, где мы можем подвергнуться нашествию муравьев, сгнить и перемешаться, где кожа покрывается плесенью.
Не важно.
Так будем же вместе, не забудем ни одного лица, не забудем смеха друг друга, каким он был двадцать или сорок лет тому назад, смеха переливчатого, как музыка призрачной скрипки, неуверенной скрипки, идеальной скрипки, – нашего смеха и нашей музыки, связавшей умы и сердца навсегда.
Мой теплый поющий дождик, пади тихо на эту мягкую, уютную могилу. Что за могила без дождя? Нашего бесшумного южного дождя.
Пади нежными поцелуями, чтобы не разомкнуть того объятия, в котором мы живем – я и они, мертвые, – как одно целое. Эта расщелина наш дом. Пусть капли превратятся в слезы, как в песне, их звук будет убаюкивать – я не позволю, чтобы что-то нарушило этот сладостный покой. Прижмись ко мне теперь, Лили. Мама, позволь мне уткнуться лицом тебе в шею… Впрочем, мы и так едины, и Карл обнимает всех нас, и отец тоже.
Ступайте сюда, цветы! Нет нужды разбрасывать надломленные стебли или алые лепестки. Нет нужды приносить пышные букеты, перевязанные блестящими ленточками.
Земля сама отметит эту могилу: прорастет дикой тонкой травой, кивающими головками простеньких лютиков, маргариток и маков – синих, желтых и розовых, неброских оттенков буйного, неухоженного и вечного сада.
Позвольте мне устроиться рядом с вами, позвольте полежать в ваших объятиях, позвольте уверить вас, что ни один из внешних признаков смерти ровным счетом ничего для меня не значит. Имеет значение только любовь, с которой мы все – вы и я – жили когда-то. И единственное место, где я сейчас хочу оказаться, это с вами, в этом медленном, сыром и мирном разложении.
То, что сознание приводит меня к этому финальному объятию, поистине бесценный дар! Я как никогда близка к мертвым, и в то же время я живу и сознаю это – и наслаждаюсь этим.
Пусть деревья склонят свои ветки и укроют это место, пусть создадут перед моими глазами плотную и густую сеть, но не зеленую, а черную, словно ветви поймали ночь, и закроют меня от последнего любопытного взгляда. И трава вырастет высокой. И мы останемся наедине, только я и вы, те, кого я безмерно обожала и без кого я не могу жить.
Глубже. Глубже в землю. Я хочу почувствовать, как земля смыкается вокруг меня. Пусть комья запечатают наш покой. Ничего другого мы не можем.
А теперь, оставшись с вами, я скажу: «К черту всех, кто попытается встать между нами. Шагайте сюда, незнакомцы, поднимающиеся по лестнице.
Ломайте замок, да, рубите древесину, вытаскивайте свои трубки и заполняйте комнату белым дымом. Не выкручивайте мне руки: меня ведь здесь нет, я в могиле. Вы вторглись не ко мне, а к моему застывшему злобному образу. Да, как видите, простыни чистые! Заворачивайте его, заворачивайте его потуже во множество слоев ткани – все равно это не имеет ни малейшего значения. Видите, ни капли крови, никакой опасности, что вы заразитесь от него. Он умер не от открытых язв – СПИД разрушил его организм изнутри, ему было больно даже дышать. Таково действие этой страшной болезни. Так чего вам теперь бояться?
Я не с вами и не с теми, кто задает вопросы о времени, месте, крови, вменяемости и телефонных номерах, которые следует набрать; я не могу отвечать на вопросы тех, кто готов оказать помощь. Я укрылась в могиле. Я прижалась губами к отцовскому черепу. Я тянусь рукой к костлявой руке матери».
«Родные мои, позвольте мне до вас дотронуться!»
Я по-прежнему слышу музыку. Господи, этот одинокий скрипач прошел по высокой траве сквозь дождь и густой дым воображаемой ночи, несуществующей тьмы, чтобы быть рядом со мной и сыграть свою скорбную песнь, чтобы придать голос этим словам в моей голове, пока земля вокруг становится более влажной и все, что она породила, оживает, становясь все естественнее, добрее и даже красивее.
Вся кровь из нашей темной прекрасной могилы ушла, ушла навсегда, только моя осталась. И в нашем земном жилище я истекаю кровью так же естественно, как дышу. Если кому-либо зачем-либо сейчас нужна кровь, у меня ее хватит на всех.
Здесь нет места страху. Страх прошел.
Звените ключами, расставляйте чашки. Гремите кастрюлями на железной плите внизу, заполняйте ночь сиренами, если угодно. Пусть вода бежит, бежит и бежит, наливаясь в ванну. Я вас не вижу. Я вас не знаю.
Мелкой скорби никогда не проникнуть в могилу, где мы лежим. Страх ушел – как ушла молодость и вся та прежняя боль, когда на моих глазах вас предавали земле, гроб за гробом: отцовский из прекрасного дерева, материнский, внешний вид которого я уже не помню, и маленький беленький гробик Лили. Старый джентльмен не захотел взять с нас даже мизерной платы, ведь она была просто маленькой девочкой. Нет, вся эта скорбь прошла.
Скорбь мешает слышать настоящую музыку. Скорбь не позволяет обнять кости тех, кого любишь.
Я жива, и я теперь с вами. Только сейчас я осознала, что это означает: быть всегда с вами!
Отец, мать, Карл, Лили, обнимите меня!
Наверное, это грех – просить сочувствия у мертвых: у тех, кто скончался в мучениях; у тех, кого я не могла спасти; у тех, для кого у меня не нашлось нужных слов, чтобы проститься или успокоить, избавить от панического ужаса и боли; у тех, кто не увидел моих слез в последнюю минуту и не услышал моего обета вечно скорбеть.
Я здесь! С вами! Я знаю, что это такое быть мертвым. Меня тоже закрывает грязь, я глубоко увязаю в мягкой могильной земле.
Это видение, мой дом…
До тех, кто пришел сюда, мне нет дела.
– Что это за музыка – слышите?
– Думаю, ей следует снова принять душ! Ее нужно как следует продезинфицировать!
– В этой комнате все следует сжечь…
– О, только не эту роскошную кровать! Глупо уничтожать такую красоту, ведь больничную палату не взрывают, когда в ней кто-то умирает от этой болезни.
– …Это рукопись, не дотрагивайтесь до нее. Не смейте трогать его рукопись!
– Ш-ш-ш, она же слышит…
– Она чокнулась, не видишь?
– …Его мать прилетает утренним рейсом из Гэтвика.
– …Полнейшее буйное помешательство.
– Прошу вас обеих, если любите свою сестру, ради Бога помолчите. Мисс Харди, вы хорошо ее знали?
– Выпей это, Триана. Это мое видение, мой дом…
Я сижу в гостиной, выкупанная, вычищенная, с мокрыми волосами, – словно это меня собираются хоронить.
Пусть утреннее солнце ударит в зеркала. Вытащите блестящие павлиньи перья из серебряной урны и разбросайте их по полу. Не развешивайте отвратительную вуаль на всех ярких вещах. Приглядитесь повнимательнее – и увидите в стеклах призрак.
Это мой дом. И это мой сад, и мои розы ползут по ограде снаружи, и мы все в нашей могиле. Мы здесь, и мы там – как одно целое.
Мы в могиле, мы в доме, а все остальное – игра воображения.
В этом тихом дождливом царстве, где вода поет, падая с потемневших листьев, а земля осыпается с неровных краев над головой, я – жена, дочь, мать, я – все те освященные веками понятия, на которые предъявляю драгоценные права.
«Вы навсегда со мной! Никогда, никогда не позволю вам покинуть меня, никогда, никогда не позволю вам уйти».
Ладно. Итак, мы снова совершили ошибку. Мы сыграли нашу игру. Мы ударились в безумие как в толстую дверь и принялись биться в нее точно так, как эти люди бились в дверь Карла. Но дверь безумия не сломалась, а могила всего лишь сон.
Что ж, сквозь этот сон до меня доносится музыка. Похоже, они ее не слышат. В голове у меня звучит мой собственный голос, а эта скрипка – его голос, звучащий снаружи, и вместе мы сохраним наш секрет, что эта могила существует только в моем воображении и что сейчас я не могу быть с вами, мои усопшие. Я нужна живым.
Живые нуждаются во мне сейчас, как всегда нуждаются в тех, кто потерял родных, в тех, кто больше всего ухаживал за больными и проводил в неподвижности длиннющие ночи, – у них накопились вопросы, предложения, заявления, претензии и бумаги на подпись. И мне придется смиренно лицезреть нелепейшие улыбки и достойно принимать неловкие соболезнования.
Но в свое время я приду. Обязательно приду. И когда это произойдет, могила скроет всех нас. Над нами вырастет трава.
Я подарю вам любовь, огромную и вечную. И пусть земля сыреет. Пусть мои руки зароются в нее поглубже. Дайте мне черепа, чтобы я прижала их к своим губам, дайте мне кости, чтобы я подержала их в своих ладонях, и если волос – тонкой шелковистой пряжи – больше нет, то это не важно. Своими длинными волосами я сумею окутать всех нас. Только посмотрите, какие они густые. Позвольте мне укрыть всех нас. Смерть вовсе не смерть, как я когда-то думала, растаптывая свой страх. Разбитые сердца вечно бьются вместе о холодное оконное стекло.
Обнимите меня, обнимите и никогда, никогда не позволяйте мне задержаться в другом месте.
«Забудь о причудливых кружевных занавесках, искусно окрашенных стенах, блестящей мозаичной столешнице. Забудь о фарфоре, который они сейчас вынимают с такой осторожностью, предмет за предметом, и расставляют по всему столу: чашки и блюдца, украшенные золотом и голубым кружевом. Вещи Карла. Отвернись. Не чувствуй живых рук.
Единственное, что важно, когда наливают кофе из серебряного носика, – то, как струя начинает светиться, то, как густой коричневый цвет становится янтарным и золотисто-желтым, а струя, извивающаяся как танцор, пока наполняется чашка, вдруг обрывается, словно призрак спрятался обратно в кофейник.
Возвращайся туда, где сад превратился в руины. Ты найдешь нас всех вместе. Ты найдешь нас там.
В памяти возникает четкая картина: сумерки, часовня в Садовом квартале, лик Вечной помощи Божьей Матери, наша маленькая церковь внутри старого особняка. Нужно пройти лишь один квартал от главных ворот, чтобы добраться до нее. Она находится на Притания-стрит. Высокие окна светятся розовым светом, перед святым улыбающимся ликом, который мы любим и почитаем как «Маленький Цветок», тихо угасают свечи в красном стекле. Здесь тьма кажется пылью, через которую вы идете.
Мама, моя сестра Розалинда и я опускаемся на колени у холодной мраморной ограды алтаря. Мы возлагаем наши букеты – мелкие цветочки, собранные по пути возле чугунных оград, таких же, как наша: дикий невестин венок, симпатичные голубенькие плюмбаго, золотая и коричневая вербена. Ни одного садового цветка – только те, что вырваны из спутанных клубков лиан, вьющихся по стенам, только те, которых никто не хватится. Нам даже нечем перевязать эти скромные дары. Мы складываем цветы возле ограды алтаря, крестимся, произносим молитвы…
И тут меня охватывает сомнение.
– А вы уверены, что Святая Дева и Иисус получат наши цветы?
В нижней части алтаря прямо перед нами в глубокой нише, закрытой стеклом, расставлены резные деревянные фигурки Тайной Вечери, а выше на расшитой ткани стоят неизменные церковные букеты – огромные, величественные, с белоснежными бутонами на высоченных, словно копья, стеблях. Такие грандиозные цветы! Совсем как высокие восковые свечи.
– Ну конечно, – отвечает мать. – Когда мы уйдем, придет служка, заберет наши маленькие цветочки, поставит их в вазу и перенесет к Младенцу Иисусу или Святой Деве.
Младенец Иисус находится в правом углу возле окна. Фигурка не освещена, но я все же вижу его золоченую корону и земной шар, который Иисус держит в ручках. И я знаю, что его рука поднята в благословляющем жесте и что зовется он Пражский Младенец Иисус,[4] у него чудная розовая распашонка и прелестные пухлые румяные щечки.
Но сомнения меня все-таки не покидают. Слишком уж скромны наши букеты – кто станет заботиться о таких цветах, оставленных у алтаря в сумерках?
Часовня постепенно наполняется тенями, я их чувствую. Да и мама начинает слегка нервничать, крепче сжимает ручки двух маленьких девочек – Розалинды и Трианы – и говорит, что пора идти.
Мы еще раз преклоняем колени и уходим. Надетые на нас туфельки с ремешками громко цокают по темному линолеуму. Святая вода в купели теплая.
Ночь еще не успела окончательно завладеть миром, но света теперь слишком мало и ряды между скамьями тонут во тьме.
Меня волнуют цветы.
Что ж, сейчас меня волнуют другие вещи.
Я лелею только воспоминания, что мы там были, потому что если я могу видеть эту картину, вновь ее ощущать и слышать скрипку, поющую эту песню, значит, я снова там и, как я уже сказала, мама, мы вместе.
Все остальное меня не волнует. Осталась бы жива моя девочка, если бы я сделала все возможное и невозможное и отвезла ее в ту далекую клинику? Остался бы жив мой отец, если бы ему вовремя дали кислородную маску? Боялась ли моя мать, когда говорила двоюродным сестрам, ухаживавшим за ней, что умирает? Хотела ли она, чтобы рядом оказался кто-то из нас?
Великий Боже! Хватит!
Ни ради живых, ни ради мертвых, ни ради цветов из полувековой давности прошлого я не стану вновь взваливать на себя те обвинения!
Святые в полутемной часовне не отвечают. Только в торжественной тени поблескивает икона Вечной помощи Божьей Матери. Здесь правит Младенец Иисус в своей драгоценной короне, и глаза его сияют.
Но вы, мои мертвые, моя плоть, мои сокровища, те, кого я безоговорочно и без оглядки любила, все вы сейчас со мной в могиле – без глаз, без плоти. Вы рядом, чтобы согреть меня.
Все расставания были иллюзией. Все превосходно.
– Музыка прекратилась.
– Слава Богу.
– Вы в самом деле так считаете? – Это был тихий низкий голос Розалинды, моей прямодушной сестры. – Парень играл потрясающе. Это была не просто музыка.
– Он очень хорош, отдаю ему должное, – подтвердил Гленн, ее муж и мой любимый зять.
– Он уже был здесь, когда я пришла, – заговорила мисс Харди. – Скажу больше, если бы не его игра на скрипке, я бы ни за что Триану не нашла. Видите его отсюда?
Голос моей сестры Катринки:
– Думаю, ей следует сейчас поехать в больницу и пройти полное обследование. Мы должны быть абсолютно уверены, что она не заразилась…
– Цыц, я не позволю так говорить! Спасибо, незнакомец.
– Триана, это мисс Харди! Дорогая, можете на меня взглянуть? Простите, милая, что спорю с вашими сестрами. Простите. Я хочу, чтобы вы сейчас выпили вот это. Всего лишь чашка шоколада. Помните, вы как-то зашли днем, и мы пили шоколад, и вы сказали, что он вам очень нравится. Я налила побольше сливок и хочу, чтобы вы приняли вот это…
Я подняла взгляд. Гостиная казалась удивительно свежей и красивой в утреннем свете. На круглом столе сиял фарфор. Я всегда любила круглые столы. Музыкальные диски, обертки от печенья, пустые банки – все убрано. Белые гипсовые цветы на потолке сплелись в идеальном венке – хлам в комнате больше не портил общую картину.
Я поднялась, подошла к окну и отдернула тяжелую желтоватую портьеру. Снаружи был весь мир, до самого неба, а на просохшем крыльце прямо передо мной лежали листья.
Началась утренняя гонка в город. Загрохотали грузовики. Я увидела, как листья на дубе затрепетали от гула множества колес. Я почувствовала, как задрожал дом. Но он так дрожал уже сто лет, даже больше, и еще долго не рухнет. Теперь люди это знали. Теперь они перестали сносить великолепные дома с белыми колоннами. Они больше не изрыгали ложь, что, мол, эти дома невозможно содержать или отапливать. Они боролись за их сохранение.
Кто-то потряс меня за плечо. Катринка. Обезумевший взгляд, узкое лицо, искаженное злобой. Злоба – ее извечный спутник, она постоянно клокочет внутри ее в ожидании момента, когда можно будет вырваться на волю. И теперь как раз такая возможность представилась. Катринка едва шевелит языком – настолько ее переполняет ярость.
– Я хочу, чтобы ты прошла наверх.
– Для чего? – холодно поинтересовалась я, а сама подумала: я уже много лет тебя не боюсь. Наверное, с тех пор, как ушла Фей – самая младшая из нас. Мы все ее любили.
– Я хочу, чтобы ты еще раз как следует вымылась, а затем отправилась в больницу.
– Дура, – сказала я. – И всегда ею была. Никуда я не поеду.
Я посмотрела на мисс Харди.
В какой-то момент этой длинной сумбурной ночи она успела сбегать домой и переодеться в одно из своих красивых элегантных платьев и заново причесаться. От ее улыбки веяло покоем.
– Его увезли? – спросила я мисс Харди.
– Его книга… Книга о святом Себастьяне… Я убрала все материалы, кроме последних страниц. Они лежали на столике возле кровати. Они…
Тут заговорил мой милый зять Гленн:
– Я отнес их вниз; с ними все в порядке, как и с остальной рукописью.
Все правильно. В свое время я показала Гленну, где хранится работа Карла, – так, на всякий случай… вдруг кому-то захочется все в комнате сжечь.
За моей спиной продолжалась ругань. Я слышала, как Розалинда пыталась прервать длинные обличительные речи вечно встревоженной Катринки, которые та произносила сквозь стиснутые зубы. Когда-нибудь Катринка сломает себе зубы в середине тирады.
– Она сумасшедшая! – заявила Катринка. – И скорее всего, у нее тоже вирус!
– Прекрати сейчас же, Тринк, прошу, просто умоляю.
Розалинда давно уже не знает, что такое быть недоброй. Если у нее и имелись какие-то предпосылки к зловредности в детстве, то они были тогда же вырваны с корнем.
Я обернулась и посмотрела на Розалинду. Она сидела у стола словно копна – большая и сонная. Слегка шевельнув рукой и выгнув темные брови, сестра прогудела своим низким голосом:
– Тело кремируют. Последовал вздох, и она продолжила:
– Таков закон. Не волнуйся. Я устроила так, что комнату не разрушат и увезут по досочке.
Она коротко самодовольно хохотнула, что было сейчас уместно.
– Дай Катринке волю, она бы снесла весь квартал.
Розалинда заколыхалась от смеха.
Катринка подняла крик.
Я улыбнулась Розалинде. Наверное, она беспокоится о деньгах. Карл при жизни был очень щедр. Наверняка сейчас все думают о деньгах. О пособиях Карла, которые он с такой легкостью раздавал.
Обсуждение организации похорон тоже не обойдется без ругани. Так всегда бывает, о ком бы ни шла речь. Кремация. Я даже думать об этом не могла! В моей могиле, среди тех, кого я люблю, нет места неопознанному праху.
Розалинда, разумеется, никогда не скажет, но наверняка она думала о деньгах. Ведь именно Карл давал средства на жизнь Розалинде и ее мужу Гленну, чтобы они не лишились своей маленькой старомодной книжной лавки (они торговали книгами и пластинками, почти ничего не выручая), которая никогда не приносила дохода, насколько я знаю. Неужели она опасалась, что поступления прекратятся? Мне хотелось разуверить ее.
Мисс Харди заговорила на повышенных тонах.
Катринка хлопнула дверью.
Только двое из всех, кого я знаю, умеют так хлопать дверью, когда разозлятся. Второй человек сейчас далеко. Он давно ушел из моей жизни, но я вспоминаю его с теплотой (у меня есть на то основания), отбрасывая в сторону подобные мелочи.
Розалинда, наша старшая, самая рослая, теперь очень располневшая, с седой головой, как всегда красиво уложенной – у нее прелестные густые волосы, – спокойно сидела за столом и то пожимала плечами, то ухмылялась.
– Тебе совсем не обязательно мчаться в больницу, – наконец произнесла она. – Сама знаешь. – В свое время Розалинда очень долго прослужила медсестрой, таскала кислородные баллоны, смывала кровь. – Никакой спешки, – авторитетно заверила она.
– Я знаю места получше, – сказала (а быть может, только подумала?) я.
Стоило только закрыть глаза, как комната уплывала, и вместо нее появлялась могила и возникал один и тот же болезненный вопрос: «Где тот сон и где реальность?»
Я прижалась лбом к оконному стеклу. Оно было холодное. А музыка… Музыка моего бродячего скрипача…
Я обратилась к нему: «Ты ведь здесь? Ну же, я знаю, что ты не исчез. Неужели подумал, будто я не слушаю?..»
И снова зазвучала скрипка. Цветистые и тихие, надломленные и в то же время полные наивной торжественности звуки.
А за моей спиной тихо, чуть-чуть отставая от мелодии, начала подпевать Розалинда… Она напевала, и ее голос сливался с далеким голосом скрипки.
– Ты теперь его слышишь? – спросила я.
– Ага, – сказала она, привычно пожав плечами. – У тебя там завелся друг? Ну прямо соловей какой-то. И солнце его не прогнало. Конечно слышу.
С моих волос на пол капала вода. В коридоре всхлипывала Катринка, и я не могла разобрать другие два голоса – только знала, что они не женские.
– Все это просто невыносимо, просто невыносимо! – говорила Катринка. – Она сумасшедшая. Разве вы не видите? Невыносимо. Невыносимо! Невыносимо!!!
Тропинка раздвоилась. Я знала, где находится могила и на какой глубине, но не могла до нее дойти. Почему?
Его медленная мелодия звучала где-то далеко и словно слилась с самим утром, как будто мы покидали кладбище вместе. Оглянувшись, в тревожной яркой вспышке я увидела наши маленькие букетики на белом мраморном ограждении алтаря.
– Пошли, Триана! – Мама казалась такой красивой: большие глаза, волосы, убранные под берет… Тон ее голоса был спокойным, терпеливым. – Пошли, Триана!
Ты умрешь, уехав от нас, мама. Красивая, без единого седого волоса на голове. В последний раз, когда мы виделись, мне не хватило благоразумия даже поцеловать тебя на прощание. Я только обрадовалась, что ты уезжаешь, потому что устала видеть тебя вечно пьяной и больной, устала от забот о Катринке и Фей.
Мама, ты умрешь ужасной смертью – пьяная женщина, проглотившая собственный язык. А я дам жизнь маленькой девочке, очень похожей на тебя, с такими же большими круглыми глазами, прелестными висками и лобиком, и она умрет, мама, умрет, не прожив и шести лет. Умрет в окружении аппаратов, за те несколько минут, жалких несколько минут, мама, когда я попытаюсь хоть ненадолго уснуть. Ловила сон, а поймала ее смерть. Отойди от меня, сатана.[5] О, какая мука! Мы с Розалиндой бежим вперед; мама медленно идет по плитам позади: улыбающаяся женщина, которая больше не боится темноты. Давно это было. Война еще не закончилась. Машины, медленно скользящие по Притания-стрит, похожи на горбатых жуков или сверчков.
– Я сказала, прекрати!
Я разговаривала сама с собой. Подняла руки и потрогала мокрую голову. Как ужасно находиться в этой комнате, среди нестерпимого шума, когда у тебя с волос капает вода. Как изменился голос мисс Харди. Она начала верховодить.
А на улице солнце освещало крылечки и машины, тянущиеся сплошным потоком, и старые деревянные облезлые трамваи, со звоном проезжавшие мимо меня, напоминая о драме, постигшей фуникулер в Сан-Франциско.
– Как она может так с нами поступать? – всхлипывала Катринка уже за дверью. За той самой дверью, которой она хлопнула. Теперь она голосила в коридоре.
Зазвенел звонок. Я была в дальней половине дома, поэтому даже краем глаза не могла разглядеть, кто поднялся на крыльцо.
Мне были видны только белые азалии вдоль забора до самого угла, где ограда делает поворот. Какая прелесть, какая несказанная прелесть! Все это оплачивал Карл: и садовников, и мульчу, и плотников, и молотки, и гвозди, и белую краску для колонн. И вот, пожалуйста, коринфские капители восстановлены, листья аканфа поднимаются высоко вверх и держат крышу, а потолок на крыльце выкрашен светло-голубой краской, чтобы осы решили, будто это небо, и не устраивали там гнезда.
– Идемте, милая, – прозвучал мужской голос. Я знала этого мужчину, хотя и не очень хорошо. Однако я ему доверяла, но как раз сейчас не могла припомнить, как его зовут, – возможно, мне мешали сделать это все еще доносившиеся издалека крики Катринки.
– Триана, милая.
Ну да, это же Грейди Дьюбоссон, мой адвокат. Он принарядился: костюм, галстук… И даже не выглядел сонным – напротив, он полностью контролировал выражение лица и был предельно серьезным, словно знал – как и большинство людей, находящихся здесь, – как вести себя со смертью, не отрицая ее и не надевая на себя лживую личину.
– Не волнуйтесь, Триана дорогая, – произнес он самым естественным, доверительным тоном. – Я не позволю им тронуть ни одной серебряной вилки. Поезжайте с доктором Гидри в город. Отдохните. Все равно церемония не может состояться, пока остальные не вернутся из Лондона.
– Книга Карла… Наверху осталось несколько страниц.
Снова прозвучал утешающий бас Гленна с южным акцентом:
– Я забрал их, Триана. Отнес все его бумаги вниз. Уверяю тебя, никто ничего не будет жечь наверху…
– Простите, что доставляю столько хлопот, – прошептала я.
– Совершенно помешалась! – Это была Катринка. Розалинда вздохнула.
– Мне не показалось, что он страдал. Просто уснул. – Она говорила так, чтобы утешить меня.
Я снова обернулась и незаметно для всех поблагодарила сестру. Она поняла и ответила мне мягкой улыбкой. Я любила ее безгранично.
Розалинда поправила на носу очки в толстой оправе. В детстве отец кричал на нее, веля передвинуть очки на переносицу, но толку от этих криков было мало: в отличие от отцовского у нее был маленький носик. И выглядела она сейчас так, что отец, увидев ее, непременно пришел бы в ужас: располневшая с возрастом, сонная, неряшливая и в то же время милая, с вечно падающими очками, курящая сигареты, сыплющая пепел на пальто… Но полная любви.
– Думаю, он совершенно не страдал, – повторила она. – Не обращай внимания на Тринк. Эй, Тринк, ты когда-нибудь задумывалась о том, в каких кроватях вам с Мартином приходилось спать в тех бесчисленных гостиницах, где вы останавливались? Ведь кого там только не перебывало до вас, в том числе и больных СПИД?
Я чуть не рассмеялась.
– Идемте, дорогая, – сказал Грейди.
Доктор Гидри взял двумя руками мою ладонь. Какой он все-таки молодой. Никак не могу привыкнуть, что доктора теперь моложе меня. А Гидри весь такой светленький, чистенький, с неизменной маленькой Библией в верхнем кармашке пиджака. Наверное, он все-таки не католик, раз носит с собою Библию. Должно быть, баптист.
А сама я не чувствую возраста. Но это оттого, что мертва, – верно?
Я в могиле.
Нет. Это никогда долго не длится.
– Послушайтесь моего совета, – сказал доктор Гидри так нежно, словно целовал меня. – И позвольте Грейди все устроить.
– Прекратилось, – сказала Розалинда.
– Что? – вскинулась Катринка. – Что прекратилось? – Она стояла в дверях и прочищала нос. Скомкав салфетку, она швырнула ее на пол и злобно уставилась на меня. – Ты когда-нибудь задумывалась, каково нам переживать все это?
Я не стала ей отвечать.
– Скрипач, – сказала Розалинда. – Твой трубадур. Кажется, он ушел.
– Я не слышала никакого дурацкого скрипача, – стиснув зубы, процедила Катринка. – С какой стати обсуждать какого-то скрипача? Неужели ты думаешь, этот скрипач важнее того, что я пытаюсь сказать?
Появилась мисс Харди и прошла мимо Катринки, словно той не существовало. На мисс Харди были чистейшие белые туфли. Значит, на дворе весна: дамы Садового квартала никогда не наденут белые туфли, если не наступил соответствующий сезон.
Но я была уверена, что стоял холод.
Мисс Харди протянула мне пальто и шарф.
– Позвольте, дорогая, я помогу вам одеться.
Катринка продолжала не мигая смотреть на меня. Губы ее дрожали, из выпуклых покрасневших глаз струились слезы. Какую несчастную жизнь она прожила.
Но по крайней мере, когда она родилась, мать не пила. Катринка была здоровой и хорошенькой, тогда как Фей едва выжила – крошечное улыбающееся создание, которое на несколько недель поместили в инкубатор. Фей никогда не верила в собственную сказочную привлекательность.
– Почему бы тебе не уйти? – обратилась я к Катринке. – Здесь и без тебя народу хватает. Где Мартин? Позвони ему и скажи, чтобы приехал и забрал тебя.
Мартина, ее мужа, называли чудом риэлтерского бизнеса А в свое время он был довольно известным юристом.
Розалинда рассмеялась, самодовольно захихикала себе под нос, но я тоже услышала. И тогда я поняла. Разумеется.
И Розалинда поняла. Она сложила руки и, подавшись вперед, уперлась большой грудью в стол. И подтолкнула очки на переносицу.
– Твое место в сумасшедшем доме, – дрожа, сказала Катринка. – Ты спятила, когда умерла твоя дочь! Нечего было так чрезмерно заботиться об отце! У тебя в доме круглые сутки дежурила сиделка. Толпами ходили доктора. Ты сумасшедшая, и тебе нельзя оставаться в этом доме… – Она умолкла, устыдившись собственной грубости.
– Должна заметить, вы весьма прямолинейная молодая женщина, – заметила мисс Харди. – Прошу меня простить.
– Мисс Харди, примите мою благодарность, – сказала я. – Я вам ужасно, ужасно…
Она жестом остановила меня, показав, что все прощено.
Я перевела взгляд на Розалинду, а та по-прежнему тихонечко хихикала, качая из стороны в сторону головой и глядя на Катринку поверх очков – большая, сильная и красивая, несмотря на вес и возраст, женщина.
Катринка тоже красива: у нее спортивное поджарое тело, острые грудки, яростно торчащие под шелковой блузкой с короткими рукавами. Какие маленькие ручки. Из нас четырех только у Катринки идеальное телосложение, и она единственная родилась со светлыми волосами – настоящая натуральная блондинка.
Наступила тишина. О чем это они? Розалинда подобралась и вздернула подбородок.
– Катринка, – произнесла Розалинда едва слышно, наполнив тем не менее всю комнату торжественностью своего тона. – Этот дом ты не получишь.
Она стукнула ладонью по столу и громко расхохоталась. Мне вдруг стало весело, и я рассмеялась – негромко, разумеется. И в самом деле, это было очень забавно.
– Как ты смеешь обвинять меня в подобном?! – взвилась Катринка и набросилась на меня. – Ты два дня держишь в доме мертвое тело, а я еще пытаюсь убедить их, что ты больна. Тебя нужно сдать куда положено, тебя нужно обследовать, тебя следует уложить в кровать. И ты еще думаешь, что мне нужен этот дом, что я пришла сюда специально в такой момент? А у меня, между прочим, есть собственный дом, хоть и сто раз перезаложенный. У меня есть и муж, и дочери, а ты посмела сказать мне такое перед всеми этими людьми, которых мы едва…
Грейди прервал этот поток слов и тихо, но решительно заговорил с ней о чем-то.
Доктор пытался взять Катринку за руку. Розалинда пожала плечами.
– Тринк, – сказала она, – мне неприятно напоминать тебе об этом, но этот дом пожизненно принадлежит Триане. Здесь хозяйка она, и право на него имеет еще только Фей, если Фей еще жива. Может быть, Триана и сумасшедшая, но она пока не мертва.
И тут я снова не удержалась от смеха – тихого озорного смеха, а Розалинда ко мне присоединилась.
– Жаль, здесь нет Фей, – сказала я Розалинде.
Фей была нашей младшей сестрой. Маленькая женщина, ангелок, рожденный больным и истощенным чревом.
Уже больше двух лет никто не видел мою дорогую Фей, не получал от нее никаких известий – ни по телефону, ни по почте. Фей!
– А знаешь, возможно, в этом и была беда с самого начала, – призналась я, вытирая слезы.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросила Розалинда Она выглядела такой милой и спокойной, что мне это даже показалось ненормальным. Она неловко подняла со стула свое громоздкое тело, подошла ко мне и поцеловала в щеку.
– В трудные времена нам всегда нужна Фей, – всхлипнула я. – Всегда. Нам вечно не хватало Фей. Позовите Фей. Попросите Фей помочь то с одним, то с другим. Все нуждались в Фей, зависели от нее.
Вперед выступила Катринка. Меня потрясло выражение ее лица. Неужели я так никогда к этому и не привыкну? С детства я наблюдала это нетерпение, яростное презрение, нескрываемую личную неприязнь и безмерное отвращение! При одном только взгляде на сестру мне захотелось сжаться и уступить, отвернуться и промолчать и прекратить все споры, перепалки и обсуждения.
– Так вот, Фей, возможно, была бы сейчас жива, – сказала Катринка, – если бы вы не снабдили ее деньгами – ты и твой мертвый муженек. По вашей вине она убежала и исчезла без следа.
Розалинда резко приказала ей заткнуться. Фей? Мертва?
Это уж слишком. Я улыбнулась сама себе. Все понимали, что Катринка явно перегнула палку. Фей действительно исчезла, никто не спорит. Но разве она мертва?
И все же что ощущала я, старшая сестра? Покровительственный страх за Тринк, потому что она действительно зашла чересчур далеко и теперь они начнут упрекать и оскорблять ее, бедняжку. Она расплачется и потом будет долго рыдать, но так ничего и не поймет. Они станут смотреть на нее с презрением, а ей будет очень больно.
– Перестань…
Я не успела договорить, ибо доктор Гидри поспешил вывести меня из комнаты. Грейди взял меня за руку. Я растерялась. Рядом со мной оказалась Розалинда.
А Катринка все выла и выла. До полного изнеможения. Кто-то должен был ей помочь. Возможно, этим человеком окажется Гленн. Он всегда помогал людям, даже Катринке.
Меня вновь поразили услышанные от сестры слова: «…была бы сейчас жива», но я старалась не вдумываться в их смысл.
– Фей ведь не умерла? – спросила я.
Знай я наверняка после стольких мучительных лет ожидания Фей, что ее нет в живых, я позвала бы ее с нами в сырую могилу, и мы могли бы быть там все вместе: Фей и Лили, и мама, и папа, и Карл. Я бы включила Фей в свою литанию.
Но не может быть, чтобы Фей оказалась мертва. Только не моя драгоценная Фей. Чего тогда стоили вся моя эксцентричность, кажущаяся чрезмерной мудрость и высокие чувства.
– Только не Фей.
– О Фей по-прежнему ни слова, – сказала Розалинда мне на ухо. – Она, наверное, попивает текилу в каком-нибудь мексиканском кафе для дальнобойщиков. – Сестра еще раз поцеловала меня. Я почувствовала тяжелое и в то же время нежное прикосновение ее руки.
Мы стояли в парадных дверях, Грейди и я – безумная вдова и добрый старый семейный адвокат.
Мне нравятся парадные двери моего дома. Большие, двустворчатые, расположенные в самой середине стены, они ведут на широкую террасу вокруг дома. Такой красивый дом. И дня не проходило, чтобы я им не любовалась.
Много лет назад мы с Фей частенько выплясывали на крыльце и при этом напевали: «Он вальсировал с девушкой под звуки оркестра…». Она была младше меня на восемь лет и такая маленькая, что помещалась у меня на руках, как обезьянка.
А какие заросли азалий вокруг ступеней – кроваво-красные и удивительно густые! Нет сомнения, это весна. Повсюду цветут изнеженные растения – да, это типичный дом Садового квартала. И колонны такие белые… Надо же, а ведь, оказывается, на мисс Харди вовсе не белые туфли. Они серые.
А в доме Розалинда кричала на Катринку
– Не говори о Фей, только не теперь! Не говори о Фей. Катринка, как всегда, лишь рычала в ответ…
Кто-то приподнял от пола мою ногу. Это мисс Харди надела на меня тапочки. Ворота стояли раскрытыми настежь. Грейди держал меня за руку.
Доктор Гидри ждал у распахнутых дверок «скорой помощи».
Снова заговорил Грейди, уверяя меня, что если я поеду в больницу, то смогу уйти оттуда, как только захочу. Пусть только меня подлечат там немного.
Подошел доктор Гидри и тоже взял меня за руку.
– Ваш организм сильно обезвожен, Триана, и к тому же вы давно ничего не ели. Никто не говорит о том, чтобы сдать вас куда-то. Я просто хочу, чтобы вы поехали в больницу. Только и всего. Вам нужно отдохнуть, и я обещаю, что вам не будут проводить никаких тестов.
Я вздохнула. Все вокруг начало становиться ярче.
– Мой дорогой ангел-хранитель, – прошептала я, – которому вверяет меня любовь Господа…[6]
Внезапно все лица вокруг меня стали удивительно четкими.
– Простите… – негромко проговорила я. – Мне так жаль… очень-очень жаль, что так случилось… Простите… – Я разрыдалась. – Можете тестировать. Да, проверьте все, что нужно. Простите… мне очень жаль…
Я остановилась на дорожке.
У ворот стояли мои дорогие Алфея и Лакоум, вид у них был очень обеспокоенный. Наверное, все эти белые люди: врач, адвокат, дама в серых туфлях – не пустили их ко мне. Алфея надула губу, словно собираясь расплакаться, она сложила тяжелые руки на груди и наклонила голову.
Лакоум пробасил:
– Мы здесь, босс.
Я хотела было ответить, но мое внимание отвлекло что-то на другой стороне улицы.
– Что случилось, милая? – спросил Грейди. В его акценте звучали приятные нотки жителя Миссисипи.
– Скрипач.
Черная фигура смутно маячила вдалеке, на другой стороне улицы. Не дойдя до конца квартала, до угла Третьей и Каронделет-стрит, скрипач оглянулся.
Потом он исчез.
По крайней мере, мне показалось, что он исчез за вереницей машин и деревьями. Однако я целую секунду ясно его видела: странный часовой в ночи оглянулся и широкими ровными шагами пошел дальше, держа в руках скрипку.
Я забралась в машину и растянулась на носилках, что, видимо, обычно не делается, но я поступила так неловко потому, что первой начала карабкаться в машину, прежде чем меня кто-то успел остановить. Укрылась простыней, сомкнула веки. Больница Милосердия. Все мои тетушки, прослужившие там монашками много лет, уже в ином мире. Тут я спросила саму себя, сумеет ли мой бродячий скрипач отыскать больницу Милосердия.
– Знаете, а ведь этот человек нереален! – Вздрогнув, я очнулась. Машина уже ехала в общем потоке. – Хотя с другой стороны… Розалинда и мисс Харди – обе его слышали.
Или это тоже был сон? В этой жизни реальность и сон переплелись так тесно, что одно неизменно торжествует над другим.
Глава 4
Последовали три дня бессонной больничной дремоты, неглубокой, тревожной, наполненной раздражением и страхом.
Неужели они успели кремировать Карла? Была ли у них абсолютная уверенность, что он мертв, прежде чем его поместили в ту жуткую печь? Я никак не могла отделаться от этого вопроса. Неужели мой муж превратился в пепел?
Мать Карла, миссис Вольфстан, вернулась из Англии и без умолку плакала у моей постели, кляня себя за то, что оставила меня с умирающим сыном. Я вновь и вновь повторяла, что с любовью заботилась о нем и у нее нет оснований корить себя за отъезд. В том, что почти одновременно со смертью Карла на свет появился новый младенец, было нечто прекрасное и удивительное.
Мы обе улыбались, глядя на фотографии новорожденного, сделанные в Лондоне. Руки мои болели от уколов. Перед глазами все расплывалось.
– Тебе больше никогда-никогда не придется ни о чем беспокоиться, – сказала миссис Вольфстан.
Я знала, что она имеет в виду. Хотела поблагодарить и сказать, что Карл однажды мне все объяснил, но не смогла и вместо этого принялась плакать. Нет, я снова буду беспокоиться. Буду беспокоиться о том, что не в силах изменить щедрость Карла.
У меня были сестры, которых я любила и теряла. Где сейчас Фей?
Я сама довела себя до больничной палаты – человек, два дня проживший на нескольких глотках содовой и паре кусков хлеба, может довести себя до сердечной аритмии.
Пришел мой зять Мартин – муж Катринки и сообщил, что она очень расстроена и просто не может заставить себя перешагнуть порог больницы.
Мне сделали все анализы.
Посреди ночи я вдруг проснулась и подумала: «Это больничная палата, а в кровати лежит Лили. Я сплю на полу. Нужно подняться и убедиться, что с моей маленькой девочкой все в порядке».
И тут меня пронзило своей остротой одно воспоминание, от которого кровь застыла в жилах: я вошла в палату мокрая от дождя, пьяная, посмотрела на лежащую в кроватке девочку пяти лет, лысую, опустошенную, почти мертвую, и ударилась в бурные слезы.
– Мамочка, мамочка, почему ты плачешь? Мамочка, ты меня пугаешь!
Как ты могла так поступить, Триана?!
Однажды ночью, наглотавшись перкодана, фенергана и других успокоительных, которыми меня пичкали, чтоб утихомирить, заставить меня поспать и перестать задавать глупые вопросы, такие, например, как: заперт ли дом и какова судьба работы Карла о святом Себастьяне, я подумала, что проклятие памяти заключается в следующем: ничто никогда не забывается.
Меня спрашивали, не позвать ли Льва, моего первого мужа. «Ни в коем случае, – ответила я. – Не смейте его беспокоить. Я сама ему позвоню. Когда захочу».
Но из-за действия лекарств я так и не сумела спуститься вниз.
Снова провели всякие тесты.
Однажды утром я все ходила и ходила по коридору, пока медсестра не сказала:
– Вы должны вернуться в постель.
– А зачем? Что у меня?
– Да ни черта у вас нет, – ответила она, – если бы только они еще прекратили колоть вас транквилизаторами. Приходится снижать дозу постепенно.
Розалинда положила у моей кровати маленький черный проигрыватель дисков, надела мне на голову наушники, и нежно зазвучали моцартовские голоса – ангелы распевали какую-то глупость из «Так поступают все». Великолепные сопрано пели в унисон.
Я мысленно прокрутила один фильм «Амадей». Я видела его. Чудесный фильм, в котором злодей-композитор Сальери, восхитительно сыгранный Ф. Мюрреем Абрахамом, довел до смерти похожего на ребенка, смеющегося Моцарта. Там был один момент, когда, сидя в золоченой обитой бархатом театральной ложе, Сальери взглянул на певцов, на маленького херувимчика, истеричного дирижера и сказал голосом Ф. Мюррея Абрахама:
– Я слышал голоса ангелов. Да, клянусь Богом. Да.
Миссис Вольфстан не хотела уезжать. Но все было сделано, прах помещен в мавзолей Метэри, анализы на ВИЧ и на все прочее оказались отрицательными. Я была самим воплощением здоровья и потеряла всего пять фунтов. Сестры все это время оставались при мне.
– Да, поезжайте, миссис Вольфстан, не сомневайтесь. Вы знаете, что я любила его. Любила всем сердцем, и это никогда не имело отношения к тому, что он давал мне или другим.
Поцелуи… Запах ее духов…
– Все в порядке, – сказал Гленн. Ладно, хватит об этом Книга Карла в руках ученых, чьи имена он назвал в своем завещании.
Слава Богу, нет необходимости вызывать Льва, подумала я. Пусть Лев остается с живыми.
Все остальное Грейди взял в свои руки, и Алфея, моя дорогая Алфея, сразу приступила к работе в доме, как и Лакоум, принявшийся полировать серебро «для мисс Трианы». Алфея приготовила мою старую кровать в большой северной комнате на первом этаже и забросала ее красивыми подушками – по моему вкусу.
Нет, супружескую кровать в стиле принца Уэльского не сожгли. Правда, не сожгли. Только постельные принадлежности. Миссис Вольфстан пригласила из мебельного салона «Гурвиц Минц» очаровательного молодого человека, который принес целый ворох новых муаровых подушек и бархатных накидок и приделал новую фестончатую ленточку к деревянному балдахину.
Я отправлюсь к себе, в свою прежнюю комнату. Там стоит моя старая кровать о четырех столбиках, украшенных резьбой в виде риса – символа плодородия. Спальня на первом этаже была единственной настоящей спальней в коттедже.
Когда буду готова.
Однажды утром я проснулась. Рядом спала Розалинда. Она дремала в одном из тех покатых глубоких кресел с деревянными подлокотниками, которые стоят в больничных палатах для бодрствующих родственников.
Я знала, что прошло четыре дня и что вчера вечером я впервые поела как следует. Иглы впивались в руку, как насекомые. Я отклеила пластырь, выдернула их все до единой и встала с постели. Потом прошла в ванную, нашла в шкафчике свои вещи и полностью оделась, прежде чем разбудить Розалинду.
Сестра проснулась и сонно заморгала, стряхивая с блузки сигаретный пепел.
– Анализ на ВИЧ-инфекцию отрицательный, – тут же произнесла она, словно ей не терпелось сообщить мне новость и она не помнила, что мне об этом неоднократно говорили. Она оцепенело смотрела на меня широко открытыми глазами сквозь стекла очков, а потом выпрямилась на стуле.
– Катринка заставила их провести все, какие только можно, тесты, разве что не велела отрезать тебе один палец.
– Давай-ка уберемся отсюда, – сказала я.
Мы поспешили по коридору. Он был пуст. Мимо прошла медсестра, которая не знала, кто мы, или не хотела знать.
– Я проголодалась, – сообщила Розалинда. – А ты не прочь поесть? Я говорю о настоящей еде.
– Я просто хочу домой, – ответила я.
– Тебя ждет очень приятный сюрприз.
– Что еще такое?
– Ты ведь знаешь семейку Вольфстанов. Они купили тебе лимузин и наняли нового шофера, Оскара, и он, в отличие от Лакоума, которого я ни в коем случае не хочу обидеть, умеет читать и писать.
– Лакоум умеет писать, – возразила я. Мне, наверное, уже тысячу раз приходилось это повторять, ведь мой слуга Лакоум на самом деле умеет писать, но вот говорит он на махровом негритянском джазовом диалекте, так что его редко кто понимает.
– Та-ак… Что еще? Алфея вернулась, целый день тараторит, распекает новую уборщицу на все корки и запрещает Лакоуму курить в доме. Кто-нибудь вообще понимает, что она говорит? Ее собственные дети понимают, что она говорит?
– Никогда над этим не задумывалась, – ответила я.
– Видела бы ты этот дом, – сказала Роз. – Тебе понравится. Я пыталась им сказать…
– Кому сказать?
Приехал лифт, и мы вошли. Потрясение. Больничные лифты всегда такие огромные, в них помещается больной – живой или мертвый – на носилках и два или три санитара. Мы стояли вдвоем в этом огромном металлическом купе, скользящем вниз.
– Кому и о чем сказать?
Розалинда зевнула. Мы быстро прошли на первый этаж.
– Сказать семейству Карла, что мы всегда возвращаемся домой после похорон, что мы всегда возвращаемся к себе, что тебе не нужны ни роскошная городская квартира, ни люкс в «Уиндзор Корт». А что, Вольфстаны действительно настолько богаты? Или просто немного не в себе? Всем подряд суют деньги – и мне, и Алфее, и Лакоуму, и Оскару… – Двери лифта раскрылись. – Видишь ту большую черную машину? Ты теперь хозяйка этой штуковины. За рулем сидит Оскар, тебе знаком этот тип старого охранника-шофера. Лакоум за его спиной строит гримасы, а Алфея не собирается для него готовить.
– И не придется, – сказала я, слегка улыбнувшись.
Я действительно знала этот тип: кожа цвета карамели, не такая светлая, как у Лакоума, медоточивый голос, прилизанные волосы и блестящие стекла очков в серебряной оправе. Очень старый – возможно, даже чересчур, – чтобы садиться за руль, и очень традиционный.
– Забирайтесь внутрь, мисс Триана, – сказал Оскар, – и отдыхайте, пока я везу вас домой.
– Да, конечно.
Розалинда облегченно вздохнула, как только захлопнулась дверца машины.
– Есть хочу.
Перегородка между Оскаром и нами была поднята. Мне это понравилось. Хорошо все-таки иметь собственную машину. Я не умела водить. Карл не хотел. Всякий раз нанимал лимузин – по малейшему поводу.
– Роз, – как можно мягче обратилась я к сестре, – нельзя ли, чтобы он отвез тебя поесть, после того как я устроюсь?
– Это было бы здорово. Уверена, что хочешь остаться одна.
– Ты ведь сама сказала, что после мы всегда возвращаемся домой. Мы не бежим. Я бы залегла в кровать наверху, только она никогда не была моей. Это была наша с Карлом кровать – в болезни и в здравии. Ему нравилось лежать там, когда дневное солнце ударяло в окна. Я бы с удовольствием свернулась калачиком на его кровати. Мне хочется побыть одной.
– Я так и думала, – сказала Роз. – Катринку удалось ненадолго заткнуть. Грейди Дьюбоссон показал ей документ, по которому все, что Карл когда-то дарил тебе, остается в твоем единоличном владении. А в тот день, когда он переехал в этот дом, он сразу подписал бумаги, исключающие малейшую возможность притязаний на него со стороны кого-либо. Вот это ее и заткнуло.
– Она думала, что семья Карла попытается отобрать у меня дом?
– Нечто безумное в этом роде, но Грейди показал ей отказ от права собственности… Или наследования? Как правильно?
– Честно, даже не помню.
– Но ты-то понимаешь, что ей на самом деле нужно. Я улыбнулась.
– Не волнуйся, Розалинда, ни о чем не волнуйся.
Она повернулась ко мне и с серьезным видом взяла мою руку в свою – грубую и мягкую одновременно. Машина ехала по Сент-Чарльз-авеню.
– Послушай. Не думай о деньгах, которые нам давал Карл. Его старушка выложила передо мной целую гору купюр. Да к тому же нам с Гленном давно пора своими трудами добиться успеха, знаешь ли, – пора научиться выгодно продавать пластинки и книги. – Она рассмеялась низким, гортанным смехом. – Ты знаешь Гленна, но мы должны жить самостоятельно. Даже если придется снова стать медсестрой, мне все равно.
Мысли мои разбегались. Все это было не важно. Какой-то тысячи в месяц хватало, чтобы поддерживать их на плаву. Роз не знала. Никто не знал, сколько на самом деле оставил Карл, за исключением, наверное, миссис Вольфстан, если она решила все поменять.
Откуда-то послышался вежливый голос:
– Мисс Триана, мэм, хотите проехать мимо кладбища Метэри, мэм?
– Благодарю, Оскар, – сказала я, наконец разглядев небольшой динамик над головой.
У нас есть наша могила, у него и у меня, – и Лили, и матери, и отца.
– Я сейчас просто поеду домой, Роз. Послушай, родная, позвони Гленну. Пусть он закроет магазин и сходит с тобой в ресторан «Дворец командора». Устройте там похоронный пир, ладно? Сделай это для меня. Попируйте за нас обоих.
Мы пересекли Джексон-авеню. Старые дубы уже покрылись свежей весенней зеленью.
Я поцеловала сестру на прощание и велела Оскару отвезти ее, куда она скажет, и подождать. Это была красивая машина: просторный лимузин с бархатной серой обивкой – такие обычно используют в похоронных бюро.
«Итак, мне все-таки довелось прокатиться в нем, – подумала я, когда они отъезжали от обочины, – хотя и не во время похорон».
Как красиво смотрелся мой дом. Мой дом. Бедная Катринка!
Руки у Алфеи мягкие, как черный шелк. Мы обнимаемся, и мне кажется, будто в мире никто никому не может причинить боль. Бесполезно пытаться передать здесь ее слова, потому что говорит она ничуть не лучше Лакоума, произнося не больше одного слога из каждого многосложного слова, но я все поняла: «Добро пожаловать домой, очень о вас беспокоилась, скучала, все бы для вас сделала в те последние дни, почему меня не позвали, я бы выстирала простыни, не побоялась бы их выстирать, а теперь прилягте, деточка моя, а я пока приготовлю вам горячий шоколад…»
Лакоум затаился у порога кухни – маленький лысый человечек, который где угодно, кроме Нового Орлеана, сошел бы за белого, хотя, конечно, его бы сразу выдал предательский акцент.
– Как дела, босс? На мой взгляд, вы отощали, босс. Вам бы следовало поесть. Алфея, даже не смей предлагать этой женщине свою стряпню. Босс, я сам схожу за едой. Что купить, босс? Босс, в доме полно цветов. Я бы мог поторговать с крылечка – заработал бы для нас несколько долларов.
Я рассмеялась: Алфея отчитала его как следует, повышая голос и подкрепляя слова несколькими выразительными жестами.
Я отправилась наверх – просто захотелось удостовериться, что кровать о четырех столбиках в стиле принца Уэльского на своем месте. Так оно и оказалось. Правда, я увидела новые атласные украшения.
Мать Карла повесила у кровати портрет сына в рамке – не тот скелет, который увезли отсюда, а кареглазого добросердечного человека, который сидел со мной на ступенях пригородной библиотеки, говорил о музыке, о смерти, о браке, человека, который возил меня в Хьюстон послушать оперу и в Нью-Йорк, человека, который собрал все картины, изображавшие святого Себастьяна, когда-либо написанные итальянскими художниками или в итальянском стиле, мужчины, который занимался любовью, пользуясь только руками и губами, и не терпел никаких возражений по этому поводу.
Письменный стол был пуст. Все бумаги исчезли. Сейчас не время волноваться по этому поводу. Гленн дал слово, а он и Роз еще никого и никогда не подводили.
Я снова спустилась вниз.
– А знаете, я мог бы вам помочь с этим парнем, – сказал Лакоум.
Алфея тут же заявила, что он слишком много болтает и пора ему замолчать или пойти вымыть пол, или вообще убраться на все четыре стороны.
В моей комнате было чисто и тихо. Разобранная постель, нежные ароматные марокканские лилии в вазе. Откуда они узнали? Ну конечно, им рассказала Алфея. Марокканские лилии.
Я забралась в кровать, в мою кровать.
Как я уже говорила, эта спальня была спроектирована как хозяйская спальня коттеджа и расположена она на первом этаже в восточном восьмиугольном крыле дома, вытянувшегося среди темных зарослей лавровишни, отгородившей его от всего мира.
Это единственное крыло, которое есть у дома, имеющего прямоугольную форму. И крытые галереи, наши широкие террасы, которые мы так любим, проходят вдоль этой спальни, заворачивают за угол и по другую сторону дома заканчиваются у кухонных окон.
Как приятно выйти на террасу и взглянуть сквозь всегда блестящие листья лавровишни на уличную суету, которая тебя никак не касается.
Я бы ни за что не променяла эту улицу ни на Елисейские Поля, ни на Виа Винето, ни на Желтую Кирпичную Дорогу или даже Дорогу в Небеса. Приятно иногда снова оказаться в этой восточной спальне или постоять у перил – так далеко от улицы, что тебя никто не замечает, – и полюбоваться на веселые огоньки проезжающих мимо машин.
– Алфея дорогая, раздвинь занавески, чтобы я могла видеть, что происходит за окном.
– Только не открывайте его: сейчас слишком холодно.
– Знаю. Я хочу всего лишь посмотреть…
– Никакого шоколада, никаких книг. И музыки вам не надо, и радио. Я подобрала ваши диски с пола, все до единого, пришла Розалинда и сложила их по порядку, Моцарта к Моцарту, Бетховена к Бетховену, она показала мне, где…
– Нет, не волнуйся. Просто отдохну. Поцелуй меня.
Она наклонилась и прижалась шелковой щекой к моей щеке, шепнув при этом: «Моя деточка».
Она укрыла меня двумя большими стегаными одеялами – сплошной шелк, наполненный пухом, можно не сомневаться, – это был стиль миссис Вольфстан, стиль Карла: только настоящий гусиный пух, чтобы не чувствовать веса. Алфея обернула ими мои плечи.
– Мисс Триана, почему вы не позвали ни Лакоума, ни меня, когда умирал ваш муж? Мы бы пришли.
– Знаю. Мне вас не хватало. Но я не хотела вас пугать.
Алфея покачала головой. Она была очень красива: кожа гораздо темнее, чем у Лакоума, большие чудесные глаза и мягкие волнистые волосы.
– Повернитесь лицом к окну, – сказала она, – и поспите. Никто не придет в этот дом, обещаю.
Я легла на бок и взглянула в окно, сквозь двенадцать блестящих чистых стекол переплета, на далекие деревья такого же цвета, как автомобильный поток.
Я с удовольствием вновь полюбовалась азалиями – розовыми, красными и белыми, – пышно цветущими вдоль забора, изящной чугунной решеткой, заново выкрашенной в черный цвет, и террасой, сияющей чистотой.
Как чудесно, что Карл подарил мне все это, прежде чем умереть, – полностью восстановил мой дом. Теперь каждая дверь в доме закрывается как следует, все замки работают, из кранов течет вода нужной температуры.
Я смотрела в окно и мечтала минут пять – возможно, больше. Мимо проезжали трамваи. Мои веки отяжелели.
И только краешком глаза я разглядела фигуру, стоявшую на террасе: своего старого знакомого – высокого тощего скрипача с шелковистыми волосами, падающими на грудь.
Он прицепился к краю окна, словно стебель лианы, – невозможно худой, бледный, как теперь модно, и все же несомненно живой. Черные волосы, прямые и блестящие. На этот раз никаких тоненьких косичек, завязанных на затылке, – только свободные пряди.
Я увидела его темный левый глаз, гладкую черную бровь, белые щеки – слишком уж белые – и губы, живые и гладкие, очень гладкие.
Я испугалась. Но лишь на секунду, не больше. Я понимала, что это невозможно. Не то чтобы невозможно, но опасно, неестественно – этого просто не может и не должно быть.
Я знала, когда я бодрствую, а когда сплю, – независимо от того, какая тяжелая борьба шла между сном и явью. А он был здесь, на моей террасе, этот человек. Он стоял и смотрел на меня.
И вдруг я перестала бояться. Мне стало все равно. Это был чудесный приступ полного безразличия. На все наплевать. Какая божественная пустота наступает вслед за исчезновением страха! В ту секунду мне казалось, что это вполне рациональная точка зрения.
Потому что и в том и в другом случае… реален он или нет… это было приятное и красивое видение. По рукам у меня пробежал холодок. Значит, волосы все-таки могут встать дыбом, даже когда ты лежишь, придавив собственную шевелюру на подушке, вытянув одну руку и глядя в окно. Да, мое тело затеяло эту маленькую войну с моим разумом.
«Берегись! Берегись!» – кричало тело. Но мой разум такой упрямый.
Внутренний голос зазвучал весьма решительно, я восхитилась сама собой – тем, что способна различить интонацию в собственной голове. Можно кричать или шептать, не шевеля губами. Я сказала ему: «Сыграй мне. Я по тебе скучала».
Он придвинулся ближе к стеклу, на мгновение превратившись, как мне показалось, в сплошные плечи – такой высокий и худющий, с такой пышной, соблазнительной шевелюрой (мне захотелось запустить в нее пальцы и пригладить), – и пристально взглянул на меня сквозь верхнее оконное стекло. Это был не злой взгляд выдуманного Питера Квинта,[7] искавшего тайну за пределами моего пространства. Он смотрел на то, что искал. На меня.
Заскрипели половые доски. Кто-то подошел к двери. Алфея. Легко, словно не происходило ничего необычного, она просто скользнула в комнату – как всегда это делала. Я даже не обернулась, чтобы взглянуть на нее.
Я услышала, как она возится за моей спиной, как ставит чашку на тумбочку. Потянуло ароматом горячего шоколада.
Я не отрывала глаз от его высоких плеч и пыльных рукавов шерстяного пальто, а он продолжал пристально смотреть на меня через окно и ни разу не отвел своего блестящего глубокого взгляда.
– О Боже, ты опять здесь! – воскликнула Алфея.
Он не шевельнулся. Я тоже.
Алфея тихо, невнятно затараторила (простите, что приходится переводить):
– Опять ты здесь под окном у мисс Трианы. Что за наглость. Тебе, наверное, нравится пугать меня до смерти. Мисс Триана, он отирался здесь все это время, день и ночь, хотел сыграть для вас, твердил, что не может до вас добраться, что вам нравится его игра, что вам без него не обойтись, – вот что он говорил. Послушай, что ты теперь сыграешь, когда она дома? Думаешь, сумеешь сыграть что-нибудь красивое для нее теперь, когда она такая? Взгляни на нее. Думаешь, от твоей игры ей станет легче?
Она величаво подошла к краю кровати, сложив руки и выпятив подбородок.
– Ну, давай же, сыграй для нее, – велела она. – Ты ведь слышишь меня сквозь стекло. Теперь она дома, такая печальная. А ты только посмотри на себя. Если ты надеешься, что я возьмусь чистить твое пальто, то подумай еще раз.
Я, должно быть, улыбнулась. И… поглубже зарылась в подушку.
Она его видела!
Он так и не отвел от меня взгляда. Не проявил к ней никакого уважения. Его рука лежала на стекле, как огромный белый паук. А в другой руке он держал скрипку и смычок. Я разглядела темные изящные изгибы инструмента.
Я улыбалась Алфее, не поворачивая головы, потому что теперь она стояла между нами, лицом ко мне, смело и решительно закрывая его из виду. И снова я переведу то, что скорее не диалект, а песня:
– Он все говорил и говорил о том, как он умеет играть и сыграет вам. Что вам это нравится. Вы его знаете. Я не видела, чтобы он подходил сюда, на террасу. Лакоум наверняка бы его увидел. Лично я его не боюсь. Лакоум хоть сейчас может его прогнать. Только скажите. Лично мне он ничуть не досаждает. Однажды ночью он поиграл немного. Знаете, вы никогда не слышали такой музыки. Я подумала: «Господи, сейчас приедет полиция, а в доме никого, кроме меня и Лакоума». Я и говорю ему: «Перестань немедленно». А он так огорчился, вы в жизни не видели таких глаз, так вот он взглянул на меня и говорит: «Тебе не нравится, что я играю?». А я говорю: «Нравится, просто я не хочу это слышать». Тут он принялся болтать всякую муру – вроде того, что ему все известно обо мне и о том, что мне приходится выносить, он все болтал как безумный, все болтал и болтал. А Лакоум говорит: «Если хочешь подачку, мы накормим тебя Алфеиной стряпней: красной фасолью с рисом – и ты отравишься до смерти!» Ну, мисс Триана, что скажете!
Я негромко рассмеялась. Он по-прежнему был там, но из-за спины Алфеи я видела только небольшую часть долговязой тени. Я не шевельнулась. День клонился к вечеру.
– Я люблю, как ты готовишь красную фасоль с рисом, Алфея, – сказала я.
Она прошлась по комнате, поправила старую кружевную салфетку на ночном столике, бросила на скрипача взгляд – наверное, злобный, – а потом улыбнулась мне, тронув мою щеку атласной рукой. Как сладостно, Господи! Разве я сумею жить без тебя?
– В самом деле, ты готовишь отлично, – вновь заговорила я. – А теперь ступай, Алфея. Я действительно его знаю. А вдруг он и вправду сыграет? Не беспокойся насчет него. Я за ним присмотрю.
– По мне, так он настоящий бродяга, – тихо проворчала Алфея, весьма красноречиво сложив руки и направляясь прочь из комнаты.
Она продолжала говорить, сочиняя собственную песню. Жаль, я не могу лучше передать потомкам ее быструю речь из скомканных слов, а главное – ее безграничную жизненную силу и мудрость.
Я поглубже зарылась в подушку; согнула руку в локте под головой и поудобнее улеглась, глядя прямо на него, на его фигуру в окне, на то, как он смотрит поверх скользящей рамы в подъемном окне с двойным остеклением.
Куда ни глянь – повсюду песни: и в дожде, и в ветре, и в стоне страждущего… Повсюду песни.
Алфея закрыла дверь. Раздался двойной щелчок. Когда имеешь дело с новоорлеанской дверью, вечно искореженной, этот щелчок означает, что она действительно закрыта.
В комнату вернулась тишина, словно ее никто и не нарушал… И вновь с улицы донеслось внезапное крещендо непрерывавшегося гула.
За его спиной – за спиной друга, неподвижно глядящего на меня черными глазами, – распелись птицы, как бывает поздно вечером, когда в определенный час у них наступает прилив энергии, что не перестает меня удивлять.
А поток машин продолжал весело гудеть свою погребальную песню.
Он передвинулся к балконной двери. Белая рубашка, заношенная и незастегнутая; темная поросль на груди, как тень или ворс. Распахнутый жилет из черной шерсти – на нем тоже не было пуговиц. Во всяком случае, так мне показалось.
Он придвинулся совсем близко к раме. Какой он худой! Может быть, болен? Как Карл? Я улыбнулась при мысли, что все может начаться сначала. Но нет, теперь болезни казались такими далекими, а он выглядел таким живым, что с ним никак не вязалась предсмертная слабость.
Он с укором посмотрел на меня, словно говоря: «Тебе лучше знать». А потом действительно улыбнулся и принялся властно разглядывать меня. Глаза его при этом еще ярче засияли таинственным блеском.
Бледный обтянутый кожей лоб придавал глазам прелестную проницательность и таинственную глубину, черные волосы надо лбом с вдовьим мыском и на висках росли так густо, что создавали иллюзию мощи даже при такой худобе. А руки у него действительно были похожи на паучьи лапки! Он гладил правой ладонью верхнюю раму, оставляя следы на слое пыли; свет едва заметно менялся, и сад вокруг него с густыми лавровишнями и магнолиями дышал как живой – легким ветерком и уличным шумом.
Плотный манжет на его белой рубашке был запачкан, а пыльное пальто по-прежнему казалось серым.
Выражение его лица тоже постепенно изменилось: улыбка исчезла, а с ней и оживление. И тут я поняла, что лицо никогда и не было оживленным. Его лик был отмечен знаком тайного превосходства, но скрипач не имел над ним контроля.
Нежное недоумение, задержавшись на секунду, сменилось чем-то вроде гнева. Потом незнакомец погрустнел, но не ради игры на публику, не искусственно, а искренне и глубоко, словно потерял способность продолжать свое маленькое представление: явление призрака на террасе. Он шагнул назад. Я услышала скрип досок. В моем доме становится явным любое движение. А потом он исчез.
Вот так просто. Ни в окне его не видно. Ни на террасе. Я не слышала, чтобы он спускался по лестнице в дальнем конце террасы. Я знала, его там нет. Я знала, он ушел, и испытывала абсолютное убеждение, что на самом деле он исчез.
Сердце застучало как молот.
«Если бы только это не была скрипка, – подумала я. – То есть слава Богу, что это скрипка, потому что нет на земле больше такого звука, а есть…»
Мысль оборвалась.
Едва слышная музыка, его музыка.
Он не очень далеко ушел. Просто выбрал темный уголок сада, поближе к задворкам старой часовни на Притания-стрит. Мои владения граничат с владениями часовни. Целый квартал принадлежит нам – часовне и мне: от Притания-стрит вдоль Сент-Чарльз до Третьей улицы. Разумеется, по другую сторону квартала расположены еще какие-то здания, но эта огромная половина квадрата принадлежит нам. Так что он удалился, скорее всего, только до старых дубов за часовней.
Я боялась, что вот-вот расплачусь.
На одно мгновение боль от его музыки и мои собственные ощущения настолько слились, что я подумала: это невозможно вынести. Только глупец не потянулся бы за пистолетом, чтобы вставить его в рот и нажать курок, – эта картина меня часто преследовала в молодые годы, когда я беспробудно пила вплоть до появления Карла.
Это была гаэльская песня – в минорном ключе, надрывная, рыдающая, полная терпеливого отчаяния и томления. Он извлекал из инструмента звук, схожий со звучанием ирландской скрипки, хриплая мрачная гармония басовых струн сливалась в мольбу, звучавшую так, как не может звучать ни детский голос, ни мужской, ни женский.
Меня поразила не очень связная, расплывчатая мысль, не способная к четкости в этой атмосфере неспешной прелестной обволакивающей музыки, что в том и заключается сила скрипки – в умении звучать по-человечески, тогда как ни одному человеку такое было бы не под силу!
Скрипка говорила за нас так, как мы сами не были способны. О да, это есть и всегда было сутью размышлений и поэзии.
Его песня – гаэльские музыкальные фразы, старые и новые, прелестное чередование нот, неизбежно приводящих к безграничному восприятию мира, – вызвала у меня поток слез. Такая нежная забота. Такое идеальное сочувствие.
Я перекатилась на подушку. Его музыка была чудесным образом ясна и понятна. Я не сомневалась, что весь квартал ее слышит: и прохожие, и Лакоум с Алфеей, которые, наверное, сидят сейчас в кухне за столом и играют в карты или обмениваются любезностями; даже птиц убаюкала эта мелодия.
Скрипка… Скрипка…
Я вспомнила один летний день тридцатипятилетней давности. Я поместила футляр с моей собственной скрипкой между мною и Джи, который вел мотоцикл, а сама прижалась к Джи сзади, надежно охраняя инструмент. Я продала ее одному человеку на Рампарт-стрит за пять долларов.
– Но вы сами продали мне ее за двадцать пять долларов, – сказала я. – Еще и двух лет не прошло.
Так и ушла моя скрипка в черном футляре. Музыканты, должно быть, главная опора всех скупщиков. Там повсюду висели инструменты на продажу; а может быть, музыка привлекает многих горемычных мечтателей, вроде меня, строящих грандиозные планы, но лишенных таланта.
С тех пор я притрагивалась к скрипке всего дважды. Неужели прошло тридцать пять лет? Почти. Если не считать одного пьяного загула с последующим похмельем, то я ни разу больше не дотронулась до другой скрипки, никогда-никогда мне не хотелось дотронуться до деревянной деки, струн, канифоли, смычка… Нет, никогда.
Но с чего мне вообще пришло это в голову? Это было давнее разочарование. Девочкой я побывала в нашем муниципальном зале, когда великий Исаак Стерн[8] исполнял Концерт для скрипки Бетховена. Как же мне хотелось извлекать те великолепные звуки! Как мне хотелось стать той фигурой, что раскачивалась на сцене. Мне хотелось завораживать!
И сейчас мне хотелось извлекать такие же звуки, проникающие сквозь стены этой комнаты…
Концерт для скрипки Бетховена – первое музыкальное произведение, с которым я впоследствии близко познакомилась по библиотечной партитуре.
Я стану Исааком Стерном. Обязательно!
Зачем сейчас об этом думать? Еще сорок лет назад я знала, что у меня нет ни таланта, ни слуха. Я не могла различить четверть тона, не обладала ни умением, ни внутренней дисциплиной – все это говорили мне лучшие учителя, причем очень тактично.
А затем вступил семейный хор: «Триана извлекает из своей скрипки жуткие звуки!» После чего последовал строгий вывод отца, что уроки стоят слишком дорого, особенно для того, кто недисциплинирован, ленив и вообще непоседлив от природы.
Следовало бы это забыть.
Неужели с тех пор случилось мало трагедий: мать, ребенок, давно потерянный первый муж, смерть Карла… Зов времени, углубление понимания…
Тем не менее я ясно вижу тот далекий день, лицо владельца скупки, мой последний поцелуй скрипке – моей скрипке, – прежде чем она скользнет через грязный стеклянный прилавок. Пять долларов…
Все это чепуха. Не плачь, что ты невысокая, что не обладаешь ни стройностью, ни грациозностью, ни красотой; не плачь, что у тебя нет певческого голоса или даже решимости познать азы игры на фортепьяно для исполнения рождественских гимнов.
Я взяла пять долларов, прибавила к ним пятьдесят благодаря помощи Розалинды и отправилась в Калифорнию. Школа осталась позади. Мать умерла. Отец нашел новую подругу, протестантку, чтобы было с кем «время от времени пообедать». Она досыта кормила моих заброшенных младших сестренок.
– Ты никогда о них не заботилась!
Все, хватит! Я не стану думать о тех временах, не стану вспоминать ни о маленькой Фей, ни о Катринке в тот день, когда я ушла. Катринка едва обратила на это внимание, но Фей лучезарно улыбалась, все посылала мне воздушные поцелуи… Нет, не нужно. Нельзя!
Ладно, так и быть, играй для меня, а я пока постараюсь забыть свою скрипку.
Вы только послушайте его!
Можно подумать, он со мной спорит! Ублюдок! Песня все лилась и лилась, зарожденная в печали и сыгранная с печалью, отчего эта самая печаль должна была стать сладостной или легендарной – или и той и другой.
Реальный мир отступил. Мне снова четырнадцать. На сцене играет Исаак Стерн. Под люстрами зала звучат то громкие, то едва слышные звуки великого концерта Бетховена. Сколько еще детей сидели там завороженные?
О Боже, если бы стать такой! Если бы суметь так сыграть!..
Каким все казалось далеким – и то, что я выросла и жила своей жизнью, и то, что когда-то влюбилась в своего первого мужа Льва, а потом узнала Карла, и то, что он когда-то жил и умер, и то, что мы со Львом потеряли маленькую девочку, которую звали Лили, и то, что я держала на руках крошку, когда она страдала – с закрытыми глазками и лысой головой… Нет, наверняка существует точка, где воспоминания превращаются в сон.
С медицинской точки зрения, это обязательно нужно запретить.
Ничего страшнее не могло случиться: умирающее златокудрое дитя, похожее на эльфа, плачущий Карл, который никогда прежде не жаловался, мать, умолявшая, чтобы ее не увозили в тот последний день, и я, ее четырнадцатилетняя дочь, эгоцентристка, абсолютно не осознававшая, что больше никогда не ощутит теплых материнских рук, никогда не поцелует ее, никогда не скажет: мама, что бы ни случилось, я тебя люблю. Я тебя люблю… Я тебя люблю! Мой отец вдруг, несмотря на морфин, сел в кровати и в ужасе ошеломленно произнес: «Триана, я умираю!»
«Посмотри, каким маленьким кажется белый гробик Лили в калифорнийской могиле. Взгляни на него. И вспомни те времена, когда вы курили травку, пили пиво, читали вслух стихи, – битники, хиппи, реформаторы мира, родители ребенка, настолько очаровательного и необыкновенного, что, даже когда малышкой завладел рак, прохожие останавливались, чтобы высказать свое восхищение ее прекрасным маленьким круглым белым личиком», – говорила я себе и вновь сквозь время и пространство видела, как мужчины опускают крохотный гробик в ящик из красного дерева, стоящий в земляной дыре, но доски гвоздями не заколачивают.
Мать Льва плакала не переставая. А его отец, добросердечный мягкий техасец, зачерпнул и бросил в могилу пригоршню земли. Затем остальные последовали его примеру. Я прежде не знала такого обычая. А мой отец с торжественным видом наблюдал за церемонией. Что он думал в те мгновения? Что я получила наказание за свои грехи – за то, что оставила своих сестер, вышла замуж за человека, исповедующего другую веру, и позволила собственной матери умереть без любви? Или его одолевали более тривиальные мысли? Лили не была его обожаемой внучкой. Их разделяли две тысячи миль, и он редко видел девочку до того времени, когда болезнь лишила ее длинных золотистых локонов и изуродовала отеками ее личико с мягкими щечками. Но не было на земле снадобья, способного потушить ее яркий, сияющий взгляд и лишить ее мужества.
Теперь уже не важно, кого любил и кого не любил мой отец!
Я повернулась в кровати, поглубже зарывшись в подушку и радуясь тому, что, даже полностью утопив левое ухо в пуху, я все еще слышала пение скрипки.
Ты дома, дома, дома, и когда-нибудь они все вернутся домой. Что это означает? Совсем не обязательно оно должно что-то означать. Ты можешь просто прошептать это… Или спеть – вместе с его скрипкой спеть песню без слов.
Начался дождь.
Мое робкое спасибо.
Начался дождь.
Прямо как по заказу, он падает на старые доски террасы и на ржавеющую жестяную крышу над этой спальней; он плещется на широких подоконниках и просачивается сквозь щели.
А музыкант все играет и играет. У него атласные волосы и атласная скрипка. Он играет так, словно разматывает в воздухе золотую ленточку, такую тонкую, что она растворится в тумане, как только люди услышат, узнают и полюбят мелодию, способную на секунду благословить весь мир своей сияющей красотой.
«Как ты можешь, – спросила я себя, – лежать между двух миров? Между жизнью и смертью? Безумием и здравомыслием?»
Его музыка говорила: тихие, низкие, жадные звуки лились, а потом вдруг словно воспаряли. Я закрыла глаза.
Теперь он заиграл потрясающий танец, живой, вызывающе пронзительный и абсолютно серьезный. Он играл так яростно, что я не сомневалась: сейчас обязательно кто-то придет. Люди считают такую музыку дьявольской.
Но дождь все продолжался, и никто не остановил музыканта. Никто не посмел.
Меня вдруг ошеломила одна мысль: я у себя дома, в безопасности, и дождь окутал завесой эту длинную восьмиугольную комнату, но я не одна: теперь у меня есть он.
Я громко шепчу ему что-то, хотя, конечно, его нет в комнате.
Но я могла бы поклясться, что он рассмеялся в ответ. Я услышала его смех. Музыка так не смеется. Музыка продолжала свой хриплый, идеально интонированный ход, словно стремясь довести до изнеможения и безумия группу танцоров на лугу. Но он рассмеялся.
Я начала засыпать – не тем глубоким, черным сном, порожденным больничными лекарствами, а настоящим сладостным сном. И музыка звучала все громче, захлестывая меня с головой, – словно музыкант простил меня.
Казалось, еще немного – и этот дождь, эта музыка меня убьют. Я была готова умереть – тихо, не протестуя. Но я всего лишь погрузилась в сон, в явственную иллюзию, которая словно поджидала меня.
Глава 5
И снова передо мною возникло то море, тот самый океан, чистый, синий, пенящийся, несущий к берегу с каждой волной танцующих призраков. Этот сон очаровывал своей ясностью. Он словно говорил: «Да, ты вовсе не спишь, ты действительно здесь!» Так всегда бывает в ясных снах. Ты все кружишь и кружишь и никак не можешь проснуться. А в голове одна мысль: не может быть, чтобы все это тебе привиделось.
Но пришлось отказаться от благостного морского бриза. Окно закрыто. Пришла пора.
Я увидела рассыпанные по серому ковру розы на длинных стеблях, каждый из которых на конце запечатан капсулой с водой, чтобы сохранить их свежими, – розы с темными мягкими лепестками. Послышались какие-то голоса, говорившие на непонятном языке, я должна была бы его узнать, но не узнала и подумала, что, наверное, этот язык специально придуман для моего сна. Ведь я наверняка вижу сон. Иначе и быть не может. И все-таки я была там, мое тело и душу словно куда-то перенесли, и кто-то внутри меня мне шептал: «Не верь, что это сон».
– Правильно! – произнесла красивая темнокожая Мариана. Короткие волосы, белая блузка, спущенная с плеч, лебединая шейка, воркующий голос.
Она открыла двери во что-то необъятное. Я не поверила своим глазам. Не могла поверить, что какие-то материальные вещи могут быть такими же прелестными, как море и небо, – передо мной возник храм из разноцветного мрамора.
«Это не сон, – подумала я. – Такое никогда не могло бы присниться! У тебя не хватило бы воображения увидеть такой сон. Ты на самом деле здесь, Триана! Взгляни на стены, инкрустированные кремовым каррарским мрамором с прожилками, панели в золоченых рамах и окаймления из темно-коричневого камня, такого же блестящего, пестрого, чудесного. Взгляни на квадратные пилястры с золочеными капителями в завитках».
По мере того как мы минуем здание, мрамор становится зеленым, он уложен длинными полосами, окаймляющими затейливую мозаику на полу. Подумать только! Я вижу древнегреческий орнамент. Узоры, любимые в Риме и Греции. Я не помню их названия, но они мне знакомы.
Повернув, мы останавливаемся перед лестницей, какой я до сих пор никогда не видела. Дело тут не только в размерах и величественности, а снова в цвете – в блеске розового каррарского мрамора.
Но вначале стоит обратить внимание на бронзовые фигуры, стоящие по стойке «смирно», резные деревянные тела на ониксовых постаментах в виде львиных лап.
Кто построил этот дворец? Для чего?
Мой взгляд внезапно выхватил стеклянные двери напротив. Здесь столько всего можно увидеть, что я растеряна. Вот три огромные двери из граненого стекла с полукруглыми фрамугами и черными средниками, выполненные в стиле Возрождения, – этакие порталы для света, хотя трудно определить, что сейчас – день или ночь.
Лестница ждет. «Идем, – говорит Мариана. – Лукреция очень добра». Балюстрада из зеленого мрамора, такого же зеленого, как нефрит, струится, как море, перила чуть светлее, все стены отделаны розовым или кремовым мрамором, обрамленным золотом. Как хороши эти гладкие круглые колонны розового мрамора с золочеными капителями, украшенными двойным пышным растительным орнаментом, а еще выше, совсем высоко, виднеются разломанные арки свода и возле каждой из них нарисована фигура. Ах, какая рама у высокого окна с витражным стеклом! Да, сейчас день. Только дневной свет может так струиться сквозь цветное стекло! Он отражается от искусно нарисованных нимф высоко над головой, он танцует для нас, танцует в самом стекле. Я закрываю глаза. Потом открываю. Трогаю мрамор. Настоящий, настоящий…
Я действительно здесь. Меня нельзя разбудить или увести отсюда. Все происходит на самом деле, правда, я все это вижу!
Мы поднимаемся по ступеням, забираясь все выше и выше, пока не оказываемся в мезонине этого дворца из итальянского камня. Перед нами три огромных витража, каждый изображает собственную богиню или королеву в прозрачных одеяниях, и в каждом углу среди гирлянд цветов, которые они держат на вытянутых руках, несут караул херувимы. Что это за символы? При виде их по моему телу пробегает дрожь.
По краям раскинувшегося передо мной огромного пространства располагаются овальные комнаты. Надо пойти посмотреть. Какая настенная живопись, какие полотна до самого потолка! Да, знакомые сюжеты: классические фигуры с лавровыми венками на головах исполняют танец. Во всем этом чувствуется магия прерафаэлитов.
Неужели это многообразие бесконечно? Неужели бесконечна красота, вплетенная в другую красоту? Неужели не повторится ни один карниз или фриз, ни один орнамент лепнины, гордый антаблемент, деревянная обшивка стен? Должно быть, все это мне снится.
Они говорили на языке ангелов, Мариана и та вторая, Лукреция, – на приятном для слуха, музыкальном, будто поющем языке. А вот еще одно чудо: блестящие золотистые маски тех, кого я любила. Медальоны, вделанные высоко в стены: Моцарт, Бетховен, другие… Но что это? Дворец всех песен и мелодий, которые ты когда-либо слышала и не сумела сдержать слез? Мрамор сияет на солнце. Такую роскошь нельзя создать человеческими руками. Это небесный храм.
Спускаемся вниз по лестнице, вниз, вниз, и теперь я понимаю, что это наверняка сон. Сердце замирает.
Хотя сон нельзя измерить глубиной моего воображения, он совершенно невероятен – невозможен.
Мы покинули храм мрамора и музыки и оказались в огромной персидской комнате, отделанной голубой глазурованной плиткой, в изобилии украшенной восточным орнаментом, который соперничает по красоте и роскоши с верхними помещениями. «О, только не дайте мне проснуться! Если все происходящее лишь плод моего ума, пусть все так и будет!»
Такого не бывает, чтобы вавилонское великолепие шло вслед за дерзкой пышностью барокко, но мне такое сочетание очень нравится.
На колоннах стоят древние жертвенные быки со свирепыми мордами. А вот, смотрите, фонтан: Дарий поражает атакующего льва. В то же время это не святилище, не мертвый мемориал всего утраченного.
Вдоль стен расставлены сияющие этажерки с поразительно элегантной посудой. Среди всех этих красот устроено кафе. И снова я обращаю внимание на несравненный мозаичный пол. Множество маленьких столиков окружены золочеными стульями. Люди здесь разговаривают, гуляют, дышат, словно давным-давно привыкли к этому великолепию и уже его не замечают.
Что это за место, что за страна, что за земля, где так смело сочетаются стиль и цвет, где мастера разнообразных ремесел нарушают все традиции? Даже люстры здесь персидские: этакие огромные серебряные листы с вырезанными на них затейливыми узорами.
Сон или реальность? Я поворачиваюсь и ударяю ладонью по колонне. Проклятие, если меня здесь нет, то пусть я проснусь! А потом наступает уверенность. Я здесь, совершенно определенно здесь. Мои тело и душа находятся здесь, в вавилонской комнате под мраморным храмом.
– Идем, идем.
Чья-то ладонь легла на мою руку. Это Мариана или другая прелестница – круглолицая глазастая Лукреция? Обе они выражают мне сочувствие на своем музыкальном языке, похожем на латынь.
Наша самая темная тайна.
Все перемещается. Я действительно здесь, потому что мне никогда такое не придумать.
Я даже не представляю, как можно вообразить что-либо подобное. Я живу для музыки, живу для света, живу для красок – да, правда. Но что это? Зловонный коридор, отделанный замызганной белой плиткой, вода на черном полу, таком грязном, что даже черным его трудно назвать. И повсюду какие-то агрегаты, машины, бойлеры, гигантские цилиндры с навинченными колпачками и печатями. Краска облупилась, и среди гама и шума, сравнимого с тишиной, они кажутся особенно зловещими.
Ну конечно, это похоже на машинное отделение старого корабля, именно по палубе такого корабля я бродила в детстве, когда Новый Орлеан был действующим портом. Но нет, мы вовсе не на борту корабля. Слишком уж велики пропорции этого коридора.
Я хочу вернуться. Я не желаю видеть во сне что-либо подобное. Но теперь я уже точно знаю, что это не сон. Меня каким-то образом сюда перенесли! Наверное, это какое-то заслуженное мною наказание, ужасная расплата. Я хочу снова увидеть мрамор, красивый, сочного цвета фуксии мрамор на фоне панелей, украшающих лестницу. Я хочу запомнить богинь на стекле.
Но мы продолжаем идти по сырому зловонному гулкому коридору. Зачем? Отовсюду доносятся гнилостные запахи. По пути нам попадаются старые металлические шкафчики, словно оставленные в заброшенном солдатском лагере, погнутые, обклеенные вырезанными из журнала красотками далеких лет. И снова мы видим огромный зал, полный дрожащих, трясущихся машин; в них что-то перемалывается, кипит, пока мы проходим вдоль стального ограждения.
– Куда же мы идем?
Мои спутницы улыбаются. Они считают забавным секретом то, куда меня ведут.
Ворота! Огромные железные ворота преграждают нам путь. Но куда? В темницу?
– Тайный ход! – сообщает Мариана с нескрываемым восторгом. – Он проходит под всей улицей! Тайный подземный ход…
Я напряженно всматриваюсь, стараясь что-то разглядеть за воротами. Войти мы не можем. Ворота накрепко заперты цепями. Но вон там, где поблескивает вода… Что там?
– Там кто-то есть, разве вы не видите? Бог мой, там лежит человек. Он истекает кровью. Он умирает. У него порезаны запястья, руки сложены вместе. Он умирает?
Где Мариана и Лукреция? Снова улетели под куполообразный потолок мраморного дворца, где грациозно кружат на фресках греческие танцовщицы?
Я без охраны.
Зловоние становится невыносимым. Мужчина мертв! О Господи! Я знаю, что он умер. Нет, он шевелится, поднимает одну руку. С запястья капает кровь. Великий Боже, помоги ему!
– Разве вы не видите, что он мертв? Боже мой, он лежит в гнилой воде…
Мариана смеется сладчайшим тишайшим смехом, и ее руки мягко скользят по воздуху, когда она говорит:
– …тайный ход, который когда-то вел отсюда до дворца и…
– Нет, послушайте меня, дамы, там человек. Он нуждается в нас. – Я вцепилась в ворота. – Мы должны добраться до этого человека! – Ворота, преграждающие нам путь, такие же, как и все остальное здесь, – огромные. Тяжелые чугунные створки от пола до потолка увешаны цепями и замками.
– Просыпайся! Я этого не потерплю!
Поток музыки, разбившийся о тишину!
Я резко подскочила в собственной кровати.
– Как ты смеешь?!
Глава 6
Я сидела в кровати. Он пристроился рядом и смотрел на меня немигающим взглядом. У него были такие длинные ноги, что даже с этой высокой кровати они доставали до пола. Скрипка была мокрой. Как и он сам. С его волос стекала вода.
– Как ты смеешь?! – повторила я и, отпрянув, подтянула колени. Хотела было укрыться одеялом, но он сидел на нем. – Ты приходишь в мой дом, в мою комнату! Приходишь без приглашения и указываешь, что мне следует видеть во сне, а что – нет!
Он так удивился, что, похоже, не нашелся что ответить. Грудь его вздымалась. С волос все еще капала вода. А скрипка! Господи, что стало со скрипкой! Неужели это совсем его не волновало?
– Тихо! – сказал он.
– Тихо? – Я взорвалась. – Да я сейчас подниму на ноги весь город! Это моя спальня! И кто ты такой, чтобы диктовать мне сны! Ты… Чего ты хочешь?
Он по-прежнему не находил слов от изумления – буквально оцепенел, пытаясь обрести дар речи. Он склонил голову набок, и мне удалось рассмотреть его вблизи: впалые щеки, гладкая кожа, тонкий длинный нос и шишковатые пальцы. Он был по всем меркам очень красив, даже несмотря на свой неприглядный мокрый вид. Двадцать пять… Я бы не дала ему больше. Впрочем, здесь нельзя быть уверенной. Сорокалетний мужчина может выглядеть очень молодо, если принимает правильные таблетки, пробегает в день необходимое количество миль и посещает квалифицированного хирурга-косметолога.
Он дернул головой и бросил на меня злобный взгляд:
– Что за мусор тебе лезет в голову?
Голос у него был низкий и сильный – голос молодого мужчины. Если бы голоса, которыми мы разговариваем, имели названия – подобно певческим, – то его голос можно было бы охарактеризовать как «убедительный тенор».
– Почему мусор? – спросила я, оглядывая его сверху вниз.
Крупный мужчина, несмотря на худобу. Впрочем, меня это не волновало.
– Убирайся из моего дома! – велела я. – Прочь из моей комнаты и моего дома сейчас же, до той поры, пока я сама приглашу тебя в гости! Ступай! Меня приводит в ярость, что ты посмел явиться сюда без моего разрешения! Вломился прямо в мою комнату!
Послышался громкий стук в дверь.
– Мисс Триана! Я не могу открыть дверь! Мисс Триана! – в панике верещала Алфея.
Он посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос Алфеи, потом перевел взгляд на меня, покачал головой и что-то пробормотал, после чего провел правой рукой по скользким волосам. Широко открытые глаза казались огромными. Я наконец разглядела, что самая красивая черта его лица – губы. Но все эти подробности не охладили моего гнева.
– Я не могу открыть дверь! – вопила Алфея.
– Все в порядке, – откликнулась я. – Можешь идти. Мне нужно побыть одной. Это мой знакомый музыкант. Нечего волноваться. Иди к себе.
Я услышала ее протесты, заглушавшие глубокомысленное ворчание Лакоума, но настояла на своем, и в конце концов оба они утихомирились.
Скрип половиц возвестил, что слуги удалились.
Я повернулась к нему.
– Выходит, ты ее заколотил? – спросила я, имея в виду, разумеется, дверь, которую ни Лакоум, ни Алфея не смогли взломать.
Лицо его оставалось неподвижным – наверное, таким хотел видеть его Бог или его собственная мать: молодым, серьезным, лишенным тщеславия и хитрости. Большие темные глаза пытливо вглядывались в меня, словно среди всех второстепенных деталей моей внешности он старался отыскать какой-то важный секрет. Он не был погружен в мрачные раздумья и казался искренним и порядочным.
– А ты не боишься меня, – прошептал он.
– Конечно. С чего бы мне бояться?
Но это была не более чем бравада. Я действительно на одну секунду испытала страх… Или нет, пожалуй, не страх. Другое чувство. Адреналина в крови поуменьшилось, и на меня снизошло ликование!
Я смотрела на призрака! Самого настоящего призрака. Я поняла это. Знала – и ничто не смогло бы лишить меня этого знания. Я была абсолютно уверена!
В ходе всех моих блужданий среди мертвых я обращалась к дорогим для души воспоминаниям и останкам и сама отвечала за них, словно они были куклами в моих руках.
Но он был призраком.
И тут я испытала огромное облегчение.
– Я всегда это знала, – сказала я и улыбнулась.
Откуда взялось это убеждение, сказать не могу. Я имела в виду только то, что наконец поняла: жизнь – это нечто огромное, ее нельзя вместить в рамки, от нее нельзя отмахнуться, и фантазии на тему «большого взрыва» имеют под собой небольшую почву, чем легенды о воскрешении из мертвых или чудесах. Я снова улыбнулась:
– А ты думал, что я испугаюсь тебя? Ты этого хотел? Ты пришел, когда мой муж умирал наверху, и начал играть на своей скрипке, чтобы испугать меня? Ты что, первый глупец среди призраков? Как такое могло меня напугать? С какой стати? Ты сеешь страх…
Я замолчала. Дело было не только в выражении незащищенности и мягкости на его лице, не только в соблазнительном подрагивании губ и манере хмурить брови – отнюдь не сердито, без осуждения. Дело было в чем-то другом – неуловимом и очень важном, о чем я только сейчас догадалась. Это создание действительно излучало что-то… Но что?
Безнадежный вопрос, я понимала. Ритм сердца снова нарушился, что каждый раз будило в моей душе страх. Я поднесла руку к горлу, потому что теперь мне казалось, что сердце бьется там, а не в груди.
– Я буду приходить к тебе в комнату, когда пожелаю, – прошептал он. Его голос обрел силу, молодость, мужественность и уверенность. – Тебе меня не остановить. Ты думаешь, раз ты день-деньской исполняешь танец смерти со всей своей мертвой командой… Да, да, я знаю, ты считаешь, что убила их всех: и мать, и отца, и Лили, и Карла, – какое глупое чудовищное самомнение считать себя причиной всех этих ярких смертей, три из которых были столь ужасными и безвременными. Ты думаешь, что можешь командовать призраком? Настоящим призраком – таким, как я?
– Приведи ко мне отца и мать, – потребовала я. – Ты ведь призрак. Приведи их ко мне. Верни их. Верни мне мою маленькую Лили. Пусть они тоже будут призраками! Сделай их призраками, верни мне Карла, не страдающего от боли, – хотя бы на секунду, на одно-единственное священное мгновение. Позволь мне подержать Лили на руках.
Мои слова ранили его. Я поразилась, но оставалась твердой.
– Священное мгновение, – с горечью повторил он и, покачав головой, отвел взгляд.
Он казался разочарованным и даже сломленным, но потом снова задумался и посмотрел на меня.
А я вдруг почувствовала себя игрушкой в его руках.
– Я не могу тебе дать это, – задумчиво произнес он. – Ты думаешь, Бог прислушивается ко мне? Ты полагаешь, мои молитвы слышат святые и ангелы?
– Значит ли это, что ты в самом деле молишься? – спросила я. – Так что ты здесь делаешь? Чего ради ты вообще пришел? Я не о том, что ты сидишь сейчас на моей кровати в демонстративно вольной позе. Зачем ты появился и позволил мне видеть и слышать тебя?
– Затем, что мне захотелось! – рассердился он, на секунду напомнив мне ранимого и дерзкого юношу. – Я иду туда, куда хочу, и делаю то, что хочу, как, возможно, ты успела заметить. Я прошелся по коридору твоей больницы, но тут целое стадо смертных идиотов подняло такой гам, что мне ничего не оставалось, кроме как удалиться и ждать тебя! Я мог бы оказаться в твоей комнате, в твоей постели.
– Ты хочешь быть в моей постели?
– Да! – заявил он и наклонился ко мне, опираясь на правую руку. – Но нет, не думай об этом. Никакой я не демон! Ты не родишь монстра от меня. Мне нужно нечто гораздо более важное в твоей жизни, чем та штучка, что у тебя между ног. Мне нужна ты!
Я онемела. Ярость все еще не прошла, но я лишилась дара речи.
Он отпрянул, глядя куда-то перед собой, а затем поудобнее расположился на краю высокой кровати. Его ноги касались пола. У меня так никогда не получалось: росту не хватало.
Грязные темные волосы призрака рассыпались по плечам, несколько прядей упали на белое лицо, и, когда он снова взглянул на меня, в его глазах читалось любопытство.
– А я-то думал, это будет гораздо легче, – сказал он.
– Что именно?
– Свести тебя с ума. – Он улыбнулся – жестоко, но как-то неубедительно. – Я уже считал тебя сумасшедшей. Мне казалось, вопрос решится в течение нескольких дней.
– Какого дьявола тебе понадобилось сводить меня с ума? – спросила я.
– Мне нравятся подобные деяния. – Он вдруг погрустнел и снова нахмурился. – Я думал, что ты безумна. Ты почти… лишилась разума. Так, кажется, говорят люди?
– И тем не менее, как это ни больно, я в своем уме, – откликнулась я. – Вот в чем проблема.
Теперь я оказалась полностью во власти призрака и никак не могла оторвать от него взгляд – от его старого пальто, на котором мокрая пыль превратилась в ошметки грязи на плечах, от его огромных задумчивых глаз, глядящих то строго, то мягко, от его губ, которые он то и дело смачивал языком, словно был живым человеком.
Тут внезапно меня осенило, словно молния ударила.
– Сон! Тот сон, что мне снился о…
– Не говори об этом! – велел он и наклонился ко мне так близко, что его мокрые волосы упали на одеяло рядом с моими руками.
Я отпрянула, уперлась в спинку кровати, а затем правой рукой ударила его наотмашь. И еще раз. А потом вырвала из-под него одеяло.
Только тогда он пришел в себя.
Он приподнялся и неловко отодвинулся, глядя на меня с жалостливым изумлением.
Я протянула к нему руки. Он не шелохнулся. И тогда я сжала кулак и с силой ткнула его в грудь. Он отлетел на несколько шагов, ничуть, однако, не пострадав от моего удара, совсем как обыкновенный мужчина.
– Это ты навеял мне тот сон! – воскликнула я. – И тот дворец, что я видела, и тот человек…
– Я тебя предупредил: перестань… – Он выругался и погрозил пальцем, возвышаясь надо мной, словно огромная птица. – Молчи об этом – иначе я посею такое опустошение в твоем маленьком физическом мирке, что ты проклянешь тот день, когда появилась на свет. – Голос его зазвучал тише и словно утратил все эмоции. – Тебе кажется, что ты познала боль, а ты так гордишься своей болью…
Он отвел от меня взгляд и, крепко обхватив скрипку руками, прижал ее к груди. Видно было, что он пожалел о сказанном. Его глаза скользили по комнате, словно он на самом деле мог что-то видеть.
– Я действительно вижу! – сердито буркнул он.
– Я имела в виду, что ты видишь как смертный человек, только и всего.
– То же самое имел в виду и я.
Дождь за окном ослабел, стал тихим и легким, а все струйки сделались полноводнее. Казалось, мы с ним находимся в мокром мире, мокром, но теплом и безопасном, – только он и я.
Я сознавала, причем так же ясно, как и его присутствие рядом, что редко в своей жизни бывала такой живой, что сам вид его, само его пребывание здесь вернуло мне жизненный огонь, который не горел во мне вот уже многие десятилетия. Давным-давно, еще до всех постигших меня горестей, когда я была молодой и влюбленной, я, возможно, и была настолько живой, так же как и тогда, когда оплакивала свои неудачи и потери в те ранние энергичные годы, когда все вокруг казалось таким ярким, обжигающе горячим. Возможно…
В самом безумном горе не ощущается жизнь. Это чувство, что ты живешь, скорее сродни радости, танцу, гипнотическому воздействию музыки.
Вот он стоит передо мной, такой потерянный, потом вдруг поднимает глаза, словно собираясь что-то спросить, и тут же отводит взгляд, хмуря темные брови.
– Скажи, чего ты хочешь, – попросила я. – Ты говорил, что намерен свести меня с ума? Зачем? По какой причине?
– Видишь ли, – мгновенно откликнулся он, хотя слова лились медленно, – я в полной растерянности. – Он говорил искренне, приподняв брови, с холодной уравновешенностью. – Я и сам не знаю, чего хочу теперь! Наверное, довести тебя до безумия. – Он пожал плечами. – Теперь, когда я узнал, что ты собой представляешь, понял, какая ты сильная, я не знаю, какими словами выразить это. Возможно, есть лучший выход, чем просто довести тебя до безумия, если предположить, разумеется, что мне бы это удалось. И я вижу, что ты чувствуешь свое превосходство. Ведь тебе пришлось столько часов провести у кровати умирающих. А еще ты наблюдала, как твой потерянный молодой муж Лев и его друзья балуются наркотиками, в то время как ты просто потягиваешь винцо. Но ты боялась последовать их примеру, опасаясь видений! Видений вроде меня! Ты меня поражаешь.
– Какие еще видения? – прошептала я.
Я обхватила левой рукой столбик кровати. Я вся дрожала. Сердце готово было выскочить из груди. Все эти симптомы страха напомнили, что мне сейчас есть чего бояться, хотя, с другой стороны, что, ради всего святого, могло быть хуже того, что уже случилось? Бояться сверхъестественного? Бояться мерцания свечей и улыбок святых? Нет, думаю, что нет.
Смерть несет с собой много страхов. Призраки… Что такое призраки?
– Как ты обманул смерть? – спросила я.
– Ты дерзкая, жестокая женщина, – прошептал он порывисто, – а выглядишь как ангел. Эта твоя темная шевелюра, это твое милое личико с огромными глазами, – продолжал шептать он очень искренне и уязвленно, склонив голову набок. – Я и не думал прибегать к обману. – Он в отчаянии взглянул на меня. – Ты сама хотела, чтобы я пришел, ты хотела…
– Ты так подумал? Когда поймал меня на мысли о мертвых? И к какому решению пришел? Утешить меня? Усилить мою боль? Так что же?
Он покачал головой, отошел на несколько шагов назад и выглянул в окошко, подставив лицо свету. Он казался таким нежным… Но уже через секунду вновь набросился на меня в злобной вспышке:
– Все еще очень хорошенькая. Даже несмотря на возраст и полноту. Тебе ведь известно, что сестры ненавидят тебя за хорошенькое личико? Катринка – эта красотка с роскошным телом и умным мужем, до которого у нее была такая вереница любовников, что она даже со счета сбилась, – считает, что ты обладаешь такой красотой, которую ей никогда не обрести, не получить, не нарисовать. И Фей, любившая тебя, – да, Фей любила всех – тоже не смогла простить тебе красоту.
– Что тебе известно о Фей? – вырвалось у меня, прежде чем я успела прикусить язык. – Моя сестричка Фей жива? – Я пыталась остановиться, но не смогла. – Где Фей? И как ты можешь говорить о Катринке? Что ты знаешь о Катринке или о ком-нибудь из моей семьи?
– Я говорю то, что знаешь ты. Я вижу темные закоулки твоего сознания, я досконально исследовал подвалы, в которых ты сама еще не была. И я вижу там, в тех тенях, что твой отец чересчур сильно любил тебя, потому что ты очень походила на свою мать: те же волосы, те же глаза. А также, что твоя сестра Катринка однажды ночью как ни в чем не бывало переспала с твоим молодым мужем Львом.
– Прекрати сейчас же! В чем дело? Ты явился сюда, чтобы сыграть роль моего личного дьявола? Разве я заслужила такое? Это я-то? И ты еще смеешь говорить, что я и наполовину неповинна во всех этих смертях. Как же ты собираешься довести меня до безумия, хотела бы я знать! Как? Ты совершенно в себе не уверен. Взгляни на себя. Дрожишь, а ведь ты призрак. Кем ты был при жизни? Молодым человеком? Возможно, даже добрым по натуре, зато теперь…
– Перестань, – взмолился он. – Твоя точка зрения ясна.
– И какова же она?
– Ты видишь меня насквозь, точно так же, как я вижу тебя, – холодно ответил он. – Ни воспоминания, ни страх не заставят тебя дрогнуть. Я сильно ошибся на твой счет. Ты казалась ребенком, вечной сиротой, ты казалась такой…
– Договаривай. Я казалась слабой?
– Ты жестока.
– Возможно, – кивнула я. – Мне не очень нравится это слово. Зачем тебе нужно, чтобы я испытывала страх или боль? Для чего? Что означал тот сон? Где находилось то море?
Его лицо застыло от потрясения. Он попытался что-то сказать, но потом передумал или, возможно, просто не нашел слов.
– Ты могла бы быть красивой, – тихо произнес он. – Ты почти была красивой. Ты потому питалась отбросами и пивом, чтобы потерять данную тебе Богом фигуру? Ты ведь была худенькой в детстве, такой же, как Фей и Катринка, стройной от природы. Но ты нарочно заплыла жиром – разве нет? От кого захотела спрятаться? Неужели от собственного мужа – от Льва, которого ты собственноручно передала заботам других женщин, помоложе и пособлазнительнее? Это ты толкнула его в постель к Катринке.
Я не ответила.
Внутри меня росла какая-то сила. Даже охваченная дрожью, я чувствовала эту силу и огромное волнение. Как давно меня не посещали такие эмоции, но теперь, видя, что он совершенно сбит с толку, я ясно их ощущала.
– Наверное, и сейчас тебя можно назвать красивой, – прошептал он, улыбаясь, словно нарочно хотел меня помучить. – Но неужели ты станешь такой огромной и бесформенной, как твоя сестра Розалинда?
– Если ты знаешь Розалинду и не видишь ее красоты, то мне даже не стоит тратить на тебя время, – сказала я. – А Фей – само воплощение красоты, но тебе этого не понять.
Он охнул. Потом фыркнул и упрямо уставился на меня.
– Тебе не понять, как много для меня значит такое чистое существо, как Фей. Она навсегда останется в моей памяти. Что касается Катринки, то я ее жалею. Фей была очень молода и потому все танцевала и танцевала, как бы трудно ни приходилось. Катринка многое испытала. А Розалинду я люблю всем сердцем. Ну и что?
Он вглядывался в меня, словно стараясь прочесть самые сокровенные мысли, и ничего не говорил.
– К чему все это? – спросила я.
– В душе ты так и осталась маленькой девочкой. Злой и жестокой, какими бывают дети. Только ты более озлоблена сейчас и нуждаешься во мне, хотя и отрицаешь это. Ведь ты заставила сестру Фей уехать, сама знаешь.
– Перестань!
– Да, ты… Ты заставила ее уехать, когда вышла замуж за Карла. Дело тут вовсе не в тех страницах отцовского дневника, которые она прочла после его смерти. Просто в дом, который она с тобой когда-то делила, ты привела нового хозяина…
– Перестань!
– Почему?
– А тебе-то какое дело? К чему сейчас об этом говорить? Ты промок под дождем. Но не замерз. И теплым тебя тоже не назовешь – разве не так? Ты выглядишь как бродяга-подросток – из тех, что с гитарой в руке увязываются за знаменитыми рок-музыкантами и клянчат четвертаки у входа в концертные залы. Где ты научился так играть? Откуда тебе известна столь невероятная, душераздирающая музыка?..
Он пришел в ярость.
– Язвительный язык, – прошептал он. – Я старше, чем ты можешь себе представить. Я лучше тебя знаю, что такое боль. Я восприимчивее тебя. Я освоил в совершенстве игру на этом инструменте еще до того, как умер. Я научился играть, и у меня был талант, который тебе никогда не понять, несмотря на все твои диски, сны и фантазии. Ты ведь спала, когда твоя маленькая дочь Лили умерла, – не забыла? В больнице в Пало-Альто ты на самом деле заснула и…
Я заткнула руками уши! Меня снова окружила обстановка больничной палаты двадцатилетней давности, вспомнились ее запах и свет.
– Нет! – выкрикнула я. – Ты наслаждаешься этими обвинениями! – Сердце колотилось чересчур сильно, но голосом я пока владела. – Почему? Что я для тебя и ты для меня?
– Но я думаю про тебя то же самое.
– Что именно? Объяснись.
– Я думал, что ты коришь себя и наслаждаешься этими обвинениями, я думал, ты упиваешься ими, примешивая сюда же и страх, и раболепие, и холодность, и праздность, с тем чтобы никогда не чувствовать себя одинокой, а всегда держать за руку какого-нибудь дорогого тебе мертвеца и мысленно распевать поэмы раскаяния, без конца возвращаясь к умершим, дабы отвлечься от правды: та музыка, которую ты любишь, тебе недоступна. То чувство, которое музыка исторгает из твоей души, никогда не получит воплощения.
Я не сумела что-либо сказать в ответ.
Осмелев, он продолжил:
– Вот ты и кормилась обвинениями, если воспользоваться твоим собственным словом. Ты буквально упивалась чувством вины, и это позволило мне надеяться, что мне легко удастся довести тебя до безумия, сделать так, чтобы ты…
Призрак умолк – точнее, заставил себя замолчать – и застыл в неподвижной позе.
– Сейчас я уйду, – после паузы произнес он. – Но вернусь, когда захочу, можешь не сомневаться.
– Не имеешь права. Тот, кто тебя прислал, должен забрать тебя обратно.
Я перекрестилась. Он улыбнулся.
– Ну как, помогло? А помнишь нелепую похоронную мессу по твоей дочери, что отслужили в Калифорнии? Как все там было чопорно и неуместно – все те умники интеллектуалы Западного побережья, которых заставили явиться на такое откровенно глупое мероприятие, как настоящие похороны в настоящей церкви, – не забыла? И скучающий священник, которому было на все наплевать. Он ведь знал, что ты ни разу не побывала в его церкви до того, как умерла твоя дочь. А теперь ты крестишься. Может, мне сыграть для тебя гимн? Простенькую мелодию на скрипке. Так обычно не делается, но я могу отыскать в закромах твоей памяти «Veni Creator[9] и сыграть его, и мы вместе помолимся.
– Значит, тебе не помогло обращение к Богу. – Я постаралась, чтобы мой голос звучал твердо, но не сурово. – Никто тебя не присылал. Ты бродяга.
Он был в замешательстве.
– Убирайся отсюда ко всем чертям!
– Ты ведь это несерьезно. – Он пожал плечами. – И не говори, что пульс у тебя не бьется как молот. Тебе до безумия хочется, чтобы я был рядом! Карл, Лев, твой отец… Во мне ты увидела мужчину, какого никогда раньше не встречала. А ведь меня даже человеком нельзя назвать.
– Ты наглый, грубый и отвратительный, – вскипела я. – И никакой ты не мужчина. Ты призрак, причем призрак какого-то молодого, неотесанного и отвратительного человека!
Мои слова его задели. По лицу было видно, что ранила я не одно только его тщеславие.
– Пусть так. – Он явно старался взять себя в руки. – И ты любишь меня из-за музыки. Но не только из-за нее.
– Может быть, ты и прав. – Я холодно кивнула. – Но о себе я тоже высокого мнения. Ты сам признался, что ошибся в расчетах. Я дважды была женой, один раз – матерью. Возможно, была и сиротой. Но слабой и ожесточенной? Никогда. Мне не хватает чувства, которое требуется для ожесточения.
– Какого именно?
– Сознания, что все должно было сложиться лучше. Это жизнь, только и всего, и ты пьешь из меня соки, потому что я жива. Но я не настолько снедаема чувством вины, чтобы ты мог являться сюда и лишать меня разума. Никоим образом. Я даже уверена, что ты не до конца понимаешь, что такое чувство вины.
– Разве? – Он был искренне удивлен.
– Неистовый страх, причитания «mea culpa, mea culpa»[10] – это только первая стадия, – пояснила я. – Затем наступает нечто более тяжелое, тесно связанное с заблуждениями и ограничениями. Сожаления – это ничто, абсолютное ничто…
Теперь настала моя очередь недоговаривать, и все из-за недавних воспоминаний, вернувшихся, чтобы повергнуть меня в печаль. Я увидела свою мать, уходившую от меня в тот последний день. «Мамочка, позволь мне обнять тебя!» Кладбище в день ее похорон. Кладбище Святого Иосифа, заполненное маленькими могилами, – место последнего упокоения бедняков ирландцев и бедняков немцев. Повсюду горы цветов. А я смотрю в небо и думаю, что это никогда-никогда не изменится, что эта боль никогда не пройдет, что в этом мире никогда больше не будет света.
Я встряхнулась, отогнав от себя мрачные мысли, и подняла на него глаза.
Он внимательно изучал меня и, казалось, сам страдал от боли. Меня это взволновало. Я снова попыталась ухватить самое главное, отбросив все остальное в сторону, оставив лишь то, что нужно было осознать и постараться выразить.
– Думаю, теперь мне понятно, – сказала я, чувствуя волну облегчения. Волну любви. – Вот ты зато ничего не понимаешь. А жаль.
Я забыла об осторожности. Думала только о том, что пыталась постичь, а не о том, чтобы кому-то досадить или доставить удовольствие. Мне хотелось только достучаться до него, чтобы он понял и принял это.
– Так просвети же меня, – насмешливо сказал он.
Ужасная боль накрыла меня с головой – слишком огромная и всепоглощающая, чтобы быть пронзительной. Она полностью завладела мною. Я взглянула на него в мольбе и разомкнула губы, собираясь заговорить, признаться, попробовать вместе с ним найти определение этой боли и высказать его вслух. Но как охарактеризовать эту боль, это чувство ответственности, осознанный факт, что кто-то в этом мире стал причиной ненужных горестей и разрушения и уже ничего нельзя переделать – нет, никогда не переделать; мгновения навсегда потеряны, они остались только в памяти, искаженные и болезненные, и тем не менее есть что-то гораздо более тонкое, гораздо более значительное, что-то подавляющее и запутанное, о чем мы оба знаем – он и я… Он исчез.
Пропал внезапно, без следа, и проделал это с улыбкой, оставив меня натянутой как струна. Какое коварство – покинуть меня сейчас, в мгновение ужасной боли и, что еще хуже, наедине с нестерпимой потребностью хоть с кем-нибудь разделить эту боль!
Я обратила свой взор на тени. Передо окном мягко покачивались деревья. То и дело принимался моросить редкий дождик.
Он исчез.
– Мне ясна твоя игра, – тихо произнесла я. – Я ее поняла.
Подойдя к кровати, я сунула руку под подушку и вытащила четки. Хрустальные четки с серебряным крестиком. Они оказались в кровати, потому что в ней всегда спала мать Карла, когда приезжала, а еще, после того как мы с Карлом поженились, здесь спала во время своих визитов моя любимая крестная, тетушка Бриджит. А может быть, четки лежали под подушкой потому, что были моими и я сама по рассеянности сунула их туда. Мои четки. С первого причастия.
Я внимательно их разглядела. После смерти матери мы с Розалиндой жутко поссорились. И все из-за материнских четок. Мы буквально разорвали их, рассыпав по полу звенья и фальшивые жемчужины – это была дешевая вещь, но я ее сделала собственными руками, для мамы, и теперь захотела вернуть. Но мы порвали их, а когда Розалинда бросилась вслед за мной, я с такой силой захлопнула дверь перед ее лицом, что стекла разбитых при этом очков глубоко врезались сестре в лоб. Сколько ярости. И снова на полу кровь.
Снова кровь… Словно мама до сих пор жива, опять пьет, падает с кровати и ударяется лбом, как случалось по меньшей мере дважды, когда она разбивалась в кровь о газовую горелку. Кровь, кровь… Кровь на полу. Розалинда, моя скорбная, яростная сестра Розалинда! Порванные четки на полу.
Теперь я снова смотрю на четки и поступаю абсолютно по-детски: порывисто целую крестик, крошечное тело страдающего Христа, после чего сую четки обратно под подушку.
Во мне клокотала ярость, словно я подготовилась к битве. Я вспомнила первые стадии опьянения в молодости, когда пиво божественно ударяло в голову и я, раскинув руки, бежала по улице и пела.
Каждая клеточка моей кожи горела огнем. Дверь открылась без малейшего усилия.
Убранство столовой выглядело как новое. Неужели предметы начинают сиять для тех, кому предстоит сражение?
Алфея и Лакоум застыли на пороге кладовой в другом конце столовой – в ожидании, не понадобятся ли мне их услуги. Алфея не скрывала своего страха, а Лакоум, как всегда, излучал цинизм и любопытство.
– А мы думали, вы вскрикнете от неожиданности! – сообщил Лакоум.
– Я не нуждалась в чьей-либо помощи. Но я знала, что вы здесь.
Я оглянулась, увидела мокрые пятна на кровати, воду на полу, но решила не беспокоить слуг из-за таких пустяков и сказала первое, что пришло в голову:
– Пойду, пожалуй, прогуляюсь. Сто лет не гуляла под дождем.
Вперед выступил Лакоум.
– Вы хотите выйти на улицу? Сейчас? В такой дождь?
– Тебе нет нужды сопровождать меня, – сказала я. – Где мой плащ? Алфея, на улице холодно?
Я вышла из дома и направилась по Сент-Чарльз-авеню.
Дождь к этому времени едва моросил. Впервые за много лет я прошлась по своей улице – просто прошлась, как в детстве или юности, когда мы бегали в аптеку «К и В» за мороженым. Хороший предлог, чтобы лишний раз полюбоваться красивыми домами со стеклянными дверями и поболтать по дороге.
Я долго шла в сторону окраины квартала, мимо знакомых оград, зданий и заросших сорняком пустырей, где когда-то стояли огромные особняки. Эту улицу всегда пытались уничтожить – либо прогрессом, либо запущенностью, и она всегда словно балансировала на грани исчезновения: еще одно убийство, еще одна перестрелка, еще один пожар – и ее судьба будет безжалостно решена.
Пожар. Меня передернуло. Пожар. Когда мне было пять, пожар охватил один дом – старую, мрачную постройку Викторианской эпохи, возвышавшуюся кошмаром на углу Сент-Чарльз-авеню и Филипп-стрит. Помню, как отец отнес меня на руках «посмотреть на огонь» и как я зашлась истерикой, увидев пламя. Оно так высоко взметнулось над людскими толпами и пожарными машинами, что, казалось, способно поглотить ночь.
Я стряхнула с себя этот страх и смутно припомнила, как люди лили на меня воду, пытаясь успокоить. Розалинда пришла в восторг от зрелища. Для меня же это было откровение такого масштаба, с которым не шла ни в какое сравнение даже новость, что все мы смертны.
Меня охватило приятное чувство. Давний страх, что этот дом тоже сгорит, исчез вместе с юностью – как и многие другие опасения. Взять, к примеру, огромных ленивых черных тараканов, которые носились толпами по обочинам дорог: я каждый раз в ужасе отступала в сторону. Сейчас и эта боязнь почти исчезла, как и сами тараканы в век пластиковых мешков и холодных, как ледник, домов.
Внезапно я вспомнила, что он сказал насчет Льва и тогда еще совсем юной Катринки: будто мой молодой и очень любимый муж и моя не менее любимая сестра оказались в одной постели и я всегда корила за это саму себя. Хиппи, марихуана, дешевое вино, слишком много заумных разговоров… Моя вина, моя вина. Я была трусливой верной женой, глубоко любящей своего мужа. Катринка же всегда отличалась дерзостью.
Что он сказал, этот мой призрак? Mea culpa. Или это мои собственные слова?
Лев любил меня. А я люблю его до сих пор. Но тогда я чувствовала себя такой уродкой, такой никчемной, а Катринка была такой свежей, да и время было заполнено одной только индийской музыкой и идеями свободы.
Великий Боже, неужели это создание явилось ко мне не во сне? Этот человек, с которым я только что разговаривала? Скрипач, которого видели другие люди? Теперь он окончательно исчез.
По другой стороне авеню ползла огромная машина. Я увидела, как Лакоум ворчит, высунувшись из заднего окошка, чтобы выдохнуть сигаретный дым.
Мне стало любопытно, что сейчас думает этот новый шофер, Оскар, и не захочет ли Лакоум сам сесть за руль. Лакоум никогда не делает то, что ему не по душе.
Я рассмеялась при виде этих двух моих охранников в огромной ползущей черной вольфстановской машине, но зато теперь я могла уйти так далеко, как только пожелала бы.
«Хорошо быть богатой, – подумала я с улыбкой. – Ах, Карл, Карл…»
Мне показалось, я пытаюсь ухватиться за соломинку, чтобы не утонуть, и тогда я остановилась, «на время поступившись безотрадным блаженством»,[11] чтобы подумать о Карле, и только Карле, которого совсем недавно сунули в печь.
– Знаешь, совершенно не обязательно, что болезнь проявит клинические симптомы. – Голос Карла, такой успокаивающий. – Когда меня поставили в известность о необходимости переливания, я был болен уже четыре года. С тех пор прошло еще два…
Да, с моей заботой и любовью ты будешь жить вечно! Я бы написала об этом музыку, будь я Генделем или Моцартом, или тем, кто умеет писать музыку… или исполнять ее.
– Книга, – сказала я, – книга превосходна. Святой Себастьян, пронзенный стрелами, загадочная фигура.
– Ты так думаешь? Так ты о нем наслышана? – Карл всегда приходил в восторг от моих рассказов о жизни святых.
– Наш католицизм, – пояснила тогда я, – в те ранние дни был такой махровый и строгий, что мы напоминали евреев-ортодоксов.
Пепел. Этот человек стал пеплом! А его творение превратится в украшение журнального столика, в рождественский подарок, в библиотечный раритет, из которого в конце концов студенты-художники повырезают все иллюстрации. Но благодаря нам книга останется на века. Святой Себастьян Карла Вольфстана.
Я приуныла. Меня угнетало сознание того, что жизнь Карла приняла такой малый размах: он прожил хорошую, стоящую жизнь, но не великую – это не была жизнь талантливого человека, о которой я мечтала, когда с таким трудом постигала скрипку, это не была жизнь, за которую ведет борьбу Лев каждым своим стихотворением. Я остановилась. Прислушалась.
Скрипача поблизости не было.
Я не услышала музыки. Оглядела улицу по обе стороны. Внимательно вгляделась в проезжавшие мимо машины. Нет музыки. Ни одной, даже самой тихой, ноты.
Я принялась вспоминать его, моего скрипача, черточку за черточкой, решив, что, возможно, кому-то другому его длинный узкий нос и глубоко посаженные глаза не показались бы такими соблазнительными. А возможно, и показались бы. Какой у него красиво очерченный рот, какой необыкновенный разрез глаз, благодаря которым он выражал столько чувств: то широко их раскрывал, то приглушал какой-то хитрой тайной. Снова и снова мне грозили старые воспоминания, самые мучительные и сокрушительные из них надвинулись на меня стеной: отец, умирающий, безумный, вырывает пластиковые трубки из носа, отталкивает сиделку… все эти картины словно принес с собой ветер. Я потрясла головой. Огляделась. И тогда настоящее окутало меня со всех сторон.
Но я отказалась от него.
Я опять вспомнила о нем, о призраке, освежая в воображении его худую высокую фигуру и скрипку, зажатую в руке, и пытаясь изо всех сил, несмотря на отсутствие музыкальности, припомнить мелодии, которые он играл.
«Призрак, призрак, это был призрак!» – думала я.
Я все шла и шла, хотя туфли отсырели и в конце концов промокли насквозь. Дождь снова припустил вовсю. Машина подъехала поближе, но я велела им убраться и пошла вперед. Я шла, потому что знала: пока я иду, ни воспоминания, ни сон не смогут меня одолеть.
Я много размышляла о нем. Припомнила все, что смогла. Что он носил обычную строгую одежду, какую покупают в недорогих магазинах, предпочитая ее повседневным и модным тряпкам; что он был очень высок – по моим подсчетам, по крайней мере шесть футов три дюйма; я вспоминала, как смотрела на него снизу вверх, хотя в те минуты не чувствовала себя ни маленькой, ни напуганной.
Должно быть, было за полночь, когда я наконец вернулась на родное крыльцо и услышала за своей спиной, как машина притормаживает у обочины.
Алфея держала наготове полотенце.
– Входите, детка моя.
– Почему ты до сих пор не спишь? – спросила я. – Видела моего скрипача? Того моего друга-музыканта со скрипкой?
– Нет, мэм. – Она покачала головой, продолжая подсушивать мои волосы полотенцем. – Думаю, вы прогнали его навсегда. Бог свидетель, мы с Лакоумом были готовы взломать ту дверь. Но вы сами справились. Он убрался восвояси!
Я сняла плащ и, отдав его служанке, поднялась наверх.
Кровать Карла. Наша спальня на втором этаже, как всегда освещенная сквозь тюль красной рекламой цветочной лавки напротив.
Новый матрас и подушки. И разумеется, ни одного отпечатка моего мужа, ни единого его волоска. Только деревянная резная рама тонкой работы, внутри которой мы когда-то занимались любовью, – эту кровать Карл приобрел в те счастливые дни, когда ему доставляло огромное удовольствие покупать для меня вещи. Почему, почему, спрашивала я тогда, почему столько радости? Мне было стыдно, что тонкая резная мебель и редкие ткани делали меня такой счастливой.
Я ясно представила скрипача-призрака, хотя его здесь не было. Я была одна в этой комнате – больше ни души.
– Нет, ты не ушел, – прошептала я. – Я знаю, ты еще вернешься.
Хотя, с другой стороны, с чего бы ему возвращаться? Какой у него был долг передо мной, у этого призрака, которого я всячески обзывала и проклинала? А мой покойный муж сожжен всего три дня назад. Или четыре?
Я начала плакать. В комнате даже не улавливается сладостный запах волос Карла или его одеколона. Не было запаха чернил и бумаги. Не было запаха «Балканского собрания» – табака, от которого он так и не смог отказаться, того самого, что постоянно высылал ему из Бостона Лев.
«Позвони Льву. Поговори со Львом».
Но зачем?
Из какой пьесы эта привязчивая строчка: «Но это было в другой стране. К тому же девка умерла»?[12]
Строка из Марло, вдохновившая когда-то и Хемингуэя, и Джеймса Болдуина, и кто знает, скольких еще…
Я начала нашептывать строку из Гамлета: «…безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам».[13]
В комнате раздался долгожданный шорох: просто зашелестели занавески, а потом заскрипели половицы, как иногда случается в этом доме, оттого что в слуховые окна чердака ударится ветер.
Затем снова наступила тишина. Он словно пришел, а потом ушел – внезапно, демонстративно, и я почувствовала невыносимую пустоту и одиночество этой секунды.
Все мои философские убеждения, которых я когда-либо придерживалась, оказались бессильны. Я была одинока. Одинока. Это хуже, чем вина и горе, и возможно, что… Нет, не стану об этом думать. Я улеглась на новое белое атласное покрывало и попыталась душой и телом провалиться в черную пустоту, отгородиться от всех мыслей. Пусть ночь хотя бы раз будет спокойной и безмятежной, как этот потолок надо мной, за которым скрывается равнодушное, невозмутимое небо с бессмысленными и дразнящими звездами. Но я не смогла остановить ход своих мыслей – это все равно что пытаться не дышать.
Уход моего призрака поверг меня в ужас. Я сама его прогнала! Я рыдала, шмыгая носом. Меня пугало, что я больше не увижу его никогда, никогда, никогда, что он ушел так же безвозвратно, как уходят живые, что я сама развеяла это чудовищное сокровище по ветру!
О Господи, нет, только не так, нет, пусть он вернется. Если остальных приходится удерживать при себе, то я это понимаю и всегда понимала. Но он ведь призрак! Мой Бог, пусть он ко мне вернется…
Я впала в полное отчаяние. А затем… что я могу сказать? Что мы знаем о тех минутах, когда ничего не чувствуем? Если бы только мы могли очнуться от этого забвения с ощущением уверенности, что в жизни нет никаких тайн, что жестокость всегда безлика… Но это не так.
Несколько часов я ни о чем не думала.
Я спала.
Вот и все, что я знаю. Я спала, отодвинув как можно дальше все свои страхи и мысли о потерях, оставив только одну отчаянную молитву: «Пусть он вернется, Господи».
Какое святотатство!
Глава 7
На следующий день дом был полон людей. Все двери стояли нараспашку, так что гостиные, расположенные по обе стороны просторного вестибюля, хорошо просматривались из длинного обеденного зала, а народ беспрепятственно фланировал по коврам, жизнерадостно беседуя, как принято у жителей Нового Орлеана на поминках, словно именно этого желал покойник.
Меня же окружало небольшое облако молчания. Все считали, что я… ну, скажем так, душевно надломлена, раз провела два дня у мертвого тела да к тому же еще, не сказав ни слова, улизнула из больницы.
Катринка никак не могла успокоиться и все выговаривала Розалинде, словно та в действительности меня убила.
Розалинда своим низким сонным голосом то и дело интересовалась, все ли со мной в порядке, и я каждый раз отвечала «да». Катринка специально завела разговор обо мне со своим мужем. Гленн, муж Розалинды, мой любимый зять, казался совсем сломленным. Он глубоко переживал мою потерю, но не нашел лучше ничего, как не отходить от меня ни на шаг. Я вдруг почувствовала, как сильно их люблю – Розалинду и Гленна, бездетную пару, владельцев дешевой лавчонки, где до сих пор продаются книги Эдгара Райса Берроуза в мягких обложках и пластинки на семьдесят восемь оборотов с записями Нельсона Эдди.
Дом излучал теплоту и сияние, как может сиять только этот дом, с его многочисленными зеркалами и окнами, выходящими на все стороны света. В том и заключалась гениальность этого коттеджа, что, стоя в столовой – вот как я теперь, – через открытые двери и окна можно было видеть все, что происходит вокруг, хотя по большей части взгляд утыкался в раскачивающиеся на ветру деревья. Как здорово, что в доме чувствовался такой простор.
Был заказан обильный ужин. Приехали знакомые официанты. Еще какая-то женщина, прославившаяся своим шоколадным тортом. А вот и Лакоум – стоит руки за спину и насмешливо поглядывает на черного бармена в безукоризненном костюме. Через какое-то время, однако, Лакоум непременно с ним подружится: он без труда находил общий язык с людьми – по крайней мере с теми, кто мог его понять.
В ходе вечера он улучил минутку и так бесшумно подкатил ко мне, что я перепугалась.
– Хотите чего-нибудь, босс?
– Нет, – ответила я с легкой улыбкой. – Только не напивайся сразу.
– Босс, это не смешно, – сказал он, отплывая в сторону с хитренькой усмешкой.
Мы собрались вокруг длинного и узкого овального стола.
Розалинда, Гленн, а также Катринка, две ее дочери и муж и множество наших родственников ели с жадностью, держа тарелки в руках, потому что стульев на всех не хватило. Мои родственники легко сошлись с общительным семейством Вольфстанов.
Карл умолял этих родственников не навещать его, когда дело уже близилось к концу. Даже когда мы поженились, он знал, что болен, и не захотел праздновать свадьбу на широкую ногу. И теперь, когда его мать снова отправилась в Англию и все было сделано, эти Вольфстаны – как один с ясными лицами, с приятной внешностью, имеющие явно немецких предков, – выглядели чуть удивленными, как обычно выглядят те, кто просыпается после глубокого сна. Тем не менее среди изысканной и прекрасной мебели, которую купил для меня Карл, – стульев на гнутых ножках, перламутровых столиков, инкрустированных комодов и столов, потертых от времени подлинных обюссонских ковров, таких тонких, что казалось, ходишь по бумаге, – они смотрелись совершенно естественно и вели себя свободно и непринужденно.
Вся эта роскошь была в стиле Вольфстанов.
Они все были при деньгах. Они всегда владели домами на Сент-Чарльз-авеню. Их предками были богатые немцы, поселившиеся в Новом Орлеане еще до Гражданской войны и заработавшие огромные деньги на сигарах и пиве. Задолго до того, когда на наше побережье высадилась многочисленная оборванная братия, гонимая «картофельным голодом», – изможденные ирландцы и немцы, которые были моими предками. Вольфстаны же владели собственностью в лучших районах и являлись хозяевами известных магазинов и фирм.
Моя кузина Сара сидела, уставившись в тарелку. Это была младшая внучка кузины Салли, на руках которой умерла моя мать. Я не могла себе это представить. Сара в то время еще не родилась. Другие кузены из семейства Беккер, а также те, что носили ирландские фамилии, выглядели несколько недоуменными среди окружающего блеска.
Весь день дом казался мне удивительно красивым.
Я то и дело поворачивалась, чтобы поймать отражение толпы в огромном зеркале во всю стену – оно висит как раз напротив входной двери и в нем хорошо видно все пространство, отведенное для гостей.
Зеркало старое; моя мать его очень любила. Я никак не могла перестать думать о ней, мне несколько раз приходило в голову, что она была первой, кого я по-настоящему глубоко ранила и подвела, именно она, а не Лили. Я ошиблась в расчетах, ужасно ошиблась. Это была ошибка длиною в жизнь.
Я сидела, погрузившись в раздумья, иногда шептала абсолютную чушь – только для того, чтобы отбить у людей всякую охоту заговаривать со мной.
Мне никак не удавалось прогнать воспоминания о том, как мать в последний раз покидала этот дом: отец повез ее к ирландской крестной и кузине, хотя ей совершенно не хотелось жить с ними. Она не желала, чтобы ее позорили. У нее был очередной запой, а мы не могли за ней присматривать в то время, потому что у Катринки, восьмилетней девочки, случился перитонит и, как я узнала позже – тогда мне, конечно, подобное и в голову не могло прийти, – она умирала в больнице.
Разумеется, Катринка выжила. Иногда я спрашиваю себя, не повлиял ли тот факт, что она пропустила смертный час нашей матери – а случилось это как раз, когда она была прикована к постели своей долгой и тяжелой болезнью, – так вот, я себя спрашиваю, не из-за этого ли она выросла такой надломленной, вечно во всем сомневающейся. Нет, лучше не думать сейчас о Катринке.
Ее сомнения словно тяжелое ярмо на моей шее. Я знала, о чем она шепчется по углам с гостями, но мне было все равно.
Я вспоминала, как отец вел мать по боковой дорожке на Третью улицу, а она умоляла не отвозить ее к тем родственникам. Она стыдилась предстать в таком виде перед любимой кузиной Салли. А я даже не подошла попрощаться с ней, поцеловать, сказать хоть слово! Мне было тогда четырнадцать. Уже не помню, почему я оказалась на дорожке в тот момент, когда отец выводил ее из дома. Никак не могу припомнить, но ужас произошедшего не оставляет меня: она умерла в окружении своих родственников:
Салли, Пэтси и Чарли. И хотя она любила их, а они любили ее, рядом с ней не было ни одного из нас!
Мне показалось, что я вот-вот перестану дышать.
Гости слонялись по просторному коттеджу, выходили на террасу. Как хорошо все-таки, что, хоть и с опозданием, они собрались здесь ради меня. Мне нравился блеск отполированных комодов и матовое сияние бархата стульев с высокой спинкой, которые Карл понаставил повсюду.
Когда-то по распоряжению Карла старый паркет покрыли несколькими слоями лака. С потолка свисали огромные люстры баккара, которые отец отказывался продавать даже в те дни, когда у нас «ничего не осталось».
Ужин сервировали серебром Карла. Нашим серебром – стоило мне, наверное, сказать, раз я была его женой и он купил этот узор специально для меня. Узор называется «Разоружающая любовь» и впервые был изготовлен в самом начале века фирмой «Рид и Бартон». Старая фирма. Старый узор. Даже новые изделия тщательно выгравированы, как в старину. Какое-то время тому назад этот узор вышел из моды у невест. Теперь можно было купить только новые или старые изделия. У Карла хранились целые сундуки серебра, которое он коллекционировал.
Это один из редких узоров, изображающих фигуры в полный рост, в данном случае – красивую обнаженную женщину, которую можно было найти и на самых маленьких, и на самых больших предметах.
Мне нравилось это серебро. У нас его было больше, чем мы могли использовать, потому что Карл неустанно собирал самые разнообразные серебряные изделия. Мне хотелось предложить гостям, чтобы каждый выбрал себе по одному предмету в память о Карле, но я промолчала.
Я ела и пила только потому, что, когда этим занимаешься, можно меньше говорить. Но кусок не лез в горло. Мне это казалось чудовищным предательством.
Точно так же я себя чувствовала после смерти моей дочери Лили. Похоронив ее далеко отсюда, в Окленде, на кладбище Святой Марии, мы отправились с родителями Льва перекусить и чего-нибудь выпить. Я тогда тоже все время давилась. Ясно помню, что поднялся ветер и принялся раскачивать деревья, а я все никак не могла перестать думать о Лили, лежащей в гробике.
Лев казался тогда сильным, храбрым и красивым со своей длинной развевающейся шевелюрой, этакий дикарь-поэт-профессор. Он велел мне есть и помалкивать, а сам поддерживал разговор с убитыми горем родителями, время от времени обращаясь и к моему отцу, который говорил очень мало или вообще отмалчивался.
Катринка любила Лили. Теперь я вспомнила! Как я могла забыть? Подло с моей стороны забыть такое! И Лили очень любила свою красивую светловолосую тетю.
Катринка тяжело пережила смерть Лили. Фей – великодушная милая Фей – была напугана болезнью и смертью Лили. Но Катринка всегда находилась рядом – в больничной палате, в коридорах, – переживая всем сердцем, готовая прийти по первому зову. Это были калифорнийские годы. В конце концов мы все покинули Калифорнию и разъехались кто куда. Фей тоже уехала, и, наверное, навсегда: никто не знал, где ее искать.
Даже Лев в конце концов сдался и покинул Калифорнию – уже спустя многие годы после того, как женился на Челси, моей хорошенькой близкой подруге. Кажется, еще до отъезда в Новую Англию, где Льву предложили место преподавателя в колледже, у них родился первенец.
Я внезапно порадовалась за Льва. У него было трое детей, все мальчики. И хотя Челси иногда звонила и жаловалась, что муж невыносим, на самом деле это было не так. И хотя он сам иногда звонил и плакал, приговаривая, что нам следовало бы держаться вместе до конца, я ни о чем не жалела и знала, что на самом деле и он не жалеет. Я любила рассматривать фотографии его трех сыновей и с удовольствием читала стихи Льва – тонкие элегантные томики поэзии, выходившие раз в два-три года.
Лев. Мой Лев был мальчишкой, с которым я познакомилась в Сан-Франциско и за которого вышла замуж. Бунтарь-студент, любитель вина, певец безумных импровизированных песен и танцор под луной. Он только-только приступил к преподаванию в университете, когда заболела Лили, и правда заключалась в том, что он так и не сумел оправиться после ее смерти. Никогда, никогда больше он не был прежним, и у Челси он искал утешения и теплоты, и сексуальности, в которой он отчаянно нуждался, а у меня – сестринского одобрения своего выбора.
Ну к чему теперь обо всем этом думать? Неужели в других семьях меньше бед? Или смерть цветет здесь особенно пышно по сравнению с другими большими семействами?
Лев стал уважаемым профессором, получил штатную должность, был счастлив. Если бы я его попросила, он бы приехал. Да что там, еще вчера вечером, когда я гуляла под дождем, отупелая и безумная, я могла бы ему позвонить. Лев ведь до сих пор не знает, что Карл умер. Я уже несколько месяцев не разговаривала с бывшим мужем, хотя в гостиной на столе лежит от него письмо. Нераспечатанное.
Я не могла стряхнуть с себя все это. Так бывает, когда тебя охватывает дрожь. Чем больше я размышляла о матери и Лили, о моем потерянном супруге Льве, тем явственнее я вспоминала музыку, отчаянную скрипку, и понимала, что не могу избежать этих невыносимых воспоминаний, как не может не смотреть на раны своей жертвы убийца. Я словно впала в своего рода транс.
Но возможно, такой транс теперь всегда будет следовать за смертью, по мере того как одна смерть незамедлительно следует за другой. Оплакивая одного, я оплакивала всех. И снова я подумала, что глупо считать, будто смерть Лили была моим первым ужасным преступлением. Ведь задолго до этого я бросила собственную мать!
Пробило пять часов. За окном появились тени. На улице усилился шум. Все большие комнаты приобрели более праздничный вид, а гости, изрядно выпив, разговаривали чуть свободнее. Так всегда проходят поминки в Новом Орлеане, словно покойник оскорбился бы, продолжай гости и дальше тихо перешептываться по углам – как того требует поминальная традиция Калифорнии.
Калифорния. Лили лежит там на холме – но зачем? Некому прийти на ее могилку. Боже мой, Лили! Каждый раз, когда я намеревалась перевезти тело Лили домой, у меня возникало ужасное видение: гроб прибудет сюда, в Новый Орлеан, и мне придется в него заглянуть. Лили, не дожившая и до шести лет, похоронена больше двух десятилетий тому назад. Я не представляла, что там увижу. Забальзамированный трупик, покрытый зеленой плесенью?
Меня передернуло. Еще секунда – и я готова была закричать.
Появился Грейди Дьюбоссон, мой друг и поверенный, консультировавший Карла и его мать. Мисс Харди тоже здесь. Она пришла раньше большинства гостей, как и несколько других представительниц Общества охраны памятников – все как одна элегантные, утонченные создания.
Ко мне обратилась Конни Вольфстан:
– Мы хотели бы взять в память о нем какой-нибудь пустячок, который вам не жалко… право, не знаю… нас тут четверо.
Я облегченно вздохнула.
– Серебро, – сказала я. – Его очень много, и он его любил. Знаете, он переписывался с торговцами серебра по всей стране и скупал «Разоружающую любовь». Вот, взгляните на эту маленькую вилочку – она считается десертной, предназначена для клубники.
– Вы действительно не против, если мы каждая возьмем по…
– О Боже! А я-то боялась, что вы испугаетесь из-за его болезни. Серебра так много. Хватит всем.
Нас прервал громкий шум. Кто-то свалился на пол. Я знала, что этот кузен был из числа тех немногих, кто приходился родней как Беккерам по моей линии, так и Вольфстанам по линии Карла, но я никак не могла припомнить его имени.
Перепил бедняга. Я видела, что его жена в ярости. Гости помогли ему подняться. На его серых брюках проступили длинные мокрые полосы.
Я хотела продолжить разговор насчет серебра, но тут услышала голос Катринки:
– Что они там пытаются унести? Мимо меня как раз проходила Алфея.
– Пусть его семья возьмет себе что-нибудь из серебра, – успела я ей сказать и мгновенно зарделась под злобным взглядом Катринки, тут же заявившей, что это общая собственность.
Впервые я осознала, что рано или поздно все эти люди уйдут и я останусь одна, что он, возможно, не вернется, и в отчаянии поняла, какое утешение дарила мне его музыка, направляя мои мысли от одного воспоминания к другому. А теперь я, словно околдованная, трясу головой и явно произвожу странное впечатление.
Кстати, что на мне надето?
Я оглядела себя: длинная шелковая юбка, цветастая блузка и бархатный жилет, скрывающий полноту, – униформа Трианы, как говорят мои родственники.
Возле кладовой возникла суматоха. Вынесли серебро. Катринка говорила что-то желчное и ужасное опечаленной Розалинде, и бедняжка со своими вздернутыми темными бровями и сползающими на самый кончик носа очками выглядела потерянной и беспомощной.
Ко мне склонилась кузина Барбара, чтобы поцеловать. Им пора уходить. Муж больше не водит машину с наступлением темноты; по крайней мере, ему нельзя садиться за руль. Я сказала, что понимаю, и, крепко обняв ее на секунду, чмокнула в щеку. Мне вдруг подумалось, что этот поцелуй я подарила не только Барбаре, но и ее матери, и моей давно ушедшей в мир иной двоюродной бабушке, и своей собственной бабушке, которая приходилась той женщине сестрой.
Внезапно Катринка больно вцепилась мне в плечо и развернула меня лицом к себе.
– Они прикарманивают серебро!
Я поднялась и жестом велела ей умолкнуть, прижав палец к губам, хотя я заранее точно знала, что теперь она вскипит от ярости. Так и произошло. Катринка попятилась. Ко мне подошла одна из тетушек Карла, чтобы поцеловать и поблагодарить за чайную ложечку, которую держала в руке.
– Он был бы очень рад… – пробормотала я.
Карл всегда рассылал своим родным и знакомым «Разоружающую любовь», вкладывая в посылку записочку: «Обязательно сообщите, если вам не понравится узор, потому что я могу завалить вас этими вещами». Кажется, я пыталась объяснить ей это, но мне с трудом удавалось четко произносить слова. Я двинулась к двери, будто затем, чтобы проводить тетушку Карла к выходу, а на самом деле используя ее в качестве средства спасения. Другие гости махали мне рукой, спускаясь по ступеням, но я направилась не к ним, а на террасу, чтобы пройтись по ней и оглядеть улицу.
Его там не было. Вероятно, его вообще никогда не было. Я вновь вспомнила о матери, и сердце готово было разорваться, но на память мне пришел вовсе не тот день, когда я видела ее в последний раз, а другой – тот, в который я устроила вечеринку для одного из моих друзей. Мать к тому времени давно ушла в запой, и ее заперли в боковой спальне. Якобы заперли, по обыкновению мертвецки пьяную. В себя она приходила только поздно ночью и принималась бродить по дому. И вот представьте, каким-то образом она забрела на нашу вечеринку!
Она вышла, пошатываясь, на террасу и выглядела в точности, как соперница Джен Эйр, та сумасшедшая женщина, которую Рочестер прятал на чердаке. Мы отвели ее обратно. Но проявила ли я тогда доброту, поцеловала ли я ее? Не могла вспомнить. Мне было отвратительно думать, что я когда-то была такой молодой и глупой, а потом меня снова ударила мысль, что это я позволила ей уйти, позволила ей умереть одной от пьянства, в окружении родственников, которых она стеснялась.
Чем по сравнению с этим было убийство Лили? Неумение спасти Лили?
Я схватилась за перила. Дом быстро пустел.
Скрипач был частью моего безумия, а его музыку я нафантазировала! Сумасшедшую, прелестную, успокаивающую музыку, придуманную подсознанием отчаянно заурядной, бесталанной личности, слишком прозаичной во всех отношениях, чтобы радоваться доставшемуся ей богатству.
Господи! Мне нестерпимо захотелось умереть. Я знала, где хранится оружие, но вдруг подумала, что если подожду всего несколько недель, то всем будет только лучше. Если же я сделаю это сейчас, то каждый станет думать, что это его или ее вина. И потом. Что, если Фей жива и однажды вернется домой? Что, если, узнав о самоубийстве старшей сестры, Фей взвалит вину на себя? Немыслимо!
Поцелуи, прощание. Внезапная волна восхитительных духов – Гертруда, тетушка Карла, а следом – мягкая сморщенная рука ее мужа.
Карл прошептал как-то, когда уже не мог переворачиваться без посторонней помощи:
– По крайней мере, я никогда не узнаю, что такое быть старым, – правда, Триана?
Я повернулась и посмотрела на боковую лужайку. На мокрой траве и мокрых кирпичах сияли отражения огней цветочной лавки, и я попыталась представить, где проходила та тропа, по которой прошла моя мать в тот последний день, когда я ее видела. Тропа не сохранилась. За те годы, что я провела в Калифорнии, после того как мой отец женился на своей протестантке (несмотря на то что жена придерживалась другой веры, он – проклятая душа – тем не менее каждый вечер произносил свою молитву, делая ее абсолютно несчастной), они построили гараж. Мода на автомобили дошла даже до Нового Орлеана. И не осталось в память о маме старых деревянных ворот, через которые она ушла в вечность.
Я начала задыхаться. Обернулась. Взглянула вдоль террасы. Повсюду люди. Но я не могла четко представить себе мать в тот последний день. Она была красавица и, казалось, могла сто очков дать вперед любой из своих дочерей. А в ту ночь, когда она, очнувшись от пьяного сна, оказалась среди веселящихся подростков, у нее было совершенно ошеломленное выражение лица: она не понимала, где находится. Это случилось всего за несколько недель до ее смерти.
Я пыталась отдышаться.
– …Все, что ты для него сделала, – донесся до меня чей-то голос.
– Для кого? – переспросила я.
– Для папочки, – ответила Розалинда, – а после заботилась о Карле.
– Не говори об этом. Когда настанет мой час, я хочу уйти подальше в лес. Одна. Или воспользоваться оружием.
– Мы все этого хотим, – сказала Розалинда. – Но выходит иначе. Ты падаешь и ломаешь бедро, как папочка. Кто-то укладывает тебя в кровать и тычет в тебя иголками и трубками. Или как Карл. Тебе говорят, что еще один курс лекарств – и возможно…
Она говорила что-то еще, моя Розалинда, медсестра, делившаяся со мной самыми болезненными откровениями, ведь мы с ней родились хоть и в разные годы, но в одном и том же месяце, в октябре.
Я так ясно представила себе Лили в гробике, теперь уже покрытую зеленой плесенью, ее маленькое круглое личико, ее прелестную крошечную ручку, пухленькую и красивую, лежащую на груди, ее выходное платьице, последнее платьице, которое я погладила для нее… «Это сделают в похоронном бюро», – говорил отец, но я хотела сама погладить последнее платье моей дочери.
Позже Лев говорил о своей новой невесте, Челси: «Она мне очень нужна, Триана, очень. Она для меня словно Лили. Мне кажется, что я снова обрел Лили».
Я тогда сказала, что понимаю. Кажется, я впала в оцепенение. Только состоянием полного ступора можно объяснить, что я спокойно сидела в другой комнате, пока Челси и Лев занимались любовью. А затем они выходили, целовали меня и Челси неизменно говорила, что я самая необычная женщина из всех, кого она знает.
Ну не смешно ли?!
Кажется, я сейчас снова заплачу. Катастрофа! Захлопали дверцы машин, цветочную лавку закрыли темные тени людей, машущих мне руками на прощание. Из дома меня позвал Грейди. Я услышала голос Катринки. Значит, настала решительная минута.
Я повернулась и прошла вдоль всей мокрой террасы, мимо кресел-качалок, испещренных каплями дождя, еще раз повернулась и заглянула в широкий вестибюль. Отсюда открывался самый прелестный вид, потому что в огромном зеркале во всю стену столовой отражались обе люстры – маленькая, в вестибюле, и большая, в столовой, – и создавалось впечатление, будто заглядываешь в необъятный коридор.
Отец закатывал такие речи насчет важности этих люстр, подчеркивая, что моя мать их очень любила и он ни за что их не продаст! Никогда! Самое забавное, что я не могла вспомнить, кто и когда просил его об этом. Потому что после смерти матери, когда мы все в конце концов разъехались, он здорово поправил свои финансовые дела, а до того мать никому бы не позволила притронуться к этим сокровищам.
Дом почти опустел.
Я переступила через порог. Я была сама не своя. Внутри – сплошной холод, тело не слушается, голос вроде бы чужой.
Катринка плакала, комкая в руках носовой платок. Я последовала за Грейди в гостиную, где между двумя окнами возвышался письменный стол.
– Я все время мысленно возвращаюсь к одному и тому же, – сказала я. – Может быть, потому что не хочу думать о настоящем. Он умер в покое. Не страдал, как мы боялись, – он, мы все…
– Присядьте, дорогая, – сказал Грейди. – Присутствующая здесь ваша сестра намерена обсудить здесь и сейчас проблему, связанную с данным домом. Видимо, ее действительно задело завещание вашего отца, как вы и предполагали, и она считает, что имеет право на часть суммы от продажи этого дома.
Катринка изумленно взглянула на адвоката. Ее муж Мартин покачал головой и бросил взгляд на Гленна, милого и доброго супруга Розалинды.
– Что ж, Катринка имеет право в случае моей смерти… – сказала я и подняла на них глаза.
Все примолкли – наверное, оттого что слово «смерть» звучало здесь так часто.
Катринка закрыла лицо руками и отвернулась.
Розалинда только поморщилась и объявила своим низким громогласным голосом:
– Мне ничего не надо!
Гленн тихим голосом отпустил по адресу Катринки какое-то резкое замечание. Мартин яростно возразил.
– Послушайте, дамы, давайте перейдем к делу, – сказал Грейди. – Триана, мы с вами уже обсуждали этот момент. Мы к нему подготовлены. Да, очень хорошо подготовлены.
– Разве?
Я погрузилась в мечты. Представила, что меня тут нет, хотя отлично видела всех. Я знала, что не существует никакой опасности продажи этого дома. Знала. Я знала то, что не было известно ни одному из них, за исключением Грейди, но это было не важно. Самое важное, что мой скрипач сумел утешить меня в минуты скорби о всех мертвых, лежащих в земле, а оказалось, что он существует лишь в моем воображении.
Мы с ним вели какой-то разговор, который, безусловно, служил явным доказательством моего помешательства. Только безумием можно было объяснить указанную им причину появления в моем доме. Но это была ложь. Он пролил бальзам на мою душу, целебную мазь, легчайший поцелуй. Его музыка знала, как воздействовать! Его музыка не лгала. Его музыка…
Грейди коснулся моей руки. Муж Катринки Мартин заметил, что сейчас неподходящее время, и Гленн с ним согласился, но их слова ни на кого не произвели впечатления.
Всемилостивый Боже, родиться бесталанной уже плохо, но ко всему прочему предаваться мрачным лихорадочным фантазиям – настоящее проклятие. Я уставилась на висевшую над камином огромную картину, изображавшую святого Себастьяна. Одна из самых ценных для Карла вещей, фото которой украсит обложку его книги.
Страдающий святой, привязанный к дереву и пронзенный множеством стрел, был выписан очень эротично.
А на противоположной стене, над диваном, – большое полотно с изображением цветов. Очень похоже на Моне – все так говорили.
Эту картину написал для меня Лев и прислал из Провиденс, с Род-Айленда, где он работал в колледже. Лев и Катринка. Лев и Челси.
Катринке было всего восемнадцать. Мне не следовало допускать до этого; по моей вине Катринка связалась со Львом, и ему после было стыдно, и ей тоже… Что она там говорила? Насчет того, что, когда женщина на последнем месяце беременности, как я, такие вещи… Нет. Нет, это я ей говорила, стараясь успокоить, это я винилась, что я… что он… Я посмотрела на нее. Как далека эта стройная нервная женщина от моей спокойной и молчаливой младшей сестры Катринки.
Когда Катринка была совсем маленькая, она вернулась домой как-то раз с моей матерью, и моя мать, пьяная, отключилась прямо на террасе, не успев вынуть из сумочки ключи, а маленькая Катринка, которой было всего шесть, просидела там пять часов, ожидая, когда я вернусь домой, и стыдясь попросить у кого-то помощи. Просто сидела там рядом с лежащей на полу женщиной – маленькая девочка сидела и ждала.
«Она упала, когда мы выходили из трамвая, но сумела подняться».
Стыд, вина, боль, пустота!
Я бросила взгляд на стол, увидела свои руки. Увидела лежащую на столе чековую книжку в синей виниловой обложке. А может, это был какой-то другой, гладкий и отвратительно плотный, материал. Длинная прямоугольная чековая книжка, самого простого типа, где чеки с одной стороны и записная книжка для учета – с другой.
Лично я никогда не обременяю себя записями, кому и когда выписан чек. Впрочем, сейчас это совершенно не важно. Бесталанна в общении с цифрами, бесталанна в музыке. Моцарт умел играть мелодии задом наперед. Моцарт, вероятно, был математическим гением. А вот Бетховен далеко не такой отточенный, совершенно другого склада…
– Триана.
– Да, Грейди.
Я попыталась сосредоточиться на речи юриста.
Он говорил, что Катринка пожелала продать дом и разделить наследство. Она хотела, чтобы я отказалась от своего права оставаться в доме пожизненно – «узуфрукта», как это называется на юридическом языке, – от права пользоваться домом до самой моей смерти, права, которое я фактически делила с Фей. «Интересно, каким образом я могу его осуществить, раз Фей исчезла без следа?» – думала я, а Грейди тем временем долго и красиво рассказывал о различных попытках связаться с Фей, словно Фей и в самом деле была жива и благополучна. В акценте Грейди – протяжном, очень мелодичном – смешались говоры Миссисипи и Луизианы.
Однажды Катринка рассказала мне, что мать посадила Фей – которой еще не исполнилось двух лет и которая только-только научилась сидеть – в ванну. Мама «уснула», что означало «напилась», и Катринка нашла Фей сидящей в ванне, полной экскрементов. Какашки плавали в воде, а Фей радостно плескалась. Что ж, такое случается, не правда ли? Катринке в то время тоже было очень мало лет. Я пришла домой усталая и с грохотом отшвырнула учебники. Я не хотела ничего знать! Не хотела. Дом был таким темным и холодным Они обе были слишком малы, чтобы включить газовые обогреватели, которые в те времена были несовершенны и очень опасны, так что дом мог загореться в любую секунду. Не было тепла! Да что там тепло! Гораздо страшнее опасность пожара, когда в доме двое маленьких детей и пьяная мать…
Перестань. Теперь все иначе!
– Фей жива, – прошептала я. – Она сейчас… где-то в другом месте.
Никто не услышал.
Грейди к этому времени уже выписал чек. Он положил чек прямо передо мной.
– Хотите, чтобы я озвучил то, что вы попросили меня сообщить? – очень доверительно и любезно осведомился он.
Меня словно ударило. Разумеется. Я все это спланировала, пребывая в страхе и холоде, одним темным мрачным днем, когда Карлу уже было больно дышать: если она, моя сестра, моя бедная потерянная сиротка-сестра, Катринка, когда-нибудь попытается сделать это, то я отвечу ей именно так. Мы все заранее спланировали. Я отдала распоряжения Грейди, и ему ничего не оставалось, кроме как их исполнить. Кстати, он считал их весьма благоразумными, и теперь ему предстояло зачитать небольшое заявление.
– Сколько, по вашим расчетам, стоит этот дом, миссис Расселл? – обратился он к Катринке. – Что вы скажете?
– По крайней мере, миллион долларов, – ответила Катринка, что было абсурдно, потому что гораздо более красивые и просторные дома в Новом Орлеане продавались за меньшую цену. Карл в свое время изумлялся этому. А Катринка и ее муж, Мартин, которые занимались продажей недвижимости, знали это лучше, чем кто-либо другой, так как дела у них шли превосходно и они уже были владельцами собственной компании.
Я внимательно посмотрела на Розалинду. В прошлом, в те мрачные годы, она по большей части читала книги и мечтала. Бывало, бросит взгляд на пьяную мать, лежащую на кровати, и уходит в свою комнату с книжкой. Она читала Эдгара Райса Берроуза. В юности Розалинда обладала хорошей фигурой и чудесными темными кудрявыми волосами. Мы все были недурны собой, и у каждой был свой оттенок волос. – Триана.
Моя мать оставалась красивой до самой смерти. Когда позвонили из похоронного бюро и сказали: «Эта женщина проглотила собственный язык», я не поняла, что это означало. Родственники, у которых она умерла, не видели ее до этого несколько лет. Но именно у них на руках ей суждено было покинуть этот мир. Я хорошо помню, что в ее длинных каштановых волосах не было ни одного седого волоска, а высокий лоб… Все знают, что нелегко слыть красавицей, когда у тебя высокий лоб, но она была красива. В тот последний день, когда она шла по тропе, ее волосы были приглажены и заколоты. Кто помог ей так причесаться?
Только однажды она сделала короткую стрижку. Но это произошло на много лет раньше. Я вернулась домой из школы. Катринка была еще совсем маленькая, бегала по плитам в розовых штанишках – весь день на южном солнце. В то время никому бы и в голову не пришло наряжать детей в фирменные костюмчики. Мать тихо сказала мне, что отрезала и продала волосы.
Что я ей сказала в ответ? Успокоила ли я ее, заверив, что она все равно прекрасна и что стрижка ей очень идет? Я вообще не могла вспомнить, как выглядела в тот момент мать, и только годы спустя поняла: она продала собственные волосы, чтобы купить спиртное. О Господи!
Мне хотелось спросить у Розалинды, считает ли она неискупимым грехом то, что я не попрощалась с нашей матерью. Но я не смогла быть столь закоренелой эгоисткой! Розалинда и без того мучилась и в тревоге переводила взгляд то на Грейди, то на Катринку.
У Розалинды были собственные ужасные воспоминания, которые так сильно ее терзали, что она пила и плакала. Однажды Розалинда наткнулась на мать, когда та поднималась по ступеням крыльца. В руках наша мама держала бумажный пакет, в котором была спрятана плоская фляжка с выпивкой, и Розалинда обозвала ее пьяницей. Позже она со слезами призналась мне в этом, и я все повторяла и повторяла: «Она простила, она поняла, Розалинда, не плачь». Моя мать, которой даже в минуты растерянности никогда не приходилось лихорадочно подыскивать слова для ответа, тогда лишь молча улыбнулась юной Розалинде, которой в пору той печальной истории исполнилось семнадцать, – она была всего на два года старше меня.
«Мама! Я скоро умру!»
Я с шумом втянула в себя воздух.
– Желаете, чтобы я прочел заявление? – спросил Грейди. – Вы хотели прекратить прения. Возможно, вы захотите…
– Современное слово: «прения», – заметила я.
– Ты сумасшедшая, – выпалила Катринка. – Ты спятила, когда позволила Льву уйти, – просто взяла и собственными руками отдала мужа Челси. Сама знаешь, что спятила! И когда выхаживала отца, тебе вовсе не обязательно было закупать все эти кислородные аппараты, нанимать сиделок и тратить все его деньги до последнего цента, тебе совершенно не обязательно было так поступать, но ты все равно это сделала – из чувства вины, сама знаешь, обыкновенной вины за смерть… – Она запнулась, и голос ее дрогнул. За смерть Лили…
Боже, да у нее на глазах слезы!
Даже сейчас она с трудом произносит имя Лили.
– Это из-за тебя ушла Фей! – На ее раскрасневшемся, опухшем лице появилось по-детски отчаянное выражение. – Ты сумасшедшая, раз вышла замуж за умирающего! Надо же придумать такое: привезти умирающего сюда! Мне наплевать, что у него были деньги, мне наплевать, что он отремонтировал дом, мне наплевать, что… Ты не имела права, никакого права совершать подобное…
Возмущенный гул голосов заставил ее заткнуться. Она выглядела такой беззащитной! Даже Мартин теперь рассердился на Катринку, чем нагнал на нее страху; его неодобрение было для нее невыносимо. Она выглядела такой маленькой; они с Фей навсегда остались малышками. Хорошо бы Розалинда сейчас поднялась, подошла к ней и крепко ее обняла. Я бы не смогла… не смогла бы до нее дотронуться.
– Триана, – сказал Грейди. – Не хотите ли продолжить и сделать заявление сейчас, как мы планировали?
– Какое заявление?
Я взглянула на Грейди. Речь шла о чем-то подлом, жестоком, ужасном. Потом я вспомнила. Заявление. Важнейшее заявление; продумывая его формулировки, я исписала десятки черновиков.
Катринка не имела представления, сколько денег мне оставил Карл. Катринка не имела представления, сколько денег я однажды оставлю ей, Розалинде и Фей. А я еще раньше поклялась, что если она предпримет что-нибудь подобное, выкинет какой-нибудь фортель, если она поступит так, как сейчас, то мы вручим ей чек, очень внушительный чек на миллион долларов без всяких центов, на весьма кругленькую сумму, а взамен я возьму с нее обещание, что она в жизни со мной больше не заговорит. План, выношенный в темных уголках души, не знавшей прощения.
Тогда она поймет, как ошиблась в расчетах, какой мелочной была. Да, я отплачу ей, глядя прямо в глаза, за все жестокие слова, которые она когда-либо мне говорила, за все подлости и мелкие пакости, которые делала и делает моя младшая, переполненная ненавистью сестренка, – отомщу за ее связь со Львом, за «утешение», которое она дарила ему после смерти Лили…
Но нет…
– Катринка, – прошептала я, глядя на нее.
Она повернулась ко мне: красное лицо, слезы в три ручья, как у ребенка, вся краска ушла со щек, кроме красной, – как это по-детски. Даже представить себе ужасно: маленькая девочка сидит на школьном дворе с матерью; мать пьяна, и все это знают, но ребенок нежно прижимается к ней, а потом едет домой с этой женщиной в трамвае и…
Однажды я пришла в больницу и увидела Катринку – такую же, как сейчас, красную и зареванную.
«Лили сообщили об анализе крови за целых двадцать минут до того, как его сделали. Почему они так поступают! Это не больница, а камера пыток. Нечего было предупреждать ее заранее…» – Она плакала из-за моей дочери!
Прошло несколько недель, и Лили уже лежала лицом к стене, моя крошечная пятилетняя девочка, почти мертвая. Катринка очень ее любила.
– Грейди, я хочу, чтобы вы отдали ей чек, – быстро произнесла я громким голосом. – Катринка, это подарок. Такова была воля Карла. Грейди, не нужно речей, это бессмысленно, просто отдайте ей подарок, о котором распорядился мой муж.
Я увидела, как Грейди с облегчением вздохнул, что не придется теперь произносить язвительные и мелодраматические речи, хотя адвокат отлично знал, что Карл ни разу в жизни не видел Катринки и ни о каком таком подарке не помышлял.
– Но разве вы не хотите, чтобы она узнала, что это ваш подарок?
– Не хочу, – прошептала я в ответ. – Она бы тогда не смогла его принять, не захотела бы принять. Вы не понимаете. Отдайте Розалинде ее чек, пожалуйста!
Второй чек перешел из рук в руки без всяких условий – он должен был послужить приятным сюрпризом. Карл очень любил Розалинду и Гленна и до последних дней помогал им содержать маленький магазинчик «Книги и пластинки».
– Скажите, что это от Карла, – велела я. – Действуйте.
Катринка подошла к столу, держа в руке чек. Она по-прежнему лила слезы, как ребенок, и я заметила, что она здорово похудела, борясь с наступающим возрастом, – все мы с ним боремся. Своими огромными слегка навыкате глазами и маленьким, хорошеньким, но крючковатым носом она очень походила на отцовскую ветвь Беккеров: в ней чувствовалась семитская красота, даже сейчас придававшая серьезность зареванному лицу. Волосы у нее были светлые, а глаза голубые. Катринка дрожала и качала головой. Из-под сжатых век катились слезы. Отец тысячи раз говорил, что она единственная из всех нас по-настоящему красива.
Я слегка пошатнулась и почувствовала, как Грейди меня поддержал. А Розалинда что-то бормотала, но так неуверенно, что ее никто не слушал. Бедняжка Роз! Вынести такое!
– Нельзя выписать такой чек, – сказала Катринка. – Нельзя просто взять и выписать чек на миллион долларов!
Розалинда тоже держала чек, который передал ей Грейди. Она казалась изумленной. Как и Гленн, стоявший возле нее и глядевший как на чудо света на чек в миллион долларов.
Заявление. Речь. Все фразы, отрепетированные в гневе на Катринку «…чтобы ты никогда ко мне не обращалась; чтобы ты никогда не переступала этот порог; чтобы ты никогда…» – эти слова умерли и растаяли.
Больничный коридор. Рыдающая Катринка. В палате незнакомый калифорнийский священник окропил Лили водой из бумажного стаканчика. Неужели дорогой моему сердцу атеист Лев решил, что я струсила? А Катринка рыдала тогда так, как сейчас, настоящими слезами, оплакивая моего потерянного ребенка, нашу Лили, наших родителей.
– Ты была всегда… – Я запнулась. – Всегда была добра к ней.
– О чем это ты говоришь? – не поняла Катринка. – Нет у тебя никакого миллиона долларов! Что она такое говорит? Что вообще это такое? Неужели она думает, что…
– Миссис Расселл, позвольте мне, – начал Грейди и, взглянув на меня, продолжил, хотя я и не успела кивнуть. – Покойный муж вашей сестры оставил ей весьма значительную сумму и, предварительно сообщив матери о своем решении, успел отдать необходимые распоряжения, не позволяющие членам его семейства на каком-либо основании их опротестовать за отсутствием завещания или подобного документа. Мисс Вольфстан, в свою очередь, незадолго до смерти Карла подписала необходимые документы, с тем чтобы после кончины ее сына никто не смел оспорить его волю, которая должна быть самым скорым образом осуществлена.
Чек, что вы держите в руке, не вызывает ни малейших сомнений в его законности и подлинности. Это дар вашей сестры, и она хочет, чтобы вы его приняли как часть стоимости этого дома. Но должен сказать, миссис Расселл, я не думаю, что даже такой очаровательный дом, как этот, удалось бы продать за миллион долларов. И еще заметьте: вы держите в руке чек на всю сумму, хотя у вас есть три сестры.
Розалинда тихо застонала.
– Могли бы и не говорить, – сказала она.
– Карл, – произнесла я, – Карл хотел, чтобы я могла…
– Да, осуществить это, – подхватил Грейди, запнувшись на секунду, выполняя мое последнее указание; он понял, что пренебрег моими инструкциями, отданными ему шепотом, и теперь немного сбился, потеряв нить. – Это Карл пожелал, чтобы Триана сумела обеспечить подарок каждой из своих сестер.
– Послушай, – сказала Роз. – О какой сумме идет речь? Тебе абсолютно не обязательно делать нам подарки. Ты не должна делиться ни с ней, ни со мной, ни с кем-либо другим. Не должна…
– Послушай, если он оставил тебе…
– Ты не знаешь, – сказала я. – Сумма действительно большая. Денег столько, что выписать такой чек проще простого.
Розалинда откинулась на спинку стула, поджала губы, вскинула брови и уставилась сквозь стекла очков на чек. Ее высокий худощавый муж Гленн не нашел слов: происходящее тронуло его, изумило, сбило с толку.
Я взглянула на дрожащую обиженную Катринку.
– Больше не беспокойся, Тринк, – сказала я. – Никогда и ни о чем не беспокойся.
– Ты безумна! – прозвучало в ответ. Муж Катринки взял ее за руку.
– Миссис Расселл, – обратился Грейди к Катринке, – позвольте порекомендовать вам отнести завтра чек в «Уит-ни Банк», обналичить его или положить на депозит, как вы поступили бы с любым другим чеком… Я уверен, вы с радостью обнаружите, что указанная сумма полностью в вашем распоряжении. Это подарок, а потому чек не влечет за собой никаких налоговых обязательств. Вообще никаких выплат. А теперь я бы хотел сделать небольшое заявление относительно этого дома, с тем чтобы в будущем вы не…
– Не сейчас, – сказала я. – Теперь это уже не важно. Ко мне снова нагнулась Розалинда.
– Я хочу знать сколько. Я хочу знать, во что тебе обошлись оба чека.
– Миссис Бертранд, – обратился Грейди к Розалинде, – верьте мне, ваша сестра щедро обеспечена. К тому же в подтверждение своих слов добавлю, что покойный мистер Вольфстан также распорядился, чтобы новый зал городского музея был полностью посвящен живописным изображениям святого Себастьяна.
Гленн растроенно затряс головой.
– Нет, мы не можем.
Катринка прищурилась, словно заподозрила заговор.
Я попыталась найти слова, но не сумела, тогда махнула рукой поверенному и одними губами произнесла «объясните», пожав при этом плечами.
– Дамы, – начал Грейди, – позвольте заверить вас: мистер Вольфстан обеспечил вашу сестру самым достойным образом. Если уж быть до конца откровенным, эти чеки на самом деле совершенно не уменьшат ее доходов.
Вот и прошел самый важный момент.
Все было кончено.
Катринка не услышала ужасных слов, возьми, мол, этот миллион и больше никогда… и не снизошло на нее ошеломляющее сознание, что она из-за своей ненависти навсегда лишилась возможности получить гораздо больший куш.
Минута прошла. Шанс был упущен.
И все же это было уродливо, даже уродливее, чем я представляла, потому что она теперь стояла, кипя от ненависти, и ей хотелось плюнуть мне в лицо, но не было в мире такой силы, которая заставила бы ее рискнуть миллионом долларов.
– Что ж, мы с Гленном очень благодарны, – сказала Роз своим низким, сильным голосом. – Честно говоря, я не ожидала получить от Карла Вольфстана даже медяк. Очень любезно, очень, что он подумал о нас. Но вы уверены, Грейди? Вы действительно говорите нам правду?
– Да, миссис Бертранд, ваша сестра обеспечена, очень хорошо обеспечена…
Я вдруг представила долларовые купюры. Они летели прямо на меня, махая крошечными крылышками. Самая безумная картина из всех, какие я только видела, но, наверное, впервые в жизни я с облегчением восприняла слова Грейди о том, что больше не придется беспокоиться о средствах, что нужда больше мне не грозит, что теперь можно спокойно и тихо подумать о другом; Карл обо всем позаботился, и его родственники не будут против, так что можно теперь думать о прекрасных вещах.
– Значит, вот как все было, – сказала Катринка, глядя на меня усталыми, пустыми глазами, какими они всегда кажутся после многочасового приступа ярости.
Я промолчала.
– С самого начала это было обычное финансовое соглашение между ним и тобой, а у тебя даже не хватило порядочности посвятить нас в свои дела.
Все молчали.
– Он умирал от СПИДа, так что, будь у тебя хоть на йоту порядочности, ты бы нам рассказала обо всем.
Я покачала головой. Я открыла рот, я начала произносить какие-то слова, что, мол, нет, не то, это чудовищно, что она говорит, я… Но внезапно меня осенило, что именно так поступила бы Катринка, и тогда я улыбнулась, а потом начала смеяться.
– Милая, милая, не плачьте, – сказал Грейди. – У вас все будет хорошо.
– Нет, вы ошибаетесь, все прекрасно, я…
– Все это время, – вмешалась Катринка, вновь заливаясь слезами, – ты позволила нам волноваться и рвать на себе волосы! – Голос Катринки заглушал мольбы Розалинды, заклинающие сестру замолчать.
– Я люблю тебя, – сказала Розалинда.
– Когда вернется Фей, – прошептала я Розалинде, словно мы обе по-сестрински должны были что-то скрывать от всех остальных, сидящих за этим круглым столом в этой большой комнате. – Когда Фей вернется, ей понравится то, как сейчас выглядит дом, – как ты думаешь? Все вот это, все, что сделал Карл. Теперь здесь так красиво.
– Не плачь.
– А разве я плачу? Мне казалось, я смеюсь. Где Катринка?
Несколько человек вышли из комнаты. Я поднялась и тоже вышла. Заглянула в столовую, в душу и сердце этого дома, комнату, в которой давным-давно мы с Розалиндой затеяли жуткую драку из-за четок. Господи, я иногда думаю, что людей доводит до пьянства избыток воспоминаний. Должно быть, мама вспоминала какие-то совершенно ужасные вещи. Мы тогда разорвали материнские четки! Четки!
– Я должна пойти спать, – сказала я. – Голова раскалывается, я все время что-то вспоминаю. Что-то очень неприятное. Никак не могу прогнать дурные мысли. Хочу попросить тебя кое о чем, Роз, дорогая…
– Да? – тут же откликнулась сестра, протянув ко мне обе руки и устремив на меня твердый взгляд, полный сочувствия.
– Скрипач – ты помнишь его? Тем вечером, когда умер Карл, на улице стоял человек и…
Остальные столпились под маленькой люстрой в вестибюле. Катринка и Грейди затеяли яростный спор. Мартин держался с Катринкой сурово, и она чуть ли не перешла на визг.
– А-а, ты о том парне со скрипкой! – Роз рассмеялась. – Конечно, я его помню. Он играл Чайковского. Разумеется, он выпендривался, знаешь ли. Можно подумать, что Чайковский нуждается в импровизации! Но скрипач был таким… – Она наклонила голову набок. – В общем, он играл Чайковского.
Я прошлась с Розалиндой по столовой. Она о чем-то говорила, а я не могла понять. Какие-то странные фразы. Мне казалось, она все выдумывает. Но потом я вспомнила…
Это было совершенно другое воспоминание, в котором не было ни боли, ни накала прежних образов, бледное, давно ушедшее в небытие, покрытое пылью. Не знаю, но сейчас почему-то я не стала гнать его прочь.
– Помнишь, один пикник в Сан-Франциско, – говорила Розалинда, – там были все твои битники и хиппи, а я боялась до смерти, что сейчас нас всех ограбят и свалят в залив, а ты взяла скрипку и все играла, играла, а Лев танцевал! В тебя словно вселился дьявол, в тот раз и еще в другой, когда ты была маленькая и получила в руки крохотную, три четверти, скрипочку, – помнишь? Тогда ты тоже все играла, играла и играла, но…
– Да, но больше у меня так никогда не получалось. Я пыталась, пыталась, но после тех двух раз…
Розалинда пожала плечами и крепко меня обняла. Я повернулась, посмотрела на нас в зеркало – не на голодных, озлобленных худышек, дерущихся из-за четок, а на теперешних нас, почти рубенсовских женщин, на двух сестер: она с красивыми седыми буклями, естественно обрамлявшими лицо, с большим мягким телом, в летящем черном шелке, и я со своей челкой, прямыми волосами и с толстыми ручищами, в блузке в сборочку. Розалинда чмокнула меня в щеку. Недостатки нашего телосложения уже не имели значения. Я просто смотрела на нас, и мне хотелось и дальше стоять с ней на том же месте, испытывая облегчение, огромную чудесную волну облегчения, но ничего этого не произошло.
Ничего.
– Как ты думаешь, мама хочет, чтобы мы жили в этом доме? – Я принялась плакать.
– О, ради Бога, – откликнулась Розалинда, – кого это волнует! Отправляйся в постель, тебе не следовало бросать пить. Лично я собираюсь осушить целую упаковку пива. Хочешь, мы переночуем наверху?
– Нет.
Она и без того знала ответ.
В дверях спальни я повернулась и посмотрела на сестру.
– Что?
Должно быть, мое лицо напугало ее.
– Скрипач – ты его помнишь? Того, что играл на углу, когда Карл… Я хочу сказать, когда все…
– Я уже сказала. Да. Конечно помню.
Розалинда снова повторила, что он играл определенно Чайковского, и по тому, как сестра подняла голову, я поняла, что она очень гордится тем, что сумела узнать музыку. Разумеется, она была права, во всяком случае я так подумала. Она казалась мне такой мечтательной, милой и нежной, полной сочувствия, словно она никогда и не знала, что такое низость. Вот мы с ней стоим здесь… и мы пока не старые. В этот день я чувствовала себя не более старой, чем в любой другой. Я не знаю, каково это – чувствовать себя старой. Страхи уходят. Низость уходит. Если ты молишься, если на тебя снизошло благословение, если ты стараешься!
– Он все время сюда таскался, этот парень со скрипкой, – добавила Розалинда, – пока ты лежала в больнице. Я видела его в тот вечер, он стоял и смотрел. Возможно, ему не нравится играть для толпы. Я считаю, что он чертовски хорош! То есть он ничем не хуже тех скрипачей, на чьих концертах я бывала или чьи записи слушала.
– Да, – согласилась я. – Он хорош.
Я подождала, пока за ней закроется дверь, и только тогда снова расплакалась.
Мне нравится плакать в одиночестве. Как это чудесно: выплакаться всласть, не думая, что сейчас тебя остановят!
Никто не говорит тебе «да» или «нет», никто не молит о прощении, никто не вмешивается. Выплакаться.
Я прилегла на кровать и разрыдалась, прислушиваясь к голосам снаружи. И вдруг почувствовала себя такой усталой, словно сама несла все эти гробы к могиле… Подумать только! Так напугать Лили! Прийти в больничную палату и удариться в слезы, и позволить Лили увидеть это. «Мамочка, ты меня пугаешь!» – сказала она в ту минуту, когда я пришла прямо из бара. И я была пьяна – разве нет? Те годы я прожила в пьянстве, но никогда не напивалась до бесчувствия, никогда не напивалась до такого состояния, что не могла… а тут это ужасное, ужасное мгновение, когда я увидела ее маленькое белое личико, облысевшую от рака головку, тем не менее прелестную, как бутон цветка, и мои глупые, не ко времени, слезы. Жестоко, жестоко. Господи.
Куда подевалось то блестящее синее море с его пенными призраками?
К тому моменту, когда я осознала, что он играет, прошло, должно быть, довольно много времени.
В доме успела наступить тишина.
Наверное, он начал играть очень тихо, на этот раз действительно передавая чистую сладостность мелодии Чайковского, можно было бы сказать – приглаженную красноречивость, а не животный ужас гаэльских скрипок, которые так околдовали меня прошлой ночью. Я все глубже погружалась в музыку, по мере того как она приближалась, становилась более отчетливой.
– Да, играй для меня, – прошептала я и провалилась в сон.
Мне приснились Лев и Челси, будто я с ними устроила ссору в кафе, и Лев все время приговаривал: «Как много лжи, сплошной лжи». Я поняла, что он подразумевает: он и Челси… и она такая расстроенная, такая добрая, любящая его, жаждущая его… А ведь она была моей подругой. Потом вдруг вернулись самые ужасные воспоминания: гневные речи отца, плач мамы в этом доме, из-за нас, а я так к ней и не подошла… И все это слилось со сном. Скрипка пела и пела, стремясь вызвать боль, как это умел делать только Чайковский, мучительную боль, ало-красную, сладостную и яркую.
Довести меня до сумасшествия? Не выйдет! Но почему ты хочешь, чтобы я страдала, почему ты хочешь, чтобы я вспоминала все это, почему ты играешь так красиво, когда я вспоминаю?
А вот и море.
Боль слилась со сном; мама читает мне стишок на ночь из старой книги: «Цветочки кивают, тени ползут, над холмом загорается звездочка».[14]
Боль слилась со сном.
Боль слилась с его изумительной музыкой.
Глава 8
В гостиной оказалась мисс Харди. Когда я вошла, Алфея как раз расставляла кофейные чашки.
– При обычных обстоятельствах мне бы и в голову не пришло беспокоить вас в такой час, – сказала мисс Харди, чуть приподнимаясь, когда я наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. На ней было платье персикового цвета, которое очень ей шло, седые волосы уложены в идеальные и в то же время послушные локоны. – Но, видите ли, он попросил об этом. Он особо подчеркнул, что нужно пригласить вас. Он так уважает вас за ваш музыкальный вкус и за ту доброту, что вы к нему проявили.
– Мисс Харди, я еще не совсем проснулась, а потому плохо соображаю. Проявите ко мне снисхождение. О ком это мы сейчас говорим?
– О вашем друге, скрипаче. Я понятия не имела, что вы с ним знакомы. Как я уже сказала, я бы не стала просить вас появиться на людях в такое время, но он сказал, что вы захотите прийти.
– Куда? Я не совсем поняла, простите.
– В часовню за углом сегодня вечером. На маленький концерт.
– Вот как.
Я опустилась на стул.
Часовня.
Я вдруг с удивлением увидела все знакомые предметы в часовне, будто внезапная вспышка осветила безвозвратно потерянные до этой секунды детали. Я увидела ее не теперешней, после Второго Ватиканского Собора и радикальных переделок, а такой, какой она была прежде, когда мы все вместе ходили на мессу. Когда нас за ручки водила туда мама, Роз и меня.
Должно быть, вид у меня был растерянный. Я вдруг услышала пение на латыни.
– Триана, если вас это расстраивает, то я просто скажу ему, что вам еще слишком рано появляться в обществе.
– Так он собирается играть в часовне? – спросила я. – Сегодня вечером. – Я кивнула одновременно с ней. – Небольшой концерт? Что-то вроде сольного выступления.
– Да, на нужды здания. Вы сами знаете, в каком плохом оно состоянии. Нужна краска, нужна новая крыша. Вам все это известно. Мы все немного удивились. Он просто зашел в офис нашего Союза и заявил, что хочет выступить. Дать концерт, а все вырученные средства передать на нужды здания. Мы никогда о нем не слышали. Но как он играет! Только русский способен на такую игру. Разумеется, он назвался эмигрантом. Он никогда не был в теперешней России, в чем не приходится сомневаться: вид у него совершенно европейский. Но только русский способен так играть.
– Как его зовут? Мисс Харди удивилась.
– Я думала, вы знакомы, – заговорила она еще мягче, озабоченно хмурясь. – Простите меня, Триана. Он сказал нам, что вы его знаете.
– Так и есть, я знаю его очень хорошо. Думаю, это чудесно, что он будет играть в часовне. Но мне неизвестно его имя.
– Стефан Стефановский, – тщательно выговаривая каждый звук, произнесла она. – Я выучила наизусть, сначала записала и уточнила с ним каждую букву. Русские имена. – Она повторила его имя, сделав ударение на первом слоге. – Этот человек, бесспорно, обладает шармом, и не важно, есть ли у него в руках скрипка или нет. Темные брови, очень прямые, необычная прическа, по крайней мере для этого времени: классические музыканты предпочитали другую длину волос. Я улыбнулась.
– Все теперь переменилось. Как странно, но длинные волосы теперь носят рок-звезды, а не классические музыканты. А самое странное то, что, вспоминая все концерты, на которых я когда-либо бывала, – даже самый первый, Исаака Стерна, – я не могу, знаете ли, припомнить, чтобы те музыканты носили длинные волосы.
Миссис Харди начала проявлять беспокойство.
– Очень приятно, – вновь заговорила я, стараясь собраться с мыслями. – Значит, вы сочли его красивым?
– Все наши дамы потеряли головы, как только он ступил через порог! Такие эффектные манеры. К тому же акцент. А когда он приложил к плечу скрипку, приложил к струнам смычок и начал играть, то, мне кажется, на улице остановилось движение.
Я рассмеялась.
– Нам он сыграл что-то совсем другое, – продолжила миссис Харди, – не то, что играл… – Она вежливо замолкла, потупив глаза.
– …В ту ночь, когда вы нашли меня здесь с Карлом, – договорила за нее я.
– Да.
– То была красивая музыка.
– Да, наверное, хотя, откровенно говоря, я не прислушивалась.
– Вполне понятно.
Внезапно она смутилась, засомневавшись в уместности своих слов.
– Закончив играть, он очень высоко отозвался о вас: сказал, что вы принадлежите к тем редким людям, которые действительно понимают его музыку. И это все было сказано целой толпе очарованных женщин всех возрастов, включая половину Младшей лиги.
Я рассмеялась. Просто для того, чтобы она не чувствовала себя не в своей тарелке. И на секунду представила себе женщин, молодых и старых, падающих в обморок при виде этого призрака.
Но какой поразительный поворот событий. Я имею в виду это приглашение.
– В какое время сегодня, мисс Харди? – поинтересовалась я. – Когда он будет играть? Я не хочу пропустить начало.
Она смотрела на меня секунду, испытывая замешательство, а затем с огромным облегчением принялась выкладывать подробности.
Я отправилась на концерт за пять минут до начала.
Разумеется, было темно, так как в это время года в восемь вечера уже сгущаются сумерки, однако дождя не было, только дул приятный, почти теплый ветерок.
Я вышла из ворот, повернула на углу налево и медленно прошлась по старой кирпичной дорожке вдоль Притания-стрит, наслаждаясь каждой колдобиной, каждой ямкой, каждым рискованным шагом. Сердце гулко стучало. Меня так переполняли опасения, что я едва могла их вынести. Последние несколько часов тянулись ужасно медленно, и я думала только о нем.
Я даже приоделась специально для него! Как глупо. Конечно, для меня это всего лишь означало белую блузку с еще большим количеством тонких кружев, черную шелковую юбку до щиколоток и легкую накидку без рукавов из черного бархата. Униформа Трианы, только получше качеством. Вот и все. Чистые волосы распущены по плечам – вот и все.
Когда я подошла к концу квартала, то увидела, что впереди горит тусклый уличный фонарь, от которого темнота вокруг казалась еще более густой и еще сильнее давила на психику. И тут я впервые поняла, что на углу Третьей улицы и Притания-стрит больше не растет дуб!
Должно быть, с тех пор как я последний раз прошлась по этому кварталу, прошло несколько лет. Ведь когда-то здесь точно рос дуб. Я помнила, как фонарь светил сквозь его крону на высокую черную чугунную ограду и на траву.
Сильные тяжелые ветви дуба были искривленными, но не настолько толстыми, чтобы ломаться под собственной тяжестью.
Кто же это сделал? Я обратилась к земле, к вывороченным кирпичам… Теперь я разглядела то место, где когда-то рос дуб, но в яме не осталось ни одного корешка. Сплошная земля, неизбежная земля. Кто уничтожил это дерево, которое могло бы жить века?
А впереди, по другую сторону Притания-стрит начинались центральные поместья Садового квартала, теперь казавшиеся пустыми, гулкими, черными со своими запертыми, заколоченными особняками.
Но слева от меня, на Притания-стрит, прямо перед часовней горели яркие огни, до меня доносился приятный гул голосов.
На углу улицы стояла только часовня, точно так же как мой дом в окружении лавровишни, дубов, дикой травы, бамбука и олеандра занимал целый угол, выходя фасадом на Сент-Чарльз-авеню.
Часовня располагалась в нижнем этаже огромного дома, гораздо большего, чем мой собственный. Возраст обоих домов был одинаков, но этот отличался грандиозностью и пышным литьем.
Когда-то здесь находился, вне всяких сомнений, классический центральный вестибюль, по обе стороны которого вытянулись гостиные, но все это было переделано задолго до моего рождения. Первый этаж полностью опустошили, украсив статуями, картинами святых и великолепным белым алтарем… Тут же поместили золотую дарохранительницу. Что еще? Вечной помощи Божья Матерь – русская икона.
Именно к этой Божьей Матери мы приносили наши цветы.
Сейчас уже это не имело никакого значения.
Разумеется, он знал, как сильно я когда-то любила это место: здание в целом, сад, ограду, саму часовню. Он знал все о маленьких поникших букетиках цветов с надломленными стебельками, которые мы – Розалинда, мама и я – оставляли во время наших вечерних прогулок на ограде алтаря, – еще до окончания войны, еще до появления Катринки и Фей, еще до того, как мать превратилась в запойную пьянчужку. Еще до того, как пришла смерть. Еще до того, как пришел страх. Еще до печали.
Он знал. Он знал, как здесь все выглядело – каким был этот огромный дом с широкими ровными террасами, железной балюстрадой, одинаковыми каминными трубами, возвышавшимися над фронтоном третьего этажа, в чем безошибочно угадывался новоорлеанский дизайн.
Трубы, парящие вместе под звездами. Трубы, возможно, уже не существующих каминов.
В тех верхних комнатах была устроена воскресная школа, когда мама была девочкой. В самой часовне когда-то стоял гроб моей матери на похоронных дрогах. В этой часовне, оставшись одна, я играла на органе темными летними ночами, когда священники позволяли мне запереться и никого больше не было. Я все старалась сотворить музыку.
Только терпения святых хватало на те жалкие обрывки песен, что я играла, на аккорды и гимны, которые я старалась выучить, заручившись туманным обещанием, что однажды, если органистка позволит, я непременно сыграю самостоятельно. Но этого так и не случилось, так как я не овладела мастерством игры и мне не хватило смелости даже попробовать.
Дамы Садового квартала всегда надевали на мессу очень хорошенькие шляпки. Мне кажется, мы единственные приходили в платках, как крестьянки.
Чтобы все запомнить, можно было обойтись и без смерти, и без похорон, и даже без милых прогулок в сумерках с букетиками в руках, и без фотографии мамы с еще несколькими девочками, выпускницами средней школы – большая редкость по тем временам, – с короткими стрижками и в белых чулочках, которые стояли с букетами слева от этих самых ворот.
Разве можно было забыть эту старую часовню, хотя бы раз помолившись в ней?
Прежний католицизм всегда сопровождался запахом свечей из чистого пчелиного воска и ладана, который непременно присутствует в любой церкви, где высоко к потолку подвешена дароносица, и в то время тени скрывали святых с милыми лицами, великомучениц, вроде святой Риты, и жуткое восхождение Христа на Голгофу.
Молитвы по четкам были не просто зазубрены, для нас это было заклинание, с помощью которого мы представляли страдания Христа. Молитва Тишины означала сидеть очень тихо на скамье, ни о чем не думать и позволить Богу говорить прямо с тобой. Я знала наизусть латинский текст обычной мессы. Я знала, что означают гимны.
Все это было давно сметено. Вторым Ватиканским Собором.
Но часовня до сих пор оставалась часовней, для тех католиков, которые теперь молились по-английски. После модернизации я была здесь всего лишь раз – три или четыре года тому назад на свадьбе. Не увидела здесь ничего, что было дорого моему сердцу. Пражский Младенец Иисус в своей золотой короне тоже исчез.
Да, у тебя есть основания для такого поступка. Ты оказываешь мне честь. Концерт ради меня в этом месте, куда я приходила до того, как убила ее и вообще кого-нибудь из них, беспокоясь о цветах на алтарной ограде.
Я улыбнулась сама себе, прислонившись на секунду к забору. Оглянулась и увидела, что с меня не сводит глаз Лакоум. Это я велела ему держаться поблизости. Я не меньше других боялась злодеев на темных улицах.
В конце концов, мертвые не могут тебе ничем навредить, если только ты не встречаешь призрака, который играет музыку по велению самого Бога, призрака, которого зовут Стефан.
– Интересно, что ты задумал? – прошептала я и, взглянув наверх, увидела ветви дуба, закрывавшие свет, – только это был другой свет. Этот свет лился из неукрашенных окон часовни на пол, сквозь многочисленные переплеты; в некоторых еще уцелели старые стекла, тающий зыбкий свет, хотя с такого расстояния я не могла, конечно, это видеть. Я просто знала, что это так, и думала об этом, рассматривая дом, рассматривая время, рассматривая все это, чтобы навсегда запомнить.
Значит, он собирается играть на скрипке для всех? И я должна при этом присутствовать.
Я повернула налево и пошла прямо к воротам. Там стояла мисс Харди в окружении нескольких классических представительниц Садового квартала. Вся их компания дружно приветствовала приходящих зрителей.
На улице то и дело останавливались такси. Я увидела знакомых полицейских, приглядывавших здесь за порядком: этот темный рай стал слишком опасен по вечерам для стариков. Но сейчас они все пришли сюда, чтобы послушать скрипача.
Я вспомнила несколько имен, увидела несколько знакомых лиц. Были и те, кого я не знала, а некоторых просто не могла вспомнить. Толпа была большой, наверное с сотню человек: множество мужчин в светлых шерстяных костюмах, почти все женщины в платьях южного стиля, если не считать нескольких ультрасовременных молодых людей, носящих бесполую одежду, и стайки студентов колледжа – во всяком случае, так они выглядели – вероятно, из местной консерватории, где я когда-то, в четырнадцатилетнем возрасте, безуспешно пыталась стать скрипачкой.
Надо же, как быстро распространяется слава.
Я пожала руку мисс Харди, поприветствовала Рене Фриман и Мэйтин Рагглз, а потом заглянула в часовню и увидела, что он уже там – главный аттракцион сегодняшнего представления.
То самое, как сказала бы храбрая, не знавшая жалости гувернантка Генри Джеймса о Квинте и мисс Джессел, то самое стоит в проходе перед алтарем, скромно прикрытым по случаю. И весь он такой чистенький, опрятно одетый, с блестящими волосами, расчесанными не хуже, чем у меня. Он снова заплел две маленькие косички и закрепил их на затылке, чтобы волосы не слишком падали на лицо.
Такой далекий и невозмутимый, разговаривает с публикой у меня на глазах.
Впервые… впервые с тех пор, как все это началось… я подумала, что, наверное, сойду с ума. Не хочу оставаться в здравом уме, не хочу все понимать, сознавать, жить. Не хочу. Вот он здесь, среди живых, словно он один из них, словно он такой же настоящий и живой. Разговаривает со студентами. Показывает им скрипку.
А мои умершие не вернулись! Не вернулись! Какое заклинание могло бы заставить Лили подняться? На ум приходит зловещий рассказ Киплинга «Обезьянья лапа», про три желания.[15] Нельзя желать, чтобы мертвые возвращались, – нет, о таком не молятся.
Но он проник сквозь стены моей комнаты, после чего исчез. Я сама видела. Он призрак. Он мертвяк.
Взгляни лучше на живых людей или начни вопить.
Мэйтин пользовалась чудесными духами. Старейшая из подруг матери, дожившая до сегодняшнего дня. Она произносит слова, которые я с трудом понимаю. Сердце колотится в ушах.
– …Только дотронуться до такого инструмента, настоящего Страдивари.
Я пожимаю ей руку. Наслаждаюсь запахом духов. Что-то очень старинное и простое, не очень дорогое, из тех времен, когда духи продавали в розовых флакончиках, а пудру в розовых коробочках в цветочек.
Голова гудела от неистового биения сердца. Я произнесла несколько простых слов, настолько вежливых, насколько способна особа, потерявшая память, после чего поспешно поднялась по мраморным ступеням, тем самым ступеням, которые всегда становились скользкими, если шел дождь, и вошла в ярко освещенную современную часовню.
Забудь подробности.
Я из тех, кто всегда садится в первый ряд. Что же я делаю теперь на скамье в последнем ряду?
Но я не нашла в себе сил подойти поближе. К тому же часовня очень маленькая, и даже из дальнего угла на последнем ряду я отчетливо его видела.
Он отвесил поклон стоящей рядом женщине, своей собеседнице, – какие слова произносят призраки в такие минуты? – и протянул скрипку, чтобы ее могли рассмотреть юные девушки. Я разглядела темный лак, стык на задней деке. Он показывал скрипку, не выпуская из рук ни ее, ни смычок, и он даже не поднял на меня взгляд, когда я откинулась на дубовую спинку скамейки и принялась его рассматривать.
Ты здесь, среди живых, такой же реальный, как те, кто собрался послушать тебя.
Внезапно он поднял глаза, даже не приподняв головы, и пригвоздил меня взглядом.
Между нами задвигались чьи-то фигуры. Маленькая часовня была забита почти до отказа. Позади стояли капельдинеры, но у них были стулья, которыми они могли воспользоваться, если бы захотели.
Огни были приглушены. Единственный хорошо направленный луч высвечивал его в пыльной тусклой дымке. Как чудесно он выглядел по такому случаю: прекрасно подобранный костюм, белая рубашка, вымытая голова, косички, убравшие пряди с лица, – все очень просто.
С места поднялась мисс Харди и произнесла несколько вступительных слов.
Он стоял спокойный, собранный, одетый официально и вне времени – такой сюртук мог быть сшит и двести лет назад, и только вчера: длинный, слегка приталенный, и к рубашке он подобрал бледный галстук. Я не могла разобрать, какого цвета был галстук – фиолетовый или серый.
Выглядел он, несомненно, франтом.
– Ты безумна, – прошептала я самой себе, едва шевеля губами. – Тебе понадобился высокородный призрак, как в романах. Ты замечталась.
Мне хотелось закрыть лицо. Мне хотелось уйти. И в то же время никуда не уходить. Я хотела убежать и остаться. Я хотела по крайней мере достать из сумочки хоть что-то, бумажную салфетку, любую мелочь, чтобы хоть как-то притупить его чары, – это как закрыть глаза руками во время фильма и продолжать смотреть сквозь раздвинутые пальцы.
Но я не могла шевельнуться.
Он восхитительно держался, когда благодарил мисс Харди, а потом всех зрителей. Говорил хоть и с акцентом, но вполне понятно. Именно этот голос я слышала в своей спальне – голос молодого человека. Выглядел он в два раза моложе меня.
Скрипач поднес инструмент к подбородку и поднял смычок.
Воздух всколыхнулся. Никто в зале не пошевелился, не кашлянул, не зашелестел программкой.
Я нарочно вызвала в воображении картину синего моря, того самого синего моря и танцующих призраков из моих снов; я видела их, закрыла глаза и увидела сияющее море под низкой луной и землю, уходящую в море.
Я открыла глаза.
Он замер и смотрел на меня не мигая.
Скорее всего, люди не поняли, что означает этот взгляд, куда он направлен и почему. Ему, как всякому чудаку, позволялось делать все. И смотреть на него было так приятно: худой и величественный, каким когда-то был Лев. Да, он такой же, как Лев, разве что волосы у него очень темные и глаза черные, а Лев, как Катринка, светловолос. Дети у Льва тоже светленькие.
Я прикрыла веки. Провались все пропадом, образ моря исчез, а когда он начал играть, я вновь увидела те прежние мелкие и ужасные вещи и слегка отвернулась в сторону. Кто-то рядом со мной дотронулся до моей руки, словно пытаясь выразить сочувствие.
Вдова, сумасшедшая, вполне осознанно подумала я, оставалась в доме с мертвым телом целых два дня. Должно быть, теперь об этом все наслышаны. В Новом Орлеане все были в курсе важных новостей, а такое необычное происшествие, вероятно, можно считать важной новостью.
И тут его музыка врезалась мне в душу.
Он опустил смычок, и сразу зазвучали сочные, темные тихие аккорды в минорном тоне, словно намечая, что грядет нечто страшное. Звучание было таким изысканным, таким идеальным, ритм таким стихийным, что я ни о чем не могла думать – ни о чем, кроме этой музыки.
Больше не было нужды плакать, не было нужды сдерживать слезы. Осталась только эта глубокая разливающаяся мелодия.
Потом я увидела личико Лили. Двадцати лет как не бывало. В эту самую минуту Лили умирала в своей кроватке. «Мамочка, не плачь, ты меня пугаешь».
Глава 9
Я отмахнулась от этого видения. Открыла глаза и уставилась на облупленный потолок в этой заброшенной часовне, мой взгляд блуждал по скучным металлическим украшениям, таким модным и таким бессмысленным. Теперь я поняла, что за битву он затеял, хотя музыка захлестнула меня и в ушах стоял голос Лили, который смешался со звучанием скрипки и стал частью его.
Я смотрела прямо на него и думала только о нем. Я сконцентрировалась на нем, отказываясь думать о чем-то другом. Он не мог бросить играть. На самом деле его игра была блестящей, полной напряжения, он издавал звуки, не поддающиеся описанию, в пронзительности его верхних нот чувствовалась сила и одновременно расслабленность.
Да, это был концерт Чайковского, который я знала наизусть благодаря своим дискам. Он вплел в него оркестровые партии, создав собственное сольное произведение, пронизанное нитями оркестра.
Эта музыка рвала тебя на части.
Я попыталась дышать медленно, расслабиться, не сжимать рук.
Внезапно что-то изменилось. Изменилось в корне, как бывает, когда солнце зайдет за облако. Только это была ночь, и мы сидели в часовне.
Святые! Вернулись старые святые. Меня вновь окружал декор тридцатилетней давности.
Я сидела на старой темной скамейке с витым подлокотником под левой рукой, а за его спиной появился традиционный высокий алтарь, под которым в стеклянном ящике находились резные раскрашенные фигурки Тайной Вечери.
Я возненавидела скрипача. Возненавидела именно за это, потому что никак не могла заставить себя не смотреть на этих давно утраченных святых, на разукрашенную гипсовую фигурку Пражского Младенца Иисуса, держащего крошечный глобус, на старые пыльные и в то же время трепетные фрески между темными окнами с изображением Христа, несущего свой крест сначала вниз, а потом вверх.
Ты жесток.
Темные окна светились лавандовым светом, на скрипача падали мягкие тени, а перед ним возвышалась старинная литая ограда, которую снесли давным-давно вместе с остальными украшениями. Он стоял неподвижно в окружении того убранства, которое я не могла припомнить в деталях еще минуту тому назад!
Я сидела как прикованная и смотрела на икону Вечной помощи Божьей Матери, висевшую за ним, над алтарем, над мерцающей золотой дарохранительницей. Святые, запах воска. Я видела свечи в красных стаканах. Я все видела. Я снова слышала запах воска и ладана, а скрипач тем временем продолжал играть свою версию концерта, сливаясь стройным телом с музыкой и вызывая вздохи восхищения у слушавших его людей, впрочем, кто они были?
Это зло. Красивое, но зло, потому что оно жестоко.
Я закрыла и тут же открыла глаза. Видишь, что теперь здесь творится! На секунду я действительно увидела.
Затем на глаза вновь опустилась пелена. Неужели он сейчас ее вернет? Маму. Неужели она сейчас поведет меня и Розалинду по проходу в этой старомодной полутемной часовне, от которой веет покоем? Нет, память переборола его изобретательность.
Воспоминания оказались чересчур болезненными, чересчур ужасными. Я вспомнила ее не такой, какой она приходила в это священное место в счастливые времена, прежде чем была отравлена, как мать Гамлета, нет, я вспомнила, как она, пьяная, лежала на горящем матрасе и ее голова покоилась всего в нескольких дюймах от прожженной дыры. Я увидела, как мы с Розалиндой носились туда и обратно с кастрюлями воды, а красивая Катринка с ее светлыми кудряшками и огромными синими глазами, всего трех лет от роду, молча смотрела на нас, пока комната наполнялась дымом.
«Тебе это так просто не пройдет!»
Он был весь погружен в музыку. Я намеренно наполнила часовню светом, я намеренно представила себе публику, тех самых людей, которых я теперь знала. Я все это проделала и уставилась на него, но он был слишком силен для меня.
Я вновь превратилась в ребенка, приближающегося к ограде алтаря. «А что сделают с нашими цветочками, когда мы уйдем?». Розалинда хотела зажечь свечу.
Я поднялась с места.
Толпа ему полностью подчинилась; они были настолько покорены его чарами, что я ушла незаметно. Выбралась из ряда, повернулась к нему спиной, спустилась по мраморным ступеням и ушла прочь от его музыки, которая с каждой секундой разгоралась все больше, словно он задумал сжечь меня ею, будь он проклят.
Лакоум, не выпуская сигарету, оторвался от ворот, и мы быстро пошли с ним по плитам почти бок о бок. Я слышала музыку, но нарочно не отрывала взгляда от дорожки. Стоило мне отвлечься в сторону, как я снова видела море и пенные волны. Я видела, как они внезапно разбиваются на тысячу цветных осколков, и на этот раз даже слышала грохот.
Я продолжала идти, а сама слушала море и видела его – и одновременно улицу, простиравшуюся впереди.
– Помедленнее, босс, иначе навернетесь, да и я себе шею сломаю, – сказал Лакоум.
Запах чистоты. Море и ветер порождают чудеснейший аромат чистоты, но в то же время все, что мелькает под поверхностью моря, может издавать зловоние смерти, если его извлечь на песчаный берег.
Я шла быстрее и быстрее, внимательно глядя на разбитые кирпичи и сорняк, растущий между ними.
Мы дошли до моего фонаря, слава Богу, моего гаража, но никаких открытых ворот там не было. Те ворота, через которые ушла мама навстречу своей смерти, давно убрали – старые деревянные створки, выкрашенные зеленой краской и прилаженные под кирпичной аркой.
Я постояла не шевелясь. До меня по-прежнему доносилась музыка, но уже издалека. Она предназначалась для тех, кто находился поблизости от него, такова была его природа, как я с удовольствием обнаружила, хотя мне бы хотелось лучше понимать, что все это означает.
Мы прошли до Сент-Чарльз-авеню и направились к центральному входу. Лакоум открыл для меня ворота и придержал тяжелые створки, то и дело норовившие ударить входящего и сбить с ног прямо на мостовую. Новый Орлеан ненавидит вертикальные линии.
Я поднялась по лестнице и зашла в дом. Лакоум, должно быть, отпер дверь, но когда он это проделал, я не заметила. Я сказала ему, что послушаю музыку в гостиной, и попросила запереть все двери.
Для него это было привычное дело.
– Вам-не-понравился-ваш-друг? – спросил он басом, произнося все слова как одно, так что мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о чем речь.
– Мне больше нравится Бетховен, – ответила я.
Но тут сквозь стены проникла его музыка. Теперь она лишилась своего красноречия и силы и походила скорее на жужжание пчел на кладбище.
Двери в столовую закрыты. Двери в коридор закрыты. Я просмотрела диски, которые теперь были расставлены строго по алфавиту.
Солти.[16] Девятая симфония Бетховена, вторая часть.
Через секунду я поставила диск в проигрыватель, и литавры наголову разбили скрипача. Я сделала погромче, и зазвучал знакомый марш. Бетховен, мой капитан, мой ангел-хранитель.
Я вытянулась на полу.
Люстры в этих гостиных были маленькими и без позолоты – в отличие от тех, что висели в холле и столовой. У этих люстр были только хрустальные и стеклянные подвески. Как приятно лежать на чистом полу и рассматривать люстру с тусклыми лампочками в виде свечей.
Музыка его уничтожила. Марш длился бесконечно. Я нажала кнопку на проигрывателе, чтобы повторять только эту дорожку диска. Я закрыла глаза.
«А что ты сама хочешь помнить? Пустяки, глупость, забавы».
В молодости я без конца мечтала под музыку; всякий раз представляла людей, вещи, события и так увлекалась, что буквально сжимала кулаки.
Но не теперь; теперь это была только музыка, заразительный ритм музыки и какая-то одержимость идеей подниматься на вечную гору в вечном лесу, но видений не было, и, обретя покой в этой грохочущей бесконечной мелодии, я закрыла глаза.
Он не заставил себя долго ждать.
Может быть, я пролежала на полу около часа.
Он вошел сквозь запертые двери, которые за его спиной дрогнули, и мгновенно материализовался, сжимая в левой руке скрипку и смычок.
– Ты ушла посреди выступления! – возмутился он, заглушая музыку Бетховена.
Он двинулся на меня, громко и грозно топая. Я оперлась на локоть, затем села. Перед глазами все поплыло. Свет падал на его лоб, на темные ровные дуги бровей, из-под которых он недобро взирал на меня, прищурившись; вид у него был зловещий.
Музыка продолжалась, захлестывая его и меня.
Он пнул проигрыватель, так что тот взревел. Тогда он вырвал вилку из стены.
– Очень умно! – сказала я, едва сдерживая торжествующую улыбку.
Он задыхался, словно долго бежал, а может быть, от усилия оставаться реальным, или от игры для публики, или оттого, что он проник невидимым сквозь стены, после чего ожил в пылающем огненном великолепии.
– Да, – презрительно бросил он, глядя на меня.
Волосы упали ему на лицо темными прямыми прядями. Две тонкие косички расплелись и утонули среди длинных локонов, пышных и блестящих. Он начал наступать на меня с явным намерением испугать. Но я лишь вспомнила одного старого актера, да, очень красивого, с тонким носом и колдовским взглядом. Скрипач обладал той же темной красотой Оливье[17] из экранизированной пьесы Шекспира. Оливье играл уродливого злобного колдуна, короля Ричарда Третьего. Такая неотразимость бывает только если красота и уродство сливаются в одно целое.
Старое кино, старая любовь, старая поэзия, которую никогда не забыть. Я рассмеялась.
– Я не горбун, я не урод! – выпалил скрипач. – И я не актер, играющий перед тобою роль! Я здесь, рядом!
– Так мне кажется! – ответила я и, сев прямо, натянула юбку на колени.
– «Не кажется, сударыня, а есть. Мне „кажется“ неведомы».[18] – Он в насмешку заговорил со мною словами Гамлета.
– Ты переоцениваешь себя, – ответила я. – У тебя талант к музыке. Не попади во власть исступления! – продолжила я, воспользовавшись приблизительной цитатой из той же самой пьесы.
Ухватившись за стол, я поднялась. Он бросился на меня. Я чуть было не отступила, но только еще крепче ухватилась за столешницу, глядя ему прямо в лицо.
– Призрак! – выпалила я. – Весь живой мир смотрит на тебя! Что тебе понадобилось здесь, когда ты способен завоевывать толпы? Все они будут внимать тебе.
– Не зли меня, Триана! – сказал он.
– А, стало быть, ты знаешь мое имя.
– Не хуже тебя. – Он повернулся сначала в одну сторону, потом в другую и подошел к окну, где под кружевными занавесками плясали вечные огоньки автомобильного потока.
– Не стану говорить, чтобы ты ушел, – сказала я.
Он по-прежнему стоял ко мне спиной и лишь поднял голову.
– Я слишком одинока! Слишком очарована! – последовало мое признание. – Будь я помоложе, я бы пустилась удирать без оглядки от призрака, вопя что есть мочи! Поверив, что передо мной действительно призрак, всем своим суеверным сердцем католички. Но теперь?
Он продолжал слушать.
Руки у меня сильно тряслись. Это было невыносимо. Я выдвинула стул из-за стола, опустилась на него и откинулась на спинку. Люстра отражалась в отполированной столешнице размытым кругом, а вокруг выстроились как на параде стулья в стиле Чиппендейл.
– Я чересчур любопытна, – сказала я, – чересчур беспечна и полна отчаяния. – Я постаралась говорить твердо и в то же время не повышать тона. – Не могу найти слова. Сядь! Сядь, положи скрипку и расскажи, чего ты хочешь. Зачем ты ко мне приходишь?
Он не ответил.
– Ты сам-то знаешь, кто ты такой? – спросила я.
Он повернулся в ярости и подошел к столу. Да, он обладал тем самым магнетизмом Оливье из старого фильма, весь состоя из контрастов белого и черного, воплощение зла. И рот у него такой же большой, только губы полнее!
– Перестань думать о другом! – прошептал он.
– Это кино, образ.
– Да знаю я, что это, или ты считаешь меня дураком? Взгляни на меня. Я перед тобой! Фильм старый, его создатель мертв, актер давно превратился в прах, а я здесь, с тобой.
– Я знаю, кто ты, я тебе уже говорила.
– Нельзя ли поточнее? – Он наклонил голову набок, слегка прикусил губу и обхватил обеими руками смычок и гриф скрипки.
Нас разделяло всего несколько футов. Я хорошо разглядела деревянную поверхность скрипки, покрытую толстым слоем лака. Страдивари. Как часто я слышала это слово, и вот эта скрипка у него в руках, этот зловещий и священный инструмент, он просто держит его в руках, и свет отражается от плавных изгибов корпуса, как от настоящей скрипки.
– Ну что? – сказал он. – Хочешь потрогать ее или послушать? Ты ведь сама прекрасно знаешь, что не умеешь играть. Даже Страдивари не скрыл бы твоих несчастных потуг! В твоих руках скрипка бы просто визжала, а ты могла бы тогда в ярости ее расколотить.
– Ты хочешь, чтобы я…
– Ничего подобного, – поспешно произнес он, – просто хочу напомнить, что у тебя нет таланта, а только одно желание, только одна жажда.
– Жажда, вот как? Значит, ты жажду хотел поместить в души тех, кто слушал тебя в часовне? Ты жажду хотел породить? Ты думаешь, что Бетховен…
– Не говори о нем.
– Говорю и буду говорить. Ты думаешь, что его музыка порождает жажду…
Он подошел к столу, переложив скрипку в левую руку, а правую опустил на стол рядом со мной. Я подумала, что его длинные волосы сейчас коснутся моего лица. Я не уловила никакого запаха от его одежды, даже запаха пыли.
Я сглотнула, и перед глазами вновь все поплыло. Пуговицы, лиловый галстук, блестящая скрипка. Все это призраки – и одежда, и инструмент…
– Ты права. Итак, что же я собой представляю? Каково твое благочестивое мнение обо мне – ты хотела его высказать, когда я тебя перебил.
– Ты словно больной, – сказала я. – Ты нуждаешься во мне, потому что страдаешь!
– Шлюха! – бросил он и отпрянул.
– Ну нет, шлюхой я никогда не была, – возмутилась я. – Смелости не хватало. А вот ты болен и нуждаешься во мне. Ты совсем как Карл. Ты совсем как Лили в конце жизни, хотя Бог знает… – Я запнулась, не договорив. – Ты совсем как мой отец, когда он умирал. Ты нуждаешься во мне. В своих муках ты хочешь найти во мне свидетеля. Тебя гложет ревность и жажда, как любого умирающего, если не считать последних секунд, когда, возможно, он забывает обо всем и видит то, что не дано видеть нам…
– Почему ты так думаешь?
– А разве с тобой было иначе? – спросила я.
– Я не умер, – ответил он, – в общепринятом смысле этого слова. Мне не дано было лицезреть огни, дарящие покой, или услышать пение ангелов. Все, что я слышал, – выстрелы, крики, проклятия!
– Вот как? – удивилась я. – Какая трагедия. Впрочем, ты ведь не обычное создание, не так ли?
Он попятился, словно позволил мне залезть к нему в карман.
– Присаживайся, – сказала я. – Мне довелось сидеть у постели многих умирающих – тебе это известно. Поэтому ты и выбрал меня. Может быть, ты готов закончить свои призрачные скитания?
– Я не умираю, дамочка! – объявил он и, выдвинув стул, уселся напротив. – С каждой минутой, с каждым часом, с каждым годом я становлюсь все сильнее.
Он откинулся на спинку стула. Мы были разделены четырьмя футами отполированного стола.
Он сидел спиной к окну, но тусклый свет люстры позволял разглядеть его лицо – слишком молодое, чтобы играть злобного короля в какой-либо пьесе, и слишком страдающее, чтобы мне им насладиться.
Однако я не отвела взгляд. Я продолжала смотреть.
– Так в чем тут дело? – спросила я.
Он сглотнул, совсем как человек, снова прикусил губу, а затем сжал губы, будто собираясь с мыслями.
– Все дело в дуэте.
– Понятно.
– Я буду играть, а ты – слушать. Слушать и страдать, и терять разум или делать то, что заставляет тебя делать моя музыка. Стань дурочкой, если тебе угодно, сойди с ума, как Офелия из твоей любимой пьесы. Стань безумной, как сам Гамлет. Мне все равно.
– Но ведь ты говорил о дуэте.
– Да-да, это будет дуэт, но из нас двоих только я творю музыку.
– Это не так. Я даю тебе силы, ты сам знаешь. В часовне ты поглощал мои силы и всех, кто там был, но тебе этого оказалось мало, и ты снова занялся мной, и безжалостно вызвал в моей памяти те образы, которые абсолютно ничего не значат для тебя, а теперь ты рвешь мне сердце, как обычный невежественный злодей в своем желании заставить меня страдать. Ты ничего не знаешь о страдании, но нуждаешься в нем. Это тоже дуэт. Музыка, которую творят двое.
– А у тебя есть дар красноречия, хоть в музыке ты полная бездарность и всегда ею была, и любишь соприкасаться с чужим талантом. Валяешься на полу и слушаешь своего Маленького Гения, а еще Маэстро и того русского маньяка, Чайковского. К тому же ты упиваешься смертью, да, именно так, нет нужды напоминать тебе об этом. Тебе нужны были все эти смерти.
Он был искренен в своей страсти, злобно взирая на меня своими провалившимися глазами, которые в нужные моменты округлялись, подчеркивая важность сказанного. Он был гораздо моложе Оливье в роли Ричарда Третьего.
– Не будь таким глупым, – спокойно произнесла я. – Глупость не пристала тому, кому смертность может служить оправданием. Я научилась жить со смертью, научилась глотать ее и обонять, и подчищать за ней, но я никогда не нуждалась в ней. Моя жизнь могла бы пойти совсем по-другому. Я не…
Но разве я не ранила ее? Теперь это казалось истинной правдой. Моя мать умерла от моей собственной руки. Теперь я не могла выйти к боковым, уже не существующим воротам и остановить ее. Не могла сказать: «Послушай, отец, нельзя так поступать, мы должны отвезти ее в больницу, мы должны остаться рядом с ней, ты и Роз поезжайте к Тринк, а я останусь с мамой…» Но чего ради я стала бы так говорить: она ведь все равно удрала бы из больницы, как уже случилось однажды, она притворилась бы рассудительной, умной и очаровательной и вернулась бы домой, чтобы снова впасть в ступор, удариться о батарею и рассечь себе голову так, что на полу образовалась бы целая лужа крови.
Мой отец сказал: «Она уже дважды поджигала кровать, мы не можем оставить ее здесь…» А потом «Катринка больна, ей предстоит операция, ты нужна мне!»
Я?
А что было нужно мне? Чтобы она умерла, моя мать, и чтобы все закончилось: ее болезнь, ее страдания, ее унижение, ее несчастье. Она плакала.
– Послушай, я не хочу! – сказала я и встряхнулась. – То, что ты делаешь, подло и низко: ты вторгаешься в мою душу, забирая то, что тебе совсем не нужно.
– Они всегда бередят тебе душу, – сказал он и улыбнулся.
Он выглядел таким ярким, молодым, свежим, нерастраченным. Несомненно, погиб в молодости. Скрипач злобно взглянул на меня и сказал:
– Ерунда. Я умер так давно, что во мне не осталось ничего молодого. Я превратился в «это самое», как ты мысленно назвала меня в начале вечера, когда не смогла вынести представшую твоим глазам грацию и элегантность. Я превратился в «это самое», в омерзительное зрелище, в злобного духа, когда твой наставник, твой великолепный маэстро был жив и учил меня.
– Я не верю тебе. Ты говоришь о Бетховене! Я ненавижу тебя.
– Он был моим учителем! – не на шутку разбушевался скрипач.
– Это и привело тебя ко мне? Моя любовь к нему?
– Нет, я не нуждаюсь в том, чтобы ты любила его, оплакивала мужа или выкапывала из могилы дочь. Я заглушу Маэстро, я заглушу его своей музыкой, прежде чем мы закончим разговор, и ты уже не сможешь услышать его ни из проигрывателя, ни в памяти, ни в мечтах.
– Как любезно. А ты его любил так же, как меня?
– Просто я хотел подчеркнуть, что немолод. И ты не будешь больше говорить о нем со мной с этаким превосходством. А что я любил – это мое дело, и я не собираюсь тебе рассказывать.
– Браво! – воскликнула я. – Так когда ты перестал воспринимать новое – сразу после того, как приказал долго жить? Или у тебя мозгов поубавилось, когда твой череп превратился в череп фантома?
Его охватило изумление. Меня тоже, хотя, с другой стороны, мои собственные колкости часто пугали меня саму. Вот почему я уже много лет не пью. Я часто произносила такие речи, когда напивалась. Я не помнила вкуса ни вина, ни пива и не желала их помнить. Я желала оставаться в сознании, и даже во сне, когда, например, бродила по мраморному дворцу, я сознавала, что сплю, наслаждаясь одновременно и реальностью, и сном.
– Что ты хочешь, чтобы я сделал? – спросил он.
Я подняла на него глаза, стараясь отрешиться от других вещей, от других мест, которые видела. Я устремила взгляд прямо на его лицо. Он казался таким же материальным, как любая вещь в этой комнате, только абсолютно живым, милым, чудесным, вызывающим зависть.
– Что я хочу, чтобы ты сделал? – насмешливо переспросила я. – Что означает этот вопрос?
– Ты говорила, что одинока. Что ж, я тоже одинок. Но я могу тебя отпустить. Я могу уйти…
– Нет.
– Я так и думал.
На его лице мелькнула улыбка – и тут же погасла. Он вдруг сделался очень серьезным, а глаза расширились, и выражение их было спокойным. Густые черные брови чуть приподнялись, придавая лицу законченную красоту.
– Ладно, ты ко мне пришел, – сказала я. – Ты являешься ко мне как воплощение грез. Скрипач, я тоже когда-то всем сердцем хотела играть на скрипке – более сильного желания я, наверное, никогда не испытывала. И вот появляешься ты. Но ты не мое создание. Ты порождение чего-то другого, ты голоден, жаден и требователен. Ты в ярости, что не можешь довести меня до сумасшествия, и терпишь поражение.
– Признаю твою правоту.
– Что, по-твоему, случится, если ты останешься? Думаешь, я позволю околдовать себя и силком вернуть к тем могилам, которые осыпала цветами? Ты думаешь, я позволю напоминать мне Оливье? Я знаю, ты часто за последние несколько часов заставлял меня думать о нем, словно он один из тех, кто навсегда покинул меня: мой Лев, его жена Челси и их ребятишки. Думаешь, я позволю тебе это? Должно быть, ты хочешь сразиться не на шутку. Так готовься к поражению.
– Ты могла бы не терять Льва, – с нежной задумчивостью произнес он. – Но нет, ты была слишком горда. Тебе понадобилось сказать: «Да, женись на Челси». Ты не смогла простить предательство. Тебе обязательно нужно было проявить благородство, страдать.
– Челси носила под сердцем его ребенка.
– Челси хотела избавиться от него.
– Нет, не хотела, и Лев не хотел. А наш ребенок к тому времени уже умер. Лев нуждался в ребенке и нуждался в Челси. И Челси нуждалась в таком муже.
– И поэтому ты гордо отказалась от этого мужчины, которого любила с детства, и почувствовала себя победителем, хозяйкой положения, режиссером пьесы.
– Ну и что? – сказала я. – Он ушел. Он счастлив. Он растит трех сыновей, одного высокого, светловолосого, и двух близнецов – их фотографиями увешан весь дом. Видел одну из них в спальне?
– Видел. И в коридоре тоже, рядом со старой пожелтевшей фотографией твоей канонизированной мамочки в возрасте тринадцати лет: красивая девочка с выпускным букетом и плоской грудью.
– Ладно. Так что нам теперь делать? Я не позволю тебе обращаться со мной подобным образом.
Он отвернулся в сторону и тихо замычал какую-то мелодию. Подняв скрипку с колен, он осторожно положил ее на стол, продолжая удерживать левой рукой за гриф, а рядом положил смычок. Его взгляд медленно скользил по картине Льва, висевшей над диваном, – подарок моего мужа, поэта и художника, отца высокого голубоглазого юноши.
– Нет, я не стану об этом думать, – сказала я.
Я уставилась на скрипку. Страдивари? Бетховен – его учитель?
– Не смейся надо мной, Триана! – сказал скрипач. – Он действительно меня учил, как и Моцарт. Но я тогда был таким маленьким, что даже не помню его. Но Маэстро был моим учителем! – Щеки его пылали. – Ты ничего обо мне не знаешь. Ты ничего не знаешь о том мире, из которого я был вырван. Библиотеки полны трудов, посвященных той эпохе, ее композиторам, художникам, строителям дворцов. Там упоминается даже имя моего отца – щедрого мецената, заботливого покровителя Маэстро. Еще раз повторяю: Маэстро был моим учителем.
Он замолчал и отвернулся.
– Выходит, я должна страдать и помнить, а ты – нет, – сказала я. – Ясно. Ты любишь похвастать, как многие мужчины.
– Ничего тебе не ясно, – сказал он. – Мне нужна только ты, из всех людей ты одна, ты, которая поклоняешься этим именам как святым. Моцарт, Бетховен… Я хочу, чтобы ты знала: я был с ними знаком! А где они сейчас, мне неведомо! Зато я здесь, с тобой!
– Да, это так, – сказала я, – мы оба согласны, что это так, но что нам теперь делать? Ты можешь тысячи раз застать меня врасплох, но больше я не поддамся. А когда мне снится прибой, море, то это ты…
– Мы не станем сейчас обсуждать твои сны.
– Почему же? Потому что эта дверь ведет в твой мир?
– У меня нет собственного мира. Я затерялся в твоем мире.
– Но ведь он у тебя был, у тебя есть собственная история, цепь событий, которая волочится за тобой хвостом, разве нет? И тот сон навеваешь мне ты, потому что я никогда не видела тех мест.
Он постучал пальцами правой руки по столу и задумчиво склонил голову.
– Ты помнишь, – начал он со злобной улыбкой на лице. Брови его грозно сошлись на переносице, а голос звучал наивно и мягко, – помнишь, после смерти дочери ты какое-то время общалась с подругой, которую звали Сьюзен.
– У меня было много подруг после смерти дочери, хороших подруг, и, между прочим, четырех из них звали Сьюзен, или Сюзанна, или Сью. Была среди них Сьюзен Мандел, с которой мы вместе ходили в школу; была Сьюзи Райдер, которая зашла меня утешить, а после мы с ней подружились. Еще была Сюзанна Кларк…
– Нет, я имею в виду другую. То, что ты говоришь, – правда: ты часто сортировала своих подруг по именам. Помнишь, тех, кого звали Энн, – соучениц по колледжу? Их было трое, они любили шутить по поводу твоего имени Трианна, что означает «Три Анны». Но сейчас я не хочу говорить о них.
– Еще бы! Это ведь приятные воспоминания.
– Так где же они сейчас, все эти подруги, особенно четвертая… Сьюзен?
– Я теряюсь.
– Нет, мадам, я вас привязал к себе. – Он широко улыбнулся. – Так же крепко, как в минуты игры.
– Чувственный, – сказала я, – знаешь, есть такое старое слово.
– Конечно знаю.
– Это про тебя, ты во мне вызываешь самые горячие чувства! Ладно, почему бы не сказать прямо, какую Сьюзен ты имеешь в виду? Я даже не…
– Ту, что жила на юге, рыжеволосую, ту, которую знала Лили…
– А, та Сьюзен была ее подругой, она жила прямо над нами, у нее была дочка, ровесница Лили, она…
– Почему бы тебе просто не поговорить со мною об этом? Почему эта тема так тебя раздражает? Почему ты не скажешь мне? Та женщина любила Лили. Твоей дочке нравилось подниматься в ее квартиру, садиться рядом с ней и рисовать, и та женщина написала тебе спустя несколько лет после смерти Лили, когда ты жила здесь, в Новом Орлеане. Так вот, та женщина, Сьюзен, которая так любила твою дочь, написала тебе, что Лили возродилась, реинкарнировала. Помнишь такое письмо?
– Смутно. Мне приятнее вспоминать об этом, чем о том времени, когда они были вместе. Одна из них мертва, так что когда я получила письмо, то сочла его абсурдным. Разве люди могут возродиться? Или ты собираешься открыть мне этот великий секрет?
– Никоим образом, к тому же я сам не знаю. Мое существование – это один бесконечный план. Я знаю только, что нахожусь здесь, и этому никогда не наступит конец. Те, кого я начинаю любить или ненавидеть, в конце концов умирают, а я остаюсь. Я только это и знаю. Еще ни одна душа не возникала передо мной, заявив, что является реинкарнацией того, кто причинил мне боль, боль!
– Продолжай, я слушаю.
– Значит, ты помнишь ту Сьюзен и ее письмо.
– Да, она написала, что Лили возродилась в другой стране. Ой! – Я замолчала от потрясения. – Так вот почему ты заставляешь меня видеть тот сон! Это страна, в которой я никогда не была и в которой сейчас находится Лили. Ты хочешь, чтобы я в это поверила?
– Нет, – покачал головой он. – Я просто хочу сказать тебе прямо в лицо, что ты так и не отправилась на ее поиски.
– Новые выходки, у тебя их целая тысяча. Кто тебе причинил боль? Кто стрелял из тех ружей, когда ты умер? Не хочешь рассказать?
– Точно так Лев рассказал тебе о своих женщинах, как он на протяжении всей болезни Лили менял одну девушку за другой, чтобы утешиться. Отец умирающей девочки…
– Ты омерзительный дьявол! Я даже слов не нахожу. А в свое оправдание замечу, что он действительно связывался с этими девчонками на короткое время без любви, а я пила. Я пила. И толстела. Так оно и было. Но теперь все это бессмысленно. Или ты именно это хотел услышать? Нет никакого Судного дня. Я в него не верю. А с потерей этой веры я перестала исповедоваться, перестала обороняться. Ступай прочь. Я включу проигрыватель. Что ты тогда сделаешь? Сломаешь его? Но он у меня не один. Есть и другие. В конце концов, я могу спеть Бетховена. Я знаю Скрипичный концерт наизусть.
– Не смей этого делать.
– Отчего же, или в твоем аду тебя ждут музыкальные записи?
– Откуда мне знать, Триана? – спросил он, внезапно смягчившись. – Откуда мне знать, как у них там устроено в аду? Ты сама видишь, на какие вечные муки я обречен.
– По-моему, это гораздо лучше, чем вечное пламя. Но я буду играть своего Бетховена, когда захочу, и буду петь, что помню, пусть даже не в том ключе и навру мелодию…
Он подался вперед, а я, не успев собраться с силами, потупилась. Уставилась на столешницу, почувствовав себя несчастной, такой несчастной, что уже не могла дышать.
Скрипка. Исаак Стерн в концертном зале, детская уверенность, что и я смогу достичь такого мастерства…
Нет. Перестань.
Я взглянула на скрипку. Потянулась к ней. Он не шелохнулся. Я не смогла преодолеть четыре фута столешницы. Пришлось подняться и обойти стол вокруг. Он не сводил с меня глаз, не меняя настороженной позы, словно подозревал, что я способна выкинуть какой-нибудь трюк. Возможно, я и смогла бы. Только пока у меня не было наготове никаких трюков – ничего стоящего.
Я дотронулась до скрипки.
Ее хозяин выглядел красивым и величественным. Я уселась прямо перед инструментом, и он отвел правую руку, чтобы я могла потрогать скрипку. Более того, он даже чуть придвинул скрипку ко мне, по-прежнему не выпуская из рук гриф и смычок.
– Страдивари, – сказала я.
– Да. Одна из многих, на которых я когда-то играл, просто одна из многих, такой же призрак, как я. Сильный призрак сам по себе. Совсем как я. В этом царстве он остается тем же Страдивари, каким был при жизни.
Он с любовью взглянул на инструмент.
– Можно сказать, что я некоторым образом и умер из-за него. – Он перевел взгляд на меня и спросил: – Почему после письма Сьюзен ты не отправилась на поиски возрожденной души своей дочери?
– Я не поверила письму. Я выбросила его. Оно мне показалось глупым. Я пожалела Сьюзен, но не смогла ответить.
Глаза его ярко вспыхнули, губы растянулись в хитрой улыбке.
– Мне кажется, ты лжешь. Просто ты приревновала.
– К чему было ревновать, скажи на милость? К тому, что старая знакомая выжила из ума? Я не видела Сьюзен много лет. Я даже не знаю, где она сейчас…
– Но ты ревновала, сжигаемая яростью, ревновала к ней больше, чем когда-либо ревновала Льва ко всем его девицам.
– Тебе придется объяснить мне свои слова.
– С удовольствием. Тебя терзали муки ревности из-за того, что твоя возродившаяся дочь открылась твоей подруге Сьюзен, а не тебе! Так ты тогда думала. Все это неправда. Не может быть, чтобы связь между Лили и Сьюзен оказалась такой прочной! Гнев – вот что ты чувствовала. И гордость – ту самую гордость, которая позволила тебе отказаться от Льва, в то время когда он не мог отличить правой руки от левой, когда его сломило горе, когда…
Я ничего не ответила. Он был абсолютно прав. Мне было мучительно сознавать, что кто-то может заявить о такой близости с моей ушедшей дочкой, что Сьюзен, у которой явно помутился рассудок, могла вообразить, будто Лили, возродившись, доверилась ей, а не мне.
Он был прав. Как ужасно глупо. Лили очень любила Сьюзен. Между ними существовала тесная связь!
– Ладно, выкладывай свой второй козырь. Итак?
Я потянулась к скрипке.
Он не выпустил ее из рук, а только крепче сжал.
Я гладила скрипку, но он не позволял мне сдвинуть ее с места. Он наблюдал за мной. Скрипка на ощупь была настоящей, великолепной, блестящей, осязаемой и превосходной сама по себе, даже когда из нее не извлекали ни единой ноты. Какое блаженство прикоснуться к такому чудному старому инструменту!
– Надо полагать, это честь? – горестно спросила я, приказывая себе не думать сейчас о Сьюзен и ее выдумке, что Лили возродилась.
– Да, это честь… Но ты ее заслужила.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что ты любишь ее звучание, наверное, больше любого смертного, для которого я играл на ней.
– Даже больше Бетховена?
– Он был глух, Триана, – прошептал скрипач.
Я громко расхохоталась. Разумеется. Бетховен страдал глухотой. Весь мир это знал, как знал, что Рембрандт голландец или что Леонардо да Винчи гений. Я смеялась искренне.
– Как забавно, что я забыла об этом.
Но ему это не показалось забавным.
– Дай мне подержать скрипку.
– Не дам.
– Но ты ведь говорил…
– Мало ли что я говорил. Нужно и меру знать. Можешь дотронуться до скрипки, но это все. Брать скрипку в руки я не позволю. Неужели ты думаешь, я разрешу такой, как ты, даже щипнуть одну струну? И не пытайся!
– Ты, должно быть, умер в ярости.
– Так оно и было.
– А как ученик что ты думал о Бетховене, хотя он и не мог слышать твою игру? Как ты его оценивал?
– Я его обожал, – едва слышно ответил скрипач. – Я обожал его совсем как ты, хотя как раз ты-то его не знала, зато я знал, и я превратился в призрака еще до того, как он умер. Я видел его могилу. Когда я пришел на то старое кладбище, мне показалось, что я снова умру от горя, от ужаса при мысли, что он мертв и вместо него на земле остался один лишь могильный камень… Но нам не дано умереть дважды.
В его взгляде больше не чувствовалось презрения.
– Все произошло так быстро. В этом царстве все так происходит. Очень быстро. Годы прошли для меня как в тумане. Позже, гораздо позже, из болтовни живых я узнал о его пышных похоронах, о том, как гроб Бетховена пронесли по улицам на руках. Да, Вена обожает пышные похороны, теперь у моего Маэстро надлежащий памятник. – Его голос был едва различим. – Как я плакал на его прежней могиле. – Он поднял глаза, изумленно озираясь, но рука его ни на секунду не отпускала скрипку. – Помнишь, когда умерла твоя дочь, тебе хотелось, чтобы об этом узнал весь мир?
– Да, и чтобы все вокруг на секунду замерло, погрузилось в раздумье…
– А все твои калифорнийские друзья не знали, как высидеть простейшую мессу по покойному, и половина из них потеряла из виду катафалк на дороге.
– Ну и что?
– А то, что у Маэстро, которого ты так любишь, были как раз те похороны, какие ты хотела устроить дочери.
– Да, но он Бетховен, и ты его знал. И я его знаю. А кто такая Лили? Что она теперь? Кости? Прах?
Он поглядел на меня с нежностью и сожалением. В голосе моем не слышалось ни резкости, ни злобы.
– Кости, прах… лицо, которое я отлично помню: круглое, с высоким лбом, как у моей матери, не похожее на мое. Лицо моей матери. Мне нравится думать о ней. Нравится вспоминать, какой она была красивой…
– Даже когда ее волосы выпали и она плакала?
– Все равно она оставалась красивой. А ты был красив, когда умер?
– Нет.
Скрипка на ощупь оказалась шелковистой.
– Тысяча шестьсот девяностый год – вот когда ее сделали, – сказал он. – Задолго до моего рождения. Отец купил ее у какого-то человека в Москве, где я никогда не был, ни разу, и куда никогда не отправлюсь ни при каких обстоятельствах.
Я с любовью рассматривала скрипку. В ту минуту меня больше ничто не волновало, кроме этого чуда – призрачной, поддельной, ненастоящей скрипки.
– Она призрачная и настоящая, – поправил он. – У моего отца было двадцать инструментов, изготовленных Антонио Страдивари. Все они были прекрасны, но эта скрипка лучше всех.
– Двадцать? Я тебе не верю! – внезапно произнесла я, сама не зная почему. Наверное, от ярости.
– Ревность из-за того, что ты бесталанна, – сказал он.
Я внимательно всмотрелась в него. Он сам для себя четко не определил свое отношение ко мне. Он не знал, любит ли он меня или ненавидит, – знал лишь, что отчаянно нуждается во мне.
– Не в тебе, – возразил он, – просто в ком-то.
– В ком-то, кто любит эту скрипку? – спросила я. – Любит ее и знает, что она называется «Большой Страд» и что Страдивари сделал ее уже почти в самом конце жизни? – продолжала выспрашивать я. – Когда избавился от влияния Амати?
Его улыбка была мягкой и печальной, нет – больше чем печальной. И полной боли, а может быть, благодарности?
– Идеальные эфы,[19] – благоговейно произнесла я, проводя по ним пальцем. – Не трогай струны.
– Вот именно, не трогай, – сказал он. – Но ты можешь… Можешь еще раз потрогать скрипку.
– А теперь ты плачешь? Слезы настоящие?
Я хотела, чтобы слова прозвучали ехидно, но у меня ничего не получилось. Я продолжала смотреть на скрипку и думать, насколько она совершенна и непостижима. Все равно что пытаться рассказать кому-то, кто в жизни не слышал звучания скрипки, на что оно похоже, на что похож голос этого инструмента. Невольно напрашивается мысль: сколько же поколений сменило одно другое, так ни разу и не услышав ничего подобного.
Слезы шли его миндалевидным впалым глазам. Он не пытался побороть их. Насколько я знала, он сам создал их, как создал весь свой облик.
– Если бы это было так просто, – признался он.
– Темный лак, – сказала я, глядя на скрипку. – По нему можно определить дату. К тому же нижняя дека состоит из двух кусков – я видела шов. Итальянское дерево.
– Нет, – сказал он. – Хотя многие другие скрипки были сделаны из итальянской древесины. – Ему пришлось прочистить горло, чтобы смочь хоть как-то заговорить. – Это большая скрипка, да, ты права, она называется «stretto lungo». – Он говорил почти ласково. – Ты столько всего знаешь, столько подробностей о Бетховене и Моцарте, и ты плачешь, вцепившись в подушку, когда слушаешь их музыку…
– Я слушаю, слушаю, – заверила я. – Не забудь и про русского сумасшедшего, как ты столь нелюбезно его окрестил. Моего Чайковского. Ты играл его довольно неплохо.
– Да, но какую пользу тебе принесли все твои знания? Ты зачитала до дыр письма Бетховена и Моцарта, бесконечно вникаешь в постыдные подробности жизни Чайковского – но что это тебе дало? Что ты собой представляешь?
– Эти знания не дают мне скучать, – произнесла я медленно и спокойно, обращаясь не столько к нему, сколько к самой себе, – в той же мере, что и ты.
Я наклонилась над скрипкой совсем близко. Свет от люстры был скуден, но я смогла разглядеть сквозь эфу клеймо – круг, буквы AS и год, четко выведенный, как он и говорил: «1690».
Я не поцеловала скрипку, даже подумать об этом не могла, это выглядело бы вульгарно. Мне просто хотелось подержать ее в руках, прижать к ключице… По крайней мере, я знала, как это сделать: обхватить пальцами левой руки ее гриф.
– Не смей.
– Ладно, – со вздохом согласилась я.
– У Паганини было две скрипки Антонио Страдивари, когда я с ним познакомился, но ни одна из них не могла сравниться с этой…
– Так ты и его знал?
– О да, можно сказать, он, сам того не подозревая, сыграл роковую роль в моем падении. Он так и не узнал, что со мной стало. Но я за ним наблюдал сквозь темную завесу, наблюдал раз или два, больше не смог вынести, и время больше не имело естественных мерок. Но у него никогда не было такого прекрасного инструмента, как этот…
– Понятно… а у тебя их было двадцать.
– В отцовском доме, я же тебе говорил. Вспомни прочитанное. Ты ведь знаешь, какова была Вена в те дни. Ты знаешь о князьях, владевших личными оркестрами. Не будь такой тупой.
– И ты умер ради этой скрипки?
– Я бы умер ради любой из них, – ответил он, оглядывая инструмент. – Я почти что умер ради всех них. Я… Но эта скрипка была моей, по крайней мере так считалось, хотя, разумеется, я был единственным сыном, а скрипок было много и когда-то я играл на всех.
Рассказ, видимо, его забавлял.
– Ты в самом деле умер из-за этой скрипки?
– Да! И из-за страстного желания играть на ней. Родись я бесталанным идиотом вроде тебя, такой же заурядной личностью, я бы сошел с ума. Удивительно, что с тобой этого не случилось. – Видимо, он тут же пожалел о сказанном, потому что посмотрел на меня, словно извиняясь, и добавил: – Но не многие могут слушать как ты. Нужно отдать тебе должное.
– Благодарю, – сказала я.
– Не многие способны понять язык музыки так, как ты.
– Благодарю, – прошептала я.
– Не многие стремились… к таким широким горизонтам. – Он казался удивленным, когда смотрел почти беспомощно на скрипку. Я промолчала. Он расстроился и уставился на меня.
– А что смычок? – спросила я, внезапно испугавшись, что скрипач уйдет, снова уйдет, исчезнет из мести. – Великий Страдивари и смычок изготовил?
– Возможно, хотя сомнительно. Он не очень любил тратить время на смычки. Но ты и без меня знаешь. Этот смычок он мог сделать, мог, и, разумеется, ты узнаешь материал. – Он снова улыбнулся, как-то по-свойски и слегка удивленно.
– Разве? Мне кажется, что нет, – сказала я. – Из чего он сделан? – Я дотронулась до длинного широкого смычка. – Какой широкий! Гораздо шире, чем наши современные смычки.
– Для извлечения более тонкого звука, – пояснил он, разглядывая смычок. – А ты, оказывается, наблюдательна.
– Но это же очевидно. Любой бы заметил. Уверена, что публика в часовне тоже обратила внимание на то, что смычок необычно широкий.
– Не будь столь уверена. А ты знаешь, почему он такой широкий?
– Чтобы конский волос не дотрагивался до древесины – тогда можно играть более резко.
– Резко, – повторил он с улыбкой. – Резко. Я никогда об этом не думал.
– Ты часто сильно ударяешь по струнам. Для таких аккордов нужен слегка вогнутый смычок – разве нет? А что это за древесина? Какая-то особая. Не могу вспомнить. А ведь когда-то я знала эти вещи. Ответь.
– С удовольствием, – ответил он. – Мастера я не знаю, зато материал мне известен с тех времен, когда я еще был жив. Он называется фернамбук. – Призрак внимательно посмотрел на меня, словно ожидая реакции. – Что-нибудь вспоминается?
– Так, что такое фернамбук, я не…
– Он растет в Бразилии. И в те времена, когда изготовили этот смычок, фернамбук доставлялся только из Бразилии.
Я посмотрела на него немигающим взглядом.
– Ах да.
Внезапно передо мной возникло море, блестящее сверкающее, залитое лунным светом. А потом появились огромные волны. Картина была такой ясной, что вытеснила его, но тут я почувствовала, как он положил руку на мою. И я увидела его. Увидела скрипку.
– Неужели не помнишь? Подумай.
– О чем? – спросила я. – Я вижу берег, вижу океан, вижу волны.
– Ты видишь город, где, как сообщила тебе Сьюзен, во второй раз родился твой ребенок, – резко сказал он.
– Бразилия… – Я подняла на него взгляд. – В Рио, в Бразилии, ну да, именно так написала Сьюзен в своем письме. Лили стала…
– Музыкантом в Бразилии – именно тем, кем ты всегда стремилась быть, музыкантом, помнишь? Лили реинкарнировала в Бразилии.
– Я же сказала, что выбросила письмо. Я никогда не видела Бразилию. Почему ты хочешь, чтобы я ее видела?
– Не хочу! – сказал он.
– Нет, хочешь.
– Неправда.
– Тогда почему я ее вижу? Почему ты будишь меня, стоит мне увидеть воду и пляж? Зачем они мне снились? Почему я только что их видела? Я ведь не вспомнила слова Сьюзен. Я не знала, что такое «фернамбук». Я никогда не бывала…
– Ты снова лжешь, но в том нет твоей вины, – сказал он. – Ты на самом деле ничего не знаешь. В твоей памяти есть несколько милосердных разрывов или мест, где нить слишком тонкая. Святой Себастьян – покровитель Бразилии.
Он взглянул на итальянский шедевр Карла – изображение святого Себастьяна, висевшее над камином.
– Помнишь, Карл хотел поехать завершить свою работу над святым Себастьяном, собрать его португальские изображения, которые, как он знал, там есть, а ты сказала, что предпочла бы никуда не уезжать.
Я ничего не ответила – так мне было больно. Я действительно так сказала Карлу и разочаровала его. А позже он так и не смог найти силы, чтобы совершить поездку.
– Естественно, ты винишь себя, – вновь заговорил скрипач. – Ты не хотела ехать потому, что именно это место Сьюзен упомянула в своем письме.
– Не помню.
– Помнишь, конечно, – иначе я бы не знал об этом.
– У меня нет никаких ассоциаций с морскими волнами и пляжем Бразилии. Тебе придется отыскать какую-нибудь особую деталь. Или отрешиться самому от этой картины, раз ты не хочешь, чтобы я ее видела, а это может означать только, что…
– Прекрати свой глупый анализ.
Я отпрянула. Боль на секунду победила. Я не могла вымолвить ни слова. Карл действительно хотел отправиться в Рио, и много раз в юности я тоже хотела уехать – к югу от Бразилии, в Боливию, Чили и Перу, в далекие и таинственные страны. Сьюзен писала в своем послании, что Лили возродилась в Рио… да-да, была там еще какая-то подробность, какая-то деталь…
– Девочки, – напомнил он.
Я вспомнила. В нашем доме в Беркли, в квартире над Сьюзен, жила красивая бразильянка с двумя дочерьми; уезжая, они сказали: «Лили, мы никогда тебя не забудем». Университетская семья из Бразилии. Там их было несколько. Я отправилась в банк, наменяла серебряных долларов и дала по пять монет красивым девочкам с гортанной речью… ну да, именно с этим акцентом говорили девушки во сне! Я посмотрела на него. Язык, на котором говорили в мраморном дворце, – португальский.
Он в ярости вскочил, потянув за собою скрипку.
– Поддайся чувству, выстрадай его! Почему ты сопротивляешься? Ты подарила им серебряные доллары, а они поцеловали Лили. Они знали, что она умирает, но ты думала, что Лили не догадывается об этом. И только после смерти Лили ее подруга, ее подруга Сьюзен, относившаяся к ней по-матерински, сказала тебе, что Лили с самого начала знала, что умрет.
– Я не стану это терпеть, клянусь, не стану. – Я поднялась из-за стола. – Прежде чем позволить тебе так обращаться со мной, я проведу обряд изгнания, словно ты обычный ничтожный демон.
– Проведи этот обряд над собой.
– Ты зашел слишком далеко, слишком, и ты преследуешь какие-то свои собственные цели. Я не забыла свою дочь. Этого достаточно. Я…
– Что? Лежишь рядом с ней в воображаемой могиле? Как, по-твоему, выглядит моя могила?
– Разве она у тебя есть?
– Не знаю. Я никогда ее не искал. К тому же они ни за что не решились бы придать меня священной земле или поставить мне могильный камень.
– Ты выглядишь таким же печальным и сломленным, как я.
– Еще чего, – сказал он.
– Мы с тобой еще та парочка.
Он попятился, будто испугался меня, и прижал скрипку к груди.
Я услышала глухой удар часов – один из нескольких, самый громкий, – наверное, он доносился из столовой. Прошло несколько часов с того момента, как мы затеяли перепалку.
Я взглянула на него, и во мне поднялась ужасная злоба: захотелось отомстить за то, что он знает все мои тайны, не говоря уже о том, что он вытягивает их наружу и играет с ними. Я потянулась за скрипкой.
Он попятился.
– Не смей.
– Почему же? Разве ты растаешь, если выпустишь ее из рук?
– Она моя! – выкрикнул он. – Я забрал ее с собой в смерть, и со мной она останется. Я больше не спрашиваю почему. Я больше вообще ни о чем не спрашиваю.
– Понятно. А что, если ее сломать, разбить, разнести в щепки?
– Не получится.
– А на мой взгляд, может получиться.
– Ты глупа и безумна.
– Я устала, – сказала я. – Ты перестал лить слезы, и теперь моя очередь.
Я отошла от него и открыла дверь в столовую. С порога мне были видны задние окна дома, а за ними высокая лавровишня возле забора перед домом священника, яркая листва вспыхивала в электрическом свете, подрагивая под порывами ветра. А ведь в этом огромном скрипучем доме я даже не заметила, что дует ветер, и только теперь услышала, как он стучит ставнями и пощелкивает полами.
– О Господи!
Я стояла спиной к скрипачу и слушала, как он осторожно подходит ко мне, словно просто желая оказаться рядом.
– Да, поплачь, – прошептал он. – Что в том плохого? Я посмотрела на него. В эту секунду он казался настоящим, почти теплым.
– Предпочитаю другую музыку! – сказала я. – Ты сам знаешь. А это маленькое дело ты превратил для нас обоих в ад.
– Неужели ты думаешь, что есть связь прочнее? – искренне удивился он. И вид при этом у него был совершенно простодушный. – Что я, находясь на более продвинутой стадии чувств и жизни, мог бы купиться на что-то вроде любви? Нет, в любви для меня недостаточно накала. Во всяком случае, с той ночи, когда я покинул земной мир, прихватив с собой этот инструмент.
– Продолжай. Тебе тоже хочется поплакать. Так дай волю слезам.
– Нет! – Он попятился.
Я снова уставилась на зеленую листву. Внезапно огни погасли. Это кое-что означало. Это означало, что пробил определенный час, когда огни автоматически выключаются в одном месте и включаются где-то в другом.
В доме было тихо. Алфея и Лакоум спали. Нет, у Алфеи сегодня выходной, она не вернется до утра, а Лакоум ушел ночевать в комнату в подвальном этаже, где можно было курить и быть уверенным, что дым меня не потревожит. Дом был пуст.
– Нет, нас здесь двое, – прошептал он мне в ухо.
– Стефан! – Я произнесла его имя так, как делала это мисс Харди: с ударением на первом слоге.
Лицо его разгладилось и оживилось.
– У тебя такая короткая жизнь, – сказал он. – Почему бы тебе не пожалеть меня за мою вечную муку?
– Что ж, тогда сыграй мне. Сыграй и позволь помечтать и вспомнить, не завидуя тебе. Или я должна испытывать ненависть? Может, на этот раз тебе хватит моих невзгод?
Он не мог это вынести. У него был вид истерзанного ребенка. Я как будто ударила его наотмашь. А когда он все-таки взглянул на меня, то глаза у него были остекленевшие, губы дрожали.
– Ты был совсем юн, когда умер, – утвердительным тоном произнесла я.
– Гораздо старше твоей Лили, – с язвительной горечью, но при этом едва слышно ответил он. – Что тебе сказали священники? Что она даже не достигла возраста, когда имеют право выбора?
Мы смотрели друг на друга. Я держала ее на руках и слушала не по годам умную болтовню, где находчивость и ирония порождались болью и лекарствами, развязывающими язык, такими как дилантин. Лили, моя красавица, поднимала стакан вместе со всеми друзьями во время тоста, ее головка абсолютно лысая, улыбка такая прелестная, что даже спустя много лет я представляла ее очень ясно, за что была благодарна. Да, пожалуйста, пусть она улыбается. Я хочу видеть ее улыбку и слышать ее смех, словно что-то или кто-то весело скатывается под горку. Вспоминаю разговор со Львом. «Мой сын Кристофер смеется точно так же, заливчато и звонко!» Так говорил мне Лев, звоня по телефону из другого города еще до рождения близнецов. Челси тогда была рядом с ним, и мы все трое плакали от счастья.
Я медленно прошлась по столовой. Все огни в доме были должным образом выключены на ночь. Оставалось гореть только бра возле двери в мою спальню. Я продрейфовала мимо и вошла к себе.
Он не отставал от меня ни на шаг, молча следуя за мной огромной тенью, огромным плащом абсолютной тьмы.
Но затем я взглянула в его беспомощное лицо и подумала: «Боже, прошу тебя, пусть он об этом не знает, но он такой же, как все остальные, кто, умирая, нуждался во мне. Я говорю так, не просто чтобы побольнее уколоть его или оскорбить. Я говорю правду».
Он в изумлении не сводил с меня глаз.
Мне нестерпимо захотелось снять с себя одежду – бархатную накидку, шелковую юбку, – мне захотелось скинуть все, что меня связывало. Я жаждала надеть просторный халат, скользнуть под одеяло и погрузиться в сон, в котором увижу могилы своих мертвых и… И много что еще… По телу разливалась теплота, но не усталость, нет, я не чувствовала ни малейшей усталости. Наоборот, я настроилась на битву, словно впервые уверилась в победе! Но что это будет за победа и будет ли он страдать? Неужели мне так нужно победить того, кто так груб, зол и вообще не из этого мира?
Но я не стала долго размышлять об этом юном существе, только еще раз удостоверилась с бьющимся сердцем, что он на самом деле рядом и что если я сошла с ума, то никому до меня не достучаться, кроме него.
Мы стояли друг против друга.
Я начала припоминать нечто ужасное – нечто такое, что вспоминалось мне особенно часто; это нечто входило в меня, как огромный осколок стекла, и все же я никогда об этом никому не рассказывала, ни единой душе. Никогда в жизни, даже Льву.
Почувствовав дрожь, я опустилась на кровать, но она была такая высокая, что ноги не доставали до пола. Тогда я снова слезла с нее и принялась ходить, а он отступил в сторону, чтобы не мешать.
Проходя мимо, я дотронулась до его шерстяного пальто. Я даже коснулась прядей его волос. Обернувшись в дверях, я вцепилась в длинные локоны.
– Надо же, мягкие, как лен, но черные, – сказала я.
– Прекрати. – Он высвободился. Его волосы на ощупь оказались скользкими. Впрочем, я сразу раскрыла ладонь.
Он метнулся в столовую, подальше от меня, потом поднял смычок. Подтянуть конский волос на фернамбуковом призрачном смычке, видимо, не было необходимости. Он заиграл.
Я закрыла глаза, отстраняясь от него, от всего мира, но не от прошлого, не от своих воспоминаний. На этот раз это была память о нем… болезненная и неуловимая, как стекло, поранившее руку…
Но я не могла от нее отрешиться. Что я теряю? Все равно это уродливая пустяковая недосказанность не подтолкнет меня за грань безумия. Если я до сих пор способна видеть ясные сны и фантомов в придачу, что ж, тогда пусть он приходит за мной.
Глава 10
Мы начали вместе. Я позволила себе отключиться; именно эта мука очень личная, сдобрена стыдом и так унизительна, что ее даже нельзя сравнить с печалью.
Печаль…
Произошло это в том же доме, где мы находились сейчас. Он играл для меня сонату на низких нотах, проводя по струнам с таким мастерством, что мне казалось, будто я все вижу перед глазами, а не мысленным взором.
Но на самом деле я стояла в другом конце длинной столовой.
Я вдыхала ароматы лета той поры, когда в домах, подобных этому, еще не появились специальные машины для их охлаждения, и тогда древесина приобретала особый запах, а кухонный смрад, казалось, навечно поселился в комнатах. Неужели в то время где-то был дом, где не пахло вареной капустой?
Я имею в виду небольшие домишки, этакие пряничные одноэтажные домики на ирландско-немецком побережье, откуда родом моя родня – а точнее, часть родни – и куда я часто отправлялась с матерью и отцом, крепко держась за руки, и глазела на узкие пустые тротуары, жалея, что там нет деревьев и просторных сумбурных особняков, как в Садовом квартале.
В конце концов, наш дом был большим; конечно, это коттедж, и на первом этаже всего лишь четыре комнаты, и дети спали в маленьких спаленках в мансарде, зато каждая из этих четырех комнат была огромной, и в ту ночь, в ночь, оставшуюся в моей памяти, ночь, которую я никогда не смогу забыть, уродливую ночь, о которой никому не расскажешь, – так вот, в ту ночь столовая, отделявшая меня от хозяйской спальни, казалась такой просторной, что наверняка сама я была еще слишком мала. Думаю, мне было не больше восьми лет.
Да, именно восемь, потому что к тому времени Катринка уже родилась и спала где-то наверху; она была младенцем, только недавно научившимся ползать. Помнится, я чего-то испугалась ночью и решила забраться в мамину кровать, что не так уж удивительно. И я спустилась вниз.
Отец, давно вернувшийся с войны, работал по ночам, как и его братья. Все они трудились, не жалея себя, чтобы обеспечивать семьи. Так что в тот вечер отца не было. Но это и не важно.
Важно только то, что мать уже начала пить и что бабушка была мертва, а тут пришел страх, тупой, ужасный страх. Я знала это чувство, знала мрак, грозивший поглотить всю надежду. Я сползала вниз по лестнице в столовую, надеясь увидеть свет в ее спальне, потому что даже если она была «больна», как мы тогда это называли, и у нее изо рта несло кислятиной (от красного вина), и она спала так крепко, что можно было трясти ее изо всех сил и не дождаться никакой реакции, все равно она была бы теплой, все равно горел бы свет: мать ненавидела тьму, она ее боялась.
Свет не горел, я не увидела ни одного огонька. Пусть твоя музыка рассказывает о страхе, всепоглощающем детском страхе. Даже такой маленький ребенок мог пожалеть, что вообще родился на свет; просто мне не хватало слов, чтобы выразить это.
Но я знала, что родилась для мучений и тревог, для безутешных блужданий с закрытыми глазами, когда жаждешь только утреннего солнца и человеческого слова, когда ищешь утешения в зрелище горящих фар автомобилей, проносящихся мимо.
Я спустилась вниз по узкой винтовой лестнице и оказалась в этой столовой.
А вот и черный дубовый буфет, который стоял здесь в те дни, – огромное резное чудище. Когда она умерла, отец отдал его, сказав, что мы должны вернуть мебель «ее семье», словно мы, дочери, не были «ее семьей». Но то, что происходило той ночью, было задолго до ее смерти. Буфет был вечной вехой на карте страха.
Фей еще не родилась, крошечное заморенное существо еще не появилось из черной прогнившей утробы, любимая наша крошка Фей еще не пришла в семью как подарок свыше, чтобы создать уют, чтобы танцевать, чтобы отвлекать от грустных мыслей, чтобы заставлять всех нас смеяться, Фей, которая навсегда останется для нас самой красивой, и не важно, сколько боли ей пришлось потом вынести, Фей, которая могла часами лежать, любуясь зеленой листвой на ветру, Фей, рожденная в отраве, всегда предлагала всем только безграничную любовь.
Нет, это было еще до Фей, в безрадостное время, безнадежное и темное, каким только бывает мир, а возможно, еще безнадежнее, так как понимание приходит с годами, а в восемь лет еще не можешь опереться на собственную мудрость. Я боялась, просто боялась.
Возможно, Фей уже росла в утробе матери в ту ночь. Вполне возможно. У матери были кровотечения все то время, что она вынашивала Фей. Значит, Фей жила в пьяном, зараженном, темном мире, пронизанном, наверное, одним только несчастьем. Неужели пьяное сердце бьется с той же силой, что и любое другое? Неужели тело пьяной матери кажется таким же теплым крошечному существу, что ждет, цепляясь за ниточку сознания, в темных и холодных комнатах, где на пороге затаился страх? Тревога и горечь идут рука об руку с одним робким истерзанным виной ребенком, который вглядывается в дальний угол грязной комнаты.
Вот резной камин, розы красного дерева, разрисованная панель под камень, холодная газовая горелка, которая, если ее зажечь, могла бы обуглить каминную полку. Вот лепнина наверху, высокий каркас огромных дверей, тени, ползущие в разные стороны от движущегося потока машин.
Поганый дом. Кто бы стал отрицать? Он был таким до появления пылесосов и стиральных машин, и в каждом углу всегда лежала пыль. Каждое утро вечно спешащий разносчик льда волоком втаскивал по ступеням блестящую волшебную глыбу. Молоко на леднике скисало. По белому металлическому кухонному столу, покрытому эмалью, сновали тараканы. Прежде чем сесть за стол, несколько раз постучишь по нему, тук-тук, чтобы они разбежались. Каждый раз моешь стакан, прежде чем воспользоваться им.
Мы бегали босиком все лето, грязные как чурки. Пыль застревала в оконных сетках, очень скоро приобретавших ржаво-черный цвет. А когда летом включали оконный вентилятор, то он задувал в дом грязь. Ее ошметки свешивались с каждой перекладины, с каждой завитушки лепнины, словно мох с ветвей дубов, что росли перед домом.
Но все это было абсолютно нормальным; в конце концов, как она могла содержать в чистоте такой огромный дом? Это она-то, которая декламировала нам стихи и считала, что нас, ее девочек, ее гениальных созданий, ее абсолютно здоровых детей, нельзя загружать никакими домашними делами; она имела обыкновение оставлять горы нестиранного белья на полу в ванной, а сама читала нам и смеялась. У нее был красивый смех.
Дел в доме накапливалось великое множество. Такова была жизнь. Ясно вижу, как однажды отец взобрался на верх стремянки и, вытянув руку, красил четырнадцатифутовые потолки. Разговоры о сыплющейся штукатурке. Прогнившие балки в мансарде; дом опускается, проваливается в землю год за годом – зрелище, от которого сжимается мое сердце.
Не помню, чтобы в доме когда-нибудь было везде чисто и вещи стояли на своих местах; в кладовке по вечно грязным тарелкам ползали мухи, а на плите всегда что-то горело. Неподвижный ночной воздух отдавал кислятиной и сыростью, когда я, непослушная, босая, спускалась по лестнице, охваченная ужасом.
Да, ужасом.
Что, если появится таракан или крыса? Что, если входные двери забыли запереть и кто-то залез в дом, а она лежит там пьяная и я не смогу ее разбудить? Не смогу поднять. Что, если начнется пожар, да-да, тот ужасный-ужасный пожар, которого я боялась до самозабвения и о котором все время помнила, пожар вроде того, что сжег старинный викторианский дом на углу Сент-Чарльз-авеню и Филипп-стрит, пожар, который в моем представлении, возникшем еще раньше, чем это воспоминание, был порожден самой темнотой и неправедностью сгоревшего дома, самим нашим миром, нашим нестойким миром, в котором слова доброты чередовались с холодным ступором и грубым безразличием; где все это вечно накапливалось и исчезало в беспорядочной вселенной. Вряд ли нашлось бы второе такое место, как тот темный и безрадостный старый викторианский дом, этакий монстр на углу квартала, охваченный яростным огнем, какого я раньше не видела.
И что могло помешать случиться такому же и здесь, в этих просторных комнатах, спрятавшихся за белыми колоннами и чугунной оградой? Смотри, горелка включена. Газовая горелка на толстых подпорках выпускает яркий язычок пламени из конца газовой трубы, и тот горит слишком близко к стене. Слишком близко. Я знала это. Я знала, что стены чересчур раскаляются от всех зажженных горелок в этом доме. Я это уже знала. Значит, это не могло быть летом, но и зимой тоже. У меня застучали зубы.
Тогда, в ту ночь, и теперь, пока играл Стефан, я позволила тем детским страхам взять надо мною верх, и от этого стучали зубы.
Стефан играл медленную мелодию, совсем как вторая часть бетховенской Девятой симфонии, только его мелодия была более торжественной, словно он прошелся со мной по этому паркету, не блестевшему в то время и считавшемуся безнадежным при том уровне химических и механических средств. Кажется, уже наступил 1950-й? Нет.
Я смотрела на газовую горелку в комнате матери, и вид оранжевого пламени заставлял меня морщиться и прикрывать глаза, хотя я стояла в противоположном углу. О пожаре даже подумать страшно! Как тогда вынести Катринку, и ее, пьяную, и Розалинду… Кстати, где она? Она не сохранилась в памяти. Я была там одна и знала, что в доме старая проводка: об этом часто и довольно беспечно говорили за обеденным столом. «Этот дом настолько высох, – как-то раз сказал отец, – что вспыхнет как спичка».
«Что ты сказал?» – переспросила тогда я.
Мать принялась разубеждать нас в обратном, прибегая к утешительной лжи. Но стоило ей включить утюг, как в доме начинала мигать каждая тусклая шестидесятиваттная лампочка, а когда мать напивалась, то могла выронить сигарету или забыть выключить утюг; изоляция проводов наполовину стерлась, из старых розеток так и сыплются искры. Что, если пламя займется, а я не сумею вытащить Катринку из манежа, а мать будет кашлять в дыму и не поможет мне – будет только кашлять, как кашляет теперь.
В конце концов, как мы теперь оба знаем, я действительно ее убила.
В ту ночь я слышала, как она борется с нескончаемым отрывистым кашлем курильщика, затихая лишь время от времени, и то ненадолго, но это означало, что она не спит в другом конце темной комнаты, бодрствует настолько, что может прочистить горло, может кашлять и, наверное, даже пустит меня под одеяло, и я свернусь калачиком рядом с ней, хотя накануне весь день она проспала в пьяной отключке, да, теперь я знала, что это было именно так, что она провалялась весь день в постели, потому что так и не оделась – просто лежала под одеялом в розовых панталонах, без лифчика, у нее были маленькие пустые груди, хотя она весь год выкармливала Катринку, а ее голые ноги, которые я прикрыла одеялом, были так опутаны вздувшимися венами, что я не осмеливалась на них взглянуть. Мне было больно видеть эти икры с клубками вспухших вен от того, что мать «выносила троих детей», как сказала она своей сестре Алисии, позвонившей однажды из другого города…
Пересекая комнату, я терзалась страхом, что сейчас из темноты выйдет нечто ужасное и я начну кричать. Я должна была добраться до нее. Я должна была не обращать внимания на оранжевое пламя и неотвязный страх перед пожаром, страх, который накатывал вновь и вновь, и я уже мысленно видела, как дом наполняется дымом, как случилось, когда она подожгла матрас и потом сама его потушила.
Ее кашель был единственным звуком, разносившимся по дому, казавшемуся еще более пустым из-за огромной черной дубовой мебели – стола на пяти выпуклых ножках и величественного старого буфета с толстыми резными дверцами внизу и пятнистым зеркалом наверху.
Когда мы с Розалиндой были совсем маленькие, то забирались внутрь буфета и сидели там среди остатков фарфора и даже одного-двух бокалов, сохранившихся со времен родительской свадьбы. Это было во времена, когда она позволяла нам писать и рисовать на стенах и ломать что угодно. Она хотела, чтобы ее дети чувствовали себя свободно. Мы приклеивали бумажных кукол к стене. Создали свой мирок со множеством персонажей: Мэри, Модин, Бетти, – а потом появилась любимица Катринки, Доун, над которой мы любили хохотать как сумасшедшие. Но это было позже.
Это воспоминание сохранило только мать и меня… Она все кашляла в спальне, а я шла к ней на цыпочках, опасаясь, что она может оказаться настолько пьяной, что голова ее будет безвольно болтаться и ударится о дверную створку и глаза ее закатятся, как у коровы на картинке: круглые, пустые глаза; и это будет уродливо, но мне было все равно, то есть игра стоила того – лишь бы только добраться до нее и устроиться в кровати рядышком. Меня не смущало ее тело с большим животом, варикозными венами и обвисшей грудью.
Она часто ходила по дому в одних панталонах и мужской рубахе; ей нравилось чувствовать себя свободной. Есть вещи, о которых никогда-никогда-никогда никому не рассказываешь.
Отвратительные ужасные вещи, как, например: когда она сидела в туалете и ждала, пока опорожнится кишечник, то всегда держала дверь нараспашку и любила, чтобы мы крутились тут же. А она нам читала, широко расставив ноги, так что были видны волосы на лобке и белые бедра. Розалинда тогда всякий раз говорила: «Мама, запах, запах», пока продолжалась эта дефекация, а мама с журналом «Ридерз Дайджест» в одной руке и сигаретой в другой, наша красавица мама с высоким выпуклым лбом и огромными карими глазами, смеялась над Розалиндой, стремившейся удрать, а после наша мама читала нам еще одну смешную историю из журнала и мы все дружно смеялись.
Всю свою жизнь я знала, что у людей есть излюбленные привычки, связанные с посещением туалета, – например, чтобы все двери были заперты и никого не было рядом; или чтобы в этой маленькой комнате не было окон; а некоторые, вроде мамы, любили, чтобы было с кем поговорить. Отчего это? Не знаю. Если бы только можно было добраться до нее, я была бы согласна на любое неприглядное зрелище. В каком бы состоянии она ни находилась, она всегда производила впечатление чистой и теплой: белая гладкая кожа, блестящие волосы, в которые я любила запускать пальцы. Возможно, мерзость, собиравшаяся вокруг, могла как-то очернить ее, но только не испортить.
Я подобралась к двери. В ее спальне, принадлежащей теперь мне, стояла лишь железная кровать с голыми пружинами под полосатым матрасом. Время от времени она расстилала сверху тонкое белое покрывало, но чаще всего только простыню и одеяло.
Наша тогдашняя жизненная норма – большие толстые белые кофейные кружки с вечно сколотыми краями, обтрепанные полотенца, дырявые ботинки, зеленый налет на зубах. Однажды отец спросил: «Вы что, никогда не чистите зубы?»
Иногда в доме ненадолго появлялась зубная щетка, порой даже две или три, и немного порошка в придачу, и мы все дружно чистили зубы, но потом что-то падало на пол, или терялось, или просто исчезало – и жизнь мерно катилась дальше в густом сером облаке. Мама мыла мне руки в кухонной раковине, как это делала до нее наша бабушка, пока была жива.
Год тысяча девятьсот сорок седьмой…
Год тысяча девятьсот сорок восьмой…
Мы выносили простыни во двор в большой плетеной корзине; руки матери вспухли от того, что она выжимала белье. Мне нравилось играть со стиральной доской в лохани. Мы развешивали простыни на леску, и я держала край ткани, чтобы он не попал в грязь. Мне нравилось бегать между чистых простыней.
Однажды, незадолго до смерти, – заметьте, я перескакиваю вперед на семь лет – мать сказала мне, что видела во дворе странное существо в простынях на двух маленьких черных ножках; она намекала на дьявольское отродье, и глаза ее широко раскрылись от ужаса. Я знала, что она сходит с ума. Я знала, что она скоро умрет. Так и вышло.
Но это было задолго до того, как я подумала, что она может умереть, хотя нашей бабушки к тому времени уже не было на свете. В восемь лет я считала, что люди возвращаются, потому смерть не породила во мне глубокого страха. Этот страх во мне вызывала она, а еще отец, отправлявшийся на ночную работу – он развозил на мотоцикле телеграммы, отсидев положенные часы на почте, или сортировал письма в Американском банке. Я никогда толком не знала, чем именно он занимается после рабочего дня, знала только, что у него дела, что он на двух работах, а по воскресеньям вместе с другими прихожанами обходит дома бедняков. Я хорошо запомнила это, потому что однажды он забрал мои цветные карандаши – мою единственную коробочку! – и подарил ее какому-то «бедному» ребенку, и так горько во мне разочаровался из-за проявленного эгоизма, что презрительно фыркнул, повернулся и ушел из дома.
А где мне было взять еще карандашей в том мире? Далеко-далеко, за каменным пустырем усталости и лени, в грошовой лавчонке, куда я, возможно никого не сумею затащить в ближайшие несколько лет, чтобы купить другие карандаши!
Но отца в доме не было. Горелка служила единственным источником света. Я остановилась в дверях материнской спальни. Я видела горелку. А рядом еще что-то – белое, неясное, блестящее. Я знала, что это, но не понимала, почему оно блестит.
Я шагнула в комнату; теплый воздух никуда не рассеивался за закрытой дверью и фрамугой, на кровати слева от меня, головой к стене, лежала она; кровать стояла там же, где теперь, только она была старая, железная, провисшая и скрипела, а если спрятаться под ней, то можно было разглядеть такие клубы пыли в пружинах, что глаз не оторвать.
Она приподняла голову, ее волосы, пока не остриженные и не проданные, рассыпались длинными темными прядями по голой спине; ее сотрясал кашель, в свете горелки виднелись толстые, как веревки, вены на ногах и розовые штаны на маленькой заднице.
Что там такое лежит у горелки в такой опасной близости? О Господи, оно сейчас займется пламенем, как ножки стула, обуглившиеся дочерна, когда кто-то придвигал его поближе к огню и забывал об этом. В комнате стоял запах газа, пламя горело ярко-оранжевое, и я в ужасе прижалась к двери.
Теперь мне было все равно, разозлится ли она за то, что я спустилась, или нет; если бы она велела мне возвращаться к себе, я все равно бы никуда не пошла – не смогла бы уйти, не смогла бы даже шевельнуться.
Что же там такое блестит? Это оказалась прокладка из мягкого белого хлопкового волокна, называемая «Котекс», которые она носила в штанах, закалывая английской булавкой, когда у нее шла кровь; прокладка была защемлена в середине и, конечно, темная от крови. И все же откуда этот блеск?
Я стояла в изголовье кровати и увидела краешком глаза, как мать приподнялась в кровати. Кашель ее теперь так донимал, что ей пришлось сесть.
– Включи свет, – пьяным голосом велела она. – Задерни шторы, Триана, и включи свет.
– Вон там, – сказала я, – вон там.
Я подошла ближе, указывая на хлопковую прокладку «Котекс», сморщенную в середине и пропитанную кровью. Она кишела муравьями! Вот почему она блестела!
«О Боже, взгляни на это, мама! Муравьи, сплошные муравьи, повсюду муравьи! Ты же знаешь, как эти крошечные неистребимые твари налетают на тарелку, оставленную у двери, и сжирают все дочиста!»
– Мама, смотри, прокладка в муравьях!
Если Катринка это увидит, если Катринка подползет и найдет что-то вроде этого, если увидит кто-то другой… Я подходила все ближе и ближе.
– Взгляни, – обратилась я к матери.
Она все кашляла и кашляла, потом взмахнула правой рукой, словно говоря, чтобы я не обращала внимания. Но нельзя же не обращать внимания на такое: на брошенную в угол прокладку, в которой кишели муравьи. И лежала она совсем близко от горелки. Она могла загореться! А эти муравьи! Нужно их остановить! Нужно избавиться от них! Муравьи могут забраться куда угодно. В то время – в сорок восьмом или в сорок девятом – нужно было крепко-накрепко запираться от муравьев, не позволяя им окончательно заполонить дом. Они сжирали мертвых птиц, как только те падали в траву; они вереницей проползали под дверью и так же, строем, карабкались на кухонный стол, если там оставалась одна-единственная капля патоки.
– Фу! – Я в отвращении поморщила нос. – Только взгляни сюда, мама.
Мне не хотелось дотрагиваться до прокладки.
Она поднялась и подошла ко мне на заплетающихся ногах. Я наклонилась, указывая на прокладку, и сморщилась.
А мать, стоявшая позади, пытаясь успокоить меня, произнесла лишь: «Не обращай внимания», – и зашлась таким кашлем, что, казалось, вот-вот задохнется. Потом она схватила меня за волосы и ударила.
– Но, посмотри, мама! – вскрикнула я, по-прежнему указывая на прокладку.
Она снова ударила меня, потом еще раз и еще… Я согнулась, подняв руки вверх, и на них сыпались удар за ударом.
– Перестань, мама!
Я упала на колени на пол, где пламя горелки отражалось даже в пыльных досках, покрытых старым лаком; я почувствовала запах газа и увидела кровь – сгусток крови, покрытый муравьями.
Она снова меня ударила. Я выставила вперед правую руку и закричала. Я не упала, но моя рука почти коснулась прокладки, а муравьи роились, метались как бешеные по сгустку крови.
– Мама, перестань!
Я повернулась. Мне не хотелось поднимать с пола такую гадость, но кто-то ведь должен был это сделать.
Мать стояла надо мной, пошатываясь, тонкие розовые штаны были натянуты высоко над животом, груди с коричневыми сосками обвисли, волосы спутанной гривой обрамляли лицо. Она все кашляла и яростно твердила, чтобы я убиралась вон, а потом подняла босую ногу и пнула меня в живот – очень сильно. Очень сильно. Очень-очень сильно. Со мной еще никогда в жизни так не обращались.
Эта боль стала концом всему.
Я не могла дышать.
Я умерла.
Я не могла набрать в легкие воздуха.
Я почувствовала боль в животе и груди, но у меня не было голоса, чтобы закричать, и я подумала, что сейчас умру, вот сейчас, сейчас… О Господи! «Ты ведь не хотела этого, мама! – силилась я сказать. – Ты не хотела меня пинать! Ты не могла этого хотеть, мама!» Но я не в силах была даже вздохнуть, не то что заговорить. Я готова была умереть, и моя рука слегка дотронулась до раскаленной горелки, до обжигающе горячего железа.
Мать вцепилась в мое плечо. И тогда я закричала. Я задыхалась и кричала – и теперь я тоже закричала, как тогда… Та прокладка, блестящая от муравьиного роя, и боль в животе, и подступившая к горлу тошнота, готовая вырваться наружу вместе с криком, – все это было там… «Ты ведь не хотела, ты не хотела…»
Я так и не сумела встать.
Нет. Хватит об этом!
Стефан.
Его голос, бесплотный и громкий.
Холодный дом нынешнего времени. Разве в нем стало меньше призраков?
Он стоял согнувшись у кровати. Происходило это теперь, сорок шесть лет спустя, все они давно лежат в могиле, кроме меня и малышки со второго этажа, которая выросла в таком страхе, в такой ненависти ко мне, что я не могла спасти ее от этого, да и не старалась… а он, наш гость, мой призрак, согнулся пополам, вцепившись в резной столбик кровати красного дерева.
Да, пожалуйста, пусть все вернется, мои ажурные покрывала, мои шторы, мои шелка, я никогда, мамочка… она не хотела, она не могла… больно, совершенно не могу дышать, а потом боль, боль, боль и тошнота, не могу шевельнуться!
Рвота.
Нет! Хватит, сказал он.
Он обнял правой рукой столбик кровати и отпустил скрипку, положив ее на большой мягкий матрас поверх покрывала. Теперь он держался за столбик обеими руками и плакал.
– Такая крошка, – сказала я, – она меня не зарезала!
– Знаю, знаю, – рыдал он.
– Подумай о ней, – продолжала я, – голая, страшная, она пинала меня, она пинала меня изо всех сил босой ногой, она была пьяна, а я обожгла себе руку!
– Перестань! – взмолился он. – Триана, перестань. – Он поднес ладони к лицу.
– Неужели нельзя сделать из этого музыку? – спросила я, подходя поближе. – Неужели ты не в состоянии создать высокое искусство из чего-то сугубо личного, постыдного и вульгарного!
Он плакал. Точно так же, наверное, когда-то плакала я. Скрипка и смычок лежали на покрывале. Я метнулась к кровати, схватила их и отступила назад. Он был поражен.
Бледное мокрое лицо. Он уставился на меня. В первую секунду он даже не осознал, что я сделала, а потом приклеился взглядом к скрипке, разглядел ее и понял.
Я поднесла скрипку к подбородку – я знала, как это делается. Я взмахнула смычком и начала играть, заранее ничего не обдумывая, не планируя, не боясь провала. Я начала играть, позволяя смычку, легко зажатому двумя пальцами, летать по струнам. От смычка пахло конским волосом и канифолью. Я перебирала пальцами левой руки гриф, приглушая рыдающую струну, а сама как безумная водила смычком по струнам, отчего родилась песня, связная мелодия, танец, бешеный пьяный танец, когда одна нота следует за другой так быстро, что ими уже невозможно управлять, – дьявольский танец, как тот, что я играла давным-давно на пьяном пикнике, когда Лев танцевал, а я играла и играла и никак не могла остановиться. Сейчас было то же самое и даже больше – сейчас звучала песня, сумасшедшая, стремительная, неблагозвучная сельская песня, дикая, как песни горцев, как странные мрачные танцы, рожденные памятью и снами.
Музыка вошла в меня… «Я люблю тебя, я люблю тебя, мама, я люблю тебя». Это была песня, настоящая правдивая песня, яркая, пронзительная, рыдающая, рожденная скрипкой Страдивари, бесконечная, льющаяся непрерывно, пока я раскачивалась в такт, дико размахивая смычком и перебирая гриф пальцами, мне нравилась, мне безгранично нравилась эта наивная деревенская песня. Моя песня. Он потянулся за скрипкой.
– Отдай!
Я повернулась к нему спиной. Я играла. На секунду замерла, затем провела смычком сверху вниз, отчего скрипка длинно и скорбно завыла. Я играла медленную, печальную фразу, темную и сладостную, и мысленно принарядила мать, отвела ее в парк. Мы шли туда вместе, ее каштановые волосы причесаны, и лицо очень красивое; ни одна из нас никогда не была такой красивой, как она.
Долгие годы уже ничего не значили, пока я играла.
Я увидела, как она плачет, сидя на траве. Она хотела умереть. Во время войны, когда мы с Розалиндой были еще очень маленькими, мы всегда гуляли вместе с ней, держась за руки, и однажды вечером нас по ошибке заперли в темном музее Кабильдо.[20] Она не испугалась. Она не была пьяна. Она надеялась и мечтала. Смерти еще не было. Происшествие она восприняла как приключение. Нам на выручку пришел охранник, и она встретила его улыбкой.
«Проведи размашисто смычком и сыграй такие глубокие ноты, чтобы самой испугаться исторгнутого скрипкой звука».
Он потянулся ко мне. Я пнула его – точно так, как когда-то пнула меня мать. Он откатился назад.
– Отдай! – потребовал он, стараясь удержать равновесие.
Я играла, играла так громко, что не слышала его. Я снова отвернулась и ничего перед собой не видела, кроме нее… «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя…»
Она сказала, что хочет умереть. Мы были в парке – я еще совсем юная, – и она собиралась броситься в озеро.
В том озере иногда топились студенты – оно было достаточно глубоким. От улицы и трамваев нас скрывали деревья и фонтаны. Она собиралась войти в эту грязную воду и утонуть.
Она хотела утопиться, и отчаявшаяся Розалинда, хорошенькая пятнадцатилетняя Розалинда, вся в блестящих кудряшках, все умоляла и умоляла ее не делать это. У меня уже оформились небольшие грудки, но бюстгальтер я не носила. В то время я его еще ни разу не надевала.
Спустя сорок лет – или даже больше – я стою здесь. Я играю. Я ударяю смычком по струнам. Я притоптываю в такт ногой. Я заставляю скрипку рыдать, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону.
В парке, возле омерзительной беседки, где старики мочились, а потом с похотливыми взглядами околачивались поблизости, желая продемонстрировать зажатый в кулаке обвисший пенис («Не обращай на них внимания»), – возле той беседки я качала Катринку и маленькую Фей на качелях, на маленьких деревянных качелях со скользящей планкой впереди, какие делают для малышей, чтобы они не вывалились; до меня долетал запах мочи, а я раскачивала обеих по очереди, один раз толкну Фей, другой раз – Катринку. А матросики все никак не оставляли меня в покое – мальчишки едва старше меня, простые юнги, которых в те дни всегда можно было встретить в порту, английские парни, а может быть, и откуда-нибудь с севера, не знаю, парни, гулявшие по Кэнал-стрит с сигаретами в зубах, – в общем, самые обычные ребята.
– Это твоя мать? Что с ней такое?
Я промолчала. Я хотела, чтобы они ушли, и даже не придумала, что можно ответить. Просто смотрела перед собой и продолжала толкать качели.
Отец в тот день выставил нас из дома едва ли не силой, сказав при этом: «Уведите ее куда-нибудь. Я должен здесь прибраться. Такую грязь терпеть больше нельзя». Мы знали, что она мертвецки пьяна, но он все равно заставил нас уйти. «Я возненавижу тебя до конца своих дней», – со слезами в голосе заявила отцу Розалинда. Тем не менее мы все вместе посадили мать в трамвай, и она, пьяная, полусонная, всю дорогу раскачивалась и кивала неизвестно кому.
Что тогда думали люди о нетрезвой женщине с четырьмя девочками? На ней, наверное, было какое-то приличное платье, но все же я помню только ее волосы, аккуратно убранные с висков, и плотно сжатые губы. И еще то, как она, вздрагивая, просыпалась и выпрямлялась, но через секунду снова заваливалась вперед с остекленевшими глазами, а маленькая Фей все крепче прижималась к ней, крепче, крепче.
Маленькая Фей, приникшая головой к материнской юбке, маленькая Фей, не задававшая вопросов, и Катринка, серьезная, пристыженная, молчаливая, уже в таком нежном возрасте смотревшая перед собой неподвижным взглядом.
Когда трамвай доехал до парка, мать сказала: «Приехали!» Мы все направились с ней к выходу через передние двери – так как нам было удобнее. Я помню церковь на другой стороне улицы, а напротив – красивый парк с колоннадами, фонтанами и ярко-зеленой травой, куда она раньше часто нас водила.
Но что-то было не так. Трамвай замер. Пассажиры на деревянных скамьях смотрели на нас с любопытством. Я стояла на тротуаре и, задрав голову, пыталась увидеть, в чем там дело. Розалинда! Она сидела на задней скамье, смотрела в окно и делала вид, что не имеет к нам никакого отношения. Она не обращала ни малейшего внимания на маму, а мама, словно вовсе не была пьяна, сказала: «Розалинда, дорогая, пошли».
Водитель ждал. Он стоял на своем месте в кабине, перед ветровым стеклом вагона, и ждал. В то время водители трамваев стоя управляли трамваем с помощью двух рычагов. Я схватила Фей за ручку. Еще секунда – и она вышла бы на проезжую часть. Катринка, розовощекая и беленькая, угрюмо сосала большой палец и равнодушно наблюдала за происходящим.
Мать прошла в конец вагона. Розалинда сдала позиции. Ей пришлось подняться и выйти.
И вот теперь, когда мать, повалившись на траву в парке, рыдала и грозила утопиться, Розалинда утешала ее, умоляла не делать этого.
Мальчишки-матросы спрашивали, что случилось, кем приходится мне эта странная женщина и почему она так рыдает, предлагали помощь.
Я отказалась. Я не нуждалась в их помощи! Мне не нравилось то, как они смотрели на меня. Мне было всего тринадцать. Я не знала, что им нужно. Я не понимала, почему они обступили меня со всех сторон – меня и двух малышек. А мать чуть поодаль лежала на боку, и ее плечи тряслись. Я слышала, как она всхлипывает. У нее был тихий прелестный голос. Наконец боль постепенно начала угасать, хотя при воспоминании о том, как Розалинда попыталась остаться в трамвае, о том, что мать напилась и хотела умереть, а отец все же выставил всех нас из дома, на душе еще скребли кошки.
– Отдай! – бушевал он. – Отдай мне скрипку!
Так отчего же он ее не возьмет? Я не знала. И не хотела знать.
Я продолжала играть хаотичный танец джигу, притоптывая, подскакивая, как это делала в кино глухонемая Джонни Белинда,[21] подчиняясь вибрациям скрипки, которые только и могла улавливать. Танцующие ноги, танцующие руки, танцующие пальцы, дикий, безумный ирландский ритм, хаос. Танцую в спальне, танцую и играю, размахивая смычком, пальцы бегают по грифу сами по себе, смычок движется сам по себе, да, поддай, поддай, как тогда говорили на пикнике, зажигай, поддай.
Пусть так и будет. Я все играла и играла.
Он цепко схватил меня, но сил, чтобы меня побороть, у него не хватило.
Я попятилась к окну и прижала скрипку со смычком к груди.
– Отдай, – сказал он.
– Нет!
– Ты не умеешь играть. Все это делает скрипка, а не ты. Она моя, моя.
– Нет.
– Отдай скрипку! Она моя!
– Тогда я ее разобью!
Я крепче прижала руками скрипку, выставила вперед локти и смотрела на него расширенными глазами. Конечно, я вовсе не собиралась ее ломать, но он ведь не мог это знать. Должно быть, ему показалось, что я не шучу.
– Нет, – сказала я. – Я играла на ней, играла так и раньше, я исполняла свою версию этой песни.
– Ничего подобного, лживая шлюха! Отдай сейчас же скрипку! Будь ты проклята! Я уже сказал, она моя! Тебе нельзя брать в руки такую вещь.
Меня сотрясала дрожь, пока я на него смотрела. Он протянул ко мне руки, а я забилась в угол, все крепче сжимая хрупкий инструмент.
– Я раздавлю ее!
– Ты этого не сделаешь.
– А какое это будет иметь значение? Это ведь призрачная вещь, не так ли? Скрипка такой же призрак, как и ты. Я хочу снова на ней сыграть. Я хочу… просто подержать ее. Ты не можешь забрать ее…
Я подняла скрипку и снова прижала ее подбородком к плечу. Рука призрака потянулась ко мне, и я опять пнула его – по ногам. Он попытался увернуться. Тогда я провела смычком по струнам, заставив их издать дикий вопль, длинный ужасный вопль, а затем медленно, закрыв глаза, не обращая на него внимания, крепко удерживая скрипку каждым пальцем и каждой клеточкой своего естества, я заиграла. Очень тихо и медленно – наверное, какую-то колыбельную: для нее, для меня, для Роз, для моей обиженной Катринки и хрупкой Фей. Песню сумерек, похожую на старое стихотворение, которое негромким голосом читала когда-то мать – еще до того, как закончилась война и отец вернулся домой. Я услышала, что звук стал насыщеннее, сочнее и круглее. Да-да, то самое туше, как раз такое, как нужно, – когда дотрагиваешься смычком до струн, почти не оказывая на них давления, и одна фраза следует за другой. Мама, я люблю тебя, люблю тебя, люблю! Он никогда не вернется домой. Нет никакой войны, и мы всегда будем вместе. Высокие ноты выходили на редкость тонкими и чистыми, необыкновенно яркими и в то же время печальными.
Она ничего не весила, скрипка, – она лишь слегка давила на плечо, отчего я почувствовала головокружение. Но песня вела меня вперед. Я не знала нот, не знала мелодий. Я знала лишь эти блуждающие фразы горя и меланхолии, эти бесконечные сладостные гаэльские стенания, вплетавшиеся одно в другое. Но песня лилась, всемилостивый Боже, она лилась и лилась, как… как что?.. как кровь, как кровь на загаженном коврике. Как нескончаемый поток крови из женской утробы… Или из женского сердца? Не знаю.
В последний год жизни месячные у нее случались нерегулярно. То же самое происходило совсем недавно и у меня. Теперь я бездетна: в моем возрасте уже невозможно родить, и не будет у меня моей живой кровиночки. Что ж, как есть, так и есть.
Как есть, так и есть.
А музыка звучала!
Что-то легко скользнуло по моей щеке. Его губы. Я локтем отшвырнула его к кровати. Он был неловок, растерян и, цепляясь за прикроватный столбик в попытке подняться на ноги, испепелял меня взглядом.
Я перестала играть, последние ноты еще долго звенели. Великий Боже! За всеми нашими блужданиями пролетела длинная ночь. Луна притаилась в зарослях лавровишни, спрятавшихся в огромной тени соседнего здания, в тени стены современного мира, способного затмить, но не способного разрушить этот рай.
Жалость, которую я испытывала к матери, горе, охватившее душу в тот момент, когда мать пнула меня, восьмилетнюю девочку, в этой самой комнате, растекались эхом тех нот, что звенели в воздухе. Мне оставалось только поднять смычок. Все получалось естественно.
Он стоял, прижавшись в страхе к противоположной стене.
– Либо ты вернешь мне скрипку, либо, предупреждаю, я заставлю тебя поплатиться!
– Ты кого оплакивал – меня или ее?
– Верни скрипку!
– Или это было сплошное уродство? Что это было?
Наверное, это была маленькая девочка, потерявшая способность дышать и в панике сжимающая свой живот, когда ее рука случайно коснулась раскаленного железа открытой горелки. Какая это все-таки маленькая печаль в мире ужасов, и все же из всех воспоминаний не было ни одного более тайного, ужасного, невысказанного.
Я принялась тихонько напевать: «Хочу играть». И тихо начала, осознав, как это просто: мягко скользить смычком по струне ля и по струне соль и сыграть всю песню только на одной нижней струне, если захочу, и добавить легкого скрежетания; да, оплакивай растраченную жизнь, я слышала ноты, я позволила им удивить себя и выразить свою душу одним аккордом за другим, да, приди ко мне, пробейся к моему сознанию через это и дай мне обрести себя. Она и года не прожила после того, как проплакала в парке, даже одного года, и в тот последний день никто не проводил ее до ворот.
Мне кажется, я пела, пока играла. «О ком ты плакал, Стефан, – пела я, – кого оплакивал – ее, меня или убогость и уродство?» Скрипка будто срослась с рукой, пальцы, такие гибкие и точные, словно превратились в крошечные подковы, бьющие по струнам, и музыка звучала в ушах не в скрипичном и не в басовом ключе – такой невыразительный звук, древний и совсем не подходящий для этой мелодии, которая в то же время поражала и уносила меня с собой, как случалось каждый раз, когда я слышала пение скрипки, только теперь скрипка пела в моих руках!
Я видела ее тело в гробу. Нарумянена как проститутка. Гробовщик сказал: «Эта женщина проглотила собственный язык!» И голос отца: «Она так плохо питалась, что лицо почернело. Пришлось нанести слишком много грима. Взгляни, Триана, как все это нехорошо. Взгляни. Фей ее просто не узнает».
А чье это на ней платье? Темно-красное. У нее никогда такого не было. Платье тетушки Элвии. А ведь ей не нравилась тетушка Элвия. «Элвия сказала, что ничего не смогла найти в шкафу. У твоей матери были какие-то вещи. Как же иначе? Неужели у нее не было вещей?»
Инструмент казался совершенно невесомым, его так легко было удерживать на месте, извлекая поток звуков, знакомых обволакивающих звуков – тех самых, что подхватывали мужчины и женщины с гор и танцевали под них в детстве, еще до того, как научились читать и писать, а возможно, и говорить. Я слилась со скрипкой, а она со мной.
Платье тетушки Элвии… Воспоминание, вызывающее отвращение, не слишком сильное, но все же незабываемое, – последний отвратительный штрих, горькое свидетельство невнимания.
Почему я не накупила ей платьев, почему не вымыла ее, не помогла ей, не поставила ее на ноги? Что со мной было не так? Одним неразделимым, целостным потоком музыка несла с собой обвинение и наказание.
«А разве у нее были вещи?» – холодно спросила я у отца. Черная шелковая комбинация была – я помнила. Летними ночами мать сидела в ней под лампой, с сигаретой в руке. Вещи? Пальто, старое пальто.
Господи, как я допустила, что она так умерла? Мне ведь было четырнадцать. Достаточно взрослая, чтобы помочь ей, любить ее, вернуть ее к жизни.
Пусть себе слова тают. Это особый талант: позволить словам растаять. Пусть великий звук расскажет всю историю.
– Отдай скрипку! – вскричал Стефан. – Иначе, предупреждаю, я заберу тебя с собой.
Я остановилась в изумлении.
– Что ты сказал?
Он молчал.
Я начала напевать, по-прежнему легко удерживая скрипку между плечом и подбородком.
– Куда? – мечтательно спросила я. – Куда ты меня заберешь?
Я не стала дожидаться ответа.
Я заиграла тихую песню, не нуждавшуюся ни в каких сознательных стимулах, – просто сладостные короткие ноты, следовавшие одна за другой с легкостью, словно поцелуи, когда мы приникаем губами к ручкам, щечкам, горлышку младенца Я словно держала маленькую Фей на руках и целовала ее, целовала, целовала… Боже мой, мама, смотри: Фей проскользнула сквозь рейки своего манежа! Она снова у меня на руках. Но ведь это Лили! Или Катринка, сидевшая в темном доме одна с маленькой Фей, когда я вернулась из школы. Рвота на полу.
Что с нами стало?
Куда девалась Фей?
– Мне кажется… Наверное, тебе следует начать наводить справки, – сказал когда-то Карл. – Уже два года, как твоя сестра исчезла. Думаю… Боюсь, она не вернется.
– Вернется.
Вернется! Вернется! Вернется!!!
Именно эти слова произнес врач, когда Лили неподвижно застыла под кислородной маской:
– Она не вернется.
Пусть об этом кричит музыка, пусть она откроет путь безысходному горю, придав ему новую форму.
Я открыла глаза, продолжая играть и глядя вокруг – на все, что было в этом странном сияющем и чудесном мире. Я не называла вещи, которые видела, а просто рассматривала их очертания в свете, струившемся из окон. Трюмо из моей жизни с Карлом, а на нем портрет Льва и его красивого сына, высокого старшего мальчика со светлой шевелюрой, как у Льва и Челси, того самого, которого назвали Кристофером.
На меня набросился Стефан.
Он схватил скрипку, но я держала ее крепко.
– Она сейчас сломается! – сказала я и рывком высвободила инструмент. Твердая, легкая, ощутимая вещь, полная жизни, словно оболочка сверчка, прежде чем она от него отделится. Скрипку можно было раздавить быстрее, чем стекло.
Я попятилась к окнам.
– Я сейчас ее разобью – и тогда кому будет хуже?
Он обезумел.
– Ты не знаешь, что такое призрак, – сказал он. – Ты не знаешь, что такое смерть. И ты что-то бормочешь о смерти, словно это колыбелька. А смерть – это вонь, ненависть и распад. Твой муж, Карл, превратился в прах. В прах! А твоя дочь? Ее тело разбухло от газов и…
– Нет, – возразила я. – Скрипка у меня, и я умею на ней играть.
Он пошел на меня, весь подобравшись, на какую-то секунду его лицо смягчилось от удивления. Темные гладкие брови вовсе не хмурились, а глаза с длинными темными ресницами неподвижно уставились мне в лицо.
– Предупреждаю, – сказал он глухим суровым голосом, хотя до сих пор его взгляд не был таким открытым и полным боли. – Ты завладела вещью, которая досталась тебе от мертвых. Ты завладела вещью, которая родом из моего царства, отнюдь не из твоего, и если сейчас ты ее не вернешь, то я заберу тебя с собой. Я заберу тебя в свой мир, в свои воспоминания, в свою боль – и тогда ты узнаешь, что такое страдания, ты, несчастная дуреха, ты, никчемная тварь, воровка, жадное мрачное, отчаявшееся существо; ты больно ранила тех, кого любила, ты позволила умереть Лили. Ты причинила ей боль. Вспомни ее бедро, ее лицо, когда она взглянула на тебя снизу вверх. Ты была пьяна, а взялась укладывать ее на кроватку, и тогда она…
– Заберешь меня в царство мертвых? И это не ад?
Личико Лили… Я слишком грубо опустила ее в кроватку; от лекарств все ее косточки стали хрупкими. В спешке я причинила ей боль, а она просто посмотрела на меня снизу вверх, безволосая, больная, испуганная, – крошечное пламя свечи, а не ребенок, прекрасная в болезни и здравии. А я действительно напилась, Господи, из-за этого гореть мне в аду вечно, всегда, ибо я сама стану раздувать огонь собственных вечных мук. Я с шумом втянула воздух. Я не делала этого! Не делала!
– Нет, делала! В тот вечер ты была с ней груба, ты толкнула ее, напившись. И это ты! Ты, которая клялась, что никогда не позволишь ребенку пережить то, что по вине пьяной матери довелось выстрадать тебе самой…
Я подняла скрипку и ударила смычком по струне ля, которая пронзительно вскрикнула, – высокая струна, металлическая струна. Возможно, любая песня – это всего лишь вид крика, причесанный вопль; когда скрипка берет верхнюю магическую ноту, она может быть резкой, как сирена.
Он не сумел меня остановить, ему просто не хватило сил; рука затрепетала поверх моей, но он ничего не сделал. Вот видишь, призрак, фантом, скрипка оказалась сильнее тебя самого!
– Ты разорвала завесу, – выругался он. – Предупреждаю. То, что ты держишь в руках, принадлежит мне, и эта вещь, и я сам – мы оба из другого мира, как тебе известно. Одно дело понимать, и совсем другое – отправиться со мной.
– И что я увижу, когда пойду с тобой? Такую боль, что отдам тебе скрипку? Ты приходишь сюда, предлагая мне скорее безысходность, чем отчаяние, и при этом думаешь, что я стану тебя оплакивать?
Он прикусил губу, не решаясь сразу заговорить, ему хотелось придать вес своим словам.
– Да, ты увидишь, ты увидишь… что отличает боль, а что такое… они…
– Кто это – они? Кто эти ужасные создания, которые изгнали тебя из жизни, чтобы ты потом, прихватив эту скрипку, явился ко мне в личине утешителя и поверг меня в уныние, когда я видела плачущие лица, мою мать? Я тебя ненавижу… мои худшие воспоминания.
– Ты наслаждалась, мучая себя, ты сама придумывала кладбищенские картины и поэмы, ты распевала хвалу смерти своим жадным ртом. Так ты считаешь, что смерть – это цветочки? Отдай мою скрипку. Чтобы вопить, используй голосовые связки, а мне отдай мою скрипку.
Мама явилась ко мне во сне два года спустя после своей смерти:
– Ты видела цветочки, моя девочка.
– То есть ты не умерла? – выкрикнула я во сне, но тут же поняла, что эта женщина не настоящая, это не она, я разглядела это по ее кривой улыбке, это не моя мама, она на самом деле умерла.
Эта самозванка была слишком жестока, когда сказала:
– Все эти похороны – сплошное притворство… Ты видела цветочки.
– Отойди от меня, – прошептала я.
– Это моя скрипка.
– Я тебя не звала!
– Нет, звала.
– Я тебя не заслуживаю.
– Это не так.
– Я молилась и фантазировала, как ты говоришь. Я несла свою дань на могилы, и эта дань была с лепестками Я рыла могилы по своим меркам. Ты вернул меня обратно, ты вернул меня к неприукрашенной, неприлизанной правде, и от этого я сделалась больной. Ты лишил меня дыхания! И теперь я умею играть. Я умею играть на этой скрипке!
Я отвернулась от него и заиграла. Смычок летал над скрипкой еще более грациозно, песня лилась. Мои руки знали, что делают! Да, знали.
– Только потому, что она моя, только потому, что она ненастоящая. Ты, строптивица, отдай сейчас же!
Я отступила, продолжая играть неблагозвучную мелодию, не обращая внимания на его отчаянные толчки. Затем, вздрогнув, я от него вырвалась. Мой мозг и мои руки были связаны магическим кольцом, таким же, какое связывало мое намерение и пальцы, мою волю и мастерство; хвала Господу, это случилось.
– Скрипка играет, потому что она моя! – сказал он.
– Нет. Тот факт, что ты не можешь ее вырвать, достаточно красноречив. Ты пытаешься. И все напрасно. Ты умеешь проходить сквозь стены. Ты умеешь играть на этой скрипке. Ты унес ее с собою в смерть, никто не спорит. Но сейчас тебе ее у меня не отнять. Я сильнее тебя. Скрипка в моих руках. Она остается осязаемой, смотри. Послушай, как она поет! А что, если она каким-то образом и была предназначена мне? Ты когда-нибудь думал об этом, ты, злобное хищное существо, ты когда-нибудь любил до или после смерти, настолько любил, чтобы…
– Неслыханно, – сказал он. – Ты ничто, ты случайность, ты одна из сотен, ты воплощение тех людей, которых все восхищает, но которые сами ничего не создают, ты всего лишь…
– Умник какой. И в лице твоем выражается боль, совсем как у Лили, совсем как у матери.
– Это ты виновата, – прошептал он. – Так не должно быть, я бы ушел, я бы исчез, если бы ты попросила. Ты меня обманула!
– Но ты ведь никуда не ушел, тебе понадобилась я, тебе понадобилось меня мучить, ты не уходил до тех пор, пока не стало слишком поздно, и тогда уже я нуждалась в тебе; как ты смеешь так глубоко погружаться в чужие раны. А теперь у меня есть скрипка, и я оказалась сильнее, чем ты! Что-то заставило меня забрать ее, и теперь я не выпущу скрипку из рук. Я умею на ней играть.
– Нет, эта скрипка часть меня, в той же степени, что мое лицо, мое пальто, или мои руки, или мои волосы. Мы призраки, эта скрипка и я, ты даже не можешь себе представить, что они сделали, ты не имеешь права, ты не можешь встать между мной и этим инструментом, ты отдаленно не понимаешь, что это за мука, и они…
Он прикусил губу, его лицо создавало иллюзию, что он сейчас упадет в обморок, так сильно оно побелело, вся кровь, которая не была на самом деле кровью, отхлынула от лица. Он открыл рот.
Мне было невыносимо видеть его боль. Невыносимо. Мне казалось, что я совершила последнюю ошибку, нечто очень дурное, когда увидела, как ему больно, Стефану, которого я едва знала и которого ограбила. Но я все равно не могла вернуть ему скрипку.
Перед глазами все заволокло туманом… Я ничего не чувствовала, кроме прохладной пустоты. Ничего. В голове звучала моя музыка, повтор той самой музыки, которую я сама создала. Я склонила голову и закрыла глаза. Сыграй снова…
– Раз так, ладно, – сказал он.
Я очнулась от пустоты, взглянула на него, и руки крепче сжали скрипку.
– Ты сделала свой выбор, – сказал он, приподняв брови и всем своим видом выражая удивление.
– Какой выбор?
Глава 11
Свет приглушил все краски в комнате; блестящие листья за окнами теряли свои очертания. Запах в комнате и на улице перестал быть одинаковым.
– Какой выбор?
– Пойти со мной. Теперь ты в моем царстве, ты со мной! Я обладаю силой и слабостью, но не могу тебя поразить намертво, зато я могу не хуже ангела сковать тебя чарами и низвергнуть в истинное прошлое, точно так, как это делает твое собственное сознание. Ты довела меня до этого, вынудила силой.
Обжигающий ветер откинул мои волосы назад. Кровать исчезла. Стены тоже. Стояла ночь, и деревья еще какое-то время были видны, а потом тоже исчезли. Холод, лютый холод, а еще перед нами разгорался пожар! Огромное яркое пламя на фоне облаков.
– О Боже, ты не поведешь меня туда! – сказала я. – Только не это! О Боже, тот горящий дом, тот страх, тот старый детский страх пожара! Я разобью эту скрипку в щепки…
Людские крики, звон колоколов. В ночи метались лошади, запряженные в кареты, суетились люди. Пожар был огромный.
Горел большой длинный прямоугольный дом в пять этажей, из всех окон верхнего этажа вырывались языки пламени.
Толпа была из прошлого: женщины с высокими прическами и пышными юбками, расклешенными прямо от высокого лифа, мужчины в камзолах – все охвачены страхом.
– Боже мой! – воскликнула я.
Мне было холодно, ветер хлестал в лицо. Вокруг летал пепел, искры гасли о мое платье. Люди бегали с ведрами воды. Люди вопили. Я разглядела крошечные фигурки в окне огромного дома; они выкидывали вещи в темную толпу, прыгавшую внизу. Вот полетела огромная картина, словно темная почтовая марка, и люди кинулись ее ловить.
Вся просторная площадь была заполнена теми, кто глазел, кричал и стонал, и теми, кто стремился помочь. С верхних этажей полетели стулья. Из одного окна тяжело повисла большая смятая шпалера.
– Где мы? Ответь.
Я присмотрелась к одежде тех, кто пробегал мимо. Мягкие ниспадающие платья прошлой эпохи, до появления корсетов, а на мужчинах камзолы с большими карманами! Даже рубашка на человеке, растянувшемся на носилках, обгоревшая и покрытая кровью, была с мягкими пышными рукавами.
Солдаты носили свои шляпы с широкими полями чуть набок. К пожарищу подъехали большие неуклюжие скрипучие кареты, дверцы с шумом распахнулись, и оттуда повыскакивали люди, чтобы помочь. Это был десант из простолюдинов и благородных господ.
Стоявший неподалеку от меня человек снял с себя тяжелый камзол и набросил на плечи поникшей рыдающей женщины, чье платье было похоже на длинную лилию из мягкого шелка, просторный камзол закрыл оголенную замерзшую шею.
– Разве тебе не хочется зайти внутрь! – сказал Стефан, окидывая меня злобным взглядом. Он дрожал. Он не остался безучастным к тому, что вызвал сам! Он дрожал, но в то же время его терзала ярость. Я по-прежнему держала скрипку, не собираясь расставаться с ней. – Ну же, разве ты не хочешь посмотреть?
Люди толкали, пихали нас и, видимо, не замечали, и все же толчки были такие, словно мы существовали из плоти и крови в их мире, хотя очевидно, что это было не так; такова, видимо, природа иллюзии: обманчивая осязаемость, такая же реальная, как рев пожара.
Люди бегали вокруг горящего дома, а затем к нам приблизился удивительный человек, маленький, рябой, седовласый, неряшливый и в то же время очень властный и сердитый. Он подошел и уставился маленькими круглыми черными глазками на Стефана.
– Боже мой, – сказала я, – я знаю, кто вы. – Секунду он оставался в тени, стоя спиной к пламени, затем переместился так, что огонь высветил его хмурое лицо.
– Стефан, зачем мы здесь? – разгневанно поинтересовался человек. – Почему все это снова происходит?
– Она забрала мою скрипку, Маэстро! – сказал Стефан, с трудом стараясь говорить ровным голосом. – Она ее забрала.
Маленький человечек покачал головой, а когда осуждающе отступил назад, толпа поглотила его, моего ангела-хранителя, моего Бетховена.
– Маэстро! – вскричал Стефан. – Маэстро, не покидайте меня!
Это Вена. Это другой мир. То, что я вижу, не сон: пламя под облака, ведра с водой, мокрая мостовая, в которой отражается пожар, люди, поливающие огонь водой, вещи, передаваемые из окон: беспорядочная череда зеркал, подсвечников, звенящей утвари, переходящей от одного к другому человеку на приставных лестницах.
Из нижнего окна вырвался огонь. Лестница повалилась. Крики. Какая-то женщина сгибается пополам и истошно ревет.
Сотни людей кидаются вперед, но тут же вынуждены отпрянуть, когда тот же самый огонь брызжет из всех нижних окон. Дом вот-вот взорвется. Высокая крыша буквально сожрана огнем! Мне в лицо ударяет порыв ветра, несущий сажу и искры.
– Маэстро! – в панике кричит Стефан, но тот уже скрылся.
Он повернулся разъяренный, убитый горем, жестом позвал меня за собой.
– Идем, ты ведь хочешь увидеть пожар, а еще тебе следует посмотреть, как я впервые чуть не умер ради того, что ты украла у меня, идем…
Мы вошли внутрь.
Вестибюль с высоким потолком был заполнен дымом. По этой причине арочные своды над нами казались призрачными, но в остальном реальными, такими же реальными, как полный гари воздух, от которой мы задохнулись.
Нарисованный языческий рай на потолке, рассекаемый одной аркой за другой, был населен божествами, стремившимися, чтобы их снова было видно, чтобы ослеплять своим цветом, своим телом и крыльями. Огромная лестница была отделана белым мрамором, выпуклая балюстрада, Вена, барокко, рококо, тут не нашлось места ни для парижского изящества, ни для английской строгости, нет, это была Вена – почти русская в своей чрезмерности.
А вот кто-то свалил статую на пол, и я вижу разбившееся мраморное одеяние, разрисованное дерево. Вена на передних подступах Западной Европы, а это один из ее величественных дворцов.
– Да, ты правильно определила, – сказал он, и губы его дрогнули. – Мой дом, мой дом! Отцовский дом. – Его шепот внезапно потонул в топоте ног и треске.
Все, что нас окружало, вскоре тоже почернеет: эти высокие портьеры из кроваво-красного бархата и эта позолоченная отделка. Куда ни взгляни, я везде видела дерево – раскрашенное под золото и гипс дерево, резное дерево в венском стиле, дерево, которое будет гореть, источая характерный запах, как будто никто и не украшал эти стены картинами домашнего блаженства и военных побед в прямоугольных рамах из недолговечного материала.
Жар взорвал толпу, живущую на разрисованных стенах, рифленые колонны, римские своды. Даже своды сделаны из дерева, оно просто раскрашено под мрамор. Разумеется. Это не Рим. Это Вена.
Посыпалось стекло. Осколки летели, кружась и смешиваясь с искрами вокруг нас.
По лестнице с грохотом мчались мужчины на полусогнутых ногах, выставив в стороны локти, они тащили огромное бюро из слоновой кости, серебра и золота, чуть не уронили его, но потом с криками и руганью вновь подхватили.
Мы оказались в огромном зале. О Господи, какое великолепие, но его уже не спасти. Пожар слишком далеко продвинулся, пламя чересчур ненасытно.
– Стефан, идем сейчас же! – Чей это голос?
Повсюду слышен кашель, мужчины и женщины кашляли так, как когда-то кашляла она, моя мать, только здесь был дым, настоящий густой ужасающий дым разрушительного пожара. Дым спускался вниз, хотя ему полагалось оставаться под потолком.
Я увидела Стефана – не того, что был рядом, не того, что впился мне в плечо твердой рукой, не того призрака, что не отходил от меня ни на шаг, словно возлюбленный. Я увидела живого Стефана, воспоминание о нем, запечатленное плотью и кровью, в белой рубашке с жабо и высоким воротником, в жилете. Вся одежда в саже, в другом конце этого зала он разбил стекло большого шкафа и, выхватывая из него скрипки, передавал какому-то человеку, а тот следующему – и так по цепочке, пока скрипка не исчезала в окне.
Сам воздух здесь был врагом, огненным, зловещим.
– Быстрее.
Остальные бросились собирать что только можно. Стефан передал скрипку, вырвав из цепочки затейливый золоченый стул. Он кричал и ругался, остальные несли, что могли, даже стопки нот. Листы неожиданно рассыпались и погибли в сполохе огня – столько музыки.
А над арками высокого потолка нарисованные боги и богини чернели и покрывались морщинами. Со стен шелушился нарисованный лес. Искры поднимались красивыми волнами на фоне обгоревших белых деревянных медальонов.
В потолке образовалась уродливая трещина, из которой тут же вылез отвратительный язык пламени.
Я вцепилась в руку своего спутника, прижалась к нему и оттянула к стене, откуда уставилась на этот новый костер.
Повсюду картины, огромные, в рамах, вделанных в стены, мужчины и женщины в белых париках беспомощно и холодно взирали с этих полотен на нас; посмотри на них, вот эта картина начинает вываливаться из рамы, раздается громкий щелчок, а вот, смотри, стулья, искусно украшенные завитушками, все погибло, дым валом валит из дыры в потолке, клубится и хочет снова подняться, а сам растекается под потолком, закрывая навсегда Елисейские Поля в стиле рококо.
Люди хотели собрать виолончели и скрипки, разбросанные по цветастому ковру, словно их кто-то уронил, спасаясь бегством. Скособочившийся стол. Бальный зал, до блеска натертый пол, выставленные угощения – так и кажется, что сейчас придут гости и начнется веселье. Дым покрывалом спускается вокруг стонущего банкетного стола. Серебро, серебро и фрукты.
Свечи в раскачивающихся люстрах превратились в потоки горячего воска, стекавшего на ковры, стулья, инструменты. Вот капли попали на лицо мальчишки, тот закричал, задрал голову вверх, затем умчался, унося в руках позолоченный рог.
А снаружи ревела толпа – как на параде.
– Боже мой, – вскричал кто-то. – Уже стены горят, даже стены!
Мимо нас промчался какой-то человек в накидке с капюшоном, с него капала вода, пробегая, он коснулся тыльной стороны моей ладони, промелькнули начищенные сапоги; ворвавшись в комнату, он накрыл широкой мокрой простыней Стефана, а потом схватил лютню с пола и метнулся к окну, где стояла лестница.
– Стефан, сейчас же уходи! – приказал он.
Лютня исчезла, спущенная за окно. Человек обернулся, глаза его слезились, лицо было красным, он протянул руку к виолончели, которую в этот момент подавал ему Стефан.
По всему дому прокатилось оглушительное эхо обрушения.
Глаза слепил невероятно яркий свет. За дальней дверью слева бушевал огонь. Шторы на последнем окне со свистом поглотило пламя и дым, на пол, словно копья, посыпались изогнутые карнизы.
Я увидела прекрасные инструменты, музыкальные шедевры, столь блестяще выполненные, что после уже никто, при всей современной технологии электронного века не смог добиться такого совершенства. Кто-то уже наступил на скрипку. Кто-то раздавил виолу – и священная вещь лежит, разломанная в щепки.
И все это через минуту поглотит огонь!
Люстра опасно раскачивалась в ядовитом тумане, а весь потолок над ней заметно подрагивал.
– Уходим! – прокричал какой-то человек. Другой схватил маленькую скрипку, скорее всего детский инструмент, и спасся через окно, тут еще один мужчина с густой шевелюрой и высоким воротником упал на колени на деревянный паркет в елочку. Он кашлял, задыхался.
Молодой Стефан, растрепанный, в камзоле, сплошь усеянном крошечными искрами, умирающими искрами настоящего пламени, накинул яркое мокрое покрывало на кашляющего человека.
– Вставай, вставай! Иосиф, идем, иначе ты здесь погибнешь!
Я чуть не оглохла от рева пожара.
– Слишком поздно! – прокричала я. – Помоги ему! Не оставляй его!
Стефан, мой призрак, стоял рядом со мной и смеялся, закинув руки мне на плечи. Нас разделяла завеса дыма, мы оба стояли в этом облаке, огражденные от опасности и чудовищно разделенные друг от друга; его красивое лицо ничуть не старше того, что принадлежало его двойнику, презрительно улыбалось, глядя на меня, но это была лишь бледная маска страдающего существа, невинная маска того, кто терпел невыносимые муки.
Затем он повернулся и указал на своего энергичного двойника, мокрого, орущего во всю глотку, которого на наших глазах пытались увести из комнаты двое людей, только что появившихся из окна. «Я знаю, я знаю, ты не можешь дышать. Он умрет. Тот, кого ты назвал Иосиф. Он уже мертв, для него слишком поздно. О Боже! Между нами рухнула балка».
Стеклянные двери шкафчиков разлетелись на осколки. Я видела повсюду брошенные скрипки и блестящие яркие трубы. Валторна. Поднос с конфетами. Кубки, сверкающие, нет, полыхающие на свету.
Молодой Стефан вырывался от своих спасителей, протягивал руки, требовал, чтобы ему позволили спасти хотя бы еще один, один-единственный, инструмент с полки. «Да отпустите же меня!»
Он дотянулся до скрипки, до этого Страдивари; осколок стекла соскользнул с полки, когда он выхватил свободной правой рукой инструмент, пока его самого тащили дальше. Ему удалось спасти скрипку и смычок.
Я услышала, как мой призрак рядом лихорадочно вздохнул; неужели он отворачивался, не желая глядеть на собственную магию? А вот я не могла отвернуться.
Внезапно над нами затрещал потолок. Позади в холле кто-то закричал. Смычок, Стефану удалось завладеть и смычком, да, скрипка тоже у него, и тут огромный мускулистый человек, охваченный яростью и страхом, схватил Стефана и перекинул его через подоконник.
Пламя взмывало вверх, совсем как на том ужасном пожаре моего детства, служившем слабой бледной американской копией этого великолепия.
Огонь сжирал все вокруг и поднимался стеной. Ночь окрасилась в алый цвет, опасность нависла над всеми людьми, над всеми вещами; человек вдруг закашлялся и умер, а огонь подступал все ближе и ближе. Вот уже заполыхали причудливые позолоченные диванчики, что стояли рядом с нами, и казалось, будто их обшивка занялась изнутри. Все портьеры превратились в факелы, все окна стали безликими воротами в черное пустое небо.
Я, должно быть, закричала.
Потом крик оборвался, а я все сжимала призрачную скрипку, двойника которой он только что спас на моих глазах.
Теперь мы оказались за пределами дома. Слава Богу. Мы стояли в толпе на площади. Ужас происходящего разогнал ночную тьму. Дамы в длинных платьях поспешно расходились в разные стороны, плакали, обнимались, куда-то показывали.
Мы стояли перед длинным полыхающим фасадом дома, оставаясь невидимыми для рыдающих, обезумевших людей, которые продолжали оттаскивать вещи на безопасное расстояние. Стена в любую секунду могла обрушиться на все те бархатные стулья, выброшенные из окон кушетки и полотна, взгляни на них, великие портреты в сломанных, разбитых рамах.
Стефан обнял меня, словно ему стало холодно, его белая рука легла поверх моей руки, сжимавшей скрипку, но он уже не пытался вырвать у меня инструмент. Он прижался ко мне и дрожал, весь поглощенный зрелищем. Его скорбный шепот перекрывал воображаемый грохот.
– Ты сама все видишь, – прошептал он мне на ухо и вздохнул. – Ты наблюдаешь падение последнего великого русского дома в красавице Вене, дома, пережившего наполеоновское нашествие, заговоры Меттерниха и его бдительных шпионов, последнего великого русского дома, державшего целый оркестр музыкантов, словно официантов, прислуживающих за столом, готовых играть сонаты Бетховена, едва просыхали чернила на нотной бумаге, людей, которые каждый вечер могли играть Баха зевая или Вивальди со взмокшими лбами. Все так и было до того момента, когда одна свечка – заметь, одна-единственная свечка – коснулась шелкового лоскутка, а потом адские сквозняки провели огонь по всем пятидесяти комнатам. Отцовский дом, отцовское состояние, отцовские надежды, связанные с его русскими сыновьями и дочерьми, которые, танцуя и распевая песни на этой границе между Востоком и Западом, так и не увидели своей родной Москвы.
Он придвинулся ближе ко мне, цепляясь правой рукой за мое плечо, а левая по-прежнему была прижата к моей руке, к скрипке, к сердцу.
– Оглянись вокруг, посмотри на другие дворцы, на их окна со ставнями. Видишь, где находишься? В самом центре музыкального мира. Ты там, где Шуберт вскоре сделает себе имя в тесных комнатушках и сразу умрет, так и не найдя меня в моем мраке. Не сомневайся. Ты там, куда Паганини пока не осмелился приехать из страха перед цензурой. Вена, дом моего отца. Ты боишься пожара, Триана?
Я не стала отвечать. Он причинял боль себе, не меньшую, чем мне. Эту боль можно было сравнить разве что с огнем.
Я плакала, но теперь это для меня было настолько обычным делом, что, наверное, мне больше не следует писать об этом в своем повествовании.
Я рыдала. Рыдала и смотрела, как приезжают кареты и увозят убитых горем людей, и женщины в просторных мехах машут из окон экипажей с большими тонкими колесами, а возницы едва справляются с нервными лошадьми.
– Где ты, Стефан? Где ты теперь? Ты ведь выбрался из дома, так где ты? Я не вижу тебя живого!
Я оцепенела, да, но не так, как он, а то, что он сейчас мне демонстрировал, было всего лишь образами из прошлого. Я знала это, но в детстве такой пожар заставил бы меня беспомощно визжать. Что ж, детство давно прошло, и это был кошмар для скорбящей женщины, повод для тихих всхлипываний и душевных терзаний.
Ледяной ветер подхлестывал пламя; одно крыло дома фактически разлетелось, из стен вывалились скобы, окна со скрипом распахнулись, и крыша взорвалась, подняв клубы черного дыма. Обгоревший огромный остов был похож на гигантский фонарь. Толпа отпрянула назад. Люди падали. Кричали.
Последний обреченный человечек соскочил с крыши, промелькнув черным силуэтом в желтом воздухе. Толпа вскрикнула. Кто-то бросился к крошечной падающей головешке, которая была человеком, беспомощным, обреченным человеком, но смельчаков тут же разогнал ослепляющий всполох пламени. Из всех окон нижнего этажа вырывались огненные языки.
На нас обрушился ливень из искр, искры ударялись о волосы, веки. Я загородила от них призрачную скрипку. Искры бились о нас, тяжелые, несущие с собой разрушение, точно так они сыпались на тех, кто был вокруг, в этом видении, в этом сне.
Проснись. Это какой-то трюк. Тебе ведь раньше удавалось развеять эти ясные сны, которые окутывали тебя таким плотным кольцом, что тебе казалось, будто ты умрешь, но ты их стряхивала и жила дальше.
Прогони этот сон.
Я уставилась на загаженную мостовую. Запах лошадиного навоза. От дыма и гари больно дышать. Я оглядела высокие многоэтажные дворцы вокруг нас. Все это настоящее, настоящие фасады в стиле барокко, как и небо над нами, Господи, как и огонь в облаках, это самое страшное последствие катастрофы – огонь в облаках или одна-единственная жертва, а сколько их было здесь. Я вдохнула зловонный дым и заплакала. Я ловила искры руками, и они гасли на холодном ветру. Ветер обжигал веки сильнее, чем искры. Я взглянула на Стефана, моего призрака, и увидела, что он смотрит куда-то мимо меня, словно тоже скован этим адским видением, глаза его остекленели, губы шевелились, словно он в отчаянии шептал: «Неужели нельзя было ничего изменить, неужели все было обречено на гибель?»
Тут он резко повернулся, посмотрел на меня, пойманный в минутной рассеянности. В глазах – печаль и вопрос: вот видишь?
А толпа вокруг продолжала суетиться, не обращая внимания на нас; мы не стали частью этого безумия, не представляли никакого препятствия, мы были всего лишь два создания, способных видеть и ощущать все, что происходило в том мире, испытывая глубочайшее сочувствие.
Что-то промелькнуло у меня перед глазами. Знакомая фигура.
– Ну вот же ты, – закричала я.
Это был живой Стефан, я увидела его вдалеке: молодой Стефан в широком причудливом камзоле с высоким воротником, на безопасном расстоянии от пожара, среди раскиданных вокруг инструментов. Вот старик наклонился, чтобы поцеловать Стефана в щеку, унять его слезы.
Живой Стефан держал в руках скрипку, спасенную скрипку, – молодой Стефан в грязном изорванном парадном наряде. Теперь к нему подошла женщина, завернутая в зеленые шелка, отделанные мехом, и набросила свою накидку ему на плечи.
Молодые люди собирали спасенные сокровища.
На меня обрушился сильный порыв ветра, но не из этого видения. Это сон, да, так просыпайся. Но не можешь. Сама знаешь, что не можешь.
– Конечно не можешь, но разве ты хочешь проснуться? – прошептал Стефан, его холодная рука по-прежнему лежала на моей, в которой была настоящая скрипка. А что же стало с той, с той игрушкой, которую спас юноша?
Сбоку что-то яростно сверкнуло.
Это стоял Маэстро, не более живой в том мире, чем мы. Отдельно от толпы, до ужаса близкий нам, подошедший на такое расстояние, что я разглядела пряди серебристо-черных волос над низким лбом и острые черные глаза, окинувшие нас быстрым взглядом, и бесцветные губы – Господи, мой ангел-хранитель, без кого я даже не могу представить свою жизнь.
Теперь мне не хотелось защититься от этого видения.
– Стефан, к чему все это теперь? – сказал Бетховен, этот маленький человечек, которого я знала, которого знал весь мир по скульптурам и рисункам, всегда изображавшим его хмурым и трагичным; рябой, некрасивый, свирепый, и такой же призрак, как мы. Его глаза уставились на меня, на скрипку, на собственного ученика.
– Маэстро! – взмолился призрак Стефана, еще крепче сжав свои объятия, а пожар тем временем продолжал полыхать и ночь оглашалась криками и колокольным звоном. – Она украла ее! Посмотрите. Смотрите же. Она украла мою скрипку! Заставьте ее вернуть мне инструмент, Маэстро, помогите мне!
Но маленький человечек злобно сверкнул глазами, покачал головой, как уже было раньше, а потом повернулся, презрительно фыркнул, заворчал и снова затерялся в толпе, черном столпотворении бормочущих бессмыслицу, рыдающих людей, затерялся в этом хаосе вокруг нас, а разъяренный Стефан продолжал цепляться за меня, пытаясь сомкнуть пальцы на скрипке.
Но скрипка оставалась у меня.
– Вы отвернулись от меня? Маэстро! – взвыл он. – О Господи, что ты со мной сделала, Триана, куда ты меня привела? Что ты наделала! Я его вижу, а он отворачивается…
– Ты сам открыл эту дверь, – сказала я.
Убитое горем лицо. Беззащитность. Любая эмоция делала его красивым. Он отступил, обезумев, ломая себе руки, действительно ломая, посмотри, как побелели у него пальцы, пока он дикими глазами смотрел, как рушится огромная оболочка дома.
– Что ты наделала! – снова вскричал он и перевел неподвижный взгляд на меня и скрипку. Губы его дрожали, лицо было мокрым. – Ты плачешь? Из-за меня? Из-за пожара? Из-за себя? Из-за них?
Он огляделся, выискивая кого-то в ночи, а затем выкрикнул:
– Маэстро! – Он отступил, всхлипывая, выпятив нижнюю губу. – Отдай скрипку, – прошипел он мне. – Отдай. За два века я ни разу не встретил тень, равную мне по силе и уверенности, ни тогда, ни теперь! А эта тень – сам Маэстро, и сейчас она отвернулась от меня! Маэстро, вы мне нужны, очень нужны…
Он отошел от меня, но не намеренно, просто от отчаяния, пытаясь разыскать взглядом кого-то в толпе.
– Отдай ее мне, ведьма! – не унимался он. – Ты сейчас в моем мире. Вокруг одни фантомы, и ты это знаешь.
– Как и ты, как и он, – сказала я тихим сломленным, даже потерянным голосом, но в то же время не утратившим решимости. – Скрипка у меня в руках, и я не отдам ее. Не надейся.
– Что ты от меня хочешь? – вскричал он. Он вытянул пальцы, сгорбился, из-под темных прямых бровей на меня глядели выразительные глаза.
– Не знаю! – ответила я и заплакала. Мне не хватало воздуха, но наконец я вздохнула полной грудью, и все равно этого было мало. – Мне нужна скрипка. Я играла на ней. Играла в собственном доме, я чувствовала, как подчиняюсь ей.
– Нет! – проревел он так, что казалось, будто он вот-вот сойдет с ума в этом царстве, где мы с ним были одни и никто из живых людей, снующих поблизости, не обращал на нас внимания.
Он опустил голову и обнял меня. Его голова оказалась у меня на плече. Я почувствовала, как на лицо мне упали шелковистые разметавшиеся пряди его волос. Я подняла глаза и увидела молодого Стефана, а рядом с ним живого Бетховена, никаких сомнений, это был он – седовласый живой Бетховен, сутулый, воинственный и полный любви, со спутанной шевелюрой, неряшливо одетый, он обнял своего юного ученика за плечи, а тот рыдал, размахивая скрипкой, словно дубинкой, а люди вокруг них тем временем опускались на колени или присаживались на холодные камни и тоже плакали.
Дым наполнил мои легкие, но меня не коснулся. Вокруг нас вихрем кружили искры, не причиняя нам вреда. Он обнимал меня, дрожащую, очень осторожно, чтобы не раздавить драгоценную скрипку. Он обнимал меня, закрыв глаза и зарывшись головой мне в плечо.
Покрепче обхватив скрипку, я подняла левую руку и положила ему на голову – почувствовав густую, мягкую, бархатную шевелюру, он сотрясался от сдавленных рыданий.
Огонь побледнел, толпа померкла; ночь стала прохладной, не холодной, я ощутила свежесть соленого морского воздуха.
Мы оказались одни. Ни пожара, ни толпы.
– Где мы сейчас? – прошептала я ему на ухо.
Он так и не разомкнул объятий. Казалось, он стоял в трансе. Я почувствовала запах земли, я почувствовала запах старости и тлена, я почувствовала… зловоние мертвечины, но сильнее всего запах чистого соленого ветра, тут же разгонявшего все другие запахи.
Кто-то изумительно играл на скрипке. Кто-то с помощью скрипки творил настоящую магию. Как можно было добиться такой плавной выразительности?
Неужели это мой Стефан? Инструментом владел какой-то шутник, обладающий уверенностью и огромной силой, он разрывал на части мелодию, вызывая скорее страх, чем слезы.
Но его музыка пронзала ночь острее бритвы. Жесткая, безродная, мрачная.
Озорная, веселая, даже полная гнева.
– Стефан, где мы? Где мы теперь находимся?
Мой призрак лишь крепче сжал меня, словно сам не желал ни видеть, ни знать. Он тяжело вздохнул, будто эта безумная мелодия его не тронула, не придала силы его призрачному телу, не захватила его так, как захватила меня.
Нас снова окутал легкий морской ветерок, опять принесший с собой солоноватую сырость, я чувствовала запах моря и наконец разглядела что-то вдали: огромную толпу людей со свечами в руках, длинные накидки, блестящие черные цилиндры, платья с пышными юбками, метущими землю, темные перчатки на руках, защищавших крошечные дрожащие огоньки. То там, то здесь свечи смыкались, освещая небольшие группы людей с внимательными жадными лицами. Музыка звучала сначала хрупко и тонко, затем взрывалась с силой, обрушивалась потоком.
– Где мы? – спросила я. Этот запах… Это был запах смерти, разлагающейся мертвечины. Мы стояли среди мавзолеев и каменных ангелов.
– Это же могилы, смотри, мраморные надгробья! – сказала я. – Мы оказались на кладбище. Кто играет? И кто эти люди?
Но он продолжал плакать. Наконец он поднял голову. Уставился невидящим взором на далекую толпу и только теперь, видимо, услышал музыку, пробудившую в нем сознание.
Далекая скрипка заиграла танец, танец, у которого было название, но я не могла его припомнить, деревенский танец, всегда несущий с собой в любой край какое-то предупреждение о грозящем несчастье.
Не поворачиваясь, только слегка ослабив объятие и глядя через плечо, он заговорил:
– Ты права, мы на кладбище.
Рыдания обессилили его, измотали. Он снова крепко меня обнял, не забывая о скрипке, и у меня даже мысли не мелькнуло, что он попытается ее вырвать.
Он, как и я, не сводил взгляда с далекой толпы. Казалось, он набирается сил от музыки.
– Но это Венеция, Триана. – Он поцеловал меня в ухо, издав тихий стон, как раненое животное. – Это кладбище Лидо. А кто, по-твоему, играет здесь ради эффекта, ради хвалы, ради прихоти? Город, подмятый Меттернихом, наводнен шпионами Габсбургского государства, правительство которого – правительство цензоров и диктаторов – никогда не позволит случиться еще одной революции или еще одному нашествию Наполеона. Так кто же играет здесь, дразня Всевышнего, на священной земле играет песню, которую никто и никогда не благословит?
– Да, с этим нельзя не согласиться, – прошептала я. – Такую музыку никто и никогда не благословит.
От этой мелодии бежали мурашки по телу. Мне захотелось самой сыграть, взять в руки скрипку и присоединиться, словно мы присутствовали на деревенских танцах, где скрипачи могут выйти вперед и сыграть соло. Какое самомнение!
Эта песня разрезала воздух как сталь, но какое мастерство, какая быстрота, какая безграничная и нежная сила. Мне показалось, что у меня сжимается сердце, словно скрипка умоляет меня, умоляет меня, как Стефан, но молит о чем-то более драгоценном, молит обо всем.
Я оторвала взгляд от лиц, освещенных свечами. Мраморные ангелы никого не защитили в этой промозглой ночи. Я протянула правую руку и дотронулась до мраморного надгробья. Нет, это не сон. Все осязаемо, как в Вене. Это есть то самое место, о котором он говорил, Лидо, остров недалеко от Венеции.
Я взглянула на него, а он на меня и показался таким милым и удивленным. Кажется, он улыбался, но я не была уверена. Свечи излучали слабое сияние, к тому же они были далеко. Он наклонился и поцеловал меня в губы. Сладчайшая дрожь.
– Стефан, бедный Стефан, – прошептала я, продолжая его целовать.
– Ты ведь слышишь его, да, Триана?
– Как не слышать! Еще немного, и он возьмет меня в плен, – ответила я, вытирая щеку.
Ветер был гораздо теплее, чем в Вене. Он не обжигал, а нес с собой только свежесть, к которой примешивался слабый кладбищенский запах. Запах моря с запахом могил, что может быть естественнее?
– Кто этот виртуоз? – спросила я и снова поцеловала его.
Он не сопротивлялся. Я подняла руку, дотронулась до его лба, переносицы, на которой сошлись прямые густые брови. Мягкие расчесанные брови. Темные широкие, но не кустистые, ладонь защекотали его длинные ресницы.
– Кто так играет? – спросила я. – Это ведь ты? Мы можем протиснуться сквозь толпу? Позволь мне тебя увидеть.
– Это не я, дорогая, нет, хотя я мог бы дать ему небольшую передышку, в чем ты скоро сама убедишься. Идем же, увидишь сама. Вон я стою, среди зрителей. Еще один его обожатель. В руке свеча, я слушаю и испытываю дрожь, как все остальные, когда он играет, этот гений, любящий вызывать в зрителях дрожь, любящий зрелища кладбища, освещенного свечами. Кто он такой, по-твоему, кого я приехал послушать так далеко от Вены, проделав путь по опасным итальянским дорогам – видишь, какие грязные у меня волосы, как обтрепалось пальто. Ради кого я мог проделать этот долгий путь? Конечно, только ради того, кто зовется дьяволом, одержимым, Маэстро, Паганини.
Я разглядела живого Стефана с горящими щеками и глазами, в которых отражались два одинаковых свечных огонька, хотя в руке у него не было свечи, он сжимал рукой в перчатке запястье другой руки и слушал.
– Только, видишь ли, – произнес мой призрак рядом со мной, отворачиваясь от толпы. – Только, видишь ли… это не совсем одно и то же.
– Понимаю, – ответила я. – Ты на самом деле хочешь, чтобы я все это увидела, ты хочешь, чтобы я поняла.
Он покачал головой, словно не в силах справиться с ужасом, а затем, запинаясь, сказал:
– Я до сих пор на них ни разу не взглянул.
Музыка теперь звучала тихо; ночь подходила к концу, забрезжил рассвет. Я повернулась. Я попыталась разглядеть могилы, толпу. Но тут произошло нечто совсем другое.
Мы оба, призрак и путешественница – возлюбленная, мучительница, воровка (кем еще я там была?), – мы оба были невидимыми зрителями, оставшимися без места, но я по-прежнему продолжала держать в руках скрипку, крепко прижимаясь спиной к его груди, а он так и не разомкнул своих объятий. Его губы прижались к моей шее. Я устремила взгляд вперед.
– Так ты хочешь, чтобы я увидела?..
– Да поможет мне Бог.
Глава 12
Это был узкий канал; гондола свернула с Большого канала на узенькую полоску темно-зеленой вонючей воды между рядами тесно стоящих дворцов с мавританскими окнами, бесцветными в темноте. Огромные тяжеловесные фасады уходили под воду во всем своем великолепии и высокомерии, это Венеция. Стены по обеим сторонам были покрыты густым илом, так что при свете фонарей казалось, будто Венеция поднялась из морских пучин, выставляя под лунный свет ночное гниение со зловещей амбицией.
Я впервые оценила изящество гондолы, этой длинной лодки с высоко задранным носом, хитро скользящей между каменных глыб под раскачивающимися шаткими фонарями.
Молодой Стефан сидел в гондоле и о чем-то жарко беседовал с Паганини.
Сам Паганини, казалось, тоже был захвачен разговором. Паганини с огромным крючковатым носом и большими выпуклыми глазами, как на многих картинах, в этих глазах горящая драма легко побеждала уродство, создавая ауру магнетизма.
В нашем невидимом окне в тот мир призрак, что был рядом со мной, содрогнулся. Я поцеловала пальцы, сжавшиеся на моем плече.
Венеция.
Из высокого забранного ставнями окна, распахнувшегося в ночь идеальным желтым квадратом, швыряла цветы женщина, она что-то кричала по-итальянски, и свет лился на бутоны, сыпавшиеся на виртуоза, и еще долго звенели слова, выкрикнутые особым итальянским крещендо:
– Будь благословен Паганини за то, что он играл бесплатно для мертвых!
Слова, как бусины на шее: середина опускается ниже остальных, а тихий вдох приходится на последнее слово – мертвых.
Остальные вторили этому крику. Наверху распахнулись другие ставни. По крыше бежали люди и сыпали из корзин розы в зеленую воду перед лодкой.
Розы, розы, розы.
От сырых камней вверх взвился смех; в дверях затаились слушатели. В переулках сновали неясные тени, по мосту, под которым проезжала гондола, пробежал какой-то человек. С середины моста свесилась женщина, оголив свою грудь при свете проплывающего фонаря.
– Я приехал, чтобы поучиться у вас, – сказал Стефан, сидящий в гондоле, обращаясь к Паганини. – Я приехал с котомкой за плечами, без отцовского благословения. Я должен был услышать вас собственными ушами. Это не была дьявольская музыка – будь прокляты те, кто так говорит, – это было волшебство, да, древнее волшебство, но дьявольского в нем ничего нет.
Паганини громко рассмеялся, сверкнув в темноте белками глаз. К нему прильнула женщина, так тесно, что казалось, у него слева вырос горб, и только пучок рыжих кудряшек змеился по его плащу.
– Князь Стефановский, – произнес великий итальянец, идол, байронический скрипач, сиречь совершенство, романтическая любовь юных дев, – я слышал о вас и вашем таланте, о вашем венском доме, в котором сам Бетховен представляет свои произведения, слышал, что когда-то Моцарт приходил давать вам уроки. Знаю я вас, богатых русских. Вы черпаете свое золото из бездонных царских сундуков.
– Поймите меня правильно, – взмолился Стефан мягко, уважительно, отчаянно. – У меня есть деньги, чтобы хорошо вам заплатить за эти уроки, синьор Паганини. У меня есть скрипка, собственный Страдивари. Я не осмелился привезти свою скрипку, так как ехал сюда день и ночь, ехал один по почтовым дорогам. Но у меня есть деньги. Я должен был сначала вас послушать, я должен был убедиться, что вы примете меня, что сочтете меня достойным…
– Но князь Стефановский, неужели я должен просвещать вас в истории царей и их князей? Ваш отец никогда не разрешит вам учиться у крестьянина Никколо Паганини. Ваша судьба – служить царю, как издавна повелось у вас в семье. Музыка была всего лишь времяпрепровождением в вашем доме. О, только не надо обижаться, я знаю, что сам Меттерних… – Он наклонился к Стефану и зашептал: – Сам счастливый маленький диктатор играет на скрипке, и играет хорошо, и я тоже играл для него. Но недопустимо, чтобы князь стал тем, кем стал я. Князь Стефановский, я живу этим, своей скрипкой! – Он показал на инструмент в футляре из полированного дерева, очень похожем на крошечный гробик. – А вы, мой красавец русский, должны жить по русским традициям и исполнять русский долг. Вас ждет военная служба. Почести. Служба в Крыму.
Хвалебные крики над головами. Факелы в доке. Дамы в шуршащих платьях мчатся по другому, более крутому мосту. Лифы расстегнуты, чтобы продемонстрировать в ночи розовые соски.
– Паганини, Паганини.
И снова розы летят вниз, а он смахивает их, напряженно вглядываясь в Стефана. Прильнувшая к его боку женщина под плащом сверкнула белой ручкой в темноте и направила ее между ног Паганини, начав перебирать там пальцами, словно играла на лире или на скрипке. Он, видимо, даже не обратил на это внимания.
– Поверьте мне, я хочу получить ваши деньги, – сказал Паганини. – Они нужны мне. Да, я играю для мертвых, но вы ведь знаете о моей бурной жизни, о судебных исках и прочих осложнениях. Но я крестьянин, князь, и не откажусь от своих скитаний, чтобы заточить себя в какой-нибудь венской гостиной вместе с вами – о, эти критичные австрийцы, скучающие австрийцы, те самые австрийцы, которые не дали даже Моцарту заработать на хлеб и масло. Кстати, вы хорошо знали Моцарта? Нет, вам нельзя оставаться со мной. Меттерних, можно не сомневаться, уже успел послать кого-то на ваши поиски в ответ на просьбу вашего отца. Если я ввяжусь в эту историю, то меня просто обвинят в какой-нибудь отвратительной измене.
Стефан был раздавлен, он склонил голову, и в его глубоко посаженных глазах поблескивали огоньки, отражавшиеся от неподвижной, но блестящей воды.
Интерьер венецианской комнаты.
Беспорядок, ноздреватые отсыревшие стены, побеленные мелом, высокий желтый потолок с поблекшими остатками росписи, изображавшей языческую толпу, точно такая роспись вспыхнула яркими красками, прежде чем погибнуть в роскошном венском дворце Стефана. Длинная штора, повешенный на высокий крюк отрез пыльного бордового бархата и темно-зеленого атласа, запутавшегося в его складках, а из узкого окна мне видна бледно-коричневая стена дворца напротив – она стоит так близко, что если высунуться из окна, то можно постучать по деревянным зеленым ставням.
Неубранная кровать, на которой свалены горой вышитые камзолы и мятые льняные рубашки, отделанные дорогим кружевом, столы завалены письмами, сломанными восковыми печатями, повсюду валяются свечные огарки. И везде, абсолютно везде, букеты мертвых цветов.
Но смотри: Стефан играет! Стефан стоял посредине комнаты на блестящем венецианском полу и играл, но не на этой нашей призрачной скрипке, а на другой, но, несомненно, того же мастера. А вокруг Стефана приплясывал Паганини, исполняя насмешливые вариации на тему Стефана. Он затеял соревнование, игру, дуэт, а может быть, и войну.
Стефан исполнял торжественное «Адажио» Альбинони, соль минор, для струнных и органа, только он превратил его в свое соло, переходя от одной части к другой, горько оплакивая свой павший дом, и благодаря этой музыке я видела горящий дворец в Вене, когда вся красота превращалась в головешки. Музыка, спокойная, размеренная, пленяла самого Стефана, и он, видимо, не замечал прыгающую вокруг него фигурку.
Какая музыка! Казалось, достигнут пик боли, которую музыкант раскрывает, сохраняя полное достоинство. Никаких обвинений. Музыка передавала мудрость и глубокую печаль.
Я почувствовала, как у меня подкатывают слезы, мои слезы теперь заменили аплодисменты, превратившись в свидетельство сочувствия к нему, этому мальчику-мужчине, стоящему там, пока итальянский гений кружил вокруг него.
Паганини выдергивал из адажио ниточку за ниточкой и сплетал из них свой собственный каприз, его пальцы так быстро порхали над струнами, что за ними невозможно было уследить, а потом он вдруг с изумительной точностью подхватывал ту самую музыкальную фразу, к которой Стефан, не отступавший от торжественного темпа, только-только приступал. Мастерство Паганини действительно казалось колдовством, как все о нем говорили, и во всем этом – этой одинокой величественной худой фигуре, самом воплощении боли, и Паганини, танцоре, который насмехался, разрывая саван ради ярких нитей, – не чувствовалось никакого диссонанса, а только новизна и великолепие.
Глаза у Стефана были закрыты, голова склонилась набок. Пышные рукава были запятнаны, наверное от дождя, тонкие кружева на манжетах порваны, сапоги облеплены комьями засохшей грязи. Никогда прежде его темные прямые брови не выглядели такими гладкими и красивыми, а когда он заиграл партию органа, то я подумала, что сердце у меня сейчас разорвется, и даже Паганини притих и присоединился к мелодии Стефана, звучавшей в эту минуту наиболее трагично, он вторил ему, играл то на тон выше, то на тон ниже, но всякий раз почтительно.
Музыканты перестали играть, высокий юноша смотрел на второго скрипача в полном изумлении.
Паганини осторожно опустил свою скрипку на покрывало и подушки разобранной кровати – золотисто-синие, с кистями. Его большие навыкате глаза благодушно светились, на устах играла демоническая улыбка. Энергия била в нем ключом… Он потер руки.
– Да, бесспорно, вы одарены! Талантливы!
Тебе так никогда не сыграть! Эти слова прошептал призрак-капитан мне на ухо, а его тело тем временем по-прежнему не отстранялось от моего и молило об утешении. Я не ответила. Продолжала наблюдать разворачивавшуюся передо мной картину.
– Значит, вы будете меня учить, – сказал Стефан на безупречном итальянском, том итальянском, на котором говорил Сальери и ему подобные, том итальянском, которым восхищались немцы и англичане.
– Учить вас? Да, да, буду! Если мы должны покинуть это место, то мы это сделаем, хотя вы сами понимаете, что это означает для меня в подобные времена, когда Австрия во что бы то ни стало намерена удерживать мою Италию под пятой. Сами понимаете. Но скажите мне вот что.
– Да-да?
Маленький человечек с огромными глазами рассмеялся и прошелся по комнате, цокая каблуками; он так сутулился, что казалось, будто у него горб; у него были длинные закручивающиеся на концах брови, словно зачерненные гримом.
– Чему, дорогой князь, мне предстоит вас учить? Вы сами знаете, как играть, да, сами. Вы умеете играть. Чему еще я могу научить ученика Людвига ван Бетховена? Итальянскому легкомыслию, возможно, итальянской иронии?
– Нет, – ответил шепотом Стефан, не отрывая взгляда от метавшегося по комнате человека. – Научите меня смелости, Маэстро, отметать все прочее в сторону. Как печально, как для меня печально, что мой учитель никогда вас не услышит.
Паганини остановился, скривив рот.
– Вы имеете в виду Бетховена.
– Он глух. Глух настолько, что его глухоту не пробивают даже самые высокие ноты, – тихо произнес Стефан.
– И поэтому он не может научить вас смелости?
– Нет, вы не так все поняли! – Стефан протянул ему подаренную скрипку, на которой играл.
– Да, Страдивари, мне его подарили, он так же хорош, как ваш? Нет? – поинтересовался Паганини.
– На самом деле он, может быть, даже лучше, я не знаю, – ответил Стефан и вернулся к прерванной теме. – Бетховен мог бы любого научить смелости. Но сейчас он композитор, его вынудила к этому глухота, как вам известно, глухота заткнула уши виртуозу, так что он уже не мог играть, и оставила его наедине с пером и чернильницей, единственной для него возможностью создавать музыку.
– Мне бы очень хотелось хотя бы раз взглянуть на него издали или сыграть в его присутствии. Но если я сделаю своим врагом вашего отца, то мне никогда не видать Вены. А Вена – это… в общем, после Рима это… Вена. – Паганини вздохнул. – Я не могу рисковать ею, не могу потерять Вену.
– Я все устрою! – едва слышно пообещал Стефан. Он обернулся и посмотрел в узкое окно, окидывая взглядом каменные стены. Каким убогим выглядело это место по сравнению с пряничными коридорами, погибшими в огне, но это был типичный венецианский вид. Красный бархат, грудой лежавший на полу, причудливые атласные туфли, разбросанные по комнате, разрезанный персик – в общем, сплошная романтика.
– Понятно, – произнес Паганини. – Если бы Бетховен все еще играл в Аргентине, Шонбрюнне и Лондоне, если бы за ним бегали женщины, он был бы такой, как я, я не имею в виду сочинительство, он был бы постоянно в центре внимания благодаря своей музыке, своей игре.
– Да, – сказал Стефан, поворачиваясь. – Именно игре я и хочу себя посвятить.
– Дворец вашего отца в Петербурге вошел в легенду. Вскоре ваш отец отправится туда. Вы способны отвернуться от такой роскоши?
– Я никогда не видел того дворца. Вена была моей колыбелью, я уже вам говорил. Однажды я чуть не лишился чувств на кушетке, пока Моцарт музицировал; мне казалось, что сердце вырвется из груди. Послушайте. Я живу этим звуком, звуком скрипки, а не тем, чем живет мой великий учитель, – я не пишу нот для себя или других.
– У вас хватит решимости стать скитальцем, – сказал Паганини, улыбаясь чуть сдержаннее. – Я уверен, но не могу этого представить. Вы русский. Я не сумею…
– Нет, только не отсылайте меня прочь.
– Я не собираюсь. Сначала решите этот вопрос дома. Вы должны! Та скрипка, о которой вы рассказываете, та, что была спасена вами из огня, отправляйтесь за ней домой и получите вместе со скрипкой благословение отца, иначе эти безжалостные богатые будут преследовать нас под тем предлогом, что я отговорил посольского сынка исполнить свой долг пред царем. Вы знаете, что они могут это сделать.
– Я должен заручиться отцовским разрешением, – произнес Стефан, словно делая зарубку на память.
– Да, и Страдивари, Большой Страд, о котором вы рассказывали. Привезите его. Я не стремлюсь забрать скрипку у вас. Видите, у меня тоже есть Страдивари. Но я хочу сыграть и на том инструменте. Я хочу послушать, как вы на нем играете. Привезите его и отцовское благословение, а со слухами мы справимся сами. Можете путешествовать со мной.
– Вы обещаете мне это, синьор Паганини? – Стефан впился зубами в нижнюю губу. – Я располагаю приличной суммой, но однако не состоянием. Если вы мечтаете о русских экипажах и…
– Нет-нет, мальчик. Вы не слушаете. Я говорю, что позволю вам путешествовать со мной и находиться рядом, куда бы я ни поехал. Я вовсе не стремлюсь стать вашим фаворитом, князь. Я бродяга! Таков я и есть, знаете ли. Виртуоз! Передо мной распахиваются двери благодаря тому, что я играю; мне не нужно дирижировать, сочинять, посвящать кому-то свои произведения, городить постановки с визжащими сопрано и скучающими скрипачами в оркестровой яме. Я Паганини! А вы будете Стефановским.
– Я раздобуду ее, я раздобуду скрипку, я заручусь отцовским словом! – пообещал Стефан. – Для него выплачивать содержание – это пустяки.
Он широко улыбнулся, а маленький человечек подошел и покрыл его лицо поцелуями, как типичный итальянец, а может быть, это было чисто по-русски.
– Храбрый красавец Стефан, – сказал он.
Стефан, взволнованный, вернул ему драгоценную скрипку. Взглянув на свои руки, он увидел многочисленные перстни, все с драгоценными камнями. Рубины, изумруды. Сняв один, он протянул его маэстро.
– Нет, сынок, – сказал Паганини. – Мне он не нужен. Я должен жить, должен играть, но тебе нет необходимости подкупать меня, чтобы заручиться моим обещанием.
Тогда Стефан обхватил Паганини за плечи и поцеловал. Маленький человечек зашелся громогласным хохотом.
– Не забудь про скрипку, обязательно ее привези. Я должен взглянуть на этого Большого Страда, как его называют, должен сыграть на нем.
И снова Вена.
Безошибочно узнаваема по чистоте: каждый стул позолочен или выкрашен в бело-золотистые цвета, паркетные полы безукоризненны. Отца Стефана я узнаю сразу, он сидит в кресле у камина, прикрыв колени медвежьей шкурой, и смотрит на сына, тут же в шкафах лежат скрипки, как и раньше, хотя это не тот великолепный дворец, который сгорел, а какое-то временное жилье.
Да, им пришлось там поселиться до переезда в Петербург. Я спешно вернулся, умылся и послал за чистой одеждой, прежде чем подойти к городским воротам. Смотри, слушай. Он действительно выглядел совершенно по-другому, разряженный в яркую одежду по моде того времени, элегантный черный камзол с красивыми пуговицами, жесткий белый воротник и шелковый галстук, никаких лошадиных хвостов или чего-то подобного, волосы блестят и по-прежнему не острижены, но это от долгого пути, хотя и могут служить признаком грядущего отречения от привычного окружения, как волосы современных рок-музыкантов, с одинаковой страстностью выкрикивающих слова «Христос» и «Изгой».
Он боялся отца, который сердито смотрел на него, сидя у огня:
– Виртуоз, бродячий скрипач! Ты думаешь, я приводил в свой дом великих музыкантов, чтобы они обучили тебя этому, чтобы ты потом убежал с проклятым, одержимым дьяволом итальянцем! С этим мошенником, выделывающим фортеля своими пальцами, вместо того чтобы играть ноты! У него кишка тонка, чтобы сыграть в Вене! Пусть им наслаждаются итальянцы. Те, кто выдумал кастратов, способных брать любые ноты, арпеджио и крещендо!
– Отец, просто выслушай меня. У тебя пятеро сыновей.
– Нет, ты так не поступишь, – заявил отец, встряхивая седовласой шевелюрой, рассыпавшейся по плечам. – Прекрати! Как ты смеешь, ведь ты мой первенец. – Но тон его был мягок. – Тебе известно, что царь вскоре призовет тебя на твою первую военную службу. Мы служим царю! Даже сейчас я завишу от его решения восстановить нас в Петербурге! – Он заговорил тише, смягчая голос сочувствием, словно разделявшие их годы придали ему мудрость, позволявшую жалеть своего сына. – Стефан, Стефан, у тебя есть долг перед семьей и императором. Я подарил тебе несколько игрушек для развлечения, а они стали твоей неистребимой страстью!
– Ты никогда не считал их игрушками, наши скрипки, наши фортепьяно, ты привез сюда лучшие инструменты для Бетховена, когда он еще мог играть…
Отец наклонился в своем большом кресле, чересчур широком и приземистом, а потому явно габсбургском. Он отвернулся от огромного красивого камина, доходящего до разрисованного потолка, огонь в котором скрывался за блестящей белой решеткой из глазурованной эмали с ослепительными золотыми завитушками.
Мне казалось, что мы с моим призрачным гидом находимся в этой же комнате, совсем рядом с теми, кого мы так прекрасно видели. Большие широкие окна, запах сдобы, немножко сыровато, но воздух чист.
– Да, – сказал отец, явно с трудом стараясь и дальше говорить по-доброму, резонно. – Я действительно приводил тебе величайших музыкантов, чтобы они учили тебя, развлекали и сделали твое детство ярким. – Он пожал плечами. – Я и сам, как ты знаешь, любил сыграть с ними на виолончели! Я все делал для тебя, твоих сестер и братьев, как это когда-то делали для меня… на стенах моего дома, прежде чем сгореть, висели портреты, выполненные величайшими художниками, и у тебя всегда была самая роскошная одежда и лучшие лошади в нашей конюшне, да, лучшие поэты читали тебе стихи, и Бетховен, несчастный Бетховен, я привел его в дом для тебя и для себя. Но не в этом дело, сын мой. Тобой распоряжается царь. Мы не торгуем в Вене! Мы не таскаемся по тавернам и кофейным домам, где только сплетничают и клевещут! Ты князь Стефановский, мой сын. Сначала тебя пошлют на Украину, как когда-то меня. Ты проведешь там несколько лет, прежде чем тебе доверят более важную государственную службу.
– Нет. – Стефан отпрянул.
– Не делай самому себе больнее, – устало произнес отец, тряхнув седой гривой. – Мы так много потеряли, так много. Почти все, что удалось спасти, мы продали, чтобы покинуть этот город, а ведь только здесь я был счастлив.
– Отец, тогда пусть твоя собственная боль подскажет тебе правильное решение. Я не могу и не хочу отказаться от музыки для какого-то там императора, хоть далекого, хоть близкого. Я родился не в России. Я родился в комнатах, где играл Сольери, куда приходил петь Фаринелли. Умоляю. Мне нужна моя скрипка. Просто отдай мне ее. Отдай мне скрипку. Отпусти меня без гроша в кармане, и пусть все знают, что ты не смог переломить мое упрямство. Тогда на тебя не падет позор. Отдай мне скрипку, и я уйду.
Отец слегка изменился в лице, посуровев. Кажется, где-то рядом прозвучали шаги. Но ни тот, ни другой не обратили на них внимания, продолжая смотреть друг на друга.
– Не теряй самообладания, сын. – Отец поднялся с кресла, медвежья шкура соскользнула на ковер. Вид у него был царский: атласный халат с меховой оторочкой, сверкающие перстни на каждом пальце.
Он был столь же высок, как и Стефан, видимо, в них не было ни капли крестьянской крови, только выходцы с севера, смешавшись со славянами, могли породить таких великанов под стать Петру Великому, настоящие князья.
Отец приблизился к нему, затем отвернулся, бросил взгляд на яркие лакированные инструменты, лежавшие за стеклом богато расписанных в стиле рококо низких шкафчиков. Стены этой комнаты были забраны шелковым штофом, и длинные золоченые полоски поднимались вверх к стенному своду под потолком.
Полный набор инструментов для струнного оркестра. От одного взгляда на них меня охватила дрожь. Но я не смогла отличить эту скрипку среди прочих.
Отец вздохнул. Сын выжидал, видимо приученный не плакать, как он мог бы плакать при мне и как плакал сейчас, находясь со мной в невидимом пространстве, из которого мы наблюдали за происходящим. Я услышала его вздох, но затем разыгравшаяся сцена захватила все мое внимание.
– Ты не можешь уехать, сын мой, – сказал отец, – и разъезжать по миру с этим вульгарным человеком Не можешь. И скрипку ты не получишь. У меня сердце разрывается от того, что приходится говорить тебе это. Но ты замечтался, не пройдет и года, как ты будешь молить о прощении.
Стефан едва мог унять дрожь в голосе, глядя на инструмент.
– Отец, пусть мы и спорим, но скрипка все равно принадлежит мне, это я вынес ее из горящей комнаты, я…
– Сын, скрипка продана, как все инструменты Страдивари, а вместе с ними фортепьяно и клавесин, на котором играл Моцарт, – все продано, уверяю тебя.
Стефан был потрясен, я почувствовала это, глядя на него. Призрак в неприметной тьме рядом со мной был слишком опечален, чтобы насмехаться, он только теснее прижался ко мне и дрожал, словно не мог вынести происходящее – это клубящееся облако, которое ему никак не удавалось затолкать обратно в свой магический котел.
– Нет… как это, продано… только не скрипки, только не… та скрипка, которую я… – Он побелел и скривил рот, прямые темные брови грозно сошлись на переносице. – Я тебе не верю. Зачем, зачем ты мне лжешь!
– Прикуси язык, мой любимый сын, – произнес высокий седовласый человек, опираясь рукой о спинку стула. – Я продал то, что должен был продать, чтобы поскорее убраться отсюда и вернуться в наш дом в Петербург. Драгоценности твоей сестры, украшения твоей матери, живопись, Бог знает что еще, лишь бы хоть что-то спасти для всех вас и впоследствии вернуть то, что у нас было. Четыре дня тому назад я продал торговцу Шлизенгеру скрипки. Он заберет их, когда мы уедем. Он проявил любезность и согласился…
– Нет! – закричал Стефан, сжав ладонями виски. – Нет! – проревел он. – Только не мою скрипку. Ты не можешь продать мою скрипку, ты не можешь продать Большого Страда!
Он повернулся и безумным взглядом окинул длинные разрисованные шкафы с инструментами, лежащими на шелковых подушечках; виолончели стояли прислоненными к стульям, живописные полотна собраны у стены, словно приготовленные к переезду.
– А я говорю тебе, что сделка состоялась! – прокричал отец и, повернувшись, нащупал свою серебряную трость, которую поднял правой рукой сначала за набалдашник, а потом перехватил посередине.
Стефан отыскал глазами свою скрипку, кинулся к ней. Я видела это и тогда же подумала: да, забери ее, спаси от этой несправедливости, этой глупой иронии судьбы, скрипка твоя, твоя… Стефан, возьми ее!
И ты сейчас возьми скрипку. В абсолютной тьме он поцеловал меня в щеку и был слишком сломлен, чтобы возражать. Смотри, что произойдет.
– Даже не вздумай ее тронуть, – сказал отец, наступая на сына. – Предупреждаю! – Он взмахнул тростью, занеся ее над головой как дубинку.
– Ты не осмелишься разбить скрипку, только не Страдивари! – воскликнул Стефан.
Отец вспыхнул яростью от этих слов. Видимо, старого князя возмутило само предположение о возможности такого святотатства.
– Ты моя гордость, – сказал он, опустив голову и делая один твердый шаг за другим, – материнский любимец, ученик Бетховена, ты думаешь, я разобью подобный инструмент! Только тронь его, и увидишь, что я сделаю!
Стефан потянулся к скрипке, но тут на его плечи обрушилась трость. Он пошатнулся от удара, согнулся чуть ли не пополам и отступил. И снова последовал удар серебряной трости, на этот раз он пришелся на висок, и из уха хлынула кровь.
– Отец! – вскричал Стефан.
Я пришла в неистовство в нашем невидимом убежище, мне захотелось ударить отца, заставить его остановиться, будь он проклят, не смейте бить Стефана, не смейте, не смейте.
– Скрипка не наша, я тебе сказал, – кричал отец. – Зато ты мой, мой сын, Стефан!
Стефан закрылся рукой, но в воздухе просвистела трость.
Я, должно быть, закричала, но, конечно, мой крик не смог ничему помешать. Трость с такой силой ударила по левой руке Стефана, что он задохнулся и прижал руку к груди, закрыв глаза.
Он не увидел, как трость нацелилась на его правую руку, которой он прикрыл раненую левую. Удар пришелся по пальцам.
– Нет, нет, только не руки, отец! – закричал он.
В доме поднялась суматоха. Послышался топот, крики.
– Стефан! – закричал женский голос.
– Ты ослушался меня, – сказал старик. – У тебя хватило наглости. – Левой рукой он хватил сына за лацкан камзола, а сын, потрясенный болью, лишь морщился, не в силах себя защитить, тогда старик толкнул сына вперед, и тот упал на комод, опершись об него руками, трость снова ударила Стефана по пальцам.
Я закрыла глаза. Открой их, смотри, что он делает. Одни инструменты изготовлены из дерева, а есть и те, что из плоти и крови. Смотри, что он делает со мной.
– Отец, перестань! – кричала молодая женщина.
Я увидела ее со спины, стройное робкое существо с лебединой шеей и оголенными руками в платье стиля ампир из золотого шелка.
Стефан отступил назад. Он поборол ослепление и боль. Отступил чуть дальше и уставился на раздробленные кровоточащие пальцы.
А его отец тем временем вновь занес над головой трость, готовясь к удару.
Но теперь уже Стефан переменился в лице; в нем не осталось ни капли сочувствия, которое сменилось маской ярости и мести.
– Что ты со мной сделал! – закричал он, размахивая окровавленными бесполезными руками. – Что ты сделал с моими руками!
Отец, как оглушенный, попятился, но лицо его по-прежнему выражало жестокость и упрямство. В дверях комнаты столпились немые зрители – братья, сестры, слуги – не знаю кто.
Вперед попыталась выйти молодая женщина, но старик приказал:
– Назад, Вера!
Стефан набросился на отца и пнул его коленом, так как руки бездействовали, старик отлетел к раскаленной эмалевой печи, тогда Стефан носком сапога ударил отца в пах, старик выронил трость, упал на колени и попытался укрыться от ударов.
Вера пронзительно закричала.
– Что ты со мной сделал, – приговаривал Стефан, – что ты со мной сделал, что ты со мной сделал. – Кровь заливала его руки.
Следующий пинок пришелся старику в челюсть, и он обмяк на ковре. И снова Стефан пнул его, на этот раз удар пришелся по голове, а потом еще один.
Я отвернулась. Я не хотела смотреть, не хотела. Нет, пожалуйста, смотри вместе со мной. Это была тихая мольба. Он уже умер, умер прямо на полу, но тогда я еще этого не знал. Видишь, я снова ударил его. Смотри. Он не шевелится, хотя удар пришелся туда же, куда ударила тебя мать, я пинал его в живот, видишь… но он уже умер к тому времени, я просто не знал.
Отцеубийца, отцеубийца, отцеубийца. В комнату высыпали люди, но Вера развернулась и, вытянув руки, преградила им путь.
– Нет, вы не тронете моего брата!
Это дало Стефану секунду оглядеться. Он поднял глаза, с его рук по-прежнему капала кровь. Бросившись к двери, он оттолкнул оцепеневших слуг и загрохотал по мраморной лестнице.
Улица. Это по-прежнему Вена?
Он уже успел где-то раздобыть пальто и бинты. Пробираясь вдоль домов, он казался таинственной фигурой. Улица была старой, искривленной.
О, моя нежная распутница, у меня было при себе немного золота. Но новость быстро облетела Вену. Я убил отца. Я убил отца.
Это был район Грабен, не сохранившийся до сегодняшнего дня, я узнала это место, где когда-то жил Моцарт, по многочисленным поворотам и закоулкам, очень оживленное днем. Но сейчас стояла ночь, глубокая ночь. Стефан ждал, скрывшись в тени. Наконец появился какой-то человек, он вышел из таверны, откуда донесся неожиданный взрыв веселья.
Человек закрыл за собой дверь в тот мир тепла, пропахший табачным дымом, запахом хмеля и кофе, где царило шумное веселье.
– Стефан! – прошептал он, потом пересек улицу и взял Стефана за руку. – Поскорее покинь Вену. Тебя пристрелят на месте. Царь отдал Меттерниху письменный приказ. В городе полно русских солдат.
– Знаю, Франц, – ответил Стефан, рыдая как дитя, – знаю.
– А твои руки, – продолжал молодой человек, – что-нибудь уже сделано?
– Совсем мало, совсем мало. Они только перевязаны, кости даже не вправлены. Для меня все кончено. – Он стоял неподвижно, глядя вверх на крошечную полоску неба. – Господи, как могло такое случиться, Франц, как? Как я мог дойти до этого, когда всего год назад мы все были на балу, исполняли музыку, даже Маэстро почтил нас своим присутствием, утверждая, что ему нравится следить за движением наших пальцев! Как!
– Стефан, скажи мне, – произнес молодой человек, которого звали Франц, – что на самом деле ты его не убил. Они все лгут, выдумывают. Что-то случилось, но Вера утверждает, что они несправедливы…
Стефан не смог ответить. Он крепко зажмурился и сжал губы. Он не осмеливался дать ответ. Потом он вырвался из рук друга и побежал, его плащ развевался за спиной, сапоги громко стучали по закругленной брусчатке.
Он все бежал и бежал, а мы преследовали его, пока он не превратился в крошечную фигурку в ночи, и звезды ярко светили, когда город исчез.
Стефан оказался в темном лесу, но это был молодой лес, с нежными всходами, с маленькими листочками на ветках и хрустящими листьями под сапогами беглеца. Венский лес, который я отлично знала по многочисленным книгам и музыкальным произведениям и единственному посещению в студенческие времена. Впереди находился город, именно туда пробирался Стефан, прижимая к груди окровавленные руки в грязных бинтах; временами на его лице появлялась гримаса боли, но он боролся с этой болью и наконец дошел до главной улицы и маленькой площади. Было поздно, все лавки давно закрыты, а все маленькие улочки казались мне нарисованными из-за своей старомодности. Стефан куда-то спешил. Он дошел до небольшого дворика, обнесенного забором, никаких замков здесь не было, и он незаметно вошел внутрь.
Каким миниатюрным выглядел этот сельский дом после тех дворцов, в которых происходили увиденные нами ужасы.
В прохладном ночном воздухе, напоенном сосновым запахом и сладким печным дымком он поднял взгляд на освещенное окно.
Оттуда доносилось странное пение, жуткое громкое пение, но очень веселое, полное радости. Так мог петь только глухой. Я знала это место, знала по рисункам, я знала, что здесь когда-то жил и творил Бетховен, а когда мы приблизились, то я разглядела то, что видел Стефан, поднявшийся на крыльцо, – в комнате сидел Маэстро, он раскачивался за своим столом, окунал перо в чернильницу, мотал головой и пристукивал ногой, выписывая ноты; казалось, он находится в горячечном бреду в этом собственном уголке вселенной, где звуки сочетаются в гармонию, совершенно невыносимую для ушей.
В сальных волосах великого композитора пробивалась седина, которую я раньше не замечала, рябое лицо было очень красным, но в его выражении не угадывалось хмурости или гнева. Он снова принялся раскачиваться на стуле, выводя ноты, и продолжал завывать, выстукивая ногой ритм. Юный Стефан подошел к двери, открыл ее и вошел в комнату. Взглянув на Маэстро, он опустился рядом с ним на колени, спрятав забинтованные руки за спину.
– Стефан! – проорал Бетховен. – Стефан, что случилось?
Стефан опустил голову и ударился в слезы, и вдруг, забывшись на секунду, он поднял руку в окровавленных бинтах, словно хотел дотронуться до Маэстро.
– Твои руки!
Маэстро обезумел. Он вскочил, опрокинув чернильницу, и принялся шарить по столу. Разговорник, нет, доску, вот что он искал, это были компаньоны его глухоты, с помощью которых он общался с окружающими.
Но затем он взглянул вниз и в ужасе увидел, что руки Стефана не смогут удержать перо, а юноша тем временем так и стоял на коленях, убитый горем, и мотал головой, моля о пощаде.
– Стефан, твои руки! Что с тобой сделали, мой Стефан?
Стефан поднял руку, отчаянно прося тишины. Но было слишком поздно. Бетховен в панике поднял шум, чем привлек ненужное внимание. Кто-то побежал.
Стефану пришлось удирать. Он на секунду обнял учителя, крепко поцеловал, а затем метнулся в дальнюю дверь как раз в ту секунду, когда распахнулась входная дверь, через которую он вошел.
Он снова спасся, оставив Бетховена рычать от боли.
Тесная комнатка, женская постель.
Стефан лежал, свернувшись клубочком, в своих обтягивающих панталонах и чистой рубахе, его мокрое лицо с приоткрытым ртом утонуло в подушке – неподвижное…
Она – грузная женщина с лицом девочки, приземистая, в чем-то похожая на меня, но молодая, накладывала свежие бинты на его раны. При этом она причитала над ним, над его неподвижностью, над перебитыми ручками и едва сдерживала слезы. Эта женщина любила его.
– Вы должны покинуть Вену, князь, – произнесла она на том немецком, на котором говорили в Вене, благозвучном и окультуренном. – Обязательно!
Он не шелохнулся. Лишь в глазах промелькнула искорка, или, может быть, он просто сверкнул белками – и было похоже, что он умер. Правда, он не переставал дышать.
– Стефан, послушайте меня! – Она перешла на интимные нотки. – Завтра состоятся пышные похороны вашего отца. Его тело будет покоиться в склепе ван Мек, и знаете, что они намерены сделать? Они хотят похоронить вместе с ним и скрипку.
Он широко открыл глаза и уставился на свечку за ее спиной, уставился на терракотовое блюдечко, в котором стояла свеча, на восковую лужицу на дне блюдца. Потом он перевел взгляд на женщину, опершись головой о простую деревянную спинку кровати. Да, в такое бедное жилище он еще нас не приводил. Простая комната, расположенная, скорее всего, над лавкой.
Он смотрел на нее тусклым взглядом.
– Похоронить скрипку. Берта… ты сказала…
– Да, на то время, пока не будет найден его убийца, и тогда они смогут отвезти останки вашего отца в Россию. Сейчас зима, сами знаете, что до Москвы им не добраться. А Шлезингер, торговец, отдал им деньги за инструмент, несмотря на все происшедшее. Они устроили вам ловушку, они думают, что вы придете за скрипкой.
– Какая глупость, – сказал Стефан. – Безумие. – Он сел в кровати, подтянув колени и упершись ногами в бугристый матрас Его волосы рассыпались по плечам, как сейчас, шелковые, нерасчесанные. – Устроить мне ловушку! Похоронить скрипку в гробу рядом с ним!
– Ш-ш, не будьте таким глупым. Они думают, что вы придете украсть скрипку, прежде чем заколотят гроб. Если нет, то она останется в могиле до тех пор, пока вы не придете за ней, и тогда они на вас набросятся. Или она останется лежать с вашим отцом до того часа, когда вас найдут и казнят за совершённое преступление. Это мрачное дело. Ваши сестра и братья безутешны, но, между прочим, не все из них затаили против вас жестокость в своем сердце.
– Да… – задумчиво пробормотал он, припомнив, вероятно, обстоятельства своего побега. – Берта! – прошептал он.
– Но братья вашего отца преисполнены местью – они так и пышут злобой, заявляя, что скрипку следует похоронить с тем, кого вы убили, чтобы вы никогда, никогда больше на ней не сыграли. Они говорят о вас как о беглеце, который обязательно попытается украсть скрипку у Шлезингера.
– Они правы, – прошептал он.
Их внимание привлек какой-то шум. Тут отворилась дверь, и на пороге появился круглолицый человек невысокого роста, коренастый, плотный, в черной накидке. Он выглядел типичным русским – круглые щеки, маленькие глазки. Совсем как современные русские.
Он нес большой черный плащ, перекинутый через руку, который и положил на стол. Плащ был с капюшоном.
Он посмотрел на юношу в кровати, сквозь маленькие стеклышки очков в серебряной оправе, затем перевел взгляд на девушку, которая даже не повернулась, чтобы с ним поздороваться.
– Стефан, – сказал он, снимая шляпу и приглаживая остатки седых волос на розовой лысине, – дом взят под охрану. Солдаты на каждой улице. А скрипача Паганини в Италии донимают расспросами, но он отрицает, что знаком с вами.
– Ему пришлось так сказать, – пробормотал Стефан. – Бедняга Паганини. Впрочем, какое мне до этого дело, Ганс? Наплевать.
– Стефан, я принес вам плащ, большой плащ с капюшоном, а еще немного денег, чтобы вы могли выбраться из Вены.
– Где ты все это раздобыл? – встревожилась Берта.
– Не важно, – ответил человек, бросив в ее сторону снисходительный взгляд. – Достаточно сказать лишь, что не все в вашей семье такие бессердечные.
– Вера, моя сестра. Я видел ее. Когда меня пытались поймать, она преградила им путь. Моя милая Вера.
– Вера говорит, вы должны уехать. Отправляйтесь в Америку, в Бразилию, к португальскому двору – куда угодно, но только туда, где вам как следует подлечат руки и где вы сможете жить. Потому что здесь жизни не будет! Бразилия далеко. Но есть и другие страны. Например, Англия. Отправляйтесь туда, в Лондон, но только уезжайте из Габсбургской империи, непременно. Посмотрите, мы рискуем уже тем, что помогаем вам.
Молодая женщина пришла в ярость.
– Ты сам знаешь, сколько он всего для тебя сделал! – сказала она. – Я не оставлю его. – Женщина бросила сердитый взгляд на Стефана, а он попытался погладить ее забинтованной рукой, но вовремя остановился, и его глаза неожиданно затуманились – то ли от боли, то ли от отчаяния.
– Ну разумеется, – сказал Ганс. – Он ведь наш мальчик, наш Стефан, и всегда им был. Я только хочу сказать, что не пройдет и нескольких дней, как вас обязательно обнаружат. Вена не такая большая, а вы со своими руками, что вы сможете сделать? И вообще, чего вы медлите?
– Моя скрипка, – сказал Стефан убитым голосом. – Она моя, а я не могу ее взять.
– А почему бы тебе ее не взять? – обратилась женщина к коренастому человечку, бросив на него взгляд через плечо. Она все еще продолжала бинтовать левую руку Стефана.
– Мне? Взять скрипку? – переспросил коротышка.
– Разве ты не можешь зайти в дом? Раньше ведь тебе приходилось это делать. Под предлогом, что нужно позаботиться о кондитерских столах. Добавить каких-то особых пирожных. Бог свидетель, когда в Вене кто-то умирает, то удивительно, что не умирают все остальные от переедания сладкого. Зайдешь вместе с пекарями, якобы убедиться, что со сладким столом все в порядке. Это довольно просто. А после проскользнешь наверх в комнату, где выставлен покойный, и заберешь скрипку. Что, если тебя остановят? Скажешь тогда, что ищешь кого-то из семьи, чтобы узнать новости, ты ведь так любил парнишку. Все это знают. Одним словом, добудь ему скрипку.
– «Все это знают», – повторил он. Именно эти слова взволновали человечка. Он подошел к окну и выглянул наружу. – Да, все знают, что именно с моей дочерью он проводил пьяные часы в любое время, когда ему вздумается.
– И дарил мне чудесные вещи за это, которые у меня останутся и будут на мне в день свадьбы! – с горечью сказала она.
– Он прав, – сказал Стефан. – Придется уйти. Мне нельзя оставаться здесь и подвергать вас обоих опасности. Они могут догадаться и прийти сюда…
– Не уверена, – сказала она. – Каждый слуга в доме, каждый торговец, имевший дело с вашей семьей, любит вас. Скорее они примутся выслеживать всех тех француженок, всю ту погань, что явилась вместе с завоевателем, ведь вы у них такая популярная фигура, но никто не подумает о дочке пекаря. Отец прав, вам нужно уехать. А я разве другое говорила? Если вы не покинете Вену, вас поймают в ближайшие дни.
Стефан погрузился в глубокое раздумье. Он попытался опереться на правую руку, но тут же понял свою ошибку и вновь привалился к деревянной спинке. В этой маленькой комнатушке со сводчатым потолком и крошечным окошком в толстой стене он казался чересчур высоким, чересчур изысканным и разъяренным.
Это был молодой двойник моего призрака, блуждающего по огромным комнатам и широким улицам.
Дочь повернулась к отцу.
– Ступай в дом и раздобудь скрипку! – сказала она.
– Ты бредишь! – воскликнул коротышка. – Совсем спятила от любви. Ты глупая пекарская дочка.
– А ты, кто старается строить из себя господина в своем вычурном кафе на Рингштрассе, ты сам знаешь, что у тебя кишка тонка.
– Ничего удивительного, – авторитетно заявил Стефан. – А кроме того, Ганс не сможет отличить одну скрипку от другой.
– Она лежит в гробу! – сказала девушка. – Мне рассказывали. – Она прикусила марлю и разорвала ее пополам, потом завязала еще один тугой узел у него на запястье. Бинты уже успели пропитаться кровью. – Отец, достань ему скрипку.
– В гробу! – прошептал Стефан. – Рядом с ним! – В последних словах слышалось презрение.
Я бы закрыла глаза, но не могла настолько управлять физическим телом. Я держала в руках ту самую скрипку, о которой они говорили, и думала при этом: значит, вот эта вещь, кровавую историю которой мы прослеживаем в то время, скажем в 1825 году или позже, – эта вещь уже лежит в гробу! Наверное, ее успели окропить святой водой, или это случится только во время последних приготовлений? Где ее похоронят? Под одной из венских церквей с сахарно-золочеными ангелочками?
Даже я понимала, что коротышке никогда не добыть скрипку. Но он вовсю пыжился, стараясь защитить себя перед ними и перед своим собственным сердцем; он метался по комнате, выпятив губу и поблескивая стеклами очков.
– Как, каким образом? Нельзя же просто войти в комнату, где лежит князь в гробу, в пышном убранстве…
– Берта, он прав, – мягко произнес Стефан. – Я не могу подвергнуть его такому риску. А кроме того, когда ему это осуществить? И что ему делать – смело войти в дом, выхватить скрипку из-под рук мертвеца и кинуться вон?
Берта подняла на него глаза, молящие и умные глаза с длинными ресницами, ее темные волосы обрамляли побелевшее лицо.
– Наступит час, – сказала она, – глубокой ночью, когда комнаты почти опустеют. Вы сами знаете. Мужчины уснут. Только несколько человек останутся помолиться, но и они, скорее всего, сомкнут веки. Итак, отец, ты отправишься в дом присмотреть за столами. Выберите час, когда уснет даже мать Стефана.
– Нет! – воскликнул Стефан, но зерно упало в благодатную почву. Он поднял глаза, весь захваченный собственным планом. – Подняться на второй этаж, подойти к гробу, забрать скрипку, что лежит рядом с ним, мою скрипку…
– Вы не можете это сделать, – сказала Берта. – У вас нет даже пальцев, чтобы взять ее. – Она была убита ужасом. – Вам даже к дому нельзя приближаться.
Он ничего не сказал. Только огляделся и еще раз попробовал облокотиться на руки, но тут же выпрямился, почувствовав боль. Внимание его привлекла одежда, разложенная на стуле. Он увидел плащ. Тогда прозвучал вопрос:
– Скажи мне, Ганс, скажи мне правду, это Вера прислала деньги?
– Да, и ваша мать все знает, но если вы когда-нибудь заявите об этом вслух, то я погиб; не вздумайте хвастаться, какая у вас добрая сестра, перед кем-нибудь из других тайных друзей. Потому что, если вы так поступите, то ни ваша сестра, ни ваша мать не смогут меня защитить.
Стефан горестно улыбнулся и кивнул.
– Вы знали, – продолжал маленький Ганс, поправляя очки на курносом носу, – что ваша матушка ненавидела вашего отца?
– Разумеется, – ответил Стефан, – но сейчас я ранил ее гораздо сильнее, чем когда-либо ранил отец, разве не так? – Он не стал дожидаться, пока коротышка подберет слова, чтобы ответить, спустил ноги на пол, чтобы встать. – Берта, мне не надеть сапог.
– Куда вы пойдете? – Она перебежала на другую сторону кровати, чтобы помочь. Надела на него сапоги, затем поддержала, пока он поднимался. Она передала ему черный шерстяной плащ, вычищенный и выглаженный, несомненно, его сестрой.
Коренастый мужичонка смотрел на него во все глаза, преисполненный жалостью и печалью.
– Стефан, – сказал он, – весь дом наводнен солдатами, русскими гвардейцами, личными охранниками Меттерниха, полицейскими. Послушайте меня.
Коротышка подошел к Стефану и опустил ладонь на его руку, а когда Стефан поморщился и отвел раненую руку, коротышка, пристыженный, замолчал.
– Пустяки, Ганс. Ты проявил ко мне доброту. Благодарю. Бог не разгневается, глядя на это. Ведь не ты убил моего отца. А что касается моей матушки, то она, как я вижу, меня благословила. Это лучший отцовский плащ, подбитый мехом русской лисицы. Видишь? Вот как она обо мне заботится. Или это Вера передала тебе плащ?
– Это была Вера! Но попомните мои слова. Сегодня же покиньте Вену. Если вас поймают, то не станут устраивать никакого суда! Уж они позаботятся, чтобы вас пристрелили на месте, прежде чем вы скажете хоть слово или заговорит тот, кто видел, как он покалечил вас.
– Мой суд уже состоялся здесь, – сказал Стефан, дотрагиваясь до груди перебинтованной рукой. – Я убил отца.
– Уезжайте из Вены, как я вам сказал. Найдите врача, который сумеет вылечить вам пальцы, возможно, их удастся спасти. Есть ведь другие скрипки для того, кто играет, как вы. Отправляйтесь за море, в Рио-де-Жанейро, поезжайте в Америку или на восток от Истамбула, где никто не станет спрашивать, кто вы такой. А в России у вас есть друзья, друзья вашей матушки?
Стефан, улыбнувшись, покачал головой.
– Все они двоюродные братья царю или его бастарды, все до одного, – ответил он, коротко хохотнув. Я впервые видела, чтобы этот Стефан искренне смеялся. На секунду он стал беззаботным, радость разгладила все морщины на его лице, и он засиял. Его переполняла тихая благодарность к этому встревоженному маленькому человечку. Он вздохнул и оглядел комнату. Так обычно человек, которому скоро предстоит умереть, с любовью оглядывает знакомые вещи.
Берта прикрепила ему жабо, поправила воротники, чтобы они ровно прилегали к шее, и повязала белый шелковый галстук. Потом она взяла черный шерстяной шарф и обмотала ему шею, приподняв блестящие ухоженные волосы и распустив их поверх шарфа. Длинные, в то же время подстриженные на концах волосы.
– Позволь мне отрезать их, – предложила она. Для маскировки?
– Нет… не имеет значения. Под плащом и капюшоном никто меня не разглядит. У меня не осталось времени. Смотри, уже полночь. Ночное бдение, вероятно, уже началось.
– Ты не должен! – воскликнула она.
– Нет, я пойду туда! Или вы меня предадите?
От одного его предположения и она, и ее отец замерли на месте и молча покачали головами, словно клянясь, что не донесут на него.
– До свидания, дорогая, если бы я мог, я бы оставил тебе на память какой-нибудь пустячок…
– Ты оставляешь мне гораздо больше, – тихо призналась она полным смирения голосом, – ты оставляешь мне воспоминания, которые иным женщинам приходится выдумывать или выискивать в книжках.
Он снова улыбнулся, ни разу до сих пор я не видела, чтобы он излучал такой покой. Я не знала, беспокоят ли его руки, но бинты к этому времени снова промокли.
– Женщина, которая лечила мне руки, – сказал он Берте, возвращаясь к своему, – забрала все мои кольца в оплату. Я ничего не мог поделать. Это мое последнее теплое прибежище на ночь, моя последняя минута покоя. Поцелуй меня, Берта, и я пойду. Ганс, я не могу просить тебя о благословении, но давай хотя бы поцелуемся на прощание.
Они все обнялись. Стефан протянул руки, словно собирался взять со стула плащ, но Берта его опередила и вместе со своим отцом набросила плащ ему на плечи и пониже опустила капюшон.
Мне было тошно от страха. Я знала, что сейчас последует. И не хотела это видеть.
Глава 13
Вестибюль огромного дома. Типичный декор немецкого барокко, позолоченное дерево, две фрески друг напротив друга, мужчина и женщина в напудренных париках.
Стефан беспрепятственно вошел в дом, держа руки в карманах. Он строго заговорил по-русски с охранниками, а те растерялись и не знали, как им поступить с этим прилично одетым господином, который пришел отдать дань уважения.
– Господин Бетховен здесь? – спросил Стефан на своем резком русском.
Полное смятение. Охранники говорили только по-немецки. Наконец появился один из царских адъютантов.
Стефан разыграл все как по нотам, не вынимая перебинтованных рук из плаща, он отвесил глубокий поклон по-русски. Люстра под высоким потолком осветила его темную почти монашескую фигуру.
– Я пришел от графа Раминского выразить свое соболезнование, – произнес он по-русски с безукоризненной уверенностью. – У меня также поручение к господину ван Бетховену. Это для меня господин Бетховен написал квартет, который прислал мне князь Стефановский. Прошу вас позволить мне провести несколько минут с моим добрым другом. Я бы ни за что не потревожил семью в такой час, но мне сказали, что бдение продлится всю ночь и я могу зайти.
Он направился к дверям…
Русские гвардейцы вытянулись в струнку, их примеру немедленно последовали немецкие офицеры и слуги в париках.
Лакеи засеменили за гвардейцами, затем поспешили распахнуть двери.
– Господин Бетховен только недавно ушел домой, но я могу вас проводить в комнату, где покоится князь, – произнес русский офицер, явно благоговея перед этим высоким важным господином. – Наверное, мне следует разбудить…
– Нет. Я ведь уже сказал, что не хотел бы нарушать их покой в такой час, – перебил Стефан, оглядывая дом, словно впервые видел его великолепное убранство.
Он начал подниматься по лестнице, его тяжелый плащ, подбитый мехом, изящно колыхался над каблуками сапог.
– Молодая княгиня, – бросил он через плечо русскому гвардейцу, торопливо шедшему за ним, – мы играли с ней в детстве, я обязательно нанесу ей визит, но в более подходящее время. А сейчас позвольте мне только взглянуть на старого князя и помолиться у его гроба.
Русский гвардеец начал было что-то говорить, но тут они подошли к нужной двери. Поздно было возражать.
Обитель покойного. Огромный зал, украшенный золочеными белыми завитушками, благодаря которым венские интерьеры похожи на взбитые сливки; высокие пилястры с золоченым ажурным узором; длинный ряд окон, каждое из которых погружено в глубокую арку под золоченым софитом, напротив расположен оконный двойник в зеркалах, и в другом конце зала двери с двойными створками, точно такие, как те, через которые мы только что вошли.
Гроб помещен на огромный помост, задрапированный собранным в складки бархатом, рядом с гробом на помосте сидит женщина на маленьком золоченом стульчике. Ее голова упала на грудь. На затылке видна единственная нить черных бус. Платье с высокой талией в стиле ампир строгого черного цвета.
Весь помост завален и окружен изумительными букетами цветов, в мраморных жардиньерках стоят строгие лилии, по всей комнате расставлены суровые розы, ставшие частью пышного декора.
В несколько рядов выставлены французские стулья, обитые зеленой или красной парчой, резко контрастирующей с грубоватым немецким интерьером в белых тонах. Горели свечи, одиночные, в канделябрах и в огромной люстре под потолком, массивном сооружении из золота и стекла, похожем на то, которое рухнуло в доме Стефана, залепленном пчелиным воском, чистым и белым, тысячи огоньков робко поблескивали в тишине. В дальнем конце комнаты расположились монахи, сидящие в ряд, они молились вполголоса по-латыни, произнося слова в унисон. Монахи даже не подняли глаз, когда в зал вошла закутанная в плащ фигура и направилась к гробу.
На длинном золоченом диване спали две женщины. Та, что была помоложе, с темными волосами и резкими чертами лица, как у Стефана, опустила голову на плечо другой женщины. Обе они были одеты в траур, но вуали отброшены назад. На платье старшей из них сверкала брошь. Голова с серебристой сединой. Молодая зашевелилась во сне, словно с кем-то споря, но не проснулась, даже когда Стефан прошел мимо на расстоянии нескольких шагов.
Моя матушка.
Подобострастный русский гвардеец не посмел остановить важного аристократа, смело шагавшего к помосту.
Слуги в открытых дверях смотрели перед собой немигающим взглядом, словно восковые куклы, разряженные в голубой атлас донаполеоновской эпохи и парики с тонкими косичками.
Стефан остановился перед помостом. Всего в двух шагах от него дремала девушка на маленьком золоченом стуле, опустив одну руку в гроб.
Моя сестра Вера. Неужели у меня дрожит голос? Взгляни на нее, как она оплакивает отца. Вера. И загляни в гроб.
Мы приблизились в нашем видении к гробу. На меня нахлынул запах цветов, густой пьянящий аромат лилий, других бутонов. Свечной воск, запах детства, от которого кружится голова, так пахло в маленькой часовне на Притания-стрит, этом убежище святости и покоя, где мы опускались на колени вместе с матерью у красивой ограды, а пышные гладиолусы у алтаря затмевали наши маленькие скромные букетики.
Печаль. Глубокая печаль.
Но я ни о чем не могла думать, кроме того, что происходило на моих глазах. Я была рядом со Стефаном в этой его последней попытке раздобыть скрипку и окаменела от страха Закутанная в плащ фигура тихо поднялась на две ступеньки помоста. Сердце в моей груди невыносимо жгло. Ни одно мое воспоминание не могло сравниться с этой болью, с этим страхом перед грядущим, с этой жестокостью и разбитыми мечтами.
Вот мой отец. Вот человек, погубивший мои руки.
Покойный выглядел суровым, но каким-то блеклым. Смерть только заострила его славянские черты, щеки впали, нос казался еще тоньше благодаря, скорее всего, стараниям гримера, губы были неестественно накрашены, их уголки опущены вниз, и дуновение жизни уже не могло их коснуться и искривить в легкую усмешку, с которой он обычно разговаривал с людьми до того, как все это случилось.
Очень сильно раскрашенное лицо, а тело убрано с чрезмерной пышностью мехами, драгоценными каменьями и бархатом – одним словом, пышность в русском стиле, где все должно сверкать в знак богатства. Руки, унизанные кольцами, вяло лежали на груди, придерживая крест. Но рядом с ним в атласном гнездышке покоилась скрипка, наша скрипка, на которую упала рука спящей Веры.
– Стефан, нет! – воскликнула я. – Разве ты сможешь взять скрипку? – прошептала я в темноте. – Твоя сестра сразу почувствует, Стефан.
А, значит, ты боишься за мою жизнь, глядя на эту картину из прошлого, и тем не менее отказываешься вернуть мне мою скрипку. Так гляди же, как я за нее умру.
Я попыталась отвернуться. Он силой заставил меня смотреть. Прикованные к этой сцене, мы оставались немыми свидетелями происходящего. Мы были невидимы, но я чувствовала, как бьется его сердце, я чувствовала, как дрожит его рука, когда он заставил меня повернуть голову.
– Смотри, – только и мог он твердить, – смотри, это последние секунды моей жизни.
Закутанная в плащ фигура преодолела последние две ступени помоста. Он посмотрел остекленевшим усталым взором на мертвого отца. А потом из-под плаща появилась рука, обмотанная бинтами, и подхватила скрипку со смычком, и прижала к груди, а сверху легла вторая изувеченная рука.
Проснулась Вера.
– Стефан, нет! – прошептала она и повела глазами из стороны в сторону в знак предупреждения. Она в отчаянии подавала ему сигнал уйти.
Стефан обернулся.
Я разгадала заговор. Его братья высыпали из дверей, ведущих в следующий зал. Какой-то человек кинулся к рыдающей Вере и утащил ее в сторону. Она протягивала руки к Стефану и пронзительно кричала, охваченная паникой.
– Убийца! – воскликнул человек, выпустивший первую пулю. Она пробила не только Стефана, она пробила скрипку, я услышала треск дерева.
Стефан пришел в ужас.
– Нет, вы не смеете! – сказал он. – Нет!
Выстрел за выстрелом поражал его и скрипку. Он побежал. Выскочил в центр зала, а они продолжали обстреливать его. Стреляли не только разряженные господа, но и гвардейцы, пули всаживались в его тело и в скрипку.
Лицо Стефана вспыхнуло. Ничто не могло остановить человека, за которым мы наблюдали. Ничто.
Мы видели, как он, приоткрыв рот, хватает воздух. Прищурившись, он помчался к лестнице, плащ развевался за его спиной, скрипка и смычок по-прежнему в его руках, и нет крови, нет крови, если не считать той, что сочилась из пальцев, а теперь гляди!
Руки.
Руки целые и невредимые, не нуждавшиеся в перевязке. Руки с длинными тонкими пальцами крепко сжимают скрипку.
Стефан наклонил голову, защищаясь от ветра, когда проходил сквозь входные двери. Я тихо охнула. Двери были заперты на все замки, но он этого даже не заметил. За его спиной стреляли из ружей, кричали, шумели, но вскоре все стихло.
Он мчался по темной улице, громко топая по блестящим неровным камням. Один лишь раз он бросил взгляд на руки и, убедившись, что скрипка со смычком благополучно на месте, припустил изо всех своих молодых сил, пока не покинул мощеный центр города.
Огни в темноте выглядели размытыми пятнами. Наверное, туман окутал фонари. Дома поднимались в кромешной тьме.
Наконец он остановился, не имея возможности продолжать путь. Он привалился к ободранной стене и закрыл на секунду глаза, чтобы отдохнуть. Побелевшие пальцы по-прежнему сжимали скрипку и смычок. Постепенно он отдышался и принялся лихорадочно осматриваться, не преследуют ли те его.
В ночи не слышалось даже эхо. Какие-то фигуры сновали в темноте, но разглядеть кого-либо не представлялось возможным – слишком далеко висели фонари над редкими дверями. Неизвестно, заметил ли он туман, клубившийся над землей. Неужели это типичная зима для Вены? Какие-то люди наблюдали за ним издалека. Он решил, что это городские бродяги.
Он снова побежал.
И только когда он пересек широкую, ярко освещенную Рингштрассе с ее совершенно равнодушной толпой полуночников и оказался на открытой местности, он снова остановился и впервые рассмотрел свои зажившие руки, руки без всяких бинтов, впервые рассмотрел скрипку. Он протянул инструмент к тусклому свету городского фонаря и убедился, что скрипка цела, не повреждена, на ней ни царапинки. Большой Страд. Его скрипка. И смычок, который он так любил.
Он поднял глаза и оглянулся на город, который только что покинул. С возвышения, где он стоял, казалось, что город посылает свои тусклые зимние огни низким облакам. Он испытывал смятение, ликование, удивление.
Мы вновь стали осязаемы. Нас окружали запахи сосновых лесов и печного дыма, смешанного с холодным воздухом.
Мы стояли в лесу неподалеку от него, но в то же время слишком далеко, чтобы утешить того Стефана, каким он был сто лет назад, когда стоял, выдыхая пар на холоде, бережно прижимая к себе инструмент и вглядываясь в таинственный город, который оставил позади.
Что-то было не так, он это понимал… Произошла какая-то чудовищная вещь, и в конце концов его одолела тревога.
Мой призрачный Стефан, мой гид и компаньон, издал тихий стон, а тот второй Стефан вдалеке продолжал молчать. Тот второй Стефан по-прежнему не потерял красок, оставаясь реальным. Он принялся осматривать одежду, нет ли где ран. Ощупал лицо, голову. Все цело.
– Он превратился в призрак, после первого же выстрела, – сказала я, – но он об этом не подозревает! – Я тихо вздохнула, потом взглянула на своего Стефана и на того, что стоял вдалеке. Тот второй казался простодушнее, беспомощнее, моложе, он еще не обрел своих манер и осанки. Призрак рядом со мной сглотнул и облизнул губы.
– Ты умер в том зале, – сказала я.
Меня пронзила такая острая боль, что захотелось любить его, познать его всей душой, обнять его. Я повернулась и поцеловала Стефана в щеку. Он наклонил голову, подставляясь поцелую и прислонив свой холодный твердый лоб к моему, потом он махнул, указывая на своего только что родившегося двойника-призрака.
Новорожденный призрак внимательно разглядывал свои целые руки и скрипку.
– Requiem aeternam dona eis, Domine,[22] – с горечью произнес мой компаньон.
– Пули пронзили и тебя, и скрипку, – сказала я.
Второй Стефан, как безумный, развернулся на каблуках и помчался между деревьями, снова и снова оглядываясь.
– Бог мой, он мертв, но не знает об этом.
Мой Стефан только улыбнулся, обняв меня за шею. Путешествие без карты и цели.
Мы следовали за ним в его безумных блужданиях; над землей поднимался отвратительный туман «безвестного края» Гамлета.
Меня сковал нещадный холод. Я мысленно опять оказалась у могилы Лили, или то была могила матери? Это происходило в те душные минуты, когда горе еще не набрало свою силу и все кажется сплошным кошмаром.
Посмотри на него, он мертвый и он все бродит и бродит.
Он проходил маленькие немецкие городишки с кривыми улочками и покатыми крышами, а мы следовали по пятам – мы снова оба стали бестелесны. Он пересекал огромные пустые поля и снова входил в лес. Никто его не видел! А он слышал тем не менее какое-то шуршание – это собирались вокруг него духи – и пытался разглядеть, что же это движется над ним, рядом, позади.
Утро.
Выйдя на главную улицу какого-то маленького городка, он подошел к прилавку мясника, заговорил с продавцом, но тот его не увидел и не услышал. Стефан опустил руку на плечо кухарки, попытался встряхнуть ее и, хотя видел, что рука его движется, женщина ничего не почувствовала. Появился священник в длинной черной рясе. Он здоровался с первыми покупателями. Стефан вцепился в него, но священник не обратил на это ни малейшего внимания. Стефан пришел в неистовство, наблюдая за гудящей деревенской толпой. Потом он притих, отчаянно пытаясь дать происходящему разумное объяснение.
Только теперь он ясно и четко увидел вокруг себя мертвых. Он увидел существа, которых можно было принять только за призраков, настолько фрагментарны и прозрачны были их человеческие образы, и он смотрел на них, как может смотреть только живой человек – в ужасе.
Я плотно сжала веки и увидела перед собой маленький прямоугольник детской могилки. Я увидела, как на маленький белый гробик падают пригоршни грязи. Карл кричал: «Триана, Триана, Триана!», а я все твердила: «Я с тобой!» Карл сказал: «Моя работа не завершена, недоделана. Только взгляни, Триана, никакой книги не вышло, ее просто нет, она… Где все бумаги? Помоги мне! Все рухнуло…» «Нет, ступай прочь».
А кто это уставился на другие тени, а их словно притягивает магнитом сияние нового призрака? Он напуган, он пытливо вглядывается в их полупрозрачные лица. Время от времени он выкрикивает имена мертвых, которых знал в детстве, он молит о чем-то, а потом, бросив на них последний безумный взгляд, умолкает.
Никто ничего не услышал.
Я застонала, и тот Стефан, что был рядом, крепче обнял меня, словно ему тоже было невыносимо видеть собственную заблудшую душу, такую яркую и красивую в роскошном плаще, с блестящими волосами, посреди деревенской толпы, ничуть не ярче его самого, но тем не менее не способной его увидеть.
Он вдруг стал спокоен. Навернувшиеся слезы так и не пролились, придав его взгляду особую неподвижную выразительность. Он поднял скрипку и посмотрел на нее, потом приложил к плечу.
Он начал играть. Закрыл глаза и весь отдался безумному танцу, который вызвал бы аплодисменты у самого Паганини. Это был протест, горестное стенание, погребальная песня. Потом он открыл глаза, не переставая водить смычком по струнам, и понял, что никто на площади этого города, никто поблизости или вдалеке не мог его видеть и слышать.
На одну секунду он словно поблек. Удерживая скрипку в правой руке, а смычок в левой, он закрыл уши руками и склонил голову, но, когда краски померкли и он стал почти невидимым, его охватила дрожь, и он снова широко распахнул глаза. Вокруг завертелись другие духи.
Он затряс головой и широко раскрыл рот, как делают дети, когда плачут.
– Маэстро, Маэстро! – прошептал он. – Вы заперты внутри своей глухоты, а я заперт снаружи, так что меня никто не слышит! Маэстро, я мертв! Маэстро, я теперь так же одинок, как вы! Маэстро, меня никто не слышит!!! – Последние слова он прокричал.
Сколько прошло времени? Дни? Годы?
Я приникла к Стефану, к своему проводнику в этом мрачном мире. Меня колотила дрожь, хотя вовсе не было холодно, когда я наблюдала за тем вторым скрипачом: он продолжил свой путь, время от времени подносил скрипку к уху, наигрывал какие-то безумные аккорды, но тут же останавливался в ярости и, сжав зубы, тряс головой.
Кажется, мы снова оказались в Вене. Не знаю. Возможно, какой-то итальянский город. А может быть, и Париж. Я не могла определить. Какие-то подробности о тех временах я знала из книг, какие-то подсказало мое воображение, но все это смешалось.
Он продолжал путь.
Небо над головой перестало быть частью вселенной, превратившись в полог для существа, не имеющего ничего общего с природой, оно нависало этаким огромным куском черной ткани, к которому то тут, то там прицепились яркие звездочки, сверкавшие словно бриллианты на траурной вуали.
Оказавшись на кладбище с богатыми надгробиями, скиталец остановился. Мы снова стали невидимыми и приблизились к нему. Он рассматривал надгробия, читал высеченные имена. Подошел к могиле ван Мек. Прочитал имя своего отца. Стер с камня кусок засохшей грязи и мох.
Время больше не было привязано к часам. Он вынул из кармана часы и уставился на ничего не говорящий циферблат.
Другие духи сгрудились в кучку в клочковатой тьме, привлеченные любопытством, его осмысленными движениями и ярким цветом. Он вгляделся в их лица.
– Отец? – прошептал он. – Отец?
Духи разлетелись во все стороны, словно воздушные шарики на ветру, слабо привязанные веревочками.
Тут по его лицу стало ясно, что он наконец все понял. Он был мертв, никаких сомнений. Но хуже того, он был изолирован от любого другого призрака, подобного ему самому! Он поискал на земле и на небе другого такого фантома, такого же решительного, такого же таинственного. И не нашел.
Неужели он видел все так же ясно, как мы теперь со Стефаном?
Да, мы с тобой теперь видим то, что тогда видел я, зная только, что мертв, но не понимая, почему до сих пор брожу по земле, что я могу сделать, обреченный на такое презренное проклятие. Я знал лишь, что способен передвигаться по своей воле, меня ничто не связывает, на меня ничто не давит и ничто меня не утешает, одним словом, я превратился в ничто!
Мы забрели в маленькую церковь во время мессы. Церковь была построена в немецком стиле, но еще в ту пору, когда стиль рококо не успел завладеть всей Веной. Резные колонны, готические арки. Огромные неполированные камни. Прихожане – местное сельское население, стульев не много, всего несколько.
Призрак с виду почти не изменился. Все такой же сильный, видимый, не потерявший цвет.
Он наблюдал за церемонией у алтаря под кроваво-красным балдахином, который удерживали готические святые – изморенные, истерзанные, древние, – нелепо выполнявшие роль колонн.
Стоя перед высоким крестом, священник поднял круглую белую освященную облатку, волшебную просвирку, ставшие чудесным образом съедобными Христово тело и кровь. До меня долетел запах ладана, звон крошечных колокольчиков. Паства бормотала что-то на латыни.
Призрак Стефана холодно их оглядел, и его охватила дрожь, как охватывает человека, приговоренного к казни, который на глазах у толпы поднимается на помост. Но там не было никакого помоста.
Он вышел из церкви на свежий ветер и начал взбираться вверх по холму, проделывая тот путь, который я сама мысленно проделывала каждый раз, когда слушала вторую часть Девятой симфонии Бетховена, тот упрямый марш. Он шел все вверх и вверх, вверх и вверх сквозь леса. Мне показалось, что я увидела снег, а потом дождь, но точно сказать не могу. Кажется, вокруг него один раз закружили листья, и он стоял под ливнем этих желтых падающих листочков, а потом, чуть пошатываясь, вышел на дорогу и помахал проезжавшему мимо экипажу, но возница его не заметил.
– С чего все это началось? – спросила я. – Как тебе удалось прорваться? Как ты превратился в этого сильного, упрямого монстра, который меня терзает? – Я была полна решимости получить ответы на свои вопросы. В темноте, окружавшей нас пеленой, я почувствовала его щеку, его губы.
Какие безжалостные вопросы. У тебя моя скрипка Стой спокойно, наблюдай. А еще лучше – отдай мне сейчас же инструмент. Разве тебе мало того, что ты увидела? Неужели ты до сих пор не убедилась, что эта скрипка моя, что она принадлежит мне, что я перенес ее через границу в это царство, пожертвовав своей жизнью, а теперь она у тебя в руках, и я не могу ее вырвать; если есть боги, то они безумны, раз допускают подобное. Бог на небесах – чудовище. Сделай вывод из того, что ты видишь.
– Это ты делай выводы, Стефан, – сказала я и крепче сжала скрипку.
Он почувствовал себя еще более беспомощным в этой кромешной тьме, в которой мы с ним находились, его руки по-прежнему меня обнимали, он прижимался лбом к моему плечу. Он стонал, словно желая поделиться своей болью, а его пальцы, лежавшие поверх моих, касались корпуса и струн скрипки. Но он уже не старался вырвать ее у меня.
Я почувствовала, как его губы касаются моих волос, скользят вдоль края уха, но самое главное – я почувствовала, как он, охваченный дрожью, нерешительностью, прижался ко мне. По моему телу разлился жар, словно для того, чтобы согреть обоих. Я снова обратила взгляд на блуждающего призрака.
Падал снег.
Юный Стефан заметил, что снежинки не падают на его пальто или волосы, а все как-то пролетают мимо; тогда он попытался поймать их руками. Он улыбался.
Сделав несколько шагов, он услышал, что под ногами хрустит снег. Действительно ли это хрустел снег или он заставил себя в это поверить? Его длинный плащ казался темной тенью на фоне снега, капюшон был откинут, глаза устремлены на белый беззвучный небесный потоп.
Неожиданно его испугал призрак: из леса появилась полупрозрачная женская фигура в серых одеяниях, вид у нее был угрожающий, но Стефан сумел ее прогнать. Это столкновение его потрясло. Хотя он ограничился одним взмахом руки, он весь задрожал и пустился в бегство. Снег повалил сильнее, и на какую-то секунду мне показалось, что я потеряла его из виду, но вскоре его темная фигура возникла впереди нас.
Снова кладбище, кругом могилы – большие и маленькие. Он остановился у ворот. Заглянул внутрь. Мимо проплыл блуждающий призрак, он говорил сам с собой, как безумный человек, а сам был прозрачным, как паутинка, спутанные волосы, судорожные взмахи рук.
Стефан толкнул калитку. Неужели ему снова кажется? А может быть, он действительно настолько силен, что может заставить двигаться этот осязаемый предмет? Он не стал проверять дальше, а просто миновал высокий частокол и направился по тропинке, пока не укрытой снегом, а только опавшей сухой листвой – красной и желтой.
Впереди небольшая группа скорбящих людей собралась у скромной могилы, надгробием которой служила простая пирамидка. Они плакали, но в конце концов все разошлись, кроме одной старой женщины, которая, отойдя немного в сторону, присела на край богатого резного надгробия возле каменной статуи умершего ребенка! Я поразилась.
Мраморное дитя держало в руках цветок. Я увидела свою дочь – но это было лишь секундное видение: на могиле Лили не стояло никакого памятника, да и мы теперь находились на кладбище другого века. Наш бродячий призрак смерил долгим взглядом скорбную фигуру женщины в черной шляпке с длинными атласными лентами, на женщине было платье с пышными юбками по моде, что пришла гораздо позже того времени, когда Вера в своем тонком платье металась по комнате, чтобы спасти брата.
Интересно, понимал ли это призрак? Понимал ли, что прошли десятилетия? Он просто посмотрел на женщину немигающим взглядом, потом прошелся перед ней, проверяя, действительно ли он невидим, после чего задумчиво покачал головой. Быть может, он теперь смирился с ужасом бесцельного существования?
Внезапно его взгляд упал на могилу, вокруг которой еще минуту назад стояли скорбящие! На пирамидке было вырезано одно-единственное имя.
Я тоже его прочла.
Бетховен.
У молодого Стефана вырвался крик, способный разбудить всех мертвецов в их могилах! Не выпуская инструмента и смычка из рук, он снова прижал кулаки к голове, а сам ревел, как раненый зверь.
– Маэстро! Маэстро!
Скорбящая женщина ничего не услышала, ничего не заметила. Она не видела, как призрак рухнул в грязь, принялся разрывать холмик пальцами, впервые выпустив скрипку.
– Маэстро, где вы? Куда вы ушли? Когда вы умерли? Я одинок! Маэстро, это Стефан, помогите мне. Расскажите обо мне Богу! Маэстро.
Сплошная агония.
Тут Стефан, что стоял рядом со мной, задрожал, и боль, сжимавшая мою грудь, пронзила сердце и легкие. Юноша лежал перед заброшенным памятником, среди цветов, принесенных туда этой женщиной. Он всхлипывал. Он колотил кулаком по земле.
– Маэстро! Почему я не угодил в ад! А может быть, это и есть ад? Маэстро, куда попадают призраки проклятых? То, что я сотворил, Маэстро, и есть проклятие? Маэстро… – Теперь это было горе, неприкрытое горе. – Маэстро, мой любимый учитель, мой дорогой Бетховен. – Его раздирали сухие беззвучные рыдания.
Скорбящая женщина по-прежнему смотрела на камень с именем Бетховена. Она очень медленно перебирала пальцами бусины простых черных четок. Такими четками пользовались монашки, когда я была маленькой девочкой. Я видела, как шевелятся ее губы. Узкое лицо очень красноречиво, глаза прикрыты – она молилась. Светлые ресницы, едва видимые, взгляд неподвижен, словно она действительно размышляла о священных таинствах. Какое из них она сейчас видела перед собой?
Она не слышала никаких криков вокруг; она была одна, это человеческое существо; и он был один, этот призрак. И листья вокруг них разливались желтым цветом, а деревья тянулись к безрадостному небу слабыми оголенными руками.
Наконец призрак образумился. Он поднялся на колени, а потом на ноги и взял в руки скрипку, смахнув с нее грязь и остатки листьев. Он склонил голову в знак глубочайшей печали.
Казалось, женщина молится бесконечно долго. Я буквально слышала ее молитвы. Она прославляла Святую Деву по-немецки. Наконец она добралась до пятьдесят четвертой бусины, последней молитвы. Я взглянула на мраморную статую ребенка рядом с ней. Глупое, глупое совпадение, или происки Стефана, захотевшего представить мне эту сцену таким образом, с этим мраморным ребенком и женщиной в черном. И четками, в точности такими, какие мы когда-то разорвали с Розалиндой, поспорив после смерти матери: «Это мое!»
– Не будь тщеславной дурехой. Так все и было! Неужели ты думаешь, я черпаю это из твоего сознания, эти бедствия, которые перевернули мне душу и сделали из меня такого, каков я есть? Я показываю тебе все как было, ничего не придумываю. Во мне застряла такая боль, что воображение отступает на второй план перед судьбой, которая должна научить тебя страху и состраданию. Отдай мне мою скрипку.
– А ты сам научился состраданию? – сурово спросила я. – Как ты можешь говорить о сострадании, когда своей музыкой доводишь людей до сумасшествия?
Его губы коснулись моей шеи, его рука впилась в мое предплечье.
Молодой призрак смахнул листья со своего подбитого мехом плаща, совсем как обычный человек, и растерянно смотрел, как листья падают на землю. Он снова прочитал имя: Бетховен. Потом приготовил инструмент и смычок и заиграл знакомую тему, ту самую, что я знала наизусть, ту самую, что я выучила одной из первых в своей жизни. Это была основная мелодия единственного концерта Бетховена для скрипки с оркестром – та прелестная живая песня, столь переполненная счастьем, что как-то не вяжется с Бетховеном героических симфоний и мистических квартетов, песня, которую даже бесталанная балда вроде меня сумела выучить за один вечер, наблюдая, как ее исполняет гений из прошлого.
Стефан тихо заиграл, не от горя, просто в знак уважения. Это для вас, Маэстро, эту музыку вы написали, эта яркая мелодия для скрипки написана вами, когда вы были молоды и еще не успели познать ужас тишины, отрезавшей вас от всего мира, так что вам пришлось создавать музыку в полном вакууме.
Я могла бы спеть эту мелодию вместе с ним. Она лилась в совершенном исполнении, тот далекий призрак парил вместе с ней, едва заметно раскачиваясь, переходя незаметно на оркестровые части и вплетая их в свое соло, как он делал с другим произведением в прошлом, играя для Паганини.
Наконец он подошел к той части, которая называется каденция, когда скрипач должен взять две темы или все темы и сыграть их вместе, когда темы сталкиваются, перемешиваются, создавая изумительную оргию звуков, он так и сыграл – свежо, ярко и в то же время строго. Его лицо было полно смирения. Он все играл и играл, и я вдруг почувствовала, что мое тело обмякло в объятиях Стефана. Я вдруг поняла, что пыталась сказать ему: горе обладает мудростью. Горе не проливает слез. Горе приходит только после ужаса при виде могилы, ужаса у кровати больного, горе обладает мудростью и спокойствием.
Тишина. Он доиграл до конца. Последняя нота зазвенела в воздухе и умерла. Только лес продолжал петь свою обычную приглушенную песнь, в которой слились слишком много инструментов, чтобы их можно было посчитать, – и птицы, и листва, и сверчки, спрятавшиеся в папоротнике. Серый воздух был влажный, мягкий и липкий.
– Маэстро, – прошептал он, – да будет вечный свет освещать вас… – Он вытер щеку. – Пусть ваша душа, как души всех усопших, покоится в мире.
Скорбящая женщина, в своей черной шляпке и громоздкой юбке, медленно поднялась со своего места возле мраморного ребенка. Она направилась к нему! Она его увидела!! Внезапно она протянула к нему руки и заговорила по-немецки.
– Благодарю вас, – сказала она. – Красивый юноша, вы сыграли это с таким мастерством и чувством.
Он в изумлении уставился на нее.
Он испугался. Юный призрак испугался. Потрясенный, он смотрел на нее. И не осмеливался заговорить. Она провела рукой по его лицу и первой нарушила тишину.
– Какой молодой, – сказала она. – Какой талантливый. Спасибо вам, что вы сыграли именно в этот день. Я так люблю эту музыку, и всегда любила. Тот, кто ее не любит, – трус.
Казалось, он не в силах ответить.
Она вежливо отстранилась и отвела взгляд, чтобы дать ему возможность прийти в себя, а потом пошла по тропинке.
Тогда он прокричал ей вслед:
– Благодарю вас, мадам.
Она обернулась и кивнула.
– Именно сегодня, из всех дней. Наверное, это мой последний приход сюда. Вы ведь знаете, скоро могилу перенесут. Хотят положить его на новом кладбище рядом с Шубертом.
– Шуберт… – прошептал Стефан и замер, оглушенный.
Значит, Шуберт умер молодым. Откуда было знать это двойнику живого человека, бродящему в пустоте?
Об этом не было нужды говорить вслух. Мы все это знали, все: и эта женщина, и юный призрак, и тот призрак, что держал меня в своих объятиях, и я сама. Шуберт, создатель песен, умер молодым, спустя всего три года или даже меньше после своего посещения смертельно больного Бетховена.
Оцепенев от ужаса, юный призрак смотрел ей вслед, пока она не покинула кладбище.
– Вот так это началось! – прошептала я и уставилась на сильного призрака. – Почему этот призрак стал видимым? – не унималась я. – Я могу воспринять женщину, сидевшую рядом с мраморным ребенком, но сам ты способен разглядеть свой темный тайный дар, благодаря которому пересекаешь границы смерти? Можешь? Ты когда-нибудь об этом задумывался?
Он не захотел отвечать.
Глава 14
Он не ответил.
Молодой призрак почтительно подождал, пока женщина не скрылась из виду, а затем, отойдя на шаг от могилы, взглянул на небо, зимнее венское небо почти серого грязного цвета, после чего печально перевел взгляд на могилу.
Вокруг него сгрудились взъерошенные потерянные духи, менее бесплотные, чем прежде. Жуткое зрелище коварных духов!
К кому из них я могу воззвать? Думаешь, твоя Лили бродит в этом мраке, твой отец, твоя мать? Нет. Взгляни сейчас на мое лицо. Взгляни, как ко мне приходит это понимание, а вместе с ним одиночество. Где найти среди этих мертвых друга? И не важно, какой за ним или за мной числится грех. Даже монстры, казненные за зверские преступления, не выходят вперед, чтобы пожать мне руку. Я стою особняком от всех этих призраков, сама видишь. Взгляни на мое лицо. Посмотри и пойми, как все началось. Смотри, как зарождается ненависть.
– Сам смотри, – закричала я. – И сам делай выводы!
Я лицезрела эту картину всего лишь секунду. Стоящая фигура. Суровое лицо, презрение к блуждающим бесформенным призракам, холодный взгляд, обращенный на могилу.
Сумерки.
Перед нами совсем другое кладбище: новое, с величественными памятниками, помпезное, где-то здесь наверняка находился памятник – да, Шуберту и Бетховену, их надгробные статуи установлены так, словно они были друзьями, хотя при жизни они едва знали друг друга – и перед этим монументальным произведением молодой Стефан играет яростную бетховенскую сонату, вплетая в нее собственные фразы, а толпа молодых женщин слушает его как завороженная, одна из зрительниц плачет. Плачет.
Плачет. Я слышу, как она плачет. Я слышу, как она плачет, и ее плач смешался с плачем скрипки, лицо призрака в конце концов становится таким же скорбным, как ее собственное, а когда она сгибается от боли пополам, он извлекает из скрипки длинные кровоточащие ноты, отчего у дам, не сводящих с него взгляда, все плывет перед глазами.
С таким же успехом это могли быть поклонницы Паганини в Лидо, но здесь этот колдовской скрипач, несомненно, безымянный, одетый теперь по моде конца века, играл для живых и мертвых, изредка поднимая глаза на ту единственную женщину, которая плакала.
– Ты нуждался в их горе, оно давало тебе силы! – сказала я. – Ты перестал играть свою безумную воющую песнь мертвых, а вместо этого заиграл другую мелодию, бескорыстно отдаваясь ей, и только тогда они смогли тебя увидеть.
Ты безрассудна в своих ошибочных выводах. Какое тут бескорыстие? Разве я был когда-нибудь бескорыстным? А ты сама, разве сейчас ты проявляешь бескорыстие, отказываясь отдать мне скрипку? Разве, наблюдая эту сцену, ты чувствуешь бескорыстие? Я вовсе не нуждался в ее боли, но эта боль открыла ей глаза, и эти глаза увидели меня, и глаза остальных тоже открылись, и песнь лилась из меня, благодаря моему таланту, тому таланту, что рожден был во мне в той прошлой, настоящей жизни, вскормлен там и развит. Ты не обладаешь таким даром. Но у тебя моя скрипка! Ты украла у меня скрипку точно так, как отец, точно так, как огонь, готовый ее сожрать!
– И во время всей этой обличительной речи ты продолжаешь держать меня в объятиях. Я чувствую твои губы. Я чувствую твои потери. Я чувствую твои пальцы на своих плечах. Зачем все это? Зачем эта нежность, если ты нашептываешь мне в ухо слова, полные ненависти? Зачем эта смесь любви и ярости? Что хорошего я могу тебе подарить, Стефан? Я снова повторю, займись собой. Я не отдам тебе инструмент, чтобы ты доводил людей до безумия. Можешь демонстрировать мне какие угодно сцены. Скрипки тебе не видать.
Он зашептал мне на ухо.
Это заставляет тебя думать о своем покойном муже? Помнишь, когда лекарства сделали из него импотента, и он был так унижен? Помнишь его лицо? Осунувшееся лицо и холодный взгляд. Он ненавидел тебя. Ты ведь знала, что болезнь в конце концов сделает свое. Я обнимаю тебя не потому, что люблю. Как и он. Я обнимаю тебя, потому что ты жива. Твой муж считал тебя дурехой с красивым домом, который он наполнил безделушками, дрезденским фарфором, инкрустированными золочеными столиками; он выписал из Франции хрусталь, он реставрировал люстры, он завалил твою кровать горой парчовых подушек. А ты, ты все это проглотила, упиваясь чувством героизма, что вышла замуж за больного хрупкого человека и позволила своей любимой сестренке Фей уйти из дома. Ты не прижала ее к своему сердцу, не остановила ее. Ты не видела, как она взяла дневники отца и листала, листала, листала страницы! Ты не видела, какими глазами она смотрела на дверь, за которой ты со своим новым мужем Карлом лежала в постели. Ты не понимала ее слабости, потерянности в собственном доме, когда в нем поселилась эта новая драма. Карл, богач, которого ты, несомненно, использовала точно так, как теперь я использую тебя, черпал силы из твоих несчастий. Ты не видела, как она превратилась в сиротку, убитую отцовскими откровениями, записанными в дневник, полными разочарования и проклятий. Ты не видела ее боли!
– А ты видишь мою боль? – Я попыталась оттолкнуть его. – Ты ее видишь? По-твоему выходит, будто твоя боль больше моей, и все из-за того, что ты собственной рукой убил отца? У меня нет таланта к таким преступлениям, как нет таланта к скрипке. Но одно у нас общее – этот талант к страданию, да, талант к скорби, да, и страсть к тому волшебству, к той тайне, что зовется музыкой. Думаешь, ты вызываешь у меня сочувствие, когда навязываешь невыносимые для меня воспоминания о Фей? Ты отвратительный мертвяк. Да, я видела боль Фей, да, я видела, видела и позволила ей уйти, я сделала это, я позволила Фей уйти, позволила! Я вышла замуж за Карла. И этим причинила боль Фей. Она нуждалась во мне!
Заплакав, я попыталась высвободиться из его рук, но не смогла пошевелиться. Я только по-прежнему сжимала скрипку, не давая ему возможности завладеть ею. Я отвернулась от него. Мне хотелось поплакать в одиночестве. Мне хотелось плакать без конца. Ничего другого, только плакать и слышать только те звуки, что вторят эхом рыданию, как будто рыдание единственный звук, способный нести в себе правду.
Он поцеловал меня в подбородок и покрыл поцелуями шею. Его тело передавало нежность и желание, терпение и уступчивость, его пальцы благоговейно обхватили мое лицо, и он склонил голову, словно устыдившись. Срывающимся голосом он произнес мое имя: Триана!
– Я вижу, у тебя прибавилось силы для любви, – сказала я, – любви к Маэстро. Когда же ты начал доводить людей до безумия, заставляя страдать? – поинтересовалась я. – Или такой ход событий предназначен только для меня, Трианы Беккер, ничем не примечательной бесталанной женщины из белого коттеджа на авеню; наверняка я не первая. Кому ты служишь? Зачем ты будишь меня, когда мне снится красивое море? Думаешь, ты служишь тому человеку, чей могильный камень вызвал в тебе такую мучительную боль, что ты обрел осязаемость?
Он застонал, словно моля меня замолчать.
Но я не собиралась отступать.
– Думаешь, ты служил Богу, которому молился? И когда ты начал творить горе, если горе было недостаточно острым, чтобы сделать тебя видимым?
Перед нами возникла другая сцена. По рельсам грохотали трамваи. На кровати причудливой формы – назовем этот стиль арт модерн – возлежала женщина в длинном платье. Оконная рама была выполнена в том же стиле того времени. Рядом с ней стоял фонограф, с толстой иголкой и пыльным роликом.
Ей играл Стефан.
Она слушала его, поблескивая слезами. Да, непременные слезы, вечные слезы, такие же частые в этом повествовании, как самые обычные повседневные слова. Пусть чернила превратятся в слезы. Пусть бумага станет мягкой от слез.
Она слушала, поблескивая слезами и не сводя глаз с юноши в коротком модном сюртуке, с длинными атласными волосами (видимо, он не хотел отказаться от своей прически, хотя к этому времени наверняка знал, что способен поменять свой облик), он играл для нее на божественном инструменте.
Это была изумительная мелодия, незнакомая мне, – возможно, его собственная, похожая на лишенную гармонии музыку нашего века: рыдания, громогласный протест природы и смерти. Женщина плакала. Она опустила голову на зеленый бархат, вся такая стильная, словно нарисованная на витраже, в своем легкомысленном платье, туфлях с заостренными носами, мягкими колечками рыжих волос.
Он перестал играть. Опустил орудие пытки. С нежностью взглянул на нее и, подойдя, опустился на изогнутый диванчик рядом с ней. Он поцеловал ее, да, он был для нее таким же осязаемым, как и для меня, его волосы упали на нее точно так же, как теперь касались меня в этом невесомом мраке, из которого мы наблюдали за происходящим.
Он заговорил с женщиной на кушетке на более современном немецком, привычном моему уху.
– Давным-давно у великого Бетховена была болезненная подруга, которую звали Антония Брентано. Он любил ее нежно, очень нежно, как любил многих людей. Ш-ш-ш… Не верь тем сплетням, что рассказывают о нем. Он любил многих. А когда у мадам Брентано начинались приступы, он, ничего никому не говоря, приходил в ее венский дом. И он играл для нее на фортепьяно, играл часами, чтобы облегчить ее страдания. Музыка проникала сквозь полы и стены и доносилась до нее, принося с собой утешение и притупляя боль. А потом он молча уходил, даже никому не кивнув на прощание. Она любила его за это.
– Как я люблю тебя, – сказала эта молодая женщина.
Неужели она уже мертва? Возможно, давно мертва. Или просто состарилась?
– Ты довел ее до сумасшествия?
– Не знаю! Смотри. Ты не понимаешь, насколько все это серьезно!
Она протянула обнаженные руки и обняла призрака – нечто осязаемое, страстное, казавшееся ей мужчиной, воспламененным ее изнеженной плотью, ее слезами, которые он принялся слизывать своим призрачным языком, и этот жест вдруг показался мне таким чудовищным, что вся картина померкла перед глазами.
Он слизывал ее соленые слезы. Прекрати!
– Отпусти меня! – сказала я и оттолкнула его. Я пнула его каблуком, резко вскинула голову и услышала глухой стук от столкновения наших черепов! – Отпусти! – сказала я.
– Отдай мне скрипку, и я тебя отпущу! Глаза. Неужели глаза Лили все еще в пробирке? Помнишь, ты позволила разрезать ее, и зачем – удостовериться, что ты по какому-то незнанию или глупости сама ее не убила? Глаза. Помнишь? Глаза твоего отца, они были открыты, когда он умер, и твоя тетя Бридж сказала тебе, не хочешь ли их закрыть, Триана, и добавила при этом, какая это честь, закрыть ему глаза, и показала тебе, как это делается…
Я боролась, но так и не высвободилась из его рук.
Послышалась музыка, барабаны выстукивали что-то зловещее и дикарское, но надо всем этим шумом поднимался голос скрипки.
– Ты хотя бы заглянула в глаза своей матери в тот день, когда позволила ей уйти навстречу смерти? Она умерла от спазмов, глупая девчонка, ее можно было бы спасти, она не была дряхлой – ей просто до смерти надоело жить, ей просто до смерти надоела ты и все ее грязные дети и ее перепуганный муж, сам как ребенок!
– Перестань!
Я внезапно увидела своего мучителя. Мы стали видимыми. Вокруг нас собирались огни. Он стоял немного поодаль. Я держала в руках скрипку и злобно смотрела на него.
– Будь ты проклят со всеми своими видениями, – сказала я. – Да, да, признаю, я убила всех их, я одна виновата; если Фей умерла и уже сейчас в могиле, то это сделала я! Да, я! Что ты станешь делать со скрипкой, если я ее верну? Доведешь до сумасшествия еще кого-нибудь? Станешь слизывать чьи-то слезы? Я тебя ненавижу. Моя музыка была моей радостью. Она возвышала меня! А что делает твоя? Только ранит и превращает все в бессмысленность.
– Почему бы и нет, – сказал он, подходя ближе. Он предательски дотронулся до моей шеи. Я едва выносила такое прикосновение к затылку даже от тех, кого любила, но сейчас решила, что не попадусь на этот трюк, и попыталась оттолкнуть его.
– У тебя хватит сил, чтобы убить меня? – спросила я. – Ты сохранил ту силу, перейдя в пустоту, силу убить, как ты убил своего отца? Тогда действуй. Возможно, мы на пороге смерти, а ты бог, который держит в руках весы, чтобы взвесить мое сердце. Такова моя расплата? Вновь дать мне увидеть все, что я любила за свою жизнь?
– Нет! – Он был потрясен, он снова плакал. – Нет. Посмотри на меня! Разве ты не понимаешь, во что я превратился? Разве ты не видишь, что случилось со мной? Неужели это невозможно понять! Я потерян. Я одинок. И любой, кто шагает по этой пустоте с той же скоростью, что и я, шагает в одиночестве, как я! Я имею в виду видимых сильных призраков, их наверняка много, но мы не можем общаться друг с другом… Привести к тебе Лили? Я бы сделал это, если бы мог! Привести к тебе мать? Я бы сделал это в два счета, если бы знал как; да, я бы сказал, идем, утешь свою дочь, которая всю жизнь оплакивает мать, и все напрасно. Но с тобой, с тобой, вернувшись назад в ту боль, оказавшись перед горящим отцовским домом, я впервые увидел тень Бетховена! Его призрак! Он появился из-за тебя, Триана!
– Или для того, чтобы остановить тебя, Стефан, – сказала я, смягчаясь. – Чтобы обуздать твою магию. Твое наивное и всесильное колдовство. Твоя скрипка сделана из дерева, а ты состоишь из плоти, как и я, хотя один из нас живой, а другой из-за непростительной жадности…
– Нет! – прошептал он. – Только не из жадности. Никогда.
– Отпусти меня. Мне все равно, безумие ли это, сон или колдовство, я хочу отделаться от тебя!
– Ты не сможешь.
Я почувствовала перемену. Мы оба растворялись. Только скрипка в моей руке сохранила форму. Мы вновь исчезли. Нас уже не было. Звучала зловещая музыка. Какой-то человек стоял на коленях, зажав уши руками, но Стефан, скрипач, не оставлял его в покое, заглушая полуголых темнокожих барабанщиков, колотивших по барабанам, их взгляды были прикованы к беспощадному скрипачу, за которым они следовали и в то же время боялись, отбивая ритм.
Еще одна картина ярко вспыхнула: женщина била кулаком призрака-упрямца, а он все продолжал играть свою воющую погребальную песнь.
Пред нами возник школьный двор с огромными пышными деревьями, где ребятишки водили вокруг него, скрипача, хоровод, словно это был сказочный крысолов, что играл на дудке, а учительница пыталась криком привлечь к себе внимание и увести детей, но я не слышала ее голоса из-за бесконечного скрипичного напева.
Какая картина теперь возникла передо мной? Сплетенные тела в темноте, шепот, ударивший мне в лицо. Я увидела, как он улыбается, но женщина тут же загородила от меня его лицо.
Что любить их, что сводить с ума – это в конце концов одно и то же, потому что все они умирают! А я – нет. Я не умер. И эта скрипка – мое бессмертное сокровище, и я готов утащить тебя со мной в этот ад навсегда, если ты мне ее не отдашь.
Но мы снова оказались в другом месте. Туман рассеялся. Над головами возвышался потолок. Мы стояли в коридоре.
– Погоди, смотри, белые стены, – сказала я в тревоге, ужаснувшись такому дежа вю. – Я уже здесь была.
Грязный белый кафель, демонически дразнящие звуки скрипки, теперь это уже не музыка, а скрипучая мука.
– Я видела это место во сне, – сказала я, – эти белые кафельные стены, эти металлические ящики. Смотри на эти большие паровые двигатели и ворота, смотри!
На одну драгоценную секунду, когда мы стояли у ржавых ворот, ко мне вернулось воспоминание о том прекрасном сне, я увидела не только этот мрачный подвальный коридор и туннель, запечатанный воротами, я увидела прекрасный мраморный дворец, а еще великолепное море и призраков, танцующих в пене. Они теперь казались мне не жалкими духами, за которыми мы в ужасе следили, а какими-то свободными цельными существами, процветавшими на морских просторах, – нимфами самой жизни. Розы на полу.
– Пора.
Но все, что мы сейчас увидели, – ворота в темный туннель. Двигатели монотонно гудели, а он играл на своей скрипке, в темном туннеле, и никто теперь не разговаривал, человек умер, нет, умирал, смотри, он умирал, истекая кровью, лившейся из его запястий.
– Это ты довел его до этого? И, показав эту сцену, хочешь заставить меня сдаться? Никогда.
– Я черпал музыку из его головы, я соединял ее со своей музыкой! Это превратилось в своего рода игру. С тобой мне бы следовало исполнять музыку Маэстро и Маленького Гения Моцарта, но тебе нравилось то, что я играл. Музыка не была для тебя благом, лгунья этакая. Музыка была для тебя жалостью к самой себе. С помощью музыки ты поддерживала кровосмесительную связь с мертвыми. Ты уже мысленно похоронила свою сестренку Фей? Уже отправила ее в безымянный морг, готовясь к шумным и богатым похоронам? На деньги Карла ты можешь купить симпатичный гроб для нее, своей сестры, которой было так холодно и одиноко в тени вашего мертвого отца, для той самой сестренки, которая наблюдала, как твой новый муж занимает место в доме, для благословенного огонька, от которого ты так легко отказалась!
Я повернулась к нему лицом, не размыкая его невидимых объятий. Я изо всех сил пнула его коленом. Наверное, с той же силой, что он когда-то ударил своего отца. Я оттолкнула его обеими руками. Я увидела его на короткий миг.
Все другие образы покинули нас. Не было больше ни белого кафеля, ни гула двигателей. Даже мерзкие запахи исчезли, даже музыка. Эхо тоже исчезло, что означало – мы вырвались на свободу. Он отлетел в сторону, тот самый Стефан, что являлся ко мне в Новом Орлеане. Мне показалось, что он сейчас упадет, но он снова кинулся вперед и вцепился в скрипку.
– Нет, ты не сделаешь этого. – Я опять пнула его. – Не сделаешь, не сделаешь! Ты больше не сделаешь этого ни с одним из них, скрипка в моих руках, и сам Маэстро спрашивал тебя зачем! Зачем, Стефан! Ты даровал мне музыку, да, но еще ты даровал мне полное право отобрать инструмент, породивший эту музыку.
Я подняла скрипку и смычок, я вздернула подбородок. Он прижал свои пальцы к губам.
– Триана, молю тебя. Ты сама не понимаешь значения своих слов, как и моих. Умоляю. Скрипка моя. Я умер за нее. Я уйду вместе с ней. Я покину тебя. Триана!
Неужели у меня под ногами твердая мостовая? Какая фантазия окутает нас сейчас, что еще нам дано увидеть? Нечеткие здания в дымке. Обжигающий ветер.
– Еще раз подойдешь ко мне, обретя телесность, и, клянусь, я разобью скрипку о твою голову!
– Триана, – только и смог он потрясенно вымолвить.
– Для начала я разобью ее. Клянусь, – повторила я.
Я сжала скрипку еще крепче и размахнулась, нацелив в него, так что он, пошатываясь, отступил с болью и страхом.
– Нет, ты не сможешь, – взмолился он. – Триана, прошу тебя, прошу, верни мне скрипку. Не знаю, как ты ею завладела. Не знаю, в чем тут справедливость, что за ирония судьбы. Ты провела меня. Ты украла у меня скрипку. Триана! Господи, надо же, чтобы это была именно ты.
– Что ты хочешь этим сказать, дорогой?
– Что ты… ты обладаешь редким даром слышать мелодии и темы…
– Но ведь ты создавал эти мелодии и темы, а заодно и воспоминания. Какая высокая плата за твой концерт.
Он беспомощно покачал головой в знак несогласия.
– В этих мелодиях, что я играл для тебя, была свежесть, была жизнь. Стоя под твоим окном, я поднял взгляд и увидел твое лицо и почувствовал то, что ты называешь любовью, хотя я уже не помню этого чувства…
– Думаешь, такая тактика смягчит мое сердце? Я ведь сказала, у меня есть оправдание. Ты не будешь больше никого преследовать. Я завладела твоей скрипкой, все равно что твоим членом. Правила игры, быть может, мы никогда не узнаем, но скрипка в моих руках, а ты не настолько силен, чтобы снова завладеть ею.
Я повернулась. Под ногами действительно твердая мостовая. В лицо действительно дует холодный ветер.
Я побежала. Неужели это шум трамвая?
В туфлях с тонкими подошвами я чувствовала каждый булыжник. Холод пробирал до костей, беспощадный, пронзительный. Я ничего не видела, кроме белесого неба и омертвелых голых деревьев, дома походили на огромных полупрозрачных призраков.
Я все бежала и бежала. У меня уже заболели ноги, пальцы онемели. От холода из глаз лились бесполезные слезы. Болела грудь. Беги, беги, прочь из этого сна, из этого видения, обрети себя, Триана.
Я вновь услышала шум трамвая, увидела огни. Остановилась, сердце громко стучало.
Руки так замерзли, что я почувствовала боль. Переложив скрипку со смычком в левую руку, я сунула пальцы правой в рот, чтобы согреть их. Потрескавшиеся губы были холодные. Господи! Какой адский холод. Моя одежда совершенно не защищала от ветра.
На мне по-прежнему был тот простой легкий наряд, в котором я была, когда он меня украл. Бархатный жилет, шелк.
– Просыпайся! – прокричала я. – Найди свое место. Возвращайся к себе! – вопила я во все горло. – Прерви этот сон. Покончи с ним.
Сколько раз я проделывала это, возвращалась из фантазий, грез или ночных кошмаров и оказывалась в своей кровати о четырех столбиках, оказывалась в восьмиугольной комнате, за окнами которой шумели машины, мчавшиеся по авеню? Если это сумасшествие, то я с ним не смирюсь! Я предпочту жить в муке, чем так! Но все вокруг было слишком реально!
Возвышались современные здания. Из-за угла вывернул трамвай в два вагона, обтекаемой формы, современного вида, а прямо перед собой я увидела яркое пятно – не что иное, как газетный киоск, открывшийся, несмотря на зиму, его переносные стены уже были увешаны разноцветными журналами.
Я метнулась к киоску. Нога попала в трамвайный рельс. Я знала это место. Я упала и спасла скрипку только потому, что успела повернуться на бок, ударившись локтем о камни.
С трудом поднялась.
Вывеску, светившуюся над головой, я уже видела раньше: «Отель „Империал“».
Это была Вена моего времени, это была теперешняя Вена. Не может быть, чтобы я оказалась здесь, невозможно. Не может быть, чтобы я очнулась в другом месте.
Я затопала ногами, закружилась на месте. Просыпайся!
Но ничего не изменилось. На этот раз в рассветный час Рингштрассе просыпалась к жизни, Стефан куда-то исчез, а по тротуару шли обычные горожане. Из огромного роскошного отеля появился швейцар. Здесь всегда останавливались и останавливаются знаменитости – короли и королевы, Вагнер и Гитлер, будь они оба прокляты, и Бог знает кто еще жил в этих королевских апартаментах, которые я когда-то видела мельком. Господи, я снова здесь. Ты меня оставил здесь.
Какой-то человек заговорил со мной по-немецки.
Оказалось, что, падая, я задела киоск и сбила набок одну стену из журналов. Мы все потерпели крах, эти журнальные лица и неуклюжая женщина в глупом летнем наряде со скрипкой и смычком.
Меня подхватили уверенные руки.
– Прошу вас, простите, – пролепетала я по-немецки, потом по-английски. – Мне очень жаль, очень-очень жаль, я не хотела… Прошу вас.
Мои руки. Я не могла ими шевельнуть. Мои руки заледенели.
– Так вот какую игру ты затеял? – выкрикнула я, не обращая внимания на собравшихся вокруг людей. – Хочешь отморозить их вконец, сделать со мной то же, что твой отец сотворил с тобой? Так вот, у тебя ничего не получится!
Мне хотелось ударить Стефана. Но все, что я видела вокруг, – обычные равнодушные люди, а потому абсолютно реальные.
Я подняла скрипку. Я подняла скрипку к подбородку и начала играть. Еще раз решила узнать, примет ли реальный мир мою душу. Я услышала музыку, выражавшую как нельзя лучше мои самые потаенные безобидные желания, я услышала, как она рвется к небесам с любовью и верой. Реальный мир был как в тумане, впрочем, ему и полагалось таким быть – газетный киоск, кучка людей, остановившийся небольшой автомобиль.
Я продолжала играть, мне было все равно. Руки согрелись от игры. Бедный Стефан, бедный Стефан. Я выдыхала пар на холоде. Я играла и играла. Мудрое горе не ищет мести у самой жизни.
Внезапно пальцы одеревенели. Я действительно замерзла, очень сильно замерзла.
– Входите, мадам, – произнес человек рядом со мной. Подошли и другие. Молодая женщина с зачесанными назад волосами. – Входите, входите же, – твердили они.
– Но куда? Где мы находимся? Я хочу оказаться в своей постели, в своем доме, я бы проснулась, если бы только знала, как вернуться в свою постель и в свой дом.
Тошнота. Все вдруг потемнело, я уже не чувствовала тела от холода, проваливаясь в небытие.
– Скрипка, прошу вас, скрипка…
Я не чувствовала своих рук, зато видела скрипку, видела этот бесценный кусочек дерева. А еще я видела перед собой огни, танцующие огни, как бывает, когда идет дождь, только вот дождя никакого сейчас не было.
– Да-да, дорогая. Позвольте, мы поможем вам. Держите свою скрипку, а мы будем поддерживать вас. Теперь вы в безопасности.
Передо мной стоял старичок, он кивал и руководил остальными вокруг меня. Почтенный старичок, европейского вида, с седой шевелюрой и бородой, что было довольно странно, он словно попал в Вену из далекого прошлого, когда еще не произошли те ужасные войны.
– Пусть скрипка остается в моих руках, – сказала я.
– У вас бесценный инструмент, дорогая, – сказала женщина. – Немедленно позовите доктора. Держите ее с обеих сторон. Осторожно, бережно! Милая, мы вас держим.
Женщина направила меня через вращающиеся двери. Тепло и свет оказались шоком. Тошнота. Я скорее умру, но не проснусь.
– Где мы? Какой сегодня день? Руки замерзли, мне нужно отогреть их в теплой воде.
– Вы с нами, детка, все хорошо, мы вам поможем.
– Меня зовут Триана Беккер, я из Нового Орлеана. Позвоните туда. Поговорите с семейным адвокатом, Грейди Дьюбоссоном. Пусть мне поможет. Триана Беккер.
– Мы так и сделаем, дорогая, – сказал седовласый старичок. – Мы все для вас сделаем. А теперь отдыхайте. Несите ее. Пусть она держит скрипку. Не сделайте ей больно.
– Да… – произнесла я, ожидая, что в ту же секунду жизненный свет погаснет и наступит смерть, пришедшая в клубке фантазий, невозможных мечтаний и отвратительных чудес.
Но смерть не пришла. А люди были нежны и внимательны.
– Мы с вами, дорогая.
– Да, но кто вы?
Глава 15
Королевский люкс. Простор, золото, темно-серый штоф на стенах… Бежевые гипсовые круги под потолком. Умиротворяющая красота. Неизменный бордюр, словно из взбитых сливок, по огромному завитку в каждом углу. Зато кровать современная, и по размеру и по твердости. Я увидела над головой летящую золотую филигрань. Я завалена белыми пуховыми одеялами. Такие апартаменты достойны принцессы Уэльской или какой-нибудь сумасшедшей миллионерши.
Я находилась в полудреме, изнурительном полусне, не в силах провалиться в роскошную тьму, снедаемая тревогой, а потому каждый голос резал как ножом.
Блаженная теплота. Какая бывает только в современном мире. Окна с двойным остеклением не пропускали холод и были забраны роскошными шторами. Сначала нужно открыть одно окно, потом второе. Тепло поступало с тихим гудением из каких-то скрытых незаметных приборов, заполняя огромное пространство комнаты.
– Мадам Беккер, граф Соколовский просит вас быть его гостьей.
– Вы знаете мое имя? – Неужели мои губы шевелятся? Я посмотрела в сторону, на двойной золотой канделябр, так ярко горевший на фоне гипсовой лепнины, с его блестящей ножки свешивались подвески. – Это очень любезно с его стороны, но напрасно он так хлопотал. – Я попыталась говорить как можно четче. – Пожалуйста, позвоните человеку, о котором я вам говорила, – моему адвокату, Грейди Дьюбоссону.
– Мадам Беккер, мы уже дозвонились. Денежные средства на пути к вам. Мистер Дьюбоссон скоро приедет. И ваши сестры шлют вам свою любовь. Они с огромной радостью узнали, что вы нашлись и с вами все в порядке.
Сколько же времени прошло? Я улыбнулась. Мне вспомнилась прелестная сцена из старого фильма по «Рождественской песне» Диккенса, Скруджа там играл Алестер Сим, британский актер, – проснувшись в рождественское утро другим человеком, он затанцевал.
Не знаю, как долго я находилась среди духов.
Счастливый, счастливый конец.
В номере стоял белый стол, деревянный стул, обтянутый синим шелком, высокая пальма, плохо задернутые тонкие занавески пропускали серый свет.
– Но граф просит, чтобы вы были его гостьей. Он слышал, как вы играли на скрипке Страдивари.
У меня округлились глаза.
Скрипка!
Она лежала рядом, на кровати. Я чувствовала ладонью ее струны и смычок. Темно-коричневая блестящая скрипка на белой простыне уютно устроилась на подушке возле меня.
– Да, она здесь, мадам, – сказала женщина на хорошем английском с австрийским акцентом. – Рядом с вами.
– Мне так жаль, что я причиняю столько хлопот.
– Никаких хлопот, мадам. Граф осмотрел скрипку, но не дотронулся до нее, вы понимаете. Он бы не стал этого делать без вашего разрешения. – Австрийский акцент гораздо мягче немецкого и более тягучий. – Граф коллекционирует такие инструменты. Он просит, чтобы вы были его гостьей. Для него это будет честь, мадам. Не желаете ли теперь отужинать? В углу стоял Стефан.
Бледный, сгорбленный, погасший, бесцветный, он смотрел на меня, не отрывая взгляда, вся его фигура была словно окутана туманом.
Я охнула и села, прижав к себе скрипку.
– Не исчезай, Стефан, не становись одним из них! – сказала я.
Ничто не дрогнуло в его лице, полном печали и обреченности. Его образ буквально таял на глазах. Он привалился к стене, уткнувшись щекой в парчовую панель, скрестил лодыжки и погрузился в густой туман.
– Стефан! Не уходи. Не позволяй этому случиться с тобой.
Я посмотрела направо и налево, нет ли поблизости потерянных мертвецов, жутких теней, безумных душ. Высокая женщина бросила взгляд через плечо.
– Вы говорите со мной, мадам Беккер?
– Нет. Всего лишь с одним призраком, – ответила я. Почему бы и не признаться? Вероятно, эти добряки австрийцы успели принять меня за самую настоящую сумасшедшую. Почему бы и нет?
– Я ни с кем не говорю, если только… то есть… если только вы не видите человека в том углу.
Она поискала глазами, но никого не нашла и снова повернулась ко мне. На лице ее играла улыбка. Она была воплощением вежливости, но чувствовала себя не в своей тарелке и не знала, что еще для меня сделать.
– Холод, невзгоды, путешествие сделали свое дело, – сказала я. – Не беспокойте графа этими пустяками. Так, говорите, мой адвокат уже в пути?
– Все будет для вас сделано, – ответила женщина. – Меня зовут фрау Вебер, а это наш консьерж, господин Мелникер.
Она указала направо. Это была красивая женщина, высокая, благородного вида, ее черные волосы были убраны с молодого лица в узел. Господин Мелникер оказался молодым человеком со светло-голубыми глазами, которые встревоженно глядели на меня.
– Мадам, – сказал он. Фрау Вебер попыталась остановить его кивком головы, но он продолжил: – Мадам, вы знаете, как оказались здесь?
– У меня есть паспорт, – сказала я. – Мой адвокат привезет его с собой.
– Да, мадам. Но как вы попали в Австрию?
– Не знаю.
Я взглянула на Стефана, бледного, свинцового от отчаяния, в лице ни кровинки, только глаза пылали, когда он смотрел на меня.
– Фрау Беккер, быть может, вы помните хоть что-то… – Он замолчал, не договорив.
– Пожалуй, вам лучше сейчас поесть супа, – сказала фрау Вебер, – мы приготовили для вас отличный суп, а еще немного вина. Хотите вина?
Она тоже умолкла. Они оба оцепенели. Стефан смотрел только на меня.
Я услышала приближающиеся шаги. Хромой человек с палкой. Я сразу узнала по звуку. Мне даже понравилось: глухой стук, шаркающий шаг, глухой стук.
Я выпрямилась в кровати. Фрау Вебер поспешила взбить за моей спиной подушки. Я бросила взгляд вниз и убедилась, что на мне ночной жакет из стеганого шелка с глухим воротом, а под ним очень тонкая белая фланель. Вид приличный. Даже чистый.
Я взглянула на руки, затем поняла, что выпустила скрипку, и снова вцепилась в нее.
Мой гостеприимный хозяин не спешил. Даже не сделал попытку войти.
– Мадам, вы в полной безопасности. В гостиной сейчас находится граф, вы позволите впустить его?
Я увидела его в открытых дверях, обитых бежевой кожей; они были двойные, для лучшей звуконепроницаемости, вероятно. Он остановился на пороге, опираясь на деревянную трость, – седовласый старичок, которого я видела на мостовой, с белой бородой и усами, старомодный, благообразный, совсем как актеры в старых черно-белых фильмах, выходец откуда-то из далекого прошлого.
– С вами все в порядке, дитя мое? – спросил он. Слава Богу, он заговорил по-английски. Он по-прежнему стоял очень далеко. Какие здесь огромные комнаты, совсем как во дворце у Стефана.
Взрыв. Огонь. Старый мир.
– Да, сэр, благодарю вас, – ответила я. – Для меня большое облегчение, что вы говорите по-английски. Мой немецкий никуда не годится. Благодарю, что проявили ко мне такое участие. Мне не хотелось бы доставлять вам малейшее неудобство.
Этих слов было вполне достаточно. Грейди оплатит счета. Грейди все устроит. Для этого и нужны деньги, чтобы другие за тебя все объясняли. Этому меня научил Карл. Разве я могла сказать этому человеку, что не нуждаюсь в его гостеприимстве, его благотворительности? Были гораздо более важные вещи.
– Пожалуйста, входите, – сказала я. – Мне так жаль, так жаль…
– Чего вам жаль, дитя? – спросил он, приблизившись к кровати. Только сейчас я обратила внимание на резное изножье, а за ним на люстру в соседней комнате. Да, отель «Империал», настоящий дворец.
На шее у старца висел какой-то медальон, а его сюртук, неровно свисавший с плеч, был подбит черным бархатом. Белая борода была аккуратно расчесана.
Стефан не шевельнулся. Я посмотрела на Стефана, а он на меня. Поражение и печаль. Я увидела это даже в повороте его головы, в том, как он прислонился к стене, будто те материальные частицы, что в нем остались, познали усталость именно теперь и потеряли былую прочную связь. Он едва заметно шевелил губами, не сводя с меня взгляда.
Господин Мелникер метнулся к большому креслу, обитому синим бархатом, и подвинул его к графу, в комнате было много позолоченных стульев на неизменных витых ножках в стиле рококо.
Граф уселся на почтительном расстоянии.
До меня донесся приятный аромат.
– Горячий шоколад, – сказала я.
– Да, – подтвердила фрау Вебер и передала мне чашку.
– Вы так добры. – Я вцепилась в скрипку левой рукой. – Поставьте, пожалуйста, блюдце там.
Старик рассматривал меня с восхищенным изумлением, точно так на меня смотрели пожилые мужчины, когда я была маленькой девочкой, точно так на меня однажды смотрела старая монахиня в день моего первого причастия. Я прекрасно помнила ее сморщенное лицо, восторженное выражение. Это случилось в старой больнице Милосердия, той самой, что потом снесли. Монашка была одета во все белое, она тогда сказала: «В этот день ты сама чистота». Меня взяли в тот день на визиты, как было принято делать в день первого причастия. Куда я задевала те четки?
Я увидела, что чашка с шоколадом дрожит в моей руке. Я бросила взгляд направо, на Стефана.
Сделала глоток из чашки, шоколад был ни холодный, ни горячий, как раз такой, как надо. Я выпила всю чашку густого и сладкого шоколада со сливками и улыбнулась.
– Вена, – произнесла я. Старик насупился.
– Дитя, вы обладаете поразительным сокровищем.
– Да, сэр, – сказала я. – Я знаю, Страдивари, Большой Страд, а это фернамбуковый смычок.
Стефан сощурился. Он был сломлен. Как ты смеешь?
– Нет, мадам, я имел в виду не скрипку, хотя я впервые в жизни вижу такой прекрасный инструмент, его не сравнить с теми, что я когда-либо продавал или покупал. Я имею в виду ваш дар музыканта, ту музыку, которую вы исполняли перед отелем, ту музыку, которая выманила нас на улицу. Это было… безыскусное наслаждение. Вот какой дар я подразумевал.
Я испугалась.
– Так и должно быть. Разве ты сможешь повторить это одна? Без моей помощи? Да, ты вернулась в собственный мир, утянув с собой скрипку, – ну и что? У тебя все равно ничего не выйдет. Ты бесталанна, ты воспользовалась моим волшебством и воспарила вверх, а теперь ты снова ползаешь. Ты ничто.
– Посмотрим, – сказала я Стефану.
Остальные переглянулись. К кому я обращаюсь в пустом углу?
– Назовем его ангелом, – сказала я, глядя на графа и показывая в угол. – Вы видите, кто стоит там, видите ангела?
Граф оглядел комнату. Я тоже и увидела в первый раз роскошное трюмо с раскладными зеркалами, от которого пришла бы в восторг любая женщина, оно было гораздо лучше, чем то, что стояло у меня в доме. Я увидела восточные ковры в голубых и оранжевых тонах; я вновь увидела тонкие светлые занавеси, закрывавшие окно под парчовым шелком с фестонами.
– Нет, дорогая, – сказал граф. – Я никого не вижу. Позвольте, я назову вам свое имя. Быть может, и я стану вашим ангелом?
– Вполне возможно, – сказала я, переводя взгляд со Стефана на старика с большой головой и волнистыми волосами.
У него были такие же холодные голубые глаза, как у молодого Мелникера. Он обладал какой-то жемчужной белизной, свойственной старому возрасту, даже глаза у него были обрамлены белыми ресницами, но взгляд сохранился острый, осмысленный.
– Вполне возможно, мне понадобится лучший ангел в вашем лице, ибо тот ангел, по-моему, плох, – сказала я.
– Как ты можешь так лгать. Ты крадешь мое сокровище. Ты разбиваешь мое сердце. Ты примкнула к тем, кто заставил меня так страдать.
И снова губы призрака не шевельнулись, и ленивая поза не переменилась, одно сплошное бессилие и потерянная смелость.
– Стефан, я не знаю, что для тебя сделать. Если бы я только могла совершить что-то тебе на благо…
– Воровка.
В комнате зашептались.
– Фрау Беккер, – произнесла женщина, – этот господин – граф Соколовский. Простите, что сразу не представила его вам как полагается. Он очень давно живет в нашем отеле и чрезвычайно рад, что теперь вы с нами. Эти комнаты редко открыты для публики, мы храним их как раз для такого случая.
– Какого именно?
– Дорогая, – вмешался граф, перебив женщину, но очень нежно, со спокойной добротой старого возраста. – Вы не сыграете для меня? Не слишком ли это дерзкая просьба с моей стороны?
Нет! Всего лишь пустая и бесполезная!
– Не сейчас, конечно, – поспешил добавить граф, – когда вы больны, нуждаетесь в покое и ждете, что за вами приедут ваши друзья. Но когда вы почувствуете, что окрепли, и если захотите… всего лишь небольшой отрывок для меня, из того, что вы тогда играли. Ту музыку.
– А как бы вы ее описали, граф? – поинтересовалась я.
Да-да, скажите, ей ведь так это нужно знать!
– Тихо! – Я сердито посмотрела на Стефана. – Если это твоя скрипка, то тогда почему у тебя нет сил забрать ее? Почему она у меня? Не обращайте внимания, прошу прощения за все. Простите эту манеру говорить вслух с воображаемыми образами и грезить наяву…
– Все в порядке, – сказал граф. – Мы не задаем вопросы одаренным людям.
– Неужели я настолько одарена? Что вы слышали?
Стефан презрительно фыркнул.
– Я знаю, что слышала я, когда играла, но прошу вас сказать, что слышали вы.
Граф задумался.
– Нечто изумительное, – сказал он. – Ни на что не похожее.
Я не стала его перебивать.
– Нечто прощающее, – продолжал он. – Нечто полное экстаза и горького терпения… – Он долго молчал, после чего снова заговорил: – Словно Барток и Чайковский вместе проникли в вашу душу и слились воедино в сладостную и трагическую музыку, в которой выразился целый мир… знакомый мне мир далекого прошлого, еще довоенного… я тогда был мальчишкой, слишком юным, чтобы хоть что-то запомнить, какие-то детали. Только я помню тот мир. Помню.
Я вытерла лицо.
– Ну же, скажи ему, что, скорее всего, не сможешь так сыграть еще раз. Я знаю. Не сможешь.
– Кто это утверждает? – строго поинтересовалась я у Стефана.
Он выпрямился, сложив руки на груди, и в своем гневе вернул себе на секунду былую яркость.
– Как всегда, главную роль играет гнев, не так ли, жалкий или великий? Посмотри на себя, как ты сейчас пылаешь! Теперь, когда посеял во мне сомнения! А что, если сам твой вызов придал мне силы?
– Тебе ничто не может придать силы. Ты теперь вне моей власти, а то, что ты держишь в руках, не более чем кусок деревяшки, это высушенная древесина, древний инструмент, на котором ты не умеешь играть.
– Фрау Вебер, – сказала я.
Она удивленно уставилась на меня, потом бросила встревоженный взгляд в якобы пустой угол, но тут же снова посмотрела на меня, кивком принося извинения.
– Слушаю вас, фрау Беккер.
– У вас не найдется какого-нибудь приличного широкого халата для меня? Я бы хотела сейчас сыграть. Руки уже согрелись.
– Наверное, еще слишком рано, – заметил граф, однако тяжело оперся о трость и зашарил в поисках руки Мелникера, одновременно пытаясь подняться. Он весь сиял от радостного предчувствия.
– Разумеется, мадам, – сказала фрау Вебер и подала мне простой широкий халат из белой шерсти, лежавший в изножье кровати.
Я спустила ноги с кровати. Голые ступни оказались на теплом деревянном полу, ночная сорочка свисала ниже щиколоток. Я взглянула на потолок, на всю эту великолепную лепнину, прелестное убранство королевских апартаментов.
Скрипка по-прежнему была у меня в руках.
Я поднялась. Фрау Вебер надела на меня халат, я осторожно продела правую руку в широкий длинный рукав, затем, переложив скрипку со смычком, скользнула в левый рукав. Тапочек рядом не было, но они мне были не нужны. Пол под ногами был шелковистый.
Я направилась к открытым дверям. Мне почему-то казалось неудобным играть в спальне и встретить там либо победу, либо поражение.
Войдя в огромную гостиную, я поразилась, увидев гигантский портрет великой императрицы Марии-Терезии. Роскошный стол, стулья, кушетки. И цветы. Смотри. Все эти свежие цветы, как на похоронах. Я уставилась на них.
– От ваших сестер, мадам. Карточки я не читала, но звонила ваша сестра Розалинда. И еще звонила ваша сестра Катринка. Это они велели давать вам горячий шоколад.
Я улыбнулась, потом тихо рассмеялась.
– Какие-нибудь еще звонки? – спросила я. – Не помните других имен? Например, Фей?
– Нет, мадам.
Я подошла к центральному столу, где стояла большая ваза с цветами, и принялась разглядывать пышный букет, в котором не знала названия ни одного цветочка, ни одного растения, даже обычных розовых бутонов с толстыми, покрытыми пыльцой усиками.
Старый граф с помощью юноши доковылял до дивана. Я обернулась и увидела, что Стефан стоит в дверях спальни.
– Давай, играй! Я хочу увидеть твой провал. Я хочу увидеть твой позор!
Я поднесла правую руку к губам.
– Господи, – сказала я более почтительно, чем французы произносят «mon Dieu». Моя мольба была искренней. – С чего начинать? Есть ли какие-то правила? Как мне справиться с тем, о чем я даже не подозреваю?
Тут вмешался другой голос:
– Начинай играть, и все тут!
Стефан обернулся в потрясении. Я прочла в его лице яростный гнев. Я принялась вертеться во все стороны. Увидела пораженного графа, смущенную фрау Вебер, робкого Мелникера, а затем увидела приближающегося призрака, который как раз в эту минуту открывал двери в холл. Я поняла, что и другие видят эти открывающиеся двери, но не видят призрака. Вероятно, они решили, что это сквозняк.
Призрак вошел, широко шагая, держа руки за спиной, как имел обыкновение делать при жизни, по свидетельствам очевидцев. Вид у него был неопрятный, словно он только что сошел со смертного одра, оборванное запятнанное кружево, к лицу прилипли кусочки гипса от посмертной маски.
Дверь в коридор так и осталась открытой. Я увидела, что в коридоре собираются постояльцы.
Маэстро. Сердце у Стефана разбилось, из глаз полились слезы. Мне было очень жаль Стефана, но Маэстро не знал жалости, хотя голос его звучал снисходительно.
– Стефан, ты меня утомляешь, заставляя все это терпеть! – сказал он. – Зачем ты вызвал меня в это время! Триана, сыграй для меня. Просто возьми скрипку и сыграй.
Я смотрела, как на моих глазах упрямец невысокого роста пересек комнату.
– Восхитительное сумасшествие, как мне кажется, – сказала я. – Или, может быть, это просто вдохновение.
Призрак опустился на стул, сердито поглядывая на меня.
– Вы в самом деле услышите музыку? – спросила я.
– О Господи, Триана, – сказал он, коротко махнув рукой. – Я не глух в смерти! Я не отправился в ад. Иначе меня бы здесь не было. – Он громко скрипуче рассмеялся. – Я был глух при жизни. Теперь я не живу, иначе и быть не могло. А теперь сыграй. Давай, давай, пусть у них мурашки побегут! Пусть они заплатят за каждое недоброе слово, когда-либо сказанное тебе, за каждую провинность. Или пусть заплатят за то, что ты сама пожелаешь. Причина, в конце концов, не так уж важна. Представь боль или любовь. Обратись к Богу или к тому хорошему, что есть в тебе самой. Но вырази это в музыке.
Стефан плакал. Я переводила взгляд с одного на другого. Мне было наплевать на людей в комнате. В ту минуту я подумала, что теперь мне всегда будет на них наплевать.
Но потом я поняла, что именно для них я должна сыграть эту музыку.
– Смелее, играй, – чуть более участливо сказал Бетховен. – Я не хотел, чтобы это прозвучало грубо. Правда, не хотел. Стефан, ты мой единственный ученик.
Стефан отвернулся, обратив лицо к дверному косяку, и подпер голову рукой. Озадаченные смертные зрители ждали.
Я внимательно рассмотрела каждого, пытаясь не видеть призраков, а только смертных. Я взглянула на тех, кто ждал в коридоре. Господин Мелникер пошел, чтобы закрыть дверь.
– Нет, оставьте дверь открытой.
Я начала. Скрипка оставалась прежней, легким, источающим аромат священным инструментом, изготовленным тем, кто даже не подозревал, какое чудо творит из ветвей деревьев, кто даже не мог мечтать, что выпустит такую силу из прогретой древесины, согнутой в нужную форму.
«Позволь мне вернуться в часовню, мама. Позволь мне вернуться к Вечной помощи Божьей Матери. Позволь мне опуститься рядом с тобой на колени в том невинном мраке, когда я еще не знала боли. Позволь мне взять тебя за руку и сказать – не как мне жаль, что ты умерла, а просто, что я люблю тебя, я теперь люблю тебя. Я дарю тебе свою любовь в этой песне, вроде тех, что мы всегда распевали во время весенней процессии, тех песен, которые ты любила, и Фей, Фей вернется домой, Фей каким-то образом узнает о твоей любви, обязательно узнает, я верю в это, я чувствую это всей душой.
Мама, кто бы мог подумать, что в жизни так много крови? Кому бы пришло в голову, что мы владеем тем, чем дорожим, я играю для тебя, я играю твою песнь, я играю песнь твоему здоровью и силе, я играю для отца и Карла, а совсем скоро я обрету силы сыграть для боли, но сейчас вечер, и мы находимся в этом безмятежном святилище, среди известных нам святых, а когда мы направимся домой, улицы будут наполнены тихим угасающим светом, мы с Розалиндой будем скакать перед тобой и оглядываться, чтобы увидеть твое улыбающееся лицо; да, я хочу это вспоминать, я хочу всегда вспоминать твои большие карие глаза и твою улыбку, в которой было столько уверенности. Мама, никто ведь не виноват в том, что все так вышло, а может быть, вина навсегда приклеится к нам, но нет ли какого способа в конце концов вырваться из ее тисков?
Взгляни, взгляни на эти дубы, которые всегда цеплялись ветками мне в волосы, всю мою жизнь, взгляни на эти замшелые кирпичи, по которым мы идем, взгляни на небо, отливающее теперь фиолетовым цветом, как случается только в нашем раю. Почувствуй тепло от ламп, от газового камина, от отцовской фотографии на полке «Твой папочка на войне».
Мы читаем, возимся, а потом проваливаемся в кровать. Никакая это не могила. Кровь есть во многих вещах. Теперь я это знаю. Но кровь бывает разной. Я истекаю кровью за тебя, да, истекаю, причем добровольно, а ты то же самое делаешь для меня…
… И пусть эта кровь смешается».
Я опустила инструмент. С меня ручьями тек пот. Руки дрожали, в ушах гремели аплодисменты.
Старый граф поднялся из кресла. Те, кто стоял в коридоре, хлынули в комнату.
– Вы сочинили это из воздуха, – сказал граф.
Я поискала глазами призраков. Они исчезли.
– Вы должны обязательно записать эту музыку. Это сама природа, этому нельзя научиться. Вы обладаете редчайшим даром, который не оценить по обычным меркам.
Граф поцеловал меня в лицо.
– Где ты, Стефан? – прошептала я. – Маэстро?
Вокруг себя я видела только людей.
Затем в ушах прозвучал голос Стефана, его дыхание коснулось моего уха.
– Я с тобой еще разберусь, дрянная девчонка, укравшая у меня скрипку! Твой талант здесь вовсе ни при чем! Его не существует. Это колдовство.
– Нет-нет, ты ошибаешься, – сказала я, – это не было колдовством, это было нечто, вырвавшееся на свободу, беспечное и нескованное, как ночные птицы, которые летают на закате, подхваченные ветром. Знай, Стефан, что ты мой учитель.
Граф поцеловал меня. Интересно, услышал ли он мои слова?
– Лгунья, лгунья, воровка.
Я повернулась вокруг своей оси. Маэстро исчез окончательно и бесповоротно. Я не осмелилась позвать его обратно. Я не осмелилась даже попытаться сделать это, просто потому что не знала, как к нему обратиться, да и к Стефану тоже, если на то пошло.
– Маэстро, помогите ему, – прошептала я.
Я приникла к груди графа. Вдохнула знакомый запах старой кожи, так пах отец перед смертью, сладковатый запах мыла и талька. У него были влажные мягкие губы, мягкие седые волосы.
– Маэстро, прошу вас, не оставляйте здесь Стефана…
Я вцепилась в скрипку. Я держала ее обеими руками. Крепко, крепко, крепко.
– Все хорошо, моя дорогая девочка, – сказал граф. – Вы нас так осчастливили!
Глава 16
«Вы нас так осчастливили…»
Что это было, что это за оргия звуков, излияние такое естественное, что я в нем не усомнилась? Этот транс, в который я могла погрузиться, находя звуки и освобождая их по велению воли легкими послушными пальцами?
Что это был за дар, выпустить на волю мелодию и наблюдать, как она набирает мощь, а потом обрушивается на меня мягким ласковым облаком?
Музыка. Играй. Не думай. Отбрось сомнения.
Не сомневайся и не беспокойся, если тебя терзают мысли и сомнения. Просто играй. Играй так, как хочешь, открывая для себя новый звук.
Приехала моя любимая Розалинда, совершенно оглушенная оттого, что оказалась в Вене, с ней приехал Грейди Дьюбоссон, и, прежде чем мы покинули это место, для нас открыли Венский театр, и мы сыграли в маленьком расписанном зале, где когда-то играл Моцарт, где однажды была поставлена «Волшебная флейта», в том самом здании, где когда-то жил и писал музыку Шуберт, – в тесном славном театрике с золочеными балкончиками, примостившимися под самой крышей, – а после мы один раз сыграли в величественном сером оперном театре Вены, расположенном всего в нескольких шагах от отеля, и граф возил нас за город посмотреть его просторный старый дом, ту самую загородную виллу, которой когда-то владел брат Маэстро, Иоганн ван Бетховен, «обладатель земель», в письме к нему Маэстро однажды так искусно подписался: «Людвиг ван Бетховен, обладатель разума».
Я гуляла в венском лесу, прекрасном старом лесу. Рядом со своей сестрой я вновь ожила.
Из дома дошли вести о работе Карла. Книга о святом Себастьяне уже находилась на стадии корректуры, ее печатал превосходный издательский дом, которым восхищался Карл. Книгу ждал хороший прием.
Одной заботой меньше. Все было сделано наилучшим образом. Роз и Грейди отправились со мной путешествовать.
Я создавала музыку, концерты шли один за другим. Грейди сутками не отходил от телефона, принимая приглашения.
Деньги текли в благотворительные организации тем, кто несправедливо пострадал в войнах, главным образом евреям, в память о нашей прабабушке, которая, оказавшись в Америке, перешла в католичество, но и вообще на любую благотворительность по нашему выбору. В Лондоне мы сделали первые записи. А до этого был Петербург и Прага, и бессчетные импровизированные концерты на улицах, которые я давала с тем же удовольствием, с каким попрыгунья школьница вертится вокруг каждого фонарного столба. Все это мне очень нравилось.
Погружаясь во тьму, я произносила молитвы моего детства, чудного детства, окрашенного в тончайшие оттенки пурпурного и красного цветов. «И Ангел, посланный Господом, принес Марии благую весть, и она зачала от Святого Духа».
Это было время, не знавшее ни страха, ни поражения, ни позора.
А дома книга Карла уже была отправлена в печать, что потребовало огромных расходов: качество каждой цветной репродукции проверялось знатоками своего дела.
Вечером я засыпала на тончайших простынях. А утром просыпалась в потрясающих городах.
Королевские апартаменты вошли у нас с Розалиндой в привычку. Вскоре к нам присоединился Гленн. Столики на колесах под белыми скатертями до пола позвякивали тяжелым серебром. Мы поднимались по великолепным лестницам и шли по длинным коридорам, устланным восточными коврами.
Но я ни разу не выпустила скрипку из виду. Конечно, я не могла ее держать в руках вечно, это показалось бы сумасшествием, но я приглядывала за ней, даже когда принимала ванну, словно ждала, что сейчас она исчезнет, что к ней протянется невидимая рука и утащит с собой в пустоту.
Ночью скрипка лежала рядом со мной, завернутая вместе со смычком в несколько слоев мягчайшего детского одеяла и привязанная ко мне кожаными ремнями, которые я никому не показывала; а в течение дня я держала скрипку в руках или на стуле рядом с собой. Скрипка совершенно не изменилась. Ее рассматривали, изучали, объявляли бесценной, подлинной, просили позволения опробовать. Но я не могла никому позволить на ней сыграть. Никто не счел это эгоизмом, а только моим исключительным правом.
В Париже, где нас ждали Катринка и ее муж Мартин, мы накупили сестре чудесных нарядов, всевозможных сумочек и туфель на высоких каблуках, на которые ни я, ни Роз уже никак не могли решиться. Мы велели Катринке отхромать за всех нас. Катринка расхохоталась.
Катринка послала своим дочкам, Джекки и Джули, несколько ящиков превосходных вещей. Казалось, что Катринка сбросила с себя огромное тяжелое бремя. О прошлом почти ничего не говорилось.
Гленн выискивал старые книги и записи европейских джазовых звезд, Розалинда все смеялась и смеялась. Мартин и Гленн планомерно посещали все старые знаменитые кафе, словно надеялись, что найдут Жана-Поля Сартра, если постараются. В прочее время Мартин не отходил от телефона, завершая сделки по продаже домов, в конце концов я его уговорила взять на себя организацию нашего бесконечного путешествия.
Грейди вздохнул свободно – он был нужен нам для другого.
Смех. Интересно, смеялся ли Леопольд и маленький Вольфганг столько же, сколько мы? И не забудем, что в семье росла еще и девочка, сестра, которая, как говорили, играла ничуть не хуже своего удивительно талантливого брата. Эта сестра потом вышла замуж и дала жизнь детям, а не симфониям и операм.
Никто не был счастливее нас во время этих разъездов.
Смех вновь стал нашим языком общения.
Нас чуть не выставили из Лувра за хохот. И дело тут не в том, что нам не понравилась Мона Лиза. Конечно понравилась, только мы были очень взволнованы и жизнь била из нас ключом. Мы готовы были расцеловать первого встречного, но здравомыслие возобладало, и мы демонстративно обнимались и целовались друг с другом у всех на глазах.
Впереди нашей группы вышагивал Гленн, сначала он только смущенно улыбался, а потом тоже принимался хохотать, уж очень заразительно было наше веселье.
В Лондон приехали мой бывший муж, Лев, и его жена, Челси, некогда считавшаяся моей подругой, а теперь, видимо, ставшая для меня сестрой, они привезли черноголовых мальчишек-близнецов, благообразных, воспитанных, и старшего сына, Кристофера, высокого светловолосого красавца Я чуть не расплакалась при виде этого мальчика, чей смех заставлял меня вспоминать о Лили.
Во время концерта Лев сидел в первом ряду. Я играла для него, вспоминая счастливое время, а позже он мне сказал, что все было как на том давнишнем пьяном пикнике – только рискованнее, амбициознее, эмоциональнее. Меня переполняла старая любовь. Или вечная любовь. Он всему давал точные академические определения.
Мы поклялись собраться все вместе снова в Бостоне.
Эти дети, эти мальчики казались почему-то мне моими потомками, потомками первых потерь Льва, его борьбы и возрождения, частью которого я тоже когда-то была. Быть может, я могу все-таки считать их своими племянниками?
Мы меняли один номер за другим в Манчестере, в Эдинбурге, в Белфасте. Концерты снова проходили в пользу пострадавших в войне евреев, цыган, борющихся католиков Северной Ирландии, страдающих от того же заболевания, которое убило Карла, или от рака крови, убившего Лили. Нам предлагали другие скрипки. Не согласимся ли мы сыграть на этом чудесном Страдивари по особому случаю? Не примем ли мы этого Гварнери? Не хотим ли мы приобрести этого маленького Страда и к нему чудесный смычок?
И я принимала дары. Я купила другую скрипку. Я разглядывала их с лихорадочным любопытством Интересно, как они будут звучать? Каковы они в руке? Неужели я сумею взять хотя бы одну ноту на этой, работы Гварнери? На любой из этих скрипок?
Я рассматривала их, я упаковывала их и возила с собой, но ни разу даже не дотронулась.
Во Франкфурте я купила еще одного Страда, короткого Страда, изумительного, сравнимого с моим собственным, но не осмелилась даже тронуть струну пальцем. Его выставили на продажу, и он никому не понравился – цена была слишком высока, – но какое это имело значение для нас, обладавших благословенным и бесконечным богатством?
Скрипки и смычки путешествовали вместе с багажом. Большого Страда я не выпускала из рук, моего Страда – он был обвернут в бархат, а потом помещен в особый мешок вместе со смычком. Футлярам я не доверяла. Повсюду носила с собой мешок.
Я ждала, что сейчас явятся призраки.
Но видела только солнечный свет.
В Дублине к нам присоединилась моя крестная, тетушка Бриджет. Холод ей не понравился, и вскоре она уже отбыла обратно, в Миссисипи. Мы сочли это очень забавным.
Но музыка ей понравилась, и всякий раз, когда я играла, она хлопала в ладоши и топала, отчего остальные зрители – в концертном зале, театре или еще где – испытывали легкий шок. Но у нас с ней была договоренность – я хотела, чтобы она так реагировала.
Многочисленные тетушки и кузены присоединились к нам в Ирландии, а потом и в Берлине. Я совершила паломничество в Бонн. У дверей бетховенского дома меня охватила дрожь. Я прижалась лбом к холодным камням и принялась рыдать, как рыдал когда-то Стефан на его могиле.
Много раз я вспоминала музыку Маэстро, мелодии Маленького Гения или Безумного Русского и бросалась в них с головой, чтобы открылись собственные шлюзы, но критики редко, если вообще когда-либо это замечали, настолько плохо я играла чужую музыку.
Это были минуты полного экстаза. Любой глупец понял бы, что это такое; только совсем слабоумные могли привнести туда печаль и осторожность. В такие минуты, когда моросил легкий дождик, а я ходила кругами под луной и машины ждали, включив фары в тумане и как будто дышали, как дышала я, все, что я могла сделать, – это быть счастливой. Не задавать никаких вопросов. Принимать все таким, как есть. И может быть, однажды мне придется вспомнить все это и оценить со стороны, и тогда эти минуты покажутся мне такими же божественными, как посещение часовни в детстве или минуты, проведенные в материнских объятиях, когда она листала книжку стихов возле настольной лампы, еще не излучавшей никакой угрозы, потому что та не успела пока поселиться в доме.
Мы отправились в Милан. В Венецию. Во Флоренцию. В Белграде нас встретил граф Соколовский.
Меня особенно влекли оперные театры. Мне вовсе не требовалось, чтобы их кто-то оплачивал. Если гарантировался зал, то я приезжала, сама все оплачивала, и каждый вечер был не похож на другой в своей непредсказуемости, и каждый вечер это была радость и боль, благополучно спрятавшаяся в радости, и каждый вечер записывался техниками, которые сновали повсюду с микрофонами и наушниками, протягивая по сцене тонкие провода, а я разглядывала лица тех, кто аплодировал.
Я старалась разглядеть каждое лицо, ощутить тепло каждого человека, после того как мелодия заканчивалась, и больше никогда не возвращаться в прошлое, полное боли и робости, как возвращается в свою ракушку улитка, неспособная выдержать настоящее, слишком привязанная к прежнему уродству, слишком переполненная презрением к самой себе.
Швея во Флоренции сшила для меня красивые свободные бархатные юбки и мягкие накидки из тонкой ткани, не сковывавшие рук в просторных широких рукавах, когда я играла, от холода такой костюм не спасал, но зато скрывал вес, который я так ненавидела, поэтому в тех коротких роликах, которые меня заставляли смотреть, я видела себя этаким размытым пятном из волос, цвета и звука.
Славно.
А когда наступал момент, я выходила к рампе, вглядывалась в поглощающую тьму и понимала, что мои мечты осуществились.
Но конечно, должна была зазвучать и более мрачная музыка. Не все молитвы посвящены радости, есть и печальные. Спи, мама. Лежи в покое. Пусть тебе будет тепло. Закрой глазки, Лили. Отец, все прошло, об этом говорят твое дыхание и зрачки твоих глаз. Закрой свои веки. Господь, они могут слышать мою музыку?
А я продолжала искать один мраморный дворец, и разве я не понимала, повидав столько оперных театров – в Венеции, во Флоренции, в Риме, – что тот мраморный дворец из моего странного сна – не что иное, как оперный театр, разве я этого не знала и не подозревала теперь, когда увидела ту лестницу из сна, повторенную во всех этих королевских залах, построенных с помпой и величием, где центральный пролет ведет до одной площадки, а затем раздваивается направо и налево, ведя в бельэтаж, где жужжит нарядная публика.
Где находится этот дворец моего сна, дворец, созданный из стольких видов мрамора, что мог бы сравниться с базиликой Святого Петра? Что означал тот сон? Была ли это просто прихоть его измученной души, что он позволил мне увидеть город Рио, место его последнего преступления, прежде чем он пришел ко мне и обнаружил какой-то острый шип в моей душе, связанный с тем местом? Или это была моя собственная выдумка, изменившая его воспоминания о прекрасном море с пенными волнами, порождавшими бесчисленных танцующих фантомов?
Нигде мне не довелось увидеть такого оперного театра, в котором смешалось столько красоты.
В Нью-Йорке мы играли в «Линкольн-Центре» и в «Карнеги-Холле». Наши концерты теперь состояли из множества программ различной длительности. А это означало, что с течением времени я научилась играть без перерыва – мелодия текла все более мощным потоком, который становился все шире и сильнее.
Я не могла слушать собственные записи. Ими занимались Мартин, Гленн, Розалинда и Катринка. Розалинда, Катринка и Грейди составляли контракты, заключали сделки. Предмет сделок был необычен – наши пленки или диски. Там была записана музыка необычной женщины, не знавшей как следует даже нотной грамоты, если не считать до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до, которая никогда не исполняла одну и ту же мелодию дважды, да и, скорее всего, не смогла бы ее исполнить. Критики очень быстро это поняли. Как оценить такие достижения, импровизацию, которую во времена Моцарта можно было сохранить только на бумаге, зато теперь она обретала вечную жизнь и тот же почет, что и «серьезная музыка»!
«Не совсем Чайковский, не совсем Шостакович! Не совсем Бетховен! Не совсем Моцарт».
«Если вам нравится музыка, такая же густая и сладкая, как кленовый сироп, то вы, вероятно, сочтете, что импровизации мисс Беккер как раз в вашем вкусе, но некоторым из нас хочется чего-то более жизненного, чем оладьи».
«Она подлинная, хотя если вдаваться в подробности, то она, скорее всего, страдает маниакальной депрессией, а может быть, эпилепсией – только ее врач знает наверняка, – она, очевидно, сама не знает, как этого добивается, но результат, несомненно, завораживает».
Похвала была восхитительной – гений, чаровница, волшебница, простая душа, – но совершенно далекой от истоков моей музыки, от того, что я знала и чувствовала. Но похвала воспринималась нами как поцелуи, подстегивала нашу свиту, а многие цитаты были напечатаны на обложках дисков и пленок, которые теперь продавались миллионами.
Мы переезжали из отеля в отель, иногда по приглашению, иногда случайно, повинуясь капризу, прихоти.
Грейди пытался предостеречь нас от расточительности, но был вынужден признать, что доход от продажи записей уже превысил трастовый фонд Карла. А сам фонд за это время удвоился. Продажи записей могли продолжиться бесконечно долго.
Мы не могли в чем-то отказывать себе. Нам было все равно. Катринка впервые чувствовала себя обеспеченной! Джекки и Джулия пошли в лучшую школу у себя дома, потом начали мечтать о Швейцарии.
Мы отправились в Нэшвилл.
Я хотела послушать скрипачей, исполнявших кантри, и сыграть для них. Я разыскивала молодую гениальную скрипачку Элисон Краусс, чью музыку так любила. Мне хотелось положить розы к ее дверям. Может быть, она бы узнала имя Трианы Беккер.
Звучание моей скрипки, однако, было так же далеко от кантри, как и от гаэльского. Это было европейское звучание, венское и русское, героическое, в котором вместе смешались парящие полеты высоколобых музыкантов с длинными волосами, по моде, позже перенятой хиппи, так похожими на Иисуса Христа.
Как бы там ни было, я стала одной из них.
Я стала музыкантом.
Я стала виртуозом.
Я играла на скрипке. Она оживала в моих руках. Я любила ее. Любила ее. Любила.
Мне вовсе не нужно было встречаться с блестящей Лейлой Йозефович, Ванессой Мэй или моей дорогой Элисон Краусс. Или великим Исааком Стерном… У меня не было смелости для подобных встреч. Мне нужно было только сознавать, что я умею играть.
Я умею играть. Может быть, однажды они услышат Триану Беккер.
Смех.
Он звенел в номерах отелей, где мы собирались, чтобы выпить шампанского, и мы ели десерты, где было много шоколада и сливок, а вечером я ложилась на пол и смотрела на люстру, как любила это делать дома, и каждое утро и вечер…
Каждое утро или вечер мы звонили домой узнать, нет ли вестей от Фей, нашей пропавшей сестренки, нашей любимой пропавшей сестренки. Мы говорили о ней, давая интервью на ступенях театров Чикаго, Детройта, Сан-Франциско.
«…у нас есть сестра Фей, мы не видели ее уже два года».
В новоорлеанский офис Грейди поступали телефонные звонки от людей, не имевших отношения к Фей и даже ни разу ее не видевших. Никто так и не смог точно описать ее маленькую пропорциональную фигурку, заразительную улыбку, ласковый взгляд, сильные крошечные ручки, жестоко отмеченные не выросшими большими пальцами от алкоголя, отравившего темные воды, в которых она боролась за жизнь совсем еще крошкой.
Иногда я играла для Фей. Я оказывалась с крошечной Фей позади дома на Сент-Чарльз, она сидела на каменных плитах, держа на руках кошку, и улыбалась, не обращая внимания на то, что в доме пьяная женщина ведет громкую перепалку или закрылась в ванной и ее рвет. Я играла для Фей, которая сидела во внутреннем дворике, наблюдая, как солнце высушивает капли дождя на каменных плитах. Я играла для Фей, которой были ведомы такие секреты, пока другие люди ссорились, обвиняя друг друга.
Во время наших разъездов моим спутникам иногда приходилось нелегко. Я все никак не могла перестать играть на Большом Страде. Я спятила, как говорил Гленн. Приехал доктор Гидри. В каком-то городе мой зять Мартин предложил, чтобы меня проверили на наркотики, и тогда Катринка наорала на него.
Никаких наркотиков. Никакого вина. Только музыка.
Я стала словно героиня «Красных башмачков»,[23] только в скрипичном варианте. Я играла, играла, играла до тех пор, пока всех в номере не сваливал сон.
Однажды меня унесли со сцены. Это была операция спасения, как мне кажется, потому что я все играла и играла, а зрители продолжали бисировать. Я потеряла сознание, но совсем скоро очнулась.
Я открыла для себя мастерский фильм «Бессмертная возлюбленная», в нем великий актер Гэри Олдман, кажется, сумел передать сущность Бетховена, которого я всю жизнь обожествляла и однажды даже видела, скорее всего, в своем безумии. Я заглянула в глаза великого актера Гэри Олдмана. Он сумел выразить превосходство гения над остальными. Он сумел выразить героизм, о котором я мечтала, изолированность, о которой я знала, и стойкость, которую я старалась перенять.
– Мы обязательно найдем Фей! – сказала Розалинда. За обедом в отеле мы проигрывали все то хорошее, что случилось за последнее время. – Ты наделала столько шума, что Фей обязательно его услышит и вернется! Теперь она захочет быть с нами…
Катринка ударилась в неистовое веселье и без конца сыпала анекдотами. Теперь ничто не могло ее остудить – ни налоги, ни закладные, ни приближающаяся старость или смерть, ни вопрос, в какой колледж отправить девочек, ни беспокойство – не тратит ли ее муж слишком много наших денег, – ничто ее не волновало.
Потому что все в этом времени изобилия и успеха можно было решить. Это был период успеха. Успеха, возможного только в наше время, я бы сказала, когда люди во всем мире могут записывать, смотреть и слушать – все одновременно – импровизации одной скрипачки.
Мы убедили самих себя, что Фей должна разделить этот успех с нами, что где-то как-то она уже знает о нас, ведь мы так к ней тянемся.
«Фей, возвращайся домой. Фей, окажись живой. Фей, где ты? Фей, как здорово разъезжать в лимузинах, селиться в красивых номерах; как здорово продираться на сцену сквозь толпу, как здорово. Фей, зрители дарят нам свою любовь! Фей, мы теперь знаем только тепло».
Однажды вечером в Нью-Йорке я стояла позади каменного грифона, это было, кажется, на одном из верхних этажей отеля «Ритц-Карлтон». Я смотрела на Сентрал-парк. Дул холодный ветер, совсем как тогда в Вене. Я вспоминала мать. Я вспоминала, как однажды она попросила помолиться вместе с ней, тогда впервые она заговорила со мной о своем пьянстве – она ни разу не упоминала о нем в присутствии других, – тогда она сказала, что эта жажда у нее в крови и что ее отец тоже испытывал эту жажду, как и его отец. Помолись со мной. Я закрыла глаза и поцеловала ее. Ночь в Гефсиманском саду.
В тот вечер я играла для нее на улице.
Вскоре мой пятьдесят пятый год подойдет к концу. Наступит октябрь, и мне исполнится пятьдесят пять.
А потом в конце концов, как я и предполагала, наступило неизбежное.
Как любезно со стороны Стефана и в то же время как абсолютно неразумно было самому писать письмо собственной призрачной рукой, а может быть, он вселился в человеческое тело, чтобы написать эти письма?
Никто в наше время не пишет таким идеальным почерком с длинным четким росчерком старинного пера, красными чернилами на пергаменте, никак не меньше, новом пергаменте, разумеется, но таком же твердом, как во времена его жизни.
Он написал прямо, без всяких обиняков.
«Стефан Стефановский, Ваш старинный друг, сердечно приглашает Вас дать благотворительный концерт в Рио-де-Жанейро, где будет с нетерпением ждать встречи с Вами. Все расходы по Вашему проживанию вместе с семейством в отеле „Копакабана“ будут оплачены. С удовольствием сообщу Вам все детали Вашего пребывания в Рио. Позвоните в любое удобное для Вас время по следующим телефонам…»
Катринка обсудила детали по телефону.
– В каком театре? Муниципальном?
Звучит современно, стерильно, подумала я.
Я бы привел к тебе Лили, если бы мог.
– Ты ведь не хочешь туда ехать? – поинтересовалась Роз. После четвертой кружки пива она совсем размякла и сидела, обняв меня рукой. Я, притулившись к ней, сонно смотрела в окно. Это был Хьюстон, тропический город с великолепным балетом и оперой и изумительной публикой, которая тепло нас принимала и не задавала вопросов.
– Я бы на твоем месте не ездила, – сказала Катринка.
– Рио-де-Жанейро? – сказала я. – Но ведь это красивый город. Карл хотел поехать. Он думал завершить свою работу над книгой. Святой Себастьян, его святой, его…
– Область научных исследований, – договорила Роз.
Катринка рассмеялась.
– Что ж, книга давно завершена, – сказал Гленн, муж Роз. – Сейчас ее развозят по магазинам. Грейди говорит, все идет превосходно. – Гленн поправил очки на переносице. Потом сел и сложил руки на груди.
Я взглянула на письмо. Приезжай в Рио.
– Я вижу по твоему лицу, никуда не езжай!
Я продолжала разглядывать письмо. Руки у меня взмокли и дрожали. Его почерк, его имя.
– Ради всего святого, – вмешалась я, – о чем вы все толкуете?
Они переглянулись.
– Если она теперь не помнит, то вспомнит потом, – сказала Катринка. – Та женщина, что писала тебе, твоя старинная подруга из Беркли, которая утверждала…
– Что Лили… возродилась в Рио? – спросила я.
– Да, – сказала Роз. – Эта поездка сделает тебя несчастной. Я помню, как Карл стремился туда. Ты тогда сказала, что тоже очень бы хотела увидеть этот город, но тебе этого не вынести, помнишь? Я сама слышала, как ты говорила Карлу…
– Не помню, чтобы я такое ему говорила, – возразила я. – Помню только, что я никуда не поехала, хотя ему очень хотелось. А теперь я просто должна.
– Триана, – сказал Мартин, – ни в одном городе ты не найдешь возрожденную Лили.
– Она сама это прекрасно понимает, – сказала Роз.
Катринка совсем сникла, став несчастной. Мне не хотелось этого видеть. Когда-то она была очень близка Лили. В те времена Роз с нами не было ни в Беркли, ни в Сан-Франциско. Зато Катринка была и у кровати больной, и у гроба, и на кладбище – она прошла через все это.
– Не езжай, – сказала Катринка хриплым голосом.
– Я поеду по другой причине, – сказала я. – Я не верю, что Лили там. Я верю, если Лили и живет где-то, то не нуждается во мне, иначе она бы пришла…
Я замолчала. Мне вспомнились его ненавистные, больно ужалившие слова.
Ты ревновала, тебя терзали муки ревности, что твоя дочь открылась Сьюзен, а не тебе. Признайся! Так ты тогда думала. Почему твоя дочь не пришла к тебе? А ты потеряла письмо, так на него и не ответив, хотя знала, что Сьюзен была искренна, хотя знала, как она любила Лили и как верила…
– Триана!
Я подняла голову. В глазах Роз стоял прежний страх, тот самый страх из плохих времен, до того, как мы получили все, что хотели.
– Не волнуйся, Роз. Я не буду искать Лили. Этот человек… я ему кое-чем обязана, – сказала я.
– Кому? Этому Стефану Стефановскому? – поинтересовалась Катринка. – Люди, с которыми я говорила по телефону, даже не знают, кто он такой. То есть я хочу сказать, что приглашение, конечно, подлинное, но они даже понятия не имеют, что это за человек…
– Я хорошо его знаю, – сказала я. – Вы разве забыли? – Я поднялась из-за стола и взяла в руки скрипку, которая всегда находилась на расстоянии не дальше четырех дюймов от меня и сейчас лежала на стуле.
– Скрипач из Нового Орлеана! – сказала Роз.
– Да, это Стефан. Это именно он. Я хочу поехать туда. А кроме того… Говорят, там очень красиво.
Неужели это то самое место, что виделось мне во сне? Лили знала, что выбрать: рай.
– Муниципальный театр… Звучит скучновато, – заметила я.
Или кто-то уже произносил раньше эти слова?
– Опасный город, – откликнулся Гленн. – Там тебя готовы убить за кроссовки. Бедняков полным-полно, они строят свои хижины на склонах гор. А этот пляж Копакабана? Его создали несколько десятков лет назад…
– Там красиво, – прошептала я.
Меня никто не расслышал. Я держала в руках скрипку и начала пощипывать струны.
– Прошу тебя, только не начинай сейчас играть, а то я свихнусь, – сказала Катринка.
Я рассмеялась. Роз тоже.
– То есть не каждую же секунду… – поспешила добавить Катринка.
– Все в порядке. И все-таки я хочу поехать. Я должна поехать. Это просьба Стефана.
Я сказала, что не обязательно ехать со мной. В конце концов, это все-таки Бразилия. Но к тому времени, когда мы сели в самолет, им уже не терпелось увидеть экзотическую легендарную страну с тропическими лесами и огромными пляжами, и муниципальный театр, который, судя по названию, представлял собой бетонное городское сооружение.
Разумеется, все оказалось не так. Вы это знаете. Бразилия не просто другая страна. Это другой мир, где сны приобретают причудливую форму, а люди тянутся к духам, где святые и африканские божества находят себе место на золоченых алтарях.
Вы знаете, что я там нашла. Конечно… я боялась. Остальные видели это. Они чувствовали мой страх. Я действительно думала о Сьюзен, и не только о ее письме, а о том, что она мне сказала после смерти Лили. Я все время мысленно возвращалась к ней и к ее рассказу после смерти Лили: Лили знала, что скоро умрет. Я всегда хотела сохранить это в тайне от девочки. Но Лили сказала Сьюзен: «Знаешь, я скоро умру. – И при этом она рассмеялась. – Я знаю, потому что мамочка знает, и мамочка боится».
Но я в долгу перед тобой, Стефан. Я в долгу перед тобой, потому что ты дал мне силы. Я не могу тебе отказать.
Я заставила себя улыбаться. Я выработала план действий. Говорить об умершем ребенке оказалось не так уж трудно. Родные давным-давно перестали расспрашивать меня, каким образом я очутилась в Вене. Они не связали это событие с безумным скрипачом.
Итак, мы отправились в путь и снова смеялись, скрывая страх, страх, похожий на тени в длинном пустом доме, где мать пила, а дети спали в липкой духоте, и я боялась, что дом займется огнем и я не смогу их вытащить, и отец, как всегда, пропадал неизвестно где, и у меня стучали зубы, хотя было тепло, и в темноте летали комары.
Глава 17
Сонные и разморенные долгим перелетом на юг, за экватор, над Амазонкой, с посадкой в Рио, мы ехали в поезде, который вез нас по длинному черному туннелю под заросшей тропическим лесом горой Корковадо. Это великолепие – гранитный Христос с распростертыми руками на вершине горы – я должна была увидеть собственными глазами, прежде чем покинуть страну.
Теперь я носила с собой скрипку все время в новом мешке с красной бархатной подкладкой, набитой для мягкости ватой, надевая шнурок на плечо.
Мы не торопясь могли осмотреть все здешние чудеса – и Сахарную гору, и старые дворцы Габсбургов, которые приехали сюда, спасаясь от Наполеона, пока он обстреливал Вену Стефана.
Что-то коснулось моей щеки. Я почувствовала чей-то вздох, у меня побежали по спине мурашки. Я не шелохнулась. Вагон продолжал раскачиваться.
Когда мы выехали из туннеля, воздух стал прохладней, перед нами открылось огромное небо потрясающей голубизны.
Как только мы окунулись в гущу Копакабаны, меня охватил озноб и показалось, будто рядом находится Стефан; я почувствовала, как что-то легкое мазнуло меня по щеке, и крепче прижала к себе скрипку в мягком бархатном одеянии, стараясь побороть этот нервный приступ и оглядеться вокруг. Копакабана оказалась густо застроена высоченными зданиями и низенькими магазинчиками, гудели уличные разносчики, толпились усталые туристы. Все это напоминало Оушен-драйв на Майами-Бич, или деловую часть Манхэттена, или Маркет-стрит в Сан-Франциско в полдень.
– Какие деревья! – воскликнула я. – Смотрите, здесь повсюду такие огромные деревья.
Они стояли прямые, зеленые, раскинув фестончатые кроны, как зонтики, под которыми можно было укрыться от невыносимой жары. Еще ни разу в таком густонаселенном городе я не видела столько деревьев – они были повсюду, росли на грязной мостовой, в тени небоскребов, среди гудящей толпы.
– Это миндальные деревья, мисс Беккер, – пояснил наш гид, высокий гибкий юноша, очень бледный, со светлыми волосами и полупрозрачными голубыми глазами. Звали его Антонио. Он говорил с тем же акцентом, что я слышала в своем сне, португальским акцентом.
Мы оказались там. Мы оказались в том самом месте, где было пенящееся море и мраморный дворец. Но когда же я их увижу?
Я почувствовала, как в меня ударила огромная теплая волна, когда мы свернули на пляж; море в тот день было спокойным, но это было то самое море из моих снов, никаких сомнений. Впереди и позади нас возвышались горы, отличавшие этот пляж от других многочисленных пляжей города Рио-де-Жанейро.
Наш сладкоголосый гид, Антонио, рассказывал о многочисленных пляжах, протянувшихся далеко на юг, и что это второй по величине пляж в городе с населением одиннадцать миллионов. Горные пики поднимались прямо от земли. В крытых соломой хижинах продавали прохладительные напитки. Автобусы и автомобили, с трудом протискиваясь, искали место для парковки, и если какое вдруг освобождалось, то мчались туда наперегонки. А море, море оказалось безграничным сине-зеленым океаном, хотя на самом деле это был залив, и там, за горизонтом, были другие горы, которых мы не могли видеть. Красивейшая бухта, созданная самим Богом.
Розалинду захлестнули чувства. Гленн принялся щелкать фотоаппаратом… Катринка с легким беспокойством наблюдала за бесконечной вереницей одетых в белое мужчин и женщин, бродивших по широкой ленте бежевого песка. Я в жизни не видела такого широкого и красивого пляжа.
В том сне я мельком видела узорчатую тропинку – этот странный рисунок, как я теперь убедилась, был выполнен мозаикой.
Наш гид, Антонио, рассказывал о человеке, построившем всю длинную авеню вдоль пляжа с этими мозаичными узорами, которыми можно было любоваться даже с воздуха. Он рассказывал о многочисленных местах, куда мы могли бы пойти, о теплом море, о праздновании Нового года и карнавале, тех особых днях, которые мы обязательно должны увидеть воочию.
Машина свернула налево. Перед нами возник отель. Дворец Копакабана – величественное семиэтажное белое здание в старом стиле, с широкой террасой на уровне второго этажа, отделанной римскими арками. Несомненно, за этими огромными арками скрывались и обычные комнаты, и бальные залы. А красивый оштукатуренный белый фасад был полон британского достоинства.
Барокко, его последние слабые отголоски, здесь, среди современных высотных домов, обступивших его со всех сторон, но не смевших прикоснуться к нему.
В середине круглой подъездной аллеи сгрудились миндальные деревья с широкими зелеными блестящими кронами, не слишком высокие, словно сама природа сдерживала их бурный рост. Я оглянулась. Деревья протянулись вдоль всего бульвара по обе стороны. Такие же прелестные деревья, как те, что росли на главных магистралях. Деревья, сколько глаз хватало. Я вздрогнула, держа в руках скрипку.
А какое небо над морем, как быстро оно меняется, как мчатся по нему облака. О Господи, какой высокий небосвод.
– Нравится здесь, дорогая?
Я похолодела. Тут же деланно рассмеялась, почувствовав, как он прикасается ко мне. Словно костяшки пальцев тронули мою щеку. Потом кто-то дернул меня за волосы. Мне это не понравилось: «Не смей дотрагиваться до моих длинных волос. Это моя вуаль. Не трогай меня!»
– Гони прочь плохие мысли! – сказала Роз. – Здесь такая красота!
Мы двигались по классической подъездной аллее, развернулись перед главным входом, и к нам вышла менеджер – англичанка по имени Фелис, очень хорошенькая, очаровательная, очень вежливая, как все англичане, в присутствии которых мы кажемся грубиянами.
Я вылезла из машины и прошла немного назад по дорожке, чтобы рассмотреть как следует фасад отеля.
Над главной аркой я увидела окно.
– Это ведь мой номер, да?
– Да, мисс Беккер, – ответила Фелис. – Он расположен прямо по центру здания. Президентский люкс, как вы просили, у нас есть люксы на том же этаже для всех ваших гостей. Идемте, я знаю, вы, должно быть, устали. Сейчас для вас поздняя ночь, а здесь у нас середина дня.
Розалинда приплясывала от радости. Катринка заметила поблизости ювелирный магазин, где торговали драгоценными бразильскими изумрудами. Я увидела, что к отелю пристроены и другие магазины: например, маленькая книжная лавка с португальскими книжками.
К нашим чемоданам слетелась целая толпа носильщиков.
– Чертовски жарко, – сказал Гленн. – Идем же, Триана, идем внутрь.
Я стояла как примороженная.
– Почему бы и нет, дорогая?
Я смотрела на окно, то самое окно, которое я видела во сне, когда впервые появился Стефан, и я знала, что если выгляну из этого окна, то увижу пляж и волны, сейчас это были маленькие волны, но скоро они вырастут и появится та самая пена. Все как во сне, без преувеличений.
Да, таких огромных бухт или заливов я никогда не видела, даже Сан-Франциско нельзя было сравнить с этим местом по красоте и масштабу.
Нас провели внутрь отеля. Войдя в лифт, я закрыла глаза. Почувствовала его рядом с собой, почувствовала его руку.
– Итак? Почему именно здесь? – прошептала я. – Чем это место лучше других?
– Друзья, моя дорогая.
– Триана, прекрати разговаривать сама с собой, – сказал Мартин, – а то все решат, что ты действительно не в себе.
– Какое это теперь имеет значение? – поинтересовалась Роз.
Мы разбрелись по номерам, нас проводили, направили, предложили холодные напитки, нас обласкали.
Я прошла в гостиную президентского люкса. Сразу направилась к маленькому квадратному окошку. Оно было мне знакомо. Я знала, как действует его щеколда, и распахнула окно.
– Друзья, Стефан? – переспросила я, стараясь говорить как можно тише, словно бормотала благодарственную молитву. – И кто же они такие, эти твои друзья, и почему здесь? Почему я видела все это, когда ты впервые пришел ко мне?
Ответа не последовало, в комнату ворвался лишь чистый морской бриз, запах которого ничто не способно перебить, ветер пронесся мимо меня, коснулся мебели, темного ковра, хлынув оттуда, где кончался огромный пляж и где лениво бродили темные фигурки, шагая то по песку, то по мелкому прибою. В небе висели тяжелые облака.
– Ты все мои сны знаешь, Стефан?
– Ты отобрала у меня скрипку, дорогая. Я не хочу причинять тебе боль, но я должен ее вернуть.
Остальные занимались багажом и разглядывали виды из своих окон; в гостиные потянулись тележки из обслуживания номеров.
Я подумала, что в жизни не вдыхала такой чистый чудесный воздух, я смотрела на воду, на крутую гранитную гору, поднимавшуюся на фоне голубого неба. Я смотрела на идеальную мерцающую линию горизонта.
Ко мне подошла Фелис, менеджер. Она указала на горы вдалеке. Начала перечислять названия. Внизу ревели автобусы, подъезжавшие к пляжу. Это не имело никакого значения. Так много людей было одето в просторную белую одежду с короткими рукавами, что казалось, будто это национальный наряд. Я видела представителей всех рас с разным цветом кожи. Откуда-то сзади доносилась тихая португальская песня.
– Не хотите, чтобы я взяла скрипку и…
– Нет, скрипка всегда остается при мне, – ответила я.
Он рассмеялся.
– Вы слышали? – спросила я у англичанки.
– Что слышала? Когда мы закроем окна, в комнате станет очень тихо. Вы будете приятно удивлены.
– Нет, я имела в виду голос, смех.
Гленн тронул меня за локоть:
– Не думай об этих вещах.
– Мне очень жаль, – сказал чей-то голос.
Я повернулась и увидела темнокожую красивую женщину с волнистыми волосами и зелеными глазами, в которой смешалось несколько рас, создав невообразимую красоту. Она была высокая, с длинными распущенными по плечам волосами, как у Христа, руки обнажены, белозубая улыбка, губы подкрашены кроваво-красной помадой.
– Жаль?
– Мы не должны сейчас об этом говорить, – поспешно вмешалась Фелис.
– Газеты уже обо всем узнали, – сказала богиня с волнистыми волосами, сложив руки так, словно молила меня о прощении. – Мисс Беккер, это Рио. Люди здесь верят в духов и очень любят вашу музыку. В страну ввозятся тысячи ваших записей. Люди у нас глубоко религиозны и не хотят никому зла.
– Что проникло в газеты? – встревожился Мартин. – То, что она остановится в этом отеле? Что вы имели в виду?
– Нет, все и так знали, что вы поселитесь в этом отеле, – ответила высокая темнокожая женщина с зелеными глазами. – Я имела в виду печальную историю о вашем умершем ребенке, душу которого вы хотите здесь найти. Мисс Беккер…
Она протянула руку и крепко сомкнула пальцы на моей руке.
Я почувствовала ее теплое прикосновение, но по мне пробежала ледяная дрожь, а когда я взглянула в ее глаза, то сразу ослабела.
Все же во всем этом было нечто завораживающее. Завораживающее своим ужасом.
– Мисс Беккер, простите нас, но мы не сумели пресечь слухи. Мне очень жаль, что мы причиняем вам боль. Внизу уже собрались репортеры…
– Ну и что? Им придется уйти, – сказал Мартин. – Триана должна поспать. Мы летели сюда больше девяти часов. Ей нужен сон. Концерт назначен на завтрашний вечер, ей едва хватит времени на…
Я повернулась и взглянула на море. Потом с улыбкой обернулась к молодой женщине и взяла ее за руки.
– Вы религиозный народ, – сказала я. – Здесь смешались католическая, африканская и даже индийская религия, как я слышала. Как называются ритуалы, которые до сих пор практикуются в вашей стране? Никак не могу вспомнить.
– Макумба, Кандомбле… – Она пожала плечами, испытывая благодарность за мое прощение. Фелис, британка, стояла чуть поодаль, ей было явно не по себе.
Я была вынуждена признать, что, куда бы мы ни поехали, как бы мы ни веселились, кому-то непричастному всегда приходилось испытывать неловкость. Теперь этим человеком оказалась англичанка, испугавшаяся, что на меня посыплются оскорбления, что было само по себе невозможно.
Так уж и невозможно? Ты действительно думаешь, что твоя дочь здесь?
– Это ты мне скажешь, – прошептала я. – Она не входит в число твоих друзей, даже не пытайся заставить меня думать так. – Я смотрела вниз и произносила это себе под нос.
Остальные удалились. Мартин проводил их.
– Так что мне сказать этим проклятым репортерам?
– Правду, – ответила я. – Старая подруга сообщила, что Лили возродилась в этом городе. – Я вновь повернулась к окну, подставив лицо блаженному ветру. – Господи, взгляни на это море, взгляни! Если Лили суждено было вернуться, во что я не верю, так почему не сюда? Кстати, ты слышишь их голоса? Я когда-нибудь тебе рассказывала о бразильских ребятишках, которых она любила? Они жили по соседству с нами в те последние годы.
– Я видел их, – ответил Мартин. – Я был там. Ты говоришь о семействе, что приехало из Сан-Паулу. Не хочу, чтобы ты расстраивалась из-за этих вещей.
– Скажи журналистам, что мы ищем Лили, но вовсе не надеемся найти ее в каком-то здравствующем человеке, скажи им что-то хорошее, скажи им нечто такое, что поможет заполнить муниципальный зал, где мне предстоит играть. Ступай же.
– Все билеты проданы, – сказал Мартин. – И я не хочу оставлять тебя одну.
– Я все равно не усну, пока не стемнеет. Здесь слишком яркий свет, слишком много красоты и великолепия. Мартин, ты устал?
– Нет, не очень. Почему ты спрашиваешь? Чем бы ты хотела заняться?
Я подумала.
Рио…
– Мне хотелось бы подняться в горы, в тропический лес, – ответила я, – забраться на вершину Корковадо. Небо здесь такое чистое. Мы ведь успеем до темноты? Я хочу увидеть Христа с распростертыми руками. Жаль, мы не можем увидеть его отсюда.
Мартин обо всем договорился по телефону.
– Какая чудесная мысль, – сказала я, – что Лили якобы вернулась в этот мир, чтобы прожить долгую жизнь в таком красивом месте, как это. – Я закрыла глаза и представила ее, мою крошку, лысенькую и улыбающуюся, уютно устроившуюся у меня на ручках, такую толстенькую и пухленькую в своем платье в клеточку с белым воротничком, что мы звали ее «кубышечкой».
Я так ясно услышала ее смех, будто она сидела верхом на Льве, который растянулся на спине на прохладной траве розария в Окленде. Катринка и Мартин в тот день взяли в руки фотоаппараты и щелкнули нас. У нас до сих пор сохранилась фотография – наверное, она у Льва – Лев лежит на спине, а Лили сидит у него на груди, задрав улыбающееся круглое личико в небо. Катринка тогда сделала много чудесных фотографий.
О Господи, прекрати.
Смех.
– Как бы ты ни старалась, тебе не удастся представить все в розовом цвете: слишком много боли, к тому же ты думаешь, что, возможно, она ненавидит тебя, раз ты позволила ей умереть, как и своей матери, наверное. Не забывай, что ты оказалась на земле духов.
– Ты черпаешь свои силы в этом месте? Ты глупец. Скрипка моя. Я лучше сожгу ее, чем позволю тебе вновь завладеть ею.
Мартин произнес мое имя. Он стоял за моей спиной, наблюдая, как я разговариваю с пустотой, или, может быть, ветер заглушил мои слова.
Машина была подана. Нас ждал Антонио. Нам предстояло доехать до трамвая. С нами отправлялись двое охранников, оба из бывших полицейских, нанятых для нашей безопасности; трамваем мы должны были проехать по тропическому лесу в гору и проделать пешком последние метры к подножию статуи Христа, стоявшей на самой вершине горы.
– Ты уверена, – спросил Мартин, – что не слишком устала для подобной поездки?
– Я так взволнована. Мне нравится этот воздух, это море, все вокруг…
Антонио сказал, что у нас еще полно времени до отхода трамвая. Смеркаться начнет только часов через пять. Но небо затягивают облака, оно темнеет – не самый удачный день для поездки на Корковадо.
– Это мой день, – сказала я. – Поехали. Я сяду с вами спереди, – сказала я нашему гиду. – Хочу увидеть все, что только можно.
Мартин и двое охранников сели сзади. Едва мы отъехали от обочины, как я заметила вездесущих репортеров, увешанных камерами, они столпились в дверях отеля, затеяв жаркую перепалку с англичанкой Фелис, которая даже виду не подала, что мы находимся в нескольких метрах.
Ничего особенного не могу сказать о трамвае, разве только что он был очень старый, как деревянные трамваи Нового Орлеана, и что его тянули в гору, как фуникулерные вагоны в Сан-Франциско. Кажется, я слышала, что временами на них опасно ездить. Но сейчас это не имело значения. Мы бросились к вагончику трамвая, когда тот как раз собирался отъехать от остановки. Внутри оказалось совсем немного народа, по большей части это были европейцы. Я слышала, что люди разговаривали на французском, испанском и мелодичном ангельском языке, который наверняка был португальский.
– Боже мой, – сказала я, – мы въезжаем прямо в лес.
– Да, – откликнулся наш гид Антонио. – Этот лес протянется до самой вершины. Он очень красив, но раньше его здесь не было…
– Расскажите, – попросила я и с удивлением, высунувшись в окно, дотронулась до голой земли, настолько близко мы от нее проезжали, а еще я трогала папоротник в расщелинах и разглядывала деревья, склонившиеся над рельсами.
Пассажиры весело болтали и улыбались.
– Видите ли, когда-то здесь была кофейная плантация, но потом в Бразилию приехал один богач, увидел эту гору и решил, что сюда нужно вернуть тропический лес, что и было сделано. Это совсем молодой лес, ему только пятьдесят лет, но это наш тропический лес в Рио, он посажен для нас. Вот видите, этот человек проследил, чтобы все тщательно сделали.
Лес выглядел таким же диким и не испорченным цивилизацией, как любой тропический рай, который я когда-либо видела. Сердце громко стучало.
– Ты здесь, сукин сын? – прошептала я Стефану.
– Что ты сказала? – переспросил Мартин.
– Я сама с собой, молюсь на удачу.
– Ох, эти вечные твои молитвы.
– Что ты хочешь этим сказать? Смотри, земля красная, абсолютно красная!
Мы поднимались, медленно описывая дугу за дугой среди плотно стоящих сонных деревьев.
– Кажется, начинается туман, – сказал Антонио с печальной улыбкой, словно извиняясь.
– Не важно, – сказала я. – И так все прекрасно, таким видом можно любоваться при любой погоде, вы не считаете? А когда я поднимаюсь, как сейчас, все выше и выше в гору, к небу и Христу, то могу не думать о прочих вещах.
– Это полезно, – сказал Мартин и закурил сигарету. Катринки рядом не было, чтобы велеть ему загасить ее. Антонио не курил и не был против, кажется, его даже удивило, когда Мартин спросил, разрешено ли здесь курить.
Трамвай сделал остановку, подобрав пассажирку с многочисленными свертками. Это была темнокожая женщина в мягких бесформенных туфлях.
– Значит, у него маршрут как у обычного трамвая?
– Ну да, – пропел Антонио, – некоторые люди работают на горе, другие просто приезжают сюда, а еще здесь есть одно очень бедное поселение…
– Из одних лачуг, – сказал Мартин. – Я слышал об этом, но мы туда не пойдем.
– Конечно, нам это и не нужно.
Снова зазвучал смех. Очевидно, никто больше его не слышал.
– Ну что, выдохся? – прошептала я и опустила окно. Я высунулась, несмотря на предостережение Мартина, и любовалась зелеными ветвями, вдыхала аромат земли, разговаривала с ветром. – Больше не можешь стать видимым, больше не можешь сделать так, чтобы тебя слышали?
Я приберегаю свои лучшие трюки для тебя, моя дорогая, для тебя, которая смело проникла в потаенные уголки моей души, для тебя, которая распевала свои вечерние молитвы под колокольный перезвон внутри меня, о котором я даже сам не подозревал. Для тебя я создам другие чудеса.
– Лжец, мошенник, – произнесла я под грохот трамвая. – Водишь компанию с ободранными призраками?
Трамвай снова остановился.
– Какой красивый дом справа. Что это? – спросила я.
– Ах да, – сказал Антонио с улыбкой, – мы сможем осмотреть его по дороге вниз. Давайте я прямо сейчас позвоню. – Он вынул из кармана маленький сотовый телефон. – Если хотите, я велю машине подъехать туда за нами. Когда-то это был отель. Сейчас он заброшен.
– Да, конечно, я должна его увидеть. – Я оглянулась, но к этому времени мы уже завернули за поворот, поднимаясь все выше и выше. Наконец наш путь завершился, и мы вышли на заасфальтированную платформу, где уже ждала целая толпа туристов, чтобы совершить обратный путь.
– Ну вот, – сказал Антонио. – Теперь мы будем подниматься по лестнице до статуи Христа.
– Подниматься по лестнице! – возопил Мартин. Позади нас фланировали телохранители, расстегнувшие свои жилеты цвета хаки, чтобы нам и всем остальным была видна их портупея с оружием. Один из них мне почтительно улыбнулся.
– Все не так плохо, – сказал Антонио. – Лестница высокая, но она, видите ли, не сплошная, на каждой… как это говорится?.. площадке можно отдохнуть, выпить чего-нибудь прохладительного. Вы действительно сами хотите нести скрипку? Может быть, я?..
– Она всегда сама носит инструмент, – сказал Мартин.
– Я должна забраться на самый верх, – сказала я. – Однажды в детстве я видела в кино эту статую – Христа с распростертыми руками. Как на распятии.
Я пошла вперед. Как там было чудесно, ленивая усталая толпа, маленькие лавочки, торгующие безделушками и консервированными напитками, праздные туристы, сидящие за металлическими столиками. Все такие разморенные на этой прекрасной жаре, и туман окутывал гору белыми рваными клочьями.
– Это облака, – пояснил Антонио. – Мы в зоне облаков.
– Великолепно! – закричала я. – А какая красивая балюстрада! Она итальянская? Мартин, смотри, здесь все перемешано, старое и новое, европейское и чужестранное.
– Да, эта балюстрада очень старая, а ступени, как видите, совершенно пологие.
Мы переходили с одной площадки на другую.
Теперь мы шли в идеальной плотной белизне. Мы видели друг друга, наши ноги, ступени, но больше практически ничего.
– О, как не повезло, – сокрушался Антонио. – Нет-нет, вы обязательно должны вернуться в солнечный день, так ничего не видно.
– Покажите, в каком направлении находится статуя? – попросила я.
– Мисс Беккер, мы сейчас находимся у самого ее основания. Сделайте шаг назад и взгляните наверх.
– Такое впечатление, будто мы стоим на небесах, – сказала я.
Как бы не так.
– Лично я вижу один туман, – сказал Мартин, но тем не менее дружелюбно улыбнулся. – Ты права, это удивительная страна, удивительный город.
Он указал направо, где облака разошлись, и мы увидели внизу раскинувшийся перед нами огромный город, больше, чем Манхэттен или Рим. Облака сомкнулись.
Антонио указал наверх. Внезапно произошло обычное чудо, маленькое и восхитительное. Из белого тумана, всего в нескольких ярдах от нас, выплыла гигантская гранитная фигура Христа; его лицо было прямо над нами, руки вытянуты в стороны, но не для объятия, а для того, чтобы быть распятым; через несколько секунд фигура исчезла.
– Смотрите дальше. – Антонио вновь указал вверх.
Весь мир был укрыт чистым белым цветом, а затем внезапно фигура появилась снова там, где туман поредел. Мне хотелось плакать, я начала плакать.
– Христос, Лили здесь? Ответь! – прошептала я.
– Триана, – сказал Мартин.
– Любой может помолиться. Кроме того, я вовсе не хочу, чтобы она оказалась здесь. – Я попятилась, чтобы лучше рассмотреть Его, моего Бога, когда облака вновь разошлись и сомкнулись.
– Здесь не так уж плохо в облачный день, как я думал, – сказал Антонио.
– Ну конечно, здесь божественно, – подтвердила я.
Думаешь, это тебе поможет? Как те четки, что ты вытянула из-под подушки, когда я тебя покинул?
– Неужели в твоей душе остались еще потаенные уголки? – Я едва шевелила губами, со стороны, наверное, казалось, что я бормочу что-то бессмысленное. – Неужели наше с тобой мрачное путешествие ничему тебя не научило? Или ты теперь совсем не связан с природой, вроде тех призраков, что когда-то тебя преследовали? Я ведь не должна была увидеть твой Рио, тебе нужны только мои воспоминания. Неужели ты к ним ревнуешь? Что тебя здесь удерживает? Силы иссякают, а ты все ненавидишь, ненавидишь…
– Я ждал самого главного момента – твоего унижения.
– Мне следовало бы догадаться, – прошептала я.
– Хорошо бы, чтобы ты не молилась вслух, – беспечно произнес Мартин. – А то я невольно вспоминаю свою тетю Люси и то, как она заставляла нас слушать молитвы по радио каждый вечер в шесть часов, и мы пятнадцать минут стояли на коленях на деревянном полу!
Антонио рассмеялся.
– Как это похоже на католиков. – Он дотронулся до моего плеча, а потом и до плеча Мартина. – Друзья мои, сейчас пойдет дождь. Если хотите осмотреть отель до дождя, то нам следует спуститься к трамваю сейчас.
Мы ждали, чтобы облака расступились в последний раз. И увидели огромного сурового Христа.
– Если Лили познала покой, Господи, – сказала я, – то я не прошу, чтобы ты дал мне знать.
– Ты сама не веришь в эту муру, – сказал Мартин.
Антонио был поражен. Он ведь не мог знать, что все мои ближайшие родственники денно и нощно поучают меня.
– Я верю, что, где бы ни была сейчас Лили, она во мне не нуждается. И это относится ко всем по-настоящему усопшим.
Мартин не слушал.
Над нами еще раз появился Христос с разведенными в сторону руками, как на кресте. Мы поспешили к трамваю.
Наши телохранители, которые стояли привалившись к балюстраде, смяли банки из-под напитков, швырнули их в урну и последовали за нами.
К тому времени, когда мы спустились вниз, туман стал совсем мокрый.
– Это первая остановка? – спросила я.
– Да, других нет, – сказал Антонио. – Я уже вызвал машину. Ехать в гору гораздо труднее, чем вниз, так что мы можем не торопиться, если хотите, а потом уже будет не важно, идет ли дождь. То есть я хочу сказать, что мне, разумеется, очень жаль, что день такой ненастный…
– Все чудесно.
Кто же пользовался этой первой трамвайной остановкой? Остановкой возле заброшенного отеля?
Здесь же была стоянка для машин. Какие-то люди, несомненно, поднимались на мощных маленьких автомобилях, оставляли их на парковке и пересаживались на трамвай, который вез их на вершину. Больше здесь делать было нечего.
Большого, выкрашенного охрой здания гостиницы еще не коснулась разруха, но за ним явно никто не следил.
Я застыла как зачарованная и смотрела на этот дом. Облака не спустились так низко, и мне был виден город и море, которые можно было рассмотреть из этих окон, теперь закрытых ставнями.
– Какое место…
– Да, – сказал Антонио, – было много планов, очень много, возможно… вот, посмотрите сами за забор. – Я увидела тропинку, я увидела двор, я рассмотрела поблекшие ставни на окнах, черепичную крышу. А что, если… нельзя ли… хотелось бы…
Во мне родилось неожиданное желание, чего не случалось ни разу во время наших путешествий, огородить для себя это место и иногда наведываться сюда, чтобы дышать воздухом этого леса. Мне казалось, что нет на земле прекраснее места, чем Рио.
– Идемте, – позвал Антонио.
Мы прошли мимо отеля. Толстые цементные ограждения охраняли нас от узкого ущелья. Только теперь мы рассмотрели, насколько велико это здание и как оно расположено над долиной. От этой красоты щемило сердце. Подо мной выстроились в прямую линию банановые деревья, они спускались все ниже и ниже по склону, словно росли из одного корня, а вокруг простиралась буйная зелень, и деревья раскачивались над нашими головами. Через дорогу, за нашими спинами лес круто поднимался в гору, мрачный и густой.
– Это рай.
Я стояла, наслаждаясь тишиной. Пусть все так и будет. Еще секунду. Мне не пришлось ни о чем просить. Хватило одного жеста. Мужчины отошли в сторону, закурили сигареты, принялись болтать. Я не слышала их слов. Ветер здесь дул не так, как на вершине. Облака спускались вниз, но очень медленно и не густо. Тишина и покой, а внизу расположились тысячи и тысячи зданий, домов, башен, улиц, за которыми начиналась спокойная изумительная красота бескрайней синей воды.
Лили здесь не было. Лили исчезла, точно так, как исчезла душа Маэстро, точно так, как уходят куда-то все души, душа Карла, душа матери. У Лили есть более важные дела, чем приходить ко мне, чтобы утешать или мучить.
– Не будь такой уверенной.
– Поосторожнее со своими трюками, – прошептала я. – У тебя я научилась превращать боль в музыку. И могу это сделать и сейчас, – сказала я. – Меня не так-то просто обмануть, тебе следовало бы это знать.
– От того зрелища, что ты увидишь, кровь застынет в твоих жилах и ты выронишь скрипку, ты будешь молить меня, чтобы я взял ее! Ты отвернешься от всего, чем до сих пор так восхищалась!
– Не думаю, – возразила я. – Ты должен помнить, как хорошо я их всех знала, как сильно любила и сохранила в памяти все, до малейшей подробности. Их лица, весь их облик. Не старайся повторить это. Так мы с тобой зайдем в тупик.
Послышался вздох. Он начал ускользать. Кажется, я услышала звуки рыданий, от которых у меня похолодели руки и шея.
– Стефан, – позвала я, – постарайся расстаться со мной, иначе…
Я проклинаю тебя.
– Стефан, почему ты выбрал меня? Неужели никто другой так не поклонялся смерти или музыке?
До моей руки дотронулся Мартин и куда-то показал. Я увидела внизу на дороге Антонио, который жестами подзывал нас.
Вниз пришлось спускаться довольно долго. Охранники несли караул.
Туман стал совсем влажным, но небо очистилось. Наверное, так и должно было случиться. Туман превращается в дождь и становится прозрачным.
Мы вышли на большую поляну, к тому, что там на горе казалось старым бетонным фонтаном, а теперь превратилось в полиэтиленовые мешки, выстроенные в круг ярко-синие бакалейные или аптечные мешки. Никогда не видела мешков такого цвета.
– Это их подношения, – сказал Антонио.
– Чьи?
– Тех, кто поклоняется Макумбе, Кандомбле. Видите? В каждом мешке подношение Богу. В одном рис, в другом – что-то еще, наверное, кукуруза, видите, они образуют круг. Здесь же горят свечи.
Я пришла в восторг. Но на меня не снизошло никакого сверхъестественного откровения, я лишь удивилась человеческим существам, их вере, самому лесу, создавшему эту маленькую зеленую часовню для странной бразильской религии со множеством различных ритуалов, в которой нашлось место и католическим святым.
Мартин засыпал гида вопросами. Сколько лет тому назад они впервые здесь собрались? Для чего все это? Антонио с трудом подбирал слова… ритуальное очищение.
– А тебя это не спасло бы? – прошептала я. Разумеется, я обратилась к Стефану.
Ответа не последовало.
Со всех сторон нас окружал лес, сияющий лес, омытый ливневым дождем. Я крепче обняла хорошо укутанную скрипку, чтобы внутрь мешка не просочилась влага. Я разглядывала старый круг из необычных липких синих полиэтиленовых мешков, свечные огарки. А почему бы и не синие мешки? Почему бы и нет? Неужели в Древнем Риме лампы в храмах отличались от обычных домашних светильников? Синие мешки риса, кукурузы… для духов. Ритуальный круг. Свечи.
– Человек становится… в центр… – Антонио вспоминал английский. – Для того, наверное, чтобы очиститься.
От Стефана ни звука, ни шепота. Я взглянула наверх сквозь зеленый полог. Дождь беззвучно омыл мое лицо.
– Пора идти, – сказал Мартин. – Триана, тебе нужно поспать. Подумай о наших хозяевах. Они затеяли что-то грандиозное и хотят пораньше за тобой заехать. Видимо, они чрезвычайно гордятся этим своим муниципальным театром.
– Но ведь это оперный театр, – умиротворяюще заметил Антонио, – очень пышный. Многие люди любят его осматривать. А после концерта там будут огромные толпы.
– Да-да, я хочу поехать пораньше, – сказала я. – Он весь из красивейшего мрамора, кажется так?
– А-а, так вы уже знаете, – сказал Антонио. – Он великолепен.
Обратно мы отправились в дождь. Антонио со смехом признался, что за все годы, что он проводит подобные экскурсии, ему ни разу не доводилось видеть ливневый лес во время ливня, так что для него это новое зрелище. Я была очарована красотой и уже ничего не боялась. Мне казалось, я поняла, что намерен предпринять Стефан. В голове гудела какая-то мысль, которая почти казалась планом.
Я решила, что все началось в Вене, когда я впервые сыграла для постояльцев отеля «Империал».
Я так и не сумела заснуть.
Дождь слился с морем.
Все стало серым, затем темным. Яркие огни определили широкие границы бульвара Копакабана или авенида Атлантика.
В спальне, выполненной в пастельных тонах, оборудованной кондиционером, я лишь слегка дремала, глядя на окна, запечатанные серой электрической ночью.
Несколько часов я лежала, вперившись в тот якобы реальный мир тикающих часов, в президентском люксе, глядя на все сквозь полуприкрытые веки.
Я обняла скрипку, свернулась вокруг нее калачиком и держала ее, как когда-то держала меня мама, или я держала Лили, или я и Лев, или Карл и я тулились друг к другу.
В какую-то минуту под влиянием паники я чуть было не пошла к телефону, чтобы звонить моему мужу, Льву, моему законному мужу, от которого я так глупо отказалась. Нет, это только причинит ему боль, ему и Челси.
Подумай о трех мальчиках. А кроме того, почему я вдруг решила, что он захочет вернуться, мой Лев? Он не может оставить ее и своих детей.
Он не должен этого делать, а я не должна думать об этом или даже желать этого.
Карл, побудь со мной. Карл, книга в хороших руках. Карл, работа завершена. Я отодвинула изможденную фигуру от стола, потянув за собой. «Приляг, Карл, все бумаги уже в порядке».
Раздался громкий стук.
Я проснулась.
Должно быть, я все-таки уснула.
Небо за окном было ясным и черным.
Где-то в гостиной или столовой распахнулось окно. Я слышала, как оно стучит. Окно в гостиной, то самое окно в центре фасада. В одних носках, не выпуская скрипку из рук, я прошла по темной спальне в гостиную и почувствовала сильный порыв освежающего ветра. Я выглянула в окно. Небо было чистым, усеянным звездами. Песок золотился при свете электрических фонарей, протянувшихся по всему бульвару.
Море бушевало на широком пляже.
Оно накатывало бесконечными блестящими волнами, нахлестывавшими друг на друга, и в этом свете гребень каждой волны на мгновение становился почти зеленым, а затем вода снова окрашивалась в черный цвет, после чего предо мною поднимались из пены танцующие фигурки.
Это происходило по всему пляжу, с каждой волной.
Я увидела это один раз, второй, я увидела это, глядя направо и налево. Я внимательно изучала одну шеренгу танцоров за другой. Одна волна за другой приносила их из глубин, они поднимались и протягивали руки к берегу, или к звездам, или ко мне, я точно не знала.
Иногда волна оказывалась такой длинной, а пена такой густой, что порождала восемь или девять гибких грациозных фигурок, они откатывались назад в море, а на смену им уже шла следующая пенная полоса.
– Никакие вы не души проклятых или спасенных, – сказала я. – Вы просто красивы. Так же красивы, как в том пророческом сне. Так же красивы, как ливневый лес в горах, как облака, проплывающие мимо лица Господа. Лили, тебя здесь нет, моя дорогая, ты не связана ни с одним местом, даже таким красивым, как это. Я бы почувствовала, если бы ты была здесь.
И снова ко мне пришла та мысль, тот незаконченный план, та недосказанная молитва, что нужно прогнать призрака.
Я взяла стул и уселась у окна. Ветер откинул мои волосы назад.
Волна за волной приносили на берег танцоров, ни один из них не был похож на другого, каждая группа нимф особенная, как мои концерты, а если и было какое-то повторение, то о нем знали только приверженцы теории хаоса. Время от времени какой-нибудь танцор поднимался во весь рост, и казалось, еще немного, и он высвободится из водного плена.
Так я просидела до утра.
Чтобы играть, мне вовсе не нужен сон. В любом случае я сумасшедшая. А если совсем свихнусь, то это только поможет делу.
Наступил рассвет, а с ним началось оживленное движение на улицах, внизу засуетились люди, распахнулись двери магазинов, покатили автобусы. В волнах заплескались купальщики. Я стояла у окна, с моего плеча свешивался мешок со скрипкой.
Какой-то звук отвлек мое внимание.
Вздрогнув, я обернулась. Но это был всего лишь посыльный, который вошел с букетом роз.
– Мадам, я очень долго стучал.
– Ничего страшного, это ветер виноват.
– Внизу собрались молодые люди. Вы для них так много значите, они пришли издалека, чтобы взглянуть на вас. Мадам, простите меня.
– Все в порядке. Дайте мне розы, я им помашу. Они узнают меня, когда увидят с розами, а я узнаю их.
Я вернулась к окну.
Солнце немилосердно обжигало воду; через секунду я разглядела их, троих стройных молодых женщин и двух мужчин, оглядывавших фасад отеля из-под ладошек, затем один из них увидел меня, увидел женщину с челкой и распущенными волосами, державшую в руках красные розы.
Я долго им махала и смотрела, как они подпрыгивают.
– В Португалии есть такая песня, классическая песня, – сказал посыльный. Он в это время возился с маленьким холодильником возле окна – проверял, есть ли напитки, какова температура. Молодые люди внизу все подпрыгивали и посылали мне воздушные поцелуи.
Да, поцелуи.
Я тоже посылала им поцелуи.
Потом я попятилась, когда мне показалось, что уже можно, и закрыла окно. Скрипка висела как горб на моей спине, в руках были розы. Сердце громко колотилось.
– Эта песня, – сказал посыльный, – кажется, была популярна в Америке. Она называется «Розы, розы, розы».
Глава 18
Это был коридор с греческой мозаикой на полу, толстыми золотыми завитушками, облицованный коричневым мрамором.
– Очень красиво! Да! Боже мой! – восклицала Роз. – В жизни ничего подобного не видела. И все это мрамор? Только взгляни, Триана, красный мрамор, зеленый, белый…
Я улыбалась. Я знала. Я видела.
– Так вот что хранилось в тайниках твоей памяти? – прошептала я своему невидимому для других призраку. – И ты не хотел, чтобы я это видела?
Для остальных мои слова, должно быть, звучали как мучение. Стефан мне не ответил. Меня захлестнула ужасная жалость к нему. О Стефан!
Мы стояли у подножия лестницы. Справа и слева от нас замерли бронзоволицые статуи. Перила из мрамора такого же зеленого и чистого, как море под полуденным солнцем, толстые квадратные балясины, лестница разветвляется надвое, как, видимо, во всех оперных театрах, мы поднимаемся по ней и оказываемся перед тремя дверьми с хрустальными стеклами и полукруглыми окошками над верхним косяком.
– Публика пройдет сегодня вечером по этой лестнице?
– Да-да, – ответила та, что была постройнее, Мариана, – будет много народу. У нас аншлаг. Уже сейчас публика ждет у входа. Поэтому я и провела вас через боковые двери. Но мы приготовили для вас особый сюрприз.
– Что может быть великолепнее этого зрелища? – спросила я.
Мы все вместе пошли дальше. Катринка вдруг погрустнела, и я видела, как она перехватила взгляд Роз.
– Жаль, что сейчас с нами нет Фей! – сказала она.
– Не нужно так говорить, – сказала Роз, – ты только заставишь вспомнить ее о Лили.
– Дамы, – сказала я, – успокойтесь, нет ни одной минуты, когда бы я не думала о Фей и Лили.
Катринку внезапно затрясло, тогда к жене подошел Мартин и обнял ее, стараясь успокоить, хотя на самом деле этот сторонник строгой дисциплины, прикидываясь утешителем, хотел ее пристыдить.
Когда мы повернули и начали подниматься по левому пролету, я увидела огромную площадку и три великолепных витража.
Мариана тихим голосом перечисляла для меня скульптуры, точно так, как делала это в моем сне. Лукреция, милая женщина, шедшая рядом, улыбалась и тоже давала комментарии по поводу того, что означала каждая скульптура в музыке, поэзии или театре.
– А вот там, в дальней комнате, находятся фрески, – сказала я.
– Совершенно точно, и в такой же комнате в противоположном конце коридора. Вы должны посмотреть…
Я замерла, любуясь солнечным светом, лившимся сквозь прозрачные картины из стекла, сквозь пышнотелых полуобнаженных красоток в драпировках и цветочных гирляндах.
Я перевела взгляд выше и увидела там роспись. Мне показалось, что моя душа сейчас умрет, и больше ничего не имело значения, кроме того, что было важно в том сне – не важно откуда он пришел ко мне или почему, а важно то, что это место существовало, что кто-то создал этот дворец из ничего, и он с тех пор стоит и радует нас своим потрясающим великолепием.
– Нравится? – спросил Антонио.
– Словами не выразить, – ответила я со вздохом. – Смотрите, там наверху, в круглых настенных медальонах, бронзовые лица, ван Бетховен.
– Да, да, – любезно подхватила Лукреция, – они все здесь, великие оперные композиторы. Вы видите Верди, вы видите, э-э, Моцарта, вы видите этого… как его… драматурга…
– Гёте.
– Ну, идемте же, мы не хотим, чтобы вы устали. Завтра покажем вам больше. Теперь отправимся туда, где вас ждет наш особый сюрприз.
Все вокруг рассмеялись.
Катринка вытерла лицо, сердито поглядывая на Мартина.
Гленн прошептал Мартину, чтобы тот оставил жену в покое.
– Бывает, я всю ночь лежу без сна, – прошептал Гленн, – и думаю о Фей. Дай ей выплакаться.
– Нечего привлекать к себе внимание, – огрызнулся Мартин.
Я взяла Катринку за руку и почувствовала, как она крепко обхватила мою ладонь.
– Что это за сюрприз, мои дорогие? – поинтересовалась я у Марианы с Лукрецией.
Мы вместе спустились по великолепной лестнице, сияющей стеклом, мрамором, золотом, все это вместе, сливаясь, создавало великолепную гармонию – творение человеческих рук, которое могло бы соперничать с самим морем, выбрасывавшим на берег скачущих призраков, с самим лесом под ливнем, в котором банановые деревья уносились по просеке вниз, вниз.
– Сюда, пожалуйста… – обратилась ко всем Лукреция. – У нас необычный сюрприз.
– Я, кажется, знаю какой, – сказал Антонио.
– Это не только то, о чем вы догадались.
– Так что же это? – спросила я.
– Самый прекрасный ресторан в мире, и он находится здесь, под крышей оперного театра.
Я закивала, улыбаясь.
Персидский дворец.
Нам пришлось выйти из театра, потом снова войти, и неожиданно мы оказались в окружении голубой глазурованной плитки, колонн с быками, многочисленных этажерок, заполненных сверкающим стеклом, совсем как в сгоревшем дворце Стефана, тут же я увидела и фонтан с Дарием, убивающим льва.
– А теперь позвольте, пожалуйста, поплакать и мне, – сказала Роз. – Пришла моя очередь. Смотрите, видите персидскую лампу? О, Боже, я хочу здесь остаться навсегда.
– Да, в лесу, – прошептала я. – В старом заброшенном отеле, в одной остановке от подножия Христа.
– Пусть себе плачет, – сказал Мартин, сурово глядя на жену.
Но Катринка оживилась.
– Какое великолепие, – сказала она.
– Этот дворец, видите ли, строился для Дария.
– Смотрите, – тихо произнес Гленн, – люди сидят за столиками, пьют кофе, едят пирожные.
– Мы тоже должны отведать кофе с пирожными.
– Но позвольте вначале показать вам сюрприз. Идемте за мной, – позвала Лукреция. Я сразу все поняла.
Я сразу все поняла, когда мы шли по коридору. Я услышала гул огромных двигателей.
– Это работают охладительные и отопительные системы здания, – пояснила она. – Они очень старые.
– Боже, какая здесь вонища, – сказала Катринка.
Но я тогда ничего не почувствовала. Я видела белый кафель, мы миновали металлические шкафчики. Мы обогнули огромные двигатели с гигантскими старомодными болтами, как на паровых машинах старых кораблей; мы шли все дальше, продолжая тихую приятную беседу.
– Наш сюрприз, – сказал Мариана. – Подземный туннель!
Я рассмеялась, довольная.
– В самом деле? Это действительно туннель? Куда он ведет? – Я приблизилась к воротам. Душа заныла. За проржавленными железными прутьями густая тьма, я взялась рукой за один прут, и ладонь сразу стала грязной.
На цементном полу поблескивала вода.
– Во дворец. Видите ли, через улицу находится дворец, и в прежние времена, когда только что построили оперный театр, хозяева дворца могли приходить сюда этим тайным ходом.
Я прижалась лицом к железному частоколу.
– Какое восхищение, я не поеду домой, – заявила Роз. – Никто не заставит меня вернуться домой. Триана, мне нужны деньги, чтобы остаться здесь.
Гленн, улыбаясь, покачал головой.
– Ты их получишь, Роз, – сказала я.
За решеткой было темно.
– Вы что-нибудь видите там? – спросила я.
– Ничего! – ответила Катринка.
– Там сыро и мокро, где-то, видимо, протекает… – сказала Лукреция.
Выходит, никто из них не видел человека, лежащего с открытыми глазами, из его запястий хлестала кровь. Привалившись к темной стене, стоял высокий черноволосый призрак, он сложил руки на груди и злобно на нас смотрел.
Значит, никто этого не видел, кроме сумасшедшей Трианы Беккер?
Ступай. Прочь отсюда. Иди на сцену, играй на моей скрипке. Продемонстрируй свое нечестивое колдовство.
Умирающий с трудом поднялся на колени, посмотрел вокруг ничего не понимающим одурманенным взглядом; по кафелю струилась кровь. Он поднялся с пола, чтобы присоединиться к своему компаньону, призраку, который довел его до сумасшествия своей музыкой, как раз перед тем, как явиться ко мне.
В воздухе пронеслась искра паники.
Остальные продолжали разговаривать. Пришло время отведать кофе с пирожными и отдохнуть.
Кровь. Она текла из запястий мертвеца. Она текла по его одежде, когда он, пошатываясь, направился ко мне.
Никто ничего не заметил.
Я смотрела за спину этого шатающегося трупа, я смотрела на лицо Стефана, измученное болью. Такой молодой, такой потерянный, такой отчаявшийся. Такой напуганный предстоящим поражением.
Глава 19
Я всегда перед концертом затихаю. Поэтому сейчас на меня никто не обращал внимания. Никто не сказал ни слова. Под таким натиском доброты и впечатлений – старые гримерные, ванные, облицованные красивой плиткой в стиле «ар деко», фрески, незнакомые имена – остальным было не до меня.
На меня напало оцепенение. Я сидела в огромном мраморном дворце, непостижимом в своей красоте, и держала скрипку. Я ждала. Я слушала, как начинает заполняться огромный театр. Тихий рокот на лестнице. Поднимающийся вверх гул голосов.
Мое пустое жаждущее сердце забилось быстрее – играть.
А что ты будешь здесь делать? Что ты можешь сделать, подумала я. И тут снова напомнила о себе та мысль, тот образ, который я, наверное, сохранила в памяти, как сохраняют молитву, – нужно дать ему отпор, и, как бы он ни старался, ему не лишить меня сил, но почему во мне засела эта ужасная мучительная любовь к нему, эта ужасная скорбь, эта боль, такая же глубокая и сильная, как та, что я чувствовала ко Льву или Карлу, или любому из своих ушедших?
Я откинула голову назад, сидя в бархатном кресле, уперлась затылком в спинку, продолжая держать скрипку в мешке, жестом отвергла воду, кофе и закуски.
– Зал полон, – сказала Лукреция. – Мы получили большие пожертвования.
– И получите еще больше, – сказала я. – Такому великолепному дворцу нельзя позволить разрушиться. Только не этому зданию.
А Гленн и Роз продолжали беседовать приглушенными голосами о смешении тропических цветов и палитры барокко, о грациозных европейских нимфах, одетых с непростительной вольностью в камень всевозможных цветов, об узорах паркетных полов.
– Мне нравятся… бархатные одежды, что вы носите, – сказала добрая Лукреция, – очень красивый бархат на вас, это пончо и юбка, мисс Беккер.
Я кивнула, прошептав благодарность.
Пришла пора пройти огромный темный задник сцены. Пришла пора услышать топот наших ног по доскам и, задрав голову, увидеть там, наверху, среди веревок и блоков, среди занавесей и трапов глядящих вниз людей, и детей, да, там наверху сидели даже дети, словно их провели потихоньку в театр и усадили на места слева или справа от громоздких кулис, забитых театральной механикой. Разрисованные колонны. Все, что можно было увидеть в настоящем камне, здесь было нарисовано.
Море становится зеленым, когда закручиваются барашки волн, и мраморная балюстрада выглядит как зеленое море, а здесь нарисована зеленая балюстрада.
Я заглянула в зал сквозь щелку в занавеси.
Партер был заполнен, в каждом красном бархатном кресле сидел нетерпеливый зритель. В воздухе порхали программки… простые заметки о том, что никто не знает, что именно я буду играть, как и того, когда я закончу, и все такое прочее… При свете люстр сверкали бриллианты, а за партером поднимались три яруса огромных балконов, в каждом из них зрители с трудом протискивались на свои места.
Я увидела и строгие черные наряды, и веселые платьица, а высоко на галерке рабочую одежду.
В ложах справа и слева от сцены сидели официальные лица, которым я уже была представлена; я никогда не запоминала ни одного имени, мне никогда этого не было нужно, никто и не ожидал, что я их запомню, от меня требовалось одно: исполнять музыку. Исполнять ее в течение часа.
Дай им это, а потом они выкатят на лестничную площадку и примутся обсуждать «самородка», как меня давно называют, или Американскую Примитивистку, или унылую женщину, слишком похожую в своей бархатной размахайке на рано повзрослевшего ребенка, которая со скрежетом терзает струны так, словно ведет борьбу с исполняемой музыкой.
Но сначала даже ни намека на тему. Ни намека на проблемы. Только одна-единственная мысль, засевшая в голове, порожденная какой-то другой музыкой.
И признание в глубине души, что во мне рассыпаны бусины четок моей жизни, осколки смерти, вины и злобы; и каждый вечер я лежу на разбитом стекле и просыпаюсь с порезанными руками, а те месяцы, что я исполняю музыку, стали отдыхом, похожим на сон, и ни один человек не вправе ожидать, что этот сон продлится вечно.
Судьба, удел, рок, планида.
Стоя за занавесом огромной сцены, я вглядывалась в лица первого ряда.
– А вот эти туфельки на вас, бархатные, с заостренными носами, разве они не жмут? – спросила Лукреция.
– Самое время интересоваться, – буркнул Мартин.
– Нет, я в них простою всего лишь час, – сказала я.
Наши голоса потонули в реве зала.
– Хватит и сорока пяти минут, – сказал Мартин, – они будут в восторге. Весь доход поступит в фонд этого театра.
– Ну и ну, Триана, – заметил добродушный Гленн, – сколько у тебя советчиков.
– И не говори, братишка. – Я тихо рассмеялась.
Мартин не услышал. Все было в порядке. Катринку всегда трясло перед началом. Роз успела устроиться в кулисах – по-ковбойски оседлав стул задом наперед, удобно расставив ноги в черных брюках и сложив руки на спинке стула, она приготовилась слушать. Семейство отошло в тень.
Затихли рабочие сцены. Я почувствовала прохладу, нагнетаемую машинами, размещенными далеко внизу.
Какие красивые лица, какие красивые люди, всех цветов кожи, от самого светлого до самого темного, таких черт я никогда раньше не видела, и так много молодых, совсем молодых, вроде тех ребят, что пришли ко мне с розами.
Внезапно, ни у кого не спросив разрешения, никого не предупредив (у меня ведь не было оркестра в оркестровой яме, и только осветитель должен был меня увидеть), я прошла на середину сцены.
Мои туфли гулко топали по пыльным доскам.
Я шла медленно, чтобы луч прожектора опустился вниз и упал на меня. Я подошла к самому краю сцены, взглянула на лица, сидевшие передо мной. В зале сразу наступила тишина, словно кто-то срочно выключил все шумы. Кто-то закашлял, кто-то дошептывал последние слова, и все звуки в конце концов затихли.
Я повернулась и подняла скрипку.
И, к своему великому удивлению, поняла, что стою вовсе не на сцене, а в туннеле. Я слышала его запах, чувствовала, видела. Стоило руку протянуть – и вот они, прутья решетки.
Мне предстояла великая битва. Я склонила голову туда, где, как я знала, находится скрипка, не важно, какое колдовство скрыло ее от меня, и не важно, какие заклинания затянули меня в этот зловонный туннель с протухшей водой.
Я подняла смычок, который, как я была уверена, все еще держала в руке.
Проделки призрака? Кто знает?
Я начала с широкого взмаха смычком сверху вниз, пристрастившись к русской манере, как я ее называла, самой проникновенной, оставляющей больше всего места для печали. Сегодня вечером печали будет много. Я услышала ясные чистые ноты, звеневшие в темноте, как падающие монеты.
Но перед собой я по-прежнему видела туннель. По воде ко мне шел ребенок, лысая девочка в ярком детском платьице.
– Ты обречен, Стефан. – Я даже губами не шевелила.
– Я играю для тебя, моя прекрасная дочь.
– Мамочка, помоги мне.
– Я играю для нас, Лили.
Она стояла у ворот, прижав маленькое личико к ржавым прутьям и вцепившись в них маленькими пухлыми пальчиками. Она надула губы и душераздирающе воскликнула «Мамочка!» Она сморщила личико, как это делают младенцы или маленькие дети.
– Мамочка, без него я бы ни за что тебя не нашла! Мамочка, ты мне нужна!
Злобный, злобный дух. Музыка звучала как протест, как бунт. Пусть так и будет, пусть вырвется наружу гнев.
Это ложь, ты сам знаешь, идиотский призрак, это не моя Лили.
– Мамочка, он привел меня к тебе! Ма, он нашел меня. Ма, не поступай так со мной, мама! Мама! Мама!
Музыка неслась вперед, хотя я продолжала смотреть немигающим взглядом на ворота, которых там вовсе не было, на фигурку, которой там не было, я все это знала, но мне все равно было трудно дышать, так болело сердце от увиденного. Но я заставила себя дышать. Я сделала вдох со взмахом смычка.
Я играю, да, для тебя, чтобы ты вернулась, да, чтобы мы вместе смогли перевернуть страницу и все начать заново.
Появился Карл. Он неслышно подошел к девочке и положил руки ей на плечи. Мой Карл. Исхудавший от болезни.
– Триана, – хрипло прошептал он. Его горло было уже искорежено ненавистными ему кислородными трубками, от которых он под конец отказался. – Триана, как ты можешь быть такой бессердечной? Я могу странствовать, я мужчина, я умирал, когда мы познакомились, но ведь это твоя дочь.
Тебя здесь нет! Тебя здесь нет, зато есть эта музыка. Я слышу ее, и мне кажется, я до сих пор не поднималась на такую высоту, атаковав гору, словно это была Корковадо, откуда можно смотреть вниз сквозь облака.
Я по-прежнему видела призраков.
Теперь рядом с Карлом стоял и мой отец.
– Милая, отдай ее, – сказал он. – Ты не можешь так поступать. Это зло, это грех, это неверно. Триана, отдай ее. Отдай ее. Отдай!
– Мамочка.
Мое дитя морщилось от боли. Это платьице на ней было последним, которое я для нее выгладила, чтобы положить в гроб. Отец тогда сказал, что гробовщик… Нет… облака теперь закрывают лицо Христа, и уже не важно, является ли Он воплощением Слова или статуей, любовно созданной из камня, это уже не важно, важна лишь поза – распростертые руки, для гвоздей или для объятий, я не… Опешив, я увидела мать. Заиграла медленнее. Неужели я действительно молюсь вместе с ними, говорю с ними, верю в них, подчиняюсь им?
Она подошла к железной решетке, ее темные волосы были зачесаны назад, как мне всегда нравилось, губы едва тронуты помадой, совсем как при жизни. Но в глазах ее полыхала ненависть. Ненависть.
– Ты себялюбива, ты порочна, ты отвратительна! – сказал она. – Думаешь, ты меня провела? Думаешь, я не помню? Я пришла той ночью плачущая, напуганная, а ты от страха прижалась в темноте к моему мужу, и он велел мне уходить прочь, а ты ведь слышала, что я плачу. Думаешь, такое способна простить какая-нибудь мать?
Внезапно зашлась плачем Лили. Она повернулась с поднятыми кулачками.
– Не обижай мою маму!
О, Господи. Я попыталась закрыть глаза, но прямо передо мной возник Стефан и уже протянул руки к скрипке.
Ему не удалось ее отобрать, или толкнуть, или нарушить течение музыки, а потому я все продолжала играть, я играла этот хаос, это омерзение, эту…
Эту правду, так и скажи. Скажи. Заурядные грехи, только и всего, никто никогда не говорил, что ты убила их оружием, ты не была преступницей, которую выслеживали на темных улицах, ты не бродила среди мертвых. Заурядные грехи, и ты сама такая же, заурядная, заурядная и грязная, и маленькая, и бесталанная, а свою способность играть ты украла у меня, дрянь ты этакая, шлюха, верни скрипку.
Лили всхлипывала. Подбежав к нему, она осыпала его градом ударов и потянула за руку.
– Перестань, оставь мамочку в покое. Мамочка. – Она раскинула ручки.
Наконец я посмотрела ей прямо в глаза, я посмотрела прямо ей в глаза и заиграла о них на скрипке, я играла, не обращая внимания на ее слова, и я слышала их голоса и видела, как они передвигаются, а потом я отвела свой взгляд. Я потеряла чувство времени, у меня осталось только чувство музыки.
Я видела не театр, который отчаянно хотела увидеть, я видела не призраков, которых он отчаянно пытался представить мне; подняв глаза, я представила тропический лес под небесным дождем, я видела сонные деревья, я видела старый отель, я видела его и играла о нем, я играла о ветках, тянущихся к облакам, я играла о Христе с распростертыми руками, я играла о сводчатой галерее вокруг старого отеля и видела окна с желтыми ставнями, запятнанными дождем. Дождь. Дождь.
Я играла обо всем об этом, а затем о море, о, да, о море, не менее чудесном, неспокойном, блестящем, невозможном море с его призрачными танцорами.
– Если бы только ты была настоящей.
– Мамочка-а-а! – закричала она так, словно кто-то причинял ей невыносимую боль.
– Триана, ради всего святого! – взмолился отец.
– Триана, – сказал Карл, – да простит тебя Господь. Она снова закричала. Я не смогла удержать эту мелодию моря, этот триумф волн, и музыка теперь вновь растворилась в гневе, потере, ярости; Фей, где ты, как ты могла уйти; Господи, папочка, ты оставил нас одних с мамой, но я не буду… не буду… мама…
Лили вновь вскрикнула!
Я была готова сломиться.
Музыка рвалась вверх.
Передо мной возникла другая картина. Когда-то давно у меня родилась мысль, совсем простая, но еще неясная – может, даже мыслишка, и теперь она снова возникла, пришла ко мне вместе с омерзительной картиной окровавленной белой прокладки, лежащей возле включенной горелки… Менструальная кровь, кровь, кишащая муравьями, а затем рана на голове Роз, когда я хлопнула дверью, после того как мы порвали четки, и та кровь, которую откачивали вновь и вновь у папочки, у Карла, у Лили. Лили плакала, Катринка плакала. Кровь из головы мамы, когда она упала… Кровь. Кровь на грязных прокладках и на матрасах, когда мама ничего на себя не надевала.
Так оно и было.
Нельзя отрицать дурные поступки. Нельзя отрицать кровь, которая на твоих руках или на твоем сознании! Нельзя отрицать, что жизнь полна крови. Боль – это кровь. Дурной поступок – это кровь.
Но кровь бывает разная.
Только часть крови льется из ран, которые мы наносим нам самим или друг другу. Та кровь течет ярко, словно обвиняет и грозит унести с собой жизнь раненого, та кровь… блестит, это священная кровь, кровь Нашего Спасителя, кровь мучеников, кровь на лице Роз, и кровь на моих руках, кровь содеянных проступков.
Но есть и другая кровь.
Есть кровь, что течет из утробы женщины. Это не признак смерти, а всего лишь величайший плодородный источник – река крови, способной в определенный момент породить человеческое существо, это живая кровь, невинная кровь, такой она и была на прокладке, под роем муравьев, в грязи и запустении, именно та кровь, льющаяся без конца, словно из женщины, выпустившей из себя темную тайную силу, создающую детей, выпустившую из себя мощный поток, принадлежащий только ей одной.
Именно такой кровью я сейчас истекала. Не кровью от ран, которые он мне нанес, не кровью от его ударов и пинков, не кровью от царапин, которые он сделал, пытаясь отобрать скрипку.
Это была кровь, о которой я пела, сделав свою музыку этой кровью, и она текла, как эта кровь; именно эту кровь, по моим представлениям, наливали в потир во время причастия, здоровая, сладостная женская кровь, это невинная кровь, способная в определенное время стать вместилищем души, кровь внутри нас, кровь, которая создает, кровь, которая убывает и вновь течет, без жертв и увечий, без потерь и разрушений.
Теперь я слышала ее, эту свою песню. Я слышала ее, и казалось, что свет вокруг меня широко разлился. Мне не нужен был такой яркий свет, и все же он был такой чудесный, этот свет, поднимавшийся к перекрытиям, которые, как я знала, находились над головой, и, открыв глаза, я увидела не только огромный зал, заполненный зрителями, я увидела Стефана, и свет находился прямо за ним, а Стефан все равно продолжал тянуть ко мне руки.
– Обернись! – сказала я. – Стефан, обернись! Стефан!
И тогда он обернулся. В луче света стояла фигура, коротенький, коренастый человечек нетерпеливо подзывал Стефана. Идем. Я взяла последний аккорд.
Ступай, Стефан! Ты потерянное дитя! Стефан!
Я не могла больше играть.
Стефан испепелял меня взглядом. Он проклинал меня, сжав кулаки, но лицо его изменилось. Оно претерпело полное и, видимо, неосознанное изменение. Он смотрел на меня огромными перепуганными глазами.
Свет за его спиной начал меркнуть, когда Стефан стал приближаться этакой темной тенью, свет еще больше померк, когда призрак завис надо мной, не более осязаемый, чем тень кулис.
Музыка закончилась.
Весь зал встал, как один человек. Еще одна победа. Как же так, Господи? Как же так? Три яруса вознаграждают тот шум, что является моим единственным языком.
Зал взорвался аплодисментами.
Еще одна победа.
Придуманные призраки исчезли без следа.
Кто-то подошел, чтобы увести меня со сцены. Я вглядывалась в лица, кивала: «Не разочаровывай зрителей, огляди зал направо и налево, взгляни на верхние ярусы балкона, а затем на ложи. Нечего поднимать руки в тщеславном жесте – просто поклонись. Кланяйся и шепчи благодарности. И они все поймут. Благодари их от всей своей окровавленной души.
На мгновение я снова увидела его, совсем близко, смущенного, согбенного, почти прозрачного, угасающего. Жалкое несчастное создание. Но откуда взялось это замешательство? Это странное удивление в его взгляде. Он исчез.
Меня снова подхватили люди, о счастливица, ведь вокруг тебя столько добрых ласковых рук. О, судьба, удел, рок и планида.
– Стефан, ты мог бы уйти туда, где свет. Стефан, ты должен был уйти!
Стоя за кулисами, я все плакала и плакала.
Никто не посчитал это ни в малейшей степени странным. Щелкали камеры, строчили репортеры. В глубине души я уже не сомневалась, что те, кого я потеряла, обрели покой – кроме Фей… и Стефана.
Глава 20
Я отправилась в «Театро Амазонес», что в Манаусе, потому что это было исключительное место и однажды я уже видела его в кино. Фильм назывался «Фицкарралдо» немецкого режиссера Вернера Герцога, ныне покойного, Лев и я в чертовски трудное время после смерти Лили провели один спокойный вечер вместе на киносеансе.
Я не запомнила сюжета. В памяти остались только оперный театр и рассказы о каучуковом буме и роскоши здания и какое оно великолепное, хотя ничто на земле никогда бы не могло сравниться с этим дворцом в Рио-де-Жанейро.
А кроме того, я должна была немедленно сыграть еще один концерт. Во что бы то ни стало. Я должна была узнать, вернутся ли призраки. Я должна была убедиться, что все кончено. Перед отъездом у нас возникла небольшая заминка.
Позвонил Грейди и настоятельно просил, чтобы мы вернулись в Новый Орлеан. Он не говорил зачем, а только твердил, что мы должны вернуться домой, пока наконец Мартин не взял трубку и со своей обычной сдержанной оскорбительностью потребовал у Грейди ответа, что тот имеет в виду.
– Послушай, если Фей мертва, скажи нам… Просто скажи. Нам совсем не обязательно лететь домой в Новый Орлеан, чтобы узнать эту новость. Скажи нам сейчас.
Катринка вздрогнула.
Спустя долгую паузу Мартин, прикрыв рукой трубку, сказал:
– Это ваша тетушка Анна Белл.
– Мы любим ее, – сказала Роз, – мы пошлем море цветов.
– Нет, она не умерла. Она заявляет, что ей звонила Фей.
– Тетушка Анна Белл? – переспросила Роз. – Тетушка Анна Белл разговаривает с архангелом Михаилом, когда принимает ванну. Она просит его помочь ей снова не упасть в ванной и не сломать бедро.
– Передай мне трубку, – сказала я. Остальные сгрудились вокруг.
Все оказалось так, как я думала Тетушка Анна Белл, которой было уже далеко за восемьдесят, решила, что среди ночи ей кто-то звонил. Номера не оставили, откуда звонили – непонятно.
– Она говорит, голос был едва слышен, но уверена, что это голос Фей.
– Что-нибудь просили передать?
– Нет, ничего.
– Я хочу сейчас же поехать домой, – сказала Катринка.
Я засыпала Грейди вопросами. Искаженный голос, похожий на голос Фей, бессмысленный звонок, никакой информации, откуда звонили – неизвестно. А как же телефонный счет? Пока не пришел. Все равно толку от него будет мало: тетушка Анна Белл давно потеряла свою карточку, и кто-то из Бирмингема, штат Алабама, теперь звонит по ней во все города.
– Нужно, чтобы кто-нибудь там дежурил, – сказал Мартин. – Один у телефона тетушки Анны Белл, а второй – дома. Вдруг Фей снова позвонит.
– Я еду домой, – сказала Катринка.
– Зачем? – спросила я, вешая трубку. – Чтобы сидеть там и ждать изо дня в день на случай, если она снова позвонит нам?
Сестры посмотрели на меня.
– Я знаю, – прошептала я. – Раньше не знала, а теперь знаю. И очень на нее сердита.
Последовало молчание.
– Как она могла так поступить… – произнесла я.
– Не говори того, о чем потом пожалеешь, – сказал Мартин.
– Может быть, действительно звонила Фей, – сказал Гленн. – Послушайте, я сам здорово раздосадован и готов поехать домой. Я не против вернуться на Сент-Чарльз и подождать звонка от Фей. Я поеду. Только не просите меня составить компанию тетушке Анне Белл. Триана, ты отправляйся в Манаус. Ты вместе с Мартином и Роз.
– Да, я хочу поехать, – сказала я. – Мы проделали такой далекий путь, и мне очень нравится этот край. Я еду в Манаус. Я должна поехать.
Катринка и Гленн уехали.
Мартин остался, чтобы организовать благотворительный концерт в Манаусе, а Роз поехала со мной. Все помнили о Фей. Полет в Манаус длился три часа.
«Театро Амазонес» оказался жемчужиной – он был меньше, чем величественное мраморное сооружение в Рио, но был так же восхитителен и очень необычен, с решеткой в виде кофейных листьев, теми самыми бархатными креслами, которые я видела в фильме «Фицкарралдо», фресками индейцев и убранством, в котором искусство этой земли тесно переплелось с барокко по воле смелого и безумного торговца каучуком, который и построил театр.
Казалось, будто все в этой стране, или почти все, создано, как в Новом Орлеане, не одной группой энтузиастов или силовой группой, а каким-то одиночкой, причем сумасшедшим.
Это был поразительный концерт. Призраки не появились. Вообще никаких призраков. И музыка теперь приобрела направление, и я уже чувствовала, куда она течет, и не тонула в ней. Я неслась вместе с потоком. И не боялась сочных красок.
На площади стояла церковь Святого Себастьяна. Пока шел дождь, я просидела в ней час, думая о Карле, думая о многих вещах, о том, как изменилась моя музыка и что теперь я научилась запоминать, что играла накануне, или, по крайней мере, слышать слабое эхо того, что было сыграно.
На следующий день мы с Роз гуляли вдоль гавани. Город Манаус был таким же непредсказуемым, как и его оперный театр, и напоминал мне Новый Орлеан сороковых, когда я была совсем маленькой девочкой, а наш город был настоящим портом и в каждом доке стояли корабли вроде этих.
Паромы развозили сотни рабочих по домам в их деревни. Уличные торговцы предлагали всякую мелочь, которую обычно привозят моряки: батарейки для карманных фонариков, аудиокассеты, шариковые ручки. В мое время самым ходовым товаром были зажигалки с голыми женщинами. Я вспомнила, что эту ерунду можно было купить у таможни.
Никаких звонков из Штатов.
Можно ли это считать зловещим признаком? Или, наоборот, это хорошо? А может быть, это вообще ничего не означает?
В Манаусе протекала река Негро. Когда мы вылетели обратно в Рио, то видели то место, где соединяются черные и белые воды, создавая Амазонку.
В отеле «Копакабана» нас ждала записка. Я развернула ее, ожидая прочесть какую-то трагическую новость, и внезапно почувствовала слабость.
Но в записке не шла речь о Фей. Старинный затейливый почерк, каким писали в восемнадцатом веке.
«Я должен увидеть тебя. Приходи в старый отель. Обещаю, я не буду пытаться причинить тебе зло. Твой Стефан».
Я озадаченно уставилась на записку.
– Поднимайся в номер, – велела я сестре.
– Что случилось?
Отвечать было некогда. Повесив скрипку в мешке на плечо, я выбежала на подъездную аллею, чтобы перехватить Антонио, который только что привез нас из аэропорта.
Мы поехали на трамвае вдвоем, без охраны, но у Антонио самого был внушительный вид. Он не боялся никаких воров, да мы их и не видели. Антонио позвонил по сотовому телефону. Один из охранников должен был подняться в горы и встретить нас у отеля. Он будет там через несколько минут.
Ехали мы в напряженной тишине. Я вновь и вновь разворачивала записку, перечитывала каждое слово. Почерк Стефана, его подпись. Боже мой.
Когда мы доехали до отеля, до предпоследней остановки, мы вышли из трамвая, и я попросила Антонио подождать меня на скамье, рядом с рельсами, где обычно ждут пассажиры. Я сказала, что не боюсь находиться одна в лесу, что он услышит мой крик, если он мне понадобится.
Я направилась в гору, делая шаг за шагом, и, вдруг кое-что вспомнив, натянуто улыбнулась: вторая часть бетховенской Девятой симфонии. Кажется, она звучала у меня в голове.
Стефан стоял у бетонной ограды над глубоким ущельем. Как всегда, он был одет во все черное. Ветер развевал его волосы. Он выглядел как живой человек из плоти и крови, который любуется видом – городом, джунглями, морем.
Я остановилась в каких-то десяти футах от него.
– Триана, – сказал он, оборачиваясь. От него исходила только нежность. – Триана, любовь моя. – Лицо выражало чистоту и безмятежность.
– Что за новый трюк, Стефан? – спросила я. – Что на этот раз? Неужто какая-то злобная сила теперь помогает тебе отобрать у меня скрипку?
Я больно его ранила. Я словно ударила его прямо между глаз, но он стряхнул обиду, и я снова увидела, да, снова, как у него брызнули слезы. Ветер разбивал его длинные черные волосы на пряди, он насупил брови и опустил голову.
– Я тоже плачу, – сказала я. – Еще совсем недавно я думала, что нашим языком стал смех, но теперь я вижу, что это снова слезы. Как же мне с этим покончить?
Он знаком подозвал меня. Я не смогла отказать и вдруг почувствовала его руку у себя на шее, только он не сделал ни малейшего движения к бархатному мешку, который я осторожно держала перед собой.
– Стефан, почему ты не ушел? Почему ты не ушел в луч света? Разве ты его не видел? Разве ты не видел, кто там стоял и звал тебя, чтобы увести за собой?
– Видел, – ответил он и отошел в сторону.
– Что тогда? Что тебя здесь держит? Откуда в тебе снова столько жизни? Кто теперь оплачивает это своими воспоминаниями и горем? Что ты делаешь, ответь своим хорошо поставленным голосом, над которым, несомненно, потрудились в Вене, как и над твоим стилем игры на скрипке…
– Тихо, Триана. – Это был робкий голос. Строгий. В глазах только покой и терпение. – Триана, я все время вижу свет. Я вижу его и сейчас. Но… – У него задрожали губы.
– Что?
– Триана, что, если… что, если, когда я уйду в этот свет…
– Так иди же! Господи, что может быть хуже того чистилища, в котором ты находишься теперь? Я не верю, что там тебя ждет более страшная участь. Я видела этот свет. От него исходило тепло. Я видела его.
– Триана, что, если… когда я уйду, скрипка уйдет со мной?
Нам понадобилась всего одна секунда, чтобы взглянуть друг другу в глаза, и тогда я тоже увидела этот свет, только он не был частью того, что нас окружало. Солнце клонилось к закату, излучая мягкое мерцание, лес был неподвижен. Свет шел только от него, я снова увидела, как он изменился в лице, преодолевая гнев, или ярость, или печаль, или даже смятение.
И тогда я приняла решение. Он все понял.
Я вынула из мешка скрипку со смычком и передала ему.
Он протестующе замахал руками, мол, нет, нет.
– Лучше не надо! – прошептал он. – Триана, я боюсь.
– Я тоже, юный Маэстро. Я тоже буду бояться, когда умру, – сказала я.
Он отвернулся и взглянул куда-то далеко, в тот мир, о котором я не подозревала. Я видела только свет, яркие лучи, которые не резали мне ни глаза, ни душу, а только заставляли чувствовать любовь, глубокую любовь и доверие.
– Прощай, Триана, – сказал он.
– Прощай, Стефан.
Свет исчез. Я стояла на дороге возле разрушенного отеля в окружении тропического леса. Я стояла и смотрела на пятнистые стены, и на город внизу из высоких домов и лачуг, растянувшийся на много миль по горам и долинам.
Скрипка исчезла.
Мешок в моих руках был пуст.
Глава 21
Не было никакого смысла сообщать Антонио, что скрипки больше нет. Подъехал на машине наш охранник. Я держала мешок так, словно в нем по-прежнему лежала моя скрипка. Мы молча ехали с горы. Солнце струилось сквозь высокие зеленые кроны, высвечивая на дороге благословенные полосы. Моего лица коснулся прохладный воздух.
Душу переполняли чувства, но я не могла бы дать им точное определение. Любовь – да, любовь, любовь и удивление, да, но и еще что-то, страх перед тем, что ждет впереди, страх из-за опустевшего мешка, страх за себя и за всех тех, кого я любила, и за всех тех, кто теперь зависел от меня.
Мы мчались по Рио, а меня одолевали мрачные рациональные раздумья. Когда мы добрались до отеля, было уже почти темно. Я выскользнула из машины, помахала моим верным спутникам и вошла внутрь, даже не задержавшись у стойки, чтобы узнать, нет ли сообщений.
Горло сжалось так, что я не могла говорить. Мне оставалось сделать только одно. Попросить Мартина принести мне одну из тех скрипок, что мы возили с собой, маленького Страда, которого мы приобрели, или Гварнери, и посмотреть, что выйдет.
Горестные мелочи, от которых зависит судьба целой души, а с ней и всей вселенной, познанной этой душой. Мне не хотелось никого видеть. Но я должна была поговорить с Мартином, должна была найти скрипку.
Когда раскрылись двери лифта, я услышала, что в номере все громко и пронзительно хохочут. В первую секунду я даже не поняла, что это за звук. Потом я пересекла коридор и забарабанила в дверь президентского люкса.
– Это Триана, открывайте! – сказала я.
Дверь распахнул Гленн. Вид у него был безумный.
– Она здесь, она здесь, – причитал он.
– Дорогая, – сказал Грейди Дьюбоссон, – мы только что посадили ее в самолет и привезли сюда, сразу, как ей проштамповали паспорт.
Я увидела ее у дальнего окна: маленькая головка, маленькое тельце, крошечное создание… Фей. Лишь Фей была такой маленькой, изящной, идеально сложенной, словно Богу нравилось создавать не только большие вещи, но и маленьких эльфов.
На ней были застиранные джинсы и неизменная белая рубашка. Каштановые волосы коротко острижены. Лица я не разглядела в сумеречном мерцании.
Она бросилась ко мне. Я заключила ее в объятия. Какая она маленькая, легкая как пушинка, я могла бы раздавить ее, словно скрипку.
– Триана! Триана! Триана! – кричала она. – Ты умеешь играть на скрипке! Умеешь! У тебя есть дар!
Я не сводила с нее глаз, не в силах произнести ни слова. Мне хотелось любить, хотелось, чтобы мое тепло перешло к ней, как это произошло со светом, что исходил от Стефана на лесной тропинке. Но в первый момент я видела лишь ее маленькое сияющее личико и чудесные голубые глаза, и я думала, она в безопасности, она жива, она не в могиле, она здесь и она невредима.
Мы снова все вместе.
Подошла Роз, обхватила меня руками, опустила голову мне на плечо и загудела:
– Я знаю, знаю, знаю, нам бы следовало разозлиться, нам бы следовало накричать на нее, но она вернулась, с ней все в порядке, она пережила какое-то опасное приключение, но она вернулась домой! Триана, она здесь. Фей с нами.
Я кивнула. И на этот раз, когда обняла Фей, я поцеловала худенькую щечку. Я ощупала ее головку, маленькую, как у ребенка. Я почувствовала ее легкость, хрупкость, а также огромную силу, рожденную в черных водах утробы полупьяной матери.
– Я люблю тебя, – прошептала я. – Фей, я люблю тебя.
Она затанцевала. Она очень любила танцевать. Однажды, когда мы разъехались ненадолго, а потом все вместе собрались в Калифорнии, она все кружила в танце и подпрыгивала от радости, что мы все снова вместе, все четверо, совсем как сейчас, и она принялась резвиться по комнате. Она вскочила на деревянный кофейный столик – трюк, который проделывала и раньше. Она улыбалась, ее глазки ярко вспыхивали, а волосы отсвечивали рыжими искорками.
– Триана, сыграй на скрипке. Для меня. Пожалуйста. Для меня. Для меня.
Никакого сожаления? Никаких извинений? Никакой скрипки.
– Мартин, ты не принесешь другие инструменты? Гварнери. Кажется, у Гварнери есть все струны и на ней можно играть, и в футляре хороший смычок.
– А что случилось с Большим Страдом?
– Я вернула его, – прошептала я. – Пожалуйста, только сейчас никаких споров. Пожалуйста.
Он ушел, что-то ворча под нос.
Только сейчас я разглядела Катринку. Измученная, с красными глазами, она сидела на диване.
– Я так рада, что ты дома, – сказала она срывающимся голосом. – Ты не знаешь. – Тринк много выстрадала.
– Она должна была уйти. Она должна была отправиться скитаться! – сказал Гленн, мягко растягивая слова, и взглянул на Роз. – Она должна была поступить так, как поступила. Главное, что она сейчас дома.
– Давайте сегодня об этом не будем, – сказала Роз. – Триана, сыграй нам! Только не один из тех ужасных колдовских танцев, я больше не выдержу.
– С каких пор мы заделались критиками? – сказал Мартин, закрывая дверь. В руках он держал скрипку Гварнери. Она была очень похожа на ту, на которой я раньше играла.
– Ну же, сыграй что-то для нас, пожалуйста, – попросила Катринка нетвердым голосом, в глазах ее безнадежная боль и удивление. И только взглянув на Фей, она успокоилась.
Фей стояла на столе. Она смотрела на меня. В ней чувствовалась какая-то холодность, твердость; наверное, она могла бы сказать: «Моя боль была больше, чем вы можете себе представить», то есть то самое, чего мы опасались, обзванивая морги и описывая ее по телефону. А может быть, ее вид означал всего лишь: «Моя боль была не меньше вашей».
Она стояла передо мной – живая.
Я взяла в руки новую скрипку и быстро настроила. Струна ми очень ослабла. Я подкрутила колок. Осторожно. Скрипка не такая чудесная, как мой Большой Страд, но очень хорошо сохранилась и, как говорили, прошла удачную реставрацию. Я подтянула смычок.
Что, если не будет никакой песни?
Горло сжалось. Я взглянула на окно. Мне хотелось подойти к нему и просто полюбоваться морем, и просто порадоваться, что оно здесь, и не говорить, что ничего, мол, что она уехала, и не выяснять, чья это была вина, или кто вел себя как слепой, или кому было наплевать.
Мне особенно не хотелось выяснять, умею ли я играть или нет.
Но в подобных обстоятельствах мой выбор ничего не означал. Я подумала о Стефане в лесу. Прощай, Триана.
Я настроила струну ля, затем ре и соль. Теперь для этого мне не нужна была ничья помощь. Более того, я с самого начала могла бы взять идеальный верхний регистр.
Все было готово. Я вспомнила, что в тот день, когда мне ее впервые показали и сыграли на ней, она звучала чуть ниже и сочнее, чем Страд, ее звук был сродни звучанию большой виолы, и, может быть, даже еще глубже. Я тогда не обратила внимания на эти особенности. Объектом моей любви был Страд. Ко мне приблизилась Фей. Я подумала, что ей хочется что-то сказать, но она не может, ведь я тоже не могла. И я снова подумала: «Ты жива, ты с нами, у нас есть возможность защитить тебя от всего».
– Хочешь потанцевать? – спросила я.
– Да! – ответила Фей. – Сыграй для меня Бетховена! Сыграй Моцарта! Сыграй кого-нибудь!
– Сыграй радостную песню, – попросила Катринка, – знаешь, одну из тех красивых радостных песен…
Хорошо.
Я подняла смычок. Пальцы быстро запорхали по струнам, заметался смычок, и зазвучала радостная песня, веселая, свободная, счастливая песня, лившаяся ярко и свежо из этой новой скрипки, я даже сама чуть не пустилась в пляс, закружившись, завертевшись, подталкиваемая инструментом, и только краешком глаза увидела, что они танцуют: мои сестры, Роз, Катринка и Фей.
Я все играла и играла. Музыка лилась не переставая.
Той ночью, когда все уснули и в комнатах стихло, а высокие стройные женщины прохаживались по бульвару в ожидании клиентов, я взяла скрипку, смычок и подошла к окну, что располагалось в самом центре фасада.
Я взглянула вниз, на фантастические волны. Я увидела, что они танцуют, совсем как недавно танцевали мы. Я заиграла для них – уверенно и легко, без страха и гнева.
Я заиграла для них печальную песню, прославляющую песню, радостную песню.
Примечания
1
Католический гимн из заупокойной литургии Джакопоне да Тоди (XIV в.).
(обратно)2
Трупное окоченение (лат.).
(обратно)3
Джон Китс. «Ода соловью» (перевод Г. Оболдуева).
(обратно)4
Скульптурный образ Младенца Иисуса, известный во всем мире как «Пражское Дитя».
(обратно)5
Евангелие от Матфея, 16:23.
(обратно)6
Начало католической молитвы к ангелу-хранителю.
(обратно)7
Герой-призрак из романа Генри Джеймса «Поворот винта».
(обратно)8
Исаак Стерн (р. 1920) – скрипач. Выпускник Сан-Францисской консерватории (1937). Первый всемирно известный американский скрипач, чье становление полностью состоялось в США.
(обратно)9
Veni Creator Spiritus – «Приди, Святой Дух» (лат.) – один из самых популярных католических гимнов.
(обратно)10
Mea culpa – моя вина (лат.).
(обратно)11
Искаженная цитата из «Гамлета»: «…на время поступишься блаженством» (перевод Б. Пастернака).
(обратно)12
Кристофер Марло. «Мальтийский еврей» (перевод В. Рождественского).
(обратно)13
Шекспир. «Гамлет» (акт III; перевод М Лозинского).
(обратно)14
Строка из стихотворения Нэнси Берд Тернер «Песня в сумерки» (1944).
(обратно)15
Автор ошибочно приписывает Киплингу рассказ Уильяма Уимарка Джекобса.
(обратно)16
Сэр Георг Солти (1912–1997) – знаменитый дирижер Чикагского симфонического оркестра.
(обратно)17
Речь идет об английском фильме «Ричард Третий» (1954), в котором играл Лоуренс Оливье.
(обратно)18
Шекспир. «Гамлет» (акт I, сцена 2; перевод Б. Пастернака).
(обратно)19
Резонаторные отверстия в форме латинской буквы «f» в верхней деке.
(обратно)20
Здание в Новом Орлеане, где находилась испанская колониальная администрация и проходила церемония оформления покупки Луизианы. Ныне это часть экспозиции по истории города в музее штата.
(обратно)21
Фильм режиссера Жана Негулеску «Джонни Белинда» (1948), за главную роль в котором Джейн Уаймен получила «Оскара».
(обратно)22
Покой вечно даруй им, Господи (лат.) – первая строка Реквиема, в основе которого латинское стихотворение «Секвенция» францисканского монаха XII в. Томаса Дечелано.
(обратно)23
Речь идет об известном голливудском фильме «Красные башмачки» (1948) по сказке Г. Х. Андерсена. Тот, кто надевал эти башмачки, начинал танцевать и уже не мог остановиться.
(обратно)

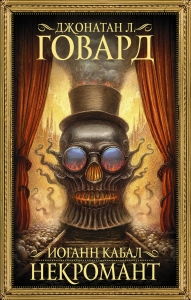

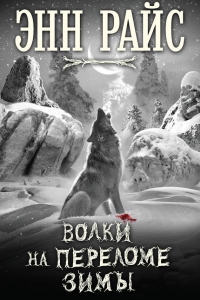


Комментарии к книге «Скрипка», Энн Райс
Всего 0 комментариев