Дана Посадская ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРНАВАЛА Драма в трёх актах
На, кажется, надрезанном канате
Я — маленький плясун.
Я — тень от чьей-то тени. Я — лунатик
Двух тёмных лун.
Марина Цветаева.Увертюра
Спектакль вот-вот должен начаться. Сцена ещё пуста и темна, но зрители уже собрались в ложах — незримые, неведомые, нереальные. Интересует ли их предстоящее действие? Кажется, нет; их лица абсолютно равнодушны. Впрочем, у них нет лиц. Только глаза, устремлённые на сцену. Но глаза ли это? Или это бездна смотрит из пустых провалов на тех, кто осмелится в этот вечер выступить в роли исполнителей?
Увертюра. Смычки ударяют по жилам, содрогаются горы, и реки выходят из берегов. Это не музыка. Это истошные крики боли, тайные вздохи, стоны и шёпоты. Это смех, пронзительный, как бритва по стеклу, это горячие всхлипы молитвы на протёртой циновке и во всех опустевших молельнях. Это не музыка, это какофония. Это лавина звуков обезумевшего мира, затерянного в пустоте. И существует ли этот мир?
Но к чему вопросы, на которые нет и не будет ответов. Этот мир существует, пока в ложах сидят неподвижные зрители, готовые в любую минуту протянуть руку и смять живую игрушку на сцене, оставив только кровавую кляксу.
Нет, они ждут, они жаждут представления. Поспешите. Ведь они всегда получают то, что хотят. Покажите им это. Покажите багровые дымящиеся раны и чёрный бархатный шиповник на заброшенных могилах. Покажите океан, ломающий мачты и растворяющий жизни как крупинки соли. Покажите тигра, рвущего на части шёлковое тело антилопы. Фейерверк из комет и листопад из потерянных душ. И огонь, покажите огонь — это им нравится больше всего. Рыжий огонь в волосах, чёрный в душе; и живой, красный огонь, алый цветок, так легко превращающий всё в серый безжизненный пепел. Они сами возникли из этого огня, из этого пепла, из чёрной золы…
Но теперь они здесь, они ждут, они в нетерпении. Вот-вот тьма станет ещё сочнее и всё начнётся. Все поэты, все философы, все безумцы с морщинами на лбу и слезящимися красными глазами томились каждую ночь на горячих бессонных постелях лишь для того, чтобы возникла хоть одна строчка, хоть одна нота этого действа, этой космической оргии, этого адского великолепия.
Занавес. Тише. Они начинают. И, если вам дорог рассудок, уйдите, пока не поздно. Людям не место в зрительном зале.
Пролог
Вечером по берегу Элизабета
Ехала чёрная карета…
Николай ГумилёвНочь. Была только ночь. И луг, над которым она раскинула крылья. Вдалеке темнел и горбился город. Его окна уютно светили во тьме, точно куски золотого сахара. Но город был далеко. А здесь был только пустой холодеющий луг. И лес, возвышавшийся на горизонте — непреодолимый и непроницаемый для взгляда.
Луг смотрелся в ночное безлунное небо, как в чёрное зеркало. Луг ждал. Он уже был опоён и воскрешён осенним приторным ветром, веющим с запада, из леса, где в густых зловонных болотах тонут пунцовые звёзды. Луг был готов и ждал лишь знамения. Зеркало неба всё ниже и ниже. И ледяная позёмка обвивает чернеющую влажную траву…
Лес расступился. Не было слышно ни звука. На лугу появились чёрные фургоны. Они двигались мерно и незаметно, как затаённые вдохи. Неумолимо скользили один за другим, словно стекали чёрные капли крови. И вновь всё застыло. Вереница фургонов была неподвижна, как будто стояла на этом лугу много веков, всё глубже погружаясь в землю.
Где-то неподалёку, на кладбище вздыбился жгучий бешеный ветер. Кресты на могилах качались и падали гнилыми перезрелыми колосьями. В заброшенной кладбищенской часовне заскрипели дощатые стены, и стая летучих мышей закружила под ослепшим куполом.
Где-то в безмятежно спавшем городе полуженщина — полудитя распахнула глаза, и взгляд её впился в чёрный квадрат окна.
Луг по-прежнему был как мёртвый. Но вот луч луны, словно нож, рассёк застывшее небо; и в этот же миг из фургона скользнула едва различимая тень. Женская фигура. Тонкая, как игла. Чёрный туман волос сливался с ночной темнотой. Глаза были зелены, пусты и ядовиты.
Она стояла, замерев, как мумия, и смотрела на дальнее лоно ночного города. Луна провела по её лицу белой пуховкой. Руки блеснули голубизной.
Кто-то неслышно подошёл к ней сзади. Высокая фигура, закутанная в плащ. Он опустил ей руку на плечо — тонкую руку со стеклянными ногтями. Они стояли, как два чёрных дерева, перепутавшие ветви и тени. Затем незаметно исчезли во мраке фургона.
Была ночь. Темнота пропитала небо и землю, как чёрная патока. Луг покрывался лунной хрустящей коркой. Рассвет был далеко, и казалось, он никогда не наступит.
Город всё ещё спал…
Акт первый Прелюдия
«Something wicked this way comes»…
William Shakespear1
Запоздавшая осень кралась по пустынным улицам города — рыжая, терпкая, влажная. В студенеющем воздухе плыли гондолы опавших листьев. По мостовой, от которой тянуло землей и утробной кисловатой сыростью, пробегали бурые тени и сочные пятна кипящего солнца.
Её звали Матильда. Это имя ей шло, так же как прямой пробор в гладких тёмно-русых волосах и серьёзное выражение на лице, ещё помнившем детские гримасы. Её каблуки выбивали чёткую дробь на замшелых камнях, знакомых ей с детства. Она была плоть от плоти этого города: такая же простая, неброская, уютная — но с тайной, сокрытой где-то глубоко внутри.
Впрочем, тайну города Матильда знала. Именно к ней, к этой тайне она шла, невольно ускоряя шаг. Тайна ждала её, тайна манила. Или нет, это она ждала свою тайну. Ибо тайнам ожидание не свойственно — и её не была исключением.
Матильда не знала только того, что, если тянешься к тайне, можно сбиться с пути, по которому движется мир, и преступить незаметно границу. Границу, которая вечно рядом. Вот она, зыбкая, почти прозрачная, из едкого дыма далёких костров, обрывков ночного тумана и тончайшей мороси дождя. Протяни только руку — и она, словно ветка, опущенная в воду, переломится, рассеется и расплывётся бесформенным серым пятном.
Но Матильда не протягивала руку. Обе руки её вяло, покорно спадали плетьми. Но она замерла. Кто-то обдал её ледяным шершавым дыханием и зашептал, наклонившись над левым плечом странные, нездешние слова. Ветер обвил её тело тугим кольцом. В глазах на секунду всё потемнело, поплыли круги и золотые зигзаги. А затем всё исчезло. Осталась только афиша. Большая афиша на деревянной стене, пахнущая чем-то сладким и острым, но не типографской краской. В осеннем сонном тёплом городке афиша казалась чем-то чужим и враждебным, точно обугленный ожог на теле.
Чёрный фон, алые буквы.
КАРНАВАЛ
И ниже:
Мир иллюзий
И ещё ниже, совсем мелкими буквами, похожими на причудливых насекомых:
Имеющий глаза да увидит…
Карнавал. Её вдруг передёрнуло, как будто ударило током. Кар-на-вал. Свист в ушах и солёный привкус во рту. Удар плетью по плечам. Какая странная афиша… Алые буквы, алые бабочки, парящие во тьме… Карнавал… какое ей дело до карнавала?
Она с усилием двинулась дальше, но афиша держала её, возвращала взгляд, замедляла шаги. А затем ей стало казаться, что кто-то идёт рядом с ней по улице, кто-то смеётся над ней, едва не касаясь её обессилевшей, отяжелевшей руки. Кто-то… она огляделась. Но увидела только случайных прохожих, ничтожных, как капли дождя, пролетавшие мимо.
Но кто же тогда следит за ней неотступно? Чьи шаги шелестят по пылающей мантии осени?
Словно невидимые ангелы взлетают над низкими крышами, над умирающими влажными деревьями. Но разве ангелы смеются так жестоко? И разве они пахнут сыростью, пеплом и кровью?
Кровь… Афиша… красное на чёрном… или чёрное на красном? Она не помнила.
Тени кружили вокруг, издеваясь, плясали по небу, по мостовой, по стенам домов. Странно, они не мешали идти, напротив, как будто толкали её, принуждая двигаться дальше, почти что тянули за платье и за волосы.
Нет, тени исчезли, их не было вовсе. Просто пьяный осенний воздух и темнота, ползущая из-за углов. Темнота… но почему так темно, ведь ещё совсем рано? Нет, не темно, ей показалось. Это иллюзия. Мир иллюзий — так там было написано, верно? Карнавал… Какое ей дело до карнавала, разве она малый ребёнок? Всё это вздор, ей пора. Пора к её тайне, к той, которая ждёт… но не её, не Матильду. Пора к Шарлотте.
Шарлотта…
2
Матильда увидела Шарлотту ещё с улицы. Сразу. Как всегда. Как вчера, как неделю назад — как год — или три — или десять…
Рассохшаяся рама фонарного окна — и в ней — картина? Нет, застеколье поглощало краски, выпивало жизненные соки. Всего лишь рисунок тушью по стеклу — склонённые плечи; острый, как жало, подбородок; пышная тень волос.
Заметила ли она Матильду? Трудно сказать. Быть может, да, но, скорее, нет. Как-то Матильда пыталась смотреть в окно вместе с ней — и поняла, что Шарлотта не видит то, что видят другие. Ни собаку, с жирной и чёрной лохматой спиной, деловито бежавшую вдоль тротуара. Ни пожилого джентльмена с тростью и роскошными белыми усами, приподнявшего галантно котелок при виде двух юных особ в окне. Матильда ему улыбнулась; Шарлота смотрела, сощурившись, сквозь него, как будто он был досадной помехой. Влюблённая парочка, намертво сплетённая, медленно прошествовала мимо, клонясь то и дело к каждой стене. Шарлотта мазнула их лёгким взглядом и губы её — вернее, лишь левый угол, — искривило презрение.
Она вообще не смотрела вниз, на тротуар, по которому двигались люди, на мостовую, где дребезжали машины. Она жадно впивалась глазами в небо. То голубое, то пепельно-серое, то беспримесно чёрное, оно меняло цвет с каждым часом, и вместе с ним менялись глаза Шарлотты. Она жадно выпивала жалами зрачков даже редкие и узкие просветы лилового между домами напротив. Сами дома и те, кто в них жил, нисколько её не трогали. Сгори они — и она бы лишь улыбнулась. Они мешали ей видеть небо.
Ясное небо, как синяя кровь; свинцовое небо; небо, оплетённое нитями звёзд, словно призрачным белым плющом… Она словно ждала от него какого-то знака, не усомнившись ни на секунду.
Поздним вечером лицо Шарлотты казалось Матильде отражением луны в тёмном стекле. Такой призрачно белой была её кожа, не знавшая солнца бессчётное множество лет, проведённых Шарлоттой у окна в объятиях старого кресла.
Когда-то она была странным ребёнком. Как смерч, как водопад, как бенгальский огонь — стремительный и безжалостный. Уже тогда она любила одиночество — и уносилась в густой заброшенный лес — царство мха, опавших сосновых игл и зелёных теней, — или на берег рокочущего моря, лизавшего грязно-жёлтым языком прибрежные камни и впадавшего в небо так же неизбежно, как впадали в него все окрестные реки.
Однажды родители Шарлотты взяли её с собой в поездку. Она не хотела. Её заставили. Всю дорогу она сидела, сжавшись в комок, и ярость искрила в её глазах электрической дугой.
Машина разбилась.
Родители Шарлотты погибли на месте. Сама она осталась жива — но лишь наполовину. Её ноги больше ей не подчинялись. С тех пор она и замерла навеки у окна в неизменном кресле-качалке — хрупкая, точно сплетение ивовых прутьев и неподвижная, как скульптура.
Шарлотта ни в чём не нуждалась, ни в чём не знала отказа. Ведь у неё была Нина — её старая няня. Нина не просто любила Шарлотту — она её боготворила. Матильде порой казалось, что та ужасная трагедия подарила Нине бессознательную радость, — ведь теперь Шарлотта принадлежала ей одной и была навеки беспомощна, как младенец.
Принадлежала? Нет, это было не так. Скорее, Нина принадлежала Шарлотте. Её любовь была любовью собаки — любящей слепо и безраздельно и находящей высшее счастье лишь в угождении прихотям хозяина.
Как-то Шарлотта сама об этом сказала — вскользь, — она не считала Нину достойной темой для разговора. Матильда возмутилась.
Шарлотта, как ты можешь сравнивать Нину с собакой?!
Шарлотта свела свои тёмные брови.
Ты права, пожалуй. Нина намного удобней собаки. Разве собака смогла бы кормить меня и купать?
Матильда содрогнулась, но промолчала. Она давно привыкла к цинизму Шарлотты. Шарлотта вновь повернулась к окну, впилась глазами в серую дымку — словно ища среди облаков и вечерних теней вход в другой мир, где не будет Матильды, Нины, собак, плетёного кресла, держащего в плену её бесполезное тело — не будет самого этого тела, неспособного даже подняться… А будет огонь её глаз — то серых, то чёрных; звёзды на небе, холодные ногти северного ветра, влажное пламя росы на спящих лугах и дикий полёт — как тогда, когда машина потеряла управление и неслась в никуда, как комета, упавшая с неба…
3
— Ты одна, — произнесла Шарлотта. — Это радует.
Матильда вспыхнула и прикусила губу.
— Ян…
— Ян? Да, кажется, именно так зовут твоего любезного брата. Надо сказать, это очень стесняет — когда он приходит вместе с тобой, мнётся в углу, что-то бормочет, пока, наконец, не соблаговолит уйти. Кстати, у него безумно длинные руки, почти как у гориллы, — ты не находишь?
— Шарлотта!
— Да, дорогая, я знаю, что он твой брат, но руки у него от этого короче не становятся. Да что вообще ему здесь нужно?
— Он просто… он просто хочет видеть тебя, Шарлотта, — проговорила с Матильда с усилием. — Он… — она осеклась. — Ты ведь нигде не бываешь, — закончила она неловко и тут же покраснела ещё сильнее — так, что на глаза навернулись едкие слёзы.
Шарлотта сидела, лаская взглядом тлеющих тёмных глаз свои безупречные белые руки, покоящиеся на коленях. Казалось, неловкость и смущение подруги её забавляли — левый край её тонких бесцветных губ искривился в еле заметной улыбке, ресницы чуть-чуть задрожали.
— Ты бы могла выходить… я бы тебя вывозила… Нина… — произнесла, наконец, запинаясь, Матильда. — У тебя же есть кресло… на колёсах…
Кресло, действительно, было и стояло сейчас, мрачно блестя латунью, в самом дальнем углу, полу прикрытое тяжёлой струящейся портьерой. Под его неуклюже вывернутыми колёсами затаились комки паутины и пыли. Шарлотта посмотрела на него изучающе, как будто видела в первый раз.
Оно так уродливо, — она брезгливо передёрнула плечами.
Неужели для тебя это так важно?! — вскричала Матильда, слетая со стула. Её порыв ей самой показался нелепым и грубым по сравнению со статуарной неподвижностью Шарлоты. — Ты могла бы… могла…
Знаю, — Шарлота скривила презрительно губы; её зрачки то сужались, то расползались сосущими чёрными пятнами. — Жить как все, ты это хотела сказать? Кино, вечеринки, клубы, визиты к друзьям? Десять Янов вместо одного? Ты это мне предлагаешь? Лезть из кожи вон для того, чтобы стать безногой пародией на… нормальную девушку… вместо того, чтобы быть самою собой?
Она резко откинулась в кресле — словно надломился беспомощно цветок с пышными рыжими лепестками. Голова её томно приникла к спинке. Зрачки становились всё шире и шире, пока тьма, поднимавшаяся, казалось, из самого сердца Шарлоты, не поглотила без остатка серый полумесяц, и глаза не стали абсолютно чёрными.
Матильда, — сказала она так мягко, что у той задрожали руки. — Неужели ты не понимаешь? Если бы я не была такой… если бы я была здоровой, как все, я бы не знала, как избавиться от этой суеты, которую ты мне предлагаешь. Мне это не нужно. Мне достаточно этого кресла… моего окна… моих мыслей. Это кресло, моё увечье… они позволяют мне быть собой и больше никем. Быть не такой, как другие. Они мне дали свободу, Матильда… — Её голос таял, как воск, растекаясь в предзакатной тишине. Она замолчала. Её непроницаемые чёрные глаза неотрывно смотрели на ноги — так, как будто те были далеко-далеко. Так же далеко, как и Матильда, мимо которой взгляд Шарлотты проносился, как чёрный межзвёздный вихрь. И она была так же бесполезна для Шарлотты, так же не нужна ей, как эти ноги. Заметит ли Шарлотта, если она уйдёт не попрощавшись?
Но она не могла уйти.
Шарлотта смотрела в окно. Её лицо казалось зеркалом, отражавшим полумрак. Какие странные, ранние сумерки. И вдруг…
— Что? — встрепенулась Матильда.
— Ничего.
— Ты только что сказала… «Карнавал».
— Карнавал? — повторила Шарлотта. Опять это чувство горящей плети на обнажённой спине. — Тебе показалось.
Конечно, ей показалось. Мир иллюзий, вот это что такое. И Шарлотта — повелительница иллюзий. Все эти годы ей казалось, что Шарлотта — её подруга, что она должна приходить сюда каждый день и сидеть подле неё, как весталка, хранящая священный огонь. Зачем ей это? Зачем пытаться приручить чёрную кошку со стальными когтями? Зачем, если эти когти исполосовали её сердце?
— Карнавал…
Снова этот беззвучный шёпот. И снова боль. Её руки в огне. Священный огнь… смертельный огонь… волосы Шарлотты…
Уйти, бежать, пока ещё не поздно…
Но разве уже не поздно?
— Карнавал…
4
Вот её дом. Калитка пронзительно жёлтого цвета, вся в глубоких причудливых трещинках. Дверь, железная ручка, нагретая солнцем. Полусгнившие яблоки валяются в ещё густой и зелёной, но уже тускнеющей траве. Эта трава так упорно прорывается между разбитыми серыми плитками, которыми выложена кривая, несуразная дорожка к дому. Глядя на эти твёрдые побеги, живыми ножами пробивавшие камень, Матильда всегда вспоминала Шарлотту. Почему? Она не знала…
Она толкнула дверь, и тут же её обступили, как будто призывая к ответу за что-то, с рождения знакомые шорохи и запахи. Занавески на окнах. Вот здесь кружево разорвано, здесь — пятно от жирного соуса. Циновки хрустят под ногами, выдавая её присутствие. Жужжат мухи — уже давно полноправные обитатели дома. И пахнет сыростью, липкой, осенней, проникающей в каждый угол, затянутый паутиной, под каждую половицу…
Всё такое резкое, такое реальное, по сравнению с домом Шарлотты, где стены как будто стеклянные. Да и есть ли он, дом Шарлотты? Она не могла его вспомнить. Только саму Шарлотту — бледную тень за темнеющим синим стеклом. И Нина, рабыня, верный пёс, у её неподвижных ног. А всё остальное — всего лишь иллюзия, тени. Обман, созданный волей Шарлотты, её всемогущей безжалостной волей. Вот она, Матильда — существует ли она? Или она всего лишь снится Шарлотте, задремавшей у окна с раскрытой книгой на коленях?
Мать стояла у комода, перекладывая стопки белья из одного ящика в другой — монотонно, как заведённая. Какая разница, в конце концов, где именно будут пылиться эти штопаные простыни?
Вот так и я, подумала Матильда равнодушно, буду через тридцать лет стоять у комода. У меня будут такие же иссохшие жёлтые руки и морщины на лбу. Я буду носить тёмно-синее платье и поджимать тонкие губы. И это бельё, и комод, и дом, где вечно что-то скрипит, кипит, или киснет в тазу с мыльной водой, будут для меня важнее всего на свете.
А Шарлотта? Шарлотта старше Матильды, но разве это имеет значение? Шарлотта никогда не будет старой, — в это Матильда верила так же твёрдо, как мать верила в гипсовое грубое распятие над своей кроватью. Шарлотта вечно останется такой, как сейчас, как в тот день, когда она замерла в кресле. Как картина, как статуэтка, как образ, созданный воображением.
— Где ты была, Тильда?
Тильда. Она ненавидела это имя.
— У Шарлотты.
— А… — Мать с силой хлопнула ладонью по стопке белья. — У этой бессердечной…
— Мама, не надо.
— Почему не надо? — Мать повернула к ней утомлённое пожухлое лицо. — Я говорю то, что есть.
— Ты совсем не знаешь Шарлотту. Ты не видела её почти тринадцать лет. С тех пор, как….
— Она и тогда была такой. И я вижу, что она вытворяет с Яном. Он каждый раз от неё возвращается сам не свой. Что она ему говорит?
— Ничего, — коротко ответила Матильда. И это была чистая правда.
— Она что, полагает, что слишком хороша для него?! Для нашего Яна!
Шарлотта и Ян. Матильда не знала, рассмеяться ей, или заплакать. Принцесса грёз в ожерелье из ночных теней и её брат — с руками почти до колен, вечно красным лицом и щёточкой чёрных волос над угрюмым лбом. В комнате Шарлотты он казался дикарём.
— Ты бы сама не хотела, чтобы они… поженились, не так ли? — произнесла она вслух, причём слово «поженились» далось её с большим трудом.
— Я? — мать поджала губы ещё сильнее, отчего её лицо стало совсем старым и мрачным. — Я бы, конечно, желала ему не такую жену. Здоровую, по крайней мере. Но если он так на ней помешался… — она пожала плечами.
Знала бы Шарлотта, как эта раньше времени увядшая женщина, возясь упорно с бельём и жуя по-старчески ртом, решает снисходительно её судьбу. Впрочем, какое ей было бы дело?
— Мама, Шарлотта не любит Яна, — сказала Матильда устало. — Она никогда, никогда… — второй раз ей это произнести не удалось. — Я пойду, — добавила она поспешно.
— Зайди к прабабушке, — сухо напутствовала мать. — Сегодня ей стало хуже.
5
В комнате прабабушки царил полумрак. Пахло плесенью, нестиранным бельём, старостью, спёртым воздухом, пылью.
Матильда подошла осторожно к кровати. Не успела она промолвить ни слова, как старуха, казавшаяся спящей, резко открыла розовые влажные глаза и произнесла:
— Карнавал.
Карнавал. Как будто в комнату ворвался листопад. Как будто вокруг зачадили сотни свечей, а на крыше зашуршали и захлопали крыльями диковинные птицы. Карнавал. Профиль Шарлотты на фоне закатного неба. И горькое предчувствие, гнездящееся в сердце. Чёрные тени, скользящие к горлу. Карнавал…
Она взяла прабабушку за руку. Неуклюжая пятнистая рука, налитая годами, как свинцом.
— Карнавал, — повторила старуха. — Он вернулся, Матильда. Она вернулась.
— Нет, прабабушка, нет. — Она ласково сжала разбухшие уродливые пальцы. — Это не тот карнавал. Успокойся, тебе нельзя волноваться.
— Это он. — Прабабушка смотрела на неё, не отрываясь. Её слова звучали так беспощадно и пугающе, так чётко. — Я знаю, Матильда. Сегодня утром я услышала зов. Как тогда. Я тогда испугалась. А она нет.
— Прабабушка, — она наклонилась ближе, она почти умоляла, — с тех прошло больше восьмидесяти лет. В город приходило столько карнавалов…
— Это тот самый, — непреклонно возразила старуха. — Другие — всего лишь подделки, они ничего не значат. Но этот… только он приходит осенью, когда всё умирает. И он собирает жатву… — её голос затих.
Зов Карнавала… По телу Матильды пробежала сладкая дрожь. Так вот что это такое. Словно ангелы с чёрными крыльями и в огненных венках кружили вокруг, скользили по опустевшим улицам. И Шарлотта, ждущая чего-то у окна; Шарлотта пьющая всем существом ночь, темноту и запахи тления…
— Он вернулся, — вновь заговорила старуха. — Он вернулся, и она вместе с ним.
— Нет, это невозможно, — вырвалось у Матильды. — Прошло столько лет! Она уже, наверное… — она осеклась.
Старуха слегка улыбнулась.
— Фотография… — произнесла она. — Дай мне фотографию, Матильда.
Фотография стояла рядом, на ночном столике. Старый выцветший снимок почти вековой давности. Две девочки лет десяти, близнецы, похожие, как отражения. Чуть раскосые глаза, гладко зачёсанные волосы. Но у одной на виске — едва различимый на пожелтевшей бумаге шрам в виде треугольника. Старуха слегка коснулась этого места крошащимся ногтем.
— Фотограф хотел, чтобы шрама было не видно. Но она отказалась. Она сказала: «Не хочу, чтобы потом кто-нибудь спрашивал — какая из них Эмили?» Она сама сделала этот шрам.
— Сама? — Матильда вздрогнула. Она слышала это впервые.
— Ей было тогда семь лет. Мы поссорились. Она взяла нож и сказала: «Не хочу быть твоим повторением. Я — это только я». И ударила себя ножом по лицу. Было так много крови… Я кричала, а она смеялась и всё повторяла: «Теперь никто нас никогда не перепутает».
Прабабушка умолкла. Матильда взяла в руки снимок и неотрывно смотрела на девочку — маленькую девочку с глубоким шрамом.
— А потом она ушла, — глухо сказала старуха. — Ушла с Карнавалом. Нам было семнадцать лет…
— Я знаю, прабабушка.
— Нет, ты не знаешь, — она из последних сил приподняла седую лохматую голову. — Мы обе слышали зов Карнавала. Обе. Но я испугалась. Она мне сказала: «Ты мой страх. Я оставлю тебя и уйду, и стану свободной, как ветер. Наконец-то свободной от тебя и от этого места. Я пойду одна по своей дороге». Вот что она мне сказала. Я помню каждое слово. И смеялась, смеялась, как сумасшедшая… А ночью я слышала, как она встала. И я знала, куда она идёт. Но я не пошла. Я испугалась. А на следующее утро Карнавала уже не было… И Эмили тоже.
Она затихла. Мало-помалу силы покидали её, утекали, как вода сквозь пальцы. Лицо оплыло и посерело, в глазах появился стеклянный блеск.
— С тех пор она снится мне каждую ночь… Я старею, а она всё такая же юная. Она идёт по своей дороге в короне из осенних листьев и смеётся, смеётся надо мной, над моей никчемной жизнью… Над тем, как я все эти годы гнила в этом городе, мыла полы и рожала детей. И не узнала, куда же вела эта дорога… дорога в ночи, за Карнавалом. Но теперь… теперь Карнавал вернулся, и она вернулась… Она здесь, я чувствую… Теперь я тоже свободна…
Она замолчала; лицо её стало свинцово серым.
— Карнавал… — прошептала она. — Эмили… Карнавал…
— Прабабушка! — взмолилась Матильда.
Но прабабушка была мертва.
Акт второй Карнавал
«Кому нужно, чтобы пир во время чумы — был?
Кто наш, нас беспутных, вожатый,
нас безбожных — покровитель?»
«То, что вам — „игра“, нам — единственный серьёз.
Серьезнее и умирать не будем».
Марина Цветаева1
Осень. Горящая, жгучая. Лесной пожар, заключённый в каждый кристалл звенящего воздуха. Ветер разметал по судорожно скрюченным ветвям деревьев все краски заката. Как дым, поднимаются от остывающей и коченеющей земли приторные запахи. Всё лживо, всё изменчиво, словно паутина, сплетённая из северного ветра и нестерпимо прозрачных солнечных лучей. Солнце изменилось, оно уже не то, что летом. В эти странные дни, когда всё зыбко, всё неустойчиво, в него проник — капля за каплей, — яд луны. И солнце поблекло, остыло, повернулось к стекленеющим лугам другой, холодной ипостасью.
Небо медленно, но верно лиловело. Солнце ещё светило, плюясь раскаленной лавой; но в другом закоулке неба уже проступала белая плёнка луны.
В час, когда солнце и луна светят вместе, возможно всё.
Матильда не знала. Она только шла по пустеющей улице, в конце которой виднелся лес, едва различимый, серый, пустой. (Знала Шарлотта. Она знала всё, знала заранее, и её пальцы — тонкие, бессильные, никогда не державшие ничего, тяжелее книги, бессознательно касались шеи, полускрытой узлом волос цвета заката. Ветер с болот навеял ей на лицо улыбку — холодную, острую, точно кинжал).
Матильда не знала. Не знала о том, что небо темнеет, что смутные тени, покинувшие лес, заполняют его, словно гости — бальную залу. О том, что солнце скользит в луну, как в зеркальную пропасть, разбиваясь на бесчисленное множество осколков. Не знала о том, что в диких виноградниках длинные лозы шевелятся, будто змеи, и густой, как солнечный свет, как кровь, приторный сок стекает на землю. Что далеко — за лесом — за лугом, простёртом, как рана, навстречу пропасти неба — в чёрных болотах, куда не проникнет солнце, где светит луна и болотные огни, возрождается древний, истерзанный бог. Что воздух отравлен его дыханием, что в закатном сверкающем свете — его безумие. Юный бог, прекрасный, как сон, безжалостный, как ребёнок… Он снова родился, он здесь. Волки в лесах недоверчиво льнут к шоколадной опавшей листве, к холодной земле, пахнущей тленом, и их голоса возносятся к небу, как песнопения. Опьяневший закат беснуется в небе, которого нет. Есть пустота; огненным вихрем мечется он в пустоте, пытаясь достать рыжим хвостом до бледных призраков звёзд.
Беги, Матильда. Беги от кровавых слёз, горящих на небе, от бархатистого мрака, который ползёт с болот. Ветер касается губ, он обжигает, пьянит. Горечь, Матильда. Горечь, горечь и горечь… И пустота внутри, такая же, как в небе; такая же, как за протёртой до дыр тряпичной маской луны. Лишь золотые осенние листья гаснут в чернильной воде болот. Лишь над лугом вздымается серый шатёр, и пурпурные звёзды горят на его стенах… Это обман, Матильда, беги от него. Беги, пока яд не проник в твоё сердце, не затуманил глаза. Беги, пока мёртвый бессмертный зверь, спящий в тебе, не почуял запах вина и крови и не воскрес, не проснулся, не разорвал твою душу…
Запах тлена, ладана, крови. Запах костра, сосновой хвои, влажной земли, дождя, виноградного сока, морского прибоя и роз, роз, бессчётного множества роз — перезрелых, отцветших, из всех садов Востока. Или не было запаха. Только лишь тени в закатном удушливом мареве. Не вдыхай. Не смотри. Не слушай.
По улице шёл Карнавал.
Музыка. Или это была не музыка? Звенящий шёпот бубенцов, гортанные всполохи бубнов. И — иногда — пронзительный, горький вопль скрипки.
И всё это на фоне другого звучания. Это церковный орган? Или нет? Тяжелый, густой, мучительный звук, противиться которому немыслимо. Звук без начала и без конца. Этот звук мог зародиться на дне океана, в те времена, когда до человека было дальше, чем до звёзд на небе.
Темнело. Из сумерек величественно выступили кони. Вороные, лоснящиеся серебром. Что у них на головах? Чёрные плюмажи? Разве это — траурный кортеж? Безумие.
Мостовая замирала под тяжелыми бесшумными копытами. Время крошилось. Воздух звенел, как решётка.
Львы. Помост, а на нём — в окружении ржавых прутьев — три льва. Три пылающих яростно солнца. В узких зрачках, рассекающих их золотые глаза — смерть, кровь и пустыня.
Снова помост. Закрытый фургон. С каждым ударом сердца становилось темнее, холоднее. Сумрак разрезали первые звёзды. Тени смыкались. И тут появилась она.
Танцовщица.
Она шла, летела, скользила в безудержном бешеном танце, держа на цепи сверкающую чёрную пантеру. Их тела почти что сливались в одно. Густые иссиня-чёрные волосы вихрем обдавали её лицо, скрывая всё, кроме глаз — зелёных, тигриных, безудержных.
Перед Матильдой всё замелькало, покрылось лиловыми и розовыми пятнами. Ей показалось, что танцовщица преображается. Вот она цыганка, сотрясающая бешено ворохом грязных юбок и бесстыдно обнажающая смуглую грудь. Нет, нет, она — индианка, храмовая танцовщица, славящая экстатическим танцем священное сладострастие Шивы. Её тело бьётся, словно в предсмертных конвульсиях, руки извиваются заворожёнными кобрами…
Нет, теперь она дикарка, менада, её глаза черны и пусты, с губ стекает вино, её тело изодрано в кровь — дикими зверями или собственными длинными ногтями?
И вот последнее видение — невыносимое. Танцовщица была обнажённой — лишь волосы чёрным огнём вились вокруг тела. И тело таяло, словно дым. Что это — плоть или просто скелет? Полупрозрачные белые кости, восставшие из могилы? Не смотри! Нет, уже поздно… Воздух стал розовым, нет, багровым… В её руках чаша, наполненная чем-то тёмным. Чаша всё ближе, она чувствует запах… Нет, не надо! Только не это!
Она не закричала. Она лишь прижала руку к губам. Нет, она прокусила руку, и кровь закапала прямо на землю.
Карнавал замер. Замерло всё. Танцовщица смотрела ей прямо в глаза. Её лицо было так близко — и так далеко. Но она его видела. Видела всё. Бледное лицо с раскосыми глазами и треугольным шрамом у виска.
2
По узкой улочке, вылизанной ночью, торопливо шёл человек. Торопливость отнюдь не была ему свойственна; весь путь, от колыбели до этого проклятого богом места, он прошествовал размеренно, как маятник. Теперь же он почти бежал. Он чувствовал, он знал, он верил: что-то или кто-то движется за ним, неотступно, как тень, как эхо его шагов.
Он оглянулся. Ничего. Никого. Только темнота — густая, текучая, живая, словно готовая в любой момент разразиться сатанинским смехом. Занавес, который вот-вот раздвинется, выпуская на сцену актёра. Кошмарный сон, просочившийся в явь. Где-то размыло границу, что-то сломалось в этом мире, в этом городе. И он — он падает, падает в щель этой улицы, ведущей в никуда…
Он пытался убедить себя, что это обман, полуночный бред, что за этим стоит всего лишь естественное беспокойство человека, идущего глубокой ночью из заведения, которое не стоит посещать почтенным седовласым отцам семейств. Но тщетно. Заведение ушло, кануло как дым в невозвратное отныне прошлое. Он больше не был благопристойным джентльменом с седыми висками и округлым брюшком под добротной тканью сюртука. Он превратился в маленького мальчика, который, не в силах даже вздохнуть, стоит спиной к двери громоздкого старого шкафа. Он не видит, не слышит, но он знает, что дверца шкафа неуклонно раскрывается. А там, в шкафу, в темноте, скрывается нечто. У него нет ни лица, ни голоса, ни имени, оно неподвластно его воображению. Но оно есть, оно здесь, оно пришло, оно готовится к прыжку. А он один, он не может кричать, он не может дышать, не может даже увидеть того, кто вот-вот… вот сейчас…
Чёрная тень метнулась из-за угла. Он больше не чувствовал страха. Он ничего не чувствовал. Кошмар оборвался. И лишь бесполезное грузное тело всё ещё билось на мостовой…
3
В эту ночь она не спала. Она неподвижно лежала, и только глаза, глаза цвета пепла и гаснущих звёзд, прожигали мрак призрачной комнаты.
Окно было открыто. Она смотрела туда. Смотрела в ночь, в пустоту и ждала. А ночь в ответ смотрела в её глаза, проникала в зрачки, покрывала лицо узором теней и обещала.
Так было всегда. Так было тринадцать лет. Но сегодня всё было иначе.
Там — за окном — в темноте — в пустоте…
Ни звука, ни знака. Но чёрная кошка в её груди зашипела и выгнула спину. Древний инстинкт, ещё более древний, чем сама жизнь, пробуждался и сбрасывал кольца.
Луна билась на небе, как вырванное сердце. Её сердце, отданное ночи.
Час настал. Все обещания были исполнены.
Она села. Вцепилась когтями белых изнеженных рук в изголовье и поднялась. А затем она сделала шаг к окну.
Это было невозможно. Немыслимо. Это не могло произойти. Все законы природы были против этого. Но в этот момент мир истончился, как паутина. Небытие разрушало иссохший песчаный замок реальности. И её мёртвые ноги сделали это, растоптав законы, словно гнилую листву.
И когда, наконец, их покинула жизнь, идущая от чёрного безжалостного сердца, от разрушительной воли, вспоенной лунным смертоносным молоком, она упала… почти упала, но окно удержало её, снова обдав холодным дыханием.
Её руки сомкнулись на раме окна, и звёзды вошли в запястья, как гвозди.
Она посмотрела вниз. Он посмотрел наверх. Луна осветила ярко до боли его лицо, фигуру, чёрные раны глаз и мёртвую груду на мостовой.
Двое распятых над пропастью вечности молча смотрели в глаза друг другу. Арлекин с размазанным гримом на губах и Коломбина с телом, безжизненным, как у повешенной.
Всё истлевало. Луна тонула в горячечном небе.
Этого ты ждала? Это нужно тебе, принцесса из страшной сказки? Вот твоя ледяная пустыня под вечной луной. И вот тот, кто испивает тебя до дна глазами цвета твой души. Он здесь, он ждёт, так же, как ты ждала.
— Да, — сказала она, — Да.
4
Она стояла одна посреди объятого чёрным пламенем рокочущего луга. Неподвижная, никем не замечаемая в карнавальной суете.
Она казалась тончайшей струной, натянутой между землёй и небом, где уже появилась луна — разбитая вдребезги тучами, изорванная ветками деревьев. Её тусклые лучи, словно седые пряди, прокрались в волосы, которым не суждено поседеть вовеки. Скорее луна провалится в этот небесный котёл, сгинет в нём, а земля расколется надвое спелым гранатом, обнажив чудовищное перезрелое чрево. Но даже тогда, в отблесках вселенского пожара, её волосы, мысли, её душа, останутся чёрными, чёрными, как те угли, которыми всё неизбежно завершится.
Кто же она? Мать Карнавала, или одно из порождений? Нет, нет и нет. Как убоги и скованы ваши представления. Карнавал не рождён и не рождает, семя его холодно, а корни затерялись в пустоте. Она — всего лишь одна из мутных бездомных сущностей, подобранных им на пыльном пути от невинно-розового восхода к воспалённо багровому закату.
Одна из теней в тёмной запертой комнате. Одна из спиц колесницы, несущейся в Тартар. Одна из ран на исколотом теле.
Но она не была частицей Карнавала. Это он был частью её; он был мохнатой летучей мышью, заключённой в её груди вместо сердца. Он был её кровью, неумолимо бежавшей по венам под сахарно-белой кожей. Она не знала сама — если ударить ножом по запястью, какая влага покажется — алая? Или чёрная? Чёрная, как её волосы, как вода в болотах, где горят зелёные огни и её глаза? Чёрная, как земля на кладбище, где давным-давно должно лежать и гнить её тело?
Что же, кладбище останется обманутым. Оно не получит эту игрушку, чтобы сломать, засыпать землёй и осенить изломанными бледными цветами. А впрочем, можно ли принадлежать ему полнее? Можно ли быть дальше от живых? Каждую ночь я прихожу туда, на кладбище, в сосредоточие всех полуночных кошмаров, и танцую среди крестов и могильных плит. Волки со всей округи приходят и смотрят на эту пляску. Жёлтые хлопья слюны падают с их клыков, а в каждом глазу пылает луна. Дикий шиповник рвёт мои руки, я чувствую, как кровь струится по коже, рисуя причудливые кружева. Мне всё равно, я не чувствую боли, не вижу крови. Алая, чёрная — не всё ли равно? Это кровь Карнавала, это сам Карнавал в моих венах свирепствует и заставляет меня танцевать, призывая призраков и мертвецов.
Я дышу Карнавалом, и моё дыхание — яд. Из-под моих неистовых ног вырываются побеги чёрных маков. Мне всё равно, я просто танцую, я срываю луну, как серебряное яблоко, я играю с ней, я ударяю в неё, как в бубен.
Волки жмутся к земле, их загривки объяты пламенем. Деревья стонут, как будто у них есть сердце. Быть может, и есть — я не знаю. У меня его нет. У меня есть один Карнавал. Карнавал в моём теле, моё наваждение, мой бесконечный безжалостный танец. Я танцую, танцую. Танцуй, ты должна танцевать. Даже если от тебя останется лишь обугленный чёрный скелет, — во имя себя, во имя Карнавала, ты будешь танцевать…
5
Сумерки густели. Всё мутнело, всё теряло очертания, словно покрываясь пеленой из пушистого сиреневого снега.
Их становилось всё меньше и меньше, они уходили прочь. Спеша, убыстряя шаги, поджимая неловко плечи. Картонные фигурки, опалённые закатом.
Что же, уходите, уходите прочь, вы, испуганные кролики в лесу. Бегите, ощущая за спиной дыхание дракона. Не вам опускаться в его багровую пасть. Карнавал не для вас, он лишь опалил вас, лишь бросил чёрные зёрна в ваши мягкие трепещущие души. Вы просто дети, тянущие руки к коралловой горящей головне. Не смотрите, не прикасайтесь — это сожжёт вам не только пальцы, но и глаза, и сердца, и души. И вам не восстать из этого пепла, не напитаться чёрным эликсиром. Вы другие, вас не подхватит ветер, как стаю серых опавших листьев. Возвращайтесь домой, где часы неустанно стучат на засаленной старой стене. Бегите… но что, неужели горит земля под ногами? И что притаилось в бурой траве — полусгнившие корни или чёрные руки? Не надо дрожать… это обман, это царство иллюзий… Возвращайтесь домой, опустите засовы. Заприте огонь в грязном камине, а темноту — в погребе, где пылятся винные бутыли в чехлах из паутины.
Но ночью, когда вы уснёте… Впрочем, это сейчас вы спите. Вы глухи и слепы. Остановитесь. Это ваша могила, и вы на её краю. Она пахнет жирной чёрной землёй. Не оступитесь. Бегите. Но знайте: это не листья хрустят у вас под ногами, это крылья ваших мёртвых ангелов-хранителей…
Уходите и не возвращайтесь. Уходите во прах. А спустя сто лет придут дети ваших детей. И они точно так же будут гладить золотую кобру пухлыми липкими пальцами. И точно так же будут возвращаться, унося с собой запах земли и ночные кошмары.
А я буду здесь. Я буду всегда. Я — та, что станцует на ваших могилах.
А вот и она. Та девушка с потерянными светлыми глазами. Глупое дитя, блуждающее в чаще. В углах её губ притаился страх. Влажная прядь присохла к округлой щеке.
У неё такое нежное лицо с золотистым пушком на висках и нелепой ямкой на подбородке. Такое же, как у меня… сто лет назад, перед тем, как кожа на нём истлела и вместо неё наросла ледяная корка.
Моя красота — всего лишь иллюзия. Впрочем, бывает ли другая красота?
Но не глаза. Они настоящие. Они не лгут, не туманят и не завлекают. Загляни в мои глаза, дитя. Войди в лабиринт из чёрных зеркал. В тот лабиринт, по которому я когда-то прошла, теряя тело, лицо, мысли и душу… пока не увидела в самом конце, в последнем зеркале Зверя. Зверя с моими глазами.
Они молчали. Между ними была пропасть, огненный поток, над которым тянулся её чёрный волос.
Ты должна пройти по нему, дитя, и я не подам тебе руки. Потому что моя рука — кинжал, смазанный ядом. В моей ладони таится змеиное жало. Пройди сама… а лучше беги отсюда, пока слова не сломали заклятье, не раздразнили демонов, которые толпятся за моей спиной.
— Эмили.
Точно так же ты могла бы сказать «Кис-кис-кис» этому тигру, моя девочка.
— Нет, — возразила она вслух, — не Эмили. Лилит.
Её язык и зубы щёлкнули, как кастаньеты, чеканя это последнее «т».
— Да. Конечно, Лилит. Я понимаю.
Что ты можешь понять? То, что Зверь разорвал моё тело на части, сжёг без остатка и вылепил снова? Остался лишь этот неизгладимый шрам, на который ты смотришь, как на знамение. Ты права — это первая метка Карнавала. Карнавал был мной, Карнавал был ножом, Карнавал был кровью, покинувшей тело…
— Твоя сестра умерла.
— Я знаю.
— Откуда?
— Она умерла в ту ночь, когда мы расстались.
— Ты чудовище.
— Да.
Ты хочешь меня оскорбить? О, моя испуганная Красная Шапочка. Прабабушка, почему у тебя такая холодная белая кожа и такие пустые глаза? Нет, мне нельзя смеяться. Моего смеха ты не вынесешь.
— Кто ты такая?
— Лилит. Чудовище. Карнавал.
— Но кто вы? Что такое Карнавал?
— Просто Карнавал. Ничто. Пустота. Царство иллюзий. Афиши не лгут. Вдумайся в эти слова.
— Зачем вы пришли?
— Зачем приходит осень? Зачем приходит ночь? Зачем приходит смерть?
— Смерть…
— Смерть — тоже карнавальная фигура, разве не так? Чёрный плащ, белая маска, коса… Иллюзии скрывают сущность. Но, быть может, нет ничего, кроме иллюзий. И жизнь, и смерть — тоже иллюзии. Я не знаю сама, жива я, или мертва.
— Я хочу знать. Хочу видеть.
— Нет. Ты не хочешь. Ты хочешь, чтобы всё было так, как должно быть. Тебе не понять Карнавал. Мы собираем иную жатву.
— Я должна.
— Как угодно. Ты увидишь Карнавал. Но знай: только тот, кто носит в себе его семя с рождения, может пройти до конца по этому лезвию. Оно рассечёт тебя пополам, отнимет всё и не даст ничего.
6
Откуда появился этот склеп? Он застыл на окраине луга точно каменный горб. Казалось, ему уже сотни лет, и он весь пропитался запахом смерти и тления. Чёрный мрамор помутнел и затуманился; полуразрушенные круглые колонны обвивал, стекая на землю, загнивающий бурый плющ. Щели между камнями забивали зелёные струпья мха. Над входом горели письмена — золотые скарабеи.
Каждый камень вибрировал от тишины. От той тишины, что наступает после горячих рыданий, стонов, проклятий, посылаемых небу.
Дверь открылась — бесшумно, как тонкие веки. Что-то толкнуло её вовнутрь. Темнота поглотила её. Ей казалось, она попала в нежные чёрные руки Смерти, которые смяли её, как комок пластилина. И маска. Лилит сказала — у Смерти белая маска. Но что под маской? И эта коса. Она рассечёт её грудь и вырвет ей сердце. Не надо, это же моё сердце! Лилит, не надо!
(Я посажу твоё сердце на кладбище, девочка, я полью его кровью, я выращу красные маки. Я соберу лепестки, и сошью из них себе башмачки. Чтобы танцевать… танцевать…)
Из темноты возникла свеча. Мерцающий жёлтый мазок. Её нёс человек — его лицо и волосы были белые, точно бумага. Глаза она не могла разглядеть, не могла понять. Они смотрели мимо неё — и в тоже время видели всю: каждый волос, каждую каплю холодного пота, каждую родинку на обмороженной ужасом коже.
— Лилит, — произнёс он. Их взгляды скрестились поверх неверного пламени.
— Эта особа… — Лилит даже не кивнула в её сторону. — Покажи ей то же, что и другим. Сейчас.
— Но, Лилит… — он еле заметно качнул головой. — Уже поздно. Аттракцион закрыт. Я уже погасил все факелы.
— Так зажги их снова. До заката ещё полчаса. Поспеши.
Он кивнул. Раскрылась другая дверь, и её точно швырнуло туда, за порог, в темноту, порывом холодного ветра.
Но ветра не было.
Она была заперта. Она задыхалась. В кромешной тьме она не видела стен, но ощущала, как они надвигаются со всех четырёх сторон, чтобы раздавить её, истолочь в порошок. Она не могла дышать, не могла кричать, она была одна…
Нет, не одна. Белый человек был здесь. И Лилит — она ощущала её за спиной, как крылья… как чёрные крылья…
Белый человек подошёл к стене и стал один за другим зажигать своей тусклой свечой смоляные старинные факелы. Это было непросто.
(Ты предпочла бы, чтобы он зажёг их одним-единственным взмахом руки, не так ли, дитя? Это было бы так эффектно, так впечатляюще — почти цирковое представление. Алле-оп! Аплодисменты и овации.
Но мы не фокусники. Мы не творим чудеса. Мы не создаём из ничего, напротив, — мы превращаем в ничто. Мы сами — ничто. Так что не жди от нас ни розовоглазых пушистых кроликов, ни белых голубей из чёрного цилиндра. Впрочем, чёрный цилиндр, я точно могу обещать. И очень скоро… Смотри!)
Факелы с треском пылали вдоль стен. Стало светло — если только можно назвать светом это воспалённое огненное марево.
Посреди комнаты стоял огромный гроб. Белый с позолотой. Гроб аристократа, стремящегося к роскоши даже после кончины. Вот только крышка была стеклянная — и запиралась на ключ, как шкатулка.
И под этим стеклом, в гробу, на алом сафьяне, лежал он.
Вампир.
Это слово ей будто каркнули яростно в ухо. Вампир. Откуда она это знала?
Он был образцом, воплощением всего, что было известно ей о вампирах. Лакированные чёрные ботинки, чёрный плащ на красной подкладке, фрак, чёрный цилиндр, руки — безделушки из слоновой кости, обтянутые шёлковыми белыми перчатками…
Перед ней возник пахнущий пылью тесный кинозал, где они с Шарлоттой смотрели старые фильмы ужасов. Шарлотта тогда ещё могла ходить… Все в зале, затаив дыхание, смотрели на экран, а она смотрела только на Шарлотту. Та сидела так же неподвижно, как сидит сейчас в своём злополучном кресле. И казалась ей не живым человеком из плоти и крови, а тенью, сошедшей с киноэкрана. Её лицо было бело, почти прозрачно, а глаза — абсолютно черны.
Кино было иллюзией, этот вампир, в гробу перед ней — иллюзия… а Шарлотта?
Она смотрела ему в лицо, она словно пыталась ощупать тень. Опущенные веки… тёмные волосы… Губы бледные, чуть ли не синие… Не то, не то… Нет, кроме всех этих банальных вампирских аксессуаров было что-то ещё… что-то тревожное, почти невыносимое, но ускользавшее, как сновидение.
Седовласый человек слегка кашлянул и взмахнул рукой в сторону гроба. Точь-в-точь экскурсовод в музее — не хватало только указки.
— Итак, юная леди, перед вами, как вы, разумеется, уже догадались, спящий вампир. Жемчужина Карнавала, один из самых популярных аттракционов. Вам, возможно, известно, что в дневные часы вампир находится в бессознательном состоянии. При этом естественный свет для него чрезвычайно опасен. Именно поэтому все щели в стенах этого склепа тщательно заделаны, а вторую дверь, ведущую к гробу, невозможно открыть, пока не заперта первая. Что касается стекла, то его цель — обезопасить наших почтенных посетителей. Прикосновение к спящему вампиру смертельно опасно. Ибо даже в таком состоянии он способен нанести удар тому, кто будет иметь неосторожность потревожить его покой. — Он сделал паузу и слегка побарабанил по стеклу длинными изогнутыми пальцами. Но звука не было. — Возможно, милая леди, у вас есть какие-то вопросы? Я буду счастлив удовлетворить ваше любопытство. Но, умоляю, поспешите. Солнце вот-вот зайдёт и тогда…
— Нет, — она затрясла головой, зубы стучали во рту, — нет, это неправда. Я не верю. Он не настоящий. Это просто представление, это восковой манекен. Правда, Лилит?
— Может быть. — В темноте казалось, что Лилит одета так же, как вампир. Чёрный фрак и плащ… И тёмные волосы вдоль лица… — Может быть, да, а может быть и нет. Я говорила тебе, Карнавал — это иллюзия. Что истинно? Кто может знать? Иллюзия, ложь, обман, дурной сон… Думай, как хочешь. Идём, нам пора.
Факелы чадили, вспыхивая ядовито-зелёным огнём. По стенам неслышно стекала вода. Белого человека больше не было. А был ли он прежде? Быть может, и это иллюзия? Или…
У двери она обернулась. Отсветы факелов скользили по стеклянной крышке. Возможно, поэтому ей показалось, что у того, кто лежал в гробу, дрогнули веки. Возможно…
7
Они шли в никуда, в пустоту, в темноту. И темнота наступала на них с каждым вздохом. И была лишь земля, а над нею раскинулось небо, разорванное в клочья, в запёкшейся крови заката, изжёванное и покрытое плевками звёзд. И облака, как тёмные хищные птицы, были воздеты на пики деревьев и истекали гибельным серым туманом. И ядовитая облатка луны. И Лилит. Лилит, рассекавшая ночь, как чёрный мерцающий нож. Лилит, неотступная и неуловимая.
Это она лежала в стеклянном гробу? По её лицу скользили ржавые отблески факелов? Её волосы раскинулись на алом сафьяне, как чёрные щупальца мёртвой медузы?
И да, и нет. Это был Карнавал, Матильда…
Всего лишь одна из иллюзий. И я сама — не более, чем иллюзия. Тень от тени, отголосок львиного рыка где-то в пустыне, на другом конце света… Или эхо от крика кого-то, кто мечется сейчас в пылающей постели и тщетно пытается сбросить вязкую сеть ночного кошмара. Я — пожар в твоём доме, рушащий балки и превращающий старые снимки и фарфоровых кукол с голубыми глазами в кашу из мокрого пепла и горчично-седой золы. Я — багровые плети плюща, увившего окна и заслонившего солнечный свет. Но это не важно, взгляни, какие цветы… Я засыплю ими твою постель, ты утонешь в них, моя глупая испуганная девочка…. Я — кровь на твоём языке, я — боль в твоём теле, разъедающая всё, прорастающая в каждой клетке…
Если я сейчас обернусь, ты не увидишь лица. Ты увидишь Ничто, пьющее ночь, кровь, пустоту. Меня нет, моё тело — труп, избежавший могилы, моё лицо — карнавальная маска, моё имя — повторение старых легенд… Меня нет, Матильда. Ты одна… Но если ты взглянешь в зеркало — ты увидишь меня, мои губы, мои глаза. Я прыгну на тебя из зазеркалья, как моя великолепная чёрная пантера. Я припечатаю тебя к земле; к той самой земле, которая жаждет тебя, как жаждем мы все — бесплотные, бездомные…
…Небо рухнуло иссиня-чёрным куполом, земля взволновалась, как море, и под их ногами зазвенел натёртый паркет. Со всех сторон зашелестели зеркала гигантского бального зала. Они закружились, понеслись по кругу, и Матильда не могла понять, что это за танец. Лилит летела, как ураган, в чёрном лоснящемся фраке и чёрном цилиндре, сжимая её стальными руками — безвольную, вялую, почти что спящую… Сожми она руки немного сильнее — и рёбра Матильды треснут, словно стекло, и она осядет на пол — куча осколков и бессмысленных тряпок.
Зеркала наступали со всех сторон, и каждый взгляд в зеркало был как пощёчина. Это она? Что с её руками? Это не руки, это бесформенные жалкие клешни с лоскутами обвисшей протёртой кожи. А лицо? Верните моё лицо! Это неправда, это не я — это скопление жёлтых морщин, поглотивших черты…Её волосы стали осыпаться с головы, и Лилит безжалостно топтала их лакированными чёрными ботинками.
Она хотела кричать — но горло как будто сжимал ошейник с шипами. Это не я… отдайте моё лицо, мою жизнь… Шарлотта!
Шарлотта сидела неподвижно у стены — безмятежно раскинувшись, как в своём кресле. Её губы и шею заслонял огромный чёрный веер. И только глаза… неподвижные, как у слепой… холодные, словно лёд, наползающий с горных вершин.
Шарлотта, что ты здесь делаешь? Кто привёл тебя сюда?
Но Шарлотта не замечала Матильды, не слышала её безмолвных воплей. За её спиной появилась чёрная тень. Чьи-то руки в белых перчатках легли ей на плечи. Шарлотта закрыла глаза, запрокинула голову… Веер упал на колени…
Шарлотта! Не надо!
…А потом она лежала на алтаре и огненный блеск витражей обжигал ей глаза. И вновь она увидела Лилит такой же, как тогда, на пустынной улице, заражённой Карнавалом. Лицо Лилит покрывалось пятнами и исчезало, оставляя лишь тень. Пустота под ниспадающим длинным одеянием. Жрица с чашей в руках… Нет, не надо! Только не это!
И её не стало. Она растворилась, исчезла. Она лежала в земле, и древесные корни разрывали её тело. Она сама стала этими корнями, её кости рассыпались, обращались в прах и уходили всё глубже и глубже… Она не могла дышать, но это было и не нужно. А потом земля раскололась, взорвалась, и она увидела город. Это был он, её город, но уже иной. Все дома уничтожил огонь; остались лишь остовы — словно скелеты чудовищ. И на этом пепелище вырастали прямо на глазах деревья, покрытые жгуче жёлтыми листьями и россыпью алых плодов. Их стволы изгибались — так танцуют, изгаляясь, на стене, тени от ночника в душной детской… Она не могла понять, день стоит или ночь. Какие-то вспышки резали веки, глянцевая тёмная листва заполняла всё.
Она увидела Шарлотту — кто-то бережно нёс её, как ребёнка, а она обвивала его руками за шею. Но Матильда не видела лиц… ни Шарлотты, ни того, другого… Только руки … руки в белых перчатках…. Волосы Шарлотты спадали до земли, и там, где они касались травы, оставались выжженные тропки.
…А Лилит ломала руками терновник и смеясь, слизывала кровь с израненных пальцев. Она разгрызала плоды с деревьев и красный сок стекал по её подбородку. Лилит шла по пустому вымершему городу, переступая через скорченные мёртвые тела тех, кто когда-то жил в этих домах, ел и смеялся, молился, любил, и запирал заботливо ставни от летучих мышей и незваных гостей. От незваных гостей с нездешними белыми лицами, с пустыми глазами, с изящными пальцами…
Они мертвы? Они все мертвы?
Они всё равно бы умерли… рано или поздно. Важно только то, что вечно, Матильда. А вечность — это мы. Мы те, кто растирает стрелки часов между ладоней, словно травинки. Мы разбиваем стеклянные колбы и рассыпаем песок; потом топчем его, пока не сбиваем ноги до крови. Мы играем со временем и с теми, кто ему принадлежит. Мы сменяем маски и имена. Мы скитаемся, как ветер, текущий в наших жилах. Мы приходим из праха и идём к могиле, но наш путь бесконечен. Мы — Карнавал…
Посмотри вокруг, Матильда. Это наш мир, мир Карнавала. Ты ведь хотела узнать его, не так ли? Смотри же на эти деревья и мумии, вдыхай этот ветер, слушай как осыпаются горы и моря выходят из берегов. Это он, Карнавал… Он вторгается в твой мир, как яд вторгается в тело, как зубы вонзаются в горло. Все ваши нравственные принципы и религиозные догматы — всего лишь музейные экспонаты, столь почтенные, что возле них ходят только на цыпочках и говорят исключительно шёпотом… Но стоит кому-то войти в этот храм, сорвать паутину, разбить витрины, коснуться святынь — и они рассыплются, как детские куличики… И первобытный хаос тут же ударит в заплесневевшие от ужаса стёкла. Он будет резать хрупкие души, как ножницы режут бумагу, не оставляя следов от чёрных беспомощных букв. «Не убий», «не укради» он рассечёт пополам и оставит лишь «не» — как чёрное знамя, зовущее в никуда.
И тогда одни из вас рассыплются в пыль, глаза других нальются багровым. Они упадут на четвереньки, замечутся по кругу на неловких щетинистых лапах. Они взвоют, дрожа своими новыми, искорёженными страхом и яростью телами.
А хаос, как ржавчина, будет точить их зубы и кости, будет жечь беспомощные влажные сердца и твёрдые, как драгоценные камни, глаза.
И в лесах, сплетённых из деревьев и лунных теней, они будут рвать друг друга на части, ощущая лишь боль и голод, голод и боль…
А потому храните ваши засохшие цветы, одевайте ваши мумии в белые одежды, курите им фимиам и шепчите молитвы…Молитесь, тяните время; тяните, пока вам хватит молитв, хватит слюны и пота. Но знайте, что время вам не подвластно, это мы разрываем его, как нитку дешёвых бус, это мы сплетаем конец и начало, заставляя змею поедать свой хвост. И мы придём, когда захотим и принесём в себе хаос. За днём наступит сумрачный вечер, исколотый звёздами и заклеймённый луной. За вишнёвым бархатным летом наступит осень. Она уже близко, она прибивает к вашим порогам растопыренные кисти клёнов. С ней холодные ветры и кровавые дожди. Запирайте двери, обтирайте (но осторожно!) пыль с облупившихся старых распятий. Но всё бесполезно, поверьте, осень придёт, и с ней придёт хаос. Он не оставит ни крови, ни слёз, ни последнего причастия. Дверь отворяется — это он…
Акт третий Финал
Je n`comprends plus pourquoi
J`ai du sang sur mes doigts
Dors en paix je t`assure
Je veillerai ta sépulture, mon amour
C`était plus fort que moi
Même si je sens lа l`effroi
Envahir tout mon être
Je te rejoindrai peut-être, mon amour
Mylene FarmerИ за то за мной, усталой
Смерть прискачет на коне
Словно рыцарь розой алой
На чешуйчатой броне.
Николай Гумилёв1
Одна стена, две стены, три, четыре. Четыре стены. Четыре стороны света. Солнце восходит на востоке и садится на западе. Её мир устойчив, её разум спокоен. Она не отдаст им свой разум, свою душу.
«Ты хочешь, чтобы всё было так, как должно быть».
Да, всё будет именно так. Он будет такой, её мир, её комната. Одна стена, две, четыре…
В четвёртой стене — окно. Зачем? Если бы можно было его заколотить и законопатить каждую щель… Но сейчас окно безопасно, его закрывает занавеска солнечного света. Солнечный свет, жидкий и липкий, как мякоть перезрелого лопнувшего персика. Он грубо проникнет во все углы, сметёт паутину, разгонит стаи летучих мышей. А она разорвёт своё платье и кожу, она напитается этим нектаром…
Но потом придёт вечер, за вечером — ночь. И будет темно, темно, темно… И место солнца займёт луна. Она найдёт её, она учует её запах…
Серебряный тигр, окружённый шакалами-звёздами. Тигр с горящими зелёными глазами… «Я прыгну на тебя из зазеркалья, как моя великолепная чёрная пантера. Я припечатаю тебя к земле; к той самой земле…»
Нет!
Она бросилась к окну, царапая стекло скрюченными пальцами. Дайте мне солнце, дайте много солнца! Напоите меня им, исхлещите меня солнечными розгами до крови… До крови?
От яркого света перед воспалёнными глазами проплыли зелёные пьяные кольца в малиновом мареве. Потом она увидела.
Чёрная кошка.
Она выгнула спину и зашипела — как будто на раскалённые угли плеснули холодной водой. И тут же солнечный свет потускнел, из сочно- золотого стал блеклым, желтовато-серым… Точно кошачья вздыбленная шерсть (каждый волосок стоял торчком) источала мутный сизый туман. И в этом тумане кошка стала расти. Всё больше и больше — спина блестит, как чёрное масло… глаза… это не кошка… это пантера… чёрная пантера…
Она бросилась прочь от окна. Скорее, уцепиться бы за что-то…
Лоб раскололся от боли — она налетела на шкаф. Её шкаф, покосившийся, скрипучий. Чудесный шкаф. Покосившийся — значит, старый. Старый — значит, надёжный.
Она осторожно открыла неподатливую дверцу. Аромат нафталина и пыли. Тугие стопки белья. Она вспомнила руки матери с тяжёлым утюгом, скользящим по этому белью. Влажный пар… У матери раскраснелось лицо и мокрые прядки седых волос липнут к вискам.
Она глубоко вздохнула, прижалась к белью лицом. Какое белое, какое прохладное… Как снег…
…Она неподвижно лежит на снегу, ничком, так что не видно лица. И кровь сочится, сочится из шеи. И снег становится розовым, как клубника. Над ней кружат вороны, и волки подходят всё ближе и ближе. Голодные волки с ободранными впалыми боками. Но ей всё равно, её уже нет. Как хорошо… как хорошо умереть…
Умереть? Но тогда она будет лежать на кладбище, в могиле, глубоко под землёй, её тело разорвут железные корни. А они сожгут город, они посадят алые цветы. И Лилит будет танцевать на её могиле в красных башмачках…
Она уже здесь, она выходит из тени. Белое лицо, тёмные глаза…
Нет, это не Лилит. Это она сама, её отражение в затёртом зеркале на дверце шкафа. Губы вывернуты страхом, в глазах — вопль: оставьте меня! Оставьте меня в покое!
«Это лезвие рассечёт тебя пополам, отнимет всё и не даст ничего»…
Она опускается на колени, судорожно роется в дебрях шкафа. Вот он, ящик с её старыми игрушками. Её плюшевый мишка, побитый молью. У него не хватает лапы и надорвано ухо. Она тискает его так сильно, что из прохудившихся швов вылезают опилки и царапают ей ладони. Мой мишка, мой медведь, защити меня, отгони волков и ворон…
А это её любимая кукла. Большая, в коротком розовом платьице. Фарфоровые щёки недовольно надуты, золотистые локоны свалялись. Глаза закрыты — когда-то они открывались. Она осторожно качнула куклу. Та подняла облезлые ресницы и посмотрела ей прямо в лицо. Глаза у куклы были голубые.
«Я — пожар в твоём доме, рушащий балки и превращающий старые снимки и фарфоровых кукол с голубыми глазами…»
Матильда разжала руки. Кукла упала на пыльный ковёр. Медленно, очень медленно её голова отделилась от тела и покатилась…
…Она сидела на полу, не в силах подняться, зажимая влажный рот кулаком. Вдруг она вспомнила. Да, конечно. Эта кукла прежде несколько раз теряла голову и её приклеивал Ян… Ян!
Да, Ян! Её брат. Краснолицый, твёрдый, квадратный. Похожий на этот тяжёлый шкаф, на плюшевого мишку, набитого опилками. Он сделает это, он спасёт, он отгонит волков, он приклеит голову кукле…
И она побежала вниз, сжимая в одной руке — оторванную голову, в другой — тело, обряженное в розовое платье. Ноги куклы били её как живые.
Ян! Ян!
Она налетела на него, всхлипнула, уткнулась лицом в его грудь. От него пронзительно пахло потом. И какой он уродливый, господи. И она такая же, они похожи. В том танцевальном зале она становилась всё уродливее и старше. А Шарлотта была там и не видела её, ей было всё равно, всё равно…
«Ян, приклей голову кукле», хотела она попросить, но не могла, её губы были как из песка. Вместо этого она сказала:
— Шарлотта…
— Шарлотта? — Он отстранился. — Ты пойдёшь к ней? Сегодня? Сейчас?
— Нет, нет. Я не пойду к ней и ты не ходи.
— Почему? — Он смотрел на неё исподлобья, набычившись, с детским недоумением. — Почему?
Потому что она — одна из них. Она не такая, как мы. Она сидела в том бальном зале, держа чёрный веер… А он стоял у неё за спиной, он ласкал её плечи руками в белых перчатках, гладил её шею, а она закидывала голову. А потом он нёс её на руках по сожженному городу, залитому кровью…
Она не могла это сказать.
— Не ходи, — прошептала она снова. Голоса не было, только вздох. — Не ходи к Шарлотте… никогда.
Она отбросила голову куклы, и та покатилась по полу, блестя голубыми глазами.
2
«Ибо прах ты, и в прах возвратишься»…
Гроб опускался в чёрную землю, и заходящее солнце мусолило липким воспалённым языком грубую крышку из тёмного дерева.
Тот, кто лежал в гробу, когда-то был человеком… мужем… отцом… Но теперь от него осталась лишь оболочка — опустошённая, скомканная, как обёртка от конфеты.
Впрочем, черви неприхотливы и умеют довольствоваться малым. Добродетельные существа, не так ли?
Воздух был жидким, синим, холодным. В дальнюю кладбищенскую стену, отяжелевшую от рыжего плюща, закат забивал раскалённые гвозди.
Вокруг свежей могилы, пронзительно пахнущей влажным чернозёмом, толпились люди. Мужчины — однообразные, прямоугольные и квадратные. И женщины — одни худые, как мётлы, с обглоданными лицами и колючими глазами; другие — дородные, круглые; их телеса колыхались, как желе, под траурными тканями.
Женщины сбивались в стаи, жужжали, лопотали, гудели на все лады, оставаясь при этом в рамках почтительного шёпота. Да, да, да… Нет, нет, ну что вы… Да-да-да, всё та же история… Да, ужасно… Ах, ужасно… Да, на окраине…Нашли на рассвете… Да, конечно… Нет, как можно… Полиция молчит… Никто не видел тело… Как? Отчего? Никто… не известно… Да, чудовищно… Одно и то же… да… каждую ночь…
Вдова стояла поодаль, неподвижно, как истукан. Её лицо ободрал и отморозил ветер, щёки заскорузли от слёз. Она держала за руку мальчика лет четырёх — хрупкого, болезненно бледного с большими серыми глазами.
Мальчик смотрел то на небо с жёлтыми разводами заката; то на шиповник, надменно крививший пунцовые губы; то на землю, проглотившую тело того, кто когда-то дал ему жизнь.
Деревья вокруг щеголяли всеми оттенками осени, точно насмехаясь над убогой процессией в чёрных тряпках, провонявших нафталином.
Мальчик глубоко вздохнул и потянул мать за руку.
— Мама, пойдём… Мне здесь не нравится… Мама…
Она не ответила.
— Мама, здесь скучно… Я хочу… я хочу туда… на Карнавал.
По телу женщины словно пропустили электрический разряд. Не глядя, она вскинула руку и залепила сыну пощёчину.
Он беззвучно открыл рот и снова закрыл. Выдернул ладонь из материнской руки. Его накрыло огненной волной ненависти к этому сухому манекену, стоявшему рядом и облечённому властью над ним.
Из носа вдруг потекла густая тёплая струйка. Он высунул язык, аккуратно слизнул и прислушался к новому вкусу.
Где-то глубоко внутри разжалась тайная пружина, и острая игла вошла в сердце, но это было совсем не больно, а даже приятно. Он вспомнил Карнавал. Воспоминание было смутным, размазанным, как сон или его неумелый рисунок красками. Но одно он помнил хорошо. Это была фея с белой светящейся кожей и зелёными кошачьими глазами. Она танцевала — высоко-высоко — над деревьями и крышами… И она смотрела на него, тянула к нему руки, звала за собой… А потом он убежал от матери и нашёл её, и она гладила его холодными, как снег, лёгкими руками и шептала: «Ты не обычный мальчик… ты красивый мальчик…» И он не хотел уходить, хотел остаться с ней, с Карнавалом, а она улыбалась и качала головой… и что-то обещала… он не помнил…
— Карнавал… — прошептал он еле слышно. Его сердце замерло на миг, а затем забилось в ином, нечеловеческом ритме. — Я хочу Карнавал… Я хочу…
3
Если ты хочешь его, то получишь, рано или поздно… Так бывает всегда. Это безумно просто — протянуть руку и взять то, что желаешь, стиснуть до боли пальцами. Люди этого не понимают. Они подходят, любуются чёрной розой Карнавала, осторожно вдыхают её аромат и тут же отходят. И только такие, как ты, знают, что это такое: вырвать эту розу с корнем, не чувствуя боли от распоровших ладони шипов, а потом вонзиться зубами в упругий атлас лепестков, наполняя весь рот причудливой смесью сладости и горчи. Затем расчертить шипами все пальцы и слизывать кровь, прислушиваясь к новым ощущениям и к собственной жизни, отчаянно бьющейся в каждой тяжёлой пронзительно красной горошине.
А когда придёт час, ты отрастишь острые зубы и серые крылья с перепонками. Ты вознесёшься над лесами, как воздушный змей, и полетишь туда, на запад, за вечерней зарёй. Там небо вечно пылает, как ожог, и там раскинулись бескрайние поля, заросшие кустами бархатных чёрных роз. Между ними гуляют ломаки — шуты в колпаках с немыми бубенцами. С ними дамы, у которых густо напудрены лица, а губы замазаны чёрной или багровой помадой. Они безмятежны, как восковые фигуры и холодны, как погасшие солнца. Иногда они плачут (но очень редко), и тогда их слёзы красные и сладкие, как малиновый сироп. Они вертят в руках, обтянутых перчатками, веера из жёсткого чёрного кружева, а когда им это наскучит, играют в шахматы. Шах, мат, и вот твой отец в могиле. Слышишь, как чёрные комья земли разбиваются о крышку гроба? Жалкая пешка сбита с доски и отправляется в тёмную и грязную коробку…
Они будут так тебе рады, мой мальчик. Они будут возиться с тобой, перебирать пушистые тёмные волосы и узкие белые пальцы… Они расскажут тебе прекрасные сказки — ты ведь их любишь, не так ли? Страшные сказки, от которых кажется, что оживают рисунки на обоях, а из темноты сочится прямо в сон ядовитое дымящееся варево.
Вот и сейчас, послушай одну сказку. Сказку об этом маленьком городе, отравленном угаром поздней осени. В этом городе прекрасная принцесса неподвижно сидит у окна. У неё ледяная кожа, голубые шипы ногтей и каменное сердце. Но ведь камни бывают разные, верно, мой мальчик? Сердце этой принцессы похоже на алый рубин, тёмный почти до черноты. Каждый вечер она грезит и ждёт… Нет, не так. Она уже дождалась того, чего так жаждала её душа — чёрная, с багряными отсветами, как стынущие угли. Теперь она ждёт той минуты, когда сможет отдать всю свою жизнь — каждую каплю, каждый вздох. И тогда её вены наполнятся новой силой, новые нити протянутся между нею и временем. Она встанет — ожившая кукла — и пойдёт, наступая на всех, кто встретится ей на пути, разрывая законы и чувства, как паутину… Посмотри — она ждёт, её губы дрожат и размыкаются, словно лепестки тигровой лилии…Волосы цвета осенних листьев разгораются в огне заката. Её ногти скользят, рисуют узоры на груди, прикрытой небрежными складками шарфа. Она ждёт, и ей нужно только одно. Она это получит, сожмёт руками, выпьет все соки и отбросит прочь… Её мечты, её желания парят вокруг неё, мелькают в воздухе вместе с жемчужной пылью, вздымают занавески на распахнутом окне и скользят по белому шёлку подушек, пахнущих лавандовой водой.
Лестница в замке принцессы скрипит и стонет. Кто-то поднимается, тяжко дыша, к её будуару, её обители. Ноздри принцессы вздрагивают и сужаются: она ощущает издалека пронзительный запах голодного животного. Это драный бездомный кот, вообразивший себя гепардом. Краснолицый мужлан, напяливший фальшивые рыцарские латы. У него на груди, в кармане рубашки, запятнанной потом, лежит дешёвое кольцо из серебра. Не слишком удачный выбор — принцесса в последнее время не жалует этот металл. Но он не знает об этом, он ничего не знает. И он идёт, туго связанный путами из случайностей и неизбежности. Он заходит… Тихо, посмотрим, что будет дальше…
4
Ян вошёл в комнату крадучись, как нашкодивший пёс — или вор-египтянин, проникнувший в гробницу фараона. На его невыразительном тусклом лице читалась решимость идущего на святотатство.
Шарлотта сидела у окна — в пол оборота, приблизив острие подбородка к плечу. Левая рука безжизненно лежала на коленях, раскинув пальцы, как лепестки. Тень от ресниц на прозрачной щеке казалась лиловой.
— Шарлотта, — произнёс он сиплым срывающимся голосом. Это был почти шёпот, но в этой комнате, наполненной хрустальной тишиной, он прозвучал точно конское ржанье и удар копытом в придачу. Он сжался, всем телом ощущая свою несуразность и неуместность; рубашка на его спине стала тёплой и липкой.
Шарлотта почти не повернулась; разве что бросила короткий взгляд наискосок.
— Это ты… — произнесла она. В её голосе не было даже досады или разочарования — вообще ничего.
— Шарлотта, я… — он шагнул к ней, опустился неуклюже на колени. Это вышло как-то само собой. Теперь лицо Шарлотты было прямо перед ним. Но он не мог его разглядеть — оно ускользало, как обрывок сна. Она не смотрела на него. Да когда она вообще на него смотрела?!
— Шарлотта, — он хотел наклониться, вдохнуть её запах, но между ними была словно стеклянная стена. — Шарлотта, я люблю тебя.
Она по-прежнему смотрела сквозь него. Но на её лице появилось выражение лёгкой брезгливости — как будто шелудивая собака попыталась лизнуть её в губы.
Точно лёгкий ветерок коснулся пышной огненно-рыжей чёлки, — Шарлота вскинула брови.
— Что-то ещё?
Он значил для неё не больше, чем комья пыли на полу, под бесполезным креслом на колёсах. Он знал это, чувствовал это всем телом. Но он не мог принять эту мысль, не мог поверить. Иначе…
— Ты не понимаешь, — он вцепился жирными от пота руками в подлокотники кресла. Это было уже кощунство. Он осквернил трон богини. — Я хочу на тебе жениться. Хочу, чтобы ты стала моей женой.
— Вот как. — Она опустила ресницы. Тени на бледной маске лица стали темнее и гуще. И губы… такие же бледно-лиловые. — Я приму это к сведению.
Её ноздри раздулись — это была усмешка. Ей было смешно, но не слишком. Так же мало смешно, как мало он значил — для неё, для богини, для ледяной равнодушной феи с губами синими, как у мёртвой. Для принцессы, не удостоившей его даже взглядом.
Он зажмурил глаза, ощущая, как где-то внутри закипает гремучая едкая ярость. Ему захотелось схватить тяжёлый булыжник и бросить с размаху в это священное изваяние.
— Подумай, — он впился в подлокотники что было силы, с ужасом чувствуя, что на глазах выступают слёзы, — я буду всегда о тебе заботиться. Я буду жить только для тебя. Я… — что-то взорвалось в его мозгу, глаза заволок багровый туман. — Мне всё равно, что ты не можешь ходить! — проревел он, тряся её кресло. — Мне всё равно! Кто ещё захочет на тебе жениться?! Ты же калека!
Он выпустил кресло и отшатнулся. Алтарь был разрушен и осквернён, святые дары валялись в пыли. Он сделал это. Он плюнул в лицо богине. Всё было кончено.
Несколько долгих, как годы, секунд, Шарлотта смотрела на него — так, как будто перед ней на ковре вдруг возникла груда нечистот. Затем рассмеялась — и этот смех был невыносим, как скрип ножа по стеклу.
— Животное, — произнесла она абсолютно равнодушно. — Ты — грязное животное и больше ничего.
И она вернулась к окну.
Она даже не прогнала его. Не было больше ни слова, ни жеста. Она просто забыла о нём; забыла в ту же секунду, когда её взгляд устремился в окно, где уже догорел удушливо красный закат, и в серебристом сумрачном небе появлялись редкие звёзды.
Ян шагнул к двери. Всё было кончено. Ему нечего было больше терять. Нечего терять…
Он повернул в замочной скважине ключ.
И вновь шагнул к её креслу. На его лице проступила почти безумная блудливая усмешка.
— Шарлотта… — Он развернул её кресло к себе. Это оказалось так легко — Шарлотта была почти невесомой. — Шарлотта, я люблю тебя, ты слышишь? И я не уйду. Ты понимаешь, Шарлотта?
Его опьянило сознание собственной силы. Никакая она не богиня, не фея, не принцесса. Она всего-навсего беспомощная парализованная девушка. А он — молодой и сильный мужчина.
Она молчала. Не задрожала, не побледнела. Это сводило его с ума.
Он наклонился к её лицу. Стеклянная стена была давным-давно расколота.
— Если ты закричишь, — зашептал он жарко, брызгая слюной, — это тебе не поможет. Я запер дверь изнутри. И твоя глупая старая нянька может ломиться сколько захочет…
Одна его рука с силой стиснула её запястья — две хрупкие ножки хрустальных бокалов. Другая проворно, как крыса, поползла по её неподвижному телу.
— Ты заплатишь за это, — равнодушно сказала Шарлотта. Она глядела на что-то — или на кого-то — за его спиной. В пустынных серых глазах вспыхнул на миг жестокий огонь. — Ты заплатишь за это… прямо сейчас.
Он не успел обернуться.
5
Нам пора. Наступает зима, и хрупкий лёд затягивает лужи, в которые падают малиновые листья и рваные плюшевые медведи. Посмотрите: у медведя разошёлся шов, и по бурой воде плавают свалявшиеся старые опилки.
Да, нам пора. Осень удаляется неспешными шагами, опустив на фарфоровое тонкое лицо чёрную вуаль с пурпурными мушками. И мы двинемся вслед за ней — призрачный серый табор, — туда, к горизонту, по невидимой дороге, вымощенной лунным светом.
Летучие мыши, слетайте с насиженных мест. Волки с опаловыми ясными глазами, выходите из ваших нор и разминайте тяжелые лапы. Вороны, чистите глянцевые перья медными клювами и расправляйте сильные крылья. Бледные тени, ломающие руки, покидайте чердаки и грязные могилы и отправляйтесь за нами — туда — на запад — в преисподнюю, полную алых созвездий…
Смывайте пыль и засохший грим с неподвижных лиц, снимайте свои карнавальные маски и прячьте в сундуки, окованные золотом. Надвигайте на лоб капюшоны и шляпы, надевайте перчатки, натирайте виски — розовым маслом, а пальцы — горьким миндалём. Задувайте чёрные свечи, срывайте с алтаря покров из рытого бархата, выливайте жертвенные чаши. Покидайте заброшенную древнюю часовню и заплаканное кладбище, и город… Покидайте всё, без тени сожаления, ибо мы сами — всего лишь тени…
Скоро придёт полнолуние — час расплаты и перерождения. И пронзительный жадный ветер унесёт нас, развеет, точно горсть пепла от погребального костра…
Да, и не забудьте приготовить ложе для той, что уже отдала нам своё сожженное сердце. Для нашей прекрасной принцессы с огненной гривой и полупрозрачными пальцами…
6
У него были такие странные глаза. Левый немного косил… или правый? Нет, всё-таки левый, но дело не в этом. Глаза, покрасневшие после бессонной ночи. И что же мелькнуло в них? И когда? Что это было?
Молодой полицейский, кажется, даже моложе неё. Или нет. Неуклюжий, худой, с плохо выбритым безвольным подбородком. И эти глаза.
Странно, она это всё отметила не до, а после. До она вообще на него не смотрела. И лишь когда зазвучал вопль матери — воющий, жалобный вопль, сорвавшийся в какое-то мычание — она, как при вспышке молнии, увидела всё. Или только одно — эти глаза, в которых было… не сочувствие, нет. И не смущение. Это был ужас. Да, на какую-то долю секунду он вырвался наружу, выглянул из округлённых косящих глаз. Первобытный, панический ужас.
Но что его так напугало? Что? Ведь он полицейский, хотя и совсем ещё мальчик?
Ей тогда было жалко не Яна, не мать, а его. Ей хотелось прижаться к нему и сказать, что она тоже боится. Боится мрака, затопившего город. Боится мрака в собственной душе. Боится тех, у кого нет души.
Мать стонала, качаясь в углу дивана. Что она понимает? Ей нет дела до того, что же именно произошло. Она всего лишь мать. И сейчас она мать только Яну, не ей. Да и была ли она ей когда-нибудь матерью?
Жалость и гнев боролись в Матильде. Она, двигаясь, как манекен, отвела мать наверх, ощущая себя ненужной.
Когда она вернулась, он всё ещё ждал внизу. Бедняжка. Может быть, всё-таки обнять его — как брата? Как брата! Смешно. И спросить, наконец, что же случилось на самом деле…
Но она не сделала этого. Только сжала его удивительно мягкую руку — такую реальную в этом скользящем изменчивом мире. Нет, она ни о чём не спросит. Разве ей хочется знать?
Мой брат, мой плюшевый медведь с оторванными лапами… Швы разошлись окончательно, опилки просыпались. Четыре стены снесены, разрушены, и в пустоте гуляет, хлопая дверцами шкафа, пронзительный ветер, разбивающий сердца и стеклянные фигурки на комоде…
Не думать, не думать… Просто идти вперёд под стук своих каблуков, похожий на барабанный бой. Сердце уже не бьётся, оно молчит, а каблуки всё стучат и стучат…
Вот он, замок спящей принцессы, башня из слоновой кости. А вот мостовая. Она прижала руку ко рту. Сердце колотилось прямо на губах. Нет, никаких следов. Всё те же холодные серые камни. Холодные и серые, как глаза Шарлотты.
Она постучала. Тяжёлая поступь, возня, — дверь отворилась, на пороге стояла Нина. Веки раздуты, седые волосы торчат, как грязная мыльная пена, на дряблых щеках — пунцовые пятна.
— О, Матильда, дорогая, Матильда…
— Нина, не надо, — пробормотала она, но та, не слушая, продолжала твердить:
— Беда, какая беда… Хорошо, что вы пришли, хорошо… Утром приходил какой-то грубиян полицейский и целый час мучил мою девочку. А она совсем расхворалась, совсем. С каждым днём всё бледнее и бледнее и не ест, почти ничего не ест, подумайте только!
— Что? — Матильда слабо улыбнулась. Конечно, как она сразу не поняла. Нина и не думала ей сочувствовать; она вообще не думала ни о ней, ни о Яне. В её мире была только Шарлотта. Вернее, Шарлотта и была её миром.
7
Матильда зашла в комнату и замерла на пороге. Она не думала, что что-то ещё может её потрясти. Но это… Слова Нины, что её бесценная девочка стала бледнее, оказались лишь слабым подобием истины. Так же как та, что сидела в глубоком кресле, была лишь подобием прежней Шарлотты.
В Шарлотте и раньше реальности было не больше, чем в силуэте на запотевшем стекле. Но сейчас… Её словно не было здесь.
Где он, неутомимый тёмный пожар, который Матильда всегда ощущала под ледяным покоем её лица? Словно безжалостный звёздный ветер вздыбил его, как конскую гриву, и унёс в пустынные серые луга, изрытые чёрными ранами оврагов.
Где твоё сердце, Шарлотта? Где эта огненная птица с железным клювом и голосом, сладким, как патока? Кто приманил её, кто завлёк на тёмный пир Карнавала и теперь готов осушить до дна — или бросить с размаху в костёр, который не греет и способен лишь обращать всё в золу и кислый всепроникающий дым?
Шарлотта, Шарлотта…
— Это ты, — произнесла она нараспев, как всегда. Это было её обычное приветствие. Но голос… голос уже стал другим. Словно кто-то добавил в него сладкие ночные шорохи и скрежет органа, звучащего в заброшенной церкви, где прихожане — летучие мыши и волки.
— Да, это я.
Зачем она это сказала? И что говорить теперь? Зачем она вообще пришла? Не ждёт же она от Шарлотты соболезнований?
Окно зашторено, в комнате — вязкий синеватый полумрак. Окно, то самое окно…
— Сегодня к нам приходил полицейский…
— Ко мне тоже, — Шарлотта слегка опустила ресницы. О, боже, она усмехнулась. Шарлота, ты чудовище. — Спрашивал, что здесь делал твой брат. Ты тоже хочешь это узнать?
— Нет.
— А вот этот господин очень хотел. Но гораздо больше его интересовало, как твой брат отсюда ушёл. И каким образом он потом оказался на мостовой под моим окном со сломанной шеей. Кажется, он всерьёз подозревал, что это я подняла его и швырнула в окно. Забавно, не так ли?
— Ты находишь это забавным? — Матильда прикрыла глаза рукой. Она не в силах была смотреть в это лицо с ледяными губами, с глазами цвета остывшего пепла. — Шарлотта, он был моим братом.
— И что из того? Ты его не любила.
— Замолчи.
— Как хочешь, но это правда.
— Что ты знаешь о любви? — процедила Матильда. — Что ты можешь знать о любви?!
— Я? — Ледяное лицо Шарлотты растаяло в алом огне волос; остались только глаза, полные мрака. Мрак и холод. Вот она какая. Карнавал, Карнавал. Маски скинуты. Вот она, правда.
Шарлотта коснулась небрежно красного шарфа, скрывавшего шею. Зачем ей этот шарф? И какие длинные ногти на этой руке, какая белая кожа. Нет, голубая, как вены. Совсем голубая. Она вся припорошена инеем. Иней и пепел.
— Что я знаю о любви?
Дверь отворилась. На пороге стоял доктор. Старый доктор, лечивший её и Шарлотту, ещё когда они были детьми. Восхитительно банальный и скучный, в протёртом пыльном пиджаке и с пучками седых волосков в ушах. Живой человек, ворвавшийся в склеп.
— Матильда… — он обнял её. Нет, это она бросилась к нему на шею, а он неловко гладил её спину и плечи. Теперь всё пройдёт, всё будет, как прежде. — Матильда, девочка моя, я так сожалею…
— Здравствуйте, доктор. Чем я обязана?..
Доктор отстранился от Матильды. Она обняла себя с силой за плечи, пытаясь сохранить ускользающее влажное тепло.
Шарлотта подчёркнуто терпеливо ждала ответа, приподняв тёмные брови.
— Итак?
— Меня попросила придти Нина, — произнёс доктор, глядя на Шарлотту почти с отвращением. — Она утверждала, что ты больна.
— Больна? Я? — Шарлотта покачала головой. — Уверяю вас, доктор, она ошибается. Я абсолютно здорова. Вам не стоит тратить время даже на то, чтобы в этом убедиться. Простите, что Нина вас зря побеспокоила. Если бы я знала…
Несколько секунд доктор изучал Шарлотту всё с тем же странным брезгливым выражением. Матильда ничего не понимала. Казалось, между этими двоими происходит разговор, не требующий слов. Шарлотта смотрела мечтательно вдаль, лаская свой шарф. Алый шарф на белой груди, как свежая рана… Шарлота таяла, таяла, словно туман, в темноте, становившейся всё мрачнее.
И только тут Матильда поняла, что впервые за все эти годы окно Шарлотты задёрнуто шторой, не пропускающей солнечный свет.
Доктор шёл по лестнице вниз, держа, как в клещах, обмякшую руку Матильды. Она плелась за ним покорно, точно собака, но уже не ощущала ни тепла, ни доверия. Там, наверху, осталась Шарлотта. Её Шарлотта, на которую доктор смотрел как на мерзость. На Шарлотту, сплетение лунного света и хрупких ветвей, остекленевших в морозную ночь…
Навстречу им бросилась Нина, по-своему истолковавшая жёсткое выражение лица доктора.
— Доктор! Скажите…она умирает? Моя девочка умирает? Ради бога, скажите! — закричала она, заламывая руки.
— Умирает? — рявкнул доктор, — Да скорее умрёт мраморная статуя! — он, не церемонясь, оттолкнул опешившую Нину и стиснул поникшие плечи Матильды.
— Девочка моя, послушай… Это очень важно. Держись подальше от этого дома.
— Почему? — Она вырвалась. Она не хотела слушать.
— Неважно почему. Слушай меня, поняла? — Ей показалось, что он сейчас даст ей пощёчину. — И не подходи к Карнавалу, ты слышишь, Матильда? Не подходи к Карнавалу!
— Я не понимаю. — Она понимала.
— Твой брат… — доктор помолчал. — Я не хотел тебе говорить, но… другого выхода нет. Ты должна знать, Матильда.
— Знать что? — Она не хотела знать. Не от него. Ей хотелось оттолкнуть его, так же, как он оттолкнул сейчас Нину. Хотелось бежать наверх, ворваться в комнату Шарлотты. Шарлотта, что ты знаешь о любви? Что у тебя на шее под шарфом? Шарлотта, кто выбросил из окна моего брата?
— Матильда, — доктор тряхнул её изо всех сил. Ей захотелось плюнуть ему в лицо. — Матильда, послушай. Ты должна это знать. Это я осматривал тело Яна. Так вот… у него была сломана шея, это чистая правда. Но умер он не от этого. Когда он упал из окна, в его теле не было ни капли крови.
8
Куклы летят в картонные коробки, сдёрнут и скомкан тяжёлый бархатный занавес. Мы любуемся собой в разбитых зеркалах, мы ломаем каблуками ледяную корку на небе и на гниющем лугу…
Может быть — и мы — только трещины на зеркале, только кровавые всполохи в небе…
Оставьте нас, наконец! Мы довольно трясли перед вами, как погремушками, обгоревшими изрезанными душами. Отпустите нас в нашу темноту, в наш чёрный рай, где херувимы со стеклянными ногтями листают пожелтевшие крошащиеся книги.
Мы устали любить вас и ненавидеть, устали играть перед вами — и вами… Уходите в могилы, где вам и место, а мы пойдём дальше, своими проклятыми окольными путями, то утопая по горло в болоте, то танцуя и срывая с неба пунцовые лилии…Из праха к могиле, которая нас не примет.
Поиграй мне на скрипке из красного дерева, мой музыкант с серебряными томными глазами. Тебе ведь известно, как я люблю стоны скрипки и красный цвет. Или, если хочешь, сядь за орган и взорви его болезненными хрипами этот луг и твёрдое серое небо. И мне будет так страшно и так нестерпимо, я буду танцевать и убивать, и снова танцевать… Что мне ещё остаётся? Но разве этого мало?
…А вот и она, жалкая серая мышка, проворно бегущая прямо в мышеловку. Сколько можно, глупое дитя, потерявшее всё, как и было обещано? Она торопится прямо туда, к склепу, где её уже ждут с нетерпением. Она качается, словно лунатик, на краю смертоносной пропасти. Эта пропасть уже пробудилась, уже раскрывается ей навстречу, как холодное чёрное лоно. Всего лишь один неверный шаг… Хотя, что в этом мире верно, а что неверно, когда впереди полнолуние? Смешная малышка, ты ищешь ответ, ты упиваешься собственным мужеством, хотя всё внутри тебя иссохло и скукожилось от ужаса. Но, видишь ли, мы не даём ответов. Сколько можно тебе повторять? Мы ничего не даём — лишь отнимаем. Мы обрываем лепестки цветов, гасим свечи и поджигаем дома.
Пропустите её, господа, укройтесь за шатрами и деревьями. Не стоит пугать ещё больше того, кто и так превратился в жёлтый сочащийся сгусток страха. Джентльмены-шакалы в чёрных полумасках, пропустите даму, будьте вежливы. Отоприте дверь, — но так, чтобы она вас не заметила. Аудиенция вот-вот начнётся. Приготовьте его высочеству чёрный плащ на кровавой подкладке и перчатки белые, как его кожа. Зажгите все факелы, развесьте паутину…. Готово? Прекрасно, она уже там. Ваше высочество, скоро ваш выход.
9
Сердце Матильды безумно стучало… Нет, ложь, нелепость. Сердце Матильды не стучало вовсе. У неё не было сердца. Вместо него в глубине её тела открылась чёрная дыра с рваными краями, из которой капля за каплей сочился зелёный яд.
Она шагнула к гробу… Нет, снова не так. Что подломилось где-то внизу, пол качнулся, и прозрачная крышка гроба оказалась прямо у лица, — так близко, что она ощутила на омертвевших губах горьковатый стеклянный холод.
Лица Матильда не видела — и не должна была видеть. Если она посмотрит ему в лицо, она никогда, никогда не сделает это. Не сделает то, что должна.
Должна… Это слово было так нелепо, так грубо и наивно в этом месте, в этом осколке пространства и времени, полном пляшущих теней и едкого радужного дыма.
Ключ торчал из замочной скважины как безобразный искрошенный зуб. Он повернулся с трудом… но повернулся.
Она взялась обеими руками за крышку.
Где-то далеко внизу, так, что не хватало ни вздоха, ни взгляда, рычал и пенился водоворот. И она должна была броситься в него, как камень, как птичье перо. И ничто, никто и ничто на свете, не способно было это изменить.
«Прикосновение к спящему вампиру смертельно опасно для вас»…
Она рванула крышку наверх. А затем, зажимая зубами разрывающий грудь на куски то ли стон, то ли крик, вцепилась пальцами в тонкую белую руку.
Водоворот сомкнулся и поглотил её тело. Перед глазами загустела вязкая чернота.
Рука была неподвижна.
Матильда разжала зубы, разлепила веки. Рука не была холодной. Нет, она была… даже тёплой. Она нагрелась от её тепла. Это был… это был воск.
Несколько секунд она сидела неподвижно. Затем подняла лицо, огляделась вокруг влажными от слёз глазами. Ей казалось, что стены расступаются, нет, рассыпаются в прах, и всё, всё заливает кипящий солнечный свет. И нет ничего, нет сырого мрачного склепа, нет нелепого гроба с восковой разряженной куклой. А есть только солнце, и небо, такое светлое и чистое, с чуть заметными вздохами белых облаков. Небо и солнце, вечное утро, а ночи не будет, не будет, не будет никогда!
— Не настоящий, — прошептала она. — Ненастоящий, ненастоящий. Ничего настоящего.
— Вы совершенно правы, юная леди.
Змея скользнула по плечу Матильды и зашипела ей в ухо. Нет, не змея. Это был голос. Вкрадчивый голос, с лёгким акцентом.
Она подняла глаза. Обернулась. Нет, она не шевелилась, нет. Но она смотрела.
Ей показалось, что мозг превратился в песок. И этот яд… зелёный яд из дыры вместо сердца. Он разъел её тело, как кислота, он уничтожил его без остатка.
Вампир смотрел на неё, слегка склонив голову набок. Его тонкие губы насмешливо дрогнули, но глаза были черны и пусты. Он скользнул равнодушным взглядом по кукле, лежащей в гробу.
— Милая леди, — произнёс он, — вы так наивны. Вам ещё многое нужно понять. Неужели вы всерьёз полагали, что вампир выставит себя на потеху толпы — да и ещё в дневные часы, когда он почти абсолютно беспомощен? — он покачал с усмешкой головой. — И потом, согласитесь, подобное представление было бы совсем не в духе Карнавала. Слишком грубо, слишком откровенно. Годится разве что для деревенской ярмарки. А Карнавал, юная леди — это царство масок, полутеней и иллюзий. Ничто не является тем, чем кажется. И насколько это утончённей, подумайте только: в горбу лежит ничтожный манекен, в то время как настоящий вампир спит в никому не известном укрытии и выходит только ночью… чтобы получить то, что положено ему природой.
— Человеческие жизни, — еле слышно выдохнула Матильда.
Он усмехнулся, в его глазах на мгновение вспыхнуло пламя.
— Не только.
— Вы меня убьёте? — спросила она. В её голосе не было страха. Возможно, в эту минуту ей этого даже хотелось.
Он покачал головой.
— Нет, вас — нет. Вы слишком беззащитны, юная леди. И потом, есть, по крайней мере, двое, кто, возможно, не желает вашей смерти. И эти двое мне не безразличны.
Он смерил её чуть презрительным взглядом — как будто она была нищенкой, просящей подаяния; затем поклонился, словно королеве.
— Прошу прощения, леди, но мне пора. Ночь коротка, и к тому же меня ждут. Не в моих правилах опаздывать. Прощайте.
Матильда не видела, как он исчез. Неподвижными стеклянными глазами смотрела она на замшелую стену, на раззявленную пасть гроба, в котором лежала такая нелепая копия того, кто только что… с кем только что…
Он сказал: двое. Двое, кто не хочет её смерти.
Лилит. Лилит и…
Она смотрела на стену, оплетённую чёрной сетью теней. Она знала, что солнца уже не будет. Солнце взойдёт, но оно не проникнет ни в этот склеп, ни в её тело с чёрной дырой вместо сердца.
10
Дождь. Да, шёл дождь, потому что её волосы и платье были мокрыми. И за окном слышался мерный приглушённый рокот. Где же она? Ах, да. Она в доме у доктора. Вот он, стоит перед ней, протягивает чашку с чем-то горячим. Но как она здесь оказалась? Неважно. Она взяла чашку, отхлебнула, закашлялась. Чай. С лимоном. Она не любила лимон.
Доктор что-то говорил. Его усы так смешно дрожат, у них жёлтые кончики. Жёлтые, как лимон. Что он сказал? Переодеться? Зачем?
— Матильда, ты простудишься.
Она простудится?
— Ну и что? Я не умру. Они не хотят моей смерти. Они не позволят. Он так сказал.
— Кто?
Она не ответила.
Он всё-таки силой стянул с неё влажное платье. Накинул на плечи свой пиджак. Швами наружу. Какой затхлый уютный запах. Он дал ей полотенце — высушить волосы. Она бессмысленно мяла его в руках, глядя на пульсирующий красный огонь в камине.
— Кто они?
Это спросила она? Какой же глупый, детский вопрос. И как отвратительно звучит её голос. Как она нелепа, нелепа…
— Кто они? — доктор, стоявший спиной, резко повернулся к ней. Она отпрянула, как будто ждала увидеть не его, а другое лицо. — Они — зло. Вот и всё.
— Но зло — это только слово… — Она опять посмотрела в огонь. Ею овладело безумное желание — сунуть руку туда, в самое пекло, чтобы закричать от боли. Быть может, тогда схлынет этот дурман, этот неотступный вязкий кошмар… — Зло — это слово. Кто они? Демоны, покинувшие ад? Заблудшие души? Падшие ангелы? Как они стали такими? Что за ними стоит? Зачем всё это? Откуда? И откуда в них… это? Эта сила, эта… красота?
Сила. Красота. Какие мелкие, ничтожные слова — они точно нацарапаны тупым карандашом на пожелтевших полях прошлогодней газеты. Если бы она могла рассказать… Рассказать о том, как небо низверглось на неё водопадом созвездий, как ослепительно белые молнии прошивали и жгли её тело, как Лилит несла её через века и бросала камнем в озёра зеркал. Как великолепны были алые цветы и терновник, опутавшие город, который превратился в пепелище, в бескрайнее кладбище.
Сила… красота… два крыла чёрной птицы, несущейся в небо и оставляющей на облаках кровавый узор. И море выходит из берегов, чтобы вновь соединиться с небесами… Звёзды тонут, волны смывают солнце… И остаётся одна только Тьма, Тьма, которая была вначале. Тьма, из которой они пришли и которую несут в себе — смертоносные, жадные, безмерные…
С израненными белыми ногами, в короне из осенних листьев и с чёрными шрамами на шее…
— Не знаю и знать не хочу! — доктор с силой ударил кулаком по столу. — Боже мой, девочка, как ты не поймешь! Именно этим они и берут! Интерес, любопытство, что там ещё! Посмотрите на наши танцы, послушайте наши песни! Полюбуйтесь, какие мы красивые и необычные! Сирены! И вот ты уже идёшь за ними и не можешь противиться! Нет, Матильда! — Он скрипнул зубами. — Я знаю, что это — зло — и этого мне довольно! Мне нет дела до их спектаклей! Не вижу зла и не слышу зла!
— Но как же тогда вы можете знать, что это и есть зло? И что такое добро? Разве вы это знаете?
— Знаю! — его тусклое лицо разгорячилось. На морщинистом лбу проступили потные разводы. — Когда я лечу людей — это добро! Жизнь — это добро, а смерть — это зло! — Он рухнул в кресло, словно обессилев от этой речи.
— Значит, смерть — это зло? — Глаза Лилит. Губы Лилит. Её руки, летящие в танце. Кинжал, обтянутый ножнами фрака. Она сжимала её талию тонкими руками, она играла с ней, она возложила её на алтарь и вырвала сердце… Но она была согласна, она хотела этого, хотела… И она лежала в могиле и видела город, охваченный пожаром. И другое… Тёмный силуэт у фальшивого гроба. Вкрадчивый голос. Шарлотта… — Смерть — это зло? А они дают вечную жизнь. И красоту.
Не мне, не мне… «Мы собираем иную жатву»… Она старела, она умирала, а Лилит танцевала, как одержимая, и Шарлотта, смеясь, прикрывала веером губы…
— Не вечную жизнь, а вечную смерть! Они сами — смерть. Вспомни тех, кто погиб. Ты не знаешь, сколько людей находили мёртвыми в болотах и на кладбище. И всё для того, чтобы их прокормить, чтобы у них были силы плясать и морочить головы зевакам. Вспомни своего брата, Матильда!
«Они всё равно бы умерли… рано или поздно. Важно только то, что вечно». Лилит равнодушно ступает по безжизненным телам. И Шарлотта в объятиях, того, другого… Белые перчатки сжимают её плечи, а жадные губы тянутся к шее…
Шарлотта…
Шарлотта… — выдохнула она.
Это имя отозвалось во всём теле холодной и острой болью. Шарлотта. Тусклый цветок с чёрной сердцевиной, расцветший в ледяном дыхании Карнавала. Серая тень на оконном переплёте. Спящая красавица разбужена не тёплым поцелуем принца, а безжалостным уколом шипа. Алый мазок шарфа на шее. Разбуженная, но не к жизни, а…
Шарлотта. — Доктор встал неуклюже и прошёлся по комнате, разминая мясистые ладони. — Забудь о ней, дочка. Она такая же, как… они. Она мертва. И всегда была мёртвой. Она не человек, а мёртвая кукла.
Шарлотта?! Мертва?! — Матильда вскинулась, как от удара. И замотала что есть силы головой, тщетно пытаясь отогнать наваждение. — Нет. Вы не понимаете. Не знаете. В Шарлотте столько жизни, столько…
Да. — Доктор наклонился к ней. Ей в лицо дохнул кислый лекарственный запах. — Столько жизни, столько жажды жизни. Я знаю. Но разве не жажда жизни заставляет призраков цепляться за старые дома? Разве не она поднимает трупы из могил? Жизнь духа, Матильда… В Шарлотте слишком много духа — и слишком мало плоти. Её кровь кипит, но она ядовита.
Жизнь духа… — повторила Матильда. Лицо Шарлотты ужасающе ясно встало перед ней — пепельно-белое, в рыжей дымке волос. Глаза и губы — сужены, стиснуты. Струна, которая не зазвучит.
Голос доктора донёсся откуда-то издалека.
В теле мы едины, Матильда. Мы все являемся в этот мир одинаково — из тёплой материнской утробы, во веки веков. Но дух… кто может знать — упал он с небес или поднялся из самого ада? И — если дух слишком силён — как у Шарлотты…
Он замолчал. Матильда видела, видела. Белые пальцы, сплетённые на неподвижных коленях. На мёртвых коленях…
Шарлотте всегда нравилось быть калекой, — промолвил доктор.
Калека? — Матильда содрогнулось. Это слово было таким грубым, таким неподходящим для Шарлотты. Для изящной Шарлотты, прекрасной Шарлотты, фарфоровой куклы в плетёном кресле. Куклы…
Ей нравилось, что тело её мертво наполовину, — продолжал неумолимо доктор. — Это отдаляло её от нас, от живых. Проводило границу. Делало её другой…
Да, хотелось закричать Матильде, да. Всё верно, каждое слово. Она сама, сама мне это говорила. А я не понимала. Ничего не понимала.
Она ненавидела своё тело. Она хотела вся оказаться за этой границей — и смотреть на нас, обычных смертных, как сквозь стекло. Она бы убила себя, если… если бы только знала, что дух её будет жить. И если Карнавал смог это ей дать… — Доктор сжал зубы. Лицо его стало жёстким. — Её не спасти, Матильда. Говорю же, она всегда была мёртвой. Она принадлежит им с самого рождения. Она кукушонок в чужом гнезде, подкидыш эльфов, всё что угодно. Она одна из них, плоть от плоти… вернее, дух от духа. Их, эту нечисть она поджидала, сидя у окна.
Нет! — Матильда очнулась. — Нет! Это неправда, неправда! Шарлотта не такая! И они не такие! — Она всхлипнула, зажала горящие щёки руками и, задыхаясь, вырвалась в ночь, в дождь, в темноту. Туда, где ждал, неизбежный, точно могила, дом Шарлотты, замок Шарлотты, обитель Шарлотты. Её Шарлотты… Чёрной невесты, укрытой фатой из огненно-рыжих волос. Сказавшей «да» без колебаний и шагнувшей во тьму, чтобы возлечь на алом сафьяне с тем, кто сжимает сейчас её пальцы тонкой рукой в перчатке из белого шёлка…
11
Матильда вошла.
Нина лежала на своей кровати. Она спала. Спала, вольготно раскинувшись, как младенец. Полная и мягкая рука увязла, точно в болоте, в несвежих простынях и удушливых перинах.
Матильда вздохнула, ощущая на лбу капли ртути — холодную испарину.
Нина спит. Конечно, она спит. Уже поздно. Очень поздно…
Она шагнула вперёд — и ноги подогнулись, примерзая к полу. Что-то было в воздухе… что-то, от чего её сердце съёжилось, как загнивший, иссохший плод.
Она не могла смотреть. Не могла отвести глаза.
Нина лежала с улыбкой на лице. Спокойная улыбка, уютно взрыхлившая размякший старческий рот. В углу её рта отпечаталась ямочка — словно вырезанная ножом.
Глаза Нины были полуоткрыты. Они стали белыми, почти прозрачными… Чёрные тусклые зрачки виднелись из-под липких морщинистых век.
А горло…
Горло Нины было разорвано. Вся шея измазана красным. И кровь, чернея и густея на глазах, ещё стекала, капала в белую мякоть подушек.
Она умерла счастливой…
Это сказал голос. Голос за спиной у Матильды. Нежный и вкрадчивый. Ласковый голос, тающий в воздухе. Чей это голос?
Она не вздрогнула. Не обернулась. Она смотрела на собственные руки. Откуда в них этот край простыни? Её пальцы оставляли на ткани серые подтёки.
— Я сделала это ради неё, — продолжал неумолимо голос. Матильда смотрела на жёлтую кожу в рытвине перины. Ей казалось, этот голос — шёлковое лассо, накинутое ей на шею. Всё туже и туже, и коченеют руки…
— Она не смогла бы жить без меня. Так было лучше. Поверь… Матильда.
Она оглянулась.
В дверях стояла Шарлотта.
Стояла? Матильда не знала. Она не видела тела. Только хрупкие плечи, очерченные темнотой. Такая пронзительно белая плоть. Подбородок — наконечник копья, нацеленный вперёд. Суженные серые глаза. Она не могла в них заглянуть. Мягкие губы, бледные, почти до синевы. Как всегда. Шарлотта не красила губы…
Из угла этих губ стекала густая алая струйка.
Тонкие пальцы Шарлотты мяли платок. Она вечно вертела что-то в руках. Тонкие пальцы, похожие на когти. Белый платок с жирными бурыми кляксами.
Она не могла ничего сказать. Она не хотела. И всё же кто-то сказал за неё, — а она ощутила лишь клейкую горечь во рту.
Это не ты. Это не ты, Шарлотта.
Шарлотта сдвинула брови. Её пальцы сжали платок сильнее. Она неторопливо облизнулась.
Нет, это я, Матильда. И я всегда была такой. Всегда. Жаль, что ты не понимаешь. Постарайся понять. Возможно, тебе будет легче.
Она заботливо обтёрла и разомкнула пальцы. Платок слетел, танцуя, на пол, как белое перо. Окровавленное белое перо подстреленной птицы.
Прощай, Матильда.
Шарлотты не стало.
Люди так не уходят. Так исчезают тени.
Матильда поняла что смеётся. Это был безумный смех, и она не могла его остановить. Он точно грыз её изнутри.
Нина лежала прямо перед ней и улыбалась в ответ.
Матильда засмеялась громче, потом заскулила — и сорвалась на какой-то ликующий визг. Вдруг она ощутила, что весь подбородок залит слюной. Как некрасиво. Шарлотте бы это не понравилось. Шарлотта любила только красивое.
Она проползла на коленях по ковру, подняла окровавленный липкий платок и тщательно вытерла губы и подбородок.
Ей снилась Шарлотта. Она сидела в своём неизменном плетеном кресле-качалке, в пол оборота к окну, и густой вишнёвый закат румянил её бархатистую белую щёку.
Она подошла к ней, окликнула по имени, — но Шарлотта не шелохнулась. Тогда она стала её трясти, схватила за кисть, лежащую изящно на коленях — и ощутила могильный холод. Безмятежное лицо с нарисованными тёмными глазами. Это не Шарлотта, это кукла, фарфоровая кукла! Но почему она такая тяжёлая? Разве куклы внутри не пустые?
Она отшатнулась. Кукла начала падать. Она закричала, она не хотела! Но не могла её удержать. Кукла падала и падала, как снежная лавина. Вот она рассыпалась на тысячу белых мерцающих осколков, и на пол хлынул поток вспенившейся крови. Так вот что было внутри! Сколько крови, как много! Она закричала, ощутив на лбу солёные тёплые капли. Она стонала, она закрывала лицо руками, но не могла скрыться от запаха. Пронзительный острый запах свежей крови. Не надо, не надо!
Она закричала, она открыла глаза и вскочила.
Она заснула прямо на ковре. Её щека ещё хранила отпечаток сурового серого ворса. Это был ковёр Нины. В комнате Шарлотты был совсем другой — мягкий, как масло, и такой причудливый, что на него было можно смотреть часами.
Она заснула, прижимая к губам платок. Так вот откуда запах. Пятна крови засохли и стали ржавыми — совсем как восходящее солнце за окном.
Матильда встала и подошла к окну, прижала лицо к холодной и пыльной глади стекла. Где-то сейчас Шарлотта? Где она скрывается от солнечного света? В чёрном лакированном гробу, обитом прохладным шёлком? С голубоватыми тенями вокруг запавших закрытых глаз? С руками, аккуратно сложенными на груди — тонкими руками, похожими на белые паучьи лапы?
Неподвижная. Мёртвая. Кукла. Они говорили, они предупреждали. Доктор. Сама Шарлотта. «Я всегда была такой. Всегда».
Матильда подошла к постели Нины. Подушки заскорузли от запёкшейся крови. Глаза уже остекленели, а беззубый рот всё так же улыбался.
Вы правда умерли счастливой, Нина? — прошептала Шарлотта. Во рту у неё заскрипел грязный песок. — Вы ничего, ничего не поняли…
Улыбка Нины была такой блаженной, такой безмятежной. И Матильда вдруг воочию увидела, что произошло. Нина умерла здесь. В своей комнате. Значит, Шарлотта спустилась сюда. Спустилась сама. И Нина была вне себя от счастья, она не могла поверить своим глазам. Её девочка, её радость, её куколка снова могла ходить! Нина смеялась и плакала от счастья, горячие слёзы наполняли её глаза и скрывались в глубоких черепашьих морщинах. Она заключила Шарлотту в объятия. Стиснула её, что есть силы, своими руками, своими добрыми и сильными руками. Она обнимала её, забыв обо всём на свете, целовала её мягкие волосы цвета палой листвы, её тонкие, как прутики, ледяные руки. И она не заметила, она ничего не заметила… Не заметила, как это случилось, как Шарлотта, её девочка, прокусила ей шею и стала лакать, как котёнок молоко из блюдца.
Тяжелое, грузное тело обмякло в хрупких стальных руках. В глазах у Нины темнело, но она была так счастлива… Она уже не ощущала ничего — только приторный запах волос Шарлотты, запах гниения, запах склепа… Её девочка, её любовь, её малышка…
Шарлотта подвела, нет, поднесла Нину к кровати и уложила на высокие, пышно взбитые подушки, — так же, как сама Нина каждый вечер укладывала её, Шарлотту, свою девочку, свою святыню, своего молчаливого беспомощного ангела…
Влажное лоно постели прогнулось, принимая горячую слабеющую плоть. И только тогда, только тогда Шарлотта оторвалась. Нина ещё дышала, ей было так хорошо… Волосы Шарлотты блестели и играли в обступавшей её зябкой темноте. Алые всполохи, рыжие всполохи… Шарлотта, красавица, Шарлотта, Шарлотта, детка… Нина улыбнулась, и её не стало.
Матильда долго, долго сидела у этой сырой тёплой постели. Когда Шарлотта стояла в дверях, она ни разу не взглянула… Это было тело, всего лишь тело. Шарлоту никогда не трогали тела. Слишком много духа, слишком мало плоти… Доктор, доктор…
Матильда, шатаясь, побрела в никуда, раздвигая руками липкий дурман. Надо идти. Пока ещё рано, пока никто не проснулся. Если кто-то увидит её выходящей из этого дома, в окровавленном платье, со склеенными кровью волосами, решат, что это она…
Эта мысль её рассмешила. В рёбра снова впился чужой режущий смех.
Ванная. Она включила воду, сунула ладони под тугую струю, протёрла лицо. Оно было словно гипсовая маска. Белоснежная ванна. Нина купала в ней Шарлотту до самого последнего дня. Она была такой сильной. У неё были огромные руки — как медвежьи лапы с затвердевшей иссушённой коркой вместо кожи. Шарлотта слегка морщилась, когда Нина её касалась, но та не замечала, никогда не замечала. Она поднимала Шарлотту без труда. Та была лёгкой, как сухой цветок, как кукла… Фарфоровая кукла. Мертвечина. Слишком много духа, слишком мало плоти…
12
Она вышла из дома и пошла вперёд. Не оглядываясь. Дверь за её спиной гнусаво застонала и затихла. Она не знала, — растаял ли этот дом, как кошмарный сон, в безжалостном свете утреннего солнца, или остался стоять, пустой и жалкий. Разломанная раковина без жемчужины, со створками, измазанными чёрной слизью… Мерзкая мёртвая улитка… коченеющий труп на заскорузлых от крови подушках…
Она шла, и пустынные утренние улицы расползались во все стороны зловонными червями. Асфальт под ногами горел и шелушился, как сожжённая кожа. Редкие прохожие при виде неё отшатывались в ужасе.
Почему вы так смотрите? Что случилось? Да, у меня в крови и руки, и платье. Посмотрите, какой восхитительно яркий узор из алых пионов! Старая Нина была так уродлива, Шарлотта брезговала ею… но её кровь оказалась такой красной, такой красивой. Приглядитесь… неужели вам не нравится?
Нет, на руках у меня крови нет. Я вымыла руки. Так что же вас пугает? Безумие в моих глазах?
Да, я безумна, это правда. Они отняли мой разум, этот липкий комок предрассудков и шаблонных истин. Зато теперь я понимаю. Понимаю.
Постойте! Посмотрите на меня! Послушайте! Вы полагаете, вы люди? Нет — вы всего лишь бумажные фигурки. Мятые бумажные фигурки с обгоревшими краями. Они скомкают вас, разорвут и растопчут, а вы и не заметите. Вы ничего не замечаете.
Вы думали, вы зрители? Вы думали, они танцуют с тенями, жонглируют черепами и играют на скрипках, где вместо струн натянуты жилы, для вас? Чтобы вы, как дети хохотали, замирали от восторга, хлопали в ладоши? Нет, дети это они, а вы — их игрушки, жалкие марионетки. Они будут забавляться с вами, целовать и укладывать с собой в постель. А потом им станет интересно, что у вас внутри, и они разорвут ваши тела ногтями и зубами. Они будут дивиться и щупать красные сочные ягоды ваших сердец и синие нити вен. А когда им это надоест, они просто перережут ниточки. И вы рухнете в тот же миг нелепыми кучками костей и тряпок. И никогда не поднимитесь снова. Они сожгут вас или похоронят, или просто забудут, и пойдут искать новые игрушки…
Вы думаете, это полуденное солнце? Нет, это они поджигают город. Но вы не заметите, как сгорите — прямо в своих домах, как в саркофагах. И хотите знать, почему? Потому что вы уже мертвы, мертвы давным-давно, с самого рождения. Весь наш город — это огромное кладбище, заросшее бурьяном и плющом. Вы лежите, каждый в своём гробу, со сложенными на груди руками, и кожа сходит с ваших лиц, обнажая жёлтые кости. И вы не раскроете глаз, не поднимитесь, потому что вы — не такие, как они. Не такие, как они… теперь я понимаю… Между жизнью и смертью, из праха к могиле, над пропастью, по острому лезвию. Вырезав сердце, как сердцевину от яблока, и отдав его без сожаления на откуп…
Вам не понять, но я понимаю. И иду… Лилит, Шарлотта… Я иду к вам…
Вот он — луг. Чрево Карнавала. Пусто. Всё сожжено, выпито и покинуто. Карнавал ушёл.
Только чёрные раны — следы от колёс, ведущие к лесу.
… Она шла по лесу. На двух ногах? На четырёх, как собака, как волк?
Её тело остекленело, руки были изранены. Кровоточащие раны на ладонях. Стигматы. Она снова смеялась, она каталась по земле и вырывала зубами клочья травы.
Нет дороги назад. Город сгорел. Его больше не было. Не было улиц, осыпанных алыми листьями, не было домов, не было неба. Только ослепительное зарево до горизонта. Нет, это не закат. Это кто-то бросает бумажные фигурки в огромную топку.
Доктор, имеет ли теперь значение, лечили вы или нет ваших пациентов? Вот они превращаются в столбики пепла… все вот-вот улетят в никуда струйками серого дыма. Вся боль, все надежды и мечты — всё исчезает, всё разносит ветер…
Но ей больше нет до этого дела. Она идёт за ними. Идёт за Карнавалом.
… Она плела венок из листвы. Влажные листья, золотые и багровые.
«Она идёт по своей дороге в короне из осенних листьев и смеётся, смеётся надо мной, над моею никчемной жизнью»…
Чьи это слова? Она не помнила. Её память пустела, но ей было всё равно. Зачем помнить то, что уже прошло, сожжено и развеяно ветром, к чему нет возврата? Она надела венок. Её жизнь не будет никчемной. Она тоже пойдёт по этой дороге… за Карнавалом, пока хватит сил.
Нет, ей не надо его искать. Она, знает, лес — это Карнавал, осень — это Карнавал, её одиночество — это Карнавал…
…Она лежала на влажной холодной земле, в саване из инея.
Почему так темно? Может быть, она уже мертва, и вороны выклевали ей глаза?
Нет, это просто ночь. Ночь Карнавала. Время их пробуждения, их тоски, их жажды…
Придите ко мне… Моё платье всё ещё пахнет кровью, неужели вы не ощущаете? Вколите мне в тело булавки звёзд, вырвите сердце и забавляйтесь.
Полная луна с багровыми краями. Вот она, всё ближе и ближе. Она пахнет мускусом и миндалём, и похоронными белыми розами…
Нет, это не луна. Это белая маска. Женщина в белой маске и чёрном плаще.
Я здесь, я жду… коснись меня своими белыми руками, покажи мне своё лицо… Только где же твоя коса? Но, конечно, это слишком грубо, слишком театрально…
Белая маска всё ближе и ближе. Она лежала, иссушённая, раздавленная. Она уже не дышала, её сердце не билось. Она только ждала.
Женщина в чёрном плаще склонилась над ней, и маска исчезла с её лица.
Это было лицо Шарлотты.
Ледяные тонкие руки обхватили её за плечи. Бледные губы всё ближе и ближе. Рыжие волосы падают ей на лицо, и она ощущает запах могилы и чего-то приторно сладкого.
Шарлотта, да, Шарлотта…
Шарлотта, я умру? Или стану такой же, как ты?
Шарлотта, я люблю тебя…
…Далеко, в покинутом городе, погребённом под пеплом первого снега, спал мальчик со жгуче белым лицом и тонкими фарфоровыми веками.
Ему снился лес, бесконечный и душный. Луна, вся в рубцах и синяках. И женщина с рыжими до боли волосами и глазами, словно ночная пустыня. Она обвивала белыми, как у скелета руками, другую, покорную и неподвижную. Их лица темнели и растекались восковыми масками.
Он чувствовал, как монотонно и глухо бьётся сердце рыжеволосой. Словно часы. И маятник этих часов резал, кромсал его тело. Она сжимала свою жертву за плечи — всё теснее и теснее. Тонкие губы всё ближе… Барабанная дробь… Она разомкнула губы…
Занавес. Он резко распахнул глаза.
Не мигая, он долго смотрел на чёрный зрачок окна.
Возможно, это был не сон. Но что же? Быть может, последняя иллюзия. Быть может, прощальный подарок от его черноволосой феи с горящими зелёными глазами.
Он не знал. Этого он не знал.
Но одно он знал наверняка.
Рано или поздно, Карнавал вернётся.


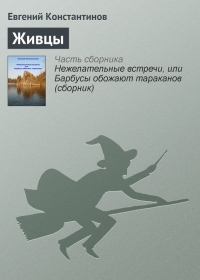

Комментарии к книге «Возвращение карнавала», Дана Посадская
Всего 0 комментариев