Октав Мирбо САД МУЧЕНИЙ
Священникам, солдатам, судьям, людям, воспитывающим, наставляющим и управляющим людьми, посвящаю я эти страницы убийства и крови.
О. М.ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Раз вечером, у одного из наших известнейших писателей собралось несколько знакомых. Хорошо закусив, они, — не знаю, по какому поводу, а скорее всего, просто так, — разговаривали об убийстве. Здесь были только одни мужчины, — публицисты, поэты, философы, доктора, вообще — люди, могущие говорить свободно, со свойственным им остроумием, с шуточками, не боясь, что вдруг почувствуют испуг или ужас, которые вызываются чуть-чуть смелым словом на смущенном лице нотариусов. — Я сказал «нотариусов», как одинаково мог бы сказать «адвокатов» или «приказчиков», не презрения ради, конечно, но чтобы точнее определить какое-нибудь среднее состояние французского ума.
С замечательным хладнокровием, таким же превосходным, как будто бы надо было выразить свое мнение о достоинствах куримой им сигары, член академии моральных и политических наук сказал:
— Честное слово!.. Я думаю, что убийство — самое величайшее человеческое занятие и что все наши действия проистекают из него…
Все ждали, что он пространно разовьет свою мысль. Но он умолк.
— Очевидно!.. — произнес один ученый дарвинист.
— И вы, дорогой мой, высказали вечную истину… потому что убийство составляет все основание наших социальных установлений, — следовательно, оно необходимее всего для цивилизованной жизни… Если бы не было больше убийства, не было бы больше никакого правительства, так как преступления вообще и убийства в частности являются не только оправданием правительства, но его единственным разумным основанием… Таким образом, мы жили бы в полнейшей анархии, чего нельзя себе представить… Итак, надо отбросить мыль совсем уничтожать убийство, а необходимо разумно и постоянно культивировать его… А я не знаю лучшего средства культивировать его, как законы.
Кто-то воскликнул:
— О, о!
— Ну, что же? — спросил ученый. — Разве мы не в своей компании и не говорим безо всяких обиняков?
— Пожалуйста! — согласился хозяин дома. — Будем широко пользоваться этим единственным случаем, когда мы можем позволить себе высказывать свои тайные мысли, потому что я в своих книгах, а вы в ваших лекциях, все мы можем преподносить публике только одну ложь…
Ученый глубже уселся в своем кресле, протянул ноги, которые от долгого лежания одна на другой порядочно онемели и, откинув назад голову, опустив руки, чувствуя приятное ощущение в желудке от пищеварения, пускал к потолку кольца из дыма.
— Впрочем, — заговорил он, — убийство в достаточной степени культивируется само собой… Проще сказать, оно не есть результат той или другой страсти или патологическая форма вырождения. Это — жизненный инстинкт, присущий нам…. имеющийся у всех органических существ и управляющий ими, как инстинкт растительный… Также верно, что долгое время эти два инстинкта так прекрасно сочетались один с другим, так полно перемешивались друг с другом, что они от части образовывали только один инстинкт и нельзя было разобрать, который из них толкает нас давать жизнь и который заставляет отнимать ее, который из них убийство и который любовь. Со мною откровенно беседовал один известный убийца, который убивал женщин не за тем, чтобы грабить их, но чтобы насиловать их. «В эти минуты, — говорил он, — я представлялся себе Богом, и мне казалось, что я творю мир!».
— А! — воскликнул знаменитый писатель. — Вы еще будете брать в пример профессиональных убийц!
Ученый мягко возразил:
— Да мы все, в большей или в меньшей степени, — убийцы… Мы все мысленно испытывали хотя бы отчасти подобные чувства… Природная необходимость убийства обуздываете, смягчается ее физическая жестокость, ей придаются дозволенные выходы: индустрия, колониальная политика, война, охота, антисемитизм… потому что опасно предаваться ей неумеренно, вне законов, и потому что нравственное удовлетворение, извлекаемое из убийства, во всяком случае не стоит того, чтобы возиться с обыкновенными последствиями этого действия, с тюрьмой… сталкиваться с судьями, что всегда утомительно и не представляет научного интереса… наконец, с гильотиной…
— Вы преувеличиваете, — прервал первый говоривший. — Убивающим без изящества, без ума, под влиянием грубых импульсов и лишенных всякой психики, — вот для таких опасно совершать убийство… Человек интеллигентный и рассудительный может, с невозмутимой ясностью, совершать всевозможные убийства, какие только пожелает. Он уверен в безнаказанности… Изощренность его комбинаций всегда превзойдет рутину полицейских розысков и, смело можем сказать, бедность судебного разбирательства, которыми забавляются судебные следователи… В этом деле, как и везде, мелюзга платится за великанов… Понимаете ли, дорогой мой, вы согласитесь, что количество нераскрытых преступлений…
— И терпимых…
— И терпимых… я именно и хотел это сказать… Итак, вы согласитесь, что это количество в тысячу раз больше, чем количество преступлений раскрытых и наказанных, о которых газеты болтают с таким многословием и таким отвратительным отсутствием философии… Если вы согласитесь с этим, то вы также сознаете, что жандарм не является пугалом для избранников убийства…
— Несомненно. Но дело не в этом… Вы изменяете вопрос… Я сказал, что убийство вполне естественное, — а ничуть не исключительное, — действие природы и всякого живого существа. Однако непонятно, почему, под предлогом будто бы управления людьми, общество присвоило себе право убивать их, в ущерб единичным личностям, которым, и только им одним, и принадлежит это право.
— Вполне справедливо! — вмешался любезный и красноречивый философ, лекции которого в Сорбонне каждую неделю привлекали избранную публику. — Наш приятель вполне прав… Со своей стороны, я не верю, чтобы существовало хотя бы одно человеческое существо, которое не было бы — по крайней мере, в мыслях — убийцей… Знаете ли, мне иногда нравится в салонах, в церквах, на вокзалах, в кафе, в театре, всюду, где ходит, движется толпа, мне нравится наблюдать физиономии с определенной точки зрения — человекоубийства. По взгляду, по форме черепа, по челюстям, по скулам, все они, в какой-либо части своей индивидуальности, все они носят видимые следы той физиологической фатальности, какой является убийство… Это — ничуть не заблуждение, так как я не могу сделать ни одного шага, чтобы не столкнуться с убийством, не заметить, как оно пылает под ресницами, не почувствовать его таинственного прикосновения в руках, пожимающих мою руку… В прошлое воскресенье я отправился в одну деревню, где был престольный праздник… На большой площади, украшенной ветками, цветочными арками, нарядными мачтами, были собраны всевозможные виды развлечений по обычаю таких народных гуляний… И под отеческим оком власти толпа честного народа развлекалась… Карусель, русские горы, качели привлекали очень мало народа… Напрасно органы выводили самые веселые арии и самые соблазнительные ритурнели. Другие развлечения влекли эту праздничную толпу. Одни стреляли из карабина, из пистолета или из старинного арбалета в мишени, изображавшие человеческие лица; другие мячиками сваливали марионеток, с жалким видом торчавших на деревянных перекладинах: те стучали колотушкой по пружине, патриотически приводившей в движение французского матроса, который прокалывал штыком бедного гаваса или жалкого дагомейца… Повсюду, под навесами и в маленьких освещенных палатках, подобия смерти, пародии убийства, всякие гекатомбы… И этот народ веселился.
Мы понимали, что философ в ударе… Мы получше уселись, чтобы следить за потоком его теорий и анекдотов. Он продолжал:
— Я даже замечал, что эти мирные развлечения за последние несколько лет принимают значительное распространение. Наслаждение убийством сделалось больше и становится все более популярным по мере того, как нравы смягчаются, потому что на самом деле нравы смягчаются, в этом нет сомнения!.. Раньше, когда мы были еще дикими, домашние тиры были слишком жалки, так что на них едва смотрели. Тогда стреляли в трубки и в яичную скорлупу, танцующие на поверхности падающей воды. В самых роскошных помещениях, были, правда, и птицы, но они были из алебастра… Какое тут удовольствие, спрашиваю я вас? В настоящее время прогресс идет быстрыми шагами; теперь всякому порядочному человеку вполне возможно испытать за два су нежное и цивилизирующее ощущение убийцы… Да еще через это выигрываешь раскрашенные тарелочки и кроликов… Вместо трубок, яичной скорлупы, алебастровых птичек, которые глупо колются, не вызывая перед нами ничего кровавого, ярмарочное воображение придумало фигуры мужчин, женщин, детей, тщательно сделанные и наряженные как следует… Потом эти фигуры заставляют жестикулировать и ходить… При помощи хитроумного механизма они важно гуляют или бегают в ужасе. Они появляются, по одиночке или группами, в декоративных пейзажах, взбираются на стены, входят в башенки, выскакивают через окна, поднимаются по лестницам… Они производят те же движения, что и реальные существа: двигают рукой, ногой, головой. Бывают такие, что плачут… некоторые похожи на нищих… другие выглядят больными… бывают такие, которые одеты в золото, как легендарные принцессы. На самом деле можно вообразить, что у них есть ум, воля, душа… что они живые… Некоторые из них даже принимают патетические, умоляющие позы… Так и кажется, что слышишь, как они говорят: «Пощади! Не убивай меня!» Таким образом получается очаровательное ощущение: думаешь, что собираешься убивать предметы, которые шевелятся, движутся, страдают, которые умоляют! Наставляя на них карабин или пистолет, у вас во рту получается как бы вкус теплой крови. Какое удовольствие, когда пулька обезглавливает эти человеческие подобия! Как от радости топчешь ногами, когда стрела разрывает картонную грудь и валит на землю безжизненное маленькое тело, падающее, как труп! Всякий возбуждается, ожесточается, храбрится… Слышны только слова разрушения и смерти: «Убей же его! Целься ему в глаз? Целься ему в сердце! Готов!» Насколько равнодушным остается этот честный народ перед картонажами и трубками, настолько он возбуждается, если цель представлена человеческой фигурой. Неловкие сердятся, но не на свою неловкость, а на марионетку, если они промахнулись… Они считают ее трусихой, осыпают ее непристойными насмешками, когда она, невредимая, исчезает за дверью башенки. Они вызывают ее: «Иди же сюда, несчастный!» И снова начинают стрелять в нее, пока не убьют. Понаблюдайте этих добродушных людей. В эти минуты это настоящие убийцы, существа, жаждущие только убивать. Грубый человекоубийственный инстинкт, дремавший в них, сразу просыпается при одной иллюзии, что они собираются уничтожать нечто живое. Потому что картонный или деревянный человечек, гуляющий в соответствующей декорации, для них уже не игрушка, не кусок безжизненной материи. Видя его гуляющим, они бессознательно наделяют его жизненной теплотой, нервной чувствительностью, мыслью, всеми теми вещами, что так безумно приятно уничтожить, так сурово-сладко видеть истекающими от нанесенных ран. Они даже награждают этого маленького человечка политическими или религиозными убеждениями, противоположными своим, обвиняют его в том, что он — еврей, англичанин или немец, чтобы придать какую-то особенную ненависть к общей ненависти к жизни и таким образом удвоить личную месть, заранее предвкушаемую. Инстинктивное удовольствие убийства…
Тут вмешался хозяин дома, который из вежливости к своим гостям и из сострадания, чтобы дать немного передохнуть нашему философу и нам самим, мягко заметил:
— Вы говорите только о грубом народе, о крестьянах, которые, я согласен с вами, допускают убийство. Но невозможно, чтобы вы эти замечания применяли к «культурным людям», к «просвещённым лицам», людям светским, каждый час жизни которых отмечается победой над природными инстинктами и над дикой настойчивостью атавизма.
На это наш философ горячо возразил:
— Позвольте! Каковы привычки, каковы излюбленные развлечения тех, кого вы, мой дорогой, называете «культурными людьми» и «просвещенными лицами»? Фехтование, дуэль, суровые споры, отвратительная стрельба по голубям, бои быков, разнообразные упражнения в патриотизме, охота… Все то, что действительно составляет регресс к эпохе варварской древности, когда человек — если можно так выразиться — был, в нравственном отношении, подобен большим хищным: зверям, которых он преследовал. Впрочем, не надо сожалеть, что охота пережила в мало измененном виде те нpавы. Это — могучий клапан, через который «культурные люди» и «просвещённые лица» спускают не к большому для нас огорчению то, что всегда есть в них от разрушительной энергии и от кровавых страстей. Иначе, вместо того, чтобы гнаться за оленем, охотиться за кабаном, убивать неповинных птичек на лужайках, будьте уверены, что «культурные люди» спустили бы своих собак на нас, что нас с радостью свалили бы «просвещенные лица» выстрелом из ружья, что они и делают, когда имеют возможность, так или иначе с большой решимостью и — открыто сознаемся в этом — с меньшим лицемерием, чем грубые люди. О! Никогда не будем желать исчезновения дичи с наших лугов и из наших лесов! Она — наша спасительница и, в некотором роде, наша искупительница. Тогда, когда она сразу исчезнет, мы быстро заменим ее для деликатного развлечения «культурных людей». Дело Дрейфуса является для нас чудным примером этого, и никогда, по-моему, страсть к убийству и удовольствие от окоты на человека не были так откровенно и полно высказаны. Среди необыкновенных случаев и чудовищных дел, которыми оно ежедневно, в течение целого года, проявлялось, преследования на улицах Нанта г. Гримо самое характерное и вполне в обычае «культурных людей» и «просвещенных лиц», которые преследовали оскорблениями и угрозами смерти этого великого ученого, которому мы обязаны ценнейшими работами по химии. Всегда надо помнить, что Клиссонский мэр, «культурный человек», в письме, сделавшемся известным, воспретил г-ну Грима являться в свой город и сожалея, что современные законы не позволяют ему «вздернуть его повыше и покороче», как поступали с учеными в прекрасные времена древних монархий. За что этот чудный мэр был одобрен всеми, кого Франция считает такими изящными «светскими людьми», которые, по словам нашего хозяина, ежедневно одерживают поразительные победы над природными инстинктами и над дикой настойчивостью атавизма. К тому же, заметьте, что именно из среды «культурных людей» и «просвещенных лиц» почти исключительно выходят офицеры, то есть люди, которые, не больше и не меньше злые и грубые, чем все другие люди, свободно выбирают профессию — впрочем, очень уважаемую, — вся сущность которой состоит в производстве над человеческой личностью самых разнообразных насилий, в отыскании, в умножении самого большого числа наиболее верных средств грабежа, уничтожения и смерти… Разве нет у нас военных судов, которым даны очень правильные и подходящие имена: Опустошение, Ярость, Ужас? А я сам?.. Ах, понимаете ли! Я уверен, что я не чудовище. Я считаю себя человеком нормальным, одаренным нежными, возвышенными чувствами, высшей культурой, всеми утонченностями цивилизации и общественности. Ну, и что же? Сколько раз я слышал внутри себя ворчащий повелительный голос убийства! Сколько раз я чувствовал, как из глубины моего существа поднимается к мозгу, в виде прилива крови, желание, резкое, страстное и почти непреодолимое желание убийства! Не думайте, что это желание проявляется во время страстных припадков, сопровождается внезапным и безотчетным гневом или соединяется с низким денежным интересом. Ничуть. Это желание рождается внезапно, — могучее, неоправдываемое ничем, ни из-за чего и ни к чему. На улице, например, перед спиной какого-нибудь незнакомого прохожего… Да, бывают спины, на улицах, так и просящие ножа… Почему?
После такой неожиданной откровенности философ на минуту остановился, осмотрев нас всех с боязливым видом. И продолжал:
— Нет, понимаете ли, моралисты спокойно могут осуждать убийство. Необходимость в убийстве рождается в человеке вместе с необходимостью в еде и сливается с нею. Эту инстинктивную необходимость, являющуюся двигателем всех живых организмов, воспитание развивает вместо того, чтобы обуздывать, религии освящают вместо того, чтобы проклинать ее; все это соединяется, чтобы сделать из нее ось, на которой вертится наше восхитительное общество. Как только человек пробуждается к сознательному существованию, ему тотчас же в мозг вдувается дух убийства. Убийство, возросшее до обязанности, восхваляемое, как героизм, сопровождает его на всех ступенях его существования. Его заставляют почитать странных богов, безумных богов, радующихся только катастрофам, и как маньяки жестокости, истребляющих человеческие жизни, косящих народы, как траву. Его заставляют почитать только героев, этих отвратительных зверей, покрытых преступлениями и совершенно красных от человеческой крови. Добродетели, через которые он возвысится над другими и которые принесут ему славу, богатство, любовь, опираются единственно на убийство. В войне он находит высший синтез вечного и всеобщего безумия убийства, убийства упорядоченного, внесенного в роспись, обязательного, составляющего национальный долг. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, всегда он будет видеть это слово: «убийство», неизгладимо начертанное на фронтоне этой обширной бойни, которая называется человечеством. Итак, этот человек, которому привили с детства презрение к человеческой жизни, которого посвятили законному убийству, почему вы хотите, чтобы этот человек остановился перед убийством, когда он в нем находит выгоду или развлечение? Во имя какого права общество осуждает убийц, которые на самом-то деле только исполняют человекоубийственные законы, издаваемые обществом, и следуют даваемым им кровавым примерам? «Ведь, — могут в один прекрасный день сказать убийцы, — вы заставляли нас убивать кучи людей, против которых мы не имели никакой злобы, которых мы даже не знали; чем больше мы убивали их, тем больше вы благодарили и награждали нас! А потом, веря в нашу логику, мы истребили людей, потому что они стесняли нас и потому, что мы ненавидели их, потому что мы желали их денег, их жен, их место, или просто потому, что нам было приятно истреблять их; все ясные, извинительные и человеческие причины. И вот жандарм, судья, палач! Вот возмутительная несправедливость, в которой нет ни капли смысла». Что могло бы ответить на это общество, если бы оно хоть чуть-чуть заботилось о логике?
Один молодой человек, до сих пор не произнесший еще ни слова, сказал:
— В чем объяснение этой странной мании убийства, которой, как вы заявляете, мы все, по природе или через воспитание, заражены? Я не знаю этого объяснения и не хочу его знать. Мне приятнее верить, что все в нас — тайна. К тому же это соответствует лености моего ума, который боится разрешения социальных и человеческих вопросов, которых, впрочем, никогда не разрешить, и это укрепляет меня только в поэтических истинах, которыми я пробую разъяснить, или, скорее, не разъяснить того, чего я не понимаю. Вы, дорогой учитель, только что сделали довольно ужасное признание и описали ощущения, которые, если бы они приняли реальную форму, могли повести вас далеко, так же, как и меня, потому что я часто испытывал эти ощущения и в последний раз при очень банальных обстоятельствах. Но прежде всего позвольте мне прибавить, что этими ненормальными душевными состояниями я обязан, может быть, среде, в которой я вырос, и ежедневным влияниям, невольно проникающим в меня. Вы знаете моего отца, доктора Трепана. Вы знаете, что нет человека, более общительного, более милого, чем он. И нет человека, которого профессия сделала бы более смелым убийцей! Много раз я присутствовал при тек чудесных операциях, что прославили его на весь свет. В его презрении к жизни есть что-то действительно чудесное. Раз, производя при мне довольно трудную лапаротомию, он, осматривая свою больную, все еще находившуюся во сне от действия хлороформа, вдруг сказал: «У этой женщины, должно быть, воспаление устья желудка. Не вскрыть ли ей и желудок? Время еще есть». И он так и сделал. У нее ничего не было. Тогда мой отец начал зашивать ненужную рану, заявив: «По крайней мере все исследовано». Это было для него тем хорошо, что больная умерла в тот же вечер. В другой раз, в Италии, куда его пригласили для операции, мы посетили один музей. Я был в экстазе. «Ах! Поэт, поэт!» — воскликнул мой отец, который ни на минуту не заинтересовался шедеврами, приведшими меня в восторг. «Искусство! Искусство! Красота! Знаешь ли ты, что это такое? Ну, мой мальчик, красота, это живот женщины, вскрытый, весь в крови, с щипцами внутри!» Но дальше я не философствую, а рассказываю… Вы из предложенного мною нам рассказа извлечете какие угодно антропологические заключения, какие есть в нем, если они есть в нем действительно…
У этого молодого человека в движениях была уверенность, в голосе резкость, которые немного заставляли нас вздрагивать.
— Я возвращался из Лиона, — продолжал он, — и был один в купе первого класса. Не помню, на какой-то станции вошел господин. Раздражение, что вас побеспокоили в нашем одиночестве, может вызвать наиболее грубые чувства и предрасположить вас к неприятным поступкам; с этим я согласен. Но я не испытал ничего подобного. Я так скучал от одиночества, что внезапный приход этого спутника скорее доставил мне даже удовольствие. Он поместился против меня, осторожно положив на сетку свой ручной багаж. Это был толстый человек, с вульгарными манерами, и его толстое и жирное безобразие скоро сделалось мне противным. Через несколько минут я испытывал, глядя на него, как бы инстинктивное отвращение. Он тяжело протянул на подушках свои раздвинутые ноги, и его огромный живот при каждом толчке вздрагивал и переваливался, как противный кусок студня. Так как ему, кажется, было жарко, он снял шляпу и вытер лоб, низкий, шероховатый, выпуклый, покрытый короткими, редкими и склеившимися волосами. Его лицо было простым куском живого мяса: его тройной подбородок, гадкий кусок дряблого жира, свешивавшийся ему на грудь. Чтобы избавиться от этого некрасивого зрелища, я решил смотреть на окрестности и старался совершенно забыть о присутствии этого неприятного спутника. Прошел час… И когда любопытство, более сильное, чем моя воля, перевело мои глаза на него, я увидел, что он спит некрасивым и глубоким сном. Он спал, уйдя весь в самого себя: голова его свесилась и раскачивалась на плечах, а его жирные вздувавшиеся руки были распростерты на покатостях ляжек. Я заметил, что его круглые глаза выглядывали из-под сморщенных век, посреди которых, в отверстие, виднелся уголок голубоватых глаз, похожих на синяк на лоскуте дряблой кожи. Какое внезапное безумие охватило мою голову? Право, не знаю… Хотя меня часто соблазняло убийство, но желание оставалось во мне в зачаточном состоянии и еще никогда не принимало определенную форму жеста и действия. Могу ли я думать, что только отвратительное безобразие этого человека могло побудить меня к жесту и действию? Нет, есть более глубокая причина в этом, и я ее не знаю… Я тихо поднялся и подошел к спящему, раздвинул напряженные и крепкие руки, как бы готовясь задушить его…
На этом слове, как рассказчик, умеющий пользоваться эффектами, он остановился. Потом, с видимым удовлетворением самим собою, он продолжал:
— Несмотря на мой, более или менее болезненный вид, я одарен необыкновенной силой, редкой гибкостью мускулов, необычайной мощью объятия, а в этот момент странное возбуждение увеличило силу моих физических свойств. Мои руки бессознательно подвигались к шее этого человека, — бессознательно, уверяю вас, — страстные и ужасные. Я чувствовал в себе легкость, эластичность, прилив нервных волн, как будто сильное опьянение от полового наслаждения. Да, что я тогда испытал, я не могу лучше всего сравнить ни с чем; как только с этим. В тот момент, когда мои руки готовы были сжаться на этой жирной шее, господин проснулся. Он проснулся с ужасом в глазах и бормотал: «Что? Что? Что?» И это все! Я видел, что он хочет сказать больше, но не может. Его круглый глаз дрожал, как маленький огонек, колеблемый ветром. Потом этот глаз в ужасе неподвижно уставился на меня. Не сказав ни слова, не подыскав извинения или объяснения, которое успокоило бы этого человека, я опять сел против него и небрежно, непринужденно, что до сих пор удивляет меня, развернул газету, которую, впрочем, читать не стал. Каждую минуту ужас в глазах спутника все увеличивался; понемногу мужчина скорчился, и я видел, как его лицо покрылось красными пятнами, потом посинело, затем окаменело. До Парижа взгляд его сохранил ужасную неподвижность. Когда поезд остановился, он не слез.
Рассказчик закурил сигарету от свечки и, выпуская изо рта дым, сказал своим флегматическим голосом:
— И не мог! Он был мертв! Я убил его, вызвав прилив крови к мозгу.
Этот рассказ подействовал на нас страшно тяжело, и мы с недоумением переглядывались… Был ли искренен этот странный молодой человек? Хотел ли он мистифицировать нас? Мы ждали объяснения, комментария, увертки. Но он молчал. Важный, серьезный, он принялся курить и сейчас, казалось, думал совсем о другом. С этого момента разговор продолжался безо всякого порядка, без увлечения, касаясь массы мелких предметов, совсем слабо…
Тогда один человек, с измученным лицом, с согбенной спиной, с тусклым взглядом, с преждевременно совсем седыми головой и бородой, поднялся с усилием и дрожащим голосом сказал:
— До сих пор вы говорили обо всем, кроме женщин, что действительно непонятно в вопросе, в котором они имеют главное значение.
— Хорошо! Поговорим об этом, — прибавил знаменитый писатель, очутившийся в своей любимой стихии, потому что в литературе он слыл за одного из тех любопытных дураков, которых называют представителями феминизма. — На самом деле пора чем-нибудь радостным рассеять эти кровавые кошмары. Поговорить о женщине, друзья мои, потому что именно в ней и через нее мы забываем свои дикие инстинкты, научаемся любить, возвышаемся до высшего понимания идеала и милосердия.
Человек с измученным лицом засмеялся, и в его смехе ирония заскрипела, как старая дверь, у которой заржавели петли.
— Женщина, учительница милосердия! — воскликнул он. — Да, знаю я эту поговорку. Она очень распространена в известной литературе, и в кругу салонной философии. Но вся ее история, и не одна только ее история, а и ее роль в природе и в жизни опровергают это совершенно романтическое положение. Тогда почему же женщины стремятся к кровавым зрелищам с таким же бешенством, как к сладострастию? Почему вы видите, как на улице, в театре, на суде, на гильотине они вытягивают шею, жадно раскрывают глаза при сценах мучений, до обморочного состояния испытывают ужасную радость при виде смерти? Почему какое-нибудь имя знаменитого убийцы заставляет их вздрагивать от какого-то приятного ужаса? Все они, или почти все, мечтают о Пранцини! Почему?
— Ну, вот еще! — воскликнул знаменитый писатель. — Проститутки…
— Нет, — возразил человек с измученным лицом, — важные дамы и буржуазки. У всех одно и то же. У женщин нет нравственных разграничений, есть только разграничения социальные. Вообще, они — женщины. В простом народе, в крупной и мелкой буржуазии и даже в самых высших слоях общества женщины набрасываются на эти отвратительные морги, на эти предметы криминального музея, какими являются фельетоны «Petit Jоurnаl». Почему? Потому что знаменитые убийцы всегда были сильными любовниками. Их половая мощь соответствовала их преступной мощи. Они любят так же, как убивают! Убийство рождается от любви, и любовь достигает максимума своего развития в убийстве. Тут — одна и та же физиологическая экзальтация — те же самые жесты объятий, те же самые укусы. И часто даже те же самые слова при одинаковых спазмах.
Он говорил с усилием, со страдальческим видом и, по мере того, как он говорил, глаза его делались все тусклее, а морщины лица становились все отчетливее.
— Женщина, проливающая идеал и милосердие! — продолжал он. — Но самые ужасные преступления — почти всегда дело женщины. Это она их измышляет, комбинирует, приготовляет, руководит ими. Если она не совершает их собственной рукой, часто слишком слабой, но в их характере жестокости, непреклонности чувствуется ее моральное присутствие, ее мысль, ее поле. «Ищите женщину!» — говорит мудрый криминалист.
— Вы клевещете на нее! — запротестовал знаменитый писатель, не смогший скрыть жеста негодования. — То, что вы здесь показываете нам, как общее правило, есть очень редкое исключение. Вырождение, невроз, неврастения, черт возьми! Женщина не более, чем мужчина, освобождена от психических заболеваний, хотя у нее эти заболевания принимают очаровательную и трогательную форму, которая заставляет нас лучше понимать деликатность ее изящной чувствительности. Нет, милостивый государь, вы попали в плачевное и, осмелюсь сказать, преступное заблуждение… Чему надо удивляться в женщине, так это противоположности здравому смыслу — великой ее любви к жизни, которая, как я только что сказал, находит окончательное выражение в милосердии.
— Литература! Литература, милостивый государь! И худшая изо всех.
— Пессимизм, милостивый государь! Богохульство! Ерунда!
— Я думаю, вы ошибаетесь оба, — вмешался медик. — Женщины более утонченны и совершенны, чем вы это думаете. Как несравненные виртуозки, как величайшие артистки печали, каковые они и есть на самом деле, они предпочитают зрелище страдания зрелищу смерти, слезы — крови. А это — чудная двусмысленность, в которой всякий находит свое, потому что всякий может извлечь из нее совсем разнородные заключения, — восхищаться страданием женщины или проклинать ее жестокость, не одинаково неотразимым доводом, смотря по тому, как мы в данный момент расположены — благодарить ее или ненавидеть… А потом, к чему все эти бесплодные споры? В вечной борьбе полов мы всегда побежденные, мы ничего тут не можем поделать. Мы, женоненавистники или феминисты, мы еще не нашли, для своего удовольствия и для продолжения себе подобных, более чудного инструмента удовольствия и другого средства размножения, как женщина…
Но человек с изумленным лицом с бешеным раздражением замахал руками.
— Выслушайте меня, — сказал он. — Случайности жизни, — а какова была моя жизнь! — столкнули меня не с какой-нибудь женщиной, а именно с женщиной. Я видел, что она свободна ото всяких искусственностей, ото всякого лицемерия, которым ее покрывает цивилизация, как бы бронею лжи, я видел ее действительную душу. Я видел ее отдавшейся одному только капризу или, если это вам кажется лучшим, единственному господству своих инстинктов, в среде, где ничто, правда, не могло их задержать, где все, напротив, сговорилось возбуждать их. Ничто не скрывало от меня ее, ни законы, ни нравы, ни религиозные предрассудки, ни общественные условия… Я видел ее в настоящем цвете, в природной наготе, посреди садов и мучений, крови и цветов! Когда она появилась передо мной, я опустился на самое дно человеческого падения — по крайней мере, я так думал. Тогда, перед ее любовными глазами, перед ее сострадательными устами, я призывал надежду, я верил, да, я верил, что через нее я буду спасен. Ну, что же? Это было что-то чудовищное! Эта женщина познакомила меня еще с неведомыми для меня преступлениями, познакомила с мраком, в который я еще не спускался. Взгляните на мои мертвые глаза, на мой рот, не умеющий больше говорить, на мои дрожащие руки. И это только оттого, что я увидел ее! Но я не могу проклинать ее, как не проклинаю огня, пожирающего города и леса, воду, поглощающую корабли, тигра, утаскивающего кровавую добычу в свое логово в глубине джунглей…
В женщине есть космическая сила, непобедимая сила разрушения, как в природе. В ней одной вся природа! Будучи чревом жизни, она, через это, и чрево смерти, потому что именно из смерти непрерывно возрождается жизнь, и потому что уничтожить смерть, значит, убить жизнь в ее единственном источнике плодородия.
— А что же это доказывает? — спросил медик, пожимая плечами.
Тот просто ответил:
— Это ничего не доказывает. Разве печаль или радость нуждаются в доказательствах? Они нуждаются только в чувствовали.
Потом робко и — о, могущество человеческого самолюбия! — с видимым довольством самим собою, человек с измученным лицом вытащил из кармана сверток бумаг и заботливо разгладил его.
— Я написал, — сказал он, — рассказ об этой части моей жизни… Долго я колебался опубликовать его, колебаюсь еще и теперь. Я хотел бы прочесть его вам, вам — мужчинам и не боящимся проникать в самый мрак человеческих тайн. Однако и вы почувствуете от него кровавый ужас! Рассказ называется: «Сад мучений».
Наш хозяин велел подать еще сигар и напитков…
Часть первая КОМАНДИРОВКА
Прежде чем говорить об одном из самых ужасных эпизодов моего путешествия на Дальний Восток, может быть, будет интересно коротко объяснить, при каких условиях мне пришлось предпринять его. Это имеет отношение и к современной истории.
Тем, у кого может возникнуть недоумение перед псевдонимом, который я во всем, что касается меня, ревниво оберегал в течение всего этого скорбного и печального рассказа, я скажу: «Что значит мое имя? Это — имя незнакомца, который причинил много горя другим и себе, и себе даже больше, чем другим, и который после многих потрясений, чтобы когда-нибудь быть в состоянии. спуститься до дна человеческих желаний, пытается укрепить душу в одиночестве и безызвестности. Мир праху его греха».
I
Двенадцать лет тому назад, не зная более, что делать, и вынужденный целым рядом неудач прибегнуть к тяжелой необходимости или повеситься, или броситься в Сену, я выступал на выборах — последнее средство — в одном департаменте, где, впрочем, я никого не знал и где никогда и не был.
Правда, моя кандидатура официально поддерживалась кабинетом, который, не зная совершенно, что делать со мной, таким образом нашел остроумный и деликатный способ раз и навсегда избавиться от моих ежедневных, настойчивых приставаний.
По этому случаю я получил торжественную и вместе с тем дружескую аудиенцию у министра, который был моим приятелем и давнишним школьным товарищем.
— Видишь, насколько мы любезны к тебе, — сказал мне этот могучий, великодушный друг. — Только что вытащили тебя из когтей правосудия — и из-за этого у нас были кое-какие неприятности, — как мы собираемся сделать из тебя депутата.
— Я еще не выбран, — сказал я ворчливым тоном.
— Конечно. Но за тебя все шансы. Интеллигентный, соблазнительный своей личностью, ловкий, добрый малый, когда ты этого захочешь, ты обладаешь высшим даром нравиться. Люди, нравящиеся женщинам, мой милый, всегда нравятся и толпе. Я отвечаю за тебя. Дело только в том, что надо хорошенечко понять положение. Впрочем, оно очень просто.
И он начал поучать меня:
— Особенно, чтобы не было политики! Не обязывайся, не вовлекайся! В том округе, который я выбрал тебе, существовал только один вопрос, превышавший все остальные: свекловица… Остальное в счет не идет и относится к префекту. Ты — чистейший сельскохозяйственный кандидат. Даже лучше: исключительно свеклопроизводительный. Никогда не забывай этого. Что бы ни могло произойти в пылу борьбы, непреклонно держись на этой чудной платформе. Ты хоть что-нибудь понимаешь в свекловице?
— Ей-Богу, нет! — ответил я. — Я только и знаю, как и всякий, что из нее извлекают сахар… и алкоголь.
— Браво! Этого довольно, — аплодировал министр с успокаивающей и дружеской авторитетностью. — Следуй прямо этому положению. Обещай сказочные доходы, необыкновенные и даровые химические удобрения, железные дороги, каналы, шоссе для перевозки этого интересного и патриотического продукта. Объяви об уменьшении налогов, премии производителям, суровые законы по отношению к конкурирующим веществам, все, что хочешь! Во всех вещах подобного рода предоставляю тебе carte blanche, и я поддержу тебя. Но не позволяй себе увлекаться личной или общей полемикой, которая может быть опасна для тебя и после твоего избрания скомпрометировать престиж Республики. Потому что, мой милый, между нами будет сказано, — я ничуть не упрекаю тебя, я только констатирую факт, — у тебя слишком незавидное прошлое.
Я не был расположен напрасно шутить. Задетый этим замечанием, которое показалось мне бесполезным и невежливым, я горячо возразил, смотря прямо в лицо моего друга, который в моих глазах мог прочитать сгущенную, ясную и холодную угрозу.
— Ты более справедливо мог бы сказать: «у нас». Мне кажется, что твое прошлое, дорогой товарищ, не может ни в чем позавидовать моему…
— О, я! — произнес министр с видом высшего равнодушия и комфортабельной беззаботности, — это совсем другое дело… Я, дорогой мой, я прикрыт Францией!
И, вернувшись к моему избранию, он добавил:
— Итак, я заключаю. О свекловице, еще раз о свекловице, всегда о свекловице! Такова твоя программа. Постарайся не выходить из нее.
Потом он скромно вручил некоторую сумму и пожелал счастливого успеха.
Я верно следовал программе, начертанной моим могущественным другом, и ошибся. Я не был избран. Подавляющее большинство, поданное за моего противника, я приписываю, кроме некоторых беззаконных махинаций, тому, что этот дьявол был еще невежественнее меня и более отъявленный мошенник.
Мимоходом заметим, что нагло выставляемое мошенничество в наше время заменяет все качества, и чем человек бесчестнее, тем более он имеет шансов, что в нем признают интеллектуальную силу и нравственную ценность.
Мой противник, который теперь в политике один из наименее сомнительных знаменитостей, воровал при всевозможных условиях своей жизни. И его превосходство происходило от того, что он, ничуть не думая скрываться, хвастался еще этим с самым возмутительным цинизмом.
— Я воровал, я воровал, — возглашал он на деревенских улицах, на публичных площадях, по дорогам, на полях…
— Я воровал, я воровал, — публиковал он в своих исповеданиях, на стенных афишах и в секретных циркулярах.
И в кабаках, усевшись на бочки, его агенты, совершенно облитые вином и багровые от алкоголя, повторяли, разглашали эти магические слова:
— Он воровал, он воровал…
Восхищенное трудовое население города не менее, чем и мужественное население деревень, восхваляли этого гордого человека с неистовством, которое увеличивалось каждый день в прямом соотношении с безумством его признаний.
Как я мог бороться с соперником, обладающим таким послужным формуляром, я, у которого еще на совести ничего не было, кроме мелких юношеских грешков, и то тщательно скрываемых, как, например, домашние кражи, вымогательства у любовниц, передергивания в игре, шантажи, анонимные письма, распущенность и подлоги? О, наивность неопытной юности!
Раз вечером, на одном публичном собрании меня даже чуть не убили разъяренные избиратели за то, что, после скандальных заявлений моего противника, я потребовал при первенстве свекловицы права на добродетель, на нравственность, на честность и заявил о необходимости очистить Республику от личных нечистот, обесчещивающих ее. На меня набросились; меня схватили за горло; моя особа, поднятая вверх и перебрасываемая, как комок бумаги, переходила от кулака к кулаку. К счастью, от этого приступа красноречия я получил только опухоль на щеке, три переломанных ребра и шесть вышибленных зубов.
Вот все, что я вынес из этого печального приключения, на которое натолкнула меня так неудачно протекция министра, называвшего меня своим другом.
Я выходил из себя.
Я тем больше имел право выходить из себя, что вдруг, в разгаре самой борьбы, правительство покинуло меня, оставило без поддержки, с моим единственным амулетом — свеклой, и начало переговариваться с моим противником.
Префект, сначала очень скромный, не замедлил сделаться очень нахальным; потом он отказал мне в сведениях, необходимых для избрания; наконец, он закрыл, или почти закрыл, дверь передо мной. Сам министр больше не отвечал на мои письма, не делал ничего, о чем я его ни просил, а преданные газеты повели против меня глухую атаку гнусными намеками под вежливой и расцвеченной формой. До того, чтобы на меня нападать официально, еще не дошли, но было ясно для всех, что меня покинули. А! Я думаю, что никогда столько горечи не проникало в душу ни одного человека.
Вернувшись в Париж, твердо решив произвести скандал, рискуя потерять все, я потребовал объяснений от министра, которого моя атака тотчас же сделала мягким и согласным.
— Дорогой мой, — сказал он мне, — я сожалею о том, что случилось с тобой. Честное слово! Ты видишь, как все это огорчило меня. Но что же я могу? Ведь я не один в кабинете… и…
— Я знаю только тебя! — горячо прервал я, ударив кулаком по столу, отчего привскочила находившаяся на нем груда бумаг. — До других мне нет дела… Другие меня не касаются… Только ты… Ты изменил мне; это неблагородно!
— Ну, подожди! Выслушай меня, понимаешь ли, — умолял министр. — Не сердись раньше, пока не узнаешь.
— Я знаю только одно, и с меня достаточно этого. Ты продал мою голову. Ну, что же. Это даром не пройдет, как ты думаешь. Теперь моя очередь.
Я ходил по кабинету, выбрасывая угрозы, производя беспорядок в стульях.
— А! А! Ты продал мою голову! Теперь посмеемся мы. Наконец страна узнает, что за фрукт этот министр. С риском отравить страну, я покажу ей, я открою перед ней всю великую душу министра. Глупый! Разве ты не понимаешь, что я держу тебя целиком, тебя, твое состояние, твои секреты, твой портфель! А! Мое прошлое стесняет тебя? Оно стесняет твою чистоту и чистоту Марианны? Хорошо, подождем. Завтра, да, завтра все будет известно…
Я задыхался от гнева. Министр попробовал успокоить меня: взять меня за руку, тихо притянуть меня к креслу, с которого я соскочил.
— Но замолчи же! — сказал он мне, придав своему голосу умоляющие интонации. — Выслушай меня, умоляю тебя! Ну, сядь! Дьявол, который не хочет ничего слушать! Вот в чем дело…
Быстро, короткими рублеными фразами он говорил с дрожью в голосе:
— Мы не знали твоего конкурента. В борьбе он показал себя великим человеком. Настоящим государственным деятелем! Ты знаешь, как мало министерских людей! Ведь у нас постоянно одни и те же, а нам нужно время от времени показать палате и стране новую фигуру. А таких нет. Ты это понимаешь? Ну, вот мы и подумали, что твой конкурент может быть одной из таких фигур. У него все качества, соответствующие временному министру, министру во время кризиса. Наконец, он подкупен, понимаешь ли? Признаюсь, досадно за тебя. Но прежде всего интересы страны.
— Не говори же пустяков. Ведь здесь мы не в палате. Дело не в интересах страны, над которыми ты смеешься, и я так же. Дело во мне. Благодаря тебе, я выброшен на улицу. Вчера вечером кассир моего клуба решительно отказал мне в ста су. Мои кредиторы, рассчитывавшие на успех, в бешенстве от провала и преследуют меня, как зайца. Меня продадут. Сегодня мне не на что обедать! И ты добродушно думаешь, что это может так и пройти? Значит, ты сделался глупым, таким же глупым, как член твоего большинства!
Министр улыбался. Он фамильярно похлопал меня по плечу и сказал:
— Я в твоем распоряжении, но ты не даешь мне выговорить; я вполне согласен дать тебе вознаграждение.
— У-до-вле-тво-ре-ние!
— Хорошо, удовлетворение!
— Полное?
— Полное! Приходи через несколько дней. Я тогда, несомненно, буду в состоянии дать тебе его. А пока вот сто луидоров. Это все, что осталось у меня от секретных фондов.
Он мило, с дружеской веселостью, прибавил:
— Полдюжины таких молодцов, как ты… И нет больше бюджета!
Эта щедрость, очень значительная, чего я не ожидал, была в состоянии немедленно успокоить мои нервы. Я положил в карман — все еще ругаясь, потому что не хотел показать себя ни обезоруженным, ни довольным — два билета, протянутые мне с улыбкой моим другом. И с достоинством удалился.
Следующие три дня я провел в самом низком дебоше.
II
Позвольте мне еще одно отступление. Может быть, небезразлично будет сказать, кто я такой и какого происхождения…
Таким образом будет лучше выяснена ирония моей судьбы.
Я родился в провинции в одной семье мелкой буржуазии, той честной мелкой буржуазии, экономной и добродетельной, которая, как нас учат официальные речи, и является настоящей Францией… Что делать! Особенно я этим не горжусь.
Мой отец был торговцем хлебом. Это был очень грубый, малоотесанный человек, но чудесно разбирался в делах. Он пользовался репутацией очень ловкого человека, и его ловкость состояла в «выставлении людей», как он говорил. Обмануть на качестве и весе товара, заставить заплатить два фунта за то, что ему самому стоило два су. И, когда можно было без большого скандала, заставить заплатить два раза, — вот каковы были его принципы. Например, он никогда не продавал овса, не намочив его предварительно в воде. Таким образом разбухшие зерна увеличивались вдвое и в объеме, и в весе, особенно когда они были приправлены мелким песком, — операция, которую мой отец всегда проделывал сознательно. Он также чудесно умел примешивать в мешки зерна спорыньи и другие ядовитые семена, отброшенные при просеивании, и никто лучше его не смешивал испорченную муку со свежей. В торговле ничто не должно пропадать, и в ней все придает вес. Моя мать, еще более жадная на мелкие барыши, помогала ему в изобретательных надувательствах, и жестокая, недоверчивая, стояла на страже кассы, как выставляют стражу перед врагами.
Строгий республиканец, горячий патриот, — он поставлял на один полк, — нетерпимый моралист, наконец, честный человек в популярном значении этого слова, мой отец казался безжалостным, не извиняющим ничего в нечестности других, особенно когда эта нечестность приносила ему убыток. Тогда он был неиссякаем в речах о необходимости честности и добродетели. Одной из самых важных его мыслей было, что в строгай демократии их необходимо сделать обязательными, как обучение, налоги. Раз он заметил, что один возчик в течение пятнадцатилетней службы обкрадывал его. Немедленно он попросил арестовать его. На суде возчик оправдывался, как только мог:
— Но у хозяина только и был вопрос — «выставить» кого-нибудь. Когда он одурачит какого-нибудь покупателя, то он этим хвалится, как хорошим поступком. «Все — это уметь вытягивать деньги, — говаривал он, — а какое дело, откуда и как они вытягиваются? Продать старого кролика за хорошую корову, — вот весь секрет торговли». Ну, что же! Я и поступил, как сам хозяин поступал со своими покупателями. Я выставил его.
Этот цинизм не понравился судьям. Они осудили возчика на два года тюрьмы, не за то только, что он украл несколько килограммов хлеба, но, главным образом, за то, что оклеветал один из старейших торговых домов округа. Торговый дом, основанный в 1794 году, и старинная прочная и непреклонная честность которого восхищала весь город от мала до велика.
Я помню, что вечером после этого знаменитого суда мой отец собрал у себя несколько приятелей, таких же торговцев, как он сам, и так же, как он, проникнутых этим просительным принципом «выставлять людей», — этой душой торговли. Что они негодовали по поводу предательских показаний возчика, вы сами должны понимать. Только об этом и говорили до полуночи. И посреди восклицаний, афоризмов, споров и маленьких стаканчиков выжимок вина, которыми ознаменовали этот памятный вечер, я удержал следующее правило, которое было, так сказать, моралью этого происшествия и в то же время синтезом моего воспитания:
— Взять что-либо у кого-нибудь и присвоить его, это — воровство. Взять что-либо у кого-нибудь и передать его другому в обмен на сколько возможно большее количество денег, это — торговля. Воровство тем больше глупо, что оно довольствуется только одним барышом, часто опасным, тогда как торговля приносит два барыша без риска.
Вот в такой нравственной атмосфере я рос и развивался, в некотором роде совсем один, без другого руководителя, кроме ежедневного примера моих родителей. При мелочной торговле дети в большинстве случаев бывают предоставлены самим себе. Заняться их воспитанием нет времени. Они растут, как могут, смотря по своей природе и под вредным влиянием среды, большей частью низменной и ограничeнной. Самопроизвольно и без чьего-либо принуждения, я подражал и принимал участие в домашних мелочах. С десятилетнего возраста у меня не было другого понятия о жизни, как о воровстве, и я был уверен, — о, вполне бессознательно, уверяю вас! — что «выставление людей» составляет единственное основание всех социальных отношений.
Колледж определил странное и извилистое направление, которое я должен был дать своему существованию, потому что именно там я узнал того, кто позже должен был сделаться моим другом, знаменитым министром, Эжена Мортена.
Сын виноторговца, приготовляемый к политической деятельности, как я к торговле своим отцом, который был главным избирательным агентом в округе, вице-президентом комитета гамбеттистов, освоителем различных лиг, групп сопротивления и профессиональных синдикатов, — Эжен с детства таил в себе душу «настоящего государственного человека».
Он внушал нам уважение своим очевидным превосходством в нахальстве и неделикатности, а также особенной манерой говорить, торжественно и пусто, что возбуждало наш энтузиазм. Кроме того он получил от отца полезную и завоевывающую манию к организации. В несколько недель он быстро преобразил двор колледжа во всевозможные виды ассоциаций и подассоциаций, комитеты и подкомитеты, в которые он выбирался сразу президентом, секретарем и казначеем. Тут были: ассоциации игроков в мяч, в волчок, в чехарду, ходоков, комитет неподвижной гимнастики, лига трапеции, синдикат бега со сжатыми ногами и т. д. Всякий член этих разнообразных ассоциаций должен был вносить в центральную кассу, то есть в карманы нашего товарища, месячный взнос в пять су, который, кроме других преимуществ, давал право на получение трехмесячного журнала, издаваемого Эженом Мартеном для пропаганды идей и защиты интересов этик многочисленных группировок, «автономных и солидных», по его словам.
Дурные инстинкты, одинаковые у обоих, и сходные аппетиты скоро сблизили нас, его и меня, и из нашей тесной дружбы создали жадную и постоянную эксплуатацию наших товарищей, гордившихся вступлением в синдикаты. Я очень скоро осознал, что в этом сообществе не я был самым сильным; но в виду именно этого сознания я только еще прочнее прицеплялся к судьбе своего честолюбивого товарища. Не надеясь на равный раздел, я всегда был уверен, что получу кое-какие крохи… Тогда они удовлетворяли меня. Увы! — я никогда не получал ничего, кроме крошек от пирогов, пожираемых моим другом.
Позже я встретился с Эженом при одном трудном и печальном обстоятельстве моей жизни. В силу желания «выставить кого-нибудь», мой отец в конце концов был выставлен сам и не в переносном смысле, как он слышал от своих клиентов. Несчастная поставка, отравившая, кажется, целую казарму, была причиной того плачевного приключения, которое закончило полное разорение нашего торгового дома, основанного в 1794 году. Мой отец, может быть, пережил бы свой позор, потому что он знал бесконечную снисходительность той эпохи; он не мог пережить разорения. Апоплексический удар унес его в один прекрасный вечер. Он умер, оставив нас, мою мать и меня, без средств.
Не имея возможности больше расчитывать на него, я был принужден выпутываться лично и, вырвавшись из материнских причитаний, сбежать в Париж, где Эжен Мортен принял меня наилучшим образом.
Он понемногу поднимался. Благодаря парламентским протекциям, искусно эксплуатируемы м, гибкости своей натуры, своему полнейшему отсутствию разборчивости, он начинал заставлять с уважением говорить о себе в прессе, в политике и финансах. Тотчас же он воспользовался мною для грязных делишек, и я также не замедлил, постоянно живя в его тени, добиться некоторой доли его значения, которым я не сумел воспользоваться, как должен был бы сделать. Постоянства в нечистоте, — вот чего больше всего мне недоставало. Я ничуть не испытывал запоздалых угрызений совести, сожалений, мимолетных желаний честности, нет, во мне есть какая-то дьявольская фантазия, преследующая и необъяснимая развратность, заставляющая меня вдруг, безо всякой видимой причины, бросать великолепно идущие дела, разжимать пальцы на самом лучшим образом сжатом горле. Обладая практическими качествами первого сорта, очень тонким пониманием жизни, смелостью задумать невозможное, исключительной способностью даже выполнить его, — у меня не было упрямства, необходимого деловому человеку. Нет ли, может быть, под негодяем, какой я есть, нет ли погибшего поэта? Нет ли мистификатора, которому нравится мистифицировать самого себя?
Однако в предвидении будущего и чувствуя, что, возможно, наступит день, когда мой друг Эжен захочет избавиться от меня, постоянно являвшегося для него гнетущим прошлым, я имел ловкость скомпрометировать его в скандальных историях и предусмотрительно сохранил о них в своих руках неоспоримые доказательства. Под боязнью падения Эжен должен был вечно таскать меня за собой, как каторжное ядро.
Официально у Эжена была одна любовница. Звали ее графиня Борская. Не очень молодая, но еще свежая и аппетитная, то полька, то русская, а часто и австриячка, — она, понятно, считалась немецкой шпионкой. Ее салон часто посещался нашими знаменитейшими государственными людьми. Там делалась политика и там, при изобилии флирта, началось много значительных и подозрительных дел. Между самыми постоянными посетителями этого салона выделялся один левантринский финансист, барон К. — молчаливая личность цвета тусклого серебра, с мертвыми глазами, волновавший биржу своими колоссальными операциями. Было известно, по крайней мере, говорили, что за этой непроницаемой и молчаливой маской, действует одна из самых могущественных империй Европы. Чистейшее романтическое предположение, несомненно, потому что в этой испорченной среде никогда не известно, чем надо больше всего восхищаться: ее испорченностью или ее легковерием. Как бы то ни было, графиня Борская и мой друг Эжен Мортен страстно желали войти в игру таинственного барона, тем более страстно, что последний скрытым, но несомненным попыткам противопоставлял не менее скрытую и несомненную холодность. Я даже думаю, что эта холодность довела его до подачи совета, результатом которого для наших друзей была печальная развязка. Тогда они придумали напустить на упрямого банкира одну очень хорошенькую дамочку, интимную подругу дома, и в то же время напустить меня на эту очень хорошенькую дамочку, которая, под их влиянием, была вполне расположена милостиво допустить нас обоих, банкира, как серьезного человека, а меня для развлечения. Их расчет был прост, и я понял его с первого же момента: устроить меня на месте и таким образом я через дамочку, они — через меня сделаются владeльцами секретов барона, вырываемых в моменты нежного забвения. Это можно было назвать политикой концентрации.
Увы! — демон развратности, посещающий меня в решительную минуту, когда я должен действовать, захотел, чтобы все произошло иначе и чтобы этот прекрасный проект разрешился очень некрасиво. За обедом, который должен был скрепить этот вполне парижский союз, я по отношению к дамочке выказал себя таким грубым, что она, вся s слезах, сконфуженная и рассерженная, скандально покинула салон и вернулась к себе вдовою любви нас обоих.
Маленький праздник был оборван… Эжен утащил меня в карету. Мы спускались по Елисейским Полям в трагическом молчании.
— Куда ты хочешь, чтобы я доставил тебя? — спросил меня великий человек, когда мы повернули за угол Королевской улицы.
— В вертеп… на бульвар… — ответил я с насмешкой. — Я тороплюсь немного подышать чистым воздухом в обществе честных людей.
И вдруг, с жестом отчаяния, мой друг ударил меня по колену и — о! я всю жизнь буду видеть перед собой злобное выражение его губ и ненавистный взгляд! — он вздохнул:
— Ну! Ну! Никогда из тебя ничего не выйдет. — Он был прав. И на этот раз я не мог обвинять его, что тут была его ошибка.
Эжен Мортен принадлежал к той школе политиков, которую под знаменитым именем оппортунистов, Гамбетта напустил на Францию, как стаю голодных хищных зверей. Он добивался власти только из-за материальных наслаждений, доставляемых ею, и из-за денег, которые такие опытные люди, как он, умеют черпать из грязных источников. Не знаю, почему, впрочем, я приписываю одному Гамбетте историческую честь изобретения этой угрюмой падали, продолжающей существовать и до сих пор, несмотря на все Панамы. Конечно, Гамбетта любил разврат: в этом демократе был развратник или, скорее, дилетант разврата, наслаждавшийся запахом человеческого разложения; но необходимо сказать в его защиту и в прославление их, друзья, которыми он окружал себя и которых случай еще более, чем разумное избрание, привязывал к его короткому счастью, имели силу самим и за свой риск броситься на вечную добычу, над которой столько челюстей ломали свои бешеные зубы.
Прежде чем дойти до Палаты, Эжен Мортен прошел все ремесла журналиста, даже самые нижние по своей планке, даже самые темные. Никогда не делаешь выбора, с чего начать: берешь то, что подвернется под руку… Страстным и быстрым — и, однако, обдуманным было его вступление в парижскую жизнь, — я разумею ту жизнь, которая ведет от редакционных контор к парламенту, по пути заходя в полицейскую префектуру.
В то время не было ни одного значительного шантажа или какого-нибудь нечистого дела, в котором наш честный Эжен, раздираемый нетерпящей нуждой и разрушительными аппетитами, не был бы в некотором роде таинственной и живой душой. У него был гений соединить какую-нибудь большую часть прессы, чтобы прекрасно проводить обширные операции. Мне знакомы в этом запретном роде комбинации, составляющие чистейшие chef-d'oeuvre'ы, и обнаруживавшие в этом мелком провинциале, быстро обтесавшемся, удивительного психолога и чудного администратора дурных инстинктов. У него была скромность не хвастаться чистотою своих проделок и драгоценное искусство, пользуясь другими, никогда не выставлять свою личность в минуты опасности. С неизменной ловкостью и великолепным знанием сферы деятельности он умел всегда избегать, обходя их, зловонные и грязные лужи исправительной полиции, в которые так неловко попадают многие. Правда, моя помощь — я говорю это без тщеславия — во многих обстоятельствах была ему не бесполезна.
Впрочем, это был чудный малый, да, на самом деле, чудный малый. Его можно было упрекнуть только в неловкости в манерах, постоянный признак его провинциального воспитания, и в вульгарных мелочах его слишком недавней элегантности, которые выказывались очень некстати. Но все это было только наружностью, великолепно скрывавшей перед плохими наблюдателями все то, что было в нем тонкого: проницательное чутье, хитрую чуткость, все, что в его душе было жестокого и ужасного по упрямству.
Чтобы понять его душу, надо было видеть, — увы! сколько раз я видел это! — две складки, которые, в известные моменты, ослаблялись, опускали оба угла его губ и придавали его рту ужасное выражение… Да, это был чудный малый!
Двумя принятыми дуэлями он заставил замолчать неблагосклонность, которая шипит вокруг новых личностей, а его природная веселость, его добродушный цинизм, который охотно принимался за любезную парадоксальность, а также и его романы в конце концов завоевали ему репутацию, спорную, но удовлетворительную для будущего государственного человека. Он также имел чудесную способность говорить в продолжение пяти часок и все равно, по какому угодно поводу и никогда не высказать ни одной мысли. Его не прекращающееся красноречие лилось без остановки, без устали: медленный, монотонный, убийственный дождь политического словаря, — то же самое по морским вопросам, как и по школьным реформам, по финансам, как и по изящным искусствам, по земледелию и по религии. Услужливый, когда это ничего ему не стоило, великодушный, даже расточительный, когда это должно было во много раз вознаградить его, высокомерный и раболепствующий, смотря по обстоятельствам и по людям, скептик без элегантности, развратник без утонченности, энтузиаст без искренности, остроумный без находчивости, — он был симпатичен всем. Поэтому его быстрое возвышение никого не удивило, не оскорбило. Напротив, оно было принято благосклонно различными политическими партиями, потому что Эжен не считался суровым сектантом, не разбивал ничьей надежды, ничьего честолюбия, и не упускалось из виду и то, что при случае было возможно сговориться с ним. Самое главное — дать цену.
Таким был человек, таков «чудный малый», на которого я возлагал свою последнюю надежду и который на самом деле держал в своих руках мою жизнь и мою смерть.
Можно заметить, что в этом едва очерченном наброске моего друга я скромно прятал себя, хотя я сильно и часто любопытными способами помогал его судьбе. Я много мог бы рассказать случаев, поверьте мне, не очень поучительных. К чему полная исповедь, когда угадывается вся моя бесчестность и так, не подчеркивая ее больше? А потом моя роль, рядом с этим смелым и осторожным мошенником, всегда была — я не скажу, незначительной, о, нет! — не достойной уважения. Вы рассмеялись бы мне в лицо, — но она осталась почти секретной. Да будет позволено мне сохранить эту темноту, почти молчаливую, которой мне хотелось бы покрыть эти годы свирепой борьбы и мрачных махинаций… Эжен не «признавал» меня. И я сам, благодаря довольно странному остатку чистоты, иногда испытывал непобедимое отвращение при одной мысли, что я мог сойти за его подставное лицо…
Впрочем, мне иногда случалось на целые месяцы терять его из виду, «бросать» его, как говорится, отыскивая средства в игорных домах, на бирже, в уборных дам полусвета, средства, которые мне надоедало требовать с политики и отыскание которых более подходило к моим вкусам по лени и по случайностям… Иногда, охваченный внезапной поэзией, я скрывался в каком-нибудь забытом уголке провинции и, перед лицом природы, наслаждался чистотой, безмолвием, нравственным возрождением, что, — увы! — недолго всегда продолжалось. И я в минуты тяжелых кризисов возвращался к Эжену. Он не всегда принимал меня сердечно, как я требовал от него. Было видно, что он очень хотел бы избавиться от меня. Но я сурово и сухо призывал его к действительности нашего взаимного положения.
Раз я ясно заметил, как в его глазах засветился огонек убийства. Я не обеспокоился и, тяжело опустив ему руку на плечо, как жандарм поступает с вором, сказал ему лукаво:
— А потом? К чему это поведет тебя? Сам мой труп обвинит тебя. Итак, не будь дураком! Я позволил тебе войти туда, куда ты хотел. Никогда я не препятствовал твоему честолюбию. Наоборот: я работал для тебя. Как мог. Честно. Разве неправда? Неужели ты думаешь, что должно быть весело для меня видеть тебя вверху, вращающимся в блеске, а себя внизу, глупо шлепающим по грязи? И, однако, одним щелчком это чудесное счастье, так усердно воздвигнутое нами обоими…
— О! нами обоими! — свистнул Эжен.
— Да, нами обоими, каналья! — повторил я, раздраженный этой несвоевременной поправкой. — Да, одним щелчком, одним дуновением, ты это знаешь, я могу свергнуть вниз это чудесное счастье. Мне достаточно сказать только одно слово, мошенник, чтобы свести тебя от власти в каторгу, сделать из министра, каков ты сейчас, — ах, какая ирония! — каторжника, которым ты должен был бы быть, если бы существовало еще правосудие и если бы я не был самым последним из подлецов. Пусть! Я не делаю этого жеста, я не произношу этого слова. Я позволю тебе пользоваться восхищением людей и уважением иностранных дворов, потому что — понимаешь ли? — я нахожу это чудовищно смешным. Единственно, я хочу своей доли, понимаешь? Своей доли! А что именно я у тебя прошу? Я прошу у тебя мелочи. Ничего. Крошек. Тогда как я мог бы требовать всего, всего, всего, всего!.. Прошу тебя, не раздражай меня больше, не доводи меня до конца. Не заставляй меня делать драму. Потому что тогда, когда с меня довольно будет жизни, довольно грязи, этой грязи — твоей грязи, невыносимый запах которой я всегда чувствую на себе. Ну, тогда его превосходительство Эжен Мортен не будет смеяться, старина. Клянусь тебе в этом.
Тогда Эжен, с натянутой улыбкой, в то время, как складки его опустившихся губ придавали всей его физиономии выражение подлого страха и в то же время бессильного желания преступления, сказал мне:
— Но ты сумасшедший, раз говоришь мне все это! А к тому же зачем? Отказывал я тебе в чем-нибудь, простокваша?
И весело, усиливая жесты и гримасы, которые ошеломили меня, он комично прибавил:
— Хочешь орден, а?
Да, на самом деле это был чудесный малый!
III
Через несколько дней после бурной сцены, следовавшей за моим таким пламенным провалом, я встретил Эжена в одном дружеском доме, у доброй г-жи Г., куда мы оба были приглашены на обед. Наше рукопожатие было сердечным. Можно было сказать, что ничего неприятного не было между нами.
— Тебя совсем не видно, — упрекнул он меня тем тоном равнодушной дружбы, который у него был только вежливой ненавистью. — Значит, ты был болен?
— Да нет, я просто ездил забыться.
— Кстати, ты стал благоразумнее? Я очень хотел бы поговорить с тобой минут пять. Да, после обеда?
— Значит, есть новости? — спросил я с желчной улыбкой, по которой он мог видеть, что я не позволю провести себя, как не имеющую значения вещь.
— Новости? — произнес он. — Нет, ничего, один проект в воздухе. Надо посмотреть еще.
У меня на губах была совершенно готовая дерзость, когда г-жа Г., огромный пакет волнующихся цветов, пляшущих перьев, распущенных перьев, прервала это начало разговора. И вздохнув: «Ах, мой дорогой министр, когда же вы избавите нас от этих ужасных социалистов?» — она увлекла Эжена к группе молодых женщин, которые манерой, какой они были расставлены в одном углу залы, произвели на меня впечатление нанятых, как в кафе-концертах ночные создания, которые своими необыкновенными декольте и своими занятными туалетами обманывают глаз.
У г-жи Г. была такая репутация, будто она играет важную роль в обществе и в управлении. Посреди бесчисленных комедий парижской жизни, приписываемое ей влияние было не самым комическим. Мелкие историографы мелких дел того времени серьезно рассказывали, приправляя свои рассказы блестящими параллелями из прошлого, что ее салон был отправным пунктом и собранием политических карьер и литературных имен, — следовательно, сборным пунктом всех как молодых, так и старых честолюбцев. Доверяя им, именно там фабриковалась современная история, замышлялось падение и возвышение министерств, заключались, вперемежку с гениальными интригами и тонкими разговорами, — потому что это был салон для разговоров, — как внешние союзы, так и академические выборы. Сади-Карно, лично, — царствовавший тогда во французских сердцах, — говорят, относился с искусной осторожностью к этой опасной силе и, чтобы сохранить ее милость, он любезно посылал ей, за неимением улыбки, самые лучшие цветы из Елисейских садов и из городских оранжерей… Во времена своей или их молодости, — г-жа Г. не могла точно установить этого пункта хронологии, — будучи знакома с Тьером и Гизо, Кавуром и стариком Меттернихом, — эта античная особа сохраняла престиж, которым Республика любила украшаться, как традиционным изяществом, и ее салон пользовался выгодами посмертного блеска, который напоминал измельчавшей действительности настоящего эти знаменитые имена, приплетаемые ко всякому поводу.
Впрочем, в этот избранный салон шли, как на ярмарку, и я никогда не видел — я, видевший так много, — более странной социальной смеси и более смешного светского маскарада. Принимающие участие в политике, в журналистике, в космополитизме, в клубах, в свете, в театрах и соответствующие женщины, — все принимались ею и все входили в счет. Никто не был одурачен этой мистификацией, но всякий был заинтересован, чтобы подняться самому, поднять явно позорную среду, в которой многие из нас черпали не только мало почетные средства, но еще и единственное оправдание собственного своего существования. Впрочем, я думаю, что большинство салонов, таких знаменитых прежде, где собирались под самыми разнообразными видами блуждающие аппетиты политики и честолюбия литературы, довольно точно должны были походить на данный салон… И мне также не доказали, что этот салон существенно отличался от других, которыми перед нами хвалится по всякому поводу с лирическим энтузиазмом за их изящную моральную выдержку.
На самом-то деле г-жа Г., освобожденная от раздувания рекламами и от поэзии легенд, ограниченная строгим характером ее светлой индивидуальности, была только очень пожилая дама, совершенно простая, плохо воспитанная, в высшей степени порочная к тому же, которая, не будучи в состоянии более выращивать цветок порока в своем собственном саду, растила его в садах других со спокойным бесстыдством, причем не знаешь, что в этом бесстыдстве больше всего достойно восхищения — наглость или бессознательность. Профессиональную любовь, от которой она должна была отказаться, она заменила манией устраивать экстрасупружеские союзы и разлады, в которых для нее было радостно следить за ними, направлять их, покровительствовать им, прикрывая их, и, таким образом, прикосновением с другими запретными чувствами подогревать свое старое сморщенное сердце. Всегда можно было быть уверенным, что у этой великой политической деятельницы найдешь с благословением Тьера и Гизо, Кавура и старика Меттерниха — родственные души, совсем готовые адюльтеры, желания с поднятыми парусами, всевозможного рода любовь, приготовившуюся на выступление на час или на месяц: драгоценные средства в случае сентиментального разрыва для свободных вечеров•
Почему именно в этот вечер явилась у меня мысль пойти к г-же Г.? Не знаю. Потому что в этот вечер я был очень меланхоличен и не имел никакого желания развлекаться. Мой гнев на Эжена улегся, временно, по крайней мере. Его заменила страшная усталость, бесконечное отвращение, отвращение к самому себе, к другим, ко всему. С утра я серьезно думал о своем положении и, несмотря на обещания министра, — которому, впрочем, я решил не очень легко доверяться, — совсем не видел никакого подходящего выхода. Я понимал, что моему другу очень трудно было предоставить мне какое-нибудь официальное, постоянное положение, нечто почетно-паразитивное, административно вознаграждаемое, что дало бы мне возможность закончить свои дни мирно, уважаемым старцем, чиновником на пенсии. Прежде всего, вероятно, я скоро испортил бы это положение, потом со всех сторон поднялись бы конкурентские протесты во имя публичной нравственности и республиканской благопристойности, на которые запрошенный министр не знал бы, что ответить. Все, что он мог бы предложить мне, это, с помощью временных и убогих способов, несчастным бюджетным изворотом отсрочить неизбежный час моего падения. А потом я даже не мог вечно рассчитывать на этот минимум милости и протекции, потому что и сам Эжен не мог рассчитывать на вечную глупость публики. Тогда много опасностей угрожало бы кабинету и много скандалов, на которые повсюду делали бы все более и более ясные намеки некоторые газеты, недовольные своей долей в добыче, отравляли бы личную безопасность моего покровителя. Эжен держался у власти только наступательными выходками против непопулярных или побежденных партий, а также денежными подачками, которые, как я подозревал тогда и как позже было доказано, он получал из-за границы в объеме каждый раз на ливр тела отечества!
Помочь падению моего товарища, войти в доверие какого-нибудь возможного министерского лидера, через этого нового товарища приобрести как бы социальную невинность, — вот о чем я думал! Все меня толкало к этому, — моя натура, моя выгода, а также жестоко-сладостное удовольствие отомстить. Но я, не считая неуверенности и случайности, которыми сопровождалась эта комбинация, я не чувствовал в себе смелости на другой опыт, на начало подобных махинаций. Я сжег свою молодость с обоих концов. И я устал от этих опасных и ненадежных приключений, которые к тому же куда могли завести меня? Я испытывал умственную усталость, омертвение в суставах моей деятельности; все мои способности уменьшились, сжатые неврастений. Ах! Как я сожалел, что не шел прямыми жизненными путями! В то время я искренно желал только жалких радостей буржуазной регулярности; и я не хотел больше, я не мог больше выносить тех скачков счастья, тех превратностей нужды, которые не оставляли мне ни минуты отсрочки и превращали мое существование в вечную и мучительную тоску. Итак, что же со мною будет? Будущее представлялось мне печальнее и безнадежнее зимних сумерков, опускающихся на больничные палаты. И какую новую подлость предложит мне подлый министр сейчас, после обеда? В какую невылазную грязь захочет он погрузить меня и заставить исчезнуть навсегда?
Посреди сутолоки я глазами искал его. Он носился, как мотыль, вокруг женщин. Ничто ни в голове, ни в плечах не указывало, что он носил тяжелый груз своих преступлений. Он был беззаботен и весел. И, видя его в таком настроении, моя злость к нему увеличилась чувством двойной беспомощности нас обоих, его — бессилием спасти меня от бессчестья, моим — ускорить его бесчестье. Да! Ускорить его бесчестье!
Не было ничуть удивительно, что я, разбитый этими сложными и мучительными заботами, потерял свою жизненность и что красивые создания, выставляемые и подобранные г-жою Г. для удовольствия своих гостей, не производили на меня никакого впечатления. Во время обеда я казался чистейшим дураком и едва обращался с каким-нибудь словом к своим соседкам, прекрасные шеи которых сияли посреди драгоценностей и цветов. Можно было подумать, что моя выборная неудача была причиной этого мрачного расположения моего духа, обыкновенно веселого и любезного.
— Мужайтесь! — говорили мне. — Что за ерунда, вы молоды! Надо привыкать ко всему в политической карьере. В следующий раз наверстаете.
На эти фразы банального утешения, на вызывающие улыбки, на открытые шеи я мрачно отвечал:
— Нет… нет… Не говорите мне больше о политике. Это — подло! Не говорите мне больше о всеобщем голосовании. Это — идиотство! Я не хочу больше… я не хочу больше слышать, говорить об этом.
И г-жа Г., вдруг взволновавшаяся вокруг меня разноцветными и душистыми волнами цветов, перьев и кружев, шепнула мне на ухо с манерным замиранием и постыдным кокетством старой сводни:
— Понимаете ли, остается только одна любовь… Всегда существует только одна любовь! Попробуйте любви! Кстати, как раз сегодня вечером здесь есть одна молодая румынка… страстная, ах! И поэтесса, мой милый, и графиня! Я уверена, что она с ума сходит от вас. Впрочем, все женщины без ума от вас. Я представляю вас.
Я отказался от так грубо навязываемого предложения и в угрюмом молчании, нервный, ожидал конца этого нескончаемого вечера.
Раздираемый со всех сторон, Эжен только очень поздно смог присоединиться ко мне. Мы воспользовались тем, что одна знаменитая певица на минуту привлекла к себе всеобщее внимание, и удалились в какую-то маленькую курильню, освещенную слабым светом лампы на длинной подставке в розовом кропоне. Министр уселся на диван, закурил сигарету и, когда я небрежно сел против него верхом на стул и скрестил руки на спине, он важно сказал мне:
— Эти дни я много думал о тебе.
Несомненно, он ждал какого-нибудь слова благодарности, дружеского жеста, движения интереса или любопытства. Я оставался невозмутимым, стараясь сохранить тот вид высшего, почти оскорбительного хладнокровия, с которым и решился принять коварные предложения моего друга, потому что с начала вечера я старался убедить себя, что эти предложения должны быть коварными. Я нахально делал вид, что рассматриваю портрет Тьера, который за Эженом занимал верх панно, омраченный темными тенями боровшихся на его совершенно гладкой поверхности, все-таки выделяя белый хохол, который придавал особенное и полное выражение исчезнувшему облику. Шум праздника, смягченный спущенными занавесками, достигал до нас, как далекое жужжание. Покачивая головой, продолжал:
— Да, я много думал о тебе. Ну, трудно, очень трудно.
Снова он замолчал, казалось, раздумывая о важных вещах.
Мне хотелось продолжить это молчание, чтобы насладиться замешательством, в которое не могло не повергнуть моего друга это молчаливо-насмешливое отношение. Итак, еще лишний раз я увижу этого дорогого покровителя перед собой смешным и без маски, может быть, умоляющим! Однако, он оставался спокойным и, казалось, ничуть не беспокоился из-за слишком очевидной враждебности моего поведения.
— Ты не веришь мне? — сказал он твердым и спокойным голосом. — Да, я чувствую, что ты не веришь мне. Ты воображаешь, что я думаю, как бы только подсматривать за тобой… как другие… ведь правда? Ну, ты ошибаешься, мой милый. Впрочем, если этот разговор для тебя скучен… ничего нет легче прервать его.
Он как будто хотел встать.
— Я этого не говорю. — Запротестовал я, переводя взгляд с хохолка Тьера на холодное лицо Эжена. — Я ничего не говорил.
— В таком случае выслушай меня. Ты хочешь, чтобы мы хоть раз с полной откровенностью поговорили о наших взаимных отношениях?
— Хорошо. Я слушаю.
Столкнувшись с его самоуверенностью, я постепенно терял свою. В противовес тому, что я слишком тщеславно торжествовал, Э жен завоевывал свой авторитет передо мной. Я чувствовал, как он опять вырывается у меня. Я чувствовал это по свободе жеста, по почти изяществу движений, по твердости голоса, по полному обладанию собой, которые проявлялись у него только тогда, когда он замышлял свои самые рискованные проекты. Он тогда проявлял величавую обольстительность, какую-то притягательную силу, которой, даже предвидя это, трудно было сопротивляться. Я знал это. Однако, часто к своему несчастью, я испытывал на себе действие этого вредного очарования, которое не было для меня неожиданным. Что делать! Вся храбрость покинула меня; моя ненависть ослабела, и невольно я, снова почувствовав к нему доверие, так полно забыл прошлое, что это человек, в самые темные уголки непреклонной и грязной души которого я проник, этот человек стал казаться мне великодушным другом, героем доброты, спасителем.
И вот — ах! — я хотел бы быть в состоянии передать выражение силы, преступления, простодушия и благосклонности, которые он вложил в свои слова, — вот он мне что сказал:
— Ты довольно хорошо присмотрелся к политической жизни, чтобы знать, что существует степень могущества, когда самый бесчестный человек защищён сам от себя своими собственными низостями, а еще более от других их низостями… Для государственного деятеля есть только одна непоправимая вещь: честность! Честность неподвижна и бесплодна; она не понимает обращения в дело аппетитов и честолюбий, — единственных двигателей, благодаря которым создается что-либо продолжительное. Доказательством может служить этот дурак Фавро, единственный честный человек н кабинете, и в то же время единственный человек, политическая карьера которого, по общему мнению, окончательно и навсегда погибла. Это говорит тебе, мой дорогой, что ведущаяся против меня кампания совершенно меня не волнует.
На вырвавшийся у меня двусмысленный жест он продолжал:
— Да, да. Я знаю — поговаривают о моей отставке, о моем близком падении, о жандармах, о Мазасе, «Смерть ворам!». Великолепно! О чем не говорят?! А потом. Это для меня смешно, вот и все. И ты сам, под предлогом, что ты считаешь себя замешанным в некоторые из моих дел — в которых ты заведовал, будем говорить о прошлом, только мелочами — под предлогом, что ты обладаешь, — по крайней мере, ты везде кричишь об этом, — несколькими важными бумагами, о которых, мой дорогой, я беспокоюсь, как вот об этом.
Не прерывая речи, он показал мне свою погасшую сигаретку, которую он сейчас же раздавил в пепельнице, стоявшей на маленьком лакированном столике.
— Ты сам, ты считаешь, что можешь владеть мною посредством угроз, заставлять меня петь, как какого-нибудь подозрительного банкира? Ты ребенок. Подумай немного. Мое падение? Не можешь ли ты сказать мне, кто же осмелится взять на себя ответственность за подобное безумие? Кто же не знает, что оно повлечет крушение слишком многих дел, до которых больше, чем до меня, нельзя дотрагиваться под страхом самоотречения, под страхом смерти? Потому что не одного ведь меня свергнут. Не одного меня украсят колпаком каторжанина. Ведь все правительство, весь парламент, вся Республика причастна, что бы они там ни делали, к тому, что они называют моей продажностью, моим взяточничеством, моим преступлением. Они думают, что они держат меня в своих руках, а это я держу их! Будь покоен, я крепко держу их.
И он жестом показал, как сжимает воображаемое горло.
Выражение его рта, углы которого опустились, сделалось отвратительным, и на яблоках глаз показались пурпурные жилки, придавшие его взгляду непреклонное выражение убийцы. Но он быстро овладел собой, закурил другую сигаретку и продолжал:
— Пусть свергнут кабинет, пусть! И я помогу им в этом. По милости этого честного Фавро, мы вовлечены в целую серию неразрешимых вопросов, логическое решение которых таково, что его нельзя добиться. Получается министерский кризис, с совершенно новой программой. Прошу тебя, заметь, что я не причастен к этим затруднениям, или, по крайней мере, кажусь таким. Моя ответственность — простая парламентская фикция. В кулуарах Палаты и в известной части прессы меня нарочно не считают солидарным со своими коллегами. Итак, мое личное положение остается чистым, понятно, в политическом отношении. Даже больше выносимый группами, вожаков которых я сумел заинтересовать своей судьбой, поддержанный высшими банкирами и большими компаниями, я делаюсь человеком, необходимым в новом составе, я — президент образуемого завтра совета. И вот в тот момент, когда со всех сторон говорят о моем падении, я достигаю вершины своей карьеры! Сознайся, мой мальчик, что это — смешно и что они еще не убили меня.
Эжен повеселел. Мысль, что для него нет совсем промежуточного места между двумя полюсами: президенство в Совете или Мазас, придала ему живости. Он придвинулся ко мне и, похлопывая меня по коленям, как он делал в моменты непринужденности и веселья, повторил:
— Нет, сознайся, что это смешно!
— Очень смешно, — ответил я. — А я при чем же здесь буду?
— Ты? Вот при чем. Ты, милый мой, тебе надо уйти отсюда, исчезнуть. На год, на два. Не все ли равно. Для тебя необходимо, чтобы о тебе забыли.
Так как я собирался протестовать, он поспешил добавить:
— Но что же делать? Разве это моя вина, — воскликнул Эжен, — что ты глупо прозевал все великолепные положения, которые я давал тебе в руки здесь? Год, два года — это пролетит быстро. Ты вернешься с новой девственной чистотой, и тогда я дам тебе все, чего ты ни захочешь. До тех пор ничего, и ничего не могу. Честное слово. Ничего не могу.
Последний гнев клокотал во мне, но закричал я мягким голосом:
— Все пропало!
Эжен улыбнулся, понимая, что мое сопротивление окончилось этим отрывчатым криком.
— Ну! Ну! — сказал он мне с добродушным видом. — Не вешай головы. Выслушай меня. Я много думал. Тебе необходимо удалиться отсюда. В твоих интересах, для твоего будущего, я только и нашел этот исход. Послушай. Ты, как бы это сказать, ты не эмбриолог?
Он прочитал мой ответ в том испуганном взгляде, который я бросил на него.
— Нет. Ты не эмбриолог. Досадно. Очень досадно.
— Почему ты спрашиваешь меня об этом? Что это еще за ерунда?
— Та, что в данный момент я мог бы иметь значительный кредит — о! относительно! — Ну, наконец, недурной кредит на одну научную миссию, которую с удовольствием доверил бы тебе.
И, не давая мне времени ответить, короткими, смешными фразами, сопровождаемыми комическими жестами, он объяснил мне, в чем дело.
— Дело в том, что надо отправиться в Индию, на Цейлон, по-моему, чтобы отыскать там в море, в заливах, изучить там то, что ученые называют пеластической протоплазмой — понимаешь? И посреди брюхоногих, кораллов, равноногих, звезд, сифонофор, голотурий и радиоларий, что еще там? отыскать первоначальную клетку. Слушай хорошенько: протоплазмический initium органической жизни, наконец, что-нибудь в этом роде. Это великолепно — и как видишь — очень просто.
— Очень просто! На самом деле! — машинально пробормотал я.
— Да, но вот, — заключил этот действительно государственный деятель, — ты не эмбриолог.
И он опять добавил с печальной благосклонностью:
— Идиотски глупо.
Мой покровитель несколько минут думал. Я же сам молчал, не имея времeни прийти в себя от изумления, в которое меня повергло такое неожиданное предложение.
— Господи! — заговорил он, — к счастью, есть еще другая миссия, потому что у нас на самом деле много миссий и неизвестно, на что тратить собранные деньги. Здесь дело в том, если я хорошо понял, что надо отправиться на острова Фиджи и Тасмания, чтобы изучить различные системы тюремной администрации, существующие там, и их применение к нашему социальному строю. Только это менее весело. И я должен предупредить тебя, что кредиты не огромные. И еще там все людоеды, знаешь. Ты думаешь, что я шучу, а? И что рассказываю тебе сказки? Нет, мой дорогой, все миссии в этом роде. Ах!
Эжен рассмеялся лукаво-сдержанным смехом.
— Есть еще тайная полиция. Э, может быть, тебе там подыскать хорошее положение? Что ты на это скажешь?
При тяжелых обстоятельствах мои умственные способности работают, возбуждаются, моя энергия удваивается, и я бываю подвержен внезапному повороту мыслей, быстрым решениям, которые меня всегда удивляют, и которые часто помогают мне.
— Ба! — воскликнул я. — После всего, я вполне могу быть эмбриологом, раз в жизни. Чем я рискую? Наука от этого не умрет — наука многих уже видела. Понятно. Я принимаю миссию на Цейлоне.
— И ты прав… Браво! — захлопал в ладоши министр. — Тем более, что эмбриология, мой мальчик, Дарвин, Геккель, Карл Фогг — вообще это должно быть ужасной ерундой. А, милашка, тебе там не придется скучать. Цейлон чудесен. Там, кажется, есть необыкновенные женщины — маленькие кружевницы красоты, темперамента. Это — земной рай. Приходи завтра в министерство. Мы официально покончим дело. А пока тебе нет нужды кричать об этом по крышам всем, потому что, понимаешь ли, я тут играю опасную для меня шутку, которая может обойтись мне дорого. Идем.
Мы поднялись. И когда я возвращался в зал под руку с министром, Эжен сказал мне с очаровательной иронией:
— А? Все-таки! Клетка? Если ты ее найдешь? Как знать? Как ты думаешь, не вытянется нос у Бергло?
Эта комбинация придала мне немного смелости и расположение духа. Нет, особенно она мне не нравилась. Этому знаменитому званию эмбриолога я предпочел бы какое-нибудь обыкновенное хорошее место, например, или хорошо оплачиваемое кресло в государственном совете. Но надо стать рассудительным, к тому же, приключение было не без некоторой занимательности. Из простого бpодяги политического строя, каким я был минуту назад, не делаются одним мановением министерской палочки знаменитым ученым, собирающимся раскрывать тайны у самых источников жизни, и не испытывая от этого никакой мистификаторской гордости и никакой смешной надменности.
Вечер, начавшийся меланхолически, окончился весело.
Я приблизился к г-же Г., которая, очень оживленная, устраивала любовь и вела адюльтер от группы к группе, от пары к паре.
— А эта восхитительная румынская графиня, — спросил я ее, — все еще без ума от меня?
— Все еще, дорогой мой.
Она взяла меня под руку. Перья ее растрепались, цветы увяли, кружева смялись.
— Идите! — сказала она. — Она флиртирует в маленьком салоне Гизо с принцессой Онан.
— Как, и она?
— Но, мой милый, — возразила эта великая политическая дама, — в ее возрасте и при ее поэтической натуре на самом деле было бы плохо, если бы она не испытала всего.
IV
Приготовления мои были окончены быстро. Мне помогло в этом то, что молодая румынская графиня, сильно влюбившаяся в меня, решила помочь мне своими советами и, — честное слово, я говорю это не без стыда, — также своим кошельком.
Впрочем, меня во всем преследовал успех.
Моя миссия началась прекрасно. По какому-то исключительному изменению бюрократических обычаев, через неделю после того решительного разговора в салоне г-жи Г., я, безо всяких затруднений, безо всяких отсрочек, получил следуемые деньги. Они были довольно щедро высчитаны, и я не осмеливался думать, чтобы они были таковы, так как я знал «щедрость» правительства в таких случаях и мелкие суммы, которыми так по-нищенски оплачивают ученых в миссиях, настоящих ученых. Этой неожиданной щедростью я, несомненно, обязан тому обстоятельству, что, не будучи совсем ученым, я больше, чем кто-либо другой нуждался в более крупных средствах, чтобы играть эту роль.
Было предусмотрено содержание двух секретарей и двух слуг, покупка очень дорогих анатомических инструментом, микроскопов, фотографических аппаратов, складных лодок, подводных колоколов, стеклянных бокалов для научных коллекций, охотничьих ружей и клеток для перевозки живыми пойманных животных. Действительно, правительство великолепно обделало дело, и я могу его за это только похвалить. Само собой разумеется, что я ничего не пил из этих impedimenta и что я решил не брать с собой никого, рассчитывая на свою только изобретательность при изворачивании посреди незнакомых лесов науки и Индии.
Я воспользовался свободным временем, чтобы познакомиться с Цейлоном, с его нравами, природой, и чтобы составить себе представление о жизни, какую я буду вести там, под этими ужасными тропиками. Даже отбросив из рассказов путешественников все преувеличение, восхищение и всю ложь, то, что я прочел, восхитило меня, особенно одна подробность, сообщенная известным немецким ученым, что в округе Коломбо посреди феерических садов на берегу моря существует чудная вилла, bungalow, как говорят, в которой один богатый и причудливый англичанин содержит род гарема, в котором великолепными женскими экземплярами представлены все расы Индии, начиная с черных тамулянок и кончая змееподобными баядерками Лагора и демонскими вакханками Бенареса. Я твердо решил найти средство пробраться к этому любителю полигамии и там производить свои исследования по сравнительной эмбриологии.
Министр, к которому я пришел проститься и сообщить о своих проектах, одобрил все эти предложения и очень весело похвалил мою склонность к экономии. Расставаясь со мной, он сказал мне с взволнованным красноречием, — а я сам, под волною его слов испытывал умиление, чистейшее, освежающее и высшее умиление честного человека. Итак, он сказал:
— Поезжай, мой друг, и возвращайся к нам более сильным, возвращайся к нам новым человеком и прославленным ученым. Твоя ссылка, которой, я не сомневаюсь, ты сумеешь воспользоваться для великих дел, закалит твою энергию для будущей борьбы. Она закалит их в самых источниках жизни, в колыбели человечества, которое… человечества, от которого… Поезжай. И если, возвратившись, ты найдешь, чему я не могу поверить, если ты найдешь, говорю я, неприятные преследования, воспоминания, препятствия, враждебность, затруднение, наконец, к исполнению твоих справедливых требований, — ты можешь смело сказать, что у тебя есть на правительственные лица довольно бумажонок, чтобы восторжествовать над ними. Sursum Corda. Впрочем, рассчитывай на меня. Пока ты будешь там, — ты, храбрый пионер прогресса, солдат науки. Пока ты будешь исследовать заливы и изучать таинственные кораллы для Франции, для нашей дорогой Франции, — я не забуду тебя, поверь мне. Умело, постепенно я сумею создать в Агенстве Гавоса и в своих глазах агитацию вокруг твоего молодого имени эмбриолога. Я найду чудные, восхитительные рекламы… «Наш великий эмбриолог»… «Мы получили от нашего молодого и знаменитого ученого, эмбриологические открытия которого» и т. д. — «В то время, когда он изучал на глубине двадцати саженей еще неизвестную голотурию, наш неутомимый эмбрион чуть было не был съеден акулой… Ужасная борьба…» и т. д. Ступай, ступай, мой друг. Работай безбоязненно для величия страны. Теперь народ возвеличивается не только своими армиями: он велик особенно своими искусствами, своей наукой. Мирные победы науки более служат цивилизации, чем завещания и т. д. Cedant arma Sapientae.
Я плакал от радости, от гордости, от самолюбия, от возбуждения — возбуждения всего моего существа к чему-то обширному и обширно прекрасному. Выброшенный из собственного своего я, выброшенный не знаю куда, я в этот момент имел другую душу, душу почти божескую, душу творчества и самопожертвования, душу какого-то необыкновенного героя, на котором покоится высшее доверие отечества, все окончательные надежды человечества.
Что касается министра, этого забойника Эжена, он также едва мог сдерживать свое волнение. В его глазах был настоящий энтузиазм, а его голосе искренняя дрожь. Две маленькие слезинки выкатились из его глаз. Он крепко пожал мне руку.
В течение нескольких минут мы оба были бессознательной и смешной игрушкой нашей собственной мистификации.
Ах! Думал ли я об этом?
V
Снабженный рекомендательными письмами к «влиятельным лицам» Цейлона, я, наконец, отплыл в чудное послеобеденное время из Марселя на «Saghalien».
Как только я ступил на пароход, я тотчас же почувствовал важность того, что несет официальный титул, и как даже такой погибший человек, каким был я, своим престижем возвышается в уважении незнакомцев и случайных знакомых, следовательно, и в своем. Капитан, «знавший мои замечательные работы», окружил меня предупредительностью, почти почестями. Мне была предоставлена самая комфортабельная каюта, так же, как и лучшее место за столом. Так как среди пассажиров быстро распространилось известие о присутствии на пароходе знаменитого ученого, то каждый старался выказать свое уважение. На лицах я видел только восхищение. Даже сами женщины выказывали ко мне любопытство и благосклонность: одни тайно, другое — более откровенно. В особенности одна быстро привлекла мое внимание. Это было чудное создание, с тяжелыми рыжими волосами и зелеными глазами, сверкавшими золотом, как глаза хищного зверя. Она путешествовал в сопровождении трех горничных, из которых одна была китаянка. Я справился у капитана.
— Это — англичанка, — сказал он мне. — Зовут мисс Клара. Самая экстраординарная женщина, какая только может быть. Хотя ей еще только двадцать восемь лет, — она знает уже весь свет. В настоящее время она живет в Китае. Я вижу ее на своем пароходе уже четвертый раз.
— Богатая?
— О! Очень богатая. Ее отец, давно уже умерший, был, как мне рассказали, продавцом опиума в Кантоне. Она там и родилась. Я думаю, она немного полоумная, но очаровательная.
— Замужняя?
— Нет.
— А?
И в этот звук я вложил все интимные и даже нескромные вопросы.
Капитан улыбнулся.
— Это… не знаю… не думаю. Я никогда ничего такого не замечал здесь…
Таков был ответ отважного моряка, который, напротив, мне показалось, знает намного более того, чего он не хочет сказать. Я не настаивал, но про себя подумал: «Ты моя крошка… чудесно!»
Первыми пассажирами, с которыми я познакомился, были два китайца из посольства в Лондоне и один нормандский дворянин, направившийся в Тонкин. Последний тотчас же посвятил меня во все свои дела. Это был страстный охотник.
— Я бегу из Франции, — заявил он мне. — Я бегу из нее всякий раз, как только захочу. С тех пор, как у нас введена республика, Франция — погибшая страна. В ней слишком много браконьеров, и они сделались господами. Представьте себе, что я не могу больше иметь для себя дичи! Браконьеры стреляют ее у меня, а суды их оправдывают. Это уже слишком! Не считая того, что оставляемые ими остатки дичи падают неизвестно от какой эпидемии. Тогда я отправляюсь в Тонкин. Какая великолепная страна для охоты! Это в четвертый раз, милостивый мой государь, я еду в Тонкин!
— А! Правда?
— Да! В Тонкине есть в изобилии всякая дичь. Но особенно павлины. Какая цель, милостивый государь! Например, это — опасная охота. Надо иметь верный глаз.
— Разве павлины такие свирепые?
— Нет, конечно. Но таково положение. Там, где есть олень, есть тигр, а там, где есть тигр, есть и павлин!
— Это — афоризм?
— Вы сейчас поймете. Слушайте хорошенько. Тигр пожирает оленя, а…
— Павлин пожирает тигра? — серьезно спросил я.
— Конечно, то есть… вот в чем дело. Когда тигр закусит оленем, он засыпает. Потом он просыпается, облегчается и… уходит. А что делает павлин? Спрятавшись в соседних деревьях, он благоразумно дожидается этого ухода. Тогда он спускается на землю и поедает экскременты тигра. Вот как раз в этот-то момент и нужно подстрелить его.
И, протянув обе руки по линии ружья, он сделал жест, как будто бы стреляет в воображаемого павлина.
— Ах! Какие павлины! У вас об этом нет ни малейшего представления. Потому что то, что вы считаете павлинами в наших садах, даже и не индюшки… Это ничто. Милостивый мой государь, я убивал все, я убивал даже людей. И никогда ружейный выстрел не доставлял мне такого чудного наслаждения, как когда я стрелял по павлинам! Павлинов, как бы это вам сказать, восхитительно бить.
После небольшой паузы он заключил:
— Путешествовать, — вот все! Путешествуя, видишь удивительные вещи, заставляющие думать.
— Конечно, — согласился я. — Но надо быть, как вы, большим наблюдателем.
— Правда! Я много наблюдал, — расхвастался честный дворянин. — И из всех стран, которые я объехал, — Япония, Китай, Мадагаскар, Гаити и часть Австралии, — я не знаю более привлекательной, чем Тонкин… Так вы, может быть, думаете, что видели кур?
— Да, думаю.
— Заблуждение, милостивый государь. Вы не видели кур. Для этого надо съездить в Тонкин. И их еще не увидишь. Они в лесах прячутся на деревьях. Их никогда не увидишь. Только я один знаю фокус. Я поднимаюсь по реке, в сампанге, с петухом в клетке. Я останавливаюсь на опушке леса и вешаю клетку на ветку. Петух поет. И вот тогда идут, идут куры изо всех трущоб леса. Они идут бесчисленными толпами. И я стреляю их. Я убивал их до двенадцати сотен в день!
VI
В то время я был не способен ни к малейшему поэтическому увлечению; лиризм нашел на меня потом, с любовью. Конечно, как и все, я наслаждался красотами природы, но они не побуждали меня до безумия; я наслаждался ими по-своему, как умеренный республиканец. И я сказал сам себе:
«Природа, видимая из окна вагона или с палубы парохода, всегда и везде похожа. Но особенный характер в том, что у нее нет импровизации. Она постоянно повторяется, имея в своем распоряжении малое количество форм, комбинаций и видов, которые почти везде одинаковы. В своем бесконечном и тяжелом однообразии, она разнообразится только оттенками, едва различимыми и совсем неинтересными, за исключением укротителей зверюшек, которым я себя не считаю, хотя и эмбриолог. Короче, объехав сто квадратных лье какой угодно страны, можно видеть все. А этот каналья Эжен кричал им: „Ты увидишь эту природу… эти деревья… эти цветы!..“ Я же не выношу деревьев и не сержусь на цветы только у модисток и на пляжах. По отношению к тропической природе Монте-Карло вполне удовлетворяет мои потребности эстетика — пейзажиста, моим мечтам далекого путешествия. Я понимаю пальмы, кокосы, бананы, панданы только тогда, когда в их тени я могу получить полную ставку и маленькую изящную женщину, которая держит в своих губках что-либо другое, только не бетель… Кокосовая пальма: дерево кокеток. Я люблю деревья только в такой чисто парижской классификации».
Ах! Каким слепым и глухим животным был я тогда!
И как я мог с мерзким цинизмом богохульствовать против бесконечной красоты формы, идущей от человека к животному, от животного к растению, от растения к горе, от горы к облаку, а от облака к камешку, который отражает все прелести жизни.
Хотя стоял октябрь месяц, поездка по Красному морю была очень тягостна. Жара была такая страшная, воздух настолько тяжел для наших европейских легких, что я много раз думал, что умру от недостатка воздуха. Днем мы совсем не выходили из салона, где большой индийский рипка, беспрерывно действовавший, давал нам скоро исчезнувшую иллюзию свежего ветерка, а ночь мы проводили на палубе, где нам, впрочем, спать было не лучше, чем в каютах… Нормандский дворянин пыхтел, как большой бык, и более уже не думал рассказывать свои истории из тонкийской охоты. Те из пассажиров, которые хвастались своей неутомимостью, были совершенно разбиты, расслабли и свистели горлом, как разбитые животные. Ничего не могло быть смешнее зрелища этих людей, валявшихся в своих разноцветных pidjamus. Только двое китайцев казались нечувствительными к этой температуре пламени. Ничего не изменилось в их привычках, так же как и в костюмах, а они проводили время в молчаливых прогулках по палубе и в игре в карты или в своих каютах.
Мы ничем не интересовались. Мы чувствовали себя поджариваемыми на медленном и правильном огоньке. Пароход плыл посреди пролива: сверху нас, вокруг, не было ничего, кроме синевы неба и синевы моря, темной синевы, синевы раскаленного металла, по которому кое-где по поверхности разбросаны раскаленные осколки горна; мы едва различали сомалийские берега, красную, далекую массу, поднимавшуюся паром от этих гор горячего песка, где не растет ни одного дерева, ни одной травки, и которая сжимает как бы постоянно пылающим костром это зловещее море, похожее на огромный резервуар кипящей воды.
Я должен сказать, что во время этого пламени я выказал большое мужество и что мне удалось ничем не выказать моего действительного состояния. Достиг я этого при помощи тщеславия и любви.
Благодаря случаю — случаю или капитану? — мисс Клара оказалась моей соседкой за столом. Почти немедленно какая-то мелкая услуга познакомила нас. Впрочем, мое высокое положение в науке и любопытство, предметом которого я сделался, оправдывали некоторые уклонения от обычных правил приличия.
Как я узнал от капитана, мисс Клара возвращалась в Китай, побывав летом в Англии по личным делам, в Германии — для здоровья и во Франции — для удовольствия. Она созналась мне, что Европа все более и более становится ей противна. Она не может более выносить ее слишком узких нравов, ее смешных мод, ее зябких пейзажей. Она чувствует себя счастливой и свободной только в Китае! С очень решительными манерами, ведущая очень странное существование, разговаривающая иногда безо всякого разбора, иногда с ясным пониманием вещей, с лихорадочной веселостью, сентиментальная и философская, несведующая и образованная, развращенная и невинная, наконец, таинственная, с недостатками… с уклонениями… с непонятными капризами, с ужасными желаниями — она сильно заинтересовала меня, хотя я уже много слышал про эксцентричность англичанки. И я ничуть не сомневался, с самого начала, я, встречавший только женщин-кокоток и, самое худшее, женщин-философов и писательниц, я ничуть не сомневался, что и эта такая же, и я собирался украсить с ней свое путешествие неожиданным и малым способом. С рыжими волосами, со сверкающей кожей, со всегда готовым зазвучать смехом на ее полных и красных губах, — она составляла настоящее развлечение для парохода и как бы душу этого судна, направляющегося к безумным приключениям и первобытной свободе девственных стран, огненных тропиков. Я видел ее, эту Еву чудесного рая, цветок, плод опьянения и вкусный плод вечного желания, я видел ее блуждающей и прыгающей посреди цветов и золотых плодов первобытных садов, но не в этом современном костюме из белого пике, обтягивающем ее гибкую талию и колышащиеся от могучей жизни ее груди, подобной цветочной луковице, но в сверхъестественном величии своей библейской наготы.
Я не замедлил сознаться в заблуждении моего галантного определения и признать, что мисс Клара, вопреки тому, на что я тщательно надеялся, была недоступно честна. Мне, далекому от разочарования от такого вывода, она от этого показалась еще красивее, и почувствовал настоящую гордость от того, что она, чистая и добродетельная, приблизилась ко мне, бесчестному и развратному, приблизилась с таким простым и таким грациозным доверием. Я не хотел слушать внутренних голосов, кричавших: «Эта женщина лжет, эта женщина насмехается над тобой… Взгляни же, дурак, на эти глаза, все видевшие, на этот рот, все целовавший, на эти руки, все ласкавшие, на это тело, трепетавшее столько раз от всяких сладострастии в объятиях всех! Чистая? Ах! Ах! Ах! А эти умелые жесты? А эта мягкость и гибкость, а эти изгибы тела, сохраняющие все формы объятий? А эта волнующая грудь?» Нет, действительно я не слушал их. И для меня было очаровательно-чистым чувством, состоящим в умилении, в благодарности, в гордости, чувством нравственного очищения каждый день все более вступать в дружеские отношения с прелестной и добродетельной особой, которая, как я уже заранее предвидел, всегда будет для меня ничем. Ничем, только духом. Эта мысль возвышала меня, реабилитировала в собственных глазах. Благодаря этому чистому ежедневному соприкосновению, я чувствовал уважение к самому себе. Вся грязь моего прошлого превратилась в сверкающую лазурь. И я предвидел будущее сквозь спокойный чистый изумруд настоящего счастья. О, как далеки были от меня Эжен Мортен, г-жа Г. и подобные им. Как все эти фигуры гримасничающих призраков опускались с каждой минутой ниже под небесным взглядом этого сверкающего существа, благодаря которому во мне самом пробуждался новый человек, великодушный, нежный, с никогда неведомыми мне порывами.
О, ирония любовного умиления! О, комедия энтузиазма, существующее в человеческой душе! Сколько раз около Клары думал я о действительности, о величии моей миссии, и мне казалось, что я обладаю способностью возмутить все эмбриологии всех планет вселенной.
Мы скоро дошли до откровенности. Целым рядом лжи, искусно сплетенной, которая происходила, с одной стороны из тщеславия, а с другой — из вполне естественного желания не упасть в глазах моей приятельницы, я предстал во всем величии своей роли ученого, рассказывая о своих биологических открытиях, о своих академических успехах, о надеждах, возлагаемых на мой метод и на мою поездку самыми знаменитыми представителями науки. Потом, оставив эти немного рискованные высоты, я перемешивал анекдоты светской жизни с критическими знаниями по литературе и искусству, полуздоровыми, полуразрушенными, способными заинтересовать ум женщины, но не взволновать его. И эти разговоры, свободные и легкие, которым я старался придать остроумный тон, к моему важному значению ученого прибавили особенный и, может быть, единственный характер. В конце концов за это плавание по Красному морю я завоевал мисс Клару. Подавляя свое нездоровье, я изыскивал изобретательные ухаживания и нежное внимание, успокаивавшие ее страдание. Когда «Saghalien» остановился у Адена, чтобы запастись углем, мы, она и я, были чудными друзьями, связанными той чудесной дружбой, которую не волнует никакой взгляд, никакой двусмысленный жест, никакое преступное намерение. И, однако, голоса продолжали кричать внутри меня: «Ну, посмотри же на эти ноздри, вдыхающие с ужасным сладострастием всю жизнь. Взгляни на эти зубы, столько раз вонзавшиеся в кровавый плод греха!» Героически я противополагал им молчание.
Необычайную радость испытали мы, вступив в воды Индийского океана, после смертельных, мучительных дней, проведённых в Красном море, казалось, что здесь наступило воскрешение. На пароходе началась новая жизнь, жизнь веселая, деятельная. Хотя температура была еще слишком высокая, но приятно было дышать воздухом, который походил на запах меха, только что сброшенного женщиной. Легкий ветерок, наполненный, как говорят, всеми запахами тропической флоры, освежал тело и душу. А вокруг нас все сверкало. Небо, по прозрачности походившее на феерический грот, было зелено-золотого цвета и подернуто розовыми пасмами; спокойное море, колыхавшееся могучим ритмическим дыханием под дуновением муссона, раскинулось необыкновенно голубое, украшенное кое-где большими смарагдовыми завитками. Мы на самом деле физически чувствовали как бы ласку любви, приближение таинственных континентов, стран сияния, где жизнь в один таинственный день издала свой первый крик. И у всех, даже у нормандского дворянина, на лицах отражались это небо, это море, этот свет.
Мисс Клара — это понятно и без слов — привлекала, сильно возбуждала мужчин; всегда вокруг нее был кружок страстных обожателей. Но я совсем не был ревнив, вполне уверенный, что она находит их смешными и что она предпочитает меня всем им, даже обоим китайцам, с которыми она часто разговаривала, но на которых она не смотрела, как смотрела на меня, тем странным взглядом, в котором, несмотря на столько предосторожностей, мне казалось, я узнавал нравственное сообщество и, не знаю, какие, передававшиеся мне тайные мысли. Среди самых горячих поклонников были один французский промышленник, направлявшийся на Маленький полуостров для изучения там медных рудников, и английский офицер, которого мы приняли в Адене и который возвращался к своему месту службы в Бомбей. Это были — каждый в своем роде — два толстых; но очень забавных животных, над которыми Клара любила посмеяться. Промышленник неутомимо рассказывал о своих недавних путешествиях по центральной Африке. Что же касается английского офицера, капитана одного артиллерийского полка, то он старался поразить нас, описывая нам свои изобретения по баллистике.
Раз вечером, после обеда, мы все собрались на палубе вокруг Клары, изящно лежавшей на длинной качалке. Некоторые курили сигары, другие мечтали. В сердцах всех нас было одно желание — Клара; и все, волнуемые одной и той же мыслью о страстном обладании, мы следили за движением двух маленьких ножек, обутых в маленькие розовые туфли, которые, при покачивании кресла, показывались из пахучих вырезов юбок, как цветочные лепестки. Мы ничего не говорили. Ночь была феерически нежна; судно сладострастно скользило по морю, как по бархату. Клара обернулась к промышленнику.
— Ну? — сказала она лукавым тоном. — Это шутка? Вы там ели человеческое мясо?
— Конечно, да! — гордо ответил он и таким тоном, который показывал его неоспоримое превосходство над нами. — Так надо было. Ешь то, что есть.
— Какого оно вкуса? — спросила она с легким отвращением.
Он некоторое время думал. Потом сказал с неопределенным жестом:
— Как вам объяснить? Вообразите себе, обожаемая мисс, вообразите себе свинью, свинью, слегка замаскированную в ореховом масле.
Небрежно и убежденно он прибавил:
— Это не очень вкусно. Впрочем, это едят не как лакомство. Я больше люблю баранье жиго или бифштекс.
— Разумеется, — согласилась Клара.
И, как бы желая из вежливости смягчить отвращение от этого людоедства, она сказала неопределенно:
— Потому что вы, несомненно, ели только мясо негров.
— Негров? — воскликнул он, привскочив. — Пфуй! К счастью, дорогая мисс, я не был доведен до такой тяжелой нужды. Слава Богу, у нас никогда не было недостатка в белых. Наш конвой был многочисленный, большей частью состоявший из европейцев: из марсельцев, из немцев, из итальянцев — всего понемногу… Когда чувствовался сильный голод, убивали одного человека из эскорта… преимущественно немца. Немец, божественная мисс, жирнее других рас и дольше служит. А потом, для нас, французов, по крайней мере, одним немцем меньше! Итальянец сух и жёсток. Он полон нервов.
— А марселец? — вмешался я.
— Не! — заявил промышленник, качая головой. — Марселец очень расхвален. Он пахнет чесноком. И тоже, не знаю почему, жирным потом. Сказать вам, приятно ли это, нет, съедобно, вот и все.
Повернувшись к Кларе с протестующим жестом, он настаивал:
— Но негров… никогда! Я думаю, меня вырвало бы. Я знал людей, которые их ели. Они заболевали. Негр неудобоварим. Между ними есть, уверяю вас, ядовитые.
Он поправился:
— Однако… можно ли это хорошо знать, как шампиньоны? Может быть негров Индии можно есть?
— Нет! — коротко и категорически заявил английский офицер, чем посреди смеха закончил этот кулинарный разговор, от которого у меня начиналась тошнота.
Несколько недовольный промышленник заговорил снова:
— Не в этом дело. Несмотря на все маленькие неприятности, я очень счастлив, что уехал. В Европе я болел. Я не живу, я не знаю, что делать. В Европе, как дикий зверь в клетке, я чувствую себя униженным пленником. Там нельзя раздвинуть локти, протянуть руки, открыть рот, чтобы не столкнуться с глупыми предрассудками, с идиотскими законами, с кривыми обычаями. В прошлом году, очаровательная мисс, я гулял по хлебному полю. Палкой я сбивал колосья вокруг себя. Это занимало меня. Ведь я имею же право делать то, что мне нравится, не так ли? Подбегает какой-то крестьянин ко мне, который начинает кричать, оскорблять меня, приказывает ме убираться с его поля. Что-то невероятное! Что вы сделали бы на моем месте? Я нанес ему три жестких удара палкой. Он упал с проломленным черепом. Ну, угадайте, что со мной потом было?
— Вы, может быть, его съели? — со смехом вставила Клара.
— Нет. Меня таскали, не знаю, по каким-то судам, которые присудили меня к двум годам тюрьмы и к уплате десяти тысяч франков штрафа и судебных издержек. За одного грязного крестьянина! И это называется цивилизацией. Правдоподобно ли это? Благодарю покорно, если бы меня в Африке осуждали так каждый раз за убитого негра или даже белого!
— Значит, вы убивали и негров? — спросила Клара.
— Конечно, да, обожаемая мисс.
— Зачем, раз вы их не ели?
— Ну, чтобы цивилизовать их, то есть, чтобы взять у них слоновую кость и камень. А потом, что вы хотите? Если бы правительства и торговые дома, поручающие нам цивилизаторские миссии, если бы они узнали, что мы никого не убиваем, что сказали они бы?
— Справедливо! — подтвердил нормандский дворянин. — К тому же негры — свирепые животные, браконьеры, тигры.
— Негры? Какое заблуждение, милостивый мой государь. Они тихи и жизнерадостны. Они, словно дети. Вы видели, как вечером, на лужайке, на опушке леса играют кролики?
— Несомненно.
— Они красиво двигаются, они бешено веселы, чистят шкуру своими лапками, прыгают и валяются в мяте. Ну, негры вот такие же молодые кролики. Это очень мило.
— Однако — ведь известно же, что они — людоеды? — настаивал дворянин.
— Негры? — запротестовал промышленник. — Ничуть не бывало! В черных странах людоеды только белые. Негры едят бананы и жуют цветущие травы. Я знал одного ученого, который утверждал даже, что у негров желудок жвачного животного. Как же вы хотите, чтобы они ели мясо, да еще мясо человеческое?
— Тогда зачем же их убивать? — заметил я, потому что чувствовал прилив доброты и сострадания.
— Но я же сказал вам, чтобы цивилизовать их. И это было очень забавно. Когда мы после долгих, долгих переходов приходили в какую-нибудь негритянскую деревню, негры страшно пугались. Они отчаянно кричали, не старались убежать, — настолько они боялись, — и плакали, уткнувшись лицом в землю. Их поили водкой, потому что в их запасах всегда были большие количества алкоголя. И когда они бывали пьяны, мы их убивали.
— Грязный выстрел! — не без отвращения заключил нормандский дворянин, который, несомненно, видел чудные полеты павлинов в лесах Тонкина.
Ночь спускалась сияющая, небо было в огне, вокруг нас океан колыхался большими полосами фосфорического света. А я был печален, печален за Клару, печален за этих толстых мужчин, за самого себя, за наши слова, оскорбления, молчание и красоту.
Вдруг Клара спросила промышленника:
— Вы знаете Стэнли?
— Конечно, знаю, — ответил последний.
— А что вы думаете о нем?
— О! Он, — заметил тот, покачивая головой.
И словно какие-то ужасные воспоминания наполнили его голову, он окончил серьезно:
— Он уж слишком далеко заходит.
Я замечал, что капитан уже несколько минут собирается заговорить. Он воспользовался минутной тишиной, последовавшей за этим признанием.
— А я, — сказал он, — я сделал намного лучше всего этого. И ваши маленькие убийства не значат ничего перед убийствами, которыми обязаны мне. Я изобрел пулю. Она необыкновенная. Я назвал ее пулей Дум-Дум, по имени маленькой индийской деревушки, в которой я имел честь изобрести ее.
— Она многих убивает? Больше, чем другие? — спросила Клара.
— О, дорогая мисс, не говорите мне об этом! — сказал он со смехом. — Бесчестно!
И скромно прибавил:
— Впрочем, это мелочь, совсем маленькая пулька. Представьте себе какую-нибудь маленькую вещь. Как бы вам сказать, маленький орех, вот, вот. Представьте себе совсем маленький орешек. Это восхитительно!
— А какое красивое имя, капитан! — восхищалась Клара.
— Действительно, очень красивое! — сознался видимо польщенный капитан. — Очень поэтическое!
— Могут сказать, — не правда ли, что это — имя феи в какой-нибудь комедии Шекспира. Фея Дум-Дум! Это мне нравится. Фея, смеющаяся, легкая, светло-русая, прыгающая, танцующая и скучающая посреди кустарников и солнечных лучей. И, пожалуйте, дум-дум!
— И, пожалуйте! — повторил офицер. — Великолепно! Впрочем, обожаемая мисс, она делает дело очень хорошо. И то, что составляет ее достоинство, по-моему, И, так это то, что она, так сказать, не дает раненых.
— Ах! Ах!
— Есть только мертвые. Вот чем она на самом деле изящна.
Он повернулся ко мне и тоном сожаления, в котором соединился наш общий с ним патриотизм, вздохнул:
— Ах! Если бы вы ее имели во Франции во время этой ужасной Коммуны! Какое торжество!
Я быстро перешел к другой теме:
— Я иногда задаю себе вопрос: не отрывок ли это из Эдгара По, не место ли нашего Томаса де Кинелея? Но нет, потому что я сам производил опыты с этой дорогой малюткой Дум-Дум. Дело было так. Я поместил двенадцать индусов.
— Живых?
— Конечно! Германский император, так тот производит свои баллистические опыты на трупах. Сознайтесь, что это — абсурд и совсем не то. Я же работаю над лицами, не только живыми, но и крепкого телосложения и великолепного здоровья. По крайней мере, видно, что делать и куда метить. Я не мечтатель, я ученый.
— Простите, капитан. Продолжайте же.
— Итак, я поставил двенадцать индусов друг за другом по геометрически прямой линии и выстрелил.
— Ну? — перебила Клара.
— Ну, милый друг, эта маленькая Дум-Дум сделала чудо. Ни один из двенадцати индусов не устоял на ногах. Пуля прошла по их двенадцати телам, которые после выстрела представляли только двенадцать кусков истерзанного мяса и буквально искрошенных костей. Действительно, магическая пуля! Я никогда не думал о подобном удивительном успехе.
— Действительно, удивительный, похожий на чудо!
— Не правда ли?
И после нескольких минут взволнованного молчания, он задумчиво и доверчиво прошептал:
— Я ищу что-нибудь еще получше. Что-нибудь более положительное. Я отыскиваю пулю, маленькую пульку, которая не оставила бы ничего из того, до чего она дотронется. Ничего, ничего, ничего! Понимаете?
— Как так? Как ничего?
— Или самую малость! — объяснил офицер. — Так, кучу пепла, или даже легкий рыжеватый дымок, тотчас же рассеивающийся. Это возможно.
— Значит, автоматическое превращение в пепел?
— Как раз! Думали ли вы о бесчисленных качествах такого изобретения? Таким образом, я уничтожу военных хирургов, больничных служителей, амбулатории, военные госпитали, пенсии раненым и т.д. и т.п. Получится неисчислимая экономия… облегчение для государства бюджетов. Я уж не говорю про гигиеничность. Какое завоевание для гигиены!
— А вы могли бы назвать эту пулю Ниб-Ниб! — воскликнул я.
— Очень красиво, очень красиво! — начал аплодировать артиллерист, не понявший этого жаргонного замечания, и громко рассмеялся честным и открытым смехом, каким смеются солдаты всех армий, всех стран.
Успокоившись, он продолжал:
— Я предвижу, что Франция, когда узнает об этом удивительном снаряде, начнет оскорблять нас во всех своих газетах. И это будут делать самые свирепые из ваших патриотов, те именно, которые вслух кричат, что на войну никогда не довольно миллионов, которые говорят только об убийствах и бомбардировках — вот они-то еще лишний раз обрекут Англию проклятию цивилизованных народов. Но черт возьми! Мы логичны с нашим состоянием всеобщего рабства! Принято же, чтобы гранаты были разрывными, — и не хотят, чтобы и пули были такими же. Почему? Мы живем по законам войны? Однако, в чем состоит война? Она состоит в том, чтобы убивать как можно больше людей в наименьшее время. Чтобы делать ее более и более убийственной и достигающей своей цели, надо отыскивать снаряды все более и более ужасные по силе разрушения. Это — вопрос человеколюбия… и это современный прогресс.
— Но, капитан, — заметил я, — а общее право людей? Что вы с ними сделаете?
Офицер рассмеялся и, воздев руки к небу, возразил:
— Право людей? Но это право в том и состоит, что мы можем убивать людей массами или по одиночке, бомбами или пулями, не все ли равно, только, чтобы люди были убиты.
Один из китайцев вставил:
— Однако, мы не дикари.
— Не дикари? А что же мы такое, спрошу я вас? Мы еще худшие дикари, чем дикари Австралии, потому что, сознавая свою дикость, мы остаемся в ней. Потому что мы понимаем управление, торговлю, улаживание наших отношений, мщение за свою честь только в виде войны, то есть в виде воровства, грабежа и убийства. И что же? Мы обязаны выносить неудобства этого состояния грубости, в котором мы хотим оставаться во что бы то ни стало. Мы — животные. Пусть. И будем действовать по-звериному.
Тогда нежным и глубоким голосом Клара сказала:
— А потом было бы святотатством бороться против смерти. Смерть так хороша!
Она встала, совершенно белая и таинственная от электрического света судна. Тонкая и длинная шелковая шаль, окутывавшая ее, покрывала ее бледными и меняющимися отблесками.
— До завтра! — сказала она.
Мы все теснились около нее. Офицер взял ее за руку, которую и поцеловал. И я возненавидел его мужественное лицо, его гибкую спину, его верные ноги, всю его сильную осанку. Он извинялся:
— Простите меня, что я увлекся подобной темой и забыл, что перед такой женщиной, как вы, никогда нельзя говорить ни о чем, кроме любви.
Клара ответила:
— Но, капитан, кто говорит о смерти, говорит также и о любви!
Она взяла меня под руку, и я проводил ее до каюты, где ее ждали уже служанки для ночного туалета.
Весь вечер меня посещали видения убийства и разрушения. В эту ночь мой сон был непокоен. Я видел, как над красными кустами, под лучами кровавого солнца разгуливающую белокурую, смеющуюся и танцующую маленькую фею Дум-Дум… маленькую фею Дум-Дум, у которой глаза, рот, все незнакомое и освобожденное от покровов тело, была Клара.
VII
Раз я и моя подруга сидели рядом, облокотившись на борт, смотрели, смотрели на небо и смотрели на море. День должен был скоро погаснуть. По небу за пароходом следовали большие птицы, голубые зимородки, раскачиваясь с изящными движениями танцовщиц; по морю стаи летучих рыб поднимались при нашем приближении и, сверкая на солнце, падали дальше, рассекая воду, похожую на живую бирюзу… Толпы медуз, медуз красных, медуз зеленых, медуз пурпурных, розовых, словно осыпанных цветами, плавали по нежной поверхности и так были восхитительны по цветам, что Клара, показывая мне на них, каждую минуту издавала крики восхищения. И вдруг она спросила меня:
— Скажи мне… Как называются эти чудесные создания?
Я мог бы придумать какие-нибудь странные имена, подыскать научную терминологию. Я даже не подумал об этом. Охваченный внезапным, неожиданным, страстным желанием быть чистосердечным, я твердо ответил:
— Не знаю!
Я чувствовал, что я пропал, что я безвозвратно погубил эту мечту, неопределенную и очаровательную, убаюкавшую мою надежду, усыпившую мое беспокойство, что я упал еще глубже в неизбежную грязь моего существования. Все это я чувствовал. Но во мне было нечто, более сильное, чем моя воля, приказавшее мне загладить свои низости, мою ложь, это полное злоупотребление доверием, благодаря которому я подло, преступно крал дружбу существа, поверившего моим словам.
— На самом деле, не знаю, — повторил я, придавая этим простым словам характер драматической экзальтации, которой они и не требовали.
— Как вы говорите это! Вы разве сошли с ума? Что такое с вами? — спросила Клара, удивленная тоном моего голоса и странной растерянности моих жестов.
— Не знаю. Не знаю. Не знаю!
И, чтобы придать больше убедительности этому тройному: «не знаю!», я три раза свирепо ударил по перилам.
— Как вы не знаете? Ученый, натуралист?
— Я не ученый, мисс Клара… я не натуралист. — Я — ничто, — кричал я. — Несчастный, да, я несчастный. Я лгал вам, гнусно лгал. Необходимо, чтобы вы узнали человека таким, каким он есть. Выслушайте меня.
Беспорядочно, задыхаясь, я рассказал ей всю свою жизнь. Эжен Мортен, г-жа Г., позор моей миссии, все свои несчастия, всю свою грязь… Я чувствовал жгучую радость обвинять себя, выставлять себя более низким, более опустившимся, еще более черным, чем я был. Когда я закончил этот печальный рассказ, то, обливаясь слезами, сказал своей приятельнице:
— Теперь все кончено. Вы будете ненавидеть меня, презирать меня, как другие. Вы с отвращением отвернетесь от меня. И вы будете правы. И я не буду жаловаться. Это ужасно! Но я не могу больше жить так, я не хочу больше этой лжи между вами и мной!
Я горько плакал… и бессвязно бормотал, как ребенок.
— Это ужасно! Это ужасно! И я, который… потому что, наконец… это правда, клянусь вам! Я, который, вы понимаете. Стечение обстоятельств, вот что это. Стечение обстоятельств… это было стечение обстоятельств. Я не знал этого. А потом ваша душа. Ах! Ваша душа, ваша дорогая душа, и ваши чистые взгляды, и ваше, ваше дорогое… да… наконец… вы чувствуете, ваше дорогое отношение… Это было мое спасение, мое возрождение, мое… мое… Это ужасно, это ужасно! Я все это теряю! Это ужасно!
В то время когда я говорил, и когда я плакал, мисс Клара пристально смотрела на меня. О, этот взгляд! Никогда, никогда не забуду я этого взгляда, уставленного на меня обожаемой женщиной. Необыкновенного взгляда, в котором в одно и то же время были удивление, радость, сожаление, любовь — да, любовь, а также шалость, ирония, все… взгляда, который проник в меня, пронзил меня, взволновал мою душу и тело.
— Ну, что же! — просто сказала она. — Это не слишком удивляет меня. И я думаю, что на самом деле все ученые похожи на вас.
Не переставая смотреть на меня, смеясь своим чистым и красивым смехом, смехом, похожим на птичье пение, она продолжала:
— Я знала одного такого. Это был натуралист, в вашем роде. Он был послан английским правительством для изучения на цейлонских плантациях паразита кофейного дерева… Ну, в течение трех месяцев он не покидал Коломбо. Все свое время он проводил за играю в покер и напивался шампанского. — И, продолжая смотреть на меня странным, глубоким, сладострастным взглядом, продолжая все смотреть на меня, она после нескольких минут молчания прибавила тоном сострадания, в котором мне послышалось пение всех радостей прощения. О, каналья!
Я не знал больше, что сказать, — смеяться ли: или продолжать плакать, или лучше всего упасть к ее ногам. Робко я бормотал:
— Значит, вы не сердитесь? Не презираете меня? Прощаете меня?
— Животное! — произнесла она. — О, маленькое животное!
— Клара! Клара, возможно ли? — воскликнул я, почти лишаясь чувств от счастья.
Так как давно уже звонил обеденный колокол и так как никого уже не было в этой части палубы, я придвинулся к Кларе ближе, так близко, что чувствовал, как ее бедро трепещет около моего и как бьется ее грудь. И, схватив ее руки, которые она не вырывала, между тем как мое сердце бешено кипело в груди, я воскликнул:
— Клара! Клара! Вы любите меня? Ах! Умоляю вас, любите ли вы меня?
Она слабо возразила:
— Я вам скажу это сегодня вечером. У меня.
Я увидел как в ее глазах промелькнуло зеленое пламя, ужасное пламя, испугавшее меня… Она освободила свои руки из моих и, сразу изменив лицо какой-то серьезной складкой, умолкла и глядела на море.
О чем она думала? Я ничего не знал. И, глядя тоже на море, я думал:
«Пока я был для нее нормальным человеком, она не любила меня. Она не желала меня. Она не желала меня. Но в ту минуту, когда она поняла, кем я был, когда она вдохнула в себя настоящий и нечистый запах моей души, любовь вошла в нее, — потому что она любит меня! Ну… ну! Значит, верно только зло!»
Наступил вечер, потом, без сумерек, ночь. Невыразимая нежность разливалась в воздухе. Пароход плыл посреди кипящей фосфорической пены. Большие полосы света скользили по морю. Можно было сказать что это из моря поднимались феи, простирали над морем длинные огненные плащи и потрясали и бросали полными пригоршнями в море золотые перлы.
VIII
Раз утром, выйдя на палубу, благодаря прозрачности атмосферы, я различил, и так ясно, как будто бы касался ногами его почвы, — я ощутил восхитительный остров Цейлон, зеленый и красный остров, увенчанный феерической розовой белизной горы Адама. Уже накануне мы были предупреждены об его приближении новыми запахами моря и таинственным наплывом бабочек, которые, проводив корабль в течение нескольких часов, вдруг улетели прочь. И, не думая ни о чем более, Клара и я нашли очаровательным, что остров прислал нам приветствие при посредстве таких сверкающих и поэтических вестников. В настоящую минуту я был в таком состоянии сентиментального лиризма, что один вид бабочки заставлял трепетать во мне все мелодии нежности и экстаза.
Но в это утро реальный вид Цейлона вызвал во мне грусть, даже более чем грусть — ужас. То, что я заметил там, за волнами, в этот момент цвета незабудок, это была не земля, совсем не порт, не жгучее любопытство, которое возбуждает в человеке покрывало, наконец, поднятое над неизвестным… Это был грубый призыв к дурной жизни, возвращение моих пошлых инстинктов, горькое и отчаянное пробуждение всего того, что за время этого путешествия заснуло во мне… и что я считал умершим! Это было что-то скорбное, о чем я никогда не думал и что мне казалось невозможным не только понять, но даже представить реальность его: конец чудодейственной мечты, какой для меня была любовь Клары. В первый раз женщина овладела мной.
Я был ее рабом, я желал только ее, я хотел только ее. Ничто более не существовало вне и за ней. Вместо того, чтобы потушить пожар этой любви, обладание каждый день оживляло пламя. Каждый раз я опускался все ниже в горящую бездну ее желаний и каждый день я все больше чувствовал, что вся моя жизнь пойдет на то, чтобы отыскать, дотронуться до ее дна. Как согласовать, чтобы я, будучи завоеван — душа, тело и мозг — этой нерасторжимой, непреложной и мучительной любовью, должен сейчас же бросить ее? Безумство!
Эта любовь вошла в меня, как мое собственное тело. Она соединилась с моей кровью, с мозгом моих костей; она владела мною всем; она была мною! Отделить меня от нее, значит, отделить меня от самого себя; значит, убить себя. Еще хуже! Было бы невероятным кошмаром, чтобы моя голова была на Цейлоне, мои ноги — в Китае, разделенныя морскими безднами, и чтобы я старался жить обоими этими отростками, которые никогда больше не соединятся! Как, даже завтра не будут уже больше моими эти мерцающие глаза, эти пожирающие губы, с каждою ночью все более неожиданное чудо этого тела с божественными формами, с безумными объятиями и, после долгих схваток, могучими, как преступление, глубокими, как смерть, эта невинная болтовня, эти мелкие жалобы, эти смешки, эти легкие слезы, эти утомленные песенки ребенка или птицы, разве это возможно? и я лишусь всего того, что мне нужнее для дыхания, чем легкие, для мышления, чем мозг, для обогащения горячей кровью моих жил, чем сердце?! Не может быть! Я принадлежал Кларе, как уголь принадлежал пожирающему и уничтожающему его огню. Обоим нам, и ей, и мне, такой невероятной казалась эта разлука, такой безумно химерической, настолько противной законам природы и жизни, что об этом никогда не говорили. Еще накануне наши две соединившиеся души, даже не высказывая этого, думали только о бесконечности путешествия, как будто бы везший нас корабль должен был везти нас постоянно, постоянно… и никогда, никогда не приставать ни к какому берегу. Потому что пристать к какому-нибудь берегу, значит — умереть!
И, однако, вот я должен спуститься туда, углубиться туда, в это зеленое и в это красное, исчезнув там, в этом неизвестном… еще более одиноком, чем когда-либо. И вот Клара сделается только призраком, потом маленькой, серой, едва видимой точкой в пространстве… потом ничем… потом ничем… ничем… ничем… ничем!.. Ах! Все, только не это!.. Ах!.. Пусть море поглотит нас обоих!
Море было нежное, спокойное и сияющее! Оно благоухало запахом счастливого берега, цветущего сада, любовного ложа, что вызывало у меня слезы на глазах.
Палуба оживилась. Только одни радостные физиономии, взгляды, расширенные от ожидания и любопытства.
— Мы входим в залив. Мы в заливе.
— Я вижу берег.
— Я вижу деревья.
— Я вижу маяк.
— Приехали! Приехали!
Каждое из этих восклицаний, словно камень, падали на мое сердце. Мне не хотелось видеть перед собой этот еще далекий, но так явственно видимый остров, к которому меня приближал каждый поворот винта и, отвернувшись от него, я созерцал бесконечное небо, в котором мне хотелось потеряться, как эти птицы, там, вверху, пролетавшие в эту минуту в воздухе и так легко исчезавшие.
Клара не замедлила присоединиться ко мне. От слишком ли сильной любви, от слишком обильных ли слез, — ее веки потемнели, а глаза, в своих синих кругах, выражали сильную печаль. В ее глазах было даже больше, чем печаль: на самом деле в них было страстное сожаление, и побеждающее, и сострадательное. Под тяжелыми темно-золотистыми полосами на лбу у нее была складка тени, складка, какая образовывалась у нее в минуты сладострастия, как и в минуты печали… Какой-то запах, странно опьяняющий, шел от ее волос. Она просто сказала только одно слово:
— Уже?
— Увы! — вздохнул я.
Она надевала свою шляпу, маленькую морскую шляпку, которую прикрепляла при помощи длинной золотой шпильки. Ее обе поднятые руки обрисовывали ее бюст, и я видел, как обрисовывались его скульптурные линии под покрывавшей его белой блузкой. Она заговорила снова несколько дрогнувшим голосом:
— Вы думали об этом?
— Нет.
Клара закусила губу, на которой показалась кровь.
— Ну, что же? — сказала она.
Я не отвечал. У меня не было силы ответить. С пустой головой, с раздираемым на части сердцем, я хотел бы исчезнуть в небытие. Она была взволнована, очень бледная, за исключением губ, которые, показалось мне, были краснее и тяжелее поцелуев. Долго ее глаза были устремлены на меня вопросительно.
— Судно стоит в Коломбо два дня… А потом оно уедет, вы знаете это?
— Да! Да!
— А потом?
— А потом — конец!
Могу ли я чем-нибудь помочь вам?
— Ничем. Спасибо! Ведь все кончено!
И, сдавливая рыданья в горле, я бормотал:
— Вы были для меня всем. Вы были для меня более, чем всем. Не говорите со мной больше, заклинаю вас! Это слишком печально, слишком бесполезно печально. Не говорите со мной больше, потому что теперь все кончено.
— Никогда ничего не кончено, — произнесла Клара: — Ничто, даже со смертью.
Зазвонил колокол. Ах, этот колокол! Как он ударяет по моему сердцу! Как похоронно звонит он в моем сердце!
Пассажиры столпились на палубе, кричали, восклицали, прерывали один другого, направляли лорнеты, очки, фотографические аппараты на приближавшийся остров. Нормандский дворянин, показывая на массу зелени, рассказывал о джунглях, непролазных для охотника. И посреди толкотни, шума, двое китайцев, равнодушные и задумчивые, скрестив руки на своих широких рукавах, продолжали свою медленную, свою важную ежедневную прогулку, словно два аббата, читающих молитву.
— Приехали!
— Ура! ура? приехали!
— Я вижу город.
— Разве это город?
— Нет, это коралловый риф.
— Я различаю пристань.
— Нет! Нет!
— Что это там такое, на море?
Издали уже приближалась к пароходу маленькая флотилия барок с розовыми парусами. Две трубы, выбрасывавших клубы черного дыма, покрывали траурной тканью море, а сирена медленно, медленно стонала.
Никто не обращал на нас внимания. Клара спросила меня тоном повелительной нежности:
— Ну, что же с нами будет?
— Не знаю. И не все ли равно? Я погиб. Встретил я вас. Вы удержали меня на несколько дней над бездной. Теперь я опять полечу в нее. Судьба!
— Почему судьба? Вы — ребенок. И вы не доверяете мне. Неужели вы думаете, что случайно встретили меня?
После недолгого молчания она прибавила:
— Это так просто. У меня есть могущественные друзья в Китае. Они, без сомнения, многое могли бы сделать для вас. Хотите, чтобы…
Я не дал ей времени кончить.
— Нет, не это! — умолял, нежно и слабо защищаясь. — Только не это! Я понимаю вас. Не говорите ничего больше.
— Вы — ребенок, — повторила Клара. — И вы говорите, словно в Европе, мое сердечко… У вас глупые предрассудки, как в Европе. В Китае жизнь свободная, счастливая, полная, без договоров, без предрассудков, без законов. Для вас, по крайней мере. Никаких преград к свободе, кроме самого себя, к любви, кроме торжествующего разнообразия своего желания. Европа и ее лицемерная, варварская цивилизация, все это — ложь. Что вы делаете другого, как только лжете, лжете самим себе и другим, лжете во всем, что, в глубине своей души, вы считаете за правду? Вы обязаны выказывать внешнее уважение к лицам, к учреждениям, которые вы находите глупыми. Вы живете, позорно привязанные к нравственным или общественным условиям, которые вы презираете, которые вы осуждаете, к которым, как вы сознаете, нет никакого основания. Вот это — то вечное противоречие между вашими идеями, вашими желаниями и всеми мертвыми формами, всеми напрасными признаками вашей цивилизации и делает вас печальными, смущенными, выбитыми из колеи. В этом невыносимом конфликте вы теряете всю радость жизни, все чувство личности, потому что каждую минуту сдавливается, запрещается, останавливается свободная игра ваших сил. Вот отравленная, смертельная рана цивилизованного света… У нас ничего подобного… вы увидите! В Кантоне, посреди чудесных садов, у меня есть дворец, в котором все приспособлено к свободной жизни и к любви. Чего вы боитесь? Кого вы покинули? Кто же беспокоится о вас? Когда вы не будете больше любить меня или когда вы будете слишком несчастливы — вы уйдете!
— Клара! Клара! — умолял я.
Она резко топнула по полу палубы.
— Вы меня не знаете, — сказала она: — Вы не знаете, что я такое, и хотите уже покинуть меня! Разве я причиняю вам страх? Разве вы трус?
— Без тебя я не могу больше жить! Без тебя я могу только умереть!
— И хорошо! Не дрожи больше, не плачь больше. И поедем со мной!
Молния пронзила зеленые ее зрачки. Она сказала более низким, почти хрипящим голосом:
— Я научу тебя ужасным вещам… божественным вещам. Наконец, ты узнаешь, что такое любовь! Я обещаю тебе, что ты спустишься со мной на самое дно тайны любви… и смерти!..
И, улыбнувшись кровожадной улыбкой, от которой у меня дрожь пробежала по костям, она добавила:
— Бедный ребенок! Ты считал себя большим дебоширом… Большим развратником… Ах, твои бедные угрызения совести! вспоминаешь! И вот твоя душа более робка, чем душа маленького ребенка.
Это была правда! Я очень гордился, что я — свободный каналья; я считал себя выше всех нравственных предрассудков, и, однако, я еще иногда слышу голос долга и чести, который в известные моменты нервной угнетенности поднимается из туманной глубины моей совести. Честь чего? Долг перед кем? Какая бездна безумия этот человеческий разум! Чем будет скомпрометирована моя честь — моя честь! Чем не исполню я свою обязанность, если вместо того, чтобы скучать на Цейлоне, я продолжу свое путешествие до Китая? Неужели я на самом деле влез настолько в кожу ученого, чтобы воображать, что я еду изучать «пелазгическую протоплазму», открывать «клетку», погружаясь в заливы сингалезского берега? Эта совершенно шутовская мысль, что я всерьез было принял свою миссию эмбриолога, быстро вернула меня к действительному моему положению. Как? Удача, чудо решило, чтобы я встретил женщину, божественно прекрасную, богатую, исключительную, и которую я любил, и которая любила меня, и которая предлагала мне необыкновенную жизнь, исключительное наслаждение редкими ощущениями, сладострастные приключения, чудное покровительство, спасение, наконец, и даже больше, чем спасение — радость! И я позволю выскользнуть всему этому? Еще раз демон злости — тот глупый демон, которому, глупо повинуясь ему, я обязан всеми своими несчастьями — опять подошел посоветовать мне лицемерное сопротивление против неожиданного случая, который заключает в себе феерические сказки, которые больше никогда не представятся, и которого в глубине души я горячо желал! Нет, нет! Это было бы, наконец, слишком глупо!
— Вы правы, — сказал я Кларе, сваливая на любовный недостаток свою покорность, которая исходила изо всех моих привычек к лени и к разврату;– вы правы. Я не был бы достоин ваших глаз, ваших губ, вашей души… всего того рая и всего того ада, который заключается в вас, если бы я колебался дольше. А потом, я не смог бы лишиться тебя. Все могу принять, кроме этого. Ты права. Я твой, веди меня, куда хочешь. Страдать, умереть, не все ли равно! Потому что ты, ты, которую я еще не знаю, ты — моя судьба!
— О, дитя! дитя! дитя! — сказала Клара странным тоном, в котором я не мог различить действительный смысл, — радость ли это была, ирония или сострадание.
Потом, почти матерински, она посоветовала мне:
— Теперь… заботьтесь только о том, чтобы быть счастливым… Останьтесь здесь… Смотрите на чудный остров. Я пойду обсудить с комиссаром ваше новое положение на пароходе…
— Клара.
— Ничего не бойтесь. Я знаю, что надо сказать. — И так как я хотел возражать, она добавила:
— Шш! Разве вы — не мой ребенок, сердце мое? Вы должны повиноваться. А потом, вы не знаете…
И она исчезла, смешавшись с толпой собравшихся на палубе пассажиров, большинство которых уже держали в руках свои вещи.
Было решено, что в эти два дня, которые мы проведем в Коломбо, мы, Клара и я, осмотрим город и окрестности, где моя приятельница уже бывала и которые великолепно знала. Стояла невыносимая жара, настолько невыносимая, что самые прохладные, — сравнительно, — места той ужасной страны, где ученые поместили земной рай, как сады вдоль песчаных берегов, казались мне удушливой баней. Большая часть наших компаньонов по путешествию не осмеливалась выходить при такой огненной температуре, которая отбивала у них малейшую охоту прогуливаться и даже простое желание двигаться. Я и теперь еще вижу их смешными и стонущими в большой зале отеля, с обвязанной мокрыми и дымящимися салфетками головой, — изящное украшение, возобновляемое каждую четверть часа, которое превращало самую благородную часть их тела в какую-то каминную трубу, увенчанную веером из пара. Распростершись в качалках, под рипка, с расплавленными мозгами, с разгоряченными легкими, они пили ледяные напитки, которые приготовлялись для них боями, напоминавшими цветом кожи и строением тела пряничных людей наших парижских базаров, тогда как другие бои, такого же тона и такой же модели, отгоняли от них комаров большими веерами.
Что же касается меня, то ко мне вернулась — может — быть, немного быстро — вся моя веселость и даже все остроумие. Все мои сомнения исчезли; пропала боязнь поэзии. Избавившись от опасений за будущее, я снова сделался тем человеком, каким был, покидая Марсель, глупым и скандальным парижанином, «которого не проведешь», праздношатающимся, которого «не надуешь» и который умеет показать свои способности природе. Даже тропической.
Коломбо показался мне скучным, смешным городом, без живописности, без таинственности. С какой радостью я внутренне поздравлял себя, что чудесно вырван из этой глубокой скуки, которую представляли его прямые улицы, его неподвижное небо, его жесткая растительность, весь этот город, наполовину протестантский, наполовину буддистский, одуревший, как бонза и ханжа, как пастор. И я изощрялся в остроумии над кокосовыми пальмами, которые я немедленно сравнил с ужасными и облетевшими перовыми метелками, а также надо всеми высокими деревьями, которые я обвинял в том, что они вырезаны ужасными ремесленниками из листового железа и раскрашенного цинка. Во время своих прогулок по Слав-Исланду, — местному Булонскому лесу, и по Петаху, — местному Муфтарскому кварталу, мы встречали только ужасных опереточных англичанок, обтянутых в светлые костюмы, наполовину индусские, наполовину европейские, на самом же деле более карнавальные; встречали синеглазок, еще более ужасных, чем англичанки, старух в двенадцать лет, сморщенных, как чернослив, согнутых, как столетняя виноградная лоза, разбитых, как старая лодка, с деснами в кровавых ранах, с губами, сожженными арековым орехом, и зубами цвета старой трубки. Я напрасно искал сладострастных женщин, негритянок, практически искусных в любви, таких нарядных маленьких кружевниц, с такими выразительными жгучими глазами, о которых мне говорил лгун Эжен Мортен. И я от всего сердца пожалел несчастных ученых, посылаемых сюда с проблематическим поручением победить секрет жизни.
Но я понял, что Кларе не нравятся эти легкие и грубые насмешки и счел более благоразумным смягчить их, не желая ни причинять ей рану в ее страстном культе природы, ни падать в ее глазах. Несколько раз я заметил, что она слушает меня с томительным удивлением.
— Почему вы так веселы? — спросила она. — Мне не нравится, когда так радуются, мой дорогой… Это оскорбляет меня… Когда бываешь весел, в это время не любишь… Любовь — серьезная, печальная и глубокая вещь.
Впрочем, это не мешало ей разражаться смехом по поводу всего или безо всякого повода…
Это-то сильно одобрило меня привести в исполнение одну мистификацию, а именно следующую.
Между рекомендательными письмами, вывезенными мною из Парижа, было письмо к известному сэру Оскару Тервику, который, кроме других, научных титулов, был в Коломбо президентом «Association of the tropical embryology and of the British entomology». В отеле, где я остановился, я узнал на самом деле, что сэр Оскар Тервик был замечательным человеком, автором известных трудов, — одним словом, великим ученым. Я решил посетить его. Подобный визит более не мог быть для меня опасным, а потом для меня не было оскорбительным познакомиться, соприкоснуться с настоящим эмбриологом. Он жил далеко, в предместье, по имени Кольпетти, которое было, так сказать, Пасси для Коломбо. Здесь, посреди густых садов, украшенных неизбежным кокосовым деревом, в обширных и странных виллах, живут богатые коммерсанты, и почетные чиновники города. Клара пожелала сопровождать меня. Она ждала меня в карете недалеко от дома ученого на небольшой площади, осененной огромными деревьями.
Сэр Оскар Тервик принял меня вежливо, не более.
Это был очень длинный, очень худой, очень сухой человек, с совершенно красным лицом, с белой бородой; опускавшейся до пояса и квадратно подстриженной, как хвост пони. Он носил широкие панталоны из желтого шелка, и его волосатая грудь была покрыта какой-то шалью из светлой шерсти. Он важно прочитал поданное мною письмо и, искоса оглядев меня с недоверием, — недоверием ко мне или к себе? — он спросил меня на скверном французском языке:
— Вы… эмбриолог?
Я утвердительно кивнул головок.
— All right! — закудахтал он.
И с таким жестом, как будто бы вытаскивает сеть из моря, он продолжал:
— Вы… эмбриолог? Уеs… Вы… вот так… в море… fish… fish… little fish?
— Little fich… imenno… little fich… — подтвердил я, повторяя подражательный жест ученого. — В море?
— Yes! Yes!
— Очень интересно! Очень красиво, очень любопытно! Yes!
Продолжая такой жаргонный разговор и продолжая вдвоем тащить «в море» наши химерические сети, замечательный ученый подвел меня к бамбуковому консолю, на котором стояли три алебастровых бюста, увенчанных искусственными лотосами. Поочередно показывая на них пальцем, он представлял мне их таким серьезным и смешным тоном, что я готов был расхохотаться.
— Мистер Дарвин! Очень великий натуралист… очень, очень великий! Yes.
Я отвесил глубокий поклон.
— Мистер Геккель! Очень великий натуралист… Не такой, как он, нет!.. Но очень великий!.. Мистер Геккель здесь… вот так… он… в море… little fish…
Я поклонился опять. И еще более громким голосом, положив красную, как краб, руку на третий бюст, он крикнул:
— Мистер Коклин!.. Очень великий натуралист… из музея… как говорится?.. из музея Гревэна… Yes! Гревэна!.. Очень хорошо!.. Очень любопытно!..
— Очень интересно! — заключил я.
— Yes!..
После этого он отпустил меня.
Я передал Кларе со всеми подробностями и мимикой этот странный разговор… Она хохотала, как сумасшедшая.
— О, ребенок! ребенок… ребенок! Как вы смешны, милый мой!..
Это был единственный научный эпизод изо всей моей миссии. И тогда-то я понял, что такое эмбриология!
На другой день утром, после дикой любовной ночи, мы опять вышли в море, по дороге к Китаю.
Часть вторая
I
— Почему же вы еще не говорите со мной о вашей дорогой Анни? Вы не сообщили еще ей о моем приезде сюда? Сегодня она не придет? Она все еще также красива?
— Как, вы не знаете? Но Анни умерла, мой дорогой!
— Умерла? — воскликнул я. — Это невозможно! Вы смеетесь надо мной?
Я смотрел на Клару. Божественно-спокойная, красивая, почти голая в прозрачной тунике из желтого шелка, она небрежно лежала на тигровой шкуре. Ее голова покоилась между подушками, а ее руки, унизанные кольцами, играли длинной прядью ее распущенных волос. Лаосская собака, с рыжей шерстью, спала около нее, положив морду на ее бедро, а одну лапу на грудь.
— Как? — заговорила Клара. — Вы её знали? Как это смешно!
И, продолжая улыбаться, с движениями гибкого зверя, она объяснила мне:
— Это было нечто ужасное, милый! Анни умерла от проказы… от той ужасной проказы, которую зовут слоновой болезнью… Здесь все ужасно… любовь, болезнь… смерть… и цветы! Уверяю вас, я никогда, никогда так не плакала. Я так любила ее. А она была так красива, так странно красива!
Она прибавила с долгим и милым вздохом:
— Никогда уже больше мы не узнаем такого резкого вкуса ее поцелуев. Большое несчастье.
— Значит… это правда? — пробормотал я. — Но как это случилось?
— Не знаю… Здесь столько тайны. Так много невероятного. Мы часто вдвоем ходили с ней на реку. Надо вам сказать, что там на одном цветочном судне, тогда была баядерка из Бенареса, обворожительное создание, милая, посвященная священниками в некоторые проклятые тайны культа древних брахминов. Может быть, именно это и было причиной или что другое… Раз, ночью, когда мы возвращались с реки, Анни жаловалась на очень сильную боль в голове и в груди. На другой день все ее тело было покрыто маленькими красными пятнышками. Ее кожа, розовее и тоньше цветка алтея, огрубела, утолщилась, вздулась, приняла серо-пепельный оттенок, поднялась от толстых опухолей, от ужасных нарывов. Это было нечто ужасное. И болезнь, сначала охватившая ноги, захватила бедра, живот, грудь, лицо. О, ее лицо, ее лицо!
Представьте себе огромный мешок, отвратительный бурдюк, совершенно серый, сочащийся темной кровью, свешивавшийся и качающийся при малейшем движении больной. От ее глаз — ее глаз, дорогой мой, — была видна только тоненькая красноватая и слезящаяся щелочка. Я все еще задаю себе вопрос — возможно ли это?
Она перебирала пальцами золотую прядь волос. При одном движении лапа спавшей собаки, скользнув по щелку, совсем открыла полушарие груди, выставившей свой сосок, розовый, как еще молодой цветок.
— Да, я часто еще задаю себе вопрос, не брежу ли я, — сказала она.
— Клара, Клара! — умолял я, потерявшись от ужаса, — не говори мне ничего больше. Я хотел бы, чтобы образ нашей божественной Анни остался в моей памяти неприкосновенным. Как же я теперь удалю из своих мыслей этот кошмар? Ах! Не говорите ничего больше или рассказывайте мне об Анни, когда она была так прекрасна… когда она была слишком прекрасна!
Но Клара не слушала меня. Она продолжала:
— Анни уединилась… заперлась в своем доме, одна с китаянкой, ухаживавшей за ней… Она отослала всех своих женщин и не хотела никого видеть… даже и меня… Она выписала самых опытных докторов из Англии… Вы понимаете — напрасно… Самые знаменитые тибетские волшебники, знающие волшебные слова и воскрешающие мертвых, признали себя бессильными… От этой болезни никогда не вылечиваются, но и не умирают. Это ужасно. Тогда она убила себя. Несколько капель яда — и все было кончено для прелестнейшей из женщин.
Ужас сковал мне губы. Я смотрел на Клару, не будучи в силах произнести ни одного слова.
— От этой китаянки, — продолжала Клара, — я узнала действительно любопытную подробность… которая восхищает меня… Вы знаете, как Анни любила жемчуг. У нее были несравненные жемчужины, самые чудесные, я думаю, какие только есть на свете. Вы также припоминаете, с какой чисто физической радостью, с чувственными спазмами она украшала себя ими… Ну, при болезни эта страсть перешла у нее в безумие, в бешенство, как любовь. Целые дни ей нравилось дотрагиваться до них, ласкать их, целовать их. Она делала из них подушки, колье, переливы, манто. Но получилась необычайная вещь: жемчужины умирали на ее коже. Они сначала понемногу тускнели, понемногу потухали, никакой цвет более не отражался в их воде… и через несколько дней, захваченные проказой, они превращались в маленькие шарики пепла. Они были мертвы. Мертвы, как люди, мой дорогой. Разве вы думали, что в жемчужинах есть душа? Я же нахожу это обворожительным и прелестным. И с тех пор я постоянно думаю об этом.
После короткого молчания она продолжала:
— И это не все!.. Несколько раз Анни выражала желание, чтобы после смерти ее отнесли на маленькое кладбище парсов. Туда, на холм Голубой Собаки. Она хотела, чтобы ее тело было разорвано клювами коршунов. Вы знаете, насколько странные и дикие идеи бывали у нее во всем. Ну, и коршуны отказались от этого предложенного им королевского праздника. Они с ужасными криками удалились от ее трупа. Его должны были сжечь.
— Но почему вы не писали мне об этом? — упрекнул я Клару.
Медленным и очаровательным движением Клара выпустила золотую прядь своих волос, погладила рыжий мех проснувшейся собаки и небрежно сказала:
— Правда? Я обо всем этом не написала вам? Вы уверены? Очевидно, забыла. Бедная Анни!
Она прибавила:
— После этого огромного несчастья мне все здесь наскучило. Я слишком одинока… И я хотела бы умереть… умереть… Ах! Уверяю вас! И если бы вы не вернулись, думаю, что я бы уже была мертва.
Она откинула голову на подушку, увеличила голое пространство груди и с улыбкой, со страшной улыбкой ребенка и проститутки в одно и то же время сказала:
— А мои груди вам все еще нравятся? Вы находите меня все еще прелестной? Так почему же вы так, так долго ездили? Да… да, я знаю, не говорите ничего, не отвечайте, я знаю. Вы — зверушка, мой милый!
Я хотел бы заплакать, но не мог. Я хотел бы еще говорить, но больше не мог.
Мы были в саду, в золоченой беседке, в которой глицинии свешивались голубыми и белыми кистями; мы кончили пить чай. Сверкающие жучки жужжали в листах, бронзовки реяли и останавливались на замирающих сердцах роз, а через открытую дверь, с северной стороны, мы видели поднимающиеся из бассейна, вокруг которого спали в нежной и совершенной серой тени аисты, длинные стебли, желтого пурпурно-пламенного ириса.
Вдруг Клара спросила меня:
— Хотите пойти кормить китайских каторжников? Это очень любопытно, очень забавно. Это почти единственное действительно оригинальное и изящное развлечение, которое остается нам здесь, в этом забытом уголке Китая. Хотите, милый мой?
Я чувствовал себя усталым, голова была тяжела, все существо мое было охвачено лихорадкой этого ужасного климата… Кроме того, рассказ о смерти Анни взволновал меня… А снаружи стояла смертельная, как яд, жара…
— Я не знаю, о чем вы меня просите, дорогая Клара… Я еще не пришел в себя от этого долгого путешествия по равнинам, равнинам и равнинам… по лесам, лесам и лесам… И это солнце… Я боюсь его больше смерти! А потом я так хотел бы целиком принадлежать вам. и чтобы вы были целиком моя, сегодня.
— Хорошо. Если бы мы находились в Европе и если бы я попросила вас сопровождать меня на скачки, в театр, вы не колебались бы. Но это намного лучше скачек.
— Сжальтесь! Хотите, завтра?
— О, завтра, — ответила Клара с удивленной гримасой и с видом нежного упрека. — Всегда завтра! Значит, вы не знаете, что завтра уже нельзя этого сделать. Завтра? Но ведь это же запрещено. Двери каторги закрыты. Даже для меня. Каторжников можно кормить только по средам, как вы не знаете этого? Если мы пропустим сегодняшнее посещение, то нам придется ждать целую долгую, долгую неделю. Как это было скучно. Целую неделю, подумайте-ка. Идем же, обожаемая тряпка, о, идемте, умоляю вас. Вы вполне можете это сделать для меня.
Она наполовину приподнялась на подушках. Сквозь распахнувшуюся тунику, ниже талии, посреди облаков ткани, виднелись кусочки ее горячего и розового тела. Она кончиками пальцев вытащила из золотой бомбоньерки, стоявшей на лаковом столике, облатку хинина и, приказав мне подойти, любезно поднесла ее к моим губам.
— Вы увидите, сколько здесь страсти, сколько страсти! Вы не можете себе представить, дорогой! А как крепко я вас буду любить сегодня вечером. Как я безумно буду любить тебя сегодня вечером! Проглоти, мой милый, проглоти!
А так как я все еще был печален, колебался, она, чтобы победить мое последнее сопротивление, сказала с мрачным блеском в глазах:
— Слушай! Я видела, как вешают воров в Англии, я видела бои быков и казни анархистов в Испании. В России я видела, как казаки до смерти избивали красивых девушек. В Италии я видела живые привидения, видела, как умиравшие с голода выкапывали холерных и жадно поедали. Я видела, как в Индии, на берегу реки, тысячи совершенно голых существ корчились и умирали от ужасов чумы. Раз вечером в Берлине я видела, как одну женщину, которую я раньше любила, чудное создание в розовом трико, я видела, как ее растерзал лев в клетке. Я видела всевозможные ужасы, всевозможные человеческие страдания. Это все очень красиво! Но я ничего не видела такого хорошего, понимаешь, как эти китайские каторжники. Это — самое красивое. Ты не можешь знать, я говорю тебе, ты не можешь знать… Анни и я никогда не пропускали ни одной среды. Пойдем, прошу тебя.
— Если уж это так красиво, дорогая Клара, и если это доставит вам такое удовольствие, — отвечал я меланхолически, — пойдем кормить каторжников.
— Правда, ты хочешь?
Клара выражала свою радость, хлопая в ладоши, как ребенок, которому гувернантка позволила мучить маленькую собачку. Потом она, ласкающая и хищная, прыгнула ко мне на колени и обхватило мою шею своими голыми руками. И ее шевелюра утопила меня, ослепила мне глаза золотым пламенем и опьяняющим ароматом.
— Как ты любезен, дорогой, мой милый. Поцелуй мои губы, поцелуй мой затылок, поцелуй мои волосы, мой дорогой мальчик!
У ее волос был такой могущественный живительный запах, что от одного их прикосновения к моей коже я немедленно позабыл лихорадку, усталость и горе… и я почувствовал, как тотчас же начал струиться и гореть в моих жилах героический жар и новые силы.
— Ах, как мы позабавимся, моя душка! Когда я иду к каторжникам, у меня получается головокружение, и все мое тело дрожит, как от любви. Мне кажется, понимаешь ли, мне кажется, что я спускаюсь в глубь своего тела, в самый мрак моего тела. Твои губы, дай мне твои губы, твои губы, твои губы, твои губы!
И, легкая, ловкая, бесстыдная и радостная, сопровождаемая прыгавшей рыжей собакой, она ушла, чтобы отдаться в руки служанок, одевавших ее.
Я уже не был грустен, я уже не был усталым. Поцелуй Клары, вкус которого — как какой-то чудодейственный вкус опиума — был у меня на губах, сделал нечувствительными мои страдания, умерил пульс моей лихорадки, отодвинул чудовищный образ умершей Анни. И я смотрел в сад успокоенным взглядом.
Успокоенным?
Сад спускался легкими уступами, повсюду украшенный редкостными деревьями и драгоценными растениями. Аллея из огромных камфарных деревьев начиналась от беседки, в которой я находился, и оканчивалась красной дверью, в форме храма, которая выходила в поле. За пустыми ветками гигантских деревьев, закрывших слева вид, я местами замечал реку, сверкавшую на солнце отполированным серебром. Я попробовал заинтересоваться многочисленными украшениями сада, его странными цветами, его чудовищной растительностью. Через аллею перешел человек, ведший на цепи двух ленивых пантер. Здесь, посреди лужайки, стояла огромная бронзовая статуя, изображавшая не знаю какое божество, бесстыдное и суровое. Там, у огромных деревьев, искали тени птицы, журавли в белых накидках, красногрудые туканы из тропический Америки, священные фазаны, утки в золотых касках и кирасах, одетые в яркий красный пурпур, как древние воины. Но ни птицы, ни хищные звери, ни боги, ни цветы, ни странный дворец, посреди кедров и бамбуков направо от меня выставлявший свои светлые террасы, украшенные цветами, свои темные балконы и свои цветные крыши, не могли привлечь моего внимания. Моя мысль носилась очень далеко, очень далеко, за морями и лесами. Она была во мне, потонула во мне, в самой глубине меня.
Успокоенный?
Как только Клара исчезла за листвою сада, угрызения совести, что я здесь, охватило меня. Зачем я вернулся? Какому безумию, какой низости я повиновался? Она раз сказала мне, помните, на судне: «Когда вы будете очень несчастны, вы уйдете оттуда!» Я думал, что я сильнее всего моего подлого прошлого, а на самом деле я был только слабым и беспокойным ребенком. Несчастным? Да! Я был несчастным до самых худших мучений, до самого ужасающего отвращения к самому себе. И я уехал. Благодаря действительно постоянной насмешке судьбы, я, чтобы бежать от Клары, воспользовался проездом через Кантон одной английской экскурсии — я окончательно предан экскурсиям, — направлявшейся изучать малоизвестные области Аниама. Это было забвение, может быть, а может быть, смерть. В течение двух лет, двух долгих и тяжелых лет я ходил, ходил. И это не было ни забвение, ни смерть. Несмотря на усталость, на опасности, на проклятую лихорадку, — ни на один день, ни на одну минуту я не мог вылечиться от ужасного яда, введенного в мое тело этой женщиной, которая притягивала меня к себе, заставляла грезить о ней ужасной гнилью своей души и своими любопытными преступлениями, которая была чудовищем и которую я любил за то, что она чудовище! Я думал — правда ли я это думал? — подняться с любовью. И вот я спустился еще ниже, на дно ядовитой пропасти, из которой никогда уже более не выйдешь, раз подышишь ее запахом. Часто в глубине лесов, терзаемый лихорадкой, после переходов, в палатке, я думал опиумом убить чудовищный и постоянный образ. А опиум вызвал его передо мной еще более явственным, более живым, более повелительным, чем когда-либо. Тогда я писал ей безумные, оскорбительные, проклинающие письма — письма, в которых самое жгучее презрение перемешивалось с самым преданным обожанием. Она отвечала мне очаровательными, наивными и печальными письмами, получаемыми мною иногда в городах и на проходимых нами постах. Она сама называла себя несчастной в отсутствии меня, плакала, умоляла, звала меня. Она находила только одно следующие оправдание: «Пойми же, мой дорогой, — писала она мне, — что моя душа ни похожа на твою ужасную Европу. Внутри себя я ношу душу старого Китая, которая намного прекраснее. Не грустно ли, что ты не можешь понять этого?» Из одного ее письма я узнал, что она бросила Кантон, где она не могла дольше жить без меня, и поселилась с Анни в одном «чудесном» городе в более Южном Китае. Ах! Как я мог так долго противиться дурному желанию бросить своих компаньонов и пробраться в этот проклятый и прекрасный город, этот очаровательный и мучительный ад, где Клара дышала воздухом, жила в неизвестном и отчаянном сладострастии, и я теперь умирал, что не принимаю в нем участия. И я вернулся к ней, как убийца возвращается на место своего преступления.
Смех в кустах, восклицания, скакание собаки. Это — Клара. Она была одета наполовину по-европейски… Блуза из серо-голубого бледного шелка, усеянная едва позолоченными цветами, покрывала ее тысячами складок, обрисовывая ее стройный стан и роскошные формы. На ней была большая шляпа из светлой соломы, из глубины которой ее лицо выглядывало, как цветок розы в светлом сумраке. А маленькие ее ножки были обуты в желтую кожу.
Когда она вошла в беседку, как будто бы ворвались всевозможные запахи.
— Не правда ли, вы находите, что я смешно вырядилась? О, печальный европейский человек, ни одного раза не рассмеявшийся после своего возвращения. Разве я не прекрасна?
Так как я не поднимался с дивана, на котором лежал, она продолжала:
— Скорей! Скорей! Мой дорогой. Потому что нам надо далеко идти. Я надену перчатки на дорогу. Ну, идем. Нет, нет, не ты, — добавила она, тихонько отталкивая лаявшую, прыгавшую, махавшую хвостом собаку.
Она позвала боя и велела следовать за нами с корзиной мяса и маленькими вилами.
— Ах! — объяснила она мне, — очень забавно! Чудная корзина, сплетенная лучшим корзиночником Китая! А вилы? Ты посмотри, что за вилы, зубцы у которых платиновые, украшенные золотом, а рукоятка из зеленого нефрита. Зеленого, как небо при первых проблесках утра, зеленого, как глаза бедной Анни. Но не делайте такой грустной похоронной мины и идите, скорее, скорее!
И мы: отправились в путь под солнцем, ужасным солнцем, сжигавшим траву, заставившим блеснуть все пионы в саду и давившим мой череп, как тяжелая свинцовая кираса.
II
Тюрьма расположена на другой стороне реки, которая по выходе из города медленно, зловеще катила посреди плоских берегов зараженные и совсем черные свои воды. Чтобы попасть туда, надо сделать длинный путь, добраться до моста, на котором каждую среду, посреди замечательного стечения изящных лиц, происходит рынок мяса для каторжников.
Клара отказалась от паланкина. Мы пешком вышли из сада, расположенного вне ограды города, и по тропинке, украшенной то темными камнями, то густыми стенами белых роз и подстриженной бирючины, мы добрались до предместьев в том месте, где исчезнувший город превращается почти в деревню, где дома, превратившиеся в шалаши, стоят все далее и далее друг от друга в маленьких оградах, сплетенных из бамбука. Далее следовали фруктовые сады в цвету, огороды или пустые пространства. Голые до пояса люди, в шляпах в виде колокола, тяжело работали под солнцем и сажали лилии — те прекрасные лилии, лепестки которых похожи на лапы морского паука, а вкусные луковицы идут в пищу богачам. Мы также прошли мимо нескольких несчастных сараев, где горшечники вертели горшки, где тряпичники сидели на корточках среди широких корзин, а над ними летала туча голодных и каркающих птиц. Дальше, под огромным фиговым деревом, мы видели сидевшего на краю колодца какого-то робкого и тихого старика, обмывавшего птиц. Каждую минуту мы встречались с паланкинами, доставлявшими в город уже пьяных европейских матросов. А сзади нас горел на солнце раскаленный и нагроможденный в кучу, спускавшийся по холму город со своими храмами и странными красными, зелеными, желтыми домами.
Клара шла быстро, без жалости к моей усталости, не обращая внимания на солнце, раскалившее воздух и, несмотря на наши зонтики, жегшие нам кожу. Она шла, свободная, гибкая, гордая и счастливая. Иногда она говорила мне с тоном шутливого упрека:
— Как вы медленны, дорогой! Боже, как вы медленны! Вы не подвигаетесь. Только бы ворота тюрьмы не были открыты до нашего прихода и каторжники не были бы накормлены! Это было бы ужасно! О, как я возненавидела бы вас!
От времени до времени она давала мне пастилу чамамели, которая может возобновить правильность дыхания, и, насмешливо смотря на меня, говорила:
— О, баба! …баба! …баба, и ничего больше!..
Потом, полусмеясь, полусердясь, она бросалась бежать. Мне было очень тяжело догонять ее. Несколько раз я должен был останавливаться и переводить дыхание. Мне казалось, что жилы мои лопаются, что сердце разрывается у меня в груди.
А Клара повторяла своим щебечущим голосом:
— Баба!.. Баба и ничего больше!..
Тропинка оканчивалась на набережной реки. Два больших парохода выгружали уголь и европейские товары; несколько джонок снаряжалось на рыбную ловлю; многочисленная флотилия сампанг со своими пестрыми навесами спала на якоре, укачиваемая легким плеском воды. В воздухе незаметно было никакого дуновения.
Эта набережная раздражала меня. Она была грязная и изрытая, покрытая черной пылью, усыпанная рыбьей чешуей. Смрадный запах, громкая ссора, игра на флейте, собачий лай доносились до нас из глубины окаймляющих набережную лачуг: чайных домиков, разбойничьих вертепов, подозрительных контор. Клара со смехом показала мне на какую-то лавочку, в которой продавались расположенные на листьях порции крыс и части собак, гнилой рыбы, чахлые цыплята, обмазанные камедью, содержимое бананов и летучие мыши, нанизанные на те же вертелы.
По мере того как мы подвигались вперед запахи становились все невыносимее, нечистоты все толще. На реке барки теснились, сбивались в кучу, перемешиваясь зловещими клювами своих носов и разорванными лохмотьями своих жалких парусов. На них жило плотное население — рыбаки и пираты, — ужасные демоны моря, с закопченными лицами, с красными от бетеля губами, с глазами, взгляд которых нагонял на нас дрожь. Они играли в кости, орали, дрались; другие, более мирные, чистили рыбу, которую потом сушили на солнце гирляндами на бечевках. Некоторые обучали обезьян проделывать разнообразные забавные и гнусные вещи.
— Забавно, нет? — спросила меня Клара. — А таких, у которых нет более жилища как их плоты, более тридцати тысяч. Один черт знает, что они делают.
Она подняла юбку, открыла низ своей ловкой и нервной ноги, и мы долго шли по этой ужасной дороге, до самого моста, странная постройка и пять массивных арок которого, разукрашенные в кричащие цвета, перекидывались через реку, на которой, благодаря водоворотам и течению, кружатся, кружатся и спускаются вниз большие масляные круги.
На посту зрелище меняется, но запах усиливается, тот свойственный всему Китаю запах, который, в городах ли, в лесах ли, или на лугах, постоянно заставляет вас думать о гниении и о смерти.
Маленькие лавочки, напоминающие пагоды, навесы в форме киосков, завешанные светлыми шелковыми тканями, огромные зонтики, прикрепленные к тележкам в передвижным лоткам, теснятся друг к другу. В этих лавочках, под этими навесами и зонтиками толстые торговцы, с брюхом гиппопотама, одетые в желтые, голубые, зеленые платья, кричащие и бьющие в гонг, чтобы привлечь покупателей, продают всевозможную падаль: мертвых крыс, утопших собак, части оленей и лошадей, гниющую дичь, и все это свалено, перемешано в широких бронзовых корытах.
— Здесь… здесь… сюда! Идите сюда!.. И глядите… и выбирайте! Нигде вы лучше не найдете! Более испорченного нигде нет!
И, порывшись в корытах, они на длинных железных вилах размахивают, как знаменами, противными кусками гниющего мяса и со свирепыми гримасами, усиленными красными рубцами на их разукрашенных, как маски, лицах, посреди бешеного грома гонгов и криков конкурентов, повторяют:
— Здесь… здесь… сюда! Идите сюда… и смотрите… и выбирайте… Нигде вы лучше не найдете… Более испорченного нигде нет!..
Когда мы взошли на мост, Клара сказала мне:
— Ах! Видишь, мы опоздали! Это — твоя вина. Поспешим.
На самом деле, многочисленная толпа китаянок и, посреди их, несколько англичанок и несколько русских — здесь, не считая комиссионеров, было очень мало мужчин — кишели на мосту. Платья, вышитые цветами, разноцветные зонтики, подвижные, как птицы, веера и смех, и крики, и веселье, и борьба, — все это волновалось, ласкало, пело, летало под солнцем, как праздник жизни и любви.
— Здесь… здесь… сюда!.. Идите сюда!..
Ошеломленный свалкой, оглушенный визгом торговцев и звонким громом гонгов, я должен был почти драться, чтобы пробраться в толпе и чтобы оградить Клару от оскорблений одних, от ударов других. Действительно, смешная борьба, потому что я не мог сопротивляться и был бессилен, и я чувствовал, как меня несет это человеческое смятение так же легко, как мертвое дерево несется бешеными водами потока. Клара же лезла в самый центр толпы. Она со страстным удовольствием выносила грубое прикосновение и, так сказать, насилие этой толпы. Раз она с гордостью воскликнула:
— Смотри, дорогой: мое платье совсем разорвано! Это — мило.
Мы должны были приложить много усилий, чтобы проложить себе дорогу к лавкам, окруженным бравшимся приступом толпой, как бы для погрома.
— Смотрите и выбирайте… Нигде вы лучше не найдете…
— Здесь… здесь… сюда!.. Идите сюда!..
Клара взяла «прелесть»-на вилы из рук боя, следовавшего за нами с «прелестью»-корзиной, и вонзила ее в корыта.
— Таскай и ты!.. Таскай, мой дорогой!..
Мне казалось, что сердце у меня вот-вот разорвется от ужасного запаха солонины, наполнявшего эти лавочки, от этих развороченных тазов, ото всей этой толпы, набросившейся на падаль, как будто это были цветы.
— Клара, милая Клара!.. — взмолился я. — Уйдем отсюда, прошу нас!
— О, как вы бледны!.. А почему?.. Разве это не очень занятно?..
— Клара!.. милая Клара!.. — настаивал я. — Уйдем отсюда, умоляю нас!.. Я не могу дольше выносить этот запах!
— Но все это не дурно пахнет, моя прелесть… Это — запах смерти, и только!
Она не чувствовала себя неловко. Ни одна гримаска отвращения не появилась на ее белой коже, такой же свежей, как вишневый цвет. По страсти, затуманившей ее глаза, по вздрагиванию ее ноздрей можно было сказать, что она испытывает любовное наслаждение… Она вдыхала гниль с удовольствием, как какое-нибудь благоухание.
— О! прекрасный… прекрасный кусок!..
С грациозными движениями она наполняла корзинку отвратительными остатками.
И с трудом, сквозь возбужденную толпу, посреди ужасающих запахов, мы продолжали свой путь.
— Скорей!.. скорей!..
III
Тюрьма построена на берегу реки. Ее четырехугольные стены обхватывают пространство более чем в сто тысяч квадратных метров. Ни одного окна, никакого другого отверстия, кроме огромных ворот, увенчанных красными драконами и снабженными тяжелыми железными запорами. Сторожевые башни — четырехугольные башни, оканчивающиеся навесом крыши с изогнутыми клювами, обозначают четыре угла зловещей стены. Другие, поменьше, расположены на равном расстоянии. Ночью все эти башни освещаются, как маяки, и отбрасывают вокруг тюрьмы, на луг и на реку, предательский свет. Одна из этих стен погружает в черную, зловонную и глубокую воду свое прочное основание, испещренное слизистыми водорослями. Низкая дверь соединяется подъемным мостом с эстакадой, простирающейся до середины реки; к стойкам ее прикреплены многочисленные служебные барки и сампанги. Два солдата, с пиками в руках, охраняют ворота. Направо от эстакады маленький крейсер, вроде наших сторожевых рыболовных судов, стоит неподвижно, направив на тюрьму дула своих трех пушек. Налево, так далеко, как только может видеть глаз реку, двадцать пять или тридцать расставленных в ряд судов закрывают другой берег смесью разноцветных досок, пестрых мачт, снастей, старых парусов. И по временам видно, как двигаются эти массивные суда на колесах, которые с трудом приводят в движение сухими и нервными руками несчастные, запертые в клетке.
Сзади тюрьмы, далеко, очень далеко, до горного хребта, охватывающего горизонты темной линией, расстилается каменистая равнина с небольшими возвышениями, равнина то цвета сажи, то цвета запекшейся крови, равнина, на которой растут только тощий терновник, голубоватый волчец и захиревшие вишневые деревья, которые никогда не цветут. Бесконечная скорбь! Подавляющая грусть!.. В течение восьми месяцев в году небо остается голубым, с красноватым оттенком, на котором отражаются отблески вечного пожара, неизменно голубым, по которому никогда не осмелится ни одно облачко выкинуть какой-нибудь шутки. Солнце жжет землю, жарит скалы, превращает в стекло камешки, которые под ногами рассыпаются с дребезгом стекла и с искорками пламени. Ни одна птица не осмеливается влететь в этот воздушный горн. Здесь живут только невидимые организмы, толпы бацилл, которые к вечеру, когда мрачные туманы поднимаются с пением матросов от истопленной реки, явственно принимают форму лихорадки, чумы, смерти!
Какой контраст с другим берегом, на котором почва жирная и богатая, покрытая садами и огородами, питает гигантские деревья и чудесные цветы!
Сойдя с моста, мы, к счастью, могли найти паланкин, который доставил нас через жгучую равнину до тюрьмы, ворота которой были еще закрыты. Отряд полицейских агентов, вооруженных копьями с желтыми перевязями и огромными щитами, за которыми они почти не были видимыми, сдерживали нетерпеливую и очень многочисленную толпу. С каждой минутой толпа росла. Были раскинуты палатки, где пили чай, где вкусные конфеты — лепестки роз и акаций, завернутые в тонкое пахучее тесто, усыпанное сахаром. В других музыканты играли на флейтах, а поэты говорили стихи, а-странствующие торговцы продавали картины, старинные легенды о преступлениях, изображения пыток и мучений, эстампы и слоновую кость, странно бесстыдные. Клара купила несколько последних и сказала мне:
— Посмотри, насколько китайцы, которых обвиняют в том, что они варвары, насколько они, напротив, цивилизованнее нас, насколько они стоят выше нас в логике жизни и в гармонии природы! Они не смотрят на любовный акт, как на позор, который должно скрывать. Напротив, они восхваляют его, воспевая все его движения и ласки. Так же, как древние, для которых пол был не только не символом бесчестия, изображением распутства, а божеством! Ты сам видишь, насколько теряет все западное искусство от тога, что в нем воспрещены чудные проявления любви. У нас эротизм беден, глуп и холоден… Он постоянно изображается с извилистыми путями греха, тогда как здесь он сохраняет всю жизненную полноту, всю захватывающую поэзию, весь величественный трепет природы. Но ты ведь только европейский любовник, бедная рабская и зябкая душонка, в которой католическая религия глупо включила страх перед природой и ненависть к любви… Она изменила, извратила в тебе смысл жизни…
— Дорогая Клара, — возразил я. — Неужели естественно, что вы ищете сладострастие в гнили и стараетесь кучу ваших желаний возбудить ужасным зрелищем печали и смерти? Напротив, не есть ли это извращение той природы, на культ которой вы ссылаетесь, чтобы оправдать, может быть, то, что есть преступного и чудовищного в вашей чувствительности?
— Нет! — живо запротестовала Клара, — потому что Любовь и Смерть, это — одно и то же!.. и потому, что — гниение, это — вечное воскресение Жизни… Да!..
Вдруг она оборвала себя и спросила:
— Но зачем ты говоришь мне это? Ты — смешной!
И с милой гримасой она добавила;
— Как скучно, что ты ничего не понимаешь! Как ты не чувствуешь? Как ты еще не почувствовал, что — я не говорю даже в любви, — но в сладострастии, которое является высшей степенью любви и от которого возвышаются и обостряются все умственные способности человека… что только в одном сладострастии ты достигнешь полного развития личности?.. Неужели ты никогда, например, не думал, что в любовном акте совершаешь красивое преступление?.. То есть возвышаешь свой индивидуум надо всеми социальными предрассудками и надо всеми законами, надо всеми, наконец? И если ты о6 этом не думал, тогда зачем же совершаешь любовь?
— У меня нет силы спорить, — бормотал я. — И мне кажется, что я нахожусь в каком-то кошмаре. Это солнце, эта толпа, эти запахи. И твои глаза. Ах, твои мучающие и страстные глаза! И твой голос, и твое преступление, все это ужасает меня, все это сводит меня с ума!
Клара слегка насмешливо рассмеялась.
— Бедный малютка! — с насмешкой вздохнула она. — Ты не будешь говорить этого сегодня вечером, когда будешь в моих объятиях и как я буду любить тебя!
Толпа все более и более оживлялась. Бонзы, сидя под зонтиками, разостлали вокруг себя длинные красные одежды, словно лужи крови, торопливо ударяли в гонги и грубо ругали прохожих, а эти, чтобы утишить их проклятия, набожно бросали в металлические тарелки большие монеты.
Клара увлекла меня под навес, весь украшенный персиковыми цветами, усадила около себя на груде подушек и, лаская мой лоб своей электрической рукой, дающей забвение и опьянение, сказала:
— Боже!.. Как все это долго, милый!.. Каждую неделю одно и то же. Никогда не дождешься открытия ворот. Почему ты не говоришь? Разве я пугаю тебя? Ты доволен, что пришел? Ты доволен, что я ласкаю тебя, дорогой обожаемый каналья? О, твои прекрасные усталое глаза! Это лихорадка и из-за меня тоже, а? Скажи, что из-за меня. Хочешь пить чай? Хочешь еще пастилку гамаммелиса?
— Я хотел бы не быть здесь больше! Я хотел бы заснуть!
— Заснуть! Какой ты странный! О, ты сейчас увидишь, как это превосходно! Как это ужасно! И какие необыкновенные, какие незнакомые, какие чудесные желания от этого проникнут в наше тело! Мы вернемся по реке, в моем сампанге… И мы проведем ночь в цветочной барке. Хочешь ведь?
Она несколько раз слегка ударила меня по руке веером.
— Но ты не слушаешь меня? Почему ты меня не слушаешь? Ты бледен и печален. И на самом деле ты совсем не слушаешь меня.
Она прижалась ко мне, прижалась вся, гибкая и ласкающая.
— Ты не слушаешь меня, грубиян, — заговорила она. — Ты даже не ласкаешь меня! Приласкай же меня, дорогой! Пощупай, как холодны и тверды мои груди…
И более глухим голосом, устремив на меня зеленое пламя сладострастного и жестокого своего взгляда, она заговорила:
— Да! Неделю тому назад я видела необыкновенную вещь. О, моя прелесть, я видела, как бичевали человека за то, что он украл рыбу. Судья коротко заявил: «Не всегда надо говорить о человеке, несущем в руке рыбу: это — рыболов!» И он приговорил человека к смерти под железными палками. 3а одну рыбу, дорогой! Это произошло в Саду Мучений! Представь себе: человек стоял на коленях на земле, а его голова лежала на какой-то плахе, совершенно черной от старой крови. У человека плечи и поясница были голые, плечи и поясница цвета старого золота! Я пришла как раз в ту минуту, когда солдат, схватив его косу, которая у него была очень длинна, привязал ее к кольцу, прикрепленному к каменной колоде на земле… Около осужденного другой солдат раскалял на огне маленькую, совсем маленькую железную палочку. И вот, хорошенько слушай! Ты слушаешь? Когда палочка покраснела, солдат со всего размаха начал стегать человека по спине. Палочка в воздухе издавала: шюить! и тотчас же впивалась в мускулы, которые корчились и от которых поднимался красноватый пар, ты понимаешь! Тогда солдат студил палочку в теле, которое вздымалось и съеживалось на месте раны, потом, когда она остывала, он сразу, одним ударом, вырывал ее с кровавыми кусками тела. Человек издавал ужасные крики. Потом солдат снова начинал свое дело. И повторял свой маневр пятнадцать раз! Мне, дорогой мой, всегда казалось, что при каждом ударе палочка проникала мне в тело. Это было мучительно и очень приятно!
Так как я молчал, она повторила:
— Это было мучительно и очень приятно. И если бы ты знал, как был прекрасен этот человек, как он был силен! Мускулы были как у статуи. Обними меня, мой милый, обними же меня!
Глаза у Клары закатились. Сквозь полуприщуренные веки я видел только белки ее глаз. Она сказала:
— Он не шевелился. На спине у него были как бы мелкие волны. О, твои губы!
После нескольких секунд молчания она заговорила снова:
— В прошлом году вместе с Анни я видела нечто еще более поразительное. Я видела человека, который изнасиловал свою мать и потом ножом распорол е живот. Впрочем, кажется, он был сумасшедший. Он был осужден к смерти от ласки. Да, мой милый. Великолепно? Иностранцам не позволяют присутствовать при этом наказании, которое, к тому же, редко употребляется. Но мы дали денег стражнику, и он спрятал нас за ширмой. Я и Анни все видели. Сумасшедший — с виду он не похож на сумасшедшего — был положен на очень низенький стол, все тело его было привязано веревками, рот заткнут, так что он не мог сделать ни одного движения, ни испустить крика. Женщина, не молодая, не красивая, с серьезным лицом, одетая во все черное, с голой рукой, украшенной широким золотым браслетом, опустилась около сумасшедшего на колени. Она начала исполнять свои обязанности. О, дорогой, милый! Если бы ты видел! Это продолжалось четыре часа, четыре часа, подумай!.. Четыре часа ужасных и умелых ласк, во время которых рука женщины ни на минуту не замедлила движения, во время которых лицо ее оставалось холодным и угрюмым. Осужденный испустил дух в потоке крови, которым он забрызгал все лицо своей мучительницы. Никогда я не видела ничего такого ужасного, и это было так ужасно, мой милый, что мы с Анни лишились чувств. Я всегда думаю об этом.
С сожалением она добавила:
— У этой женщины на одном из пальцев был большой рубин, который во время мучения играл на солнце, как маленький, красный, танцующий огонек. Анни купила его. Я не знала, что с ним сделалось. Мне очень хотелось бы иметь его.
Клара умолкла, несомненно, унесшись мыслью к нечистым и кровавым образам этого гнусного воспоминания.
Несколько минут спустя над палатками и в толпе произошло движение. Сквозь отягощенные веки, которые у меня невольно почти закрывались, я видел, как затанцевали, закружились, заспешили платья и снова платья, зонтики, веера, счастливые лица, проклятые лица… получилось то впечатление, словно кто забросал по воздуху бесчисленное множество цветов, Слово кто выпустил феерических птиц.
— Ворота, мой дорогой, — воскликнула Клара, — ворота отворяют! Идем. Идем скорее! И не будь больше печален, умоляю тебя! Думай о том прекрасном, что ты сейчас увидишь и о чем я буду тебе рассказывать.
Я встал. И, схватив меня за руку, она поволокла меня за собою, а куда, я не знаю.
IV
Ворота тюрьмы открывались в широкий мрачный коридор. Из глубины этого коридора до нас долетели глухие, смягченные расстоянием колокольные звуки, раздававшиеся дальше коридора. И, слыша их, счастливая Клара хлопала в ладоши.
— О, милый мой! Колокол, колокол! Нам везет. Не будь же печален, не будь больным, умоляю тебя!
Все так бешено устремились в тюрьму, что полицейским агентам было трудновато восстановить в суматохе хоть какой-нибудь порядок. Клара решительно бросилась в эту смесь болтовни, криков, задыхающихся голосов, треска тканей, стука зонтиков и вееров, — бросилась, придя в еще больший экстаз, услыхав этот колокол, о котором я не подумал спросить у нее, зачем он так звонит и что означают его глухие, короткие звуки, его отдаленные звуки, причинявшие ей такое удовольствие!
— Колокол!.. колокол!.. колокол!.. Идем!..
Но мы вперед не продвигались, несмотря на усилия боев, носильщиков корзин, которые сильными движениями локтей старались образовать проход для своих хозяев. Высокие носильщики с гримасничающими, ужасно худыми лицами, с грудью, голой и покрытой под лохмотьями рубцами, несли на головах корзины, наполненные мясом, из которых от солнца усиливалось разложение и пышным цветом распускалась личиночная жизнь. Здесь, рядом с собою, я видел призраки преступления и голода, образы кошмаров и убийств, воскресших демонов старых древних, самых ужасных легенд Китая, улыбка которых, как пилою, распиливала рот с зубами, лакированными бетелем, и продолжалась ужасными извивами до волос. Одни ругались и свирепо тянули друг друга за косы; другие, с движениями хищных животных, пробирались по человеческому лесу, рылись в карманах, срезали кошельки, хватали драгоценности и исчезали, унося свою добычу.
— Колокол!.. колокол!.. — повторила Клара.
— А что за колокол!
— Увидишь. Это — сюрприз.
А запахи, поднимавшиеся от толпы, — запахи уборной смешавшиеся с запахом бойни, вновь падали и благоухание живого тела, — вызывали у меня тошноту и леденили мозг в костях. Я чувствовал то же самое ощущение летаргического оцепенения, какое столько раз испытывал в лесах Аннама, когда по вечерам миазмы являли глубины земли и угрожали смертью из-за каждого цветка, из-за каждого листка, из-за каждой былинки травы. И в то же время меня давили, толкали со всех сторон, дышать было почти нечем, и я готов был лишиться чувств.
— Клара!.. Клара!.. — звал я.
Она дала мне понюхать соли, укрепляющее могущество которой немного привело меня в себя. Она чувствовала себя свободной, очень веселой посреди этой толпы, запахи которой она вдыхала, самые омерзительные прикосновения которой она принимала с каким-то страстным спокойствием. Она телом — всем своим гибким и трепещущим телом — отдалась грубым ударам, обрыванию ее одежд. Ее такая белая кожа осветилась Жгучим розовым блеском; ее глаза приняли отблеск чувственной радости; ее губы вздувались, словно твердые бутоны, готовые расцвесть… Она сказала мне с каким-то насмешливым состраданием:
— Ах, баба… баба… баба!.. Вы всегда будете только баба и больше ничего!..
Когда мы вышли из сверкающего, ослепительного сияния солнца в коридор, он сначала показался мне погруженным в сумерки. Потом, понемногу привыкая к мраку, я смог отдать себе отчет, где я.
Коридор был широк и освещен сверху стеклянным потолком, пропускавшим через полупрозрачные стекла только смягченный свет. Меня, словно ласка источника, всего охватило ощущение влажной прохлады, почти холода. Стены были покрыты слезами, как перегородки подземных гротов. Для моих ног, обожженных камнями равнины, песок, которым были посыпаны плиты коридора, показался мягким, как дюны на берегу моря. Я полными легкими вдыхал воздух. Клара сказала:
— Ты видишь, как здесь хорошо для каторжников…
По крайней мере, им прохладно.
— Но где же они? — спросил я. — Направо и налево я вижу только одни стены!
Клара улыбнулась.
— Как ты любопытен! Ты сейчас даже более нетерпелив, чем я! Подожди, подожди немного. Сейчас, мой дорогой, ну!
Она остановилась, глаза у меня засверкали еще больше, ноздри раздулись, уши прислушивались к звукам, как косуля на стороже в лесу, — и она указала мне пальцем в глубь коридора.
— Слышишь?.. Это — они! Слышишь?
Тогда, из-за шума толпы, наполнявшей коридор, из-за жужжащих голосов, я различил крики, глухие жалобы, звон цепей, прерывистые вздохи, как кузнечные меха, странный и протяжный рев диких зверей. Казалось, все это несется из толщи стены, из-под земли… из самой бездны смерти… неизвестно откуда…
— Слышишь? — продолжала Клара. — Это они… ты сейчас их увидишь. Идем! Возьми меня за руку. Смотри же. Это они! Это они!
Мы продолжали идти в сопровождении боя, внимательно следившего за движениями своей госпожи. Нас сопровождал также и ужасный запах трупа; он не покидал нас больше, подкрепленный другими запахами, аммиачная едкость которых резала глаза и горло.
Колокол все глухо звонил… глухо, медленно и скорбно, словно жалоба умирающего. Клара в третий раз повторила:
— О, этот колокол! Он умер, он умер, мой дорогой. Мы, может быть, увидим его.
Вдруг я почувствовал, что ее ногти нервно вонзились в мою кожу.
— Милый, милый, направо! Какой ужас!
Я быстро повернул голову… Начиналось адское зрелище.
Направо, в стене, были широкие кельи или, скорее, широкие клетки, загороженные решетками и отделенные друг от друга толстыми каменными перегородками. Первые десять были заняты, в каждой по десяти осужденных, и все десять представляли одинаковое зрелище. Шея, заключенная в такой широкий ошейник, что тел нельзя было видеть, можно было сказать,, что это — ужасные, живые, отрубленные головы, положенные на столы. Сидя на корточках посреди своих нечистот, с закованными руками и ногами, они не могли ни вытянуться, ни лечь, ни отдохнуть никогда. Малейшее движение, передвигая ошейник на их содранном горле и на окровавленном затылке, заставляло их издавать вой от боли, к которому они присоединяли ужасные проклятия нам и жалобы богам.
Я онемел от ужаса.
Легкая, с красивым трепетом и изящными движениями, Клара защепила из корзины боя несколько небольших кусков мяса и грациозно бросила их сквозь решетку в клетку. Десять голов одновременно повернулись на закачавшихся ошейниках; одновременно двадцать больших глаз бросили на мяса кровавые взгляды, ужасные голодные взгляды. Потом один общий крик вырвался из десяти скривленных ртов. И, поняв свою беспомощность, заключенные больше не шевелились. Они замерли, слегка наклонив головы, словно готовые — покатиться по наклону ошейников: черты их исхудалых и бледных лиц были сведены суровой гримасой, какой-то насмешливой неподвижностью.
— Они не могут есть, — объявила Клара. — Они не могут достать мяса. Черт возьми, при таких машинках это понятно. Но это не ново. Это — муки Тантала, удесятеренные ужасом китайского воображения… А?.. ты все-таки веришь, что есть несчастные люди?
Она бросила еще сквозь решетку небольшой кусочек падали, который, упав на край одного ошейника, привел его в легкое колебание. Глухое ворчание отвечало на ее движение; и в то же время в двадцати зрачках загорелась еще более свирепая ненависть и еще большее отчаяние… Клара инстинктивно отодвинулась.
— Видишь, — продолжала она менее уверенным тоном. — Им приятно, что я даю им мяса. Этим несчастным это доставляет приятное развлечение, доставляет им некоторую иллюзию. Идем, идем!
Мы медленно проходили перед десятью клетками. Останавливавшиеся женщины кричали или звонко смеялись, или же предавались страстной мимике. Я видел, как одна русская, совершенная блондинка, с белыми холодными глазами, протягивала наказываемым, на конце своего зонтика, отвратительные зеленоватые остатки, которые она то придвигала, то отодвигала от них. Со сведенными судорогами губами, скаля зубы, как приведенные в бешенство собаки, они пытались схватить пищу, которая всякий раз ускользала от их ртов, покрытых слюной. Любопытные женщины со вниманием и радостью следили за всеми перипетиями этой жестокой игры.
— Какие дураки! — сказала Клара, серьезно приходя в негодование. — На самом деле, есть женщины, для которых нет ничего святого. Это — позорно!..
Я спросил:
— Какие же преступления совершили эти люди, что их так мучают?
Она рассеянно ответила:
— Не знаю… Может быть, никакого или какую-нибудь мелочь, наверное… Вероятно, мелкие кражи у торговцев. Впрочем, это — простой народ, бродяги из порта, праздношатающиеся бедняки. Они не очень интересуют меня. Но тут есть другие. Ты сейчас увидишь моего поэта. Да, у меня здесь есть один любимец и, действительно, он — поэт! Не правда ли, это смешно? Но, знаешь ли, он — великий поэт! Он написал чудесную сатиру на одного принца, обокравшего казну. И он ненавидит англичан. Раз вечером, два года тому назад, его привели ко мне. Он пел очаровательные вещи. Но особенно великолепен он в сатире. Ты сейчас увидишь его. Он — прекраснее всех. По крайней мере, если он уже не умер! Черт возьми! При таком режиме не было бы ничего удивительного. Что особенно огорчает меня, так это то, что он больше не узнает меня. Я разговариваю с ним, я пою ему поэмы. И тем более он не узнает их. Это ужасно, не так ли? Но это, все-таки, и забавно.
Она старалась быть веселой… Но веселье ее звучало фальшиво, ее лицо было серьезно. Ее ноздри быстро раздувались. Она еще тяжелее оперлась на мою руку, и я чувствовал, как дрожь пробежала по всему ее телу.
Тут я заметил, что в стене налево, против каждой камеры, были сделаны глубокие ниши. В этих нишах находились деревянные точеные и раскрашенные изображения всех видов употреблявшихся в Китае мучений, изображения со всем ужасным реализмом, свойственым искусству Дальнего Востока: сцены обезглавливания, удушения, снятия кожи, отрывания кусков тела, безумные математические изобретения, составляющие науку мучений, по своей утонченности незнакомую нашей западной, довольно, однако, изобретательной кровожадности. Музей ужаса и отчаяния, в котором ничего не пропущено из человеческой жестокости, музей, который постоянно, во всякое время дня напоминает заключенным точным изображением искусную смерть, на которую они обречены своими палачами.
— Не смотри на это! — сказала мне Клара с презрительной гримасой. — Ведь это, мой милый, раскрашенное дерево. Сюда смотри, здесь все настоящее… Вот! Вот как раз мой поэт!
И она сразу остановилась перед клеткой.
Какое-то лицо, бледное, исхудалое, с изъеденной гангреной кожей, с голой челюстью за трясущимися губами, прислонилось к решетке, за которую ухватились его две длинные, костистые руки, похожие на сухие лапы птицы. Это лицо, с которого навсегда исчез всякий человеческий облик, эти кровавые глаза и эти руки, превратившиеся в покрытые чешуей когти, внушали мне ужас. Я инстинктивно откинулся назад, чтобы не чувствовать на своей коже зловонного дыхания этого рта, чтобы не получить ран от этих когтей. Но Клара быстро подтащила меня к клетке. В глубине клетки, в ужасном мраке, ходили, кружились пять живых существ, бывших когда-то людьми, с голыми торсами, с почерневшими от кровоточащих ссадин черепами. Задыхаясь, лая, воя, он понапрасну старались сильными толчками повалить крепкий камень перегородки. Потом они снова начинали ходить и вертеться с гибкостью диких животных и с бесстыдством обезьян. Широкая поперечная загородка скрывала низ их тел, а с невидимого пола камеры поднимался удушливый и убийственный запах.
— Здравствуй, поэт! — сказала Клара, обращаясь к лицу. — Ведь я любезна? Я еще раз пришла проведать тебя, мой несчастный! Ты узнаешь меня сегодня? Нет? Почему ты не узнаешь меня?.. Ведь я же прекрасна и целый вечер любила тебя!
Лицо не двигалось. Его глаза не отрывались от корзинки с мясом, которую нес бой. А из его горла вырывалось хрипение животного.
— Ты голоден? — продолжала Клара. — Я дам тебе поесть. Для тебя я выбрала самые лучшие куски на базаре. Но прежде, хочешь, я прочитаю тебе твою поэму. «Три подруги»? Хочешь? Тебе приятно будет послушать ее?
И она начала декламировать:
У меня три подруги. Ум первой подвижен, как лист бамбука. Ее легкий и резвый нрав подобен перистому цветку евлалии. Ее глаза похожи на лотос. А ее грудь так же тверда, как лимон. Ее волосы, заплетенные в толстую косу, спадают на золотистые плечи, как черные змеи. Ее голос нежен, как горный мед. Ее голени тонки и гибки. Ее бедра круглы, как гладкий ствол банана. Ее походка — походка молодого развеселившегося слона. Она любит удовольствие, знает, чем вызвать его, и умеет его разнообразить. У меня три подруги.Клара вдруг прервала себя.
— Не припоминаешь? — спросила она. — Разве тебе больше не нравится мой голос?
Лицо не двигалось. Оно, казалось, не слышало. Его взгляд продолжал пожирать ужасную корзину, его язык щелкал во рту, наполненном слюною…
— Ну! — сказала Клара. — Слушай дальше! И ты будешь есть, потому что ты так голоден!
И она продолжала медленным, ритмическим голосом:
У меня три подруги. У второй великолепные волосы, которые сверкают И спадают длинными шелковистыми гирляндами. Ее взгляд взволновал бы бога любви И заставил бы покраснеть пастушек. Тело этой женщины грациозно, как змея, как золотая лиана. Ее серьги увешаны драгоценными камнями, Словно украшенный инеем цветок в морозное и солнечное утро. Ее одеяние — летние сады И храмы в праздничный день. А ее груди, твердые и подпрыгивающие, сверкают, как две золотые вазы, наполненные опьяняющими напитками и одуряющими ароматами. У меня три подруги.— У-а! у-а! — лаяло лицо в то время, как в клетке другие пять осужденных, продолжая ходить и метаться, повторяли ужасный лай.
Клара продолжала:
У меня три подруги. Волосы третьей собраны и скручены на голове. И никогда они не знали прикосновения пахучего масла. Ее лицо, выражающее страсть, безобразно. Ее тело похоже на свиную тушу. Можно сказать, что она всегда сердится. Она всегда ругается и ворчит. Ее груди и живот отдают запахом рыбы. Она вся нечистоплотна. Она пьет все и пьет много. Ее пустые глаза всегда гноятся. А ее постель омерзительнее, чем гнездо удода. И вот ее-то я и люблю. И вот ее-то я и люблю, потому что есть нечто, более таинственно притягивающее к себе, чем красота: это — гниение. Гниение, в котором господствует вечная теплота жизни, В котором перерабатывается вечная смена превращений! У меня три подруги!Поэма была кончена. Клара умолкла.
Лицо, жадно устремив глаза на корзину, не переставало лаять в продолжение декламации последней строфы.
Тогда Клара печально сказала, обращаясь ко мне:
— Ты видишь… Он ничего не припоминает. Он потерял память о своих стихах, как и о моем лице. И этот рот, который я целовала, не произносит ни одного человеческого слова. На самом деле это что-то неслыханное!
Она выбрала из корзины мяса лучший, самый большой кусок и, грациозно изогнув бюст, протянула его на конце своих вил исхудалому лицу, глаза которого сверкали, как два уголька.
— Ешь, бедный поэт! — сказала она. — Ну, ешь!
С ухватками голодного зверя, поэт схватил своими ногтями ужасный зловонный кусок и поднес его к своему рту, в котором он одно мгновение висел как уличная падаль в зубах собаки. Но тотчас же в потрясенной воем клетке начался рев, прыганье. Видны были только голые торсы, перемешавшиеся друг с другом, охваченные длинными худыми руками, раздираемые челюстями и когтями… и обезображенные лица, рвавшие мясо! Больше я ничего не видел. Я слышал шум, борьбы в глубине клетки, прерывистое и свистящее дыхание, хриплые вздохи, падение тел, топот, хрустение костей… хрипение. По временам из-за перегородки показывалось какое-нибудь лицо, с добычей в зубах, и снова исчезало. Снова лай, все время хрипение и почти безмолвие, и потом ничего!
Клара, вся трепеща, прильнула ко мне.
— Ах! Мой милый, мой милый!
Я крикнул ей:
— Брось же им все мясо. Ты же видишь, что они убьют друг друга.
Она обнимала, обхватывала меня.
— Поцелуй меня! Ласкай меня. Это ужасно! Это слишком ужасно!
И, приподнявшись до моих губ, страстно целуя, она сказала:
— Ничего больше не слышно. Они мертвы. Ты думаешь, что они все мертвы?
Когда мы снова повернули глаза к клетке, бледное, исхудалое и все окровавленное лицо прильнуло к решетке и упорно, почти с гордостью смотрело на нас. Кусок мяса висел в его губах вместе с ручьями пурпурной пены. Грудь его вздымалась.
Клара захлопала в ладоши, но голос ее еще дрожал.
— Это он! Это мой поэт! Он сильнее всех!
Она бросила ему все мясо из корзины и, задыхаясь, сказала:
— Я немного задыхаюсь. И ты, мой милый, тоже, ты совершенно бледный. Пойдем немного подышать воздухом в Сад Мучений.
Легкие капли пота сверкали на ее лбу. Она вытерла их и, повернувшись к поэту, сказала, сопровождая свои слова легким жестом освобожденной от перчатки руки:
— Я довольна, что ты сегодня был сильнее всех! Ешь! Ешь! Я еще проведаю тебя. Прощай.
Она отпустила боя, который теперь был ненужен. Мы пошли посередине коридора торопливым шагом, несмотря на массу народа, избегая глядеть направо и налево.
Колокол все продолжал звонить. Но его колебания все ослабевали, ослабевали, были теперь похожи только на дыхание морского бриза, на легкий стон ребенка, заглушенный занавесью.
— К чему этот колокол? Откуда несется этот колокол? — спрашивал я.
— Как? Ты не знаешь? Но это колокол Сада Мучений! Представь себе: какого-нибудь осужденного связывают и помещают его под колокол. И звонят изо всей силы до тех пор, пока вибрации колокола не убьют его!.. И когда приходит смерть, звонят тихо, тихо, чтобы она не слишком быстро наступала! Как сейчас. Слышишь?
Я хотел говорить, но Клара закрыла мне рот развернутым веером.
— Нет, молчи! Ничего не говори! И слушай, мой милый!. И думай об ужасной смерти, какой должна быть смерть под колоколом, от вибраций воздуха. И иди за мной. И не говори больше ничего, не говори больше ничего…
Когда мы вышли из коридора, колокол казался только пением насекомого, едва различимым жужжанием крыльев в отдалении.
V
Сад Мучений занимает в центре тюрьмы огромное квадратное пространство, заключенное в стены, камень которых не виден от густого слоя лозовидных кустарников и вьющихся растений. Он был основан в середине прошлого века Ли-Пе-Хангом, под-индентантом императорских садов, самым сведущим ботаником, какой только был в Китае. В коллекциях музея Гиме можно найти многочисленные работы, прославляющие его, и очень любопытные рисунки, воспроизводящие самые знаменитые его труды. Великолепные киевские сады — единственные, которые удовлетворяют нас в Европе — многим обязаны ему как с технической точки зрения, так и с точки зрения цветочной орнаментовки и пейзажной архитектуры. Но они еще очень далеки от чистой красоты китайских моделей. По словам Клары, им недостает очарования высшего вкуса, в котором к садоводству примешаны мучения, к цветам — кровь.
Почва, песчаная и каменистая, как вся эта бесплодная равнина, была глубоко срыта и заменена девственной землей, перевезенной с огромными расходами с другого берега реки. Рассказывают, что свыше тридцати тысяч кули погибло от лихорадки во время гигантских земляных работ, продолжавшихся двадцать два года. Надо бы, чтобы эти гекатомбы пропали не напрасно! Примешанные к почве, как навоз — потому что их зарывали на месте, — мертвые удобряли ее своим медленным разложением, и даже в центре фантастических тропических лесов нет более богатой естественным гумусом земли. Ее необыкновенная производительная сила, далеко еще не истощенная, теперь еще увеличивается нечистотами заключенных, кровью мучимых, всякими органическими отбросами, которые приносятся каждую неделю толпой и которые, аккуратно собираемые, искусно перерабатываемые вместе с ежедневными трупами в специальных гноилищах, образуют могучий компост, который любят растения и который делает их сильнее и красивее. Разветвления реки, искусно распределенные по саду, поддерживают в нем для нужд культуры постоянную влажную прохладу и в те же время служат для наполнения бассейнов и каналов, в которых вода постоянно обновляется и в которых сохраняются некоторые почти исчезнувшие зоологические формы, как, например, знаменитая рыба о шести горбах, воспетая Ю-Сином и нашим соотечественником, поэтом Робертом де Монтескье.
Китайцы — несравненные садоводы, стоящие намного выше наших грубых садовников, которые стараются только разрушить красоту растений непочтительным обращением и преступными прививками. Последние — настоящие злодеяния, и я не могу пенять почему еще, во имя всеобщей жизни, не изданы карательные законы, очень суровые к ним. Мне даже было бы приятно, чтобы их немилосердно гильотинировали, предпочтительно перед теми несчастными убийцами, социальный «селекционизм» которых, скорее, достоин похвалы и великодушия, петому что в большинстве случаев они уничтожают только старых, очень дурных женщин и самых отвратительных буржуа, составляющих вечное оскорбление жизни. Кроме тоге, что наши садоводы допускают бесчестие до того, что безобразят умилительную прелесть и красоту простых цветов, они осмеливаются давать хрупким розам, сияющим, как звезды, ломоносам, небесно-прекрасным, таинственно-геральдическим ирисам, стыдливым фиалкам имена генералов и бесчестных политиков. Ничуть не редок в наших цветниках ирис, например, названный Генерал Аршинар. Есть нарциссы — нарциссы, носящие смешнее имя Триумф президента Феликса Фора; проскурянки, без протеста принявшие смешнее название Печали по Тьер; фиалки, робкие, зябкие и изящные фиалки, которым имена генерала Скобелева и адмирала Авел не представляются оскорбительными. Цветы, вся красота, весь блеск и вся радость, ласка. Цветы, вызывающие представление о сердитых усах и тяжелых сапогах солдаата или е парламентском хохолке министра. Цветы, отражающие политические мнения, служащие распространению избирательной пропаганды. На какое заблуждение, на какие интеллектуальные недостатки могут указывать подобные богохульства, подобные преступления против божественности и вещей? Неужели возможно, чтобы какое-либо существо, совершенно бездушное, испытывало ненависть к цветам, чтобы европейские садоводы, а в частности, французские садоводы, оправдывали этот парадокс, невообразимо преступный.
Чудные артисты и наивные поэты, китайцы, набожно сохранили любовь и благоговейный культ к цветам, одну из очень редких, самых древних традиций, переживших их время упадка. А так как надо различать один цветок от другого, они дали им грациозные алогичные наименования, мечтательные образы, чистые или сладострастные имена, которые увековечивают и гармонизируют в нашей голове доставляемые ими нам ощущения нежного очарования или страстного опьянения. Таким образом, пионы, их любимые цветки, китайцы обозначают, за их форму и цвет, чудными именами, каждое из которых составляет целую поэму или целый роман: Молодая девушка, предлагающая свои груди, или Спящая под луною вода, или Солнце в лесу, или Первое желание лежащей девственницы, или Мое платье не совсем бело, потому что Сын Неба, разрывая его, оставил на нем немного розовой крови, или еще следующее: Я наслаждаюсь со своим дружком в саду.
И Клара, рассказывавшая мне о подобных милых вещах, воскликнула, с негодованием ударяя в землю ними маленькими ножками, обутыми в желтую кожу:
— И их, этих давних поэтов, дающих своим цветам наименование: Я наслаждаюсь со своим дружком в саду,их считают обезьянами, дикарями!
Китайцы вправе гордиться Садом Мучений, самым прекраснейшим, может быть, во всем Китае, где, однако, есть много чудесного. Тут собраны самые редкие виды их флоры, самые нежные, как самые грубые, такие, какие произрастают на горах, такие, какие спускаются на сверкающее горнила равнин, также и такие, таинственные и суровые, которые скрываются в самых непроницаемых лесах и которым народное суеверие присвоило души злых гениев. Каждая порода, от корнепуска до каменной азалии, от рогатой и двуцветной фиалки до кувшинолистников, от вьющихся гибисков до победоносных подсолнечников, с проломников, невидимых о своих скалистых расщелинах, до самых, причудливым образом, извивающихся ланит, — каждая порода представлена здесь многочисленными экземплярами, которые, питаемые органической нищей и окруженные уходом ученых садоводов развиваются до ненормальных размеров и имеют окраску такую, о поразительном великолепии которой мы едва можем составить себе понятие под нашим угрюмым климатом и в наших безвкусных садах.
Обширный бассейн, пересеченный аркой деревянного моста, окрашенного светло-зеленой краской, обозначает середину сада в углублении долинки, в которой оканчивается несколько извилистых аллей и цветущих тропиков нежного рисунка и гармонических очертаний. Водяные лилии, нелюмниумы оживляют воду своими перекрещивающимися листьями и своими желтыми, голубыми, белыми, розовыми, пурпурными блуждающими венчиками; пучки ирисов выставляют свои тонкие стрелки, на верхушках которых, кажется, сидят странные символические птицы; сусаки, циперусы, похожие на волосы, великаны лузулы перемешивают свои разнообразные листья с арроникой. Благодаря гениальной комбинации, над краями бассейна, среди вытянутых ластов оленьего языка, девясилов и желтоголовников возвышаются артистически подстриженные глицинии и сводом висят над водой, отражающей их свисающие и дрожащие голубые кисти. А журавли, в серо-жемчужных плащах, с шелковыми хохолками с ярко-красными бугорками, белые цапли, белые с голубым затылком манджурские аисты прогуливаются в высокой траве с ленивой грацией и жреческим величием.
Повсюду, на возвышениях и на красных скалах, испещренных карликовыми папоротниками, проломниками, камнеломками и вьющимися кустарниками, стройные и грациозные кисти поднимают над бамбуками и кедрами заостренные конусы своих крыш, украшенных золотом, и изящные стрелы своих надстроек, концы которых смело изгибаются и выпрямляются. Склоны отрогов изобилуют растительностью; эпимеры, вылезающие промеж камней, со своими тонкими, колеблющимися и летающими, как насекомые, цветками; оранжевые лилии, белые энотеры, цветущие только один час; мясистые индийские смолы, и скатерти, потоки, ручьи белых буквиц, китайских буквиц, таких разнообразных по форме, о которых в наших оранжереях мы имеем только слабое представление;и столько очаровательных и стланных форм, столько смешанных цветов! И все это вокруг киосков, посреди спускающихся лужаек, в вздрагивающей дали, все это казалось розовым, серым, белым дождем, каким-то потоком, таким нежным и изменчивым, что невозможно словами описать бесконечную нежность, невыразимую райскую прелесть.
Как мы пробрались сюда? Я не знал. Вдруг от толчка Клары в стене мрачного коридора открылась какая-то дверь. И сразу, как бы от действия палочки феи, в меня влился небесный свет, а передо мной раскрылись горизонты, горизонты.
Я глядел, восхищенный; восхищенный более мягким светом, более ясным небом, восхищенный даже большими синими тенями, которые деревья мягко отбрасывали на траву, словно нежный ковер; восхищенный колеблющейся феерией цветков, грядами пионов, которые защищались от убийственного жара солнца легкими цветками тростников. Невдалеке от нас, на одной из лужаек, оросительный аппарат разбрызгивал воду, в которой играли все цвета радуги, а сквозь эту радугу газоны и цветы казались прозрачными, как драгоценные камни.
Я глядел жадно, не отрываясь. И тогда я не видел ни одной из этих подробностей, которые восстановил в своей памяти уже позже. Я видел только совокупность таинственного и прекрасного, быстрого и радостного появления которого я не старался объяснить себе. Я даже не задавал себе вопросов — действительность ли это все, окружающее меня, или сон? Я не задавал себе никакого вопроса. Я ни о чем не думал. Я ничего не говорил. Клара говорила, говорила. Несомненно, она продолжала рассказывать мне различные истории. Я не слушал ее, я даже не чувствовал ее присутствия около себе. В этот момент она, такая близкая мне, была так далеко! Так далеко и ее голос, и совсем незнаком.
Наконец, постепенно я овладел собою, всей памятью, действительным состоянием вещей, и понял почему и как мы очутились здесь.
По выходе из ада, все еще бледный от ужасного зрелища этих лиц осужденных, чувствуя в носу еще запах гнили и смерти, слыша еще отзвуки воя мучающихся, вид этого сада подействовал на меня внезапно успокоительно; я почувствовал бессознательное возбуждение, как бы нематериальный подъем всего моего существа к красоте какой-то сказочной страны. С восхищением, я полной грудью вдыхал новый воздух, пропитанный столькими тонкими и мягкими ароматами. Это была невыразимая радость пробуждения после гнетущего кошмара. Я испытывал блаженное ощущение освобождения человека, заживо зарытого в ужасный склеп и поднимающего камень, снова рождающегося при солнечном блеске, с нетронутым телом, со свободными членами, с совершенно новой душой.
Около меня, в тени огромного ясеня, пурпурные листья которого, сверкая на солнце, производили впечатление рубинового купола, стояла скамья, сделанная из бамбуковых стволов. Я сел на нее, скорее, упал на нее, потому что очарование всей этой великолепной жизни почти повергло меня в обморок своей неведомой силой.
Налево от себя я видел каменного сторожа этого сада, Будду, сидевшего на скале, выставляя свое спокойное лицо, лицо высшей доброты, залитое лазурью и солнцем. Груды цветов, корзины фруктов покрывали цоколь монумента умилостивительными и душистыми жертвами. Молодая девушка в желтом платье поднялась к челу милосердного бога, которого она набожно венчала лотосами и кипарисом. Вокруг летали ласточки, Сдавая радостные возгласы. Тогда я начал думать — с каким религиозным энтузиазмом, с каким мистическим обожанием! — о высшей жизни того, который задолго до нашего Христа проповедовал людям чистоту, отречение и — любовь.
Но, наклонившись ко мне, как грех, Клара, с красными губами, Клара, с зелеными глазами, с серо-зелеными, словно свежие плоды миндального дерева, не замедлила вернуть меня к действительности и, показывая широким жестом на сад, сказала:
— Посмотри, мой милый, какие чудесные артисты Эти китайцы и как они умеют сделать природу соучастницей своих утонченных жестокостей! В нашей ужасной Европе, которая столько времени не понимает еще красоты, мучают тайно, в глубине тюрем, или на публичных площадях, посреди одурманенной грубой толпы. Здесь — инструменты мучений и смерти — колья, виселицы и кресты, возвышаются посреди цветов, посреди чудовищной смеси и чудовищного безмолвия всех цветов. Ты сейчас увидишь, как они хорошо соединены с этой цветочной оргией, с гармонией этой единственной магической природы, так что они отчасти составляют кок бы одно с ней, словно они — чудесные цветы этой Почвы и этого света.
А так как у меня вырвался нетерпеливый жест, Клара сказала:
— Глупый, дурачок, не понимающий ничего.
Лоб ее сурово нахмурился, и она продолжала:
— Подожди! Когда ты бывал иногда печален или болен, ходил ли ты тогда на празднества? Ну, ты там чувствовал, как твоя печаль усиливается, обостряется, словно от какой-либо обиды, от веселых лиц, от прекрасных вещей. Это — невыносимое опустошение. Подумай, что это же самое должен испытывать осужденный на смерть от мук. Подумай, насколько увеличивается мучение его тела и его души от всего окружающего его великолепия, насколько ужаснее, невыносимо ужаснее, мой милый, делается агония.
— Я думаю о любви, — тоном упрека ответил я. — А вы все говорите и говорите о мучениях.
— Конечно. Потому что это — одно и то же.
Она стояла окало меня, положив руку мне на плечо. И красивая тень ясеня обливала ее словно огненным сиянием. Она села на скамью и продолжала:
— И потому-то, где есть мучения, там есть и люди. Я с этим, дитя мое, ничего не могу сделать и стараюсь освоиться с этим и наслаждаться этим, потому что кровь, — драгоценный возбудитель наслаждения. Это — вино любви.
Она чертила на песке концом зонтика какие-то фигуры, наивно — бесстыдные, и говорила:
— Я вполне уверена, что ты считаешь китайцев кровожаднее нас. Нет, нет! Нас, англичан? Поговорим-ка об этом. И вас, французов? В вашем Алжире, на окраинах пустыни, я видела следующее. Однажды солдаты захватили в плен арабов, несчастных арабов, и виноватых-то только в том, что они бежали от жестокости своих победителей. Полковник распорядился, чтобы их убили тут же, без суда и следствия. И вот что произошло. Их было тридцать, в песке вырыли тридцать ям и их, голых, зарыли туда по шею, оставив под полуденным солнцем их бритые головы. А чтобы они умерли не слишком быстро, их время от времени взбрызгивали водой, как капусту. Через полчаса веки вздулись, глаза выскочили из орбит, распухшие языки наполняли весь ужасно раскрытый рот, а кожа на черепах лопалась, поджаривалась. Уверяю тебя, эти тридцать мертвых голов, над землей, не были ни красивы, ни даже ужасны, а походили на бесформенные камни. А мы? Еще хуже. Я припоминаю странное ощущение, которое я испытывала, когда в Кандии, древней и мрачной столице Цейлона, я влезла на ступеньки храма, где англичане глупейшим образом, без мучений, перервали горло маленьким принцам Мореиаль, которых легенды рисуют такими очаровательными, похожими на китайские иконы, такие чудные по работе, такие священно-тихие и чистые по прелести со своими золотыми венчиками и длинными сложенными руками. Я почувствовала, что здесь, на этих священных ступенях, еще не омытых от крови восьмидесятилетнего ужасного порабощения, совершилось нечто более ужасное, чем человеческое убийство: умерщвление драгоценной, волнующей, невидимой красоты. В этой умирающей и все еще таинственной Индии на каждом шагу заметны следы этого двойного европейского варварства. Бульвары Калькутты, прохладные гималайские виллы Даржиллинга, пышные отели откупщиков Бомбея не могут сгладить впечатления скорби и смерти, которое повсюду оставляет свирепость убийства без искусства и вандализм, и глупое умерщвление. Напротив, они еще усиливают его. В каких бы местах ни появлялась цивилизация, она показывает одну свою сторону — бесплодную кровь и навсегда мертвые развалины. Она может сказать, как Аттила: «Трава уже не растет там, где прошла моя лошадь». Посмотри, здесь, перед собой, вокруг себя. Здесь ведь ни одной песчинки, которая не была бы омыта кровью, а эта самая песчинка разве это — прах смерти? Но насколько благотворна эта кровь и как она оплодотворяет этот прах! Посмотри, трава сочная, цветов множество, и повсюду любовь!
Лицо Клары стало благороднее. Очень нежная меланхолия смягчила мрачную складку на ее лбу, затуманила зеленый огонек ее глаз. Она продолжала:
— Ах! Каким печальным и грустным показался мне в тот день этот мертвый городишко Канди! Над ним, в солнечном зное, нависло тяжелое безмолвие, вместе с ястребами. Несколько индусов вышли из храма, куда они носили цветы Будде. Голубая мягкость их взглядов, благородство их лбов, болезненная слабость их тела, пожираемых лихорадкой, библейская медлительность их походки — все это взволновало меня до глубины души. Они, казалось, были в ссылке, на родной земле, около своего Бога, такого тихого, закованного в цепи и оберегаемого сипаями. И в их черных зрачках не было больше ничего земного, ничего больше, кроме мечты об освобождении, от тела, ожидания полной света нирваны. Не знаю, какое уважение к человеку удержало меня опуститься на колени перед этими печальными, этими уважаемыми отцами моей расы. Я удовольствовалась почтительных поклонов. Но они прошли, не видя меня, не видя моего поклона, не видя слез на моих глазах, и дочернего волнения, наполнявшего мое сердце. И когда они прошли, я почувствовала, что ненавижу Европу, ненавижу ненавистью, которая никогда не погаснет.
Вдруг оборвав самое себя, она спросила меня:
— Но я наскучила тебе, а? Я не знаю, зачем я рассказываю тебе все это. Это же не имеет никакого отношения. Я — сумасшедшая!
— Нет, нет, милая Клара, — ответил я, целуя ее руки. — Напротив, я рад, что вы так говорите со мной. Говорите же.
Она продолжала.
— Посетив храм, бедный и голый, вход которого украшал только один гонг, единственный остаток прежних богатств, подышав запахом цветов, которыми были завалены все изображения Будды, я меланхолически возвратилась в город. Он был пустынен. Смешной и зловещий призрак восточного прогресса, пастор — единственное человеческое существо — бродил там, с цветком лотоса во рту, бродил, задевая за стены. Под этим ослепительным солнцем он сохранил, как в туманах метрополии, свой карикатурный мундир церковника, черную, мягкую фетровую шляпу, длинный черный редингот с прямым и грязным воротником, черные брюки, спускавшиеся грязной бахромой на огромные башмаки. Этот мрачный костюм проповедника сопровождался белым зонтиком, в роде ручной смешной пупки — единственная уступка, сделанная педантом местных нравов индийскому солнцу, которое англичане не могут здесь превратить в туман. И я, не без раздражения, думала, что от экватора и до полюса нельзя сделать ни шага, чтобы не столкнуться с этим подозрительным лицом, с этими хищными глазами, с этими цепкими руками, с этим нечистым ртом, дышащим на очаровательные божества и чарующие мифы религий-детей запахом джина, ужасом библейских стихов.
Она оживилась. Ее глаза выражали благородную нежность, которой я в ней не знал. Забыв, где мы находимся, забыв свое минутное восхищение преступлениями и свою кровавую экзальтацию, она говорила:
Везде, где надо оправдать пролитую кровь, осветить разбой, благословить насилие, покровительствовать гнусной торговле, — можешь быть вполне уверен, что встретишь его, этого британского Тартюфа, под видом религиозного распространения или научного изучения продолжающего дело чудовищного завоевания. Его хитрая и свирепая тень вырисовывается на скорби побежденных народов вместе с тенью солдата-душегуба н Шейлока-ростовщика. В девственных лесах, где европейцы действительно опаснее тигра, на пороге убогой разоренной хижины, посреди обгоревших развалин, он появляется после убийства, как вечером в день битвы мародер, обирающий мертвых. Впрочем, он вполне подходит к своему конкуренту, католическому миссионеру, несущему цивилизацию тоже при помощи факелов, при помощи сабель и ружьев. Увы! Китай наполнен, раздирается этими двумя бичами. Через несколько лет ничего не останется от этой чудесной страны, где мне так нравится жить!
Вдруг она встала и воскликнула:
— А колокол-то, мои милый! Колокола больше не слышно. Ах! Боже, он умер! Пока мы сидели здесь, разговаривали, его, несомненно, уже стащили на свалку. И мы его не увидим! Это — твоя вина.
Она принудила меня подняться с лавки.
— Скорее, скорее, милый!
— Никто за нами не гонится, дорогая Клара. Мы и так всегда много видели ужасов. Рассказывай мне опять, как ты только что рассказывала, когда мне так нравился твой голос, когда мне так нравились твои глаза!
Она потеряла терпение.
— Скорее! Скорее! Ты не знаешь, что говоришь.
Ее глаза сделались суровыми, голос дрожал, рот принял непреклонное суровое и чувственное выражение. Мне показалось, что сам Будда теперь от злого солнца сделал насмешливое лицо палача. И я увидел там, внизу, по аллее между лужайками, удаляющуюся девушку с цветами. Но желтое платье было совсем тонким, легким и блестящим, как цветок нарцисса.
Аллея, по которой мы шли, была обсажена персиковыми, вишневыми, айвовыми, миндальными деревьями, одни из которых были карликовые и подстриженные странными формами, другие, свободные, были разбросаны группами и простирали во все стороны свои длинные ветви, отягощенные цветами.
Одна маленькая яблоня, ствол, листья и цветы которой были ярко-красного цвета, изображала пузатую вазу. Я заметил также одно замечательное дерево, называемое грушевым, с листьями березы.
Оно стояло, как удивительно прямая пирамида, вышиною в шесть метров, и от очень широкого основания до остроконечного конуса было так покрыто цветами, что не было видно ни листьев, ни ветвей.
Бесчисленные лепестки беспрестанно облетали, между тем, как другие развертывались, и опавшие летали вокруг пирамиды и медленно ложились на аллеи и лужайки, покрывая их словно белым снегом.
А издали несся нежный запах шиповника и резеды. Лотом мы проходили мимо больших кустарников, мелкоцветных денций, мимо широких розоватых лигюстрин, с бархатными листьями, с большими перистыми метелками белых цветков, напудренных серой.
На каждом шагу для глаз была новая радость, сюрприз, которые заставляли меня вскрикивать от восхищения. Здесь виноградная лоза, замеченная мною в горах Аннама, с широкими светлыми листьями, неправильно изрезанными и зазубренными, так же зазубренными, так же изрезанными, такими же широкими, как листья клещевины, обхватила своими завитками огромное мертвое дерево, поднялась до верхушки и оттуда опускалась каскадами, водопадами, лавинами, покрывая всю растительность, распускающуюся внизу между сводами, колоннами и нишами, образованными ее обломанными ветками.
Там стефанандр раскинул свою оригинальную листву, всю испещренную полосами, которые восхищали меня переливами всевозможных цветов, от густозеленого до голубовато-стального, от нежно-розового до грубо-пурпурного, от светло-желтого до темно-охрового.
А рядом группа гигантских вибурнумов, вы шиною с дуб, покачивала большими снежными шариками на конце каждой ветки.
Местами, стоя на коленях в траве или взобравшись на красные лестницы, садовники заставляли ломонос виться по тонким бамбуковым палкам; другие обвивали ипомеи, калистегии по длинным и тонким подпоркам из черного дерева. А повсюду, по лужайкам, лилии выставляли свои готовые расцвести стебли.
Все эти деревья, кусты, группы, отдельные растения с первого взгляда, казалось, были разбросаны случайно, без метода, без плана, только по воле природы, только по капризу жизни. Заблуждение. Напротив, посадка каждого растения была старательно изучена и подобрана или для того, чтобы цвета и формы дополняли друг друга, увеличивали ценность один другого, или для того, чтобы использовать планы, воздушные побеги, цветные перспективы и увеличить ощущение, комбинируя декорацию.
Самый скромный цветочек, так же как самое гигантское дерево, самой своей посадкой способствовал непреклонной гармонии, сочетанию искусства, действие которого было тем поразительнее, что здесь не чувствовались ни геометрическая работа, ни декоративное усилие.
Тут все, казалось, было так расположено, чтобы, благодаря щедростям природы, дать торжество пионам.
На легких склонах, усеянных вместо газона пахучими крестоцветными розами цвета старого шелка, развертывались великолепные ковры пионов, поля пионов. Около нас они росли поодиночке и протягивали нам свои огромные красные, черные, медные, оранжевые, пурпурные цветы.
Другие, идеально чистые, сохраняли самые действенные розовый и белый оттенки. Собранные в переливающуюся волну или совершенно одинокие на краях аллей, мечтающие у подножия деревьев, влюбленные вдоль чащ пионы были на самом деле феями, чудесными королевами этого чудесного сада.
Всюду, куда бы ни падал взор, он встречал пион. На каменных мостах, совершенно покрытых вьющимися растениями и своими смелыми арками соединявших массивы скал и сообщавшись между собою киоски, пионы толпились подобно праздничной толпе.
Их сверкающие процессии спускались с холмов, вокруг которых поднимались, перекрещивались, перепутывались аллеи и тропинки, окаймленные мелким серебряным бересклетом и бирючиной, подстриженной шпалерами. Я залюбовался одним холмиком, на котором на очень низких, совершенно белых стенах, построенных завитками, были разбросаны самые дорогие породы пионов, которые искусные артисты подстригли в разнообразие формы шпалер.
В промежутках между этими стенами незабываемые пионы, в виде шариков на длинных голых стеблях, росли в квадратных ящиках. А верхушка увенчивалась густыми кустами, свободными кустами священного растения, цветы которого, такие кратковременные в Европе, не прекращаются здесь во все времена года.
А направо от меня и налево, совсем близко от меня, или совершенно пропадая в отдаленной перспективе, были все пионы, пионы и пионы.
Клара шла очень быстро, почти не чувствуя этой красоты; она шла опять с мрачной морщинкой на челе, с горящими глазами.
Можно было сказать, что она идет, подхваченная силой разрушения.
Она говорила, а я не слышал ее или слышал очень мало. Слова: «Смерть, очарование, мучение, любовь», которые беспрестанно срывались с ее губ, казались мне только отдаленным эхом, тихим голосом колокола, едва долетевшим оттуда, и утопавшим в славе, в торжестве, в ясном и величественном сладострастии этой ослепительной жизни.
Клара шла, шла, и я шел рядом с ней, и перед нами все открывались новые виды: пионы, мечтательные или безумные кусты, голубые бересклеты, падубы с яркой окраской, завитые магнолии, карликовые кедры, растрепанные, как шевелюра, аралии, и высокие злаки, гигантские евлалии, листья которых лентами спускаются и округляются, словно кожа змеи, расшитая золотом.
Были тут тропические растения, незнакомые деревья, на стволах которых раскачивались бесстыдные орхидеи; индийский банан, врастающий в землю своими многочисленными ветвями; огромные бананы, а под прикрытием их листьев, цветы вроде насекомых, вроде птиц, например, феерическая стрелиция, желтые лепестки которой — это крылья и которая постоянно трепещется, словно летает.
Вдруг Клара остановилась, словно на нее сразу опустилась невидимая рука.
Великолепная, нервная, с трепещущими ноздрями, словно лань, почувствовавшая в воздухе запах самца, она глотала воздух вокруг себя. Дрожь, которая была мне известна, как предвестник спазм пробежала по всему ее телу. Ее губы немедленно покраснели еще больше и надулись.
— Ты чувствуешь? — спросила она отрывисто и глухо.
— Я чувствую аромат пионов, наполняющий весь сад, — ответил я.
Она ударила нетерпеливо ногой о землю.
— Не то! Ты не чувствуешь? Припомни!
И, еще шире раздув ноздри и с еще более сверкающими глазами, она сказала:
— Пахнет, как когда я люблю тебя?
Тогда она быстро нагнулась к одному растению, фаликтру, фаликтру, возвышавшему на краю аллеи свой длинный тонкий стебель, трубчатый, прямой, ярколиловый. Каждая боковая ветка выходила из ножен в форме влагалища и оканчивалась кистью совсем мелких цветов, прижавшихся друг к другу и покрытых цветочной пыльцой.
— Это он! Это он! О, мой милый!
На самом деле, могучий, фосфорный запах, запах человеческого семени исходил из этого растения. Клара сорвала стебелек, принудила меня понюхать странный Запах, потом, осыпав мне лицо цветочной пылью, сказала:
— О милое, милое прекрасное растение! Как оно опьяняет меня! Как оно разжигает меня! Разве не любопытно, что есть растения, пахнущие любовью? Почему, а? Не знаешь? Ну, а я знаю. Почему так много цветов, напоминающих нам о любви? Разве не потому, что природа не перестает кричать живым существам всеми своими формами, всеми своими запахами: «Любите! Любите! Делайте, как цветы. На свете есть только одна любовь!» Я тоже говорю, что есть только любовь. О, скажи же скорее, дорогой, обожаемый поросенок!
Она продолжала вдыхать запах фаликтра и жевать его кисть, пыльца которой пачкала ей губы. И вдруг она заявила:
— Я хочу этого запаха в саду. Я хочу его в своей комнате, в киоске, во всем доме. Понюхай, сердечко мое, понюхай! Простое растение, это удивительно! А теперь пойдем, пойдем! Только бы нам не слишком поздно прийти к колоколу.
С гримаской, которая в одно и то же время была комической и трагической, она прибавила:
— Почему ты так прилип к этой скамье? А все эти цветы! Не смотри на них, не смотри на них больше. Ты лучше после рассмотришь их, после того, как посмотришь страдания, после того, как увидишь смерть. Ты увидишь, насколько они еще прекраснее, какую жгучую страсть возбуждают их ароматы! Понюхай еще, мой милый, и иди. Возьми мою грудь. Как она упруго! Соски ее возбуждаются шелком платья. Можно сказать, что горячит огонь сжигает их. Это — прелестно. Идем же.
Она побежала. Лицо ее было все желтое от пыльцы, а стебелек фаликтра был все еще в зубах.
Клара не захотела остановиться перед другим изображением Будды, искривленное и разрушенное временем лицо которого корчилось на солнце. Какая-то женщина украсила его ветками сидуна, и эти цветы показались мне детскими сердечками…
На повороте одной аллеи мы встретились с двумя мужчинами, несущими носилки, на которых корчился какой-то комок окровавленного тела, подобие человеческого существа, изрезанная ремнями кожа которого волочилась по земле, как лохмотья. Хотя уже невозможно было найти малейший признак человека в этой ужасной ране, которая, однако, была человеком, чувствовалось, что каким-то чудом оно еще дышало. А красные капли, полосы крови указывали путь.
Клара сорвала два цветка пиона и молча, дрожащей рукой, положила их на носилки. Носильщики грубо улыбнулись и открыли свои черные десны и лакированные зубы. А когда носилки прошли дальше, Клара сказала:
— Ах! Я вижу колокол, я вижу колокол.
А всюду вокруг нас, и вокруг удалявшихся носилок был словно розовый, серый и белый дождь, трепет оттенков, такой нежный и такой изменчивый, что невозможно словами передать бесконечную мягкость и невыразимую райскую прелесть его…
VI
Мы оставили круговую аллею, от которой ответвляются другие аллеи, идущие к центру, и которая шла вдоль откоса, усаженного множеством редких и дорогих кустарников, и пошли по маленькой тропинке, по небольшому ущелью, оканчивающемуся как раз около колокола. Тропинки и аллея были усыпаны толченым кирпичом, что придавало зелени лужаек и листвы необыкновенную яркость и словно прозрачность изумруда под светом люстры.
Направо — цветущие лужайки; налево — все ещё кусты. Розовые кукушники, слегка тронутые матовым серебром, ярким золотом, бронзой или красной медью, магонии, листья которых, цвета темно-красной кожи, так же широки, как листья кокосовой пальмы; элеагнусы, словно покрытые разноцветными лаками; пирусы, опудренные слюдою; лавровые деревья, на которых отсвечивают и порхают тысячи граней радужных кристаллов; каладиумы, жилки которых, цвета старого золота, оправлены вышитым шелком или розовыми кружевами, голубые, серые, посеребренные, расцвеченные бледно-желтым, ядовито-оранжевым цветом туи; светлые тамаринды, зеленые тамаринды, красные тамаринды, ветки которых волнуются и развиваются по воздуху, как мелкие водоросли в море; плопчатники, кисти которых постоянно летают и носятся в воздухе; саликс и веселый рай его крылатых семян; клеродендроны, распустившие, наподобие зонтиков, свои широкие ярко-красные соцветия. Между этими кустарниками, в освещенных пространствах в газоне виднелись анемоны, лютики, хешерасы; в затемненных местах виднелись странные тайнобрачные растения, мхи, покрытые мелкими белыми цветочками, и лишаи, похожие на скопление полипов, массу кораллов.
Повсюду было очарование.
А посреди этого цветочного очарования возвышались эшафоты, аппараты для распятия, эшафоты с яркой окраской, совершенно черные виселицы, на верхушках которых гримасничали ужасные маски демонов; высокие виселицы для простого удушения, более низкие, с инструментами эшафоты для разрывания на куски.
По стержням этих орудий пыток, благодаря дьявольской утонченности мшистые калистегии, даурские ипомеи, лофоснермы, колоквии раскинули свои цветы, переплетаясь с цветами ломоносов и подлесков. Птицы здесь распевали любовные песни…
У подножия одной из таких виселиц, разукрашенный цветами, как колонна террасы,, сидел палач со своим футляром на коленях и чистил шелковыми клочьями тонкие стальные инструменты; его одежда была покрыта кровавыми пятнами; руки его, казалось, были в красных перчатках. Вокруг него падали, жужжали и кружились тучи мух.
Но посреди всего цветущего и благоухающего это зрелище не было ни отвратительным, ни ужасным.
Можно было сказать, что на его одежду упал дождь лепестков с соседнего квитового дерева.
К тому же у него был мирный и добродушный живот. — Его лицо во время отдыха выражало добродушие и даже веселость; веселость хирурга, которому только что удалась трудная операция.
Когда мы проходили мимо него, он поднял на нас глаза и вежливо поклонился.
Клара обратилась к нему по-английски.
— Действительно, досадно, что вы не пришли часом раньше, отвечал этот добродушный человек. — Вы увидели бы нечто очень красивое, что не каждый день увидишь. Необыкновенная работа, миледи. Я изрезал человека с ног до головы, предварительно сняв с него всю — кожу. Он так плохо был сложен! Ха! Ха! Ха!
Его потрясаемый смехом живот то опускался, то вздувался с глухим бурчанием.
Нервная судорога растягивала его рот до скул в то же время, как опустившиеся ресницы соединялись с углами губ посредством жирных складок кожи.
И эта гримаса — множество гримас — придавала его лицу выражение смешной жестокости.
Клара спросила:
— Это, вероятно, мы его только что сейчас встретили на носилках?
— А! Вы встретили его? — воскликнул польщенный добряк. — Ну, и что же вы скажете?
— Какой ужас! — сказала Клара спокойным тоном, противоречившим смыслу ее восклицания.
Тогда палач объяснил:
— Это был жалкий портовый кули… ничего больше, миледи. Конечно, он не заслужил чести такой прекрасной работы. Он, кажется, украл мешок риса у англичан, у наших дорогих и милых друзей, англичан. Когда я содрал ему кожу и когда она держалась у него на плечах только двумя маленькими пуговками, я заставил его ходить, миледи. Ха! Ха! Ха! На самом деле, прекрасная мысль! Можно было лопнуть от смеха. Можно было сказать, что у него на теле как вы это называете? Ах, да, верно! макфермлам? Никогда он, собака, так хорошо не одевался и у такого великолепного портного. Но у него были такие твердые кости, что я иступил пилу, вот эту прекрасную пилу.
Между зубьями пилы остался маленький белесоватый и жирный кусочек. Он выковырял его пальцем и бросил на газон, посреди цветов.
— Это — костный мозг, миледи, — сказал веселый добряк. — Недорого он стоил.
И, покачав головой, он добавил:
— Не часто вообще попадются стоящие, потому что мы почти всегда работаем на простом народе. Потом он сказал с видом спокойного удовлетворения:
— Вчера, честное слово, было очень любопытно. Из мужчины я сделал женщину. Хе! Хе! Хе! Легко было ошибиться. А я, видите ли, ошибся. Завтра, если добрые духи удостоят меня милости и пришлют на эту виселицу женщину, я сделаю из нее мужчину. Это не так легко. Ха! Ха!
От припадка нового смеха его тройной подбородок, складки его шеи и его живот дрожали, как студень.
Одна линия, красная и изогнутая, соединила в это время левый угол его рта со смычкой его правых век, прорезывая складки кожи и морщины, по которым текли мелкие струйки пота и слез от смеха.
Он вложил вычищенную и сверкавшую пилу в футляр и закрыл его. Ящик был чудесный и прекрасно лакирован рисунком: пролет диких птиц над прудом ночью, на котором лотосы и ирисы серебрились от луны.
В эту минуту тень от эшафота падала на тело палача поперечной, лиловатой полоской.
— Видите ли, миледи, — продолжал болтливый добряк, — наше ремесло, так же как и наши прекрасные вазы, наши прекрасные вышитые шелка, наши лаковые вещи все больше и больше падает. Теперь мы уже не знаем, что такое на самом деле мучение. Хотя я и стараюсь сохранить почитаемые традиции, я бессилен. И я один не могу предотвратить упадка. Чего вы хотите? Теперь палачи набираются неизвестно откуда! Ни экзаменов, ни конкурсов. Одно только покровительство, протекция решают выбор. И если бы вы знали, какой выбор! Это ужасно! Прежде эти важные обязанности поручались только истинным ученым, людям уважаемым, великолепно знавшим анатомию человеческого Тела, имевшим диплом, опытность или природный талант. Теперь ничего этого не нужно. Самый плохой Сапожник может претендовать на получение этих почетных и трудных должностей. Нет ни иерархии, ни традиций. Все пропало. Мы живем в эпоху дезорганизации. В Китае, миледи, происходит какое-то гниение.
Он глубоко вздохнул и, показывая нам свои совершенно красные руки, а потом указывая на футляр, блестевший около него на траве, продолжал:
— И, однако, я, как вы сами могли убедиться, работаю изо всех сил, чтобы снова поднять наш униженный престиж. Потому что я лично старый консерватор, непреклонный националист, и отвергаю все обычаи, все новшества, которые под видом цивилизации, преподносят нам европейцы, а в особенности — англичане. Это — честные и очень уважаемые люди. Но, надо сознаться, их влияние на наши нравы было гибельно. С каждым днем они отнимают у нашего Китая его самостоятельный характер. В одном только отношении мучений, миледи, они причинили нам много зла, много зла. Это очень жалко.
— Однако, они с этим делом знакомы, — прервала Клара, которую оскорбил этот упрек в ее национальном самолюбии, потому что она, выказывая себя суровой по отношению к своим соотечественникам, требовала, чтобы другие уважали их.
Мучитель пожал плечами и, под влиянием нервной судороги, скорчил самую невероятно-смешную гримасу, какую только можно увидеть на человеческом лице. И в то время, как мы, несмотря на ужас, едва смогли удержаться от смеха, он решительно заявил:
— Нет, миледи, они с этим делом совсем незнакомы. В этом отношении они — настоящие дикари. Вот в Индии — скажем только про Индию — какая грубая и не изящная работа! И как они зверски — да зверски портят смерть!
Он сложил свои окровавленные руки, как для молитвы, поднял глаза к небу и воскликнул таким голосом, в котором, казалось, рыдало столько сожаления:
— Когда подумаешь только, миледи, какие чудесные вещи они могли бы сделать там, и которых они не сделали и которых они никогда не сделают. Это непростительно.
— Ну, — запротестовала Клара, — вы не знаете, что говорите.
— Пусть меня возьмут духи, если я вру! — воскликнул толстый добряк.
И более медленным голосом, с поучительными жестами, он наставлял:
— В мучении, как и во всем другом, англичане не художники. У них есть все качества, какие хотите, миледи, только не это. Нет, нет, нет.
— Как так! Они заставляют плакать все человечество.
— Плохо, миледи, очень плохо, — поправил палач. — Искусство состоит не в том, чтобы много убивать, душить, избивать, уничтожать людей массами… Это, действительно, слишком легко. Искусство, миледи, состоит в том, чтобы убивать согласно с уставами красоты, божественный секрет которой знаем только одни мы, китайцы. Уметь убить. Ничто более редко не встречается, а в этом все дело. Уметь убить! То есть так обработать человеческое тело, как скульптор обрабатывает свою глину или кусок слоновой кости, извлечь из него всю сумму, все чудеса страдания, которые оно таит в своей глубине. Вот! Здесь необходимо умение, разнообразие, изящество, вдохновение, наконец, талант: Но теперь все гибнет. Западная пошлость, захватывающая нас, броненосцы, скорострельные пушки, дальнобойные ружья, электричество, взрывчатые вещества… что еще? Все, что делает смерть коллективной, административной и бюрократической, наконец, вся грязь вашего прогресса, разрушают понемногу наши прошлые прекрасные традиции. И только вот здесь, в этом саду, они еще кое-как сохраняются. Здесь мы, по крайней мере, стараемся как-нибудь уберечь их. Сколько трудностей? Сколько препятствий! Какая вечная борьба, если бы вы знали! Увы! — я чувствую, что это не долго еще протянется. Мы побеждены посредственностью. И вот повсюду торжествует буржуазный дух.
На его лице лежало странное выражение меланхолии и в то же время гордости, в то время как его движения доказывали сильное утомление.
— И, однако, я, говорящий с вами, миледи, — продолжал он, — конечно, не простой человек. Я могу гордиться, что всю свою жизнь бескорыстно работал на славу нашей великой империи. Я всегда был первым в изобретении мучений. Поверьте мне, я изобрел на самом деле дивные вещи, восхитительные казни, которые в другое время и при другой династии принесли бы мне богатство и бессмертие. Ну, что же? И на меня едва обращают внимание. Меня не понимают. Скажу откровенно: меня презирают. Что же делать? Ныне талант не ценится ни во что, никто к нему больше не выказывает никакого почтения. Уверяю вас, это тяжело! Несчастный Китай, прежде такой художественный, такой знаменитый! Ах! Я очень боюсь, не будет ли он в скором времени завоеван?
Жестом пессимизма и отчаяния он брал Клару в свидетели этого упадка.
— Наконец, что же, миледи? Как же тут не плакать? Ведь я именно выдумал мучение посредством крысы. Пусть духи разорвут мою печень, если это не я! Ах, миледи, уверяю вас, необыкновенная пытка. Все в ней есть: оригинальность, живописность, психология, умение причинить боль. А к тому же она была бесконечно смешна. Она вдохновлялась старой китайской веселостью, совершенно забытой в наши дни. Ах, какой смех вызывала она у всех! Какой источник для томных разговоров! Ну, и они отвергли ее. Лучше сказать, она не понравилась им. И однако три опыта, произведенные нами перед судьями, имели колоссальный успех.
Так как не было видно, что мы сочувствуем ему, что, скорее, его жалобы старого чиновника надоедают нам, то палач повторил, напирая на слова:
— Колоссальный! Ко-лос-саль-ный!
— А что это за мучение при помощи крысы? — спросила моя подруга. — И почему я совершенно его не знаю?
— Шедевр, миледи, настоящий шедевр! — подтвердил зычным голосом толстяк, дряблое тело которого еще более ушло в траву.
— Я согласна. Но в чем же дело?
— На самом деле, шедевр! И вы видите ли, вы совсем не знаете его… никто не знает. Какая жалость! Как же вы хотите, чтобы я не был униженным?
— Вы можете описать его нам?
— Могу ли? Конечно, да, могу… Я сейчас вам все объясню, а вы судите сами. Слушайте.
И толстяк продолжал, точными жестами обрисовывая в воздухе формы:
— Вы берете осужденного, очаровательная миледи, или кого-либо другого — потому что для успешного действия моего снаряда необходимо, чтобы наказуемый был к чему бы то ни было осужден; вы берете человека, насколько возможно молодого, сильного, у которого были бы очень упругие мускулы, исходя из того принципа, что чем больше силы, тем сильнее будет борьба, а чем сильнее печаль, тем больше муки. Хорошо. Раздеваете его. Хорошо. И когда он будет совершенно голый, — понимаете, миледи? — вы заставляете его согнувшись стать на колени на землю, к которой прикрепляете его цепями, прикованными к железным кольцам, сжимающим ему затылок, запястья, колени. Хорошо. Не знаю, достаточно ли понятно я объясняю? Тогда в большой горшок со сделанным на дне небольшим отверстием — цветочный горшок, миледи, — вы сажаете огромную крысу, которой в течение двух дней не давали пищи, чтобы возбудить ее свирепость. И этот горшок с крысой, как огромную кровососную банку, вы, посредством крепких ремней, привязанных к надетому на него кожаному поясу, герметически прикрепляете к ягодицам осужденного. Ах! Как это понятно!
И он лукаво смотрел на нас из-под опущенных век, чтобы следить, какое впечатление произвели на нас его слова.
— И тогда? — просто спросила Клара.
— Тогда, миледи, в маленькое отверстие горшка вы вставляете — угадайте, что?
— Разве я знаю!
Добряк потирал руки, ужасно улыбался и продолжал:
— Вы вставляете железный стержень, раскаленный докрасна в горне, в подвижном горне, который должен находиться около вас. И когда будет вставлен железный стержень, то что произойдет? Ах! Ах! Ах! Представляете ли вы себе, миледи, что должно произойти?
— Но говорите же, старая болтушка! — приказала моя подруга, гневные ножки которой топтали песок аллеи…
— Ну! ну! — успокаивал пространный мучитель. — Немножко терпения, миледи… Будем идти методически… Итак, вы вставляете в дыру горшка железный прут, докрасна раскаленный в горне. Крыса захочет убежать от ожогов прута и от его света. Она беснуется, скачет, вертится и прыгает, кружится по стенкам горшка, карабкается и бегает по ягодицам человека, которые она сначала щекочет, а потом рвет своими лапами и кусает острыми зубами, ища выхода сквозь истерзанное и окровавленное тело. Но выхода нет. Или, по крайней мере, в первые минуты бешенства крыса не находит выхода. А железный прут, медленно и искусно направляемый, все продолжает приближаться к крысе, угрожает ей, опаливает шерсть. Что вы скажете о такой прелюдии?
Он несколько секунд отдувался и важно, авторитетно продолжал поучать:
— Главное достоинство здесь состоит в том, что надо уметь продолжить эту первоначальную операцию насколько возможно дольше, потому что законы физиологии вас учат, что нет ничего ужаснее, как соединение на человеческом теле чесотки и укусов. Может даже случиться, что пациент сойдет от этого с ума. Он воет, рвется. Его тело, свободное в промежутках железных поясов, трепещет, вздувается, корчится, трясется от мучительной дрожи. Но члены крепко держатся цепями, горшок — ремнями. А движения осужденного только увеличивают бешенство крысы, к которому скоро присоединяется опьянение кровью. Великолепно, миледи.
— И, наконец? — спросила отрывистым и дрожащим голосом слегка побледневшая Клара.
Палач щелкнул языком и продолжал:
— Наконец, — потому что я вижу, вы очень торопитесь узнать развязку этой великолепной и веселой истории — наконец, под угрозой раскаленного прута и благодаря нескольким своевременным ожогам, крыса, наконец, находит выход… естественный выход, миледи, и какой омерзительный! Ах! Ах! Ах!
— Какой ужас! — воскликнула Клара.
— А, как видите! Вы сами это сказали… И я очень горжусь, что вы так заинтересовались моим мучением… Но подождите. Крыса проникает, вы уже сами знаете, каким способом, в тело человека, расширяя лапами и зубами… нору. Ах! Ах! Ах! Нору, которую она роет бешено, как в земле. И она околевает, задохнувшись, в то время, как и осужденный после получаса невыразимых и несравнимых мук падает от кровотечения, если не от чрезмерности страдания, или от припадка ужасающего умопомешательства. Во всяком случае, миледи, поверьте, какова бы ни была окончательная причина этой смерти, все это необычайно прекрасно!
Довольный, с видом торжества и гордости, он заклю
— Разве это не необыкновенно красиво, миледи? Разве здесь, действительно, не чудесное изобретение, великолепный шедевр, классический в некотором роде,,которому вы напрасно будете искать чего-либо соответствующего в прошлом? Я не желаю хвастаться, миледи, но согласитесь, что демоны, населявшие прежде леса Юннама, никогда не воображали подобного чуда. Ну, а судьям оно не понравилось. Вы понимаете, я представил им нечто бесконечно славное, нечто единственное в своем роде, способное воспламенить вдохновение наших величайших артистов. Им это не нравилось. Они больше ничего не хотят, ничего больше! Возвращение к классической традиции устрашает их. Не считая уже всевозможных нравственных помех, которые очень тяжело Констатировать. Интриги, взятки, конкурирующая продажность, отвращение к справедливости, ужас перед красотой, мало ли чего! Я уверен, что вы, по крайней мере, думаете, что за такую услугу меня возвысили в чин мандарина? Как же! Ничего, миледи, я ничего не получил. Вот они, характерные признаки нашего упадка. Ах, мы — конченый народ, мертвый народ. Могут прийти японцы, мы более не способны противиться им. Прощай, Китай!
Он умолк.
Солнце склонилось к западу, и тень от эшафота,:перемещаясь вместе с солнцем, распростерлась теперь на земле. Лужайки сделались еще более ярко-зелеными; розовое и золотистое испарение поднималось от политых кустов, а цветы казались маленькими разноцветными звездочками на зеленом своде.
Какая-то птичка, совершенно желтая, неся в клюве длинный стебель хлопчатника, возвратилась в свое гнездо, скрытое в глубине листвы, украшавшей вертушки мучительной постройки, у подножия которой сидел палач.
Последний сейчас мечтал; лицо его успокоилось, гримасы сгладились, и меланхолия сменила жестокость.
— То же, что и с цветами, — пробормотал он помолчав.
Черная кошка, вышедшая из кустарников, изогнув спину и размахивая хвостом, подошла к нему и с мурлыканием начала тереться. Он важно погладил ее. Потом кошка, заметив жука, легла за кустом травы и, насторожив уши, сверкая глазами, начала следить за капризным полетом в воздухе насекомого. Палач, патриотические сетования которого были прерваны этим появлением, покачал головой и заговорил:
— То же, что и с цветами. Мы также потеряли весь смысл цветов. Мы больше уже не понимаем цветов. Поверите ли, что нам шлют цветы из Европы, — нам, владеющим самой разнообразной флорой на всем земном шаре. Чего теперь нам только не присылают! Фуражки, велосипеды, мебель, кофейные мельницы, вино и цветы. А если бы вы знали, какие мрачные глупости, какое сентиментальное убожество, декадентскую нелепицу высказывают наши поэты о цветах? Это ужасно! Некоторые из них утверждают, что цветы развратны! Развратны — цветы! На самом деле уже не знают, чего и выдумать! Можете ли вы, миледи, представить себе подобную чудовищную бессмыслицу? Цветы страстны, жестоки, ужасны и великолепны, как любовь!
Он сорвал лютик, мягко покачивавший около него, на газоне, своей золотой головкой, и с бесконечной нежностью, медленно, любовно начал вертеть его в своих толстых красных пальцах, в которых местами лущилась засохшая кровь.
— Разве это не очарование? — повторил он, рассматривая цветок. — Совсем маленький, очень хрупкий и, однако, совершенно естественный, вся красота и вся сила природы. В этом заключается мир. Слабый и безжалостный организм, идущий к цели своих желаний! Ах, цветы, миледи, не производят чувства! Они производят, порождают любовь… и только любовь. И они порождают ее всегда и везде. Они только и думают об этом. И как они правы! Развратны? Разве потому, что они повинуются единственному закону жизни, разве потому, что они удовлетворяют единственной потребности жизни, именно любви? Но посмотрите же! Цветок — только половой орган, миледи. Разве есть что-либо здоровее, сильнее, красивее полового органа? Эти чудесные лепестки, эта щель, этот бархат, эти нежные, мягкие и ласкающие ткани, это — занавески алькова, драпировки брачной комнаты, благоухающая постель, на которой соединяются половые органы, где они проводят свою скоропроходящую и бессмертную жизнь в любовном замирании. Какой чудесный пример для вас!
Он отодвинул лепестки цветка, сосчитал тычинки, покрытые пыльцой, и прибавил с каким-то насмешливым экстазом во взгляде:
— Смотрите, миледи! Раз, два, пять, десять, двадцать… Видите, как они дрожат! Смотрите! Они движутся, хотя их двадцать самцов для удовлетворения одной самки! Хе, хе, хе! А иногда наоборот.
Он по одному оборвал лепестки цветка.
— И когда они насытятся любовью, тут занавески постели разрываются, разрушаются и спадают драпировки комнаты. И цветы умирают, потому они хорошо знают, что им больше нечего делать. Они умирают, чтобы позже снова возродиться для любви!
Далеко отбросив от себя оголенную тычинку, он крикнул:
— Любите, миледи, любите, как цветы!
Потом он быстро взял свой футляр, поднялся и, поклонившись нам, пошел по лужайкам, топча своим согнувшимся и раскачивающимся телом цветущий газон морского лука, сайгачного корня и нарциссов.
Клара некоторое время провожала его глазами, а когда мы снова направились к колоколу, сказала:
— Смешон этот жирный чудак. Он похож на ребенка.
Я воскликнул, пораженный:
— Как вы могли подумать это, дорогая Клара? Но это же чудовище! Даже ужасно подумать, что между людьми существует подобное чудовище! Я чувствую, что отныне всегда передо мной будет стоять кошмар в виде этого ужасного лица, я буду чувствовать всегда:ужас от его слов. Уверяю вас, вы причиняете мне огорчение.
Клара быстро возразила:
— И ты тоже огорчаешь меня. Почему ты утверждаешь, что толстый чудак — чудовище? Ты тут ничего не понимаешь. Он любит свое искусство, вот и все. Как скульптор любит скульптуру, а музыкант — музыку. И он чудесно говорит о нем. Разве это не удивительно и не досадно, что ты в душе не хочешь понять, что мы в Китае, а не, слава Богу, в Гайд-Парке или в Бондивере, посреди грязных буржуа, которых ты обожаешь? По-твоему, во всех странах должны быть одинаковые нравы? И какие нравы? И какие нравы! Прекрасная мысль! Значит, ты не чувствуешь, что тогда можно было бы умереть от однообразия и никогда больше не путешествовать, мой милый!
И вдруг еще более ясным тоном упрека она добавила:
— Ах, ты совсем не любезен! Ни на одну минуту тебя не покидает твой эгоизм, даже для самого малого удовольствия, какое я прошу у тебя. С тобой ведь никакой возможности повеселиться. Ты никогда и ничем не доволен. Ты противоречишь мне во всем, что я люблю. Не говоря уже про то, что мы, может быть, благодаря тебе, опоздали к самому прекрасному!
Она печально вздохнула:
— Вот снова пропал день! Не везет мне.
Я попробовал защищать и успокоить ее.
— Нет, нет, — наcтаивала Клара, — очень плохо. Ты — не мужчина. Даже при Анни было то же самое. Ты отравлял всякое удовольствие своими обмороками маленькой пленницы и беременной женщины. Тебе бы сидеть дома. Правда, ведь это глупо? Ездят веселые, счастливые, чтобы мило повеселиться, посмотреть удивительные зрелища, поволноваться необыкновенными чувствами, а потом вдруг делаются грустными, и все кончено! Нет, нет! Это глупо, глупо, это слишком глупо!
Она сильнее повисла на моей руке, у нее на лице сердитая и нежная гримаска, такая изящная, что я почувствовал, как по моим жилам пробежала дрожь желания.
— А я делаю все, что ты захочешь, как бедная собачонка! — ныла она.
Потом добавила:
— Я уверена, что ты считаешь меня злой, потому что мне нравятся вещи, которые заставляют тебя бледнеть и трепетать. Да, ты считаешь меня злой и бессердечной?
Не дожидаясь моего ответа, она продолжала:
— Но и я бледнею, и я также трепещу. Без этого не было бы удовольствия. Ну, ты считаешь меня злой?
— Нет, дорогая Клара, ты не злая. Ты…
Она быстро прервала меня, подставив свои губы:
— Я не злая. Я не хочу, чтобы ты считал меня злой. Я милая и любопытная бабенка, как все женщины. А вы, вы только — мокрая курица! И я вас больше не люблю. Целуйте вашу маму, милый мой. Целуйте крепко, крепче… очень крепко. Нет, я вас больше не люблю, тряпка. Да, вы только милая тряпка и больше ничего.
Веселая и серьезная, улыбающаяся и с морщинкой, которая у нее появлялась в гневе, как и в страсти, она прибавила:
— Сказать только, что я женщина, совсем маленькая женщина, совершенно хрупкая, как цветок, такая же нежная и хрупкая, как бамбуковый стебель, и что из нас двоих мужчина-то я… и что я стою двоих таких мужчин, как ты!
Желание, возбуждающееся во мне ее телом, соединялось с безграничной жалостью за ее пропащую и безумную душу.
С легким презрением она произнесла фразу, которая часто срывалась с ее губ:
— Мужчины! Они не знают, ни что такое любовь, ни что такое смерть. Они ничего не знают, и всегда печальны, и плачут! Они безо всякой причины падают в обморок от всяких пустяков.
Вдруг, перескочив с одной мысли на другую, как пучок с цветка на цветок, она спросила:
— А правда ли то, что нам сейчас рассказывал толстый добряк?
— В чем дело, милая Клара? И какое нам дело до толстого добряка?
— Толстый добряк сейчас рассказывал, что у цветов иногда двадцать самцов удовлетворяют страсть одной самки. Эта правда?
— Конечно, правда!
— Правда? Хорошо! На самом деле, правда?
— Ну, без сомнения!
— Толстяк не смеялся над нами? Ты уверен?
— Что ты чудишь? И почему ты у меня спрашиваешь это? Почему ты смотришь на меня такими странными глазами? Это правда!
— Ах!
Она задохнулась, закрыв на секунду глаза. Грудь ее вздымалась, она тяжело дышала…
И, склонив голову мне на грудь, она прошептала:
— Я хотела бы быть цветком. Я хотела бы… Я хотела бы быть всем!
— Клара! — умолял я. — Милая Клара!
Я сжал ее в своих объятиях… Я качал ее на руках.
— Ты нет? Ты не хотел бы? О, по-твоему, лучше остаться на всю жизнь мягкой тряпкой? У, грубый!
После короткого молчания, во время которого мы сильнее слышали, как кричал красный песок аллеи под нашими шагами, она певучим голосом заговорила:
— Я тоже хотела бы, когда я умру, я хотела бы, чтобы в мой гроб положили бы самые сильные запахи, цветы фаликтра и изображения греха, прекрасные изображения, жгучие и обнаженные, как те, что украшают ковры моей комнаты. Или же, я хотела бы быть погребенной без платья и савана в подземельях храма Слона… со всеми этими странными каменными вакхами… ласкающими и раздирающими, я хотела бы бешеного сладострастия. Ах, мой милый! От такого я хотела бы уже быть мертвой!
И быстро добавила:
— Когда умрешь, ноги касаются дерева гроба?
— Клара! — умолял я. — Зачем всегда говорить о смерти? И ты хочешь, чтобы я не был печален? Умоляю тебя, не своди меня совсем с ума. Брось все эти мучающие меня мысли, и вернемся назад. Сжалься, милая Клара, вернемся!
Она не слушала мою просьбу и продолжала, а в ее тоне, не знаю, что было — волнение или ирония, нервные слезы или едкий смех:
— Если ты будешь около меня… когда я буду умирать, мой дорогой, слушай хорошенько! Ты положишь, да, ты положишь красивую подушку из желтого шелка между моими несчастными ножками и деревом гроба. А потом, ты убьешь мою красивую лаосскую собаку, и положишь ее, окровавленную, около меня, как она имела обыкновение ложиться сама около меня; ты знаешь, одна лапа на моем бедре, а другая на груди. А потом, долго, долго ты поцелуешь меня, мой милый, в губы, и в волосы. И будешь рассказывать мне истории, красивые истории, укачивающие и жгучие. Истории такие, которые ты мне говоришь, когда любишь. Не хочешь, мой милый? Обещаешь? Не делай такого похоронного лица! Печально не умереть, печально жить, когда несчастлив. Поклянись, поклянись, что обещаешь!
— Клара! Клара! Умоляю тебя! Замолчи!
Несомненно, я готов был лишиться чувств. Поток слез брызнул из моих глаз.
Я не мог бы назвать причину этих слез, которые не были тяжелы для меня, а, напротив, принесли мне как бы облегчение. И Клара ошиблась, приняв эти слезы за вызванные ею. Я плакал не о ней, не о6 ее грехе, не от милосердия, внушаемого ее больной душой, не от представления, вызванного ее словами о смерти. Может быть, я плакал только над собой, над своим присутствием в этом саду, над этой проклятой любовью, в которой, как я чувствовал, все, что было во мне теперь благородного порыва, высокого желания, честолюбия, профанировалось нечистым дыханием поцелуев, которых я стыдился и которых жаждал!
Нет же, нет!
И зачем мне лгать самому себе? Самые простые слезы, слезы слабости, усталости и лихорадки; слезы возбуждения перед слишком грубыми для моей слабой чувствительности зрелищами; перед слишком сильными для моего обоняния запахами; перед постоянными скачками от бессилия к возбуждению моих чувственных желаний. Женские слезы, ничтожныe слезы!
Уверенная, что я плачу о ней, умершей, лежащей в гробу, и счастливая своей властью надо мною, Клара сделалась очаровательно ласкова.
— Бедный малютка! — вздохнула она. — Ты плачешь? Ну, в таком случае сейчас же скажи, что у жирного добряка был простодушный вид. Скажи, чтобы доставить мне удовольствие, и я замолчу и никогда не заговорю о смерти, никогда больше. Ну! Сейчас же, скажите, поросенок.
Подло, но чтобы раз и навсегда покончить со всеми этими погребальными разговорами, я сделал то, о чем она просила меня.
С бурной радостью она бросилась мне на шею, поцеловала в губы, и, вытерев мне глаза, воскликнула:
— О, как ты любезен! Ты — любезный ребенок! Милый ребенок, дорогой мой! А я — гадкая женщина, злая бабенка. Которая дразнила тебя все время и заставляла плакать. А потом, толстяк — чудовище. Я ненавижу его. А потом, я не хочу, чтобы ты убивал мою прекрасную лаосскую собаку. А потом, я не хочу умирать. А потом, я обожаю тебя, ах! А потом, а потом, все это, понимаешь ли, было для смеха. Не плачь больше, ах! Не плачь больше! Улыбнись сейчас, засмейся своими добрыми глазами, своими нежными губами, своими губами, своими губами… И пойдем скорее! Я так люблю быстро ходить под руку с тобою!
И ее зонтик, легкий, сверкающий и сумасшедший, как огромная бабочка, летал над нашими соприкасающимися головами.
VII
Мы приближались к колоколу.
Справа и слева огромные красные цветы, огромные пурпурные цветы, пионы цвета крови, а в тени, под огромными зонтиковидными листьями петаситов, артуриумы, похожие на окровавленные легкие, казалось, иронически кланялись нам при проходе мимо них и указывали нам дорогу к мучениям.
Много здесь было и других цветов, цветов резни и убийства: тигридии, раскрывающие изуродованные горла, диклитры и их гирлянды красных цветочков, а также и суровые губоцветные с твердым мясом, мясистым, влажного цвета, настоящие человеческие губы — губы Клары, — кричащие с высоты своих нежных стеблей:
— Идите, милые, идите же скорее. Там, куда вы идете, еще больше страдания, еще больше мучений, больше крови, льющейся и впитывающейся в землю. Больше скорченных, разрываемых тел, хрипящих на железных столах, больше нарубленных тел, качающихся на веревке на виселице, больше ужаса и больше ада. Идите, мои дорогие, идите, уста с устами, рука с рукой. И смотрите сквозь листья и трельяжи, смотрите, как открывается адская диорама и дьявольское празднество смерти.
Клара молчала, вся дрожа, сжав зубы; глаза ее сделались жгучими и суровыми.
Она молчала и, продолжая идти, слушала голос цветов, в котором она узнавала собственный свой голос, твой голос ужасных дней и человекоубийственных ночей, голос свирепости, сладострастия, а также и скорби, который, казалось, выходил из глубины земли и из глубины смерти, а также из самой бездонной и самой мрачной глубины ее души.
Резкий звук, похожий на скрип блока, послышался в воздухе. Потом что-то очень важное, очень чистое, похожее на резонанс хрусталя, в который вечером ударилась ночная бабочка.
Тут мы вошли в широкую извилистую аллею, обрамленную с каждой стороны высоким трельяжем, отбрасывавшим на песок тень, изрезанную маленькими световыми ромбами.
Клара жадно глядела сквозь трельяж и листву. Смотрел и я между листвой и трельяжем, смотрел невольно, несмотря на искреннее решение теперь закрывать глаза на гнусные зрелища, смотрел, привлекаемый странным магнитом к ужасу, побежденный головокружительной властью чудовищного любопытства.
И вот что мы видели.
На обширном и низком холме, к которому незаметно вверх вела аллея, была совершенно круглая площадка, артистически окруженная деревьями, высаженными искусными садовниками.
В центре этой площадки висел огромный, коренастый, из матовой бронзы, с пятнами ржавчины, колокол, висел на блоке на верхней перекладине, подобии гильотины из черного дерева, столбы которой были изукрашены золотыми письменами и ужасными масками. Четверо мужчин, голых до пояса, с напряженными мускулами, с обвисшей кожей, превратившейся в бесформенные горбы, тянули за веревку блока, и их размеренные движения едва потрясали, поднимали огромную металлическую массу, которая при каждой встряске издавала чуть слышный звук, звук нежный, чистый, жалобный, вибрации которого терялись и умирали в цветах. Язык, тяжелая железная колотушка, только слегка раскачивался, но совсем не касался звучных стенок, устав так долго звонить над агонией несчастного. Под куполом колокола двое других мужчин с голой поясницей, с мокрыми от пота торсами, подпоясанные темными шерстяными поясами, наклонились над чем-то, чего не было видно.
И их груди с выдающимися ребрами и их худые бока вздымались, как у запаленных лошадей.
Все это представлялось неясно, несколько смутно, словно в тумане, сразу разрывалось на тысячи частей и потом восстанавливалось все целиком в промежутках листвы и трельяжа.
— Надо торопиться, надо торопиться! — воскликнула Клара и, чтобы идти скорее, закрыла свой зонтик и смелым жестом высоко подняла платье.
Аллея все извивалась, становилась то освещенной, то затененной, постоянно меняла вид и каждую минуту смешивала с величайшей цветочной красотой невыразимый ужас.
— Смотри же, милый, — сказала Клара, — смотри повсюду. Мы в самой красивой, в самой интересной части сада. Смотри, эти цветы! Ах! Эти цветы!
И она указала мне на странные растения, расстилавшиеся по земле, где во все стороны струилась вода…
Я подошел.
Они были на высоких стеблях, чешуйчатые, с черными пятнами, как змеиная кожа, с огромными влагалищами, вроде округленных трубочек лилового цвета, тронутого гнилью внутри, а снаружи желто-зеленого цвета разлагающегося мяса и похожие на вскрытую грудь мертвого животного. Из глубины этих трубочек выходили длинные окровавленные пестики, воспроизводящие по форме чудовищные органы…
Привлекаемые запахом падали, издаваемым этими ужасными растениями, мухи тесными роями летали вокруг, мухи углублялись внутрь влагалищ, усеянных сверху до низу сжимающимися улитками, которые захватывали их в плен вернее, чем сети паука.
А вдоль стеблей лапчатые листья скручивались, извивались, как руки мучеников.
— Видишь, мой милый, — поучала Клара, — эти цветы ничуть не создания больного мозга, безумного воображения. Они естественные. Ведь я же тебе говорила, что природа любит смерть!
— Природа создает и чудовища!
— Чудовища! Чудовища! Прежде всего, нет чудовищ. То, что ты называешь чудовищами, это просто высшие формы, непонятные для тебя. А разве боги не чудовища? А разве гениальный человек не чудовище, как тигр, как паук, как все индивиды, живущие над социальной ложью, в великолепии и божественной безнравственности вещей? Но тогда и я — чудовище!
Теперь мы шли между бамбуковых палисадников, вдоль которых бежала жимолость, душистые жасмины; биньоны, древовидные мальвы, вьющиеся, еще не расцветшие гибискусы.
Менисперм охватывал каменную колонну своими бесчисленными лианами. Наверху колонны гримасничало лицо отвратительной богини, уши которой была раскрыты, как крылья летучей мыши, и волосы оканчивались огромными языками.
Желтые лилии, паслены, шпорники покрывали ее основание, которое исчезало в их розовых колокольчиках, золотых венчиках, яркокрасных торсах и пурпуровидных звездах. Заметив нас, нас начал ругать покрытый паразитами и изъеденный червями нищенствующий бонза, который, казалось, был сторожем этой постройки и обучал туранских ихнемвонов делать диковинные скачки.
— Собаки! Собаки! Собаки!
Надо было бросить несколько монет этому бесноватому, ругательства которого превосходили все, что может придумать самое злобное озверение.
— Я его знаю! — сказала Клара. — Он похож на священника всех религий, он хочет испугать нас, чтобы мы дали ему денег, но он не злой!
То там, то здесь в углублениях палисада, скрываясь цветочными залами и цветниками, виднелись деревянные скамьи, снабженные бронзовыми цепями и ошейниками, железные столы в форме крестов, плахи, решетки, виселицы, машины автоматического четвертования, постели, усыпанные клинками, утыканные железными гвоздями, ошейники, дыбы и колеса, котлы и тазы над потухшими кострами, все орудия жертвоприношений и мучений, запятнанные кровью, кое-где засохшей и черной, а кое-где влажной и красной. Лужи крови наполняли углубления в земле; длинные слезы застывшей крови свешивались с разнообразных аппаратов.
Вокруг этих механизмов почва впитала кровь в себя.
Кровь еще светилась красными пятнами на белизне жасминов, окропляла кораллово-розовую жимолость, а маленькие кусочки человеческого мяса, летевшие под ударами кнутов и ременны х плетей, прицеплялись кое-где к лепесткам и листьям.
Видя, что я слабею и скольжу на лужах, которые все увеличивались и занимали середину аллеи, Клара вежливым голосом подбодряла меня:
— Это еще ничего, мой милый. Идем!
Но идти было трудно.
Растения, деревья, воздух, земля были полны мух, опьяненных насекомых, злых и воинственных жесткокрылых, сытых москитов. Здесь, вокруг нас, на солнце, мириадами скучилась вся фауна трупов. Омерзительные личинки кишели в красных лужах, свисали с веток мягкими кистями. Песок, казалось, дышал, двигался от массы паразитов. Оглушенные, ослепленные, мы каждую минуту останавливались всеми этими жужжащими роями, все увеличивающимся, и я боялся за Клару, боялся их смертоносных укусов. Иногда мы испытывали ужасное чувство, что наши ноги углубляются в размякшую, словно после кровавого дождя, землю!
— Это еще ничего, — повторяла Клара. — Идем!
И вот, чтобы дополнить драму, появились человеческие лица. Отряды рабочих, которые спокойно шли чистить и приводить в порядок орудия мучений, потому что время экзекуций в саду прошло. Они смотрели на нас, удивляясь, несомненно, что встретили в это время и на этом месте еще двух стоящих людей, еще двух живых людей, у которых были еще головы, ноги, руки. Дальше М видели пузатого и толстого горшечника, который, сидя на корточках на земле, в положении обезьяны, покрывал лаком цветочные горшки, только что обожженные; около него корзинщик беспечно и искусно плел из гибких камышинок и рисовой соломы изящные навесы для растений; садовник на точиле точил свой нож, напевая народные песенки, между тем, как, пережевы листья бетеля и тряся головой, какая-то старуха спокойно чистила чью-то железную пасть, острые зубья которой еще были усеяны безобразными человеческими останками.
Дальше мы видели детей, которые палками били крыс и наполняли ими корзины.
А вдоль палисадов, голодные и озлобленные, волоча царственно-великолепные свои одежды по кровавой грязи, павлины, толпы павлинов хватали клювами кровь, вытекавшую из сердца цветов, и с кровожадным кудахтаньем бросались на куски мяса, приставшие к листьям.
Отвратительный запах бойни, заглушавший и господствовавший здесь над всеми другими запахами, переворачивал у нас внутренности и вызывал почти рвоту.
Сама Клара, фея могил, ангел разложения и гнили, может быть, потому что нервы у нее ослабли, — Клара слегка побледнела. Пот сверкал у нее на висках.
Я видел, что у нее закрываются глаза и слабеют ноги.
— Мне холодно! — сказала она.
Ее ноздри, всегда раздувавшиеся, как паруса от морского ветра, сделались тоньше. Я думал, что она вот-вот лишится чувств.
— Клара! — умолял я. — Вы же видите, что это невозможно, и что есть такая степень ужаса, которую вы сами не можете преодолеть.
Я протянул ей обе руки. Но она оттолкнула их и, сопротивляясь недомоганию всею неукротимой энергией своих хрупких органов, сказала:
— Вы с ума сошли? Идем, мой милый, скорее, идем скорее!
Однако, она все-таки понюхала соли.
— Вот вы совсем бледный и идете, как пьяный, я не больна, я очень хорошо чувствую себя, и мне хочется петь.
И она начала петь:
Ее одежды — летние сады –
И…
Она слишком напрягла свои силы, голос у нее вдруг застрял в горле.
Я подумал, что представился удобный случай увести ее, тронуть ее, может-быть, напугать. Я крепко попробовал привлечь ее к себе.
— Клара! милая Клара! Не надо надрывать свои силы, не надо надрывать свою душу. Умоляю тебя, вернемся!
Но она воспротивилась:
— Нет, нет, оставь меня, ничего не говори, это ничего. Я счастлива!
И она быстро вырвалась из моих объятий.
— Видишь, на моих башмаках даже нет крови.
Потом сердито добавила:
— Господи, как надоедливы эти мухи! Почему здесь столько мух? И почему ты не заставишь замолчать этих ужасных павлинов?
Я попробовал прогнать их. Некоторые упрямо оставались около своей кровавой пищи; другие тяжело взлетали и, издавая резкие крики, уселись невдалеке от нас, наверху палисадников и на деревьях, откуда их хвосты спускались, словно материи, расшитые сверкающими драгоценностями.
— Грязные твари! — сказала Клара.
Благодаря солям, благодетельный запах которых она долго вдыхала, а в особенности, благодаря собственной непреклонной воле не слабеть, ее лицо снова покрылось розовой краской, ноги снова сделались гибкими. Тогда она запела окрепшим голосом:
Ее одеяния — летние сады – И храмы в праздничный день, А ее груди, твердые и подпрыгивающие, Сверкают, как две золотые вазы, Наполненные опьяняющими напитками И одуряющими ароматами… У меня три подруги…После минуты безмолвия она снова начала петь более сильным голосом, покрывавшим жужжание насекомых:
Волосы третьей собраны И скручены на голове. И никогда они не знали прикосновения Пахучего масла. Ее лицо, выражающее страсть, безобразно, Ее тело похоже на свиную тушу. Она всегда ругается и ворчит. Ее грудь и живот отдают запахом рыбы, А ее постель омерзительнее, чем гнездо удода. И вот ее-то я и люблю. И вот ее-то я и люблю, потому что есть нечто, Более таинственно-притягивающее к себе, Чем красота: это — гниение, — Гниение, в котором господствует вечная Теплота жизни, В котором перерабатывается вечная Смена превращений. У меня три подруги!..И, пока она пела, пока ее голос звонко разносился посреди ужасов сада, очень высоко, очень далеко показалось облако. И на безграничном небе оно походило на совсем маленькую розовую барку, совсем маленькую барку с шелковыми парусами, увеличивающимися по мере того, как она, мягко скользя, подвигалась вперед.
Перестав петь, Клара, развеселившись, воскликнула:
— О! Облачко! Посмотри, как оно красиво, совершенно розовое на лазури! Ты его еще не знаешь? Ты его никогда не видел? Но это таинственное облачко, и, может быть, это даже и не облачко. Каждый день, в один и тот же час, оно появляется неизвестно откуда. И оно, всегда розовое, всегда одинаково. Оно скользит, скользит, скользит… Потом оно делается менее плотным, редким, рассеивается, пропадает на небе. Оно исчезло! И никто не знает, ни куда оно исчезло, ни откуда пришло! Здесь есть очень ученые астрономы, которые утверждают, что это — дух. Я же думаю, что это — странствующая душа, бедная, несчастная, как моя, блуждающая душа.
И прибавила, беседуя сама с собой:
— А вдруг это душа несчастной Анни?
В течение нескольких минут она созерцала неизвестное облачко, которое уже побледнело и понемногу растаяло.
— Смотри! Тает, тает… Кончено! Нет более облачка! Оно исчезло!
Она стояла, безмолвная и очарованная, устремив глаза на небо.
Пролетел легкий ветерок, от которого по деревьям пробежала мелкая дрожь; солнце сделалось мягче, нежнee; свет его к западу покраснел, к востоку затуманился серо-перламутровыми тонами, бесконечно разнообразными оттенками.
И тени киосков, больших деревьев, каменных Будд ложились на лужайках тоньше, неопределеннее и становились голубыми…
VIII
Мы были около колодца.
Высокие стволы сливовых деревьев с двойными цветами, прижавшимися друг к другу, заполняли его. Мы угадывали его по более сильной тени между листьями, между цветами, маленькими вздутыми цветами, белыми и совершенно круглыми.
Павлины следовали за нами на некотором расстоянии, нахальные и в то же время осторожные, вытягивая шеи и расстилая по красному песку великолепный шлейф своих усеянных глазами хвостов. Есть между ними и совершенно белые, бархатно-белые, грудь которых была усеяна кровавыми пятнышками, а кровожадная голова увеличивалась широким пучком в виде веера, в котором каждое тонкое и твердое перышко оканчивалось как бы трепещущей каплей розового кристалла.
Железные столы, высокие дыбы, зловещие орудия попадались все чаще. В тени огромного тамаринда мы заметили какое-то кресло в стиле рококо. Выточенные ручки были сделаны не то из пилы, не то из стального режущего клинка, спина и сидение представляли собрание железных острий. На одном из этих острий висел кусок мяса.
Легко, ловко Клара сняла его концом зонтика и бросила кровожадным павлинам, которые, хлопая крыльями, сбежались и начали спорить из-за него, сильно работая клювами.
В течение нескольких минут они представляли какую-то ослепительную путаницу, с таким переливом драгоценных камней, что, несмотря на все отвращение, я любовался чудесным зрелищем. Усевшись на соседних деревьях, лофофоры, священные фазаны, большие бойцовские малабские петухи в расцвеченных кирасах смотрели на драку павлинов, ожидая добычи. Вдруг на стене сливовых деревьев раскрылась широкая щель, арка света и цветов, и перед нами очутился колокол, — здесь, перед нами он, огромный и ужасный.
Его тяжелые подпорки, покрытые черным лаком, разрисованные золотыми надписями и красными масками, в профиль напоминали храм и странно сверкали на солнце.
Вокруг него вся земля, покрытая слоем песка, в котором заглушался звук, была огорожена стеною цветущих сливовых деревьев, покрытых густыми цветами, которые своими белыми букетами закрывали стебли сверху донизу.
Посреди этого красного и белого круга виднелся зловещий колокол. Это была словно бездна в воздухе, опустившаяся пропасть, поднимавшаяся с земли на небо и дна которой, окутанного безмолвным мраком, не было видно.
И только теперь мы поняли, над чем нагнулись двое личин, худые торсы и поясницы которых, перепоясанные темными поясами, мы заметили под верхушкой колокола, как только вошли в эту часть сада. Они наклонялись над трупом и освобождали его от веревок, ремней, которыми он был крепко связан.
Труп, цвета охристой глины, был совершенно голый, а лицо его было уткнуто в землю.
Он ужасно скорчился, мускулы напряглись, кожа, вся в багровых полосах, то изрытых, то вздувшихся, словно распухла. Заметно было, что наказываемый долго боролся, что он тщетно старался порвать свои узы и что, от отчаянного и долгого усилия, веревки и кожаные ремни понемногу врезались в кожу, образовали темно-красные подтеки, сгущенный гной, зеленоватые пятна.
Наступив ногой на труп и выгнув спины, двое мужчин, намотав на руки веревки, тащили их, причем вместе с веревками отрывали куски мяса.
Из их горла вырывался ритмический стон, скоро переходящий в хриплый свист. Мы приблизились.
Павлины остановились.
Увеличившись новыми стадами, они теперь заполняли круговую аллею и цветущую арку, которую не решались перейти. Мы слышали сзади себя их крики и их глухой топот, как топот толпы. На самом деле это была толпа, сбежавшаяся к подножию храма, теснившаяся, сжавшаяся, беспокойная, задыхавшаяся, почтительная, которая, вытянув шеи, широко раскрыв глаза, свирепая и болтливая, смотрит, как совершается непонятное таинство.
Мы еще приблизились.
— Смотри, мой милый, — сказала Клара, — как все это любопытно и своеобразно, и какое великолепие! В какой другой стране найдешь подобное зрелище? Зала мучений убрана, словно для бала. А эта ослепительная толпа павлинов, служащая свидетелями, фигурантами, народом, праздничной декорацией! Неужели нельзя сказать, что мы вырваны из жизни и перенесены в область поэзии древнейших легенд? И неужели ты, действительно, не восхищен? Мне кажется, что я здесь живу в мире грез!
Над нами летали фазаны с ярким оперением, с длинными посеребренными хвостами.
Некоторые из них иногда осмеливались садиться на верхушках цветущих деревьев.
После нескольких минут очарованного безмолвия, Клара, следившая за причудливыми фазанами и цветами этих феерических полетов, заговорила снова:
— Сознайся, мой милый, насколько китайцы, так презираемые теми, кто их совсем не знает, удивительные люди! Ни один народ не сумел так искусно и разумно укротить и приучить природу. Какие несравненные артисты! И какие поэты! Взгляни на этот труп, который на красном песке видом похож на старых идолов. Посмотри на него получше, потому что он необыкновенен. Можно сказать, что вибрации звонящего изо всей силы колокола проникли в это тело, как нечто твердое и острое, что они подняли в нем мускулы, разорвали жилы, корчили и ломали кости. Обыкновенный звук, такой приятный для слуха, такой нежно-музыкальный, так волнующий душу превращается в нечто, в тысячу раз более ужасное и мучительное, чем вместе инструменты старого толстяка! Как ты думаешь, разве это не очаровательно? Нет, надо понять эту чудовищную вещь, заставляющую плакать от экстаза и божественной меланхолии влюбленных девственниц, гуляющих вечером по полю и могущую тоже заставить выть от страдания, могущую умертвить в неописуемых мучениях жалкое человеческое тело. Я говорю, это — гениально. Ах! Чудное мучение! И такое скромное, потому что оно совершается во мраке, но ужас от которого, когда подумаешь о нем, не может быть сравнен ни с чем другим. Впрочем, как и мучение лаской, оно теперь очень редко, и ты должен считать себя счастливым, что видел его в первое же посещение сада. Меня уверяли, что китайцы заимствовали его из Кореи, где оно очень старо и где, кажется, часто практикуется и сейчас. Мы, если хочешь, отправимся в Корею. Корейцы — неподражаемо-свирепые мучители, они изготавливают самые белые вазы в мире, совершенно неподражаемые, которые, кажется, вымачиваются, ах, если бы ты знал! — в ваннах из человеческого семени!
Потом, возвращаясь к трупу, она продолжала:
— Хотелось бы мне узнать, что это за человек. Ведь наказывают колоколом только важных преступников: принцев-заговорщиков, высших чиновников, которые больше не нравятся императору. Это — аристократическое и почти почетное наказание.
Она потрясла мою руку.
— Все, что я тебе говорю, кажется, не интересует тебя. Ты даже не слушаешь меня! Но послушай же! Этот звонящий колокол. Он так нежен! Когда слышишь его издали, то является мысль о мистической пасхе, о ликующей мессе, о крещении, о бракосочетании. И это — самая ужасная смерть! Я нахожу это неслыханным. А ты?
А так как я не отвечал, она настаивала:
— Да, да! Скажи, что это неслыханно! Я хочу, хочу! Будь любезен!
Я упорно молчал, а она слегка рассердилась.
— Как ты неприятен! — сказала она. — Никогда ты не бываешь любезен со мной! Что же могло бы развеселить тебя? Ах, я не хочу больше любить тебя! Я не хочу тебя больше… Сегодня ночью ты будешь спать совсем один, в киоске. А я отыщу мою малютку Персиковый Цветок, которая любезнее тебя и которая умеет лучше любить, чем мужчины.
Я хотел что-то пробормотать.
— Нет! Нет! Оставьте! Кончено! Я не хочу больше разговаривать с вами! Сожалею, что не взяла с собой Персикового Цветка. Вы невыносимы, вы делаете меня грустной. Вы сводите меня с ума. Это гнусно! И вот снова пропал день, а я думала, что он с тобою будет таким возбуждающим!
Ее болтовня, ее голос раздражали меня. Уже несколько минут я более не видел ее красоты.
Ее глаза, ее губы, ее затылок, ее тяжелые золотистые волосы, и даже страстность ее желаний, и даже порочность ее греха, — все в ней теперь казалось мне отвратительным.
И от ее полуоткрытого корсажа, от розовой наготы груди, от которой я столько раз упивался опьянением чарующих запахов, исходил запах гниющего тела, маленького кусочка гниющего тела, каким была и ее душа. Несколько раз я пробовал прервать ее каким-нибудь грубым оскорблением, закрыть ей рот своими руками, разорвать ей затылок. Я чувствовал, как во мне поднимается к этой женщине такая дикая ненависть, что, грубо схватив ее за руку, я крикнул, как сумасшедший:
— Замолчите! Ах! Замолчите! Никогда, никогда больше не разговаривайте со мною! Я хочу вас убить, демон! Я должен буду убить вас, а потом брошу вас на свалку, падаль!
Несмотря на все возбуждение, я испугался собственных слов. Но чтобы не брать их назад, я, сжимая ее руку в своих руках, повторял:
— Падаль! Падаль! Стерва!
Клара ничуть не отодвинулась, даже не моргнула глазом. Она выставила горло, открыла грудь.
Ее лицо озарилось неизвестной и сияющей радостью. Просто, медленно, с бесконечной нежностью, она сказала:
— Хорошо! Убей меня, милый. Я хотела бы, чтобы ты убил меня!
Это была вспышка возмущения в долгой и печальной пассивности моего подчинения.
Она также быстро погасла, как и вспыхнула. Стыдясь своего омерзительного крика, я выпустил руку Клары, и весь гнев, вызванный нервным возбуждением, внезапно сменился страшной слабостью.
— Вот! Видишь, — сказала Клара, не желавшая воспользоваться моей жалкой слабостью и своим слишком легким триумфом, — у тебя нет даже смелости, которая так хороша. Бедное дитя!
И, как-будто между нами ничего не произошло, она страстным взглядом продолжала рассматривать ужасную драму колокола.
Во время этой короткой сцены мужчины отдыхали. Они, казалось, были истощены.
Худые, задыхавшиеся, с выступающими под кожей рёбрами, с костлявыми бедрами, они совсем не походили па людей. Пот, как из сточной трубы, градом лился на их усы, а их бока вздымались, как у затравленных собаками зверей.
Но вдруг появился надзиратель с хлыстом в руке. Он разразился гневной бранью и со всего размаха ударил хлыстом по костлявым спинам обоих мужчин, которые снова с проклятиями принялись за свое дело.
Испугавшись свиста хлыста, павлины закричали, захлопали крыльями.
Среди них произошла как бы паника бегства, беспорядочная толкотня, паническое отступление.
Потом, понемногу успокаиваясь, они возвращались по одному, парами, толпами. Заняли снова свое место в Цветочной арке, еще больше выставляя великолепие своих грудей и пожирая сцену смерти еще более свирепыми глазами.
Красные, желтые, голубые, зеленые фазаны продолжали летать над белым цирком, сверкая шелком, легкими и меняющимися красками на ярком фоне неба.
Клара подозвала надзирателя и завязала с ним по-китайски быстрый разговор, который она передавала мне по мере получения ответов.
— Это те двое несчастных, которые звонят в колокол. Сорок два часа, не пивши, не евши, ни минуты не отдыхая. Веришь? И как и они не умерли? Я знаю, что китайцы устроены иначе, чем мы, и что они к усталости и физической боли проявляют необыкновенное терпение. Так, я раз захотела посмотреть, сколько времени может работать китаец, не евши. Двенадцать дней, милый. Он упал только в конце двенадцатого дня!. Нельзя этому поверить! Правда, работа, которую я дала ему, не могла сравниться с этой. Я заставила его копать землю под солнцем.
Она забыла мои проклятия; ее голос снова сделался влюбленным и ласкающим, таким, каким бывал, когда она рассказывала мне красивую любовную сказку. Она продолжала:
— Конечно, ты, милый, не сомневаешься, какие нужны напряженные, постоянные, нечеловеческие усилия, чтобы раскачать и привести в движение язык колокола? Многие, даже самые сильные, умирают от этого. Лопнувшая вена, повреждение позвоночника, и все готово! Они сразу падают на колокол мертвыми! А те, которые не умирают на месте, заболевают никогда не излечимыми болезнями! Посмотри, как от трения веревки их руки вздулись и покрылись кровью! Впрочем, кажется, и это — осужденные! Они умирают, убивая других, и одно наказание стоит другого! Все равно надо быть сострадательными к этим беднягам. Когда уйдет надзиратель, ты дашь им несколько таэлей, а?
Она вернулась к трупу.
— Ах! Я теперь узнаю его. Это — крупный банкир из города. Он был очень богат и всех обкрадывал. Но не за это он был осужден на мучение колоколом. Надзиратель достоверно не знает, за что. Говорят, что он шпионил от японцев. Надо же что-нибудь сказать.
Едва только она произнесла эти слова, как мы услышали какие-то глухие жалобы, словно заглушенные рыдания. Они доносились прямо против нас, из-за белой стены, вдоль которой облетали лепестки и медленно падали на красный песок. Падение слез и цветков!
— Это семья, — объяснила Клара. — Она пришла, ожидая, чтобы ей отдали тело казненного.
В это мгновение двое истощенных мужчин, которые каким-то чудом, усилием воли держались на ногах, перевернули труп. Мы одновременно с Кларой вскрикнули. И, прижимаясь ко мне, царапая мне плечо своими ногтями, она простонала:
— Ох, милый! Милый! Милый!
Восклицание, которым она всегда выражала степень своего волнения под влиянием как ужаса, так и любви.
И мы смотрели на труп и, оцепенев от ужаса, протянули шеи к трупу и не могли оторвать своих глаз от него.
На его сведенным судорогами лице, мускулы которого все ясно обрисовались, обозначились ужасные гримасы и отвратительные углы раскрытых губ, обнажавшие десны и зубы, ужасная демоническая улыбка, улыбка, которую смерть округлила и, так сказать, вырезала на всех складках кожи. Оба глаза, ужасно раскрытые, смотрели на нас; они не видели больше, но в них осталось выражение самого ужасного безумия, такого издевающегося неслыханного безумия, какого никогда, ни в одном сумасшедшем доме мне не удалось заметить в глазах живого человека.
Рассматривая на теле все эти перемещения мускулов, все эти уклонения связок, все эти вытягивавшиеся кости, а на лице эту улыбку губ, это безумие в глазах, переживших смерть, я понял, насколько ужасна должна быть агония человека, пролежавшего связанным сорок два часа под колоколом.
Ни режущий на куски кожи, ни жгущее раскаленное железо, ни рвущие клещи, ни клинья, раздвигающие суставы, разрывающие жилы и ломающие кости, как деревянные палки, не могут произвести больше разрушений на органах живого тела и наполнить мозг большим ужасом, как невидимый и нематериальный звук колокола, становящийся всеми известными орудиями мучения, терзающий все мыслящие и чувствующие органы человека, исполняющий дело ста палачей.
Мужчины снова начали тянуть веревки, горла их свистели, бока еще сильнее начали вздыматься.
Но силы у них не было, она вытекла у них в потоках пота. Они теперь едва могли держаться на ногах и своими распухшими пальцами распутывать узлы ремней.
— Собаки! — ворчал надзиратель.
Удар кнута опоясал их плечи, но все-таки не заставил их выпрямиться от боли.
Казалось, что из их напряженных нервов исчезла вся чувствительность. Их колени, все более и более сгибаясь, все сильнее и сильнее дрожа, стукались одно о другое.
Все, что осталось от их мускулов под облупившейся кожей, едва двигалось.
Вдруг один из них, окончательно обессилев, выпустил веревки, испустил легкое хрипение и, вытянув вперед руки, упал около трупа, лицом на землю, а изо рта у него хлынула струя черной крови.
— Встать! Подлец! Встань, собака! — кричал надзиратель.
Четыре раза бич свистнул и опустился на спину человека. Сидящие на цветущих ветках фазаны разлетелись, производя сильный шум крыльями.
Сзади себя я слышал безумные крики павлинов. Но человек не поднимался.
Он больше не двигался, а кровавое пятно на песке все расширялось.
Человек был мертв!
Тогда я оттащил Клару, коготки которой вонзились мне в кожу. Я чувствовал, что я очень бледен, и шел, шатаясь, как пьяный.
— Это слишком! Это слишком! — постоянно повторял я.
А послушно следовавшая за мной Клара тоже повторяла:
— Ах! Ты видишь, мой милый! Я же знала! Разве я лгала тебе?
Мы дошли до аллеи, ведшей к центральному бассейну, и павлины, провожавшие нас до сих пор, вдруг кинули нас и со страшным шумом рассеялись по кустам и лужайкам сада.
Эта аллея, очень широкая, была с каждой стороны обсажена засохшими деревьями, огромными тамариндами, толстые обнаженные ветки которых переплелись в резкие арабески на небе. В каждом стволе была выдолблена ниша.
Большинство из них были пусты, а в некоторых находились тела мужчин и женщин, ужасно скорченные, подвергнутые отвратительным и бесстыдным мукам.
Перед занятыми нишами стоял как будто следователь, в черном одеянии, очень серьезный, с чернильницей на животе и вопросным листом на руках.
— Это — аллея подсудимых, — сказала мне Клара. — А эти стоящие люди, которых ты видишь, находятся здесь только затем, чтобы записать признание, которое может вырваться у этих несчастных от долгой муки. Редко, когда они сознаются, они предпочитают умирать здесь, чтобы не продолжить: агонию в клетках тюрьмы и в конце концов погибнуть от других мук. Вообще суды не злоупотребляют предварительным следствием, за исключением преступлений политических. Они судят группами. Поэтому-то-ты и видишь, что подсудимых немного и большинство ниш пусты. Тем не менее нельзя не сознаться, что мысль остроумна. Я даже думаю, что она заимствована из греческой мифологии. Это — воплощение очаровательной басни о гамадриадах, пленницах деревьев!
Клара подошла к дереву, в котором стонала еще совсем молодая женщина. Она висела на руках на железном крюке, а кисти были вставлены между двумя деревянными кусками, сильно сжатыми. Шероховатая веревка, сплетенная из кокоса, покрытая мелкой горчицей и толченым перцем, вымоченная в соляном растворе, обвивалась вокруг ее рук.
Эту веревку, — заметила моя подруга, — держат до тех пор, пока члены не распухнут в четыре раза против их естественного размера. Тогда ее снимают, а произведенные ею нарывы часто образуют отвратительные раны. От этого часто умирают и никогда не вылечиваются.
— Но если подсудимый окажется невинным? — спросил я.
— Ну, что ж! Вот! — ответила Клара.
У другой женщины, в другой нише, с расставленными, или, скорее, раздвинутыми ногами, на шее и руках были железные браслеты. Ее веки, ее ноздри губы, ее половые органы были натерты красным перцем, две гайки сжимали соски грудей.
Дальше молодой мужчина был подвешен при помощи веревки, проходившей у него под мышками, большой каменный груз давил ему на плечи, и слышалось хрустение суставов.
Другой, с отброшенным бюстом, поддерживаемый в равновесии проволокой, соединявшей шею с двумя пальцами, сидел на корточках на острых камнях.
Ниши в стволах стали пустыми. Иногда только попадались какие-нибудь связанные, распятые, подвешенные, глаза которых были закрыты; казалось, они спали, может быть они и были мертвы!
Клара ничего больше не говорила, ничего больше не объясняла. Она прислушивалась к тяжелому полету коршунов, пролетавших над переплетавшимися ветвями, а сверху доносилось карканье воронов, которые бесчисленными тучами реяли в небе.
Мрачная аллея тамариндов оканчивалась широкой цветущей террасой пионов, по которой мы спустились к бассейну…
Ирисы выставляли из воды свои длинные стебли с необыкновенными цветами, с лепестками, расцвеченными, как старые каменные вазы, драгоценная эмаль с оттенком кровавого цвета. Некоторые из них, огромные и изогнутые, походили на каббалистические знаки. Водяные лилии раскинули по позолоченной воде свои широкие распустившиеся цветки, которые казались мне отсеченными и плавающими головами. Мы несколько минут стояли, облокотившись на перила моста, и молчи смотрели на воду. Огромный карп, у которого виднелась только одна золотая морда, спал под листом, а между камышами плакали сирены, похожие на кровавые мысли в мозгу женщин.
IX
И вот день кончен.
Небо сделалось красным, пересеклось широкими изумрудами, поразительно прозрачными полосами.
Это время, когда цветы таинственно светятся ярким и в то же время сдержанным сиянием.
Повсюду они горят, словно вечером отдают атмосфере весь свет, все солнце, которое было задержано их чашечками в течение дня. Аллеи, усыпанные толченым кирпичом, посреди яркой зелени лужаек, кажутся то огненными рубинами, то потоками раскаленной лавы. Птицы в ветвях умолкли; насекомые прекратили свое жужжание, замерли или заснули. Только одни ночные бабочки и летучие мыши начинают носиться в воздухе. повсюду, от неба до дерева, с дерева до земли, наступилa тишина. И я чувствую, как она проникает в меня и леденит как смерть.
Куча журавлей медленно спускается с цветущего склона и располагается недалеко от нас, вокруг бассейна. Я слышу шелест их лап в высокой траве и сухое пощелкиванье их клювом. Стоя на одной ноге, неподвижные, положив голову под крыло, они напоминают бронзовые украшения.
А карп с золотой мордой, спавший под листом водяной лилии, повертывается в воде. Ныряет, исчезает, оставляя на поверхности широкие волны, которые слегка покачивают закрывшиеся чашечки лилий, расплываются, теряются в кустах ириса, дьявольские, странно простые цветы которого чертят в тайне вечера фатальные знаки, вырванные из книги судеб.
Огромное клещевидное растение поднимает над водой трубку своего зеленоватого цветка, покрытого темными пятнами, и посылает нам сильный запах трупа.
Долго мухи летают, не останавливаясь над цветком.
Опершись на перила моста, нахмурив лоб, Клара смотрела на воду.
Отблеск заходящего солнца целует ей затылок. Ее тело сделалось вялым, а губы тоньше.
Она серьезна и очень печальна.
Она смотрит на воду, но взгляд ее идет дальше и глубже воды; он, может быть, идет к чему-то более непроницаемому и более мрачному, чем дно этой воды; он идет, может быть, к ее душе, в пропасть души, которая посреди пламени и крови распускает чудовищные цветы ее желаний. На что она, на самом деле, смотрит?
О чем она думает?
Не знаю…
Может быть, она ни на что не смотрит. Может быть, она ни о чем не думает.
Немного уставшая, с разбитыми нервами, истерзанная ударами бича собственных своих грехов, она молчит — вот и все. Или последним усилием своей мысли не собирает ли она все воспоминания и образы этого ужасного дня, чтобы преподнести из них букет красных цветов своей чувственности? Не знаю.
Я не решаюсь более заговорить с нею. Она внушает мне страх и волнует до глубины души своей неподвижностью и своим молчанием. Существует ли она в действительности?
Не без ужаса я спрашиваю себя о6 этом. Не произошла ли она от моей развращенности и лихорадки?
Не невозможный ли она образ, какие порождаются кошмаром? Одно из тех преступных искушений, которые поднимаются сладострастием в изображении таких больных, как сумасшедшие и убийцы? Не моя ли она душа, вышедшая невольно из меня и воплотившаяся в образе греха?
Нет. Я дотрагиваюсь до нее.
Моя рука признала удивительную действительность, живую действительность ее тела.
Сквозь тонкую и шелковистую материю ее кожа жжет мои пальцы.
А Клара не вздрагивает от их прикосновения; она не волнуется, как всегда от их ласки.
Я желаю и ненавижу ее.
Я хотел бы схватить ее в свои объятия и так сжать, чтобы она задохнулась; я желал бы истерзать ее, упиться смертью — ее смертью — через ее открытые вены.
И я кричу угрожающим и в то же время покорным голосом:
— Клара! Клара! Клара!..
Клара не отвечает, не шевелится. Она продолжает смотреть на воду, которая все более темнеет; но я на самом деле знаю, что она ни на что не смотрит, ни на воду, ни на красный отблеск неба в воде, ни на цветы, ни на самое себя.
Тогда я немного отодвигаюсь, чтобы не видеть ее больше и не прикасаться к ней, и поворачиваюсь к исчезающему солнцу, к солнцу, от которого на небе осталось только большое сияние, которое понемногу сейчас растает, рассеется во мраке…
На сад опускается мрак, тащит свои голубые покрывала, более легкие на голых лужайках, более густые на сливающихся кустах. Белые цветы вишен и груш, теперь бело-лунного цвета, кажутся скользящими, блуждающими, странно, как призраки, склонившимися… А виселицы и эшафоты протягивают к небу свои ужасные верхушки, свои черные громады цвета голубоватой стали.
Ужас! Над одним из кустов, на умирающем пурпуре вечера, я вижу, как вертятся, вертятся на кольях, вертятся медленно, вертятся в пространстве и раскачиваются наподобие огромных цветков, стебельки которых видны во мраке, я вижу, как вертятся, вертятся пять силуэтов мучаемых.
— Клара! Клара! Клара!..
Но мой голос не достигает ее. Клара не отвечает, не шевелится, не поворачивается…
Она стоит, наклонившись над водой, над бездной воды. И так же, как она не слышит меня, не слышит она больше жалоб, криков, стонов всех умирающих в саду.
Я чувствую внутри себя тяжелое изнеможение, как бы страшную усталь после долгой ходьбы по лихорадочным лесам, по берегу смертоносных озер, и меня охватывает отчаяние, от которого, как мне кажется, я не смогу никогда отделаться.
В то же время мозг становится тяжелым и давит меня. Как-будто железный обруч сжимает мне виски и раскалывает череп.
Тогда понемногу моя мысль отрывается от сада, от площадок мучений, от агонии под колоколом, от деревьев скорби, от кровавых и хищных цветов.
Она хотела бы перешагнуть декорацию этого гнойника, проникнув в чистый свет, постучать, наконец, в Двери жизни… Увы! Двери жизни открываются только для смерти, только для дворцов и садов смерти. И вселенная показалась мне в виде огромного, в виде неумолимого сада мучений…
Повсюду кровь, и где больше жизни, там больше и ужасных палачей, терзающих с ужасными радостными лицами тело, пилящих кости, сдирающих кожу.
Да! Сад мучений!
Страсти, аппетиты, интересы, ненависть, ложь; и законы, и социальные учреждения, и правосудие, любовь, слава, героизм, религии, — все в нем чудовищные цветы и отвратительные орудия вечного человеческого страдания. То, что я видел сегодня, то, что я слышал, существует, и кричит, и воет вне этого сада, который для меня только символ, воет по всей земле. Я могу искать успокоения в смерти и никогда его не найду…
Я хотел бы, да, я хотел бы успокоиться, очистить душу и мозг старыми воспоминаниями, памятью знакомых и родных лиц. Я зову себе на помощь Европу и ее лицемерную цивилизацию, и Париж, — мой Париж удовольствия и смеха.
Но я вижу лицо Эжена Мартена, гримасничающее на плечах толстого и болтливого палача, который у подножия виселицы, в цветах, чистит свои скальпели и пилы.
Я вижу глаза, рот, дряблые, опустившиеся щеки г-жи Г…, висящей на дыбах, я вижу, как ее преступные руки дотрагиваются, ласкают железную челюсть, наполненную человеческим мясом… Это все мужчины и женщины, которых я любил и которыми считал себя любимым, их равнодушные и легкомысленные душонки, на которых теперь виднеется несмываемое красное пятно…
Это — судьи, солдаты, священники, которые повсюду, в церквах, в казармах, в храмах правосудия, пристрастились к делу смерти… Это — человек-индивидуум, это — человек-толпа, это — животное, растение, элемент, наконец, вся природа, которая, толкаемая космическими силами любви, стремится к убийству, надеясь найти вне жизни удовлетворение бешеных желаний жизни, пожирающих ее и брызжущей из нее потоками грязной пены!
Вдруг я задал себе вопрос, кем была Клара и действительно ли она существовала.
Существовала ли она?
Но Клара, это — жизнь, это — реальное присутствие жизни, всей жизни!..
— Клара! Клара! Клара!..
Она не отвечает, не шевелится, не поворачивается. Туман, более густой, голубой и серебряный, поднимается с лужаек, из бассейна, окутывает кусты, затушевывает орудия мучений…
И мне кажется, что вместе с ним поднимается запах крови, запах трупа, благоухание, приносимое невидимыми руками из невидимых качающихся кадильниц в бессмертную славу смерти, в бессмертную славу Клары!
На другом конце бассейна, сзади меня, гекко начал выбивать часы… Ему ответил другой гекко, потом еще, потом еще… с правильными промежутками…
Словно перекликающиеся и разговаривающие пением колокола, праздничные колокола необыкновенно чистого тембра, кристальной и нежной звучности, такой нежной, что она тотчас же рассеивает кошмарные фигуры, навеянные садом, что она придает безопасность молчанию, очарование белой мечты ночи…
Эти ясные, так невыразимо ясные ноты вызывают во мне массу ночных пейзажей, которыми дышат мои легкие, от которых ко мне возвращается сознание.
На несколько минут я позабыл, что я около Клары, что вокруг меня почва и цветы пропитаны кровью и что я дрожу серебристым вечером посреди феерических рисовых полей Аннама.
— Вернемся! — говорит Клара.
Этот отрывистый, раздражительный и усталый голос возвращает меня к действительности.
Передо мной Клара.
Ее скрещенные ноги угадываются под складками платья. Она опирается на ручку своего зонтика.
И в полумраке ее губы светятся, как в большой закрытой комнате маленький огонек, закрытый розовым абажуром.
Так как я не шевелюсь, она повторяет:
— Ну-же! Я вас жду!
Я хочу взять ее под руку. Она отказывается.
— Нет. Нет. Пойдем рядом!
Я настаиваю.
— Вы, должно быть, устали, милая Клара. Вы…
— Нет, нет, совсем нет!
— Отсюда до реки далеко. Прошу вас, возьмите руку!
— Нет. Спасибо! И молчите! Ох, молчите!
— Клара, вы совсем другая!
— Если вы хотите доставить мне удовольствие… замолчите!.. Я не люблю, чтобы в это время со мной разговаривали…
Ее голос сух, отрывист, повелителен. Мы идем. Идем через мост, она впереди, я сзади, и углубляемся в аллейки, извивающиеся по лужайкам.
Клара идет твердым шагом, сильными толчками, тяжело. И такова неуязвимая красота ее тела, что эти толчки, усилия ничуть не портят гармонической ее линии, гибкой и полной. Ее бедра сохраняют божественно-сладострастную округленность.
Даже когда ее душа далека от любви, когда она восстает, протестует против любви, все формы, все опьянение, весь жар любви оживляют это избранное тело.
В ней нет ни одного положения, ни одного жеста, ни одной дрожи, нет шелеста ее платья, рассыпавшихся волос, которые не кричали бы о любви, которые не источали бы любовь на все существа и на все вещи вокруг нее. Песок под ее ножками кричит, и я прислушиваюсь к этому крику песка, который является криком желания и как бы поцелуем, в котором я различаю ясно произносимое имя, которое везде: в скрипе висельниц, в стоне умирающих.
— Клара, Клара, Клара!..
Чтобы лучше слышать, гекко умолк… Все молчит…
Сумерки очаровательны, бесконечно нежны, ласкающе свежи, что опьяняет.
Мы идем посреди благоуханий.
Мы задеваем чудесные цветы, становящиеся более чудными от того, что они едва видимы, и они склоняются и приветствуют нас, когда мы проходим, как таинственные феи.
Ничего больше не осталось от ужасного сада. Осталась одна только его красота, трепещущая вместе с опускающейся на нас ночью.
Я пришел в себя.
Мне кажется, что лихорадка прошла. Члены мои делаются легче, эластичнее, сильнее.
По мере того как я иду, усталость исчезает, и я чувствую, что во мне поднимается как-будто страстное желание любви. Я приближаюсь к Кларе и иду рядом с ней, совсем около нее, разжигаемый ею. Но лицо Клары не выражает греховности, как тогда, когда она кусала цветок фаликтра и когда страстно пачкала себе губы сладкой пыльцой… Холодное выражение ее лица не согласуется со всем сладострастным жаром ее тела. По крайней мере, насколько я могу видеть ее, мне кажется, что сладострастие, бывшее в ней, дрожавшее таким странным блеском в ее глазах, замиравшее на ее губах, исчезло, совершенно исчезло с ее губ и из ее глаз вместе с кровавыми видениями мук сада.
Я спросил ее дрожащим голосом:
— Вы ненавидите меня, Клара?
Она ответила раздраженным тоном:
— Нет же! Нет! Это совсем не то, мой друг. Прошу вас, молчите. Вы не знаете, как вы меня утомляете!
Я настаивал:
— Да! Да! Я хорошо вижу, что вы ненавидите меня. И это ужасно! Я хочу плакать.
— Господи, как вы меня раздражаете! Замолчите! Плачьте, если это доставляет нам удовольствие. Но замолчите!
Так как мы подошли к тому месту, где разговаривали со старым палачом, я, думая своей глупой настойчивостью вызвать улыбку на помертвевших губах Клары, сказал:
— Помните, милая, толстого палача? Как он был смешон в своем покрытом кровью одеянии! Со своим футляром и красными пальцами и со своими теориями о половых органах цветов. Помните? Иногда двадцать самцов трепещут для удовлетворения страсти одной самки.
На этот раз ответом мне было пожатие плечами. Она даже не удосужила рассердиться на мои слова.
Тогда, толкаемый грубой чувственностью, я неуклюже наклонился над Кларой, пробуя обнять ее и грубой рукой хватая ее грудь.
— Я хочу тебя, здесь, слышишь? В этом саду, в этом безмолвии, у подножия этих виселиц.
Я задыхаюсь; омерзительная слюна течет из моего рта, а вместе со слюной гнусные слова… любимые ею слова!
Плечами Клара освобождается от моего неловкого и тяжелого объятия; и говорит тоном, в котором слышатся гнев, насмешка, усталость и расслабленность:
— Господа! Как вы надоедливы, если бы вы знали, и смешны, мой бедный друг! Вы — грубый козел! Оставьте меня. Если вам так хочется, то сейчас можете со своими грязными желаниями пойти к девкам. На самом деле, вы слишком смешны.
Смешон! Да, я чувствую, что я смешон. И я решаюсь держаться спокойно. Я не хочу врываться в ее молчание, как большой камень в озеро, где спят при луне лебеди!
Х
Сампанг, весь освещенный красными фонарями, ждал нас у пристани тюрьмы.
Китаянка, с суровым лицом, в блузе и штанах из черного шелка, с голыми руками, отягощенными золотыми кольцами, с украшенными широкими золотыми сережками ушами, держала канат. Клара прыгнула в барку. Я последовал за нею.
— Куда везти вас? — спросила китаянка по-английски.
Клара ответила отрывистым и слегка дрожавшим голосом:
— Куда хочешь, все равно, по реке. Ты хорошо знаешь.
Тут я заметил, что она совершенно бледная. Ее тонкие ноздри, вытянувшиеся черты, блуждающие глаза выражали страдание. Китаянка кивнула головой.
— Да! Да! Я знаю, — произнесла она.
У нее были толстые губы, изъеденные бетелем, и животная грубость во взгляде. Так как она продолжала что-то бормотать, чего я не понимал, Клара приказала отрывисто:
— Ну, Ки-Пай, замолчи! И делай то, что я сказала. К тому же и ворота города заперты.
— Ворота сада открыты.
— Делай то, что говорю.
Бросив канат, китаянка сильным движением взялась за весло, которым она управляла с гибкой ловкостью. И мы начали скользить по воде.
Ночь была очень мягкая.
Мы дышали теплым, но бесконечно легким воздухом. Вода пела около сампанга. Река выглядела как в большой праздник.
На отдыхавшей реке, направо и налево от нас разноцветные фонари освещали мачты, паруса, тесные палубы судов. Странный шум, крики, пение, музыка — доносились оттуда, как от веселившейся толпы. Вода была совершенно черная, матово-черная и жирно-бархатистая, с тяжелым и неправильным кое-где отблеском и с отражением красных и зеленых фонарей, украшавших сампанги, которыми в это время река бороздилась во всех направлениях.
По мере того, как мы удалялись, мы все смутнее различали высокие стены тюрьмы, с каждой башни которой вращающиеся маяки отбрасывали на реку и на поля треугольники ослепительного света.
Клара взошла под балдахин, превращавший эту барку в род будуара, обитый шелком и дышавший любовью. Сильные благовония сжигались в очень древней резной железной вазе — наивном изображении слона, четыре грубые и массивные ноги которого покоились на изящной подставке из роз.
На занавесях сладострастные картинки, до бесстыдства страстные сцены, сделанные со странным, великолепным искусством. Фриз балдахина, драгоценная работа из цветного дерева, точно воспроизводил фрагмент украшения подземного храма Слона, стыдливо именуемый археологами, по браминским традициям: Брак Вороны…
Широкий и мягкий матрас из вышитого шелка занимал центр барки, а с потолка спускался фонарь с прозрачными различными органами — фонарь, отчасти, скрытый орхидеями и бросавший на внутренность сампанга таинственный полусвет святилища или алькова.
Клара бросилась на подушки.
Она была необыкновенно бледна, а ее тело тряслось, дрожало от нервных спазм.
Я хотел взять ее руки. Руки были как ледяные.
— Клара! Клара! — звал я, — что с тобой? От чего вы страдаете? Скажите мне!
Она ответила хриплым, глухо выходившим из глубины сдавливаемого горла голосом:
— Оставь меня в покое. Не трогай меня, не говори со мной. Я больна.
Ее бледность, ее бескровные губы и ее голос, похожий на предсмертное хрипение, нагнали на меня страх. Я подумал, что она умирает. В испуге я позвал на помощь китаянку:
— Скорей! Скорей! Клара умирает! Клара умирает!
Но, раздвинув занавески и показав свое мечтательное лицо, Ки-Пай пожала плечами и грубо кивнула:
— Ничего, это всегда так бывает, когда она оттуда возвращается.
И, ворча, она вернулась к своему веслу.
Под нервными толчками Ки-Пай барка еще быстрее начала скользить по реке.
Мы встречались с сампангами, похожими на наш, откуда, из-под балдахинов с закрытыми занавесками, неслись пение, звуки поцелуев, смех, стоны наслаждения, смешивавшиеся с плеском воды и с далекими, словно заглушенными отзвуками там-тамов и гонгов. В несколько минут мы достигли другого берега и еще долго плыли мимо черных и безлюдных понтонов, мимо понтонов, освещенных и переполненных толпой, мимо нарядных притонов, чайных домиков для носильщиков, цветочных барок для матросов и подонков порта.
Сквозь освещенные люки и окна я едва мог различить странные раскрашенные фигуры, бесстыдные танцы, воющий разврат, бледные от опиума лица…
Клара не чувствовала ничего, что происходило вокруг нее, в шелковой лодке и на реке.
Она зарылась в подушку и кусала ее. Я пробовал давать ей нюхать соль.
Три раза она усталой и тяжелой рукой отодвигала флакон. С голой шеей, с обрисовывающимися из-под разорванной ткани корсажа грудями, с вытянутыми и вздрагивавшими, как струны скрипки, ногами, она тяжело дышала.
Я не знал, что делать, не знал, что говорить. И я склонился над ней, измученный душой, полный трагической неуверенности и смутных чувств.
Чтобы удостовериться, что это — скоропроходящий припадок и ничто в ней не порвало с жизнью, я взял ее кисть… В моей руке ее пульс бился быстро, легко, правильно, как сердечко птички или ребенка. По временам из ее рта вылетал вздох, долгий и мучительный вздох, поднимавший и волновавший ее розовую грудь.
И тихо, дрожа, нежным голосом, я шептал:
— Клара! Клара! Клара!
Она зарыв лицо в подушку, не слышала меня, не видела меня. Шляпа соскользнула с волос, огненное золото которых под отражением фонаря приняло цвет старого акажу, а ее ноги, обутые в желтую кожу, сохраняли еще кое-где легкие пятна кровавой грязи…
— Клара! Клара! Клара!
Ничего, кроме пения воды и отдаленной музыки. А сквозь занавески балдахина виднелась огненная гора ужасного города, а вблизи красные, зеленые отблески, проворные, округленные отблески, похожие на тонких сверкающих угрей, впившихся в черную реку.
Толчок барки. Голос китаянки. И мы пристаем к какой-то длинной террасе, освещенной, сверкающей от музыки и веселья, к террасе цветочной барки.
Ки-Пай привязала барку к железному крючку около лестницы, которая спускала в воду свои красные ступеньки. Два огромных круглых фонаря сверкали на верхушках двух мачт, где развевались желтые флаги.
— Где мы? — спросил я.
— Мы там, куда она приказала мне вас отвезти, — ответила Ки-Пай угрюмым голосом. — Мы там, где она проводит ночь, когда возвращается оттуда.
Я предложил:
— Не лучше ли, раз она так страдает, отвезти ее домой?
Ки-Пай возразила:
— После тюрьмы она всегда такая… А кроме того, город заперт, а чтобы добраться до дворца через сады, слишком далеко, да теперь и опасно.
И она презрительно прибавила:
— Ей здесь очень хорошо. Ее здесь знают!
Тогда я решился.
— Помоги мне, — приказал я. — И не будь с ней грубой.
Очень нежно, с бесконечными предосторожностями, я и Ки-Пай подхватили Клару на руки, причем она выказывала сопротивление не более мертвой, и, поддерживая, скорее неся ее, мы с трудом заставили ее выйти из барки и подняться на лестницу.
Она была холодная и тяжелая.
Голова ее немного откинулась назад; ее окончательно распустившиеся волосы, густые и мягкие волосы рассыпались по плечам золотыми волнами. Слабой рукой ухватившись за грубую шею Ки-Пай, она слегка стонала, бормотала несвязные слова, как ребенок. А я, немного задыхавшийся от тяжести подруги, стонал:
— Боже, только бы она не умерла! Только бы она не умерла!
А Ки-Пай сурово смеялась:
— Умереть! Она! Как же! Не страдание у нее в теле, а грязь!
Нас наверху лестницы встретили две женщины, с подкрашенными глазами, а позолоченная нагота их сквозила сквозь легкую, воздушную материю, в которую они были облачены. У них были бесстыдные драгоценности в волосах, драгоценности на кистях и на пальцах, драгоценности на бедрах и на голых ногах, а их натертая тонкими духами кожа пахла запахом сада.
Одна из них в знак радости захлопала в ладоши.
— Да это наша маленькая подруга! — воскликнула она. — Говорила же я тебе, что она придет. Она всегда приходит. Скорей, скорей, положите ее, бедняжку, на постель.
Она указала на подобие матраца или скорее носилки, стоявшие около перегородки, на которые мы и положили Клару.
Клара не шевелилась.
Под страшно открытыми веками глаза закатились и виднелись только их одни белые яблоки.
Тогда китаянка с подведенными глазами наклонилась над Кларой и чарующим ритмичным голосом, словно пела песню, начала говорить:
— Маленькая, маленькая подружка моих грудей и моей души. Как вы сейчас прекрасны! Вы прекрасны, как молодая покойница! И однако вы не покойница. Вы оживете, маленькая подруга моих губ, оживете под моими ласками и под благоуханием моего рта.
Она смочила ей виски крепкими духами и дала ей понюхать соль.
— Да, да! Милая малютка, вы без чувств, и вы не слышите меня! И не чувствуете нежность моих пальцев, но ваше сердце бьется, бьется, бьется. И любовь скачет в ваших жилах, как молодая лошадь, любовь прыгает в ваших жилах, как молодой тигр.
Она обратилась ко мне:
— Не надо печалиться, потому что она всегда лишается чувств, когда приходит сюда. Через несколько минут мы заставим кричать от удовольствия ее счастливое и жгучее тело…
А я стоял безмолвный, обессиленный, с свинцовыми членами, со сдавленной, как во время кошмара, грудью. Я больше не сознавал действительности. Все что я видел — уродливые образы, скользящие в окружающем мраке, из пропасти реки, и снова погружающиеся туда, в фантастических изменениях — пугало меня.
Длинная терраса, повисшая во мраке, со своей балюстрадой, покрытой красным лаком, с тонкими колоннами, поддерживавшими дерзко поднимавшуюся крышу, с гирляндами фонарей, перемешавшимися с гирляндами цветов, была наполнена болтливой, подвижной, необыкновенно разноцветной толпой.
Сотни глаз устремились на нас, сотни накрашенных губ шептали слова, которых я не слышал, но в которых, кажется, постоянно повторялось имя Клары.
— Клара! Клара! Клара!..
И голые тела, перевивающиеся тела, татуированные руки, украшенные золотыми кольцами, животы, груди вертелись посреди легких развевающихся шарфов.
И во всем этом, вокруг всего этого, надо всем этим — крики, смех, пение, звуки флейты, и запах чая, дорогого дерева и могучий аромат опиума.
Опьянение от грез, от разврата, от мук и от преступлений говорило, что все эти рты, все эти руки, все эти груди, все это живое тело сейчас бросится на Клару, чтобы насладиться ее мертвым телом!
Я не мог ни пошевельнуться, ни сказать слова. Около меня китаянка, совершенно молоденькая и красивая, почти ребенок, с искренними и вместе с тем сладострастными глазами, расставляла в лавочке странно бесстыдные вещи из слоновой кости, органы из розового каучука и раскрашенные книги утонченных любовных изображений.
— Любовь! Любовь! Кто хочет любви? У меня есть любовь для всех!
Однако я наклонился над Кларой.
— Ее надо отнести ко мне, — распорядилась китаянка с раскрашенными глазами.
Двое крепких мужчин подняли носилки. Я машинально последовал за ними.
Под предводительством куртизанки они вошли в широкий коридор, пышный, как храм.
Направо и налево двери вели в большие комнаты, уставленные циновками, озаренные очень нежным розовым светом и затянутые муслином. Символические животные, выставив огромные и ужасные половые органы, двуполые божества, совершавшие акт любви сами собой или скакавшие на чудовищах, охраняли комнаты.
А в дорогих бронзовых вазах курились благовония.
Одна шелковая портьера, вышитая персиковыми цветами, отодвинулась и в отверстии показались две женские головы. Когда мы проходили, одна из них спросила:
— Кто умер?
Другая ответила:
— Нет же! Никто не умер. Ты же видишь, что это — женщина из Сада Мучений.
И имя Клары, передаваемое из уст в уста, с кровати на кровать, из комнаты в комнату, вскоре наполнило весь цветочный домик очаровательным бесстыдством. Мне даже казалось, что металлические чудовища повторяют его в конвульсиях, завывая в бреду кровавого сладострастия:
— Клара! Клара! Клара!..
Здесь я мельком заметил молодого человека, лежавшего на постели. Возле него горела лампочка для курения опиума. В его странно расширенных глазах было печальное выражение. Перед ним слившись рот со ртом, живот с животом, голые женщины, впившись друг в друга, плясали священный танец, а усевшись за ширмами, музыканты свистели в короткие флейты…
Там ждали женщины, усевшиеся в кружок или лежавшие на циновках на полу в бесстыдных позах, с развратными лицами, более гнусными, чем лица наказываемых. Из каждой двери слышались задыхавшиеся голоса, виднелись скорченные тела, разбитая, искаженная скорбь, которая иногда выла в припадке свирепой чувственности или оргазма.
Проходя мимо одной двери, я увидел бронзовую группу, легкий абрис которой заставил меня вздрогнуть от ужаса. Спрут обхватил своими щупальцами тело девственницы и из своих горячих и могучих отдушин облизывал ей любовно рот, груди, живот…
И мне показалось, что я нахожусь на месте мучений, а не в доме радости и любви.
Людей в коридоре стало так много, что мы на несколько секунд остановились против одной залы — обширнее других, — отличавшейся от них отделкой и зловеще красным освещением. Сначала я видел только женщин — смесь взбесившихся тел и ярких шарфов — женщин, предававшихся бешеным танцам, дьявольским ласкам, вокруг какого-то Идола, бронзовая статуя которого, из очень старинной меди, возвышалась в центре залы и достигала потолка. Потом Идол выделился отчетливее и я рассмотрел, что это ужасный Идол, именуемый Идолом с Семью Органами.
Три головы, вооруженные красными рогами, с извивающимися огненными языками-волосами, венчали торс или, скорее, один живот, помещавшийся на огромном грубом столбе в виде мужского органа. Вокруг этого столба, в том месте, где оканчивался чудовищный живот, вытягивались семь таких же органов, которые женщины, танцуя, покрывали цветами и бешеными ласками.
А розовый свет комнаты придавал зернам нефрита, служившим глазами Идолу, дьявольский вид.
В ту минуту, когда мы пошли дальше, я присутствовал при ужасном зрелище, чудовищный ужас которого я не могу выразить словами. Крича, воя, все семь женщин сразу бросились на семь бронзовых органов. Тогда вокруг Идола раздался вой, безумие дикого сладострастия, получилась смесь слившихся друг с другом тел и все приняло ужасный вид убийства и походило на битву в железной клетке осужденных, дравшихся из-за куска гнилого мяса, брошенного Кларой! В эту ужасную минуту я понял, что сладострастие может быть самым мрачным человеческим ужасом и дать настоящее понятие об аде, об ужасе ада.
И мне казалось, что во всех этих толчках, в этих задыхающихся голосах, в хрипении, даже у самого Идола, чтобы выразить свое бешенство неудовлетворенности и свою муку от бессилия, было только одно слово, только одно слово:
— Клара! Клара! Клара!..
Когда мы дошли до комнаты и положили на кровать все еще находившуюся в обмороке Клару, я начал сознавать окружающее и самого себя. От этого пения, от этого разврата, от этих ужасных жертвоприношений, от этих одуряющих ароматов, от этого нечистого прикосновения, еще более грязнивших спавшую душу моей приятельницы, я почувствовал не только ужас, но и гнетущий стыд.
Мне стоило большого труда удалить любопытных и болтливых женщин, последовавших за нами, не только от постели, на которую мы положили Клару, но и из комнаты, где я хотел остаться один. Я оставил с собой только одну Ки-Пай, которая, несмотря на свой угрюмый вид и резкие слова, казалось, была очень предана своей госпоже и выказывала нежную заботливость и ловкость в ухаживании за ней.
Пульс Клары продолжал биться с той же успокоительной правильностью, как если бы она была вполне здорова. Ни на одну минуту жизнь не покидала этого тела, которое, казалось, навсегда умерло. И мы оба, Ки-Пай, и я, с тоской склонились над ней, дожидаясь ее воскресения.
Вдруг она застонала; мускулы ее лица скорчились, а легкая дрожь начала трясти ее горло, руки и ноги. Ки-Пай сказала:
— С ней будет ужасный припадок. Надо крепко держать ее и смотреть, чтобы она ногтями не исцарапала себе лицо и не повырывала волосы.
Я подумал, что она услышит меня и что, раз я буду здесь, около нее, предсказанный Ки-Пай припадок будет легче. Я шептал ей на ухо, стараясь вложить в слова всю ласку своего голоса, всю нежность моего сердца и все сострадание — да! — все сострадание, какое только есть на земле:
— Клара! Клара… это я. Взгляни на меня, послушай.
Но Ки-Пай закрыла мне рот.
— Замолчите же! — повелительно сказала она. — Разве она может нас слышать? Она еще одержима злыми духами.
Тут Клара начала биться. Все ее мускулы, страшно поднявшись и вздувшись, напряглись, кости ее трещали, как связки судна, треплемого бурей. Выражение ужасного страдания, тем более ужасного, что оно было безмолвным, разлилось по ее скорченному лицу, которое было похоже на лицо наказываемого под колоколом в саду.
Сквозь полуоткрытые и дрожащие веки виднелись только узкие белые полоски. Легкая пена кипела у нее на губах. Задыхаясь, я простонал:
— Боже! Боже! Возможно ли? И что случится?
Ки-Пай приказала:
— Держите ее, оставляя все тело свободным, потому что необходимо, чтобы демоны вышли из ее тела.
И прибавила:
— Это конец. Сейчас она начнет плакать.
Мы держали ее за кисти рук, чтобы помещать ей расцарапать лицо ногтями. У нее была такая сила, что я думал, что она вот-вот переломает нам руки. При последней конвульсии ее тело изогнулось и пятки дотронулись до затылка.
Ее кожа дрожала. Потом кризис понемногу ослабел. Мускулы сделались мягче, приняли свое положение, и она обессилела, а глаза ее были полны слез.
В течение нескольких минут она плакала, плакала… Слезы текли из ее глаз безостановочно и бесшумно, как из источника.
— Кончено! — сказала Ки-Пай. — Можете говорить с ней.
Ее рука, совершенно мягкая, слабая, горела в моей руке. Ее все еще бессмысленные глаза блуждали и старались различить предметы вокруг себя. Она, казалось, просыпалась от долгого, мучительного сна.
— Клара! милая Клара! — шептал я.
Она долго, сквозь слезы, туманными глазами смотрела на меня.
— Ты! — произнесла она. — Ты! Ах! Да…
Голос ее почти был не слышен.
— Это я, это я!.. Клара, я здесь… Ты узнаешь меня?
Она слегка зарыдала и пробормотала:
— О! Мой милый, милый! Несчастный мой!..
Приложив свою голову к моей, она начала умолять:
— Не двигайся, мне так хорошо, я совсем чистая, совсем белая, вся белая, как анемон!..
Я спросил, страдает ли еще она.
— Нет! Нет! Не страдаю. И я так счастлива, что здесь, около тебя. Совсем маленькая, около тебя. Совсем маленькая, совсем маленькая… и совсем белая, белая, как маленькие ласточки китайских сказок. Ты знаешь, такие маленькие ласточки…
Она говорила — и то с трудом-только короткие фразы, короткие фразы о чистоте, белизне… На ее губах были только цветочки, птички, звездочки, ручеечки… и души, и крылья, и небо… небо… небо…
Потом, прерывая свое щебетанье, она сжимала мне руку, все сильнее прислоняла свою голову к моей и более ясно говорила:
— О! Мой милый! Клянусь тебе, никогда больше! Никогда больше, никогда… никогда больше!..
Ки-Пай отошла в глубь комнаты. И потихоньку она запела песенку, одну из тех песенок, которые усыпляют и навевают сон на детей.
— Никогда больше… никогда больше… никогда больше! — повторяла Клара медленным голосом, терявшимся во все более замедлявшейся песенке Ки-Пай.
И она заснула около меня спокойным, ясным и глубоким сном, как широкое и тихое озеро под луною в летнюю ночь.
Ки-Пай тихо, бесшумно встала.
— Я уйду! — сказала она, — я уйду спать в сампанг. Утром, когда взойдет заря, вы отведете мою госпожу во дворец. И это снова повторится! Всегда это повторяется снова!
— Не говорите так, Ки-Пай! — умолял я. — Посмотрите, каким покойным и чистым сном спит она около меня!
Китаянка покачала безобразной головой и пробормотала с печальным взглядом, в котором сострадание заменило теперь отвращение:
— Я смотрю, как она спит около вас, и говорю вам. Через семь дней я, как сегодня вечером, повезу вас обоих по реке из Сада Мучений! И через семь лет я таким же образом повезу вас по реке, если вы не уедете и если я не умру!
Она прибавила:
— А если я умру, то другая повезет вас с моей госпожой по реке. А если вы уедете, то другой будет сопровождать мою госпожу по реке. Ничего не изменяется.
— Ки-Пай, Ки-Пай, зачем ты это говоришь? Еще раз взгляни на спящую! Ты сама не знаешь, что говоришь!
— Шш! — положила она палец на свой рот. — Не говорите так громко. Не шевелитесь так сильно. Не разбудите ее. По крайней мере, пока она спит, то не делает зла ни другим, ни себе!
Ступая с осторожностями, на кончиках пальцев, как сиделка, она направилась к двери и отворила ее.
— Подите прочь! Подите прочь!
Это был голос Ки-Пай, повелительный посреди жужжавших голосов женщин.
И я увидел подведенные глаза, раскрашенные лица, красные губы, татуированные груди. И я услышал крики, стоны, пляску, звуки флейты, звон металла и имя, бежавшее, перелетевшее с уст на уста и потрясавшее весь цветочный домик:
— Клара! Клара! Клара!
Дверь затворилась, звуки замолкли и лица исчезли.
И я остался один в комнате, где горели две лампы, затянутые розовым крепом. Один с Кларой, которая спала и иногда повторяла во сне, как бредящий ребенок:
— Никогда больше! Никогда больше!
И словно для того, чтобы опровергнуть эти слова, бронзовая статуя, которую я раньше не замечал, какая-то бронзовая обезьяна, сидевшая на корточках в углу комнаты, сурово улыбаясь, протягивала к Кларе чудовищный орган.
Ах! Если бы она могла никогда больше, никогда больше не просыпаться!
— Клара! Клара! Клара!




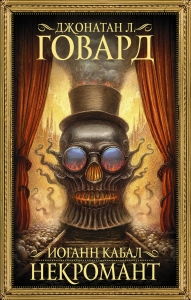
Комментарии к книге «Сад пыток», Октав Мирбо
Всего 0 комментариев