Андрей Дашков Пропуск
1. ОНА
О том, что было раньше, трепаться незачем, хотя от дел своих прошлых не отрекаюсь. Вспоминать такое – все равно что в дерьме ковыряться. А начну вот с чего.
Я лежу в кювете возле перекрестка: ноги – в канаве, голова – вровень с асфальтом. На другой стороне дороги залег Ванька. Его мотоцикл спрятан в кукурузе метрах в пятидесяти от меня, чтобы не заметили издали. С этой же целью с него содран весь никель-хром. Траурная получилась тарахтелка, ничего не скажешь. Когда Ванька сидит на ней в своем кожаном прикиде – вылитый Черный Мститель. То бишь Осип Одноглазый из легенд бродяжьих. Правда, про Осипа сказывали, что он в молодые годы лошадок всяческой технике предпочитал, да все больше глухими окольными тропами пробирался. А нам с Ванькой простор и скорость подавай – так, чтоб дух захватывало и в ушах свистело! Но и на просторе не больно разгуляешься; то и дело рожей в пыль падаешь, коли жить не надоело. Вот как сейчас, для примеру.
Чего мы ждем, непонятно, но я доверяю Ванькиным инстинктам. У него нюх на всякого рода опасности. Зато я лучше стреляю. Потому и терпим друг друга – пока это выгодно обоим. Ну и, ясное дело, без сунь-высунь не обходится.
Из-за шума этой чертовой дикой кукурузы ни фига не разберешь. Как назло, поднялся ветер. Поля простираются до горизонта, спрятаться практически негде. Любой человечек на дороге – будто таракан на столе. Не говоря уже о тачке.
Волны гуляют по кукурузе. Толку от нее никакого, початки еще не созрели. Солнце садится, и я прикидываю, что скоро оно будет бить прямо в глаза. Гнилой расклад. Вдобавок щебень впивается в пузо… Вскоре это мне надоедает, и я приподнимаюсь, чтобы глянуть, как там Ванька. Он в оба глаза пялится в ту сторону, куда нам очень хотелось бы пробраться, но сразу замечает меня боковым зрением, делает страшную морду и машет рукой – ложись, мол, дура!
А чего тут ложиться? Поздно уже. Я поворачиваю голову – мамочка моя родная! Кукурузники повылазили из укрытий и прут на нас лавиной. Значит, самое время сматываться. Не повезло нам сегодня, не проскочим. Надо пробовать другую дорогу, во всяком случае в другой раз. А сейчас найти бы только спокойное место, где можно переночевать, голод-жажду утолить, мирной беседе предаться…
Да, вот такая я – мечтаю о всякой чепухе, когда жить остается, может быть, пару минут. Принцип у меня такой – «думай о хорошем». Это называется то ли оптимизм, то ли кретинизм. Наверное, и об Ваньке я слишком хорошо думала. Подвел меня, стервец. Ой подвел!…
Кукурузники были как на подбор – молодые, дурные и наглые. Совсем сопляки, рожи безволосые и прыщами усыпанные. И откуда только непуганые дебилы берутся – вроде их давно перебить должны! Но нет, оказалось, что племя идиотов – самое большое и неистребимое. Они количеством берут. Толпой кого угодно задавят; патронов на них не напасешься…
Эти вот даже не перебежками, а цепью наступали. Чуть ли не строем, будто на каком-нибудь долбаном параде. Все до единого были вооружены, но не стреляли. Хотели живьем взять – меня, конечно, в первую очередь, однако для забавы им и Ванька сгодился бы. Мне то что – может, с кукурузниками и неплохо побаловаться, – но сдаться без боя злость не позволяла. Что ж мы, бродяги, хуже и трусливее этого оседлого дерьма?!
Отучу я вас, недоноски тупорылые, в психические атаки ходить!
Затвор передернула, встала в полный рост, словно в тире, и бабахнула длинной очередью. Прежде чем ухо заложило, успела услышать только, как Ванька заорал: «Твою мать!…» Свою дешевле, дурак! Хотел отлежаться, да? Думал, кукурузники твою тарахтелку не засекут? Решил, что тебя легко ТУДА пропустят – с ходу влетишь, да еще с девкой на заднем сиденье? Нет, голуба, так в жизни не бывает – это я поняла еще тогда, когда трусы кровью не пачкала.
А теперь я совсем умная. Потому и просекла: ловить тут больше нечего. Положила всех гадов – кого в щебень мордой, кого в асфальт, а кого и в собственную юшку, – и давай деру!
Но то плохой был день. Куда ни кинь – везде гоплык! Перед тем я пятку растерла в чужих новеньких сапогах, которые были на размер больше, чем надо; опять же, менструация в самом разгаре – бегать трудно; да еще четыре полных рожка к поясу привешено. Так что у меня получился не бег, а последний вальс больной коровы.
А Ванька, падла, смекнул, что я за него половину опасной работы сделала. Гляжу – он уже тарахтелку из зарослей выкатывает. Я ему кричу «Прикрой, зараза!» – потому как кукурузники начали рожи свои из пыли вынимать и погремушками звенеть. Куда там! Ваня мой даже не оглядывается, ножкой дрыгает, движок завести пытается. И такая меня ярость взяла – чуть не задохнулась! Напарничек называется – как до первого гнилого дела дошло, так сразу и скурвился… Хотелось очередью по нему полоснуть – желательно, чтобы бензобак взорвался. И гори ты, Ванек, синим пламенем!
Но я взрослая трезвая баба – все-таки уже не тринадцать лет, а целых девятнадцать на свете прожила. Потому взяла себя в руки, зубами скрипнула, обиду схавала и решила, что нельзя лишать себя мизерного шанса. Без мотоцикла делать вообще нечего; после того, как я столько «кукурузы» положила, они меня вряд ли жить оставят. Боль превозмогла и снова зашаркала копытами – а вдруг успею? Но тогда, Ванечка, будет у нас с тобой серьезный базар…
Ага, вот и пульки уже над ухом засвистели. Страшно? Нет, весело! Небо голубое и бездонное, облачка несутся, равнина до горизонта, ветер гуляет, адреналин по мозгам бьет сильнее любого бухла – жизнь!!!
Но, видимо, недолгая.
2. ОН
По ее словам, за последние девять месяцев земля показалась ей адом.
Но ад еще был у нее впереди.
Я слушал рассказ этой глупой телки и думал: «Не волнуйся, детка, – провожу до самой преисподней. А вот сынку твоему придется чуток задержаться. Годков на шестьдесят». Почему-то я был уверен, что у нее родится именно сынок. Должно быть, это нашептала мне Черная Масья[1] – прошлой ночью, в пророческом сне. Да и не хотел бы я заполучить бабью плоть на очередной пожизненный срок!…
Мое время таяло стремительно; мне позарез нужен был преемник. И я уже точно знал, что некоторые вещи он должен впитать с молоком матери – в буквальном смысле слова. Иначе не осуществится то, что я ему предуготовил.
Я сидел в бывшей конторе на старом заброшенном заводе. Это была унылая тесная клетушка, часть которой занимали металлический шкаф и стол. На стене висел календарь с голой красоткой за две тысячи истлевший год. У красотки был отвратительный шоколадный загар и невероятно белые зубы.
Я с удобством разместился в мягком кресле, из которого два часа тому назад выгрузил скелет с пулевым отверстием в черепе. Его «улыбка», посланная с того света и обращенная ко всем живущим без разбора, была, ясное дело, саркастической. И он был прав – с тех пор, как я почувствовал дыхание Костлявой на своем затылке, я стал ходячим фонтаном черного юмора. Этот поганый мир не заслуживал ничего другого. Над ним можно было только смеяться – в перерывах между стонами боли и отчаяния или тщетными попытками что-нибудь изменить. И я любил его таким. Я сам был одним из тех, кто ввергал людишек в отчаяние, и ни минуты не сожалел об этом. Но настал мой черед уходить. И теперь я жаждал утопить остающихся в крови и грязи.
Однако сейчас я заткнул фонтан и сидел тихо. Слушал. В двухстах шагах от меня, в огромном здании цеха, горел бродяжий костерок, вокруг которого сидели шестеро. Среди них – эта самая молодая баба с раздутым брюхом.
О, как долго ждал я подходящего случая! Давненько не встречал беременных; уже и не надеялся заполучить младенца, но, кажется, ночь обряда все-таки наступит! Моя ночь. Если все сработает, я еще поживу. Покопчу это небо сажей, погуляю по темной стороне… в новой, здоровенькой плоти.
Костер был умело замаскирован, и я не видел даже малейшего отблеска на уцелевших стеклах. Зато котик Барин видел и слышал все. Чудесный, послушный котик. Он подобрался к бродягам так близко, как только можно – без риска быть замеченным. Я «смотрел» его глазами, прекрасно видящими в темноте, и «слушал» его ушами, способными уловить легчайший шорох мыши в подполе. При этом сам Барин был черным, как ночь, и бесшумным, как тень. Я подобрал его издыхающим трехнедельным котенком и, кажется, неплохо поработал над ним. Во всяком случае, он полезен настолько, насколько вообще может быть полезна четвероногая тварь. Однако в моем распоряжении были еще нетопыри, ящерицы, змеи, крысы и прочая мелкая живность. Эти не предают. Они просто умирают после того, как я использую их. Так зачем же мне двуногий напарник, от которого пришлось бы ежеминутно ожидать слабости или предательства?
Спустя пару часов бродяги обменялись своими байками, новостями, сплетнями и приготовились спать, выставив часового. Осторожные, многоопытные топтуны, но мне было плевать на их осторожность. Я уже выбрал ту, в которую вопьюсь, словно невидимый клещ, и буду сопровождать повсюду до того самого момента, пока не начнутся родовые схватки. Надеюсь, она будет при этом одна. В противном случае придется избавиться от досадных помех. Любой ценой. Действительно ЛЮБОЙ ценой. В мои последние ночи я почувствовал вкус жизни. Она была горьким медом. Временами отвратительным, но его хотелось еще и еще…
3. ОНА
Завелся, Ванечка, завелся, сучонок, – метров десять не добежала. Он прыг в седло и рванул с места с пробуксовкой – только щебень по моим джинсам застучал. Это он, красавец, умеет – пыль в глазки девичьи пустить. А ведь надо было подождать каких-нибудь пару секунд! Пришлось повернуться и отстреливаться, чтоб меня не подранили. Получилось, что я его, скотину, еще и прикрыла!
Когда я заставила уродов залечь и снова глянула в ту сторону, куда Ванька дернул, то чуть автомат не выронила. Это ж надо – какая судьба все-таки сука! Наперерез мотоциклу из кукурузы баба с ружьем выскочила – здоровенная бабища, лет двадцать восемь, кровь с молоком, вымя – как мой патронташ. То ли в плену была у оседлых и охранника сиськами задушила, то ли без мыла проскочить захотела туда же, куда и мы.
В любом случае я сразу поняла, что убивать моего бывшего дружка она не собирается. Хотя запросто могла прикладом перетянуть – и полетели бы Ванька и его тарахтелка в разные стороны!… Он еще вилять пытался, объехать эту булку сдобную, но бабища на него ружье наставила, и пришлось ему притормозить. Между нами: он, болван, дроби страшно боится. Когда одна дырка, говорит, ничего, а вот когда много… плохо заживает. Ну а если бы эта стерва в него с трех шагов засадила, его дурную башку враз с плеч сдуло бы.
В общем, на мое законное место, кровью и потом заслуженное, вскоре упала ее толстая задница, да так, что амортизаторы заскулили и тарахтелка до выхлопных труб просела. Ванька газ до упора отвернул, и полетели голубки к новому счастью. Мне осталось только вонючий выхлоп глотать, материться про себя и ждать, пока кукурузники станут в меня напоследок свои стояки засовывать. И тут тварь эта смышленая обернулась и показала мне средний палец. Да еще залыбилась на все тридцать два.
Этого я уже вынести не смогла! Если суждено подохнуть, так я с собой и вас, ловкачей, прихвачу, для приятной компании… Подняла автомат и знала, что не промахнусь – с такого расстояния я никогда не промахивалась. Пальцем крючок потянула – и в этот самый момент какой-то гаденыш из мелкокалиберной пукалки мне в руку попал!
Дернулась, зажмурилась от боли мгновенной, выстрелила мимо. Приклад не сумела прижать как следует – отдачей плечо ушибла. Короче, все испоганила. А потом уже поздно было голубков на взлете подстреливать; пришлось собственную задницу из беды выручать. Опять в кювет рухнула, колени ободрала, и весь кайф будто ветром сдуло! Никакого удовольствия от такой войны. Спрятаться негде, смыться не на чем; кукурузники рано или поздно окружат, свинцом нашпигуют, а то и поле подожгут – и будет жареный бифштекс из ядреной девки. Свежайший. С кровью.
Кстати, кровь из раны пропитывала рукав рубашки. Руку я кое-как ремнем выше локтя перетянула, не забывая поглядывать по сторонам – вдруг молодые и дурные из щелей полезут. Но те поодаль между собой перегавкивались и даже меня звали. Развлечься приглашали. Обещали, что с ними будет весело. Нет, сынки, по-настоящему весело мне уже ни с кем, наверное, не будет… Только как оборону держать? Ни воды, ни жратвы – все в сумках осталось, к тарахтелке притороченных. Попался бы мне сейчас Ванечка – настругала бы его тонкими ломтиками и член пятаками нарубила бы!…
Но Ванечка далеко, а гоплык близко. И надо что-то делать. По мне – пусть самое худшее случится, лишь бы не лежать и тупо смерти дожидаться.
Однако долго лежать и не пришлось. Я услыхала шум мотора – явно что-то большое перло, грузовик или автобус. Оттуда же, откуда и нас с Ванькой принесла нелегкая.
Кукурузники притихли. Везло им сегодня: добыча сама шла в руки. Еще один болван прирулил – и это за один вечер! Я представила, как оседлые сейчас расползаются по зарослям, радостно потирая ладошки, от онанизма мозолистые. Мотоциклиста не завалили – теперь уж они постараются на славу, следующую жертву им упустить ни в коем разе нельзя…
И для меня тоже забрезжила надежда – авось и выскочу под шумок! Нужно только не зевать и рассчитывать исключительно на себя. Я воткнула двойной магазин и приготовилась стрелять. В водителя или в кукурузников – это уж как придется.
Двигатель ревел совсем близко. Да, это был автобус – старый, раздолбанный, мало на что годный. На таком далеко не уедешь. Но мне далеко не надо. Колеса есть, и спасибо…
Сначала я увидела крышу и часть лобового стекла. Вверху с незапамятных времен была прикреплена панель с обозначением маршрута, которую, наверное, просто поленились отодрать. Должно быть, я еще и на свет не появилась, когда эти надписи что-то значили. А сейчас панель выглядела как нелепая хохма. Маршрут номер один. «Центральный парк культуры и отдыха – Аэропорт». Культуры и отдыха! Помереть можно со смеху! Будет вам, отдохнувшие и окультуренные, «аэропорт»! Взлетите прямиком на небеса без всяких приспособлений!…
Я уже видела залысины на голове водителя, когда неподалеку от меня из кукурузы вылез какой-то хмырек, который, кажется, не подозревал о моем присутствии. Что ж, я всегда была низкого мнения об организационных способностях оседлых. В руках хмырек тащил смотанную «колючку».
Нет, так не пойдет! Хочешь меня последнего шанса лишить, гаденыш?… Хорошо, что меня подстрелили в левую руку. Правой я достала нож из-за голенища сапога и метнула по всем правилам. Спасибо, папочка научил, прежде чем сам сгорел заживо в своей же тачке!
Клинок вонзился хмырю в горло, и тот умер без лишних звуков. Клубок «колючки» остался валяться в кювете, а я на всякий случай подползла поближе. К трупу прислонилась, ножик свой выдернула и потихоньку начинаю наверх выбираться. Дураки-кукурузники напрасно ждали подарка в виде автобуса с шинами продырявленными. Но это даже хуже – если начнут палить, то прострелят покрышки наверняка.
Автобус выскочил на пологий спуск. Красное закатное солнце отразилось в лобовом стекле, и я ни черта не могла разглядеть. Через пару секунд до оседлых дошло, что с «колючкой» не получилось, и раздался залп. Автобус притормозил и вильнул в сторону. «Жми, дурак!» – мысленно завопила я, потом сообразила, что на такой скорости все равно не сумею вскочить. На мое счастье, створки передней двери были выломаны. Вот он, мой единственный шанс! Чертовски малый шанс, однако я готова была зубами цепляться за бампер, лишь бы выбраться из передряги…
Не ожидала, что это окажется таким трудным – сделать несколько шагов под огнем навстречу железной коробке, пьяно вихляющей из стороны в сторону. Я представила себя со стороны – грязную, окровавленную лахудру с автоматом в руках. Пожалуй, на месте водителя размазала бы такую по асфальту – на всякий случай, чтоб не рисковать.
Но у того уже не было подобных забот – во лбу у него появилась черная дырочка, а через несколько мгновений он повалился набок. Неуправляемый автобус катил прямо на меня. Двигался он, между прочим, не так уж быстро, но мне казалось – несся. Я отступила в сторону и пригнулась, гадая, что ждет меня там, внутри, даже если у меня получится этот безумный трюк, – пуля в лицо сразу или затяжное «веселье» вкруговую со всей бандой. Однако, насколько я могла судить, из автобуса вообще не стреляли. И людей в салоне не было видно. Залегли? А может, все-таки одиночка? Герой недоделанный. Что ж, тем лучше.
Пять метров, три, один… Пора. Я рванулась, и в глазах потемнело от боли. Автомат, казалось, весил целую тонну. На каждой ноге висело по цементному башмаку. А движущийся проем двери был таким узким… Черт, что за звуки? Визги чьи-то панические. Или это у меня в ушах звенит?…
Прыгаю. Отрываюсь от земли. Лечу. Автомат перед собой выставила. Схватиться не за что. Раздираю руки о загнутые края листового металла. Вдобавок мертвый водитель свалился в проход. И когда я ребрами ударилась о ступеньки, то очутилась с ним лицом к лицу. От него разило каким-то пахучим дерьмом, которым оседлые иногда мажут свои морды, чтобы быть попривлекательнее.
А в салоне визжали насмерть перепуганные детишки. Этот визг я с тех пор ни с чем не спутаю. Хоть я и со спекшимися мозгами была, но обстановку оценить пыталась. Жить очень хотелось… Что это за молодняк тут?! Слишком маленькие, чтобы стрелять? Дай-то бог! Но сейчас мне было не до них.
Ох, мои бедные ноги! Подковы скрежетали об асфальт, пока я не очухалась и не нашла в себе сил подтянуть копыта. Влезла. Выдохнула. Слюну кровавую сплюнула. Что теперь? Не расслабляйся и не жалуйся; все ведь только начинается, детка!… Моей задачей было удержать автобус на дороге, не сгореть в кювете и не дать ублюдкам продырявить колеса.
Оттолкнув мертвеца, я кое-как забралась на место водителя. Судя по ощущениям, трещину в ребре точно заработала. Кроме того, прокусила щеку и чуть не выбила себе передние зубы. Ну и красотка была бы! Про грудь уже не вспоминаю – что-то там справа давно меня беспокоит, после того как прикладом стукнули…
Эх, где наша не пропадала! Я бросила автомат на бедра, схватила рулевое колесо и до предела утопила педаль газа. Дохленький движок натужно взвыл, но жестянка все-таки заметно ускорилась. Оба зеркала были разбиты, и я не знала, что творится сзади. Впрочем, догадывалась. Пули градом барабанили по корпусу, а покрышки, кажется, до сих пор оставались целыми. Я не могла поверить в такое чудо, однако раз в жизни, говорят, и чудеса случаются. Лишь бы не нарваться на засаду впереди. Дайте мне дух перевести, гады; дайте раны зализать, и всех я вас тогда в гробу видала!…
Кровь заливала глаз – бровь была рассечена, что ли. Я все-таки улучила момент, чтобы посмотреть назад. У детишек хватило ума попадать в проход и не подставлять головы под пули. Так они и лежали вповалку, скуля, будто слепые щенки… Целых стекол в салоне давно не осталось. Стрельба почти прекратилась, зато теперь нас преследовал пикап, набитый кукурузниками. Ого, оседлые начинают осваивать бродяжьи приемчики!
Я выматерилась и резко дернула рулем. Пикап едва не ткнулся в мятую задницу автобуса своим бампером, но вовремя отвалил в сторону. Я снова обернулась и поняла, что дело хреново. Крупнокалиберный пулемет на турели – это серьезно, и не стоило ждать, пока мою жестянку разорвет в клочья и она рассыпется на ходу… Спасибо, хоть дорога впереди прямая. Я схватила автомат и на несколько секунд бросила руль. Высунулась из окна и всадила в пикап весь магазин.
Ствол, конечно, увело, но мне подвалила удача. В смысле, автобус тряхнуло на колдобине так удачно, что я замочила и водителя, и стрелка в кузове пикапа. Тачка вылетела с дороги на кукурузное поле и несколько раз перевернулась, ломая турель и разбрасывая тела, будто тряпичных кукол. Приятная картинка, но досмотреть до конца мне не удалось – правые колеса автобуса уже шуршали по гравию обочины, и камни бомбардировали днище. Я с трудом выровняла неповоротливую жестянку и продолжала давить на газ до тех пор, пока не убедилась, что владения кукурузников остались позади. Особой радости не испытала – наверняка миновала далеко не последняя и не самая страшная угроза. Ну что ж, никто и не обещал, что дорога ТУДА будет усыпана розами. Было бы легко – очередь из фраеров дешевых стояла бы. Не протолкнешься.
4. ОН
Барин зашевелился и начал пробираться поближе к костру, чтобы стащить какую-нибудь жратву. А вот это уже лишнее, братец!… Я будто смотрел киношку на внутренней стороне моих закрытых век. Странная, искаженная картинка, да еще в непривычном ракурсе – Барин крался, припадая к выщербленному цементному полу. Я остановил его, послав жесткий приказ, и велел вернуться. Когда-нибудь жадность погубит тебя, котяра. Неужели тебе мало мышей, которых я привожу прямо в твои когти? Ну так я заставлю тебя охотиться, проклятый лентяй!…
Убедившись, что Барин возвращается, я прервал контакт и открыл глаза. Несмотря на отсутствие луны, я видел довольно отчетливо. Вся жизнь прошла в потемках, и теперь яркий солнечный свет лишь слепит меня. Поневоле приходится действовать ночью, а днем забираться в норы потемнее.
Внизу был гигантский цех, наполненный мертвыми проржавевшими механизмами. Кое-где возвышались холмики нанесеной ветрами земли, на которых бурно разрослись вездесущие сорняки. Эти холмики чертовски напоминали могилы. Но, к сожалению, только напоминали. Я подумал о том, что сырья у меня хватит в лучшем случае на неделю. Потом, если я не найду ничего подходящего, ситуация станет критической. Шлюха, которая готовилась разродиться и за встречу с которой я благодарил Черную Масью, связывала меня по рукам и ногам. Мне придется следовать за нею, и я лишусь свободы передвижения…
Я укусил себя за руку и сразу же увидел темные полукружия кровоподтеков, проступившие на белой коже. Настолько белой, что она будто светилась в темноте. Боль длилась секунду – зато потом нахлынула ясность, и вернулся полный самоконтроль. Но ненадолго.
Эта девка… Я буду не только следить за нею, но и охранять ее самым тщательным образом. Беречь не только от физической угрозы, но и от элементарного испуга. Возможно, придется кое-чем пожертвовать. Мне нужен здоровый и вполне доношенный пацан. Я не хочу оказаться каким-нибудь задохликом!
В этот момент коротко взвизгнул Барин. Я узнал бы его голос из тысячи воплей мартовских котов. Через мгновение я уже понял, что произошло непоправимое. И все-таки я вышел на контакт, не мог отказать себе в этом – для меня это был многократно испытанный способ пережить чужую смерть как свою собственную. Ну, ПОЧТИ как свою собственную. Полезный опыт, который мигом вправляет мозги – каждому, кто хоть на минуту забыл, зачем он здесь, на этой грешной земле, и как легко забрать его отсюда.
Меня захлестнула мощная волна боли, ужаса и гнева. Ужас и боль были не моими, зато слепящая ярость принадлежала мне целиком. Несколько секунд я агонизировал вместе с моим любимым котиком, которого ловко поймал и прикончил ножом бродяга.
Смерть, как всегда, завораживала. И, как всегда, я остановился на границе кошмарной тьмы, то есть на границе дозволенного. Я знал свое место.
Передо мной разверзлась пропасть. Оттуда дул леденящий душу ветер, от которого шевелились волосы на голове и безжалостная игла страха пронизывала позвоночник снизу доверху. Там, в той вечной тьме, вспыхивали и гасли кольца света, который не был светом, а лишь иллюзией, порожденной моим мозгом. Однажды я испытал нечто столь ужасное, что это едва не отвратило меня от подобных экспериментов. Но смерть – это ведь тоже наркота, к тому же доступная немногим. Сильнейшая наркота – куда там «дури» и опиуму! И я знал, что не избавлюсь от влечения к ней, пока не получу свою последнюю «дозу»…
Я проводил Барина до безвидной ямы и следил за удалявшимся бесформенным сгустком, пока его тень не канула во тьму. А затем, стиснув зубы, пытался достойно перенести потерю, забыть о ноющем от страдания сердце и думать, думать, думать.
5. ОНА
Тем временем сгустились сумерки. Двигаться быстро стало опасно, тем более что фары выбиты. Но ехать с включенным светом я и не решилась бы. Лучше мишени не придумаешь… Перспектива голодной ночевки в чистом поле меня абсолютно не привлекала. Найти бы заброшенную деревеньку да подстрелить одичавшую скотинку… Помечтай, дуреха, помечтай!
Но, видать, дуракам и впрямь везет. Не успела про деревеньку дофантазировать, глянь, а справа, за рощицей, какое-то строение виднеется. То ли дом, то ли элеватор полуразрушенный, в темноте не разберешь. Мне в общем-то без разницы, лишь бы нору поглубже сыскать и до утра отсидеться.
Конечно, весь этот выводок в салоне – только помеха. Мороки с ними много, а толку никакого. Ручонки еще слабоваты, чтоб пушку держать… Потому, прежде чем к развалинам сворачивать, притормозила я у обочины, обернулась и строго так говорю:
– А ну, малышня, брысь отсюда!
Они – снова в плач. Девчонка одна голубоглазая, от горшка полвершка, за руку меня схватила, целует и ноет:
– Не прогоняй нас! Ты теперь наша мама!…
Еще чего! Этого мне только не хватало – мамашей считаться и всякой сопливой сволочи носы утирать! Между прочим, я строго слежу, чтоб не забеременеть. Тут и так любой бабе тяжко приходится, среди мужичья одичалого, а с брюхом и неделю не протянешь…
– Отвали! – прикрикнула я на нее. Не выношу телячьих нежностей. Сама ласки с малых лет не видала – и не надо. И уж конечно, никто мне никогда рук не целовал… Только отчего-то вдруг сердце у меня заболело. Ушиблась все-таки, наверное.
– Выметайтесь! – почти кричу. – Сейчас выкину по одному!…
Что тут поднялось! Завыли пуще прежнего. Орут, ползают передо мной, ноги обнимать наперебой лезут… Я сидела как отмороженная, пока в глазах щипать не начало. Причиной была пыль дорожная, а что же еще?
С трудом их от себя оторвала. Голубоглазая – самая смелая, до последнего цеплялась. Ну что ты им скажешь; куда будешь обузу эту девать? Не в расход же пускать, в самом деле!
И потом только я смекнула, что малышня мне и пригодиться может. Глядишь, с работорговцами договорюсь, если, не дай Господь, встретиться доведется. Или на патроны поменяю, когда совсем прижмет. Было бы только с кем меняться…
– Ладно, – соглашаюсь. – Только не хныкать, под ногами не путаться, насчет жратвы не скулить! Сытую жизнь не обещаю. И в сортир чтобы просились; мне тут ваше дерьмо цыплячье ни к чему!…
По-моему, они слегка успокоились. Привыкли, значит, к такому обращению. Это хорошо. В будущем им ни черта не светило, если только… Если только я до того места не доберусь, куда мы с Ванькой рвануть решили. Но сначала мне бы до тебя, Ванюша, добраться…
Свернула я на проселочную дорогу, сорняком заросшую, и кое-как на малом газу до рощицы дотарахтела. Решила тут автобус оставить и сходить-разведать, свободна ли берлога, чтобы на «горячий» прием не нарваться. Вероятность такая имелась. Слишком уж близко от тракта проезжего строение это торчало…
Поставила жестянку так, чтобы ее ни с большой дороги, ни с развалин было не видать. Взяла автомат и приказала:
– Сидеть тихо! Если жить хотите, ни звука! Скоро вернусь. Стрельбу услышите – вылазьте и расползайтесь по кустам. А если не вернусь, значит, не повезло вам, детки…
Гляжу – пискуны мои заткнулись, глазами большими на меня уставились, точно совята. От страха дрожат, но внимают. Тошно мне сделалось – то ли от самой себя, то ли от своей благотворительности. Хотела еще что-то сказать – комок в горле встал. Только рукой махнула и двинула на разведку. Обернулась – ни один не вышел. Поверили, значит. Смыться от них, что ли? Но куда мне без автобуса?
Пока я кралась под кустиками, трижды прокляла судьбу. Весь организм страдал, а от голода кишки узлами сворачивались. Я уже про глотку пересохшую молчу. Зато с почками все в порядке. Присела разок и травку здешнюю окропила. Хорошая травка, густая и мягкая. Так и тянуло полежать на ней, заснуть, забыть обо всем. Но нельзя теперь. Я же не Ванька. Раз обещала, надо вернуться. Иначе уважать себя перестану, а себя ведь не обманешь. Если узнаешь наверняка, что сама ты есть первостатейное дерьмо, то что другие про тебя подумают, уже без разницы…
Наткнулась на остатки кирпичной стены и пошла вдоль нее. Везде было темно и тихо. Трудно поверить, что такое местечко никто из оседлых не облюбовал, однако люди-то мрут как мухи, а камень – что ему сделается… Колодец бы еще попался или хотя бы лужа. Но вряд ли – дождь давно был, на голых местах земля совсем высохла, потрескалась.
Смотрю – впереди темный провал в стене зияет. Дверь когда-то была. Сразу туда я соваться не стала, вначале камешек бросила и присела, жду, что будет. Потом еще один. Камешки по мусору прошуршали – и все. Но даже после этого я не вошла. Разных пакостей насмотрелась – из тех, что оседлые устраивают. Теперь я на всю жизнь пуганая. Если хозяева по какой надобности или в рейд отвалили, то мины-растяжки могли оставить. Или самострелы. Или ловушки. Да что угодно!… Вот такое у меня поганое ремесло – днем стреляешь или под пулями мечешься, а вечером на брюхе ползаешь, пустые норы вынюхиваешь, чтоб было где пару часиков соснуть. Утром – все сначала. Надоело до чертиков!
В общем, довольно долго я вокруг да около бродила, пока примерный план развалин себе в уме не составила. Что за строение, так и не поняла, но это и не важно. Наконец решилась и вошла. Побродила, убедилась в том, что все чисто. Откровенно говоря, была у меня тайная надежда, что и Ванька со своей коровой недоеной в этом гнездышке задержался. Тут бы я их за подлость и наказала. Ну ничего, как-нибудь в другой раз…
Присмотрела помещеньице с окнами на дорогу и с запасными выходами на три стороны. Пол бетонный, повсюду битое стекло, куски труб валяются. Сойдет.
Главное, чтоб без других гостей обошлось, а удобства мне ни к чему. Отвыкла я от удобств. Уж и забыла, когда в последний раз на кровати валялась.
Тихонько и осторожненько вернулась обратно. Приблизилась к автобусу – тишина. Молодцы малолетки, даже носами не шмыгают. Правда, когда я в салон заглянула, девчонки с перепугу взвизгнули. Я простила, нельзя же от такого соплячья взрослой выдержки требовать.
Велела им выйти и цепочкой выстроиться. Так они парами стали и за руки взялись. Шесть мальчишек и шесть девчонок. По росту. Голубоглазая в самом конце. Ни дать ни взять – утята доверчивые. Куда скажу, туда и двинут. Где ж это их в таком порядке ходить научили?… У каждого в руке сверток или кулек был. Жратва, черт меня подери! Ну спасибо, детки, обрадовали; хоть какая-то польза от вас…
А теперь – шагом марш за мной! Нет, стоять. Сперва я мертвеца из автобуса выгрузила и в заросли оттащила. Детишек это не очень смутило – наверное, у них и похуже вечера бывали. Стояли и молчали подавленно, будто маленькие старики и старухи, горя сполна хлебнувшие. Потом, правда, малец один подскочил и в застывшую руку мертвеца что-то быстренько сунул. Я пригляделась – крест это был. Грубый деревянный крест, из двух веточек неумело выструганный.
Я ничего не сказала. Что тут говорить? Черви нашего брата хоть с крестом, хоть без креста принимают.
Постояла я над трупом, соображая, что с одежонкой его делать, а заодно дух перевела. Больно тяжелый он был – не мускулы, а мясо. Извини, браток, но похоронить тебя не смогу. Ни сил нет, ни инструмента, чтоб могилку вырыть. Кстати, тебе тоже спасибо. Ты свою половину маршрута честно проехал; вторую половину мне рулить придется. Лишь бы подольше продержаться… И не надо мне одежи твоей! Кто знает, может, и меня где-то смерть за поворотом ждет – такая же злая, такая же бесприютная. Не хотелось бы голой лежать, а впрочем, не имеет значения… Не понимаю только, на фига ты деток с собой потащил в эту свою последнюю поездку, и уже не пойму никогда, хороший ты человек был или хреновый. Корми червей, дружище! Все мы, в конце концов, только корм для червей…
Положила я беднягу под деревом и на всякий случай карманы его обшарила. Думала пушку сыскать, но этот лунатик наивный даже без ножа ехал! Видали такое? На что рассчитывал, непонятно. Нашла я только какую-то книжонку и картонные корочки. Документы то есть. Черт знает что творится! Кому он, тупица, их предъявлять собирался, в нашей-то дикой глуши?!
Покачала я головой – и скорее к выводку своему. Тэ-эк. Топаем за мной по одному! След в след, дурачье, понятно? Учитесь выживать, пока я жива. Эта наука дороже всего стоит, и никто вам ее не преподаст, окромя такой вот заразы дотошной. Топаем, детки, топаем…
Привела их в «спальню», а сама еще один контрольный обход сделала, хоть и валилась с копыт от усталости. Но лучше быть усталой, чем мертвой.
Когда вернулась, глазам своим не поверила. Ох ты, блин! Во-первых, слабый свет появился в нашей голой конуре. А во-вторых, малолетки пакетики свои развернули и клееночку расстелили. Стол, значит, накрыли. Свечку припасенную зажгли, кружком расселись, но ни один к еде не притронулся, хоть изголодались до предела. Меня ждали. Культурные ребятки, воспитанные. Язык не шевельнулся отругать их за то, что первейшее правило маскировки нарушили…
Как только я вошла, они молиться начали, Бога благодарить за день прожитый и за еду, им посланную. Я только криво ухмылялась. Лично я благодарила бы того парня, который автомат придумал… Истово детки молились, искренне. Сразу стали до жути похожими друг на друга. И все почему-то одинаково одеты были – в костюмчики из грубого коричневого сукна. Потом они молиться закончили, снова сидели молча и терпеливо ждали.
Опять сердце перевернулось и защемило как-то по-особенному. Ни разу раньше такого со мной не было, даже когда папашка мой сгорел…
Насчет того, чтобы похавать, меня долго упрашивать не надо. Присела я с ними рядом – и давай наворачивать! Черствая еда была, старая, с плесенью, но она мне вкусней любой другой показалась. Слаще меда… И вода у них тоже нашлась – у кого во фляге, у кого в глиняном сосудике с пробкой.
Напилась я и нажралась до полного блаженства. После такого пира мне только самокрутки не хватало, но тут уж я к деткам не в претензии…
Не помню, как заснула. Вообще-то я чутко сплю, от малейшего шороха вскакиваю, но в ту ночь никто нас не потревожил. Выходит, дали мне все-таки передышку. Знала бы, кого за это благодарить, на колени бы встала.
6. ОН
Итак, я недооценил дневное бродяжье племя. Черт подери, какая выдержка! Прикидывались, что не замечают слежки! О, проклятие на их головы!… Я поглаживал одной рукой клинок ножа, а другой – ствол пистолета. Холод металла отрезвил меня. Холод предметов, раскаляющихся лишь тогда, когда они убивают… Кроме того, пистолет раньше принадлежал Одноглазому Осипу, и я считал его самым дорогим трофеем, символом преодоленного рока.
Да, месть мы оставим на потом. Сыграно было честно. Все хотят жрать, а бродячий кот давно считался деликатесом и в более благополучных краях. Тем не менее я непременно отомщу ублюдку, которого Барин отметил своими когтями, и месть моя будет чернее и страшнее самого глубокого гнезда под гнилым пнем, кишащего гадюками. Сейчас же надо импровизировать, чтобы не потерять нечто гораздо более важное, чтобы не ускользнула сучка, таскающая в своем брюхе мою будущую жизнь…
Я «пошарил» вокруг слабым поисковым лучом. Нащупал множество насекомых, мышей и спящих птиц. Что ж, на крайний случай сойдет и мышь, хотя контролировать ее будет намного труднее. И еще – я ненавижу птичье искаженное поле зрения. Ни черта не поймешь, пока не привыкнешь. Но я не был уверен, что бродяги дадут мне время привыкать. В смерти Барина был один положительный момент – я понял, что имею дело с сильным противником, и приготовился к долгой изматывающей борьбе.
Но я не железный и нуждаюсь в отдыхе. Я выставил сторожевую мышь подальше от костра – лишь бы следила за брюхатой, – и решил немного соснуть. Куда там! По случаю удачной охоты бродяги похерили сон и устроили пир. Достали бухло из неприкосновенных запасов, а потом на свет появилась и гитара, которую вытащил из латаного-перелатаного чехла пожилой дулец[2]. Однако и об осторожности они не забывали – двое из всей компании постоянно были начеку, прогуливаясь вокруг цеха. С интервалом примерно в полчаса их сменяла другая парочка. Только беременной дали послабление, и та постоянно торчала возле огонька.
Я отказался от мысли перещелкать их поодиночке (кроме, конечно, пузатой красавицы). Что мне оставалось? Лишь терепеливо ждать.
И я вынужден был далеко за полумеркоть[3] слушать этих грязных свиней, сожравших Барина, – их тоскливый вой вперемежку с веселой похабщиной, от которой все равно разило тоской и, как ни странно, намерением выстоять несмотря ни на что.
Это были не просто песни. Каждая звучала как приговор без жалости и пощады, даже опусы типа «Мужчины писают стоя» или «Резиновая мама». Да, тяжелой будет теперешняя охота!…
Бродяги выли:
Слепая кляча бредет на погост, Стонет под нею горбатый мост. В телеге лежу, молодой и красивый, – Голодным сдох на Великий пост! Могила вдали от Святой земли, Ее сторожат две белых совы. Две белых совы у ворот Преисподней И черный пес на железной цепи…Потом мои чрезвычайно чувствительные ноздри учуяли едва уловимый аромат жареного, плывший над заводом. Ну и пытка! И все же мне нравилось прикосновение сотен раскаленных жал к моим нервам. Мне нравилась боль. В ней было что-то великолепное. Закрывая глаза, я видел свет, исходивший из головы Распятого в те часы, когда он страдал на Холме. Этот слабый свет доходил до меня сквозь тысячелетия…
Перевалив через апогей, страдание стало изысканнейшим наслаждением. А потом я сам ощутил зверский голод.
Под конец я подключился к мышке, чтобы проверить, на месте ли мой драгоценный товар. Вообще-то дневные бродяги обычно предпочитают пересидеть ночь в какой-нибудь конуре, но кто знает, что в голове у бабы на девятом месяце?
Нет, она никуда не делась. Подвыпившие дульцы ублажали ее слух хриплым вокалом. Они выли очередную песенку. Дрожь пробирала от этого мрачного хора. Фанатики. Такие не сдадутся…
…Сверху пялится луна, Как покойник бледная. Ох не спасут от ночника Ветка голого куста, Два серебряных креста, Да собака верная!…Ну, это уж слишком! Они будто издевались надо мной. Вернее, не они, а слепой случай. Впрочем, подмечено точно: от ночника ничто не спасет. Тем более дурацкие амулеты. Кажется, молва превратила нас в подобие пугал, в почти фольклорный элемент, детскую страшилку. Это значит, что до конца никто не верит в магию ночников. Придется сделать все возможное, чтобы опровергнуть несправедливое мнение…
Брюхатая не подпевала. Она сидела, откинувшись в полудреме на свой вещевой мешок, и блаженно улыбалась. Наверное, ей казалось, что у нее давно не было такой приятной и спокойной ночи в подходящей компании. Но на бедрах у нее лежали пистолеты. Ничего, милашка, отдыхай пока; сегодня я тебя не разочарую…
И только перед рассветом бродяги угомонились, а я сумел недолго покемарить.
7. ОНА
Проснулась я с первыми лучами солнца. Кости и ушибы ныли сильнее, чем вчера. И между ног все еще текло. Ну да ладно, мне не привыкать… Смотрела я на малышню спящую, на лица их, невинные и доверчивые, и думала: до чего ж они беззащитные, слабые, к жизни этой чертовой не приспособленные! А ведь все мы когда-то такими были – и я, и Ванька, и прочая падаль. Что ж из этих-то получится, вернее, из тех, которые выживут? Из кого – бродяги, из кого – оседлые. А из кого-то зверье бандитское выйдет, но сейчас никаких признаков не разглядишь. Где ж она, звериная эта суть, сейчас прячется? Внутри она сидит или потом в спящего человека исподтишка вползает, будто гадюка в ухо, и мозги ядом отравляет?
Что толку думать об этом! Решила я лучше вещи мертвеца рассмотреть. Книжка оказалась потрепанной, засаленной, с крестом на черной обложке. Библия то есть. Папашка мне когда-то про книжку такую рассказывал. Полистала я ее и захлопнула. Не было настроения напрягаться. Почитаем на досуге, хотя меня сразу обломало то, что имен там странных и ненашенских много и мути всякой про оседлых говнюков. Само собой, те страницы, которые не понравятся, можно вырвать и по прямому назначению использовать. Хоть на самокрутки пустить, хоть еще куда-нибудь. Бумага тонкая, хорошая…
Открыла корочки – в них тоже крест намалеван, мужик с кольцами вокруг головы, а ниже вообще чушь написана. «Приют Святого Андрея», что ли. И должность хмыря убитого – «Наставник». В самом низу малюсенькими буковками: «Спаси и сохрани!». Я так поняла, что это вроде девиза или наказа. Как же, сейчас! Спасет и сохранит! И куда эти наставники-чистоплюи без стволов и клинков лезут? На путь истинный наставлять? Да тут вдоль любого шоссе столько засад понатыкано, что на танке с трудом прорвешься! И где он, этот путь истинный?! Эх вы, импотенты безмозглые… Сидели бы в своих приютах, как суслики в норах, и носа наружу не высовывали. Чтоб нос не отстрелили…
Разбудила я выводок и подождала, пока они все в коридорчике за углом оправились. Потом построила и тем же порядком отвела к автобусу. Решила с утра не жрать – будем запасы экономить. Неизвестно, когда теперь смогу еду добыть. Двенадцать ртов, это же надо! На кой хрен такой хомут себе на шею повесила, до сих пор не пойму!
Прежде чем трогаться, открыла бензобак и веточкой обструганной уровень бензина замерила. Километров на сто хватит, а дальше… По правде говоря, на «дальше» я не рассчитывала. Это был бы уже оптимизм. Вернее, кретинизм.
Голубоглазая ко мне не на шутку приклеилась – повсюду ходит следом, во все дырки заглядывает, чуть ли не движения мои повторяет. Одежонка на ней как на пугале висит – то ли с чужого плеча, то ли пошита на вырост. Иногда она ручонки из рукавов протягивает и автомат трогает. Думает, я не замечаю.
– Ты это, девка, брось, – говорю. – Иди со своими играй.
А она мне:
– Научи меня стрелять, мамочка!
Я чуть слюной не поперхнулась.
– Зачем тебе? – спрашиваю.
– Ты рулить будешь, а я отстреливаться…
Смышленая, заноза! Может, и впрямь из нее толк выйдет? Я пыталась припомнить, когда сама впервые ствол в руки взяла, – так и не вспомнила. Но не автомат же!
– Ладно, – пообещала я. – Добудем тебе погремушку подходящую, тогда и учиться начнем.
По-моему, ей и этого хватило. Ускакала довольная. Я тебе покажу – «мамочка»!…
Едем. Ветер дует сильнее, чем вчера. Одна радость – кукурузные поля закончились, и по обе стороны дороги потянулись унылые холмы.
Эх-х! И ждала ее тюрьма Возле лысого холма, Земляная камера – Тесная и темная…От песенки этой бродяжьей долго избавиться не могла; снова и снова мотивчик назойливо на ум возвращался.
Солнце напекло крышу, и к полудню стало жарковато, несмотря на обдув. Пискуны сомлели и спят на сиденьях. Одна голубоглазая сидит рядом и всякий раз внимательно глядит, как я врубаю передачу. А ведь до педалей еще лет пять доставать не сможет! Вот привязалась, хитрюга! Кого-то она мне напоминала. Очень сильно напоминала. Может, меня саму, сучку упрямую?
Когда скучно стало, я пытать принялась, откуда они такие взялись, зачем в путь опасный отправились и куда попасть хотели. Ей-богу, ничего нового не услышала. И не услышу, наверное, хоть триста лет проживу. Везде одно и то же. Мир на страхе и насилии держится, а где этого нет, значит, есть утонченный обман, лицемерие и, в конце концов, самое изощренное насилие – это когда ты врага своего полюбишь, за благодетеля истинного примешь и удовольствие начнешь получать от той роли унизительной, что тебе отведена. Интересуетесь, где печальный опыт приобрела? Да уж любила я поганца одного, на свое несчастье…
Дитя малолетнее, понятно, слов таких не знает, немногое помнит, а за наставника своего и вовсе не в ответе, однако вытянула я из голубоглазой, что жила она раньше в монастыре, надежном, как крепость, и была там полная идиллия. Даже приют сиротский организовали и молитву божью в головы детские вдалбливали. Все друг друга братьями и сестрами называли, никто никого обидеть не смел, а барахлишко монастырское общим считалось, чтобы повода для раздоров не было. Так славно и мирно существовали, что слушок пошел про жизнь в санатории этом, и стали стекаться туда дармоеды и халявщики со всего ихнего края. Да еще эти, как их… паломники, вот. Главный всех принимал – не прогонишь же человека под стволы вражеские, если он к воротам твоим приполз помощи просить. Но в том-то и дело, что большинство только жрать хотело и ни черта не делать. Дескать, пусть нас Господь защитит и накормит, а пока он отдыхает, займитесь этим вы, его верные слуги!
Ни о чем подобном голубоглазая, разумеется, не болтала и выболтать не сумела бы, но я опять-таки домыслила. Думаю, не сильно ошиблась.
Разбухла община та счастливая, словно гнойник, – тут идиллии конец настал. Голод начался; кто-то заразу занес (сифилис, догадалась я); людишки давай святыни, надежд не оправдавшие, всячески осквернять, а потом и до междоусобицы дошло. Резня была, наверное, жуткая. Голубоглазая об этом и говорить не смогла; затряслась, будто лихоманка ее била. Ну, я давить не стала. «Что дальше было?» – спрашиваю.
Мужик, которого я гнить под открытым небом бросила, собрал сирот уцелевших, ворота тайком открыл и на автобусе всех вывез. Получается, выхода у него другого не было, вынужденная мера. И никакой он не лопух, а человек, на безнадегу наплевавший и жизнь не напрасно отдавший. Не знаю, решилась бы я вот так – без единого патрона, с полным кузовом малышни… Пожалела я даже, что не удалось с парнем тем словом переброситься. Отчего-то живыми мне все больше подонки попадаются.
Но почему малолетки так равнодушно приняли его смерть? Этого я в толк взять не могла и напрямик голубоглазую спросила, было ли ей наставника своего жалко, когда того замочили. Она насупилась и плечиками пожала.
– Боялась ты его, что ли?
– Он был строгим папой… – пробурчала девчонка, потупив взгляд. И больше на эту тему ни слова. Черт побери, каким же строгим надо быть, чтоб над твоим трупом слезу не пустили даже те, кого ты от верной гибели спасал?!
А еще я призадумалась, не будет ли со мной, как с монастырем тем, – я ведь тоже слабость проявила, слишком много на себя взяла. Не лопни теперь, пузырь дутый!…
Надолго мы замолчали. Я о своем мечтала, а голубоглазая быстро разговор наш забыла. Если бы я умела так легко забывать!…
8. ОН
Проснувшись от рези в глазах, я ощутил горячие следы этого дьявольского солнца на своих веках. Оно било прямо сквозь огромные прорехи в когда-то застекленной стене цеха. Зажмурившись, я порылся в рюкзаке и нащупал самый ценный для меня предмет на ближайшую пару суток – очки с закопченными стеклами. Напялив их на переносицу, я убедился, что даже самый яркий день очки превратят в сумерки. Наступало мое время. Время ночника.
Как я и предполагал, бродяги не спешили разбегаться. Стадный животный инстинкт заставлял их держаться вместе, но, к сожалению, у них были еще и вполне человеческие мозги. Ну, насчет шлюшонки понятно – у той все помыслы лишь о том, как уберечь детеныша и самой не сдохнуть при родах. Ох, детка, если бы ты доверилась мне, я доказал бы, что могу быть самым нежным и заботливым акушером и даже любящим папочкой – до тех пор, пока ты не выкормишь моего «сменщика».
А что? Может, и вправду прикинуться дневным олухом, сказаться знахарем – ведь я кое-что умею? Во всяком случае, от гриппа девка не сдохла бы, это уж точно!
Я повертел заманчивую мыслишку так-этак и отбросил на помойку, где валялись многие на первый взгляд гениальные проекты. Меня – с моей-то рожей! – девка раскусит через пять секунд. Сразу же видно – пуганая стерва. Пальца в рот не клади. Палец отгрызет, да еще ядом в рожу плюнет. И заразит чем-нибудь.
Я решил действовать медленно, но верно, скрываясь там, где я чувствовал себя комфортнее всего, – в тени. То есть на своей территории.
Мышка, честно отстоявшая предутреннюю вахту, на этот раз не стала завтраком для Барина. Увы! Вряд ли когда-нибудь сыщется полноценная замена моему котику. Я отпустил зверька, и он мигом юркнул в какую-то щель. Тяжело вздохнув по потерянному другу, я выбрался из комнатушки, приютившей меня на ночь. Искренне надеюсь, что больше не придется сюда вернуться. Поганое место. Слишком много металла и бетона – так много, что я не ощущал сырости, исходящей от глубинных слоев земли, запаха перегноя, квинтэссенции спрессованного миллионнолетнего праха. Может быть, потому и Барин погиб так бездарно… Но прочь сожаления! Впереди меня ждал сочный кусок плоти и самой жизни; надо только суметь укусить его и переварить с пользой.
Я предпочел лично следить за бродягами, чтобы выяснить новый расклад сил. Для этого мне пришлось подобраться поближе. Вскарабкавшись на ферму мостового крана, я мог видеть, как они копошатся внизу, и в то же время с моей позиции просматривался изрядный кусок прилегающей к цеху территории, заваленной всяким дерьмом и проржавевшим хламом. Тут были спрятаны три мотоцикла и сложенные палатки, а среди контейнеров стоял дурацкий автобус этой шлюхи.
Бродяги собирались в дорогу неохотно. Чувствовалось, что в отличие от меня им тут понравилось. Почему бы и нет? – ведь было сытно, весело, безопасно и надежно. Думаю, у каждого из них такие ночи случались очень редко. Так какого же дьявола они бросали все, включая друг друга, и отправлялись в путь, за каждым поворотом которого ждала могила?
Вот этого я не мог понять, сколько ни пытался. Если б не гнала крайняя нужда, я сидел бы тихо и не дергался. У меня была цель – продержаться как можно дольше. Кажется, у дневных другое правило в жизни: полезай хоть в пекло – лишь бы не скучать!… Ладно, крошка, со мной тебе скучать не придется…
Самый молодой из бродяг помог девахе дотарабанить ее мешок до автобуса. Тяжелый мешок – должно быть, запаслась основательно. Я с удовлетворением увидел, что грубая рожа дульца исполосована багровыми следами когтей. Значит, именно этот ублюдок прикончил Барина. Отметины останутся надолго, если не навсегда. Я пристально наблюдал за ним. Вдруг сопляк увяжется за девкой? Тогда моя «работа» значительно усложнится. Но тем приятнее будет сделать ее.
На всякий случай я запоминал бродягу при дневном свете – лицо, фигуру, повадки, движения. Возможно, нам доведется встретиться снова лишь через много-много лет. Он выглядел достаточно ловким и быстрым, чтобы не сдохнуть раньше срока. А я должен буду узнать врага, как бы сильно тот ни изменился (и как бы сильно ни изменился я сам). Борода, шрам, протез – ничто не убережет его от моего глаза. Его дни были сочтены, сколько бы их ни осталось. Я не нарушаю клятв, иначе Черная Масья давно покарала бы меня за пустословие…
К моему огорчению, парень и девка дружески попрощались. По-бродяжьи – молниеносный переброс пальцев («ногти в вены») при рукопожатии, а затем он похлопал ее по выпирающему животу и приложился к нему губами.
До боли знакомый обычай – четырехкратный поцелуй «крестом». Воспоминание из другой жизни, подвернувшееся так некстати. Каково это – помнить двух матерей? А сколько их было на самом деле?…
Я следил за парочкой не мигая. Он оказал ей почтение. Ничего не скажешь, эта баба действительно заслуживала уважения. И я уважал ее. Но все равно убью, когда придет время.
Четверо бродяг отвалили на двух мотоциклах, а третью тарахтелку оседлал самый пожилой из всех – тот, что бренчал на гитаре. Гриф инструмента торчал у него за спиной, будто ствол или древко без флага.
Бродяга и его гитара… Оба были уже слишком старыми для дороги. Легкая добыча, удобрение для нового поколения. Деду явно пора на покой, а гитаре хватит мокнуть под дождем и трескаться под солнцем. Еще немного – и бродяга сломается первым. Самое время прибиться к караванщикам или торговцам и доживать свой век в относительной безопасности.
Кажется, девке пришло в голову то же самое. Она медлила, наблюдая за стариком. Даже на приличном расстоянии я без труда поставил ему диагноз. У него была болезнь, которую среди наших называли «тяжелые кости». Мне знакома эта боль, эта скованность, эти камни, тянущие на дно, эта невидимая резиновая стена, непрерывно растущая со всех сторон и мешающая свободно двигаться…
Но у меня было лекарство – облегчавшее жизнь до поры до времени. У него лекарства не было и быть не могло. А скоро перестанут гнуться пальцы, и тогда, дедуля, можешь засунуть свою гитару себе в задницу. Однако еще раньше тебя пристрелит какой-нибудь молокосос с микроскопическими мозгами, желудком вместо сердца и молниеносными рефлексами – молокосос, выбравшийся на большую дорогу в поисках «свободы» и «кайфа».
Таков обычный конец не изменивших себе бродяг, и, что самое смешное, они знают это с самого начала. Наверное, потому и в песнях ихних столько ничем не разбавленной тоски…
Девка окликнула старика и потом принялась что-то ему втолковывать, показывая то на автобус, то на свое пузо. Может, бабьим инстинктом уловила, что упирать надо не на старость, а на жалость. Только дед попался неподатливый. Знаю я такой типаж, этих кретинов-самоубийц, будто вырезанных из столетнего дуба. Снаружи – корявая кора; внутри – мертвое дерево, которое не гниет со временем, а превращается в камень…
Он выслушал молодуху, ухмыльнулся себе в бороду и покачал головой. Дескать, не по пути нам с тобой, дочка. Вот это верно. Одобряю. Вали, дедушка, подальше – у тебя впереди ох какие проблемы, – но девочку оставь мне. Я сам за нею пригляжу, поухаживаю…
Напоследок и он перекрестил ее брюхо – благословил, получается, однако целовать не стал, – а я беззвучно расхохотался, сидя на верхотуре. Ты ж сам, дурачок, пел ночью: «не спасут от ночника два серебряных креста…» Зачем же теперь совершаешь лишние телодвижения? Неужели только за тем, чтоб эту бабу приободрить и подготовить к худшему?
Затянул дед свой вещмешок, завел тарахтелку и запрыгал прочь по ухабам. Он уже скрылся из виду, и сизый дымок выхлопа развеялся, а девка все на том же месте стояла и внимательно оглядывалась по сторонам. Отяжелела до крайности – вот-вот сынок наружу запросится, – однако тело напряжено, руки на пушках; в любой момент ко всему готова – хоть стрелять, хоть бежать, хоть падать мордой в пыль.
Не иначе, почуяла неладное. Мое присутствие то есть… Я ей еще один балл по шкале ценности добавил. Будущая мамуля нравилась мне все больше. Не знаю, кто там ее обрюхатил, но по материнской линии просматривалась славная наследственность.
Заметить меня она не могла (я же все-таки ночник!), но смотрела прямо в мою сторону, будто увидала тень скрытой угрозы. Лицо скорбное, губы сжаты, в глазах мечутся плененные черти. Да, непростой клиент на этот раз мне попался…
Наконец она поняла, что ни черта не высмотрит, забралась в свой автобус, и начала железка со двора выбираться. Я заторопился вниз, чтоб успеть приготовить собственный транспорт. Он был надежно припрятан и хорошо замаскирован – даже ушлые бродяги ничего не заметили, когда устраивали себе ночлег. В моем деле маскировка – это половина успеха. А теперь от дохляка зависела другая половина.
Дохляком я зову его отнюдь не за слабосильность. Наоборот, он не ведает усталости; другим неприятностям тоже не подвержен, и при этом даст фору любой тачке. Просто от него… как бы помягче выразиться… попахивает немного, вот. Вторая неделя пошла уже, как я его на ноги поставил, и, думаю, суток пять он еще побегает. Пока мослы отваливаться не начнут.
В общем, я спустился в пакгауз, к которому от самых заводских ворот вела пара рельсовых путей. Тут была устроена угольная яма и, соответственно, темень стояла, как в утробе у крота. Я даже очечки свои снял. Присмотрелся – мои обереги лежат нетронутыми. Конечно – кто ж в такую дыру без крайней надобности сунется?
Чирикнул я словечко тайное; глядь – зашевелилась в углу угольная куча, и начал с растущего горба осыпаться антрацит. Дохляк мой сперва на колени встал, а затем и утвердился на всех четырех копытах.
Такой урод, что с непривычки и с перепугу помереть можно! Глаза гнойной пленкой затянуты, но они ему и без пользы – он моими гляделками теперь «смотрит». Шкура кое-где лохмотьями обвисает; от гривы и хвоста только отдельные волосины остались; губы отвалились, и оттого усмехается дохляк постоянно – страшнее, чем сама Костлявая.
Но мне он нравится. Пить, жрать не просит; не дышит даже; где поставишь, там и стоит без единого движения; где положишь с вечера, там с утра и найдешь. Удобнее транспорта, чем дохляки, я не знаю, хотя с малолетства множество железных тарахтелок и живых лошадок в моих руках перебывало. А насчет разной заразы трупной я не опасаюсь – не берет она ночников, зараза эта. К запаху мы тем более привычные…
Позвал я его на свет и убедился в том, что скотинка еще послужит. Приторочил к седлу мешок со жратвой и оружие, взгромоздился на дохляка и пустил галопом. Девка успела тем временем выбраться за ворота и погнала автобус по северной трассе. Я дохляка направил следом за нею и раздраконил до крейсерской скорости, а это побыстрее иного рысака будет. На плохой дороге его преимущества становились еще ощутимее. Все потому, что он уже не был организмом, а скорее механизмом, работающим на особом «топливе». За рецепт этого зелья один торговец мне когда-то два своих дома со всем содержимым предлагал, да только я не взял. Дом – он ведь сегодня есть, а завтра его пришлый народец спалит. Дохляков же всегда на земле в достатке будет. Возобновляемое сырье…
9. ОНА
На следующую ночь в заброшенной церкви устроились. Вначале я удивилась, что и эта роскошная жилплощадь пустует, а затем дошло до меня: чем дальше еду, тем глубже в особо опасные места забираюсь, в самый что ни на есть рассадник террора. Не без причины, видно, исход случился – народец-то ищет, где поспокойнее. Не все ж готовы жертвовать имуществом и здоровьем ради цели призрачной. Может, и мне вернуться надо было бы, но не такая я, чтоб с пути выбранного сворачивать. Пру без оглядки – на том и шишки себе наживаю…
Сгорела, должно быть, церквушка давным-давно, а позже в ней бродяги много раз стоянки устраивали, костры разводили, оборону держали. Кто не без таланта, тот искусством занимался, своеобразным творчеством. В результате все стены в копоти, следами от пуль испещрены, словечками и рисунками похабными разукрашены поверх росписи первоначальной. Уже и не разберешь, что там было намалевано. Только под самым сводчатым потолком остались очертания каких-то крылатых мужичков. Порхают себе в вышине и больше на привидения дурацкие смахивают, чем на небесных жителей.
А посередине зала торчит алтарь каменный для жертвоприношений. Я уже такие видала, но в церкви – ни разу. Вся эта глыба была когда-то кровью обильно полита; кое-где до сих пор коричневые прожилки остались. Не все водой дождевой и снегом талым смыто… По углам косточки белеют, паутиной слегка задрапированные; на полу знаки уродливые углем выведены.
Завела я детишек в это место сумрачное; гляжу – нехорошо им стало. Особенно когда у летучих мышей на колокольне активная житуха началась, с полетами и шорохами.
– Спокойно, детки! – говорю. – Не тех боитесь. Никого из двуногих тут нету, я проверила.
Все равно они от меня ни на шаг не отступают. Чувствую – не мышиная возня их пугает, а что-то другое. Самой тоже не по себе, но не более чем всегда в незнакомом месте. Отлить наружу вышла; все-таки церковь, а не сарай – уважение имею, хоть и без веры произрастала. И малолетки гуськом за мной, след в след – как научила. Даже неудобно при них нужду справлять…
Вернулась в помещение, села у стены, заснуть не могу. И они не спят. Ночь выдалась безлунная и беззвездная; темнота – хоть глаз выколи. Свечка сгорела еще до полумеркоти. Вскоре началось такое, что я надолго ту ночевку запомнила, а пискуны, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Даже под кайфом со мной подобного не случалось, когда, бывало, на «измене» заторчишь. Думала, я заснула незаметно, и так же незаметно кошмарик подкрался. Но шутка в том заключается, что если в самом страшном месте не проснулся – значит, явь это. Не повезло.
Вот и нам не повезло. Нет, видать, в этой земле покоя!… Выскочили мы из церкви, словно ошпаренные – детишки впереди, я следом. Удивляюсь, как во тьме кромешной никто не расшибся. Не иначе, инстинкт дорогу указал. Детишки орут, а меня озноб бьет. В одежду мою ручонки детские вцепились, крепко-накрепко держатся, будто я им – круг спасательный или деревяшка в бурном потоке.
А во что бы мне самой вцепиться, где защиту найти?! И, главное, от автомата пользы не больше, чем от трухлявой палки. В кого палить будешь, когда тебя, для примеру, из-под земли голосом незабвенного папашки окликают?! А тут еще эти, неупокоенные, без вины на алтаре зарезанные, проклятия шепчут, стонами замогильными уши сверлят. Черной злобой все вокруг пропитано до такой степени, что я задыхаться начала. Будто черви скользкие в ноздри и в рот вползают, клубками свиваются. Чуть себе глотку ногтями не разодрала!
Потом мухи мне лицо облепили сплошным шевелящимся слоем. Ладонями их, липких, ощущала и хруст омерзительный слышала. Впору было поверить, что мордашка моя симпатичная бугорками покрылась и трещинами, а сквозь трещины насекомые наружу выбираются. В паху жуки копошатся, кожу под рубашкой лягушки мокрыми лапками ласкают, крысы дыры в сапогах прогрызают…
В какой-то момент поняла я, что нету, скорее всего, ни мух, ни червей, ни крыс, ни голосов подземных, а вот мозги мои пошаливают; сила непостижимая меня в «крейзу» превратить хочет. Ох, только не это! «Крейза» – как собака бешеная; много беды наделает, прежде чем ее грохнут. А грохнуть ее трудно. Она боли не чувствует и убивать будет, пока хоть один палец шевелится… Я знаю, о чем говорю. Встречаться с такими кадрами приходилось – еле ноги унесла.
Потому мне вдвойне страшно было – от декора наружного и от того, что в башке моей творилось. Хотя различить первое и второе почти невозможно. Сколько ни пыжилась, не сумела морок преодолеть. Один выход остался – смыться. Ну я и дернула из последних сил, по пути прорываясь сквозь сети паутины, невесть откуда падавшие. Не представляю даже, как мальцы проскользнули…
Нет, хватит с меня этих местных «гостиниц»! Уж лучше я в автобусе, на холодном металле до утра ворочаться буду, чем на камнях говорящих. И выводок мой был того же мнения. В салон ребятишки набились и только тогда чуть успокоились. Но все равно – какой теперь сон! Если бы не темень непроглядная, уехала бы я в ту же минуту. Ей-богу, рискнула бы, несмотря ни на что, – лишь бы подальше от проклятой церкви оказаться.
И потому, едва на востоке сереть начало и в двух шагах земля различимой стала, завела я движок и прочь устремилась с чрезвычайной поспешностью.
10. ОН
Езда получалась жестковатой, однако ради неотложного дела я стерпел бы и худшие неудобства. Вскоре на горизонте ржавой коробочкой замаячил автобус. Я решил сохранять предельную дистанцию и чуток придержал дохляка, чтоб ненароком не спугнуть бабу. Несколько часов держался за нею – думал, отвалится моя костлявая задница! Чувствовал себя преотвратно – впервые в жизни (в ЭТОЙ жизни!) катался под солнышком. Бр-р-р! Кожа на открытых участках отчаянно зудела, и пришлось натянуть на руки тонкие кожаные перчатки, но даже после этого зуд не унялся, а омерзительное ощущение щекочущего жара проникло вглубь, до самых костей. Физиономию я завесил платком и низко надвинул широкополую шляпу; таким образом, незащищенными остались только уши.
Я молил Масью, чтоб набежали тучи: на этом дьявольском солнце дохляк стал попахивать сильнее, чем обычно. Очки прилегали не совсем плотно, и отдельные лучики жалили, как осы. Яркий дневной свет проникал повсюду, от него не было спасения. К полудню я чувствовал себя слизняком, изъятым из сырого, темного лежбища под трухлявым пнем и брошенным на раскаленную сковородку. А на обряд дождя, как назло, не было времени.
Но цель оправдывала все – и мои нынешние мучения, и предстоящие мучения тех, кто попадется мне на пути и попытается мешать. Сцепив зубы и вытирая слезящиеся глаза, я преследовал автобус и одновременно поглядывал назад, чтобы уберечь девку от любых неожиданностей.
Определять время по солнцу – примерно то же самое, что по луне. Не думаю, что я ошибался больше чем на час. Примерно в три пополудни девка, очевидно, притомилась и решила передохнуть. И куда она пробирается с таким упорством, черт бы ее драл? Места повсюду гиблые, однако север, по чужим рассказам, – просто пустыня. Лихих людишек там совсем мало, но зато и жратвы днем с огнем не сыщешь, а также всего остального – оружия, одежды, бензина, патронов. Конечно, бабе на какое-то время понадобится уединение; с другой стороны, подыхать от голода ничуть не лучше, чем от пули. Скорее наоборот – дольше и мучительнее…
Однако молодуха, похоже, запаслась всем необходимым. Этот бабий здравый смысл немного смешил меня – обычно они не видят дальше собственного носа. Зато, надо отдать должное, под носом у них всегда все в порядке – ни соплей, ни прыщей, ни прочей грязи.
Моя подопечная подыскала местечко для привала, и я одобрил ее выбор – густой лесок над излучиной дороги, откуда хорошо просматривались окрестность и разбитая трасса в обоих направлениях. Растительность наступала, поглощая колею; было ясно, что здесь давно никто не ездил.
Дохляку пришлось свернуть с дороги и сделать изрядный крюк, чтоб подобраться незамеченным со стороны леса. Но я все равно поостерегся приближаться к девке – та сохраняла еще достаточно сил, чтобы застрелить незваного гостя. Остановился в чаще и начал искать «связника». Надыбал поодаль парочку косуль и молодого хряка. Эти не годились из-за своих крупных размеров. Кроме того, брюхатая, пожалуй, была бы не прочь отведать свежего мясца. Норные зверьки слишком тихоходные, и я – никуда не денешься! – зацепил первую попавшуюся птицу.
После этого я получил возможность, ничем не рискуя, наблюдать за брюхатой с расстояния всего нескольких метров. Пичуга сидела на дереве прямо над нею, почти полностью скрытая листвой. Девка начала подкрепляться, и я, находясь за пару миль от нее, тоже решил плотно перекусить.
Жратва, которую я достал из мешка, выглядела при дневном свете не слишком аппетитно, зато в ее питательности и пользе я не сомневался. Периодически «приглядывал» за девкой. Та жевала вяло – не потому, что хотела есть, а потому, что надо было восстанавливать силы. Ничего, милашка, после близкого знакомства со мной я гарантирую тебе отменный аппетит и обилие молока в обоих твоих бурдюках!…
А вот с пушками она не расставалась ни на секунду. Это начинало меня беспокоить – самую малость. Я рассчитывал в нужный момент оказаться рядом, даже если баба не потеряет сознания. Но теперь опасался, как бы эта упрямая сучка не сдохла раньше времени!
Ладно, не надо забегать вперед, учила меня Масья. Чему быть, того не миновать; а что минует, тому и не бывать. Это правило номер восемь. Всего же правил около тридцати. Половину из них я сочинил сам. Чтобы с чистой совестью нарушать.
Я набил желудок под завязку – теперь жрать не захочется до самой ночи. Нахлебался воды из ручья, протекавшего неподалеку, и немного вздремнул в тени неподвижно торчавшего дохляка. Затем наблюдал, как баба справляет нужду. Для нее это было сейчас нелегким упражнением. Казалось бы, вот когда можно застать ее врасплох. Ан нет, черта с два! Она ни на миг не теряла бдительности. Лично я не рискнул бы своей шкурой, пытаясь напасть сзади.
Так что пока пришлось довольствоваться лишь созерцанием ее ягодиц, на одной из которых был вытатуирован огромный скорпион. Классный скорпион; сразу видно – работа мастера. Да и вся натура целиком, признаться, впечатляла. Если б только не этот загар, вызывавший у меня острую брезгливость! В нем было что-то грязновато-болезненное…
Я поймал себя на том, что чуть ли не впервые подумал о девке как о вероятном объекте удовлетворения. И содрогнулся от отвращения. Нет уж, я предпочитаю наших самок – с белой кожей, под которой видна каждая прожилка, с бескровными плоскими лицами и огромными глазами без белков. Жаль только, что попадаются они мне чрезвычайно редко…
11. ОНА
Полдня ехала не останавливаясь. Рельеф – как телеса шлюхи откормленной, сплошные приятные округлости. То вверх, то вниз катим, будто на качелях. Но вот жестянка взобралась на очередной холм, и я смачно выругалась. Город лежал впереди, а на кой мне город?! На открытой местности еще можно затеряться, но в городе у одиночки шансов ноль. Привезла я малолеток в самую что ни на есть смердящую клоаку. Хорошо, если сразу убьют, а то ведь еще и надругаются сначала… Точно знаю: в городе худшее отребье собирается. То самое зверье, которое вроде бы ниоткуда. Подонки из подонков. Тянет их сюда; здесь им проще, в стае волчьей и по законам стайным жить. Прах к праху отходит, а дерьмо к дерьму липнет…
Этот орешек был мне не по зубам, и я решила его объехать. Однако на то, что я решила, судьбе наплевать. Она, судьба, все по-своему завертела. И, видать, было мне на роду написано то, что потом случилось.
Я никого своим базаром утомлять не хочу, сопли по стеклу развозить; ненавижу всю эту хрень, которой полно в черной книжке: как звали папашку, и папашку папашки, и папашку папашки папашки; где они жили, чем занимались и какие понты Богу выкатывали. Скучно это и даже мне не интересно. Потому дальше постараюсь излагать покороче. А с Ванечкой все-таки свиделись – про встречу, такую для меня желанную, умолчать не могу.
Случилось это на третьи сутки после того, как мы город миновали. Миновали, да не совсем. Напали на нас ублюдки уличные – целая банда на мотоциклах. Хорошо, хоть не засада то была, а так – непредвиденные обстоятельства. Они из рейда возвращались, награбленным барахлом отягощенные. Только это нас и спасло. Двоих сразу, в лоб протаранила; пока остальные тарахтелки свои разворачивали, проскочила. Потом, когда догоняли, конечно, туговато пришлось, однако автобус надежней оказался, чем я сперва думала.
Еще троих завалила, но байкеры настырные попались; на хвост сели и несколько часов не слазили. Ждали, пока у меня бензин кончится. Не дождались. А я неведомого умельца благодарила за то, что в автобусе дополнительный бак установил…
Потеряли шакалы терпение и попытались меня обойти. Тут бы мне напарница не помешала – спокойно бы их перещелкала. Но разве соплячка с автоматом управится? Ее ж отдачей в окно вышвырнет! Пришлось самой корячиться, работу кровавую делать. Ни на что уже не надеялась; потому, наверное, и уцелела. Пара свежих царапин – не в счет.
Снова чудом отбилась, жестянку из-под обстрела увела и детишек всех сберегла, только голубоглазой мякоть на попке прострелили. Ничего, заживет. Рана пустяковая, однако сидеть подруге моей боевой трудновато было. Она даже гордилась тем, что подранили ее. Вбила себе в башку, что теперь на меня похожа; все спрашивала, останется шрам или нет. Мои она увидела, когда в речке искупаться довелось, пыль и вшей с себя смыть. Корма у меня, правда, целая, если не обращать внимания на скорпиона татуированного. Девка пристала ко мне: что это, мол, у тебя, мамулька? Я уж не стала ей рассказывать, как некоторые мужики на «татту» западают. Ванька, помню, аж зубами, сучонок, впивался… О чем это я?
Ах да, насчет очередного приключения, которые меня утомлять начали… От города отъехала, очухалась, шкуру поврежденную слегка подлечила, и наступило самое время итоги подбить. Неутешительные. Жратвы – с гулькин хер осталось; патронов – четыре штуки; бензина в баке на полпальца плещется. Как ни крути, а надо было на охоту отправляться. Ненавижу я это дело – сама навроде зверя становишься, в бандюгу превращаешься, – но выход-то какой? Окромя работорговцев, меняться никто не хочет; чуть что – сразу стволы вынимают. Не успеешь подойти и окликнуть, как дыркой в башке наградят.
Для нас, бродяг, самый лакомый кусок – семейства оседлые. Те, которые объединяться не хотят, думают, что сами перебьются. Собственники гребаные. В земельке потихоньку ковыряются, брошенные домишки обживают, скотинку прикармливают. При малейшей опасности детенышей в подвал или в лес прячут, а сами запираются, оборону круговую занимают и свои смешные пукалки наружу выставляют. Редко, когда приличное оружие у них увидишь. Эх, души земляные…
На таких я и набрела вскоре. Убивать не стала, честное слово. Как в дом проникла, рассказывать не буду. Вам это знать ни к чему. Мужику, прыти от меня не ожидавшему, промеж ног сапогом двинула, чтоб не рыпался, а бабе его пощечин надавала. Даже ружьишки их хреновые не взяла – из такого дерьма и курицу не завалишь.
Потом предложила по-хорошему договориться. Мужичонка слабосильный злобно из угла зыркал, хозяйство свое жалкое, ушибленное, потирал, но что ему делать, кроме как соглашаться? Он же не знал, что у меня всего четыре патрона и на него хоть один истратить было бы непозволительной роскошью. Короче, договорились мы. Считай, по-хорошему.
Набрала я у них копченой собачатины и воды из колодца, заставила припрятанную бочку с бензином из землянки выкатить и в автобус погрузить. Ага, еще кусок «денима», который у них заместо рядюги на полу валялся, забрала, чтоб при случае голубоглазой джинсы сварганить. Если, конечно, та со мной останется. А пока рядом другие малолетки, любимчиков заводить не буду…
Семейству оседлому на прощание посоветовала к таким же, как они, прибиться. Вместе и жратву добывать, и оборону держать легче – от таких, как я. Стало быть, советом, стерва, расплатилась. Это немало. Доброе слово в наше время дорогого стоит. Иной бродяга их просто порешил бы, на сопротивление нарвавшись.
На неделю провиантом запаслась, однако патроны меня куда больше интересовали. Пришлось засаду устраивать. Выбрала удобное место, автобус в ближайший лесок закатила, детишек покормила, а сама несколько часов на повороте провалялась, пока шум мотора не услышала.
Легковая тачка перла. Одна. То, что надо. Поворот крутой, поэтому тачка притормозит неизбежно. Позиция у меня была прекрасная. Но что-то со мной непонятное творилось – мягкотелость какая-то наступила. Старческий маразм, наверное. Преждевременный. Чувствую: не могу водителя убить. Не могу – и все! Представила себя на его месте. А если тем более там парочка вроде меня и Ваньки или еще почище – меня и голубоглазой? Они ж тоже счастье свое маленькое, призрачное ищут и от ублюдков всяких спасаются! А я, выходит, шанса этого их лишаю и жизни заодно. Значит, сама от ублюдков ничем не отличаюсь. Однако же мир так устроен: или я, или они. Ненавижу эту житуху, ненавижу!…
В общем, совсем я раскисла. Тачку рассмотрела – классная тачка, мощная, быстроходная, металлом обвешанная; только гранатой и возьмешь. К дверцам, капоту и крыльям шипы приварены; спереди понтовый знак торчит – добела выскобленный собачий череп. Колес почти не видать, рожи водительской тоже – только щель спереди шириной с мою ладонь. Может, я в щель эту и попала бы – расстояние было подходящее, а на повороте тачка еле ползла, – однако подержала я палец на спуске и ствол опустила. Выходит, не довезешь ты детишек до места назначения, медуза бесхребетная. Вот так-то, мамаша-героиня!…
Едем дальше. Мотор вот-вот заглохнет. На спусках иду накатом, чтоб хоть каплю бензина сберечь. Верчу баранку и матерюсь. Голубоглазая слушает внимательно, лексикон свой чистоплюйский расширяет.
Что теперь делать, а? Патроны с неба не упадут, это ясно. Рано или поздно выбирать все ж таки придется – добренькой остаться или живой. Ну и проблемы у тебя появились, старушка!…
Встал мотор. Скрепя сердце крышку с бочки отковырнула и бак залила. Полный бак, под завязку. Так, чтоб хоть костер славный получился, если кто, не такой совестливый, в меня из засады пальнет! Злюсь на себя, аж укусить хочется.
И тут вижу – поперек дороги толстенное бревно лежит. Тачка, которую я пропустила, пустая стоит, в бревно капотом уткнувшись. Двери распахнуты, внутри все кровью забрызгано – и тишина гробовая. Я сразу поняла: не повезло ребятам. Меня проскочили, а тут им и гоплык пришел. Мне бы сразу деру дать, но пока на тормоз давила, стало поздно.
Слева от дороги – частокол какой-то, горшками поверху утыканный.
Когда подъехала поближе, разобрала, что не горшки это, а человеческие головы. Еще сильнее смыться захотелось, но дорога узкая, по обе стороны – канавы, не развернешься. Заднюю передачу врубила, однако ни к чему уже это было. Обернулась – сзади на асфальт бульдозер выбирается. Где ж они, суки, его прятали? Должно быть, в яме замаскированной. Все, пропала ты, девка! Допрыгалась. На этот раз не уйдешь.
Встала я и жду. Бульдозер тоже встал, хотя мог запросто ковшиком наехать. А что ему – куда я теперь денусь? Не буду же до бесконечности в жестянке сидеть и от голода подыхать! Обидно до чертиков. От кукурузников и от бандитов городских ушла, а тут в такую примитивную ловушку угодила. А еще обиднее, что патронов мало. Четверых уложу, ну, может, перышком дадут помахать, хотя вряд ли…
Тут мужик на дорогу выходит – здоровенный такой, красномордый, с усами вислыми – и топает медленно к автобусу, в себе уверен, значит. Кажется, безоружный даже. Лесной брат, мать его! Встал перед мордой автобусной, большие пальцы в карманы засунул, с пяток на носки покачивается и говорит спокойненько:
– Ствол опусти, дура! У нас все твои головастики на прицеле и сама ты тоже, само собой. У меня к тебе конкретное предложение. Дважды повторять не буду. Спускайся и железки выкидывай!
Я смекнула: если сразу не замочили, значит, я им для чего-то нужна.
Для чего – понятно, но как бы этим воспользоваться?
– Ладно, – сказала я. – Только малолеток не трогайте! Тронете хоть одного – я себе вены перегрызу!
– Видали, какая блядь? – Мужик обернулся, обращаясь к кому-то, кого я из автобуса не видела. – Она еще условия ставит! Ты чего-то не поняла, узколобая! Спускайся, говорю, обслужишь меня. Если постараешься, поживешь еще немного. До завтра.
Спорить бесполезно. Вышла я из автобуса, автомат бросила и нож засапожный тоже. Голой себя сразу почувствовала. Голой и ничтожной. И даже будто кожу с меня содрали. Между ребер ветер сквозит и нутро беззащитное обдувает… А этот ублюдок здоровенный уже штаны расстегнул и ваньку-встаньку своего вынул.
– Слушай, – говорю я ему. – Может, не при детях, а?
– Заткнись, паскуда, – отвечает. – Пусть привыкают. Ты у них первой учительницей будешь, если, конечно, я их на жаркое не пущу.
Я секунду колебалась. До ножа всего два шага было. Может, и не успею этого борова проткнуть, но хотя бы себе глотку перережу. Или кореша его пусть меня растерзают…
Если бы я одна была, то наверняка так и сделала бы. Потому что унижение предстояло невиданное, нечеловеческое. Лучше сдохнуть. Но тогда и эти двенадцать сдохнут страшной смертью. А перед тем все самое худшее увидят. Ради чего же я их за собой тащила? Лучше бы уж в чистом поле бросила… Но если скота этого «обслужу», как сама жить дальше буду? Знала я точно, что пытка ждет меня ежесекундная и невыносимая. Не будет мне покоя ни днем ни ночью. Память проклятая доконает. Вдобавок черт меня дернул на частокол глянуть.
Узнала я головы ближайшие. Белые еще, совсем свеженькие. Слева – Ванечкина, а рядом – той бабищи, что меня кинула. Вот и свиделись. Глазенки ихние вороны выклевали, и очень уж был у обоих неприглядный вид. Выходит, поторопилась ты, толстуха, палец мне показывать. Самой тебе судьба палец показала… А ты, дурак, куда торопился? Значит, подвело тебя чутье твое знаменитое? Не знал ты, что тебя здесь ждет. Не свернул, не залег вовремя… Ну, не очень грустите, ребятки, скоро и моя черепушка рядом с вашими окажется, под солнышком забелеет. Прочим бродягам в назидание.
А под конец я голову голубоглазой отчего-то представила, на заостренный кол насаженную. Представила – и больше не колебалась. Подошла к мужику и опустилась перед ним на колени…
12. ОН
Должен заметить, моя новая подруга себя не щадила. Полежала полчасика под деревом и снова начала собираться в путь. Даже дурацким птичьим глазом я различал на ее лице следы усталости, накапливавшейся в течение многих месяцев. Сейчас, когда дело шло к развязке, это лицо было слегка обрюзгшим, помятым и серым. Оно хранило остатки подпорченной красоты, но, на мой вкус, красоты дикарской и грубой. Слишком мясистые губы, слишком выпуклая лепка скул и подбородка, слишком крупные зубы… Нет, однозначно не мой тип.
Я осознал, почему так пристально изучаю ее. Я пытался угадать, какими окажутся черты будущего пацаненка. МОИ черты. Но что можно понять, если детеныш, сидящий внутри, высосал из нее все соки? Хотел бы я быть похожим на мамашу? Вряд ли, – однако, как говорится, родителей (ха-ха!) не выбирают…
Девка залезла в автобус и вырулила на дорогу. Я снова взобрался на спину смердящего дохляка, и тот потрусил вслед, предоставив мне трястись, будто в лихоманке, и сыпать ругательствами. Спасибо, хоть палящий прожектор в небе слегка притух и начал падать к горизонту. Случись моя охота зимой или поздней осенью, все козыри были бы у меня на руках.
А впрочем, главные события еще впереди. Поглядим, что в прикупе. Неизвестно, куда девка меня за собой затянет, прежде чем наступит моя очередь определять направление. Я-то думал, что припрятал в рукаве туза и в любой момент могу его предъявить… Судя по всему, характерец у нее не подарок, а значит, тогда наверняка сгодится и ошейник, который я приготовил заранее. Это была вещица из тех, какими торговцы награждают своих невольников. Надежный сторож, добрая сталь – не всякая ножовка возьмет.
Смеркалось. Девка перла на север до тех пор, пока еще могла различить дорогу своими не слишком чувствительными гляделками. Хорошо, что автобусные фары были разбиты, а то у нее хватило б наглости свет врубить.
Рельеф быстро менялся – и не в лучшую сторону. Кажется, мы забрались в предгорье. Впереди, сквозь облачную дымку, проступал изломанный контур какого-то хребта. Эти места были обделены растительностью; нас окружали голые скалы.
Вряд ли будущая мамашка стремилась достичь перевала; скорее всего у нее здесь имелось укрытие. Эта шлюшка преподносила один приятный сюрприз за другим…
Дорога почти потерялась под оползнями и завалами. С обеих сторон вздымались крутые склоны. Даже дохляк с трудом продвигался вверх, лавируя между нагромождениями камней, – что ж тогда говорить об автобусе! Я очень быстро потерял жестянку из виду в извилистом ущелье, но слышал все время. Натужный рев движка раздавался совсем близко, отражался от каменных стен, возвращался многократным эхом. Девка не жалела ни себя, ни железа. Я придержал дохляка, чтобы она тоже ненароком не услыхала, как стучат его копыта.
Ну и местечко выбрала, мать ее так! Ни одной животины в пределах досягаемости, и даже с костром могут возникнуть проблемы. Автобусный движок был на пределе. Не настолько же брюхатая тупа, чтобы не понимать этого!
Неужели отчаянная сучка не собиралась возвращаться? А если даже и так, то как тут жить? И невольно возникал вопрос: что находилось по ту сторону хребта? Чертовски интересно. Скорых и внятных ответов не предвиделось. В такую дыру меня еще никогда не заносило…
Тишина обрушилась внезапно, будто гигантский кулак раздавил назойливо жужжавшую муху. По моим понятиям, сгустились глубокие сумерки, а для девки, наверное, наступил непроглядный мрак. Я остановил дохляка и снял очки.
Новолуние. Звезды были как сверкающие острия иголок; воздух чистый и лишенный большинства привычных запахов. Слишком сухо, везде камень. И все чужое – даже оттенок неба. Будь они прокляты, эти приключения!
Поскольку ни зверя, ни птицы под рукой не было, пришлось самому топать на разведку. Я затолкал дохляка крупом вперед в первую попавшуюся щель, взял пистолет и полез вверх, стараясь производить поменьше шума. Не хотелось бы заполучить от девки пару свинцовых бляшек в подарок, когда цель так близка.
Недолго крался я до того места, где, по всем расчетам, должна была заглохнуть чертова жестянка. Только ни жестянки, ни беременной не обнаружил. Аж нехорошо стало, будто кто сосулькой живот проткнул! Если б она в пропасть рухнула, я б хоть что-нибудь услыхал. Да и пропасти подходящей поблизости не было. Дальше по склону имелся узкий проход между скал – кишка, в которую автобусу никак не протиснуться.
Неужто обхитрила меня стерва?! Исчезла, как сквозь землю провалилась! Тут меня осенило. Сквозь землю! Это ж по моей части. Наследственный талант, от предков-диггеров доставшийся. Ну, хорошо. Один – ноль в твою пользу, зараза! Будем считать, что ты удачно пошутила.
13. ОНА
В общем, началось у нас что-то навроде сказок этой самой, как ее… Херозадой. Знала четко: пока я эту гниду усатую по всякому ублажаю, он меня убивать не станет. Ну, таланты имею по этой части немалые, так что за себя я не очень боялась, а вот за деток… Кто разберет, что красномордому в следующую минуту в башку взбредет? Но, видать, сильно он по бабе изголодался, раз условия мои принял – конечно, до поры до времени. Чуть какая угроза детишкам – я сразу запястье грызть начинаю, и знает он тоже четко: если что, я и член его откусить могу. Потому выводок мой не трогали, а изредка даже кормили.
Жили мы в шалашиках, метров за триста от дороги. Краснорожего Павлом звали. Атаманом он был. Жестокая тварь, но сильная. Всех «лесных» в железном кулаке держал. Уважали его и боялись. Тот еще жлоб и самодур! Тачку захваченную в свой личный транспорт превратил; никому дотрагиваться до нее не давал. Костями и клыками украсил машинку – да так обильно, что стала она похожа на передвижное звериное кладбище. Кстати, в тачке той два паренька тщедушных ехали. Судя по одежке, из далеких краев. Наверное, ребятишки думали, что у нас тут вроде аттракциона с гонками и стрельбой. Так-то оно так – настреляешься и нагоняешься, – только если ошибешься, кишки тебе взаправду выпустят…
Да-а, ошиблись залетные. Крутыми себя возомнили. Захотелось острых ощущений. Вот и доставил им атаман «ощущения» – острее не придумаешь. Одного парня сразу застрелили, другого чуть позже забили до смерти, чему я сама невольным свидетелем была.
Меня Павло по нескольку раз в сутки домогался, а хозяйство у него тоже будто железное было. Неутомимое и нестираемое… Однажды я наглости набралась и спросила, чем же ему толстозадая так не угодила, что он тыкву ее на забор вывесил? А он заржал и говорит: «Ее напарничек порешил, как только моих братков увидал. Пришлось и его шпокнуть – за то, что удовольствия лишил».
Ну и ну, удивилась я. Ванечка-то, оказывается, на такие поступки способен был! Подружку от позора уберег и сам голову сложил! Да черт с ним, с Ванечкой, у меня теперь забота была посерьезнее. Двенадцать человечков мне являлись, когда я все-таки в сон проваливалась. Двенадцать – и никак не меньше. Мамочкой звали, помочь просили. В киселе каком-то жутком и мутном стояли по колено – не дотянуться до них, как ни старайся… А потом и вовсе в трясине этой тонули. «Спаси!» – кричали. И захлебывались… Я от тех звуков во сне с ума сходила. А наяву не лучше было. Не раз кончить себя хотела. Только человечки эти меня и удерживали…
Надолго застряли мы у лесных братьев – недели на три, которые мне тремя годами показались. Отряд небольшой был, но хорошо вооруженный. Ко мне Павло охранников приставил – старперов унылых, которых охмурять бесполезно. Я их бдительность старательно усыпляла, ждала удобного случая, чтобы сбежать, да не одна, а с клопами сопливыми. Понимала, что вряд ли случай такой представится и заплатить за свободу дорого придется.
Однако выдался день, когда почти вся банда в рейд свалила, даже старперы мои. Видать, никто по дороге той больше не ездил, опасная дорога стала, непроезжая. Добычи долго не было… Остались в лагере только Павло, старуха – мать его, которая была за повариху, – да пара ближайших собутыльников. Сволочь он был натуральная – сам без нужды башку под пули не совал, а когда добро награбленное делили, себе львиную долю хапал. Но это дела чужие, а для меня главным было, что их всего трое. Старуха не в счет.
Дождалась я, пока они напились как следует и потянуло их на забаву. Павло пришел, развязал меня и в свой шалашик атаманский привел, где они групповухой и занялись. Бабка бесстыжая, как назло, вокруг да около ходила и злорадно на меня поглядывала: так тебе, мол, и надо, бродячая сучка, знай свое место! Я безучастную рожу делала и думала: если на сей раз не забеременею, будет это очередное чудо…
Наконец двое холуев спьяну под лавку попадали, остался один Павло на ногах. Здоровенный, черт; самогонкой такого не свалишь. Но бдительность он потерял. Тут нам и посчитаться времечко пришло. За все сразу.
Дальше было как в тумане. Помню, ножны под руку подвернулись, когда атаман меня на стол завалил, одежи с себя не снимая. Изловчилась я и ножик из ножен вытащила. Воткнула его Павлуше в шею, а он на меня вроде даже удивленно поглядел: дескать, что за комар меня там кусает?
Ждать не стала, пока он протрезвеет; ножик выдернула и по горлу полоснула. Открылся у скота еще один ротик – беззубый и безгубый, со страшненькой улыбочкой. Кровь оттуда мне прямо в рожу хлынула, я едва отодвинуться успела.
Навалился на меня кабан недорезанный всей немалой тяжестью, хрипит и заготовками дергает. Я из-под него выползти не могу, а он, сволочь, не издыхает и только зенками своими желтыми, выпученными, пялится. Тут и бабка на шум примчалась, как заверещит! Думала, она меня когтями своими раздерет, на ремни располосует.
Потом, слава богу, Павлуша куда-то вбок свалился, и я встать смогла. Старуху бешеную навеки успокоила и к мучителю своему обернулась. Хотела местью насладиться…
Он еще жил, сволочь, и кое-что даже понимал. Надеюсь, страдал от бессилия полного. Я ему член его поганый отрезала и дождалась, пока Павлуша на глазах у меня кровью истек. Сразу легче мне стало, как только он дух испустил, клянусь, легче! Теперь, может, и покой найду, и мозги мои, от воспоминаний пылающие, чуток поостынут…
На пьяненьких дружков я патронов не пожалела – пристрелила из ихних же пушек. Потом по шалашикам прошлась, выводок свой собрала. Всех двенадцать человечков, как во сне. Кто в погребе заперт был, кого в загоне вместе со скотиной держали, а кого и на цепь посадили. Несладкая в лагере житуха – некоторых даже на огородиках с коноплей нагибали. Худые стали, бледненькие, глаза тусклые, взгляды затравленные. Даже голубоглазая поникла. Ну ничего, маленькие, все позади. Мамочка за вами вернулась!
Думала, они мною брезговать станут – после того, что из автобуса наблюдали. Нет, рады до чертиков, вцепились в штанины, снова хнычут, снова руки целовать тянутся. Да-а, когда подрастут, такого отношения от них не дождешься. У нас, у взрослых, какая-то гадость в душе заводится, сорняками зарастает клумба наша внутренняя – да так, что и цветов вскоре не видать…
Жестянка моя, к счастью, в лагере осталась; для рейда автобус – штука слишком приметная. Залила я бак, жратвы в мешки насобирала, патроны все, что нашла, в железный ящик сложила и под водительское сиденье спрятала. Автомат свой, правда, не надыбала – кто-то из лесных с собой прихватил, – но на первое время сойдут и пистолеты. Бульдозер облила бензином и подпалила, тачку атаманскую тоже. Всем хороша была дикобразина стальная – вот только места в ней лишь для двоих, а никак не для тринадцати. Заодно и шалаши подожгла. Надеюсь, сгорело логово бандитское дотла!
Выехала на дорогу и полетела, как птица из клетки, припевая от радости. Ничто больше не имело значения, кроме того мгновения, когда я ощутила себя свободной…
Пустой карман – моя свобода, А тяжкий груз внутри несу. Мамаша, не гони урода! Скажи, где юсы[4], – я уйду…14. ОН
Я спустился вниз, на дно ущелья, и тут уж найти каверну не составило труда. Я ощущал подземные пустоты как раны под собственной кожей. А здесь пещера была такой огромной, что во мне будто образовалась водянка размером с дыню. К тому же удачно расположена, вход сверху прикрыт козырьком, со склонов не виден, а дорогу даже один человек может держать под прицелом и оборонять хоть целый месяц – лишь бы патронов хватило. Я был уверен, что ушлая девка и об этом позаботилась. Вдобавок ко всем имеющимся удобствам сюда доносился еле слышный шум горной речки.
Кто же поведал брюхатой про эту уютную норку? Может, тот старый пердун, который отказался от ее помощи? Она-то выглядела слишком молодой, чтобы самой успеть обзавестись надежными схронами. Оно ж ведь как: пока прыгаешь по жизни, молодой и здоровый, то мозгами насчет собственной старости и грядущей немощи не очень-то шевелишь. Вот и я когда-то дурня валял, пока не припекло…
Из осторожности я не стал сразу заходить в пещеру; достаточно того, что из нее перло горячим железом и бензиновым духом. Выходит, тут и будет моя вторая родина. Ночник-горец – это что-то новенькое! Своим расскажешь – со смеху подохнут.
В этот момент девка выскользнула из пещеры, и несмотря на громадное брюхо, двигалась плавно и бесшумно. Чуть не подловила меня на противоходе. Я замер, будто дохляк, и слился с мраком. Приняла меня тьма как родного, спрятала, поглотила. Баба прошла в двух шагах, но ничего не заметила. Мне нечасто приходится пользоваться этим приемом, однако он неизменно выручает ночника, когда не остается другого выхода…
Девка находилась так близко, что я чуял запах давно не мывшейся самки. У меня самого в эти мгновения не было даже запаха. Ничто не просачивалось наружу сквозь сомкнувшуюся вокруг тела раковину темноты.
Девка дошла до скалистого уступа и долго стояла на нем, глядя на дорогу и оставшуюся внизу долину. У меня была возможность спрятаться, но я предпочел наблюдать за нею. Я-то слишком хорошо понимал, каково это: знать, что рядом никого нет, и в то же время ощущать чужое присутствие. Подозрения явно не давали ей покоя, однако еще хуже, когда нет рациональных причин для тревоги. Тонкое это дело – заставить жертву барахтаться в трясине бессмыслицы и нарастающего страха. Тут важно не перегнуть палку. Но сейчас был другой случай.
Внезапно раздался долгий протяжный вой, от которого мороз продирал по коже. Совсем близко, может быть, рядом с тем местом, где я припарковал дохляка. Похоже на волка, но откуда, черт подери, здесь взялся волк?! Если с другой стороны хребта, из-за перевала, то кто послал его?
Это был хороший вопрос, не такой глупый, как могло показаться сперва. Интуиция нашептывала мне, что зверь появился не случайно. Сторож? Охотник? Во всяком разе, он был закрыт, надежно защищен, причем незнакомым мне способом. Работу ночника я узнал бы сразу же. Чтобы взломать эту защиту, надо потратить силы и время, которых у меня оставалось в обрез.
Было от чего прийти в замешательство. Когда зверь подал голос, девка даже не дернулась. Вероятно, ей было известно больше, чем мне. Я видел ее силуэт на фоне звезд. И, могу дать руку на отсечение, она смотрела на них и улыбалась. Да, вот именно об этом я всегда и мечтал: остаться один на один со свихнувшейся беременной бабой!
Меня же при одном взгляде вверх охватывало жгучее желание зарыться поглубже, чтоб не разлететься на куски и не забрызгать своим дерьмом эту жадную трясину. Когда я был еще ребенком и не мог заснуть, Масья часто повторяла то, чего я не понимал: «Время пожирает сны, сынок…» Я думал обмануть время, но как избежать бездонной пасти, разинутой вверху и грозящей поглотить меня целиком?…
Ну ладно, хватит этих соплей, а то еще захочется повыть на луну дуэтом с девкой – исполнить что-нибудь из ихнего бродяжьего репертуара. Я сопроводил ее обратно – аккуратно, не отделяясь от ее тени, хотя для нее было так темно, что она двигалась исключительно на ощупь. Бедняга! Иногда хотелось дунуть ей в самое ухо: «Куда прешь, курица слепая?!» Но я сдержался. Клиент и так дозревал на глазах.
15. ОНА
Не торопите меня, я почти закончила. Остается совсем немного. Думала, что с меня хватит, однако еще пару гадостей заглотила – по самое «не хочу». Словно меня нарочно испытывали, на прочность проверяли…
Однажды странного незнакомца встретила. На шоссе это было, в темный холодный полдень, под проливным дождем. Еду, кручу баранку, а детки мои от сырости дрожат, друг к дружке жмутся. Капли по крыше барабанят однообразно-усыпляюще, и у меня глаза слипаются. Пару раз чуть в кювете не оказалась…
Гляжу – фигура впереди, на обочине. Скособоченная какая-то и вроде зыбкая, будто отражение в струящейся воде. Потом фигура надвое развалилась и сразу перестала на чучело смахивать. Теперь горбун это был, урод скрюченный. Рядом с ним тварь четвероногая с поджатым хвостом крутилась. Я ее вначале за волка приняла. Ей-богу, похожа – все-таки волка от шавки отличить могу. А когда до них метров триста оставалось, зверь этот прочь метнулся и в дальних зарослях пропал.
Я внимание удвоила, жду неприятностей. Одной рукой за руль держусь, другой пушку вынимаю. Скорость увеличила, и дождь стал в кабину захлестывать. Сон сразу как рукой сняло от душа освежающего. И при этом знала, что скоро промокну до костей, но я и к худшему привыкла.
Подъехала ближе, и почудилось мне, что силуэт на краю дороги очертания изменил, хотя раньше я на зрение не жаловалась. Судя по широким плечам, мужик там стоял – не кривой и не горбатый, а лишь слегка сутулый. Оно и понятно в такую погоду. От носа до колен в черный плащ завернут, шляпа с рваными полями на глаза опущена, сапоги фраерские на высоких каблуках гладкой кожей поблескивают…
Давить или не давить – вот в чем вопрос. Поскольку я теперь совестливая стала и первой никого не обижаю, приготовилась к возможному нападению. По сторонам посмотрела – голое поле, спрятаться негде. Лес, в который волчара убежал, слишком далеко. В общем, засадой не пахло – у меня ведь к тому времени тоже нюх на такие вещи прорезался…
Тут незнакомец руку поднял и начал знаки подавать на бродяжьем тайном языке жестов. Подвезти просил. Это в корне меняло дело. Я вначале даже обрадовалась встрече с одним из наших. Конечно, от уловок подлых никто не застрахован, но как же мы, бродяги, выживем, если перестанем друг другу помогать, из беды выручать? Или подыхать будем по одиночке, всех и всего на свете опасаясь? Каждый за себя – хорошее правило, пока у тебя самого все в порядке. И разве я когда-то не ползла по зимней обледенелой дороге с последней самокруткой в зубах, тщетно пытаясь душу коченеющую табачным дымом согреть? Спасибо, бродяги подобрали, накормили, не дали замерзнуть, в колоду превратиться… И кто знает, как жизнь повернется, – а вдруг это и есть напарничек мой будущий, верный и надежный? Чем черт не шутит!
И все же я осторожность проявила. Мимо стоячего промчалась, грязью его обдала – он даже головой не повел, только руку опустил. С полкилометра отъехала, остановилась, выждала немного. Все было тихо. Фигура в черном по-прежнему неподвижно торчала на обочине. Покорность судьбе воплощала.
«Ладно, приятель, – думаю. – Сегодня у тебя удачный день». Возвратилась, рядом с ним притормозила. Он поднялся по ступенькам не спеша и с достоинством. В проходе встал и выпрямился во весь свой немалый рост.
С неприятным холодком в груди ждала, что вот сейчас и расплата за наивность последует – может, дробовик из-под плаща появится, а может, пуля снайперская издалека прилетит, мозги мои незрелые по кабине разбросает. Однако незнакомец всего лишь поля шляпы пальцем приподнял и вежливо сказал:
– Спасибо, подруга.
Приятный голос. И физиономия, можно сказать, красивая. Только уж очень бледная, будто восковая, и оттого губы ядовито-красными кажутся. Наверное, парень сроду от солнца прятался. А может, он из тех бродяг был, которых наши «ночниками» зовут. Это вид особый, не каждому по нраву. Темная у них вера, и обычаи жутковатые. В могилках ковыряются, с нетопырями и гадами управляться научились, контакт наладили, чтобы тех вместо себя в опасные места засылать, чужими глазами разведывать. Говорят, ночники в тяжелые времена и человечиной не брезгуют; кровь у них за лучшее вино считается… Но почему он тогда среди бела дня на дорогу выбрался? Что-то не вяжется…
Разглядывала я его с откровенным подозрением, однако много не высмотрела. Глаза непроницаемо-черные, ресницы густые и бархатные, как у бабы. Кожа чистая, без морщин. Улыбка будто приклеенная. Пальцы перстнями унизаны – стало быть, не боится парень грабежа, хоть и в одиночку пробирается. В общем, странный типчик – я же говорила! Скользкий и непонятный. Опасный и привлекательный одновременно. И запах, исходящий от него, я ноздрями поймала – то ли мясом горелым пахло, то ли паленой шерстью.
Он на пистолеты мои поглядел, улыбнулся и в шутку руки поднял.
– Я без оружия, – предупредил.
Так я тебе и поверила! А с другой стороны, на кой хрен ты мне тогда нужен, бродяга без оружия? У меня уже двенадцать безоружных на горбу сидят. Не хватало мне только бугая здорового защищать… Кстати, от рук его, мертвенно-бледных, холодом повеяло, будто они ледяными были. Поежилась я и пожалела, что подобрала этого пассажира. Вряд ли напарничка приобрела – скорее новую проблему. И что за талант такой у меня, прости, Господи, – себе на голову проблемы находить?
– Куда тебе? – спрашиваю.
– Туда, куда и тебе.
Что ж – решила я до конца неписанному бродяжьему закону следовать. Никто не ведает, где начало у дороги, а где конец. Случай сводит, случай разводит. Все в одном лабиринте бродим – слепые, голодные крысы. Потому я еще только один вопрос задала:
– Давно на дороге, маз[5]?
– Так давно, что тебе и не снилось.
Черт с тобой, думаю. Не хочешь трепаться – и не надо. Однако быстро твою вежливость дождем смыло! Имя твое мне знать ни к чему, а места в автобусе не жалко; когда захочешь, тогда и соскочишь.
Но не дотерпела я до этого момента; пришлось самой бледнолицего прогонять. Двое суток он мне нервишки трепал – при том, что со мною лично и десятком слов не обмолвился. Нет, я его не интересовала. Ни в каком смысле – немного обидно даже.
Он за детишек принялся. Всерьез.
Я что-то неладное почуяла, когда он начал подарки раздавать. Откуда подарки эти взялись, до сих пор не пойму. Он, как фокусник балаганный, их из-под плаща своего выуживал – то печенье хрустящее, то конфету, то куклу, то оловянного солдатика, то бутылку лимонада, то губную гармошку, то часики блестящие, то еще какую-нибудь дрянь. Но у детишек бедных глазки загорелись – они ж такого с младенчества не видывали! Ручонки тянут, подачку хватают, в рот запихивают, по карманам прячут… Чуть не перессорил сопляков моих, рожа восковая! Хотел любовь и привязанность детскую задешево купить.
Я ему на первом же привале все высказала. А он мне: «Не лезь не в свое дело, подруга!» Я не сразу нашлась; такое переварить надо. Была в нем, безоружном, какая-то сила психическая. Вполне убедительная. В глаза его черные, засасывающие, старалась не смотреть, чтоб не поддаться… Чему? Желанию, черт возьми! Где уж тут спорить с ним?
Но я споров и не затевала. Ствол к башке его приставила – и, кажется, все ему стало ясно.
– Будь по-твоему, – говорит. – Больше никаких подарков.
Ухмыльнулся он нехорошо, а я усомнилась в том, что он ствола испугался. Играл он со мною, хоть и в моих руках пушка была. Неуверенно я себя почувствовала, будто почву привычную у меня из-под ног вышибли. Не знала, как себя с ним вести, с этим грязным клоуном.
Но подарков действительно больше не было. Зато теперь он на заднем сиденье с детишками болтал, с каждым по очереди. Развлекал и завлекал. Вкрадчиво, ласково разговаривал – не знаю только о чем. Но догадываюсь. Мальчишкам открытки какие-то поганые показывал, а девчонок норовил себе на колени усадить и ляжки их тощие оглаживал. Спать укладывал, сны нашептывал, с рук кормил…
Мерзость с губ его стекала, и с пальцев тоже. Невидимая слизь. Даже я, в кабине сидя, мерзость эту ощущала – будто по спине с десяток громадных улиток ползало. Мамой клянусь, все время чесаться хотелось! А как-то раз он плейер с наушниками достал, и потекла мерзость прямо детишкам в уши…
Потом, когда возле костра грелись, у него хватило наглости попросить у меня книжку – ту самую, черную, с крестом, которую я у мертвеца взяла. Но разговор у нас короткий вышел:
– Зачем тебе?
– Полистаю на сон грядущий. Что-то не спится…
– Отстань!
Тошно мне было от одного его присутствия, однако почему-то терпела, прогнать не могла. Пока он рядом был, сны только про одно снились – мутные, липкие сны, спермой обильно политые. И непременно в этих снах темный зверь возникал – то ли шакал, то ли волк. Тот самый, который при моем приближении в лесу укрылся. Даже вспоминать не хочу, чем мы с ним занимались.
Но наяву победило отвращение – прикосновение ледяных рук было нестерпимым. А как вообразила себе, что чужак сосульку свою стылую в меня вставляет, – дрожь сильнейшая прошибла, и низ живота холодом сковало.
И еще мне казалось, что четвероногий ублюдок постоянно за автобусом следует, – порой я тень его неясную на дороге замечала, но ни разу как следует разглядеть не сумела. Не отставала тень, даже когда я на максимальной скорости гнала…
И все же кончилось мое терпение, как только бродяга голубоглазую в оборот взял. Хорошо, что она меня вовремя в беседы ихние посвятила. Выдалась у нас на очередном привале минутка, чтоб парой слов наедине переброситься. И волосы на голове моей дыбом встали.
Оказывается, он ребятишек уйти подбивал, за собою звал, обещал в другой «монастырь» отвести, где заживут они еще лучше, чем прежде. Всего там будет вдоволь – и еды вкусной, и одежды красивой, и даже героев сказочных, волшебников и защитников всемогущих. Игрушек невообразимых на всех хватит. У каждого появятся родители любящие – своя мама и свой папа (сыскал он якобы ихних мам и пап, которые ждут потерявшихся чад с огромным нетерпением). Никаких скучных молитв и нудных наставников, одни лишь песни веселые, аттракционы да игры от зари до зари… Бросить уговаривал «тетку грубую», с которой им ничего, кроме опасностей, голода и лишений, не видать, и к нему, ласковому, в объятия податься. Не туда тетка вас везет, совсем не туда! Сгубить хочет, ведьма злобная!…
Услышала я такое и больше не колебалась. Когда чужак уже собирался в автобус залезть, осадила его, снова между глаз стволом ткнула и объявила:
– Стоп, маз! Ты дальше не едешь.
Он сперва не поверил; пришлось шляпу его пулей продырявить. Снесло шляпу, а эхо выстрела в лесу заглохло. Волосы я увидела – черные, прилизанные, на шерсть звериную похожие; на лбу – две большие залысины.
Надо отдать ему должное – он даже глазом не моргнул и в лицо мне рассмеялся:
– Глупая сука! Неужели ты думаешь, что можешь меня убить?
– Попробую, – сказала я, хотя к тому моменту мной обвладела жуткая и необъяснимая уверенность в обратном.
Из травы, куда его шляпа упала, черный ворон выпорхнул и в ветвях скрылся. Я не слишком впечатлительная, но разве этого мало?
Вероятно, чужак мог запросто меня прикончить, однако совсем другую игру вел. Правила у этой игры на первый взгляд простые, а на самом деле хитрые: сами, добровольно должны человечки выбирать, в какую сторону и с кем им топать. Принуждение не допускается; доподлинное, искреннее желание требуется…
Отвернулся он от меня и медленно побрел в глубь леса. Ожидал, наверное, что пискуны за ним гурьбой бросятся; думал, что барахлом обещанным их прельстил и байкой позорной про несуществующих родителей… Я ни слова не произносила – будто остекленела внутри и снаружи. Я ведь тоже с некоторых пор по тем правилам играла.
Уходил он, а между деревьев его шакал поджидал. Сблизились они, шакал ему ноги облизал. Слились два силуэта в один, и этот новый опять кособоким вышел – все-таки не обмануло меня зрение там, на дороге, не подвело! Справа нарост у него торчал, будто голова звериная прямо из туловища росла…
Побежал ублюдок прочь, на кривую ногу припадая, и когда он в утреннем воздухе растворился, отряхнула я паутину незримую, как ночной кошмар. И тут же подумала, насколько труднее малолеткам мороку этому не поддаться! Если и поддались они, то совсем чуть-чуть. Недалеко отошли, не успели заблудиться; поляна, с которой их в чащу заманивали, еще видна была.
Вернулись они ко мне, и поехали мы дальше. Значит, не такие глупые детки оказались – тоже мерзость незнакомца ощутили, несмотря на его фальшивые ласки… О бродяге том я старалась вспоминать как можно реже. Ночью дрыхла без всяких сновидений. И возникло у меня предчувствие, что до цели теперь рукой подать.
16. ОН
Спустя два часа утомленная дальней дорогой баба дрыхла без задних ног, а я шлялся неподалеку от пещеры, чтоб не прозевать зверя. Было до чертиков интересно, чем тварь здесь питается; ну не дохляка же брюхатой подсунули, в самом деле! Дохляк – он ведь ничего не излучает, а своих я по личной метке нахожу, и метка эта не из тех, которые соскрести можно. Моего, для примера, чужак не обнаружит, пока в упор не увидит или запашок не почует…
Нет, не дохляк, это точно. Значит, когда оголодает зверь, тогда и в гости сунется. На такой случай я уже и ножик приготовил, чтоб не дай бог не потревожить будущую мамашку выстрелом. Но волчара (или его неведомый хозяин) оказался осторожным. В ту ночь я оставил намерение набить из него чучело и вернулся туда, где положено было торчать дохляку.
Выяснилось, что пока я следил за девкой, моей скотине перегрызли обе передних ноги. Представляю, что это была за работенка, но зверь честно ее выполнил. Теперь лошадь лежала на боку, и хорошо, что хотя бы не мучилась (отмучилась уже – неделю назад). Вдобавок мой рюкзак был растерзан, и большая часть припасов исчезла – как я полагаю, у зверя в желудке. А несъедобные – те, что необходимы для обряда, – смешались с пылью.
Тут уж я сам едва не взвыл по-звериному. Проиграл всухую! И кто кому, получается, приготовил западню? Я остался в горах без жратвы, без средства передвижения и почти без надежды. Меня сделали, как мальчика, как последнего кретина. И если девка была всего лишь «живцом», то кто тогда рыбак? Вопрос вдруг стал жизненно важным, единственным, требовавшим ответа в эту самую секунду, хоть мне все равно предстояло скоро подохнуть.
При мысли, что игра закончена и я отброшу копыта ЗДЕСЬ, меня охватил не страх, а тоска – нестерпимая, физическая, которая выдавливала глазные яблоки и завязывала в узел кишки… «Выходит, тебе не все равно, где подыхать, малыш!» – сказал я себе.
В общем, я недолго терзался сомнениями. Дыхание Костлявой – штука чертовски неприятная, но, надо признать, многое упрощает. Остаток ночи я потратил на сооружение каменной насыпи над трупом бедной клячи. Таскал камни, словно каторжник, несмотря на подорванное здоровье и преклонный возраст. Утешался по крайней мере тем, что от этого места ветер не мог задувать в пещеру. Потом ополоснулся в ручье, смыл с себя пот и прах, чтоб не слишком сильно пахло. Туда же и справил нужду. А вскоре и рассвет подкрался – незаметно, будто старость.
Лично для меня наступал один из самых паршивых дней. О будущем я уже не мечтал – лишь бы дотянуть до следующей ночи. Устал как собака, а пустой желудок напоминал о себе болезненными спазмами. Видать, спать сегодня не придется. Если вообще удастся отдохнуть – ведь у девки теперь появился четвероногий напарник…
Кое-как я доковылял до ближайшей расселины и нырнул в нее, уповая на то, что хотя бы мое шестое чувство еще при мне. Очутился в совсем маленькой пещерке, навевавшей не к месту ассоциации с уютным семейным склепом. Не хватало только гробиков с останками предков и тяжелой двери. Но, по мне, чем меньше пещера, тем лучше – проще держать под прицелом вход.
Тут я и продремал почти целый день с открытыми глазами, вскидываясь при малейшем шорохе и даже при изменении освещенности или появлении слабого запаха. Все тревоги оказались ложными. Зверюга не рискнула навестить меня в этом укрытии. Под вечер я снова попробовал наладить с нею контакт, однако наткнулся на барьер, сквозь который не проникало ничего – ни единого сигнала. Я испытывал препоганое чувство, будто мозг запаян в железном ящике: все, что я видел своими зрачками, было дурацкой бутафорией, а настоящий «глаз» ослеп.
Кто ж это мне свинью подложил? Неужто какой-то ночник продался бродягам с потрохами и теперь мастерит для них сторожей и дохляков, ставит по заказу защиту, насылает морок? Если так, то способный Иудушка нашелся. А ведь я себя полагал одним из самых опытных и продвинутых…
И только сейчас, жалкий тупица, сообразил, что у меня, должно быть, объявился конкурент; что кто-то другой тоже может претензию на детеныша иметь! Наверняка этот «другой» волчару заслал, а потом и сам явится, на все готовенькое. Вот только «другой» или «другая»? Актеры меняют маски… Не узнав возлюбленную в обличье старухи (дульца, зверя, ребенка), я зарежу ее… Не разглядев ангела, я прокляну его…
Ну нет, приятель, – только через мой труп! Впрочем, у такого парня за трупом дело не станет. Трупом больше, трупом меньше – чего тут мелочиться?
Привалившись спиной к холодным камням, я сочинил правило номер тридцать два: «Продавая душу дьяволу, будь готов к возврату негодного товара».
17. ОНА
Вечером следующего дня я догнала психа. Почему психа, спрашиваете, – вокруг ведь и так одни придурки?! Согласна. Но этот был совсем конченый. Он катил по шоссе не на чем-нибудь, а на самом настоящем велосипеде, и при недолгом нашем знакомстве нес ахинею, которую на голову не натянешь.
Если по порядку излагать, то я его допотопный аппарат издалека заметила. Такое разве можно пропустить? Это ж бесплатный цирк! Думала сперва, что какой-то местный недоносок развлекается, а когда меня увидит, в кусты шмыгнет. Ничуть не бывало! Катит себе, руль бросил, в небо пялится и, кажется, даже насвистывает.
При виде такого вопиющего пренебрежения опасностью мне стало не по себе. И в то же время любопытно – будто пришелец объявился, напрочь отмороженный; прямиком на меня свалился с планетки своей, а там у него тишь, гладь и божья благодать…
Казалось бы, после бледнорожего хватит с меня попутчиков. Ан нет! Проклятая бабья натура свое берет. Поравнялась с психом и газ сбросила. На всякий случай пушку наготове держу. Малолетки мои из окон высунулись, позабыв о правилах, – наверняка впервые в жизни велик увидели. Им тоже любопытства не занимать.
Псих в мою сторону голову повернул, ухмыльнулся по-доброму и вдруг как заорет:
– Тормози! Поговорить надо!
Я не знала, что и думать. Совсем молодой он был, молоко на губах не обсохло. И прикинут странно – куртка «пацификами» размалевана, на джинсах – черти и языки адского пламени, на шее цепь велосипедная болтается, а к нагрудному карману ведущая звездочка проволокой прицеплена. В отверстия кепки цветочки воткнуты. Из багажа – один худой рюкзак.
Не наш человек. До такой степени не наш, что хочется его с небес на землю приспустить.
То, что парня до сих пор не шлепнули, само по себе было почти невероятным. Ну а кляча двухколесная меня просто добила. Старая рухлядь с лысыми покрышками, косо подваренной рамой и погнутой передней вилкой могла рассыпаться в любую секунду, однако паренек крутил педальки с жеребячьей жизнерадостностью. Давно я такого лица не видела и не скоро, наверное, увижу – светлое, свеженькое, довольное; глаза все окружающее жадно впитывают, и в то же время из них веселье брызжет. Но не пьяная удаль, как у наших мужланов случается, а натуральное веселье, от щенячьей игривости проистекающее.
Хоть и псих, но вполне безобидный, решила я. Побольше бы на него похожих – глядишь, и не так скучно было бы жить.
Останавливаюсь и выхожу из автобуса. Псих свой велосипедик аккуратно на обочине положил и приглашает меня посидеть на ближайшем пригорке. При этом на пушки мои не обращает ни малейшего внимания.
Осмотрелась я – местность равнинная, чужих издали видать. Если что, в автобус вскочить успею. Присела с психом на травку, и начали мы беседовать.
Солнышко закатное нам спины пригревало, птички вокруг щебетали, цветочки ароматы распространяли, детки за кузнечиками и ящерицами бегали. Идиллия, да и только! Даже немного на сон смахивает… Хорошо мне было, расслабилась – может, потому и бредовый разговор поддерживала. Глаза у психа были особенные – под таким взглядом сама себе кажешься мертвой молью в нафталине. У одних людишек глаза будто пылью присыпанные, у других – пеплом припорошенные. А у психа они искрились жизнью.
Сначала я его воспитывать принялась:
– Какого черта выделываешься, сынок? Хочешь, чтоб башку на ходу отстрелили?
На «сынка» он, может, и обиделся, но виду не подал. Это мне понравилось. Да и вообще он мне нравился, если честно.
– Меня послал великий магистр Ордена, – затарахтел парень вместо ответа. – Я монах-воин, кавалер малой ведущей звезды, заслуживший почетное право носить стошестнадцатизвенную цепь…
«Монах-воин»! Чуть не расхохоталась ему в лицо, потом вспомнила, что с убогим дело имею. А он продолжает как ни в чем не бывало:
– Послан в западные земли со специальной миссией – искоренять бензиновую ересь.
– Чего-чего?!
– Ересь бензиновую искоренять.
– А такая бывает?
– Еще как! – сразу же подхватывает он. Ему много и не надо – заводится с полоборота. Я сразу поняла, что кто-то крепко в его башку всю эту чушь вбил. Так обработал, что возникла у «монаха-воина» легкая манечка. Готов он теперь во славу дурацкого «Ордена» собою жертвовать.
Жаль таких вот пацанов безмозглых – вечно их всякие подонки в своих интересах используют. При этом о свободе болтают, о вере и справедливости. Цацки разные придумывают, чтоб у молодняка глазки горели да и самим интереснее играть было… Меня-то уж точно никто не заставит под свою дудку плясать и за чужое дерьмо головой рисковать. Только лично путь выбираю. И лично решаю, что ересью считать, а что нет.
– Еще бывает ересь пороховая. – Тут паренек меня просвещать взялся с великим воодушевлением – думал, благодатную почву нашел. – И антропоморфная.
– А это еще что? – буркнула я, наслаждаясь вечерним покоем.
Прекрасная погода стояла, и в душе затишье наступило – видать, не к добру.
Судя по базару, паренек был из образованных. Словечки разные многосложные вкручивал, но я ведь тоже не мурло дремучее.
– …Антропоморфная ересь идет от Степана Шатуна. Он впервые уподобил человека велосипеду без колес. Всякой детали якобы соответствует какой-либо орган тела. Однако отсутствие колес, являющихся символом непрерывно отлетающей и возвращающейся души, делает всю плотскую конструкцию бессмысленной и несовершенной. В отличие от несравненного металлического прототипа…
Слушать дальше этот бред я не могла, а то уснула бы. Или что похуже сотворила бы. Болтовня паренька действовала на меня как снотворное вместе со слабительным.
– Хватит трындеть! – перебиваю его. – Тебя куда подбросить?
– Нет-нет-нет! – замотал головой. – Чтоб я проклятым бензиновым гробом воспользовался – да никогда в жизни!
– Как хочешь. Ну, мне пора.
Встала я и джинсы отряхиваю. А он тоже вскочил, руками размахивает, свою программу втюхать торопится:
– Все беды – от пороха и бензина. Раньше, пока эту гадость не изобрели, люди были чистыми и добрыми, а миром правила любовь…
«Никогда такого не было!» – подумала я, но не стала перебивать. Что толку с психом спорить? Себе дороже…
Закончил он тем, что надо весь бензин сжечь, от машин отказаться, пушки повыбрасывать, к незамысловатой естественной жизни вернуться. И, само собой, двухколесному идолу хвалу воздать за то, что природу-матушку не загрязняет. Объявить его единственным возможным средством передвижения. Дескать, другая эпоха начнется, когда спешить перестанем, друг дружку давить, угаром травить и пульками дырявить.
С последним утверждением я, может, и согласилась бы, но во всей этой картине не было ни капли правдоподобия. «Монах-воин» показался мне сущим младенцем. Да вдобавок еще и обманутым. У голубоглазой, пожалуй, и то больше здравого смысла имелось.
– Как же ты ересь искоренять будешь, дурашка? – спрашиваю.
– Проповедями заумными? Так тебя на первом же суку вздернут!
Тут он, наконец, фонтан свой заткнул, цепь с шеи снял, замок на ней расстегнул и выпрямил цепь так, что превратилась она в гибкий прут.
– Ха!… – сказала я, но только это и успела произнести – не то что до пушек дотянуться.
Дважды раздался короткий свист, в глазах сверкнуло, и мне показалось, что мою голову мгновенно обрили с обеих сторон. Потрогала – нет, волосья на месте. Уши тоже.
– Неплохо, – говорю. – Но ради баловства ты больше так не делай. Это я спокойная, а вокруг полно нервных дядек со стволами. Они тебе твою цепь в задницу затолкают и потом из глотки вытянут. Просто так, для смеху… Соображай лучше, чем на расстоянии орудовать будешь.
– Посмотрим! – подмигивает псих и улыбается. Наивняк непрошибаемый! Симпатяга, хоть и молокосос. Щечек гладеньких еще бритва не касалась. Попался бы ты мне раньше, до того как башкой повредился, – может, и получилось бы у нас что-нибудь путное. Все-таки ужасно жалко будет, если убьют тебя, дурака…
– Без пушки в этих краях ловить нечего, – мягко пытаюсь втолковать ему прописные истины. – Возвращался бы ты домой, а? Завязывай с этим своим искоренением, пока тебя самого не искоренили…
– Э нет! – отвечает. – Ты меня с пути не собьешь. Я советов не принимаю, тем более от еретиков. Меня предупреждали, что препоны возникнут. Особенно велели красивых баб остерегаться. Я обет дал. Когда десятерых еретиков в свою веру обращу, тогда и вернуться смогу. Кстати, ты не хочешь быть первой?
– Нет уж, спасибо, – отказываюсь я. Насчет «красивой бабы», конечно, приятно было услышать, однако я велела себе сопли не распускать. Жизнь даже секундной слабости не прощает. Расслабился – получи пистон!…
– Тогда я дальше поехал, – говорит псих.
– И все-таки не советую. Тут днем ездить опасно, а ночью и подавно.
Махнул он рукой и заворчал себе под нос – что-то про «невидимое солнце» с лучами-спицами, которое ему дорогу освещать будет. Интерес ко мне потерял. Счел мой случай безнадежным. Вот это правильно. Я и сама себя давно в безнадежные записала…
Тут бы задержать его любой ценой! Никогда не прощу себе, что шины велосипедные ножиком не проткнула. Может, тогда уцелел бы монашек этот. Впрочем, нет – кого я хочу обмануть? Фанатиком он был, вслепую на рожон лез. Не в ту ночь убили бы его, так в следующую. Фанатики долго не живут.
В общем, расстались мы уже в потемках. Он дальше покатил, громко насвистывая, а я место для ночлега принялась искать. В ложбине остановилась, от которой глубокий овраг тянулся. Черный ход то есть, – если вдруг автобус бросить придется. На склоне – что-то вроде осыпавшейся землянки. Ночью в ней прохладно и сыро, однако все же укрытие. Детишкам велела так лечь, чтоб телами друг друга согревали. Сама поодаль устроилась. Кто б меня согрел?
Долго заснуть не могла, ворочалась. Все вспоминала монашка юного, сладенького; представляла его, неумелого, но горячего, у себя под боком, пока между ног не захлюпало. Вот сучка развратная!… А что?! Уж я бы мальчишку от этой дури вылечила!
Так и случилось наутро, однако лучше б я его больше не видела. Ночь спокойно прошла. С первыми лучами солнца завела я двигатель и себя на том поймала, что спешу куда-то. Неужели за пацаном соскучилась, дура старая?!… Совсем немного проехала в рассветной тишине, когда снова на психа наткнулась. Только на этот раз ему было не до проповедей бредовых и даже не до ухмылок. И веселья беспричинного в нем поубавилось, чему имелась веская причина.
Лежал мой монашек на обочине, а велосипед его искореженный поодаль валялся. Сначала решила, что авария с рухлядью приключилась, но как ближе подъехала, стало ясно: верно я ему судьбу с вечера напророчила.
Оба колена у парня были раздроблены, а в теле я насчитала несколько ножевых ран. Лицо – один сплошной синяк. На губах его кровавая пена булькала. Жить ему оставалось от силы минут десять. Ни цепи, ни куртки, ни сапог, ни джинсов на нем уже не было. Обобрали дочиста…
Знаете, каково человеку голым и беспомощным на виду у всего мира подыхать? Не знаете? Я вот тоже, к счастью, не знаю и никому этого узнать не пожелаю…
Остановила автобус, ребятишкам велела не выходить и на велосипедиста изуродованного не глядеть. Хватит с них зрелищ печальных. Так и тронуться недолго…
Подошла, наклонилась над лежащим. Он меня не сразу узнал, а когда резкость навел, улыбнулся как-то жалко и попросил:
– Пожалуйста… Помоги мне…
Ничем я ему уже помочь не могла. Разве что смерти зубы заговаривать, так ведь смерть на эти уловки не покупается… Хотела голову его приподнять, а он мне:
– Нет, не надо… Просто… побудь рядом…
– Хорошо.
– Знаешь… Так не хочется умирать… Понимаешь… у меня никогда… никогда… женщины не было…
И заплакал.
Смотрела я, как пузыри розовые на его разбитых губах лопаются, и сама чуть соленым не умылась. Ох ты, девственник мой несчастный! Зачем же тебя сюда принесло, заморыш зеленый?! Что ты здесь мог найти, кроме страдания? Какая ж это сволочь тебя на верную погибель отправила, по уши дерьмом напичкав?
Растрогал он меня до чертиков. По правде говоря, еще и тем, что у меня обратный случай был: мне почему-то девственники ни разу не попадались…
Я без лишних слов джинсы расстегнула, а он пытался ко мне руки израненные протянуть.
– Лежи, – сказала я. – Сама все сделаю.
Села на него сверху, положив рядом пистолеты – на тот случай, если кто посторонний нашей любви предсмертной помешать вздумает. Подвигалась маленько и осторожно, чтоб психу дополнительную боль не причинить. Не знаю, что он при этом чувствовал, но мне было ясно: ничего у нас не получится. Только тогда парень затвердеет, когда мертвым станет.
Тем не менее я сделала вид, будто он в меня вошел. Потом поднесла его окровавленные ладони к своей груди. Дала соски потрогать. Пальцы у него были как деревянные. Поцеловала в губы неопытные, ощутив лишь горечь. Языком их раздвинула, его языка коснулась. Слабая дрожь в худом мальчишеском теле зародилась, но не суждено ему было испытать наслаждение. Я прикусила губу и застонала… Никогда с мужиками не притворялась, но сейчас был особый вариант. Даже умирающий должен иметь шанс за что-нибудь зацепиться. Или за кого-нибудь…
И недаром я старалась. Снова в глазах его жизнь засияла – последним, догорающим светом. Для меня это наградой стало. Будто позволили мне заглянуть сквозь замочную скважину туда, где счастливчики обитают. Где все длится только миг… и никогда не прекращается. Впервые поняла, что есть эфемерные вещи, которые цены не имеют. Жаль, понимание слишком поздно приходит.
– Все-таки ты красивая… – прошептал он, глядя снизу вверх. По-моему, он меня толком и не рассмотрел – разве только ореол вокруг головы. Лучи восходящего солнца его слепили, пробиваясь сквозь мои распущенные волосы, и видел он не то, что было на самом деле, а то, что в его воспаленном воображении возникало.
Поддеть его хотелось насчет красивых баб, которых остерегаться надо, чтоб с пути не совратили, но вовремя язык прикусила. Он ведь вроде уже и не со мной был, а с ангелом, на той стороне встречающим. Все равно я его провожала и точно для него навеки останусь единственной…
– Спасибо тебе, – прошептал он под конец еле слышно. – Теперь и помирать легче… Значит, я могу сказать, что любовь в этой жизни испытал… Недолгую, но дело ведь не во времени, правда?…
– Правда, правда, – кивала я, а сама бедрами ощущала его начинавшуюся агонию.
Вскоре умер псих с тихой улыбкой на губах. Жизнь из него через зрачки в небо выпорхнула и где-то там, между облаками, затерялась…
– Твою мать!!! – заорала я, задрав голову кверху. Так завопила, что детишек перепугала. Пришлось кулак себе в зубы сунуть; до крови кожу прокусила.
Когда боль схлынула, поняла я: не могу психа на обочине бросить. Не допущу, чтоб улыбка его невыразимая в оскал черепа превратилась, а сам труп – в пугало придорожное. Не ему это нужно – мне. Чтоб дальше жить в ладу с собой. Решила похоронить паренька, хоть и предстояло потратить на тяжелую работу несколько часов.
Под палящим солнцем ножом и руками земельку ковыряла; все ногти себе пообламывала, пока могилу вырыла. Закопала монашка, который девственность свою со мной толком и не потерял. Сверху, над насыпью, велосипед взгромоздила. Какой-никакой, а памятник. Думаю, паренек доволен был бы. Он ведь этим дурацким звездочкам и спицам всерьез поклонялся.
Но, кажется, в последние минуты было у него просветление – такое, что многим «нормальным» и не снилось. Что он там о любви недолговечной шептал? Я до конца не разобрала. Какую-то тайну он с собой в могилу унес – ту, которую я ему подарить сумела, а сама еще и не разгадала…
Детишкам по-настоящему благодарна осталась – за то, что не подглядывали и делам нашим интимным не мешали. Сидели тихо и ждали испорченную «мамочку». Не знаю, слышали ли они шепот наш. Хотела бы я, чтоб они подольше самого худшего не касались. Слишком много смертей вокруг; слишком мало любви. Скольких еще такой расклад искалечит?
«Дело не во времени…» – псих сказал. Может, ему перед кончиной истина открылась? Однако я только жутчайшую пустоту внутри ощутила; остаток мутный растраченной любви своей умирающему отдала. С сердца загрубевшего корку содрала, а под нею – ничего. Как теперь жить? Но я твердо знала, что дальше поеду, даже если превращусь в манекен ходячий – тупой и почти бесчувственный…
Поехала.
18. ОН
Когда снаружи наступила приятная, ласкавшая зрачки темнота, я выбрался из своего склепушки и потащился взглянуть на девку, разом превратившись из охотника в дичь. Каждую секунду приходилось опасаться, что неуловимая зверюга вцепится в глотку. Голод терзал изнутри. В общем, я оказался ходячим недоразумением, а недоразумения, как правило, долго не живут.
Уже на подходе к пещере услыхал громкие стоны. Меня аж пот прошиб – неужели рожает?! Стоны звучали вполне эротично, однако баба была явно не в той поре, чтоб принимать кобеля. Все же, опасаясь хитро подстроенной ловушки, я не стал кидаться внутрь очертя голову, а тихо крался вдоль стеночки, пока не увидел брюхатую, распростертую на камнях и вполне натурально корчившуюся от боли. Возле нее тлел свечной огарок и валялся пустой мех для воды, который она, видимо, собиралась наполнить из речки, да так и не успела.
Жутко не хотелось отлипать от стенки и подставлять задницу под удар. Слишком уж много закоулков в чертовой пещере! Однако мне по-любому недолго осталось; все равно подыхать – сутками раньше, сутками позже. А тут такой козырь у бабы между ног вытащить можно! Грех не воспользоваться удобным случаем…
И я двинулся принимать роды. На этот свет пролазим в муках, а отправляться на тот – удовольствие ничуть не больше. Я приближался к измученной схватками молодухе так, чтобы все время видеть ее темечко. Стерва упорно не выпускала пистолетов из рук, хотя держалась на пределе: ее кожа блестела от обильного пота, костяшки пальцев были разбиты, а нижняя губа прокушена до крови.
На ней был просторный и не очень чистый балахон, смахивающий на обыкновенный мешок с дырой для головы. Балахон задрался почти до самой груди, и я видел голое пузо, казавшееся неправдоподобно огромным яйцом.
Вдруг баба истошно заорала и засучила ногами. Шлепки ступней по каменной поверхности гулко отдавались под сводами пещеры. Потом боль, кажется, немного отпустила, но пары секунд мне хватило, чтобы метнуться к лежащей, наступить сапогами на ее запястья и отобрать обе пушки.
Счет сравнялся, и я подмигнул девке почти дружески. Когда она увидела меня, ее и без того перекошенная физиономия исказилась еще сильнее. Не уверен, что она отличала реальность от бреда. Не знаю, за кого она меня приняла, но, по-моему, она была достаточно опытна, чтобы не питать иллюзий даже в бреду. В ее глазах сверкала лютая ненависть, а пасть извергала грязные ругательства вперемежку со страдальческими воплями. «Долбаный слизняк» было самым ласковым из ее выражений.
Чувствуя себя намного лучше, я ухмыльнулся и заглянул туда, откуда должен был появиться гвоздь программы. Никакого специального инструмента, кроме ножа, у меня не было, и если парень задержится еще на полчаса, мне придется выбирать – или он, или его мамаша. Поскольку баба не представляла для меня ни малейшего интереса, выбор был однозначен. Легкое движение лезвием – и добро пожаловать в ад!
Кстати, зрелище и без того было не для слабонервных, однако я никогда не страдал излишней впечатлительностью. Под девкой образовалась целая лужа розоватой слизи. Рыча от бессильной ненависти, она пыталась зацепить меня своими когтями, но я находился вне досягаемости. Ох и сука! Такая, пожалуй, себя не пощадит, лишь бы в чужие шаловливые ручонки не даться.
Ее оскаленная рожа в тусклом свете огарка напоминала кусок багровой резины, которую кто-то безжалостно мял, – и я подумал о том, что мог бы избавить ее от боли, если бы мои травки и пилюльки остались при мне. Так-то, дурочка: не плюй в колодец!… А насчет ножа я, кажется, погорячился: мамаша с ее выменем нужна будет, как минимум, еще несколько месяцев, чтобы выкормить детеныша. Позарез нужна. Где ж я молоко достану в этих чертовых горах?…
Когда у нее между бедер, наконец, появилось нечто, имевшее приятный синюшный оттенок, я решил, что все обойдется и надо бы сбегать за водой. Схватил мех, обернулся… и наткнулся на неподвижный взгляд – две желтые льдинки висели в стынущей мути. Зверюга стояла совсем близко, в трех шагах от меня, и не возникало сомнений в том, что всего секунду назад она запросто могла разорвать мне шею.
Могла, но не разорвала. Несмотря на то что мои подошвы примерзли к камням, в голове вяло подергивались мыслишки. Зверюга соображала лучше, чем положено природой четвероногой твари, а значит, скорее всего, за нее и теперь соображал тот, «другой». Она не тронула меня, а я был единственным человеком, который находился рядом с бабой и при случае помог бы ей разродиться. Что из этого следовало? Только то, что я сам стал кем-то вроде Барина – двуногим животным под присмотром неусыпного ока…
Пользуясь случаем, я рассмотрел зверя получше. Это была одичавшая овчарка, гораздо крупнее волка и почти сплошь черной масти. Лобастая голова, уши торчком, шерсть на загривке топорщится, как иглы дикобраза, широченная грудь, каждая лапа размером с мою ладонь. А «хозяйская» метка на овчарке все-таки была, но не нашей работы – какое-то клеймо сбоку на шее, окруженное пятном паленой шерсти. Совсем свежее клеймо; недавний ожог отливал истерзанным мясом.
Можно было элементарно пристрелить собаку прямо сейчас, но тогда очень скоро пришлось бы встретиться с ее хозяином, а это пока не входило в мои планы. «Чужой схрон – чужой закон», – гласило правило номер три. И я решил принять предложенную игру. Бросил перед лобастым пустой мех и ждал, что будет. Овчарка понюхала его, взяла аккуратно, чтоб не продырявить своими огромными клыками, и потрусила к выходу из пещеры.
Такой контроль был достоин восхищения и, конечно, вызывал тревогу.
Если кто-то научился проделывать подобное с собаками, то мог добраться и до двуногих, а это уже табу. Древнее, неписаное, но до сих пор ненарушаемое. И, кажется, наконец объявился парень без сентиментальных предрассудков. Сколько времени осталось до того, как он начнет поднимать на ноги дохляков-убийц? И во что тогда превратится наша гнилая планетка, трудно даже вообразить. По крайней мере одними дохляками не обойдется. Воевать придется с призраками, надевающими чужую плоть, а это почти неотличимо от кошмарного сна. На хрена, спрашивается, такая жизнь? Хаос тотального контроля – по-моему, все уже было когда-то…
Между тем становилось холодно. Я ничего не жрал целые сутки и ощущал некоторое замедление реакций, будто какая-нибудь паршивая ящерица. Пришло время сунуть рыло в чужие запасы.
Пока девка тужилась, я улучил минутку и залез в ее автобус. Нашел под лавкой две старые рваные куртки, пропахшие бензином, и ящик, на котором сохранилась армейская маркировка. Ящик оказался доверху набит консервными банками с тушенкой. Раз девка сумела добыть такое невероятное богатство, значит, мозгов ей не занимать. Приятно иметь дело с умными людьми!
Я вскрыл одну банку ножом и жадно съел половину содержимого. Подкрепившись, обнаружил, что вся задняя часть салона забита поленьями, будто сарай истопника. Я выволок наружу охапку дров и развел костер. Дым сразу же потянулся вверх – свод пещеры не был сплошным. Снова пришлось надеть темные очки. Я сунул в огонь лезвие ножа. Нехитрая стерилизация.
Тут вернулась псина, умудрившаяся наполнить мех водой и притащить его обратно, почти не расплескав. Ее челюсти были сомкнуты на узкой горловине, и когда я протянул руку, чтобы взять мех, она издал недовольное глухое рычание, однако разжала зубы. Теперь я разглядел собаку полностью. Это был кобель – молодой, неплохо откормленный и снабженный от природы внушительным оборудованием. Выполнив порученную работу, он забрался под автобус и зыркал оттуда своими мутно-желтыми подфарниками.
Молодуха ревела, исторгая из своего чрева младенца. А вот его молчание внушало мне тревогу. Я уже видел пару мертворожденных, третьего разочарования не перенесу. Рак сожрет меня раньше…
Я повернулся к роженице с ножом в руке. Раскаленное лезвие отливало пурпуром…
Приготовься, детка…
Младенец был синий, скользкий от покрывавшей его слизи и мягкий, чертовски мягкий. На какую-то секунду мне даже показалось, что он растечется, будто студень, у меня в ладонях. Пуповина, похожая на червя, медленно растягивалась. Я перерезал ее ножом и завязал так, как учила Масья. Потом осторожно взял ребенка за ноги и поднял вниз головой.
Он молчал.
Шлепнул по заднице.
Он молчал.
Зато его мамаша материлась, плюясь слюной, и билась затылком об камни.
Я приложился губами к малюсенькому ротику и выдохнул в него воздух.
При этом меня чуть не стошнило от омерзения, но я уже начинал любить этого уродца. Как самого себя.
И вот он судорожно дернулся, а потом завизжал. Чистой ткани не было; я завернул его в куртку и побыстрее сунул в руки обезумевшей бабе, которая уже пыталась встать. Наверное, решила, что я хочу съесть живьем ее ублюдка.
Угомонись, дура! Плохо ты думаешь о нас, ночниках. Мы почти безобидны… пока не приходит время менять шкуру. Не сомневаюсь – окажись моя нога поблизости от ее головы, она впилась бы в сапог зубами. Быстрее, чем лобастый пес.
Ох уж эти животные инстинкты! Я кое-что знаю о них. И будь я проклят, если в этот раз не сумею их использовать!
Я достал из кармана ошейник, который нежно позвякивал сочленениями. Глаза у бабы выкатились дальше, чем можно было вообразить. В одну секунду она поняла все.
Для иных бродяг потерять свободу гораздо хуже, чем потерять жизнь. Эта была из их числа.
…Застегнуть ошейник на ее коричневой шейке мне удалось только после нескольких минут отчаянной борьбы. Но все-таки удалось. Правда, для этого пришлось врезать девке по челюсти. Как ни странно, псина не пыталась мне помешать.
Пока мамаша была в отключке, младенец истошно визжал. И теперь его рев казался мне лучшей музыкой на свете.
Ну а потом я забрался в автобус, доел остаток тушенки из банки и заснул сном человека, который еще надеется проснуться – и не в последний раз.
19. ОНА
Ну а напоследок и с работорговцами встретиться довелось. Признаться, искушали они меня сильно, и получилось чуть ли не самое трудное испытание. Вроде и опасности особой не было, а осадочек от той встречи поганый остался. Поганый до чрезвычайности.
Однако не такой, как прежде. С работорговцами можно хотя бы по-человечески разговаривать. Они в основном еврейского племени и никого без нужды не валят – потому что выгоду свою завсегда знают и видят наперед. Умные они, суки. От дохляка какая выгода? Ну разве что одежонку да сапоги с него снимешь, в лучшем случае пушку прихватишь – но это для них не товар. Слишком мелко. У них счет на караваны идет. И повсюду все схвачено. Организовано здорово. Уважаю, но не люблю. Их никто не любит. Трудно любить того, кто умнее тебя в десять раз и вдобавок мозгами своими сумел правильно распорядиться.
Потому и живут работорговцы лучше других. У этих свиней дома роскошные, с удобствами – сортиры, кондишн, ванны, мебель мягкая. Да и базы мобильные, на колесах, ничем не хуже. А в домах тех и на базах – слуги, повара, наложницы, охрана… И стала я все чаще подлую вещь замечать: бывшие бродяги к торговцам служить нанимаются – особенно те, кто с лишком доли нашей кочевой хлебнул и до старости дотянул. Меняют свободу на безопасность. Волки сторожевыми псами становятся. Или болонками. Я их не осуждаю, но, по мне, лучше в канаве придорожной под дождичком весенним сдохнуть, чем до смерти в холуях ходить и живым товаром ворочать.
Короче, я на ярмарке оказалась. Хорошее мероприятие, веселое – для тех, кто сюда по своей воле и без стального ошейника притопал. Автобус на стоянку загнала, оружие на хранение сдала, прогуляться пошла, развеяться. И буквально через час Одноглазого Осипа встретила. Да-да, того самого, под которого Ванька канать пытался, да все не дотягивал. Рожей не вышел – смазливая слишком рожа у Ваньки была. Но разговор не про Ваньку.
Оказывается, бывший Черный Мститель здешние сортиры выскребает. Никаких лошадок и близко нету; пешком еле шаркает, ведро с собой таскает. Прослезиться можно – такое жалкое зрелище!
Я его впервые в жизни увидела, но по описаниям узнала, хоть он и в старичка усохшего превратился. А ведь известнейшая была личность! О нем среди бродяг по сию пору легенды ходят, да и не только среди бродяг. Песни душещипательные сложены; места памятные на старых картах отмечены. Кое на кого Черный Мститель настоящий ужас наводил. По одной из легенд, Осип сдох славной смертью, сражаясь в одиночку с целой бандой. Он якобы двадцать человек положил, прежде чем его самого на тот свет отправили. Я в детстве о нем столько всего у бродяжьих костров слышала! Вот и верь после этого молве людской!
Да, потускнела легенда; позолота с нее слезла, одна ржавчина коричневеет. Подошла я к Осипу, прикурить попросила. Смотрит он мимо меня и ни черта не понимает.
– Эй, Одноглазый, поедешь со мной? – спрашиваю.
Молчит. И, что хуже всего, бессмысленно улыбается. Всем доволен, значит.
– Да что это с тобой? – говорю. – Очнись, Мститель! Брось ведро свое, напарником моим будешь. Так и быть, уважу тебя за прошлые твои заслуги…
Он рот открыл, пеньки гнилые показал. Прошептал что-то невнятное. Я только одно разобрала, что просил он не трогать его. На шаг отодвинулась, а старикашка все бормочет:
– Не обижайте маленького Оську. Маленький Оська хочет домой…
Меня мороз по коже продрал. Не Мститель это был, а одна лишь видимость. Будто из Одноглазого нутро его вынули и чучело говорящее набили. Вот чертова кукла!… Потом пятно у него спереди на штанах проступило – стало быть, обдулся он. Не от страха, а просто потому, что время пришло пузырь опорожнять. Жуткая штука. У меня даже мыслишка мелькнула, что пристрелить его было бы правильно. Вроде как услугу оказать. Кому? Тому Черному Мстителю, который раньше был, – настоящему. И бродягам нынешним, чтоб не постигало их горькое разочарование… Задавила я в себе мыслишку эту. Не мне теперь решать, кого пристрелить надо.
Поглядела я в единственный глаз Осипа, на окурок потухший похожий, и впервые задумалась: во что же превращается в конце концов любая жизнь; что от нас, молодых и злых, остается? Неужели одна только оболочка шаркающая и старческую кислую вонь распространяющая?… Тоска меня взяла невероятная, возрасту моему цветущему несвойственная. Ну да ладно. Я знала, как тоску заглушить.
Завалила в бар, который назывался «Крючок». С намеком название; вот и думай, о каком крючке речь – о спусковом или о том, который глупая рыба заглотить торопится вместе с приманкой. Однако ж я не рыба, чуток умнее…
Мужики на меня жадно пялились, пока я между столиками лавировала, но приставать никто не смел. На своей территории торговцы шалостей не дозволяют и нарушителям заведенного порядка спуску не дают. В углу я приметила вышибалу с нашивками службы безопасности одного из самых крупных воротил. Бугай скромненько за столиком сидел и водичку дул. Был он единственным во всем заведении, у кого пушка при себе оставалась, и трезвым как стеклышко.
Поэтому за тельце свое, изрядно потасканное, я не опасалась и к тому же иллюзию питала, будто у меня на морде отвращение ко всему кобелиному роду нарисовано или по крайней мере уверенность, что я сама себе привыкла удовлетворителя выбирать.
Тем не менее я глазками по сторонам постреливала – все-таки не каждый день в такой кодле на равных трусь!… Как назло, ни одной знакомой рожи. Слишком далеко, видать, от привычных дорог забралась. Зато в баре парнишка смазливенький на гитаре бренчал и песни бродяжьи пел. Местных губошлепов развлекал, значит.
Переврал он песни наши, хоть нота в ноту их повторял, слово в слово.
И «Последний патрон» спел, и «Пьяную куреху[6]», и «Тоску голодной собаки», и «Кровавый камень», и даже «Гитара не лжет». Ну разве не насмешка, а?! Липовая у него получалась романтика. Я такой лажи за всю жизнь не слыхала. Было его пение словно фальшивая монетка. Внешне – подобие полное, но металл легковесный. Слишком чистенько, слишком правильно голосил, а в нужных местах до хриплого надрыва поднимался, слезу жалобную из пьянчужек давил, мерзавец.
Лично мне сразу стало ясно: ни разу жалобщик этот в поле не замерзал, товарищей не терял и в болоте не валялся, а был тут тоже вроде игрушки заводной или шлюхи платной. Только его нанимали не кочан попарить, а чтобы «чуйства» пощекотать…
Стараюсь не слушать, сижу, пью. Вскоре ко мне и агенты торговые подсели. Прослышали уже про автобус с детками! Тараканы гребаные… Это была та самая шушера, что за комиссионные работает. Хотели взять меня в оборот, как дешевку раскрутить, но я тертая, не далась. Переупрямила паразитов этих, и поехали мы к хозяевам ихним, к серьезным людям. К тем, которым за товаром бегать уже без надобности. Потому что к ним все сами прибегают и в зубах добычу приносят. А они куски шавкам своим раздают. Дрессировщики, мать их…
Восприняли те меня всерьез и обхаживали по-всякому. Кажется, они кайф от самой сделки ловят, от процесса. Короче, предлагали они мне за мой выводок много чего. Особенно один поц жирный старался, долго меня убалтывал, бухлом и сигаретками угощал. Щедро давал. Хватило бы и на тачку бронированную, и на пару ящиков патронов, и на запас жратвы в консервах, и на целый арсенал, и на аборт (потому как «залетела» я, а ублюдков плодить от лесных братьев очень уж не хотелось). И даже на пакетик «дури» осталось бы. Толстый такой пакетик. Года на три растянуть можно было, если торчать не слишком часто. Чуть не забыла: жирняга еще вибратор мне преподнес – без аккумулятора, правда. Понимаю, говорит, обстоятельства вашей нелегкой жизни. Опять же как в песне: «ночь голодная, постель холодная…»; с витаминами и гормонами сплошная напряженка. Посочувствовал, значит. Засунь его себе в задницу, свое сочувствие! И вибратор заодно…
Потом он главный козырь достал. Само собой получилось – вроде не он меня, а я его раскрутила. Пропуск он мне совал – до того самого места, куда я во что бы то ни стало добраться решила и ради этого даже честью своей бродяжьей пожертвовала. Пропуск, он говорил, по всей форме составленный, проблем не будет, – но только на одну твою «персону». Бери его – и лети без помех, пташечка, никто тебя там, в конце, не тормознет. Это ж ведь самое обидное, если в конце пути тяжкого от ворот поворот дадут, не так ли?
Так, так. Я кивала, соглашалась вроде, самогончик чужой потихоньку сосала через соломинку, а сама гадала: за что ж мне такие муки, а? За что перед выбором трудным ставите, к стенке припираете, на больное место давите и дерьмо мое увидеть хотите? Бывает, годами землю зубами грызешь – и напрасно, а тут все само в руки плывет. Детишек только этих никчемных отдать надо было.
Что выберешь, девка?
Выбрала…
20. ОН
…Дни тянулись как сопли; ночи пролетали мимо, словно черные птицы, – оставляя все более заметные тени на моем лице. Тени углублялись и превращались в морщины. И с каждым новым утром я чувствовал себя немного хуже, а девка, наоборот, – полностью оправилась после трудных родов.
На исходе второй недели нашего совместного житья-бытья стало ясно, что эта сука не сломается и что моя главная забота – не дать ей ни единого шанса прикончить меня. Когда мне требовалось восстановить тающие силы (а это случалось все чаще и чаще), я пристегивал стальную цепь от ошейника к покореженному бамперу автобуса и несколько часов отдыхал в относительной безопасности.
Оставалась еще проблема под названием «лобастый», но пес большую часть времени был занят добыванием свежего мяса. Получалось это у него неплохо. Пару раз он притащил в пасти теплых кроликов, а однажды приволок заднюю ногу барана. Далеко охотился, мерзавец, может быть, даже спускался на равнину. Так что голодовка нам пока не грозила.
Приближалось лето, и будь я счастливым папочкой, мог бы рассчитывать на мирную, почти идиллическую житуху в пещере, пока ребенок не подрастет. Впереди было три-четыре теплых месяца. Скорее всего у меня не осталось столько времени…
Частенько я наблюдал, как баба кормит младенца грудью, и что-то переворачивалось во мне. При этом она обращала на меня не больше внимания, чем на овчарку. Она не произносила ни слова, а во взгляде сквозило только бесконечное презрение.
Но мне было плевать на нее. Мне казалось, что с каждой каплей молока, исчезающей в глотке ребенка, смертельная болезнь, которая гнездилась в моем теле, замедляет свое наступление. Таким образом, я не избежал участи всех обреченных. Предсмертные иллюзии – хуже не бывает.
Пришлось выдавливать из себя эту блажь, пока ситуация не предстала в безжалостном свете правды: я – старик, слабеющий с каждым днем; рядом со мной – безоружная шлюха с детенышем на руках, в любую секунду готовая выцарапать мне глаза, и кобель под посторонним контролем. Та еще компания. Та еще семейка…
Я ужаснулся тому, сколько драгоценного времени потрачено зря, и в тот же вечер начал собираться в дорогу.
Семейка… Я многократно пробовал это словечко на вкус. Вертел так и эдак. Повторял про себя. Звучало неплохо. Три жизни за одну. Не дорого ли берешь, ночник?
У меня еще был выбор.
Честное слово, я полюбил детеныша.
21. ОНА
…И теперь вот перед указателем стою. Ярмарка позади осталась – день пути до нее. Триста километров сплошных сомнений… Стою и разглядываю то, во что уже и не очень верила, до чего добраться не чаяла. Огромный такой указатель, на щите двадцатиметровом, не меньше. Чистенький, светящийся, нигде не облупившийся. В любое время дня и ночи издалека его видно, от самого горизонта. Будто и грязь к нему не пристает, и дождь не точит, и град не бьет, и ураган не валит.
На щите одно слово короткое. Три громадные буквы, каждая с меня ростом, последняя «Й». Остальные две оказались не те, что я сперва подумала. Написано там было вот что: «РАЙ». И циферки сбоку выскакивали какие-то неуловимые – расстояние, наверное. Фокус с циферками я так и не просекла; должно быть, для каждого они разное обозначали. Недаром ведь жизнь учит: каждому – свое.
Голубоглазая меня за рукав дернула, спрашивает:
– Что это, мамочка?
– Тут тебе будет хорошо, дочка, – отвечаю. – Тут всем будет хорошо.
Тронулась. Проехала еще метров пятьсот и сразу поняла: это и есть вход, без обмана. Иначе и быть не может. От всякой шушеры надежно защищенный. Верно евреи говорили – без пропуска не проскочишь. По обе стороны дороги – бетонные купола, доты. Повсюду расставлены крепкие ребята в черной форме с крылышками. Здоровые, сытые, благополучные и хорошо вооруженные. Заграждение из колючей проволочки тянется на север и на юг до самого горизонта. Через каждые сто метров – вышки с прожекторами и пулеметами. Поодаль вертолеты ревут. В общем, мышь не пролезет и муха не пролетит. И тут же, рядом, заправочная станция. Наверное, чтоб хватило бензина на остаток пути – тому, кто последние капли истратил.
С какой-то внезапной обреченностью и горьким привкусом желчи во рту подъезжала я к шлагбауму. Подобный привкус появлялся у меня всякий раз при встрече с непреодолимой силой, когда оставалось только отступить, бежать и надеяться, что не настигнет, не раздавит и не раскатает в тонкий лист. Но сейчас я сама ползла навстречу этой силище, преодолев тысячи километров и множество преград.
Девять кругов рая – как вам такое понравится? Что-что? Не сходится? А вы сколько насчитали? Меньше?! Смешные люди! Может, я не обо всем рассказала! Где ж вы видели бабу, которая первому встречному всю свою подноготную выложит, до самого донышка раскроется, до бабьего скользкого нутра?… Что, и такую видели?! Завидую вашему опыту… Ну нет, лично я наизнанку выворачиваться не намерена; пусть хоть что-нибудь сокровенное останется, чужим интересом не залапанное… Но как бы там ни было, я ни о чем не сожалею. Рай – разве это не единственная стоящая цель?
Возле шлагбаума меня уже поджидал красавчик-офицер. Весь в белом, молодой и лощеный. Тоже с крылышками, причем с большими. И ухмылка на роже непременная, однако без этой кобелиной подлости. Поняла я: не хочет он меня – и все тут! Хоть голая перед ним выплясывай. Но и не «голубой» он, здесь что-то другое… Неужто кто-то впервые не бабу сисястую во мне увидел, а человека? От такой мысли, от одного подозрения, я себя еще хреновее почувствовала. Смутилась, что ли…
Черное воинство на меня стволы наставило, и сделалось мне чрезвычайно неуютно. Только дернешься – и на куски тебя пулями порвут, в пыль превратят. Но только по команде. Они ж натасканные, ангелочки эти, все по команде сверху делают. Таких псов по миру расселить бы, чтоб порядок навели, справедливую и безопасную жизнь наладили, а они здесь, в окрестностях райских, ошиваются… Брезгуют нами, что ли? За ничтожество наше презирают?…
Этот, в белом, был тут вроде за главного. На поясе у него кобура болталась, да еще какие-то ключи золотистые были привешены. Потом я доглядела, что он только на вид молодой, а глаза у него… бездонные. Страшные, оттого что вечность в них. Все он видел, везде побывал, и мне будто бы заранее все простил, всю мою мерзость…
Да что это со мной творится?! Неужели влюбилась я, идиотка? Что называется, с первого взгляда…
Красавчик на ступеньку поднялся, в салон заглянул и голубоглазую, которая ближе всех сидела, по головке погладил. Я ожидала, что та взбрыкнет, но ничего, ласку постороннего приняла, и даже лицо у нее заметно посветлело.
– Так, так, – говорит белый с крылышками. – Кто тут у нас?… Ага. Раз, два, три, четыре… Двенадцать человек. Всех довезла?
– Да, начальник, – отвечаю.
– Молодец. Стало быть, можешь проезжать.
Я ушам своим не поверила.
– Не шутишь? А как же пропуск? Мне говорили, вроде пропуск нужен…
– Ну, раз детишек невинных от пуль, всяческого зла, насилия и дьявольских козней уберегла, сюда доставила, значит, заслужила ты спасение. Говорю тебе: сегодня же будешь в Царствии Небесном. Если поторопишься, засветло успеешь. Автобус этот – и есть твой пропуск, поняла?…
Охренеть можно!
– Только дети сами пойдут, – добавил он. – Отсюда каждый своим ходом добирается.
Я сидела ошарашенная. Глядела, как сосунки мои из автобуса вылазят, под шлагбаумом высоким, не сгибаясь, проходят и вдаль идут – тихо так, мирно. За руки взялись, мальчики и девочки вперемежку, уже и не разберешь, кто есть кто. На лицах – свет и спокойствие. Мирная радость, значит. Только голубоглазая напоследок обернулась и впервые улыбнулась мне. Но не печально, а с надеждой, будто встретиться нам еще придется. А может, благодарила меня так.
Сижу и думаю: сказать ему, что я не о детишечках, а о себе больше беспокоилась, или не нарываться? А у него улыбка такая на роже – дескать, знаю все, девка, насквозь тебя вижу! И про Павла знаю, и про Ваньку, и даже про то, про что ты сама уже позабыла…
Тут меня будто кто-то за язык дернул; дурочкой прикинулась, спрашиваю с недоверием, как если бы с первого раза не поняла:
– А за что ж, позвольте узнать, такое ко мне благоволение? Я вроде под иконами вашими лоб не расшибаю, «дурью» иногда балуюсь, на совести своей трупы имею, а также дела разные, непотребные…
Он на меня как-то странно поглядел и сказал после паузы:
– Дела, говоришь, непотребные?… Ох, простая твоя душа – может, тем и спасаешься! Ты знаешь хоть, несчастная, с кем тебе на дороге встретиться довелось?
Обижаешь, начальник! Я себе отчет полный отдаю и ничего из ряда вон выходящего не вижу. Жизнь, по-моему, во все времена одинаковая. Лучше уже не будет, а хуже некуда. Это моего папаши слова. Может, ему и виднее было, но я с ним не согласна. Иногда сама себе веселье устраиваю… Насчет встреч моих – обычные встречи, пусть даже и опасные по большей части. Бандиты как бандиты, бродяги как бродяги, торговцы как торговцы. Весь прочий люд тоже особого интереса не вызывает. Разве что парень тот, с руками-ледышками, фокусник чертов, шакалиный родственник… Так ведь он позади остался, в безвестности сгинул, правильно?… И вообще – легко тебе рассуждать! Стоишь тут, чистенький и сытый, уму-разуму меня, немытую, учишь!… А несчастной я себя не считаю, напрасная твоя жалость. Живу еще – тем и счастлива…
Вслух я, конечно, этого не сказала, только ухмылочку стервозную в ответ изобразила.
– Все в порядке, – говорит красавчик. – Проезжай!
Кнопочку на пульте нажимает, и шлагбаум бесшумно поднимается. А все эти солдаты в черной форме, что по обе стороны стоят, стволы отводят и дружелюбно так улыбаются – дескать, раз своей тебя признали, значит, теперь путь открыт. Добро пожаловать! Даже погремушек отбирать не станем…
Поглядела я на этот самый путь – шоссе классное, прямое как стрела и гладкое, будто стеклянное, а в конце – что-то сияет и сверкает: то ли дворец, то ли целый город. Лестница широченная в самое небо уводит, облака нежно-золотистые над нею плывут, а еще выше звезды таинственно мерцают. Все не так, как на остальной грешной земле. И свет оттуда, сверху, льется, какой-то удивительно теплый свет. В его лучах даже боль уходила – из тела, а также из души. Гадость черная вытекала, и оставалась одна лишь чистая вера. Освежающая, словно вода родниковая посреди пустой выжженной равнины. Пей, пока вдоволь не напьешься, странница усталая, бродяга неприрученная… Все зло я забывала, мне причиненное. Даже то, что у лесных братьев пережила… И любовь чью-то ощутила. Будто кто-то меня любит, несмотря ни на что, и ждет. Всегда будет ждать. Вечно.
Притягательно, завлекательно, ничего не скажешь. Но на меня отчего-то снова тоска внезапная напала. Что ж это, думаю, конец, приехали? Неужто отвоевалась, девка? Пора тебе на покой? Хочешь в Одноглазого Осипа превратиться, сортиры небесные выскребать?!
Нет, чего-то мне еще хотелось, сама не знаю – чего именно. Чувствовала: не все пока сделано здесь, далеко не все. Закралась мыслишка: а вдруг где-то, в эту самую минуту, другой автобус через завалы продирается, наставником безоружным ведомый?… Ну и мужика хотелось, если совсем честно. Конечно, неудобно как-то перед красавчиком было за похоть свою неуемную, однако ж все равно от него ничего не скроешь. А кроме того, я инстинктом поняла, что не против он любви, на сексе замешанной, хоть и грязноватая она получается, любовь человеческая…
– Спасибо, – говорю. – Клевые вы ребята. Но я к вам, может быть, позже заеду. Если получится.
– Ну смотри, – говорит этот святоша без малейшего сожаления. – Но учти: твой пропуск аннулирован. Захочешь вернуться – придется новый добывать.
– Учту, – отвечаю, а сама думаю: «Неужто ты решил, что я собираюсь дважды на халяву проскочить?».
– Заправиться хоть можно? – на всякий случай интересуюсь.
– Отчего же нет? – плечами пожимает.
Я насчет двухсот литров заикнулась было, но доперла, что такое богатство мне не по карману.
– Бесплатно, – обрадовал красавчик. – Чем больше с собой возьмешь, тем длиннее путь твой окажется.
Что-то не понравилось мне в этой последней фразе, хоть и не от злости сказано, а от доброты. Настолько не понравилось, что решила я ихним бензином пренебречь. «Длинный путь» – это ж по-разному понимать можно! И вообще, я давно усвоила: то, что тебе вроде бы «бесплатно» достается, потом дороже всего обходится. За дармовой кусок по полной программе спрашивают, а я сроду долги заводить не привыкла.
Сдала задом, развернулась и медленно потарахтела на восток.
Медленно – потому как соображала. Прикидывала, куда двинуть дальше. Где я еще не была?… Аборт решила не делать, коновала знакомого от работы избавить. Раз чужих ребятишек от смерти спасла, зачем же собственное дитя в утробе гробить? Ему ведь тоже шанс надо дать! Пусть свет поглядит; авось судьба его счастливее моей будет!
Значит, осталось бабе-дурехе гулять-веселиться от силы несколько месяцев, а потом нору поглубже искать придется, когда брюхо неподъемным станет. И уж в эти-то месяцы я на полную катушку оторвусь! Душа неугомонная свободы и потехи просила!
В заднице у меня зудело, в мозгу отчаянно свербило – на подвиги тянуло, на поиски приключений. Объездила полсвета, в раю почти побывала… Что же дальше?
В ад заглянуть, что ли? Хотя бы одним глазочком… Может, там еще веселее, а? Скажите только, где пропуск взять? И какой он из себя, этот пропуск? Кого мне в следующий раз в автобус сажать?
Да ладно, шучу. Ничего не говорите. Сама дорогу найду. И пассажиров тоже.
Так даже интереснее, когда не знаешь, что тебя впереди ждет.
Май – июнь 2000 г.
Notes
1
Масья – мать (жарг.).
(обратно)2
Дулец – мужик (жарг.).
(обратно)3
Полумеркоть – полночь (жарг.).
(обратно)4
Юсы – деньги (жарг.).
(обратно)5
Маз – приятель (жарг.).
(обратно)6
Куреха – деревня (жарг.).
(обратно)


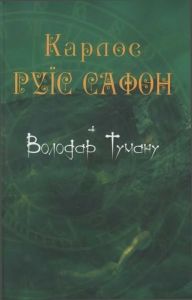
Комментарии к книге «Пропуск», Андрей Дашков
Всего 0 комментариев